Геннадий Ананьев Орлий клёкот Роман в двух томах
Книга третья
Глава первая
Они шли цугом по лыжне, специально проложенной накануне для их охоты; предвесенний набухший снег не скрипел, отчего благодатный покой укутанного в саван соснового леса оставался девственным. Бесшумно петляли впереди охотников и собаки, с презрительным равнодушием сторонясь хилых деревцев-заморышей, зато к лохматым сосенкам и елочкам, широкие лапы которых, отягощенные снегом, впаялись в наметанные вокруг сугробы, отчего у их стволов получались уютные затишки, где спасалось и от мороза, и от недоброго глаза все нехитрое лесное население, собаки неслись наперегонки — они, казалось, действовали осмысленно, словно давно познали все лесные секреты, а свое поведение на охоте загодя обмозговали. Ни приказов им никаких не нужно, ни понуканий. А чем дальше углублялись они в лес, тем чаще выпархивали из тихих теплых шалашиков куропатки, это волновало собак, и они челночили все быстрее и быстрее, зажигая своим азартом и лыжников.
Однако зайцев, на которых и затеяна была охота, собаки не поднимали, и охотники поэтому старались отмежевываться от собачьей нетерпеливости, шаркали лыжами размеренно, шустрее только следили за тем, как носились собаки по сугробам. Лес озябше помалкивал, подбиралось незаметно время восхода солнца, и у охотников нет-нет да и возникало сомнение: тот ли маршрут выбран?
Тявкнула, наконец, собака. Шедший впереди генерал Заваров остановился и поднял руку. Но тихо впереди. Не случилось ли ошибки? Охотники затаили дыхание, подались вперед, одно сейчас у них на уме, есть заяц или нет его… Еще считанные секунды, долгими кажущиеся, еще, еще, и… заметался, путаясь меж огрузлых от снежной тяжести деревьев, захлебистый лай, быстро удаляясь и затихая. Но охотники не рванулись следом. Более того, генерал Заваров достал сигарету.
— Ну вот, слава богу, — подняли, — совершенно не сдерживая голоса, довольно проговорил он. — Пусть кружок сделают. Потом определимся.
Владлен Богусловский согласно кивнул. Хотя ему хотелось сразу же припуститься вдогонку за собаками. Охотничий азарт властвовал над ним, едва подчиняясь разуму. Горели глазенки и у Ивана. Его охотничий опыт был мизерным, с собаками же на зайцев он прежде не хаживал, поэтому просто не знал, что дальше делать, но стоять вот так, пустопорожно ожидая чего-то, ему казалось странным. Да, если бы не хозяин охоты Заваров, неслись бы сейчас отец и сын Богусловские сломя голову вперед, не ведая чего ради.
А Заваров курил. Без спешки. С наслаждением. Он сейчас походил на того Игната Заварова, когда сиживали они за кружкой чая, а то и за фронтовыми чарками по сто граммов, никуда не спешили, оттягивая взаимно тот разговор, который обычно распалял их, отталкивая друг от друга, и в конце концов привел к полному разрыву. Как давно это было! Игнат Семенович Заваров заметно округлился, поседел, стал сдержанней в оценках (генерал все же, начальник войск округа) и что самое удивительное было для Владлена Михайловича Богусловского, так это полное теперь согласие с тем, что никак нельзя вместе с пуповиной отрезать и отбрасывать согласие саму мать, родившую ребенка. Словесных баталий о прошлом и сегодняшнем, горячих, противоречащих, а потому более впечатляющих, на что рассчитывал Богусловский, не получилось. Мирные у них шли беседы, вялые и ни их самих, ни, особенно Ивана, на кого и хотел повлиять отец незаметно, через споры с другом, они не волновали.
К Заварову в гости по-дружески Богусловский приехал в первый раз, хотя их дружба (вторичная, уже не фронтовая, скороспелая, о которой долгие годы помнят, но все эти долгие годы не ищут встреч, ибо та мимолетность миновала, а новых притягивающих нитей нет) началась лишь пяток лет назад, когда оба они ходили в полковниках и не были уверены в своем завтрашнем дне. Встретились они тогда у Костюкова. У генерала в отставке Костюкова. Лихо тот попал в опалу. Хотел, видимо, как лучше, а вышло худо. Привык еще от тех лет, когда был казаком Прохором Костюковым, потом взводным, к тому, что разумный совет отменно направлял дело в нужное русло. Не удержался и на совещании, где, по его разумению, говорилось не о том, о чем должно говорить с людьми военными, а особенно с пограничниками. Совещание вел представитель, как тогда принято было называть, инстанций, тех самых, кому полной мерой отмерено блюсти безопасность страны. Он, этот представитель инстанций, самоуверенно известил, какая доля принадлежит пограничным войскам из миллиона двести тысяч, на сколько требуется сократить Вооруженные силы страны по решению партии и правительства, и просил теперь же, на совещании, определить, к какому сроку это сокращение будет закончено…
Представитель инстанций, выговорившись, сел, вполне уверенный в том, что сказал все ясно и, главное, правильно; сказал предельно четко, а это очень важно для генералов и полковников, ибо убеждать их не обязательно, они привыкли повиноваться приказам, язык которых лаконичен; он ждал, что сейчас один за другим станут подниматься начальники войск округов, начальники политотделов и станут называть даты, когда будут утверждены комиссии по увольнению офицеров и когда начнется само увольнение; но совещание молчало, словно никого не было в этом краснокожаном конференц-зале, будто пустовали вовсе мягкие вместительные стулья — хоть бы вздохнул кто, либо кашлянул. Нет, ни жестом, ни видом не хотели показать свое отношение к услышанному генералы и полковники, словно велось совещание не в конце пятидесятых, когда уже за вольное слово не стучались в ночные квартиры, резко требуя: «НКВД! Откройте!» — а в тридцатые или, ну на худой конец, в сороковые.
Ничего, однако, не попишешь, если путаная ворона куста боится. Долго-долго боится. По прежней, годами выработанной привычке помалкивали генералы и полковники, тем более что представитель инстанций вел себя самоуверенно, как и представители инстанций очень еще памятного сталинского времени. Все тогда еще ждали, не прекратится ли разговор о демократии так же сразу, как начался, потому приберегли свое мнение про себя, не очень разбрасываясь им в кругу друзей и близких. А тем более на вот таком неожиданном совещании. Лучше промолчать. Переждать лучше.
Представитель инстанций, тем временем, буравил взглядом ряды склоненных голов, в большинстве седых, и искренне удивлялся неожиданно длинной паузе. Решил поправить дело:
— Прошу высказаться. Думаю, я вполне ясно задачу поставил.
Краснокожаный зал помалкивает.
— Все, о чем сообщил вам, — недовольным тоном заговорил представитель инстанций, не поднимаясь с мягкого красной кожи стула, а лишь пододвигая его поближе к столу, — завтра опубликуют все центральные газеты. Решение инстанций твердое и партия проведет это решение в жизнь неукоснительно. Прошу, поэтому, высказываться.
Подействовало. Правда, не на всех. Добрая половина так и не подняла стыдливо опущенных голов, остальные стали перешептываться, и в зал будто ворвался рой осенних мух, голодных, но все же не очень прытких. Подниматься же на трибуну никто не спешил. И тогда представитель инстанций шепнул генералу Костюкову, сидевшему по левую руку:
«— Возьмите слово».
«— Послушаем товарищей с мест потом, — ответил Костюков. — Так будет лучше…»
Он знал о миссии представителя инстанций еще за несколько дней до совещания, он уже пережил и возмущение, и стыд за тех, кто наделен правом решать, но не наделен проницательностью и государственной мудростью; Костюкову это третье по счету сокращение представлялось полной нелепицей, к тому же вредоносной, ибо те волны, которые всколыхнет оно, не только не утихнут со временем, поломав сотни и даже тысячи судеб, а станут с годами даже ощутимей и масштабней, перекинутся с офицерских судеб на судьбу всей армии; и если первое сокращение Костюков приветствовал, ибо оно как бы пропололо пограничные войска (а он считал, что подобное произошло и во всей армии) от всего сорного, позволило омолодить границу; если в необходимости второго сокращения он очень сомневался, то третье, непонятное по масштабам и по срокам, какие на него отводились, он совершенно не принимал — одно его утешало в долгие бессонные ночи, что найдутся в армии силы, которые постараются вразумить Хрущева. Надеялся он, что и на предстоящем совещании, на которое вызывалось командование всех округов, возникнет откровенное противодействие нелепице, и вот теперь, глядя в зал и видя по жестам, по выражениям лиц, по пожатиям плеч явное недоумение и несогласие собравшихся, ждал, кто же поднимется первым. Время вольное. Сибирь очищается от концлагерей. Чего опасаться?
«Начните, а я свое слово скажу. Да так скажу!..»
Никто, однако, не просил слова. Большая половина зала понуро помалкивала, меньшая — продолжала перешептываться. А время шло.
«— Задайте тон, — вновь шепнул представитель инстанций Костюкову. — Я понимаю, ситуация необычная. И все же…»
«— Хорошо, — кивнул Костюков и прошел к трибуне. Оглядел еще раз зал, который перестал перешептываться и клонить головы долу, разгладил седые, но такие же колосистые, как и в молодости, усы, и спросил представителя инстанций, хотя головы в его сторону не повернул: — Скажите, отчего Империя Российская щедро одаривала казаков землею, не жалела иных наград, а казаков тех не ограничивала числом? Войско Донское. Войско Кубанское. Войска Семиреченское, Сибирское, Забайкальское. Да-да, войска. И это при условии, что общинный крестьянин имел тогда мизерный надел. А потому не жалела для казаков ничего, что о границах своих заботилась Империя… Или возьмем содержание городами князей с дружинами…»
Представитель инстанций поднял перст вверх и вопросил недовольно:
«— Минуточку! Я что-то не пойму, о чем вы?!»
«— Я вас тоже не понимал, но слушал внимательно. Ну, раз история — вещь отмершая, ничему нас не учит, то день сегодняшний хоть как-то оценивается в инстанциях? Неужели мы, пограничники, учиняя подписи под воззванием с голубками, не понимали курьезности происходившего?»
Представитель, все еще не опустивший перст, метал взором молнии гнева, он даже начал подниматься, чтобы силой своего авторитетного положения прервать излияния генерала Костюкова, но раздумал (пусть выговорится, крепче спрос будет) и вновь плотно придавил мягкое кожаное сиденье массивного стула.
А Костюков разошелся. Он говорил о сложной обстановке на всей границе, и бурную свою речь закончил так:
«— Принципиально я разделяю сокращение, если оно станет обоюдным. Я бы встал на место Давыда, предложи мне нынешний Голиаф сразиться один на один, но там, — Костюков указал на запад, — там не желают и думать о прекращении массовых подрывных акций против нас. Массовых, я повторяю. И потому считаю, что поступать нужно по Илье Муромцу: выпил ковш браги медвянной — мало, выпил второй — много, глотнул из ковша воды ключевой зуболомной — самый раз стало. И нам нужно, чтобы в самый раз. А для шестидесяти тысяч бурливых километров мало ли нужно, чтобы в самый раз?!»
Вот тут представитель инстанций даже вскочил: строптивый генерал дал ему козырь в руки, крепко теперь можно в него вцепиться.
«— Генерал, и не просто генерал, а генерал высокого ранга и политически близорукий, — артистически тяжело, будто вот-вот хватит его инфаркт, заговорил представитель инстанций, жестко выплевывая слова-камни и суммируя обвинения: — Какие указания дает нам, коммунистам, Никита Сергеевич? Одному из руководителей пограничных войск не знать этого не только позорно, но и аполитично. Граница между странами социалистического лагеря — граница мира и дружбы. А на сколько километров она тянется? То-то! Я думаю, начальник войск найдет возможность разъяснить это своему заместителю! Партийная организация, думаю, тоже не умоет руки. ЦК нашей партии не может строить свою политику по сказочкам и библейским побасенкам, а коммунист и Библия — несовместимые понятия. Совещание закрываю, оценивая его сорванным. В двухдневный срок прошу представить письменный доклад о мерах по претворению в жизнь решения партии и народа. Все. Все свободны!»
Краснокожаный зал не шелохнулся. Представитель инстанций оглядел его, сердито сопя, и уверенно пошагал к выходу сквозь понурые ряды. Раздалась запоздалая команда:
«— Товарищи генералы!»
Как тут не подняться. Встали. А вот седые головы оказались не подвластными команде, не колыхнулись они, а глаза почти у всех уткнуто глядели на передние спинки стульев, которые ласково приманивали добротной выделки красной кожей.
На следующее утро Костюков увидел на своем рабочем столе конверт и понял: отставка. Что угодно он ожидал, но о таком не мог даже подумать. Он — в почете. Только-только получил орден, третий уже после войны. Начальник войск не принимал ни одного решения без его, Костюкова, одобрения. Он был нужен, это он чувствовал всегда. И вдруг сразу — за околицу. Только за то, что высказал свои мысли. Не заемные. Только за то, что гавкнул, когда нужно было лизнуть. Но гавкнул-то он по делу. Нельзя рушить пограничные войска! Никак нельзя! Неужели этого не понимают там, наверху. Неужели начальник войск и начальник политуправления согласны своими руками ломать так трудно и долго создаваемое?! Нет, этого он ни понять, ни, тем более, оправдать не мог. Ни с кем не прощаясь, уехал Костюков домой.
А вечером к. нему первой приехала Анна Павлантьевна Богусловская, все такая же аккуратная, как и в годы молодости, в годы женской зрелости, почти без морщин на неиспорченном косметикой лице. Прихватила она с собой и своего сына, полковника Владлена Михайловича Богусловского, ставшего очень похожим на покойного отца и ранней округленностью и манерой держаться рассудительно, и невестку Лиду, такую же, как и прежде, доброглазую и элегантную, только льняные волосы ее теперь были заплетены в тугую косу, что очень шло к ее пухлощекому лицу и очень молодило; но не радостным возбуждением, как бывало прежде, наполнился холл в первые минуты их прихода, а какой-то отрешенной неловкостью, какую испытывали и хозяева и гости.
«— Не ставили, видно, самовара? Не ждали? — насмешливо, скрывая тем самым неловкость, заговорила Анна Павлантьевна. — С чина долой и, значит, в скорлупку. В перламутровую. — И уже серчая: — Или позвонить за весь день времени не сыскалось? Что же так-то, Прохор Костюков, лихой казак?! Что усы обвисли?»
«— Как не обвиснуть им, если такое творится, — со вздохом отвечал Костюков, непривычно домашний, умиротворенно-покойный старикашка, на все уже махнувший рукой. — Да и стыдно звонить: сына-то твоего, Аннушка, вызвал, чтобы на дорогу потрудней повернуть, а выходит, повиснет теперь на волоске… «Объясните офицерам, что их ждет народное хозяйство», — хмыкнув, передразнил Костюков представителя инстанций. — Вот так, Аннушка».
Впервые он назвал ее по-домашнему, по-свойски. Что им теперь чинится. Равные они. И возрастом, и положением. Пенсионеры.
Ни Анна Павлантьевна не успела ничего ответить Костюкову, ни Владлен Михайлович, который был возмущен отставкой Костюкова и со свойственной молодости горячностью решил завтра же писать рапорт на увольнение из войск, — длинно зазвонил звонок, и Костюков, явно обрадовавшийся ему, поспешил к двери, бурча по-стариковски:
«— Ишь ты, одни не успели раздеться, новых бог принес…»
Ввалилась ватажно семья Оккеров: генерал при всех регалиях и при параде, Лариса Карловна в панбархате, плотно припаявшемся и к высокому бюсту, и к внушительным бедрам, стройный полковник, тоже при параде, Заваров, и жена его Вика, в меру для женщины ее лет пополневшая, но с хорошо еще сохранившейся фигурой, одетой в простенький сатиновый костюмчик, так ладно сшитый, что смотрелся он куда элегантней и богаче дорогого платья матери —, нет, семья эта, казалось, пришла не для сочувствия безвинно пострадавшему, а для вдохновения в беспечной веселости за дружеским чаепитием, какие, по всему видно, бывали здесь не так уж и редко.
«— Маковой росинки, батенька мой, с утра самого во рту не было, — шутливо начал жаловаться Владимир Васильевич, — а благоверная моя совершенно от рук отбилась, только по ресторанам води ее, нет бы в номере ужин сообразить…»
«— Не мели, Емеля, — отмахнулась Лариса Карловна. И к Костюкову: — Вот так всегда, я вокруг него на цыпочках, ему все не так, все не эдак».
«— Грех тебе, Владимир Васильевич, на Ларису обиду держать. Вон как раскормила. И учти, холостякую я. На курорте моя. Узнает если, примчится, конечно. А сегодня… Вот если женщины в холодильнике что-нибудь отыщут, тогда…»
«— А ну брысь все на кухню, — с нарочитой сердитостью притопнул ногой Оккер. — Живо, если не хотите увидеть умершего от голода мужчину во цвете лет».
Заулыбались все. Далеко перешагнул за расцвет сил генерал Оккер, огрузло-мешковатый и седой до полной белоснежности.
С улыбками на лицах и разошлись две половины человеческого рода, слабый пол — на кухню, работать, сильный — в гостиную, языки чесать.
Еще какое-то время генерал Оккер владел инициативой, шутливый тон господствовал в гостиной, но отгородиться шутками от реальности насовсем все же не удалось, и вскорости разговор принял серьезное направление, которое вполне соответствовало настроению собравшихся, их мыслям и чувствам. Сам Оккер дал этому направлению ход. Рассказал анекдотец, который гулял тогда без удержу среди пограничников, у одних вызывая возмущение, у других скептическое недоверие (не может такого быть), у третьих полную апатию: если дожили до такого, куда дальше идти…
«— Остановился, значит, перед самой границей кортеж машин, из первой Сам вышел. Никита Сергеевич. Фотокорреспонденты тут как тут, на фоне пограничного столба просят встать, чтобы символично, чтобы исторический снимок, а Он махнул рукой: пустая затея, скоро этим столбикам конец, — с чувством превосходства, что владеет такой сенсационной новостью, оглядел всех Оккер и поднял палец: — Каково? А? По нужде, должно, вышел, а гляди ты, новое в теорию границ внес…»
Никто не улыбнулся. А Владлен Михайлович Богусловский даже возмутился:
«— Груб и пошел анекдот. К тому же, не безделка. Со смыслом пущен!»
«— Разве он не отражает сути? — пожав плечами, спросил Игнат Семенович Заваров. — Пограничные войска под корешок рубят, что же о столбах тужить».
«— Не о том я… Армия — не объект для зубоскальства. Здоровое общество, а я считаю все же наше общество здоровым, всячески оберегает ту свою часть, которая, собой жертвуя, обеспечивает безопасность всем. Тот, кто сочиняет подобные анекдоты, разлагает общество, — поднял руку, останавливая Заварова. — Да, я не принимаю анекдотов, но я не согласен с сокращением и как честный человек я твердо решил подать рапорт. Завтра же! Народное хозяйство меня ждет!»
«— Вот-вот, — подхватил Оккер. — И мой зятек туда же: рапорт, и все тут. Я вполне понимаю вас и поддерживаю, тем более что меня без всякого рапорта отправят на покой. По возрасту. И по неспособности подтянуться на турнике. Вон какой животец. Куда с ним? Найдется, думаю, для нас в Краснопресненском районе местечко. Не обойдут вниманием участника вооруженного восстания на Красной Пресне».
«— Кому они нужны, твои революционные заслуги? — хмыкнув, явно лелея свою обиду, спросил Костюков. — Кому?»
Он был вправе задать этот вопрос. И от имени Оккера, и от себя самого. Чего ради всю жизнь не знал ни сна, ни отдыха, на волоске от смерти бывал? Отечества любезного ради. Да и с представителем инстанций схлестнулся, не о себе думая, а пользу страны блюдя… И что же? Вот и выходит: кому нужен?
Вздохнул Костюков, расправил поникшие усы и возродился вдруг, иным стал, прежним бравым казаком с усами-колосьями, с пытливо-умным взглядом. Голос тоже окреп:
«— Отечество! Честь! Интересы общества выше своих! Куда, как славно звучит, правда? Чего ж тогда носы, други мои молодые, повесили, хвосты поджимаете? Или лозунг хорош, как лозунг? Для дел силенок маловато? Никаких рапортов. Это мой приказ! Поспешите назад, в отряды, а вы, Владимир Васильевич, в округ, и делайте все, чтобы сохранить возможно большее число достойных офицеров. Поверьте мне, пройдет два-три года и все станет возвращаться на круги своя. Поломаем и порушим сейчас на многие миллионы, а потом, на еще большие миллионы, станем нагонять упущенное, бюджет подстригая. Но боевая техника — это железо. Поднатужится многожильный народ и создаст ее, нужную и сильную, а вот с офицерскими кадрами как? Разломать легко, а как склеивать? Вера в нужность офицерской профессии будет подорвана, вера в устойчивость офицерской карьеры тоже… Нет, долго после такого позора лучшие сыны народа станут избегать армию. И кому, как ни нам, отдавшим жизни границе, ни вам, еще молодым, но повоевавшим уже, возвращать, по крупице, по капле, авторитет армии, но особенно пограничных войск. Сегодня место патриота — в армии. Зубами цепляйтесь, а останьтесь. В противном случае мой дом для вас будет закрыт!»
«— Да… Монолог, — протянул генерал Оккер. — А в главке поторапливать начали. Дескать, опередим армейцев, первыми в очередь на квартиры окажемся, работу найдем лучшую. Выбор, короче, будем иметь».
«— Мельтешат. Суетятся, отмежевываясь от меня. Понятно это. Как бы и им не влетело. Только и здравомыслящих у нас много. Вот их и объединим, — помолчал немного, взвешивая то, что намеревался сказать дальше, кивнул, соглашаясь со своими мыслями, и продолжил: — Мой пример и армейцам урок. На рожон, думаю, не полезут, но хитрить начнут. Перекачивать станут из региона в регион, сохраняя армию. Ну а на совещаниях — сплошной фимиам мудрости принятого решения инстанциями, — потом рубанул рукой резко и решительно: — Все! Хватит толочь воду в ступе. Чай, должно быть, готов».
Где уж там, никак не получалось, чтобы без ступы обойтись. Пили чай и толкли в ней воду. Пусть из пустого в порожнее, но слишком уж волновали всех наступившие события, хватали каждого, что называется, за хобот. Много было переговорено в тот вечер, особенно когда старики уединились в свой угол, а молодежь — в свой. Вот тогда и началась послевоенная дружба двух полковников, молодых еще по возрасту, но тертых и на фронте, и на дозорных тропах, ибо появилась у них общая цель, ради которой они многим должны были рисковать, и без взаимной поддержки, без помощи таких же, как и они, верных границе офицеров, они просто сломали бы себе шеи.
Нельзя, конечно, наделить Костюкова даром пророчества, но все, о чем говорил он, сбылось. Еще докручивался маховик, ломающий становой хребет армии, еще резали автогеном на металлолом крейсера и эсминцы; еще разбивались кувалдами локаторы и другая радиотехника; еще продолжали списывать самолеты в утиль; еще неслись переполненные офицерскими семьями эшелоны на восток и север, на юг и запад; еще метались в поисках квартир и работы не приспособленные к гражданской жизни миллионщики, как быстро окрестили в чиновничьих апартаментах уволенных в запас офицеров; еще никому ничего не было ясно, чем закончится величайшая для России акция, а оробевшей, обескровленной армии, которая к тому же со страхом ждала новых расправ, выпало первое испытание: 1 мая 1960 года в 5 часов 36 минут по московскому времени американский самолет-шпион пересек границу Советского Союза в районе Кировабада на высоте 20 тысяч метров. Обнаружили его и затем сбили только под Свердловском.
А потом пошло-поехало. На тихоокеанском побережье, на Дальнем Востоке, в Казахстане. Там особенно стало горячо. Аппетит у соседей после Порт-Артура и КВЖД, им подаренным, разжегся, и они возжелали еще и еще подарков, и повалили валом через границу оборванные, голодные толпы, чтобы освоить пустующие, как они трубили на весь мир, земли. Вот так они, братья навек, поняли суть братства. А позволительным такое стало потому, что границу с ними охраняли мизерные силы.
Нет, пример, какой подала наша верховная власть, сокращая армию, не стал заразительным ни для кого, и хотелось это кому из наших руководителей или нет, а пришлось давать задний ход. Очень дорогой, но совершенно необходимый. И пошли повестки тем, кто только-только обжился, кто начал новую жизнь — вновь ломались судьбы, вновь дома и квартиры наполнялись ропотом и обидами. И лишь те, кого обошло сокращение, стали расти по службе, словно на опаре. Богусловского тогда пригласили в Москву на генеральскую должность, Заварова поставили начальником штаба войск округа, а вскоре и начальником. Вот тогда они стали часто встречаться. То на квартире Владимира Васильевича Оккера, которого все же отправили на пенсию по возрасту, то у Костюковых, но более всего у Богусловских — всем нравилась гостеприимность женщин этого дома — Анны Павлантьевны и Лидии Алексеевны. Не стало тогда у Богусловских с Заваровыми ни служебных, ни семейных секретов, как в свое время не было их у молодых тогда еще Оккеров и Богусловских — дружба родителей как бы перешла на детей, помогая им, как и родителям в прошлом, шагать через барьеры жизни. Каждая встреча чем-то взаимно их обогащала, но особенное влияние они оказывали на Заварова, он становился сдержанней в суждениях, хотя и ершился, упрямился, отстаивая свое, хотя, бывало, совершенно некомпетентное, но все же свое мнение; но Владлен, как и там, в подвале полуразрушенного дома у переправы номер один через Волгу, убеждал его фактами, что не могло не задевать самолюбия Заварова; а Вика ловко этим пользовалась, набирала в каждый приезд из библиотеки Богусловских стопки книг будто бы для себя, но дома втягивала в их чтение и мужа — заметно менялся Заваров, но в последний их приезд (они ехали в Крым на отдых и сделали специальную остановку в Москве) поспорили все же Заваров и Богусловский. Тема для спора злободневная по тому времени — раздаренная земля, обильно политая русской кровью. Об этом говорили все, от мала до велика. И на деревенских завалинках, будто Порт-Артур, КВЖД и Поркала-Уд важны для лузгающих от безделья (кур, овец, коз и коров вывели в деревнях) семечки, что без них не прожить и дня; и в городских квартирах, даже на праздничных попойках горячие во хмелю костили щедрость Никитушки (легко разбазаривать, трудней приобретать!), хотя у всех почти знание вопроса ограничивалось едва прочитанным в школьном учебнике или, в лучшем случае, романом «Цусима»; но особенно бурно вели разговоры пограничники, ибо это их касалось самым прямым касанием — однако и в этой среде не часто проблема обсуждалась профессионально: армия плоть от плоти народа…
Богусловский ополчился тогда на обывательское рассуждение Заварова:
«— Я категорически не разделяю твоего, Игнат, возмущения. Мы не правомочны судить то, чего не вполне знаем. Бесчестно это!»
«— Твое право. Только ты не можешь не согласиться, что любой подарок предполагает хотя бы благодарность… А что происходит? Давай в историю заглянем. Финляндии дали разрешение отделиться, а что в ответ?! Логично было бы выпустить все наши войска, а что получилось?! То-то. Вот я и сомневаюсь, что Поркала-Уд улучшит обстановку на границе. В большой дипломатии, возможно, что-то изменилось, а мы ничего на границе не почувствовали. А ихняя печать? Она пытается свалить все с больной головы на здоровую: мы, дескать, в тридцать девятом войну спровоцировали».
«— Не ведаю, оттого и судить не берусь…»
Не нашли они тогда компромиссной оценки тех событий, о которых спорили, остался всяк при своем мнении, но так бы и остался тот разговор перед чаем обычным разговором, к нему бы Богусловский не подумал вернуться, специально для того поехав на северо-запад, не произойди в семье чрезвычайного происшествия, как вполне серьезно оценил случившееся Владлен Михайлович.
Нет, никто никого не оскорбил, не пострадала их квартира от пожара, никто не заболел смертельно, просто подоспело время Ивану идти на комиссию в военкомат, и когда отец посоветовал ему поступить в пограничное училище, дабы не пресечь доброй традиции семьи Богусловских, тот наотрез отказался. Вмешались и мать, и бабушка. Анна Павлантьевна особенно старалась, рассказывая внуку о дедушке, о прадедушке, о далеких предках-сторожах, отдававших все свои силы охране рубежей русской земли, но внук, внимательно слушая, или делая вид, что внимательно слушает, чтобы не обидеть ласковую свою бабушку, оставался все же при своем мнении. Отвечал ей всегда уклончиво:
«— Я подумаю. Я не готов принять окончательное решение».
С отцом Иван был предельно категоричен:
«— Нет. Не уговаривай. Не пойду».
Почему не пойдет, не объяснял.
И вот тут генерал Богусловский решился на своеобразный воспитательный шаг: погостить у Заварова, где, как ему виделось, возникнут споры, могущие повлиять на ход мыслей сына. И охотиться, а это было предлогом, он тоже собирался там, где были старые ДОТы, где можно будет еще раз вспомнить о гибели Петра Богусловского, и выглядеть это будет вполне естественно, разговор само собой пойдет о долге патриота, и этим вполне возможно удастся сломить упрямство сына.
Готовился к этой поездке Владлен Михайлович основательно, перечитал те страницы из истории русской дипломатии, где рассказывалось и о приобретении Россией Порт-Артура (китайское правительство подарило ей порт за фактическое спасение от полного разгрома Китая англо-французскими войсками), где рассказывалось о постепенном сближении Финляндии и России, которое окончилось фактически добровольным вхождением Финляндии в состав империи; он еще раз перелистал книги по этнографии и экономике того района новгородской пятины, где стоял сейчас Ленинград; восстановил он в памяти и советско-финляндские отношения, процесс выхода ее из состава Советского государства, войну тридцать девятого и Великую Отечественную — он подготовился основательно для дискуссии с Игнатом Семеновичем, но в первый же вечер, за первым же чаем понял совершенную ненужность всех своих усилий: Заваров охотно подхватил начатый Богусловским разговор, но не перечно повел его, а в тон. Даже дополняя и уточняя. Со своими оценками, смелыми, даже дерзкими. Одна из оценок буквально поразила генерала Богусловского.
«— Да, конечно, дядя твой, Петр Богусловский, геройски погиб, тут все, как говорится, ясно. Но знаешь, о чем я думаю: Ленин, подписывая документ об отделении Финляндии, предполагал, должно быть, что трудовой люд воспротивится буржуазии. Оттого, видимо, и не были обговорены условия вывода казаков и армейцев. Ошибка? А вдруг, сознательный шаг?»
«— Да, вывод, — раздумчиво протянул Владлен Михайлович. — Не знаю даже, что сказать».
«— А тут и говорить нечего. Тут факты нужно брать за бока».
И начал Заваров, очень удивляя Богусловского, подробно говорить о событиях тех дней и месяцев с глубоким знанием обстановки и документов. На многое у Богусловского открывались глаза, о многом ему предстояло подумать. Свершилось то самое, что происходило прежде при встречах Заварова и Богусловского, только теперь «диктовал моду» Игнат Семенович, а Богусловский-старший так внимательно слушал своего друга, что не оставалось у него времени подумать, насколько несвоевременный этот разговор и чем он обернется буквально через день, в лесной глухомани у старого ДОТа.
Лай собак приближался из-за деревьев справа, и Игнат Семенович, поспешно ткнув сигарету в снег, предупреждающе поднял руку, чтобы, значит, стояли все без движения и шума. Ближе и ближе собаки, вот они уже впереди метрах в сотне пронеслись одна за другой, не переставая тявкать, с заметной уже хрипотцой, и вновь лай начал удаляться.
— Вперед, други. Скорей, — призвал Заваров и легко заскользил по насту.
Остановился он метрах в пятидесяти от следа и распорядился:
— Владлен, давай — вправо. Через сотню метров пододвинешься поближе к следу и затаись. Если с первого не скосишь, обязательно второй выстрел. Хоть в воздух. Для нас сигнал. Добро? — потом к Ивану: — Я здесь, вон в том ерничке, а ты — влево. Тоже метров на сто. Самая ответственная тебе роль: мы можем, зевнуть, ты — нет. После тебя никого не останется…
Владлен Михайлович поспешил, придерживаясь следа, но не приближаясь к нему, в указанное для него место и вскоре стал уже выбирать взглядом удобное укрытие, чтобы видеть вперед, оставаясь невидимым для зайца; но ничего подходящего не попадалось, и только впереди темнел густой ерник удивительно ровным четырехугольником, но он был далековато от следа.
«ДОТ похоже, оброс…»
Впереди послышался лай, скоро, значит, появится заяц. Они, чаще всего, бегут намного впереди собак. Куда деваться? Один выбор: квадратный ерник:
«Может, достану?»
Куда там. Ружье, оно, ведь, не симоновский карабин и не автомат Калашникова. Дотянулась, правда, дробь до русака, он даже подпрыгнул неестественно высоко, ужалило, видимо, его чуток, но не сбило, понесся он дальше еще стремительней. Как и велено было, пальнул Богусловский со второго ствола, проводил взглядом беглеца, а затем и пронесшихся за ним собак, но шагать к Заварову не поспешил, а проскребся сквозь еловый частокол к самому краю ДОТа (Богусловский отгадал, это был действительно размонтированный, без бетонного колпака ДОТ) и стал разглядывать занесенную снегом ямину, мысленно воспроизводя внутреннее устройство ДОТа, определяя, сколько могло быть здесь людей, где они размещались, где хранились снаряды и патроны, где продукты, откуда поступала вода…
Выстрел, второй. Значит, Игнат Семенович тоже промазал. Больше по этому кругу заяц не пойдет. Скакнет метров на несколько в сторону, где есть укрытие, и затаится, а собаки обмануто пронесутся еще один круг, еще и еще, если их не остановить. Вроде бы умная тварь, а все едино — глупая…
«Позову потом сюда Ивана, — решил Владлен Михайлович, — пусть посмотрит».
Выстрел. Чуть приглушенный расстоянием. Один.
«Вот тебе и дебютант!» — еще не веря в удачу сына, но уже гордясь им, побежал по своему же следу генерал Богусловский.
Заваров стоял на своем месте и ждал. Он был центром, и к нему должны сходиться удачливые и неудачливые стрелки. Ивана еще не было, но Богусловский спросил у Заварова, словно он мог знать точно.
— Есть?
— Кто его знает? Похоже, есть. Собаки больше не ведут. Сейчас появится, тогда увидим.
— Там ДОТ, — махнул рукой вправо Владлен Михайлович. — Хочу сыну показать.
— Впереди густо их. Еще разок поднимем, тогда. Собакам отдых дадим.
Из-за вислобокой елки выскользнул Иван с огромным русаком в руках, гордая радость распирала его, но он напускал на себя взрослую серьезность, будто обычное для него дело валить зайцев; зато собаки, кружившиеся вокруг удачника, ни капельки не скрывали своей радости, каждая норовила куснуть убитого зайца, но не по злобе, а ради потехи — великолепное это было зрелище, и генералы с улыбкой ждали, пока Иван подойдет поближе.
— Молодчина, утер нос старикам, — похвалил первым Ивана Заваров, определяя вес зайца, словно на безмене, на вытянутой руке. — Да-а, хорош. Ничего не скажешь.
И словно открыл клапан этой похвалой, враз выхлестнула распиравшая Ивана довольность собой.
— Слышу: бах, бах. Потом еще: бах, бах. А я — на повороте следа. Решил испугать вначале косого, остановить, тогда уж — на встречный выстрел. Гляжу, бежит. Ближе, ближе, вот уже, рукой подать. Я из-за ели — во весь рост. На, любуйся на меня. Всеми четырьмя уперся заяц. Так тормознул, что снег вихрем, я в тот вихрь и всадил…
— Умно, — похвалил сына отец. — С пограничной, я бы сказал, смекалкой.
Промолчал Иван, хмыкнул только с усмешкой, и понял Богусловский-старший, что последние слова сказаны им зря. Насторожат они сына.
Так и оказалось. Они прошли совсем немного, и из густого ерника, разросшегося вокруг взорванного ДОТа, большущего, на добрую роту, подняли собаки косого. Перегодили охотники, пока круг обозначится, и вышли на след. Передовым на сей раз послал Заваров Ивана. Как поощрение за первую удачу. Влево, замыкающим, ушел сам, оставив у ДОТа Владлена Михайловича. Очень немного времени прошло, и глухо прорвался сквозь пухлые от снега сосновые и еловые лапы выстрел. Один. Все, значит. Снова курки на предохранитель.
Несказанно горд и рад Иван своей второй удаче. Не отдал добычу, положил себе в вещевой мешок, хотя два зайца — тяжеловатый груз. Никаких возражений не хотел даже слушать. Проворно, не остыв еще от пережитого азарта, смел лапником снег с бетонной стены ДОТа и, используя ее как стол, принялся раскрывать мясные консервы, поджигать в таганках сухой спирт, отмахиваясь от помощи старших, а когда мясо в банках разогрелось, провозгласил торжественно:
— Прошу к трапезе…
Ровная, будто фундамент под дом, стенка ДОТа, только проемы для бойниц щербатят ровность. Видимо, сверху на железобетон ставился бронированный купол. Сняли его на переплав, а толстым стенкам, уходящим метра на три вниз, орудийным и пулеметным площадкам стоять здесь столетия памятником людской неразумности и враждебности.
— Сколько здесь полегло солдат?! И наших, и финских, — начал разговор Игнат Семенович, ибо понял он, чего ради хотел Богусловский показать сыну ДОТ. — Теперь вот историки, исходя из своих оценок мира сегодняшнего, пытаются уяснить, кто спровоцировал ужасный конфликт.
— Нужно ли это сегодня? — поддержал Заварова Владлен Михайлович. — Особенно людям военным. Важнее другое: сколь героически воевали наши бойцы, наши командиры — патриоты своей Родины…
— Отец, не нужно, — сразу сникнув, попросил Иван. — Не нужно… Я давно понял, для чего, собственно, мы оказались здесь. Я прочитал все книги, которые ты читал перед поездкой. С малой лишь разницей: ты выбирал нужные тебе главы, а я прочитывал все от корки до корки. Так вот, слушай меня. Я ни за что не пойду в училище. Я понимаю, что рублю под корень традицию семьи, только не я в этом виновен. Не я. Вот когда ратник будет нужен обществу, тогда мы, отец, вернемся к этому разговору. А пока так: я сомневаюсь, нужно ли было Петру Иннокентьевичу ехать в пограничный полк, а потом гибнуть героически! Кто-то не так оценил обстановку? Согласись, история не может оправдывать зряшную гибель тысяч людей. Не оправдает она и не простит. Мы высвечиваем тот, семнадцатый, иным светом. Не научил нас, так мне кажется, ни тридцать девятый, ни сорок первый. Ничему не научил! Над армией, а особенно над офицерами, смеются. В глаза называют тунеядцами. Так вот, отец, тунеядцем быть мне совершенно не хочется.
Вот так. Ошарашил. Все воспринимался ребенком. А выходит — муж зрелый. Правда, юношеский максимализм виден, и все же…
Только чему удивляться. Разве он сам, Владлен, не столь же резко заявил о своем праве выбирать себе путь в жизни, озаботив и даже огорчив родителей. Или взять дедушку Ивана? Разве тот очень-то считался с традицией семьи, с традицией клана в конце концов. Вполне естественно, что каждое новое поколение входит в жизнь со своими идеалами. И со своим упрямством. Да иначе и быть не может, вымрет иначе род человеческий.
Но разве старшие сразу сдаются, задирая лапки? Разве без боя отдает кто завоеванные редуты? Даже в малом родители норовят подмять детей своих. И то верно: не яйцу же курицу учить!
— Ты не забыл, сын, чье имя ты носишь? Не будь таких, как Иван, мы бы с тобой сейчас не стояли у порушенного ДОТа. Я ставлю его подвиг, ты понимаешь это, не на семейный уровень. Страну защитили такие, как Иван, патриоты. И я, твой отец, в их плотном и многомиллионном ряду. И мой отец в том же строю. И дяди мои! Род Богусловских — ратный род. Мы всегда были патриотами, и я надеялся, что ты станешь продолжателем семейной традиции. Ты должен понять это, ибо ты — продолжатель рода Богусловских. Единственный!
— Отец, ты говоришь о слепом патриотизме, а мне поводырь не нужен! Чего ради погиб Петр Иннокентьевич?! Отчего шофер вызвался взорвать мост?! Да потому, что до армии никому оказалось нет дела. Не на словах, а на деле! Вдумайся, зенитная батарея вопреки здравому смыслу оказалась брошенной на произвол судьбы! Как вся наша армия, наша техника, наши люди, цвет молодежи, цвет нации, в первые месяцы войны! У нас были танки, были самолеты, была артиллерия, но красноармейцы бросались в рукопашную потому, что у них не было патронов, бросались под танки, потому что у них не было иного способа защитить себя. Выбора не было! Если страна окажется в затруднении, я встану первым на ее защиту, но я бы хотел не остаться брошенным на произвол судьбы! А сегодня я не уверен, что так не случится. Сегодня армия теряет свою роль в государственном устройстве, и я не хочу играть роль шута. Слепого патриотизма, не приемлю. Не хочу быть похожим, отец, на тебя.
— Ваня, разве так можно с родителем? — упрекнул Ивана Заваров.
— Можно! Вы же сами не согласны с тем, что произошло с армией и что с нею происходит сейчас. Так что же вас заставляет служить? Высокие оклады?
— Сын! Не заговаривайся. Если ты живешь в своей стране, принимай ее такой, какая она есть. Мать, сын мой, не выбирают! Я уверен, что народ выправит все зигзаги, какие случились и какие еще будут в нашей жизни. Найдет народ прямую дорогу. Найдет!
— Пока он ищет, его именем прикрываются выскочки, авантюристы, демагоги. Они, видите ли, воплощают в себе народную мудрость, и не смей им перечить.
— Но при чем здесь Отечество? Оберегать его — не значит потакать демагогам…
— Отец! Прекратим этот пустопорожний разговор. Офицером я не стану. Все! Призовут, пойду в солдаты. В пограничные войска, если тебя это устроит.
— Спасибо, утешил.
— И если еще раз ты заговоришь об училище, — не обратив внимания на отцовскую реплику, продолжил Иван, — я сразу же — на вокзал. Позволь мне самому о себе думать и за себя решать.
— Вот и ладно, — как бы подытожил спор отца с сыном Заваров. — Договорились, значит. Перекуру, значит, конец. Вперед, други.
Собаки тут же, приняв команду на свой счет, понеслись по целине к недалекой елке-шалашу, по-купечески осевшей в сугробе, и сразу подняли зайца.
Вновь удача выпала Ивану. Только теперь он не радовался, а чувствовал себя неловко. Получалось, что он лучший охотник, чем отец и Игнат Семенович, что никак не соответствовало истине.
Старшие поняли состояние юного охотника и взяли по зайцу.
— Еще одного и — хватит, — определил Заваров. — В Москву чтобы увезли и здесь вечер попировать.
Счет взятых зайцев прибавился у Ивана. Домой они шли размашисто, скольжение было хорошее, собаки бежали рядом, совершенно безразличные к заманчивым лесным запахам (набегались досыта), на душе у охотников было покойно и радостно, словно ни у кого не существовало никаких проблем. Удачливая охота отодвинула их за пределы сиюминутного состояния духа.
Много ли человеку нужно для счастья.
Глава вторая
А в то самое время, когда Богусловские и Заваров возвращались с охоты, у ворот подмосковной дачи остановилась «Волга». Два коротких сигнала, один длинный, пауза и — повтор. Так всякий раз извещал о своем прибытии владелец дачи Владимир Иосифович Лодочников сторожа, а благостный старик спешил, шаркая негнущимися уже ногами на зов, но проворность давно покинула его, однако не было случая, чтобы Лодочников вышел из машины перед воротами, он совершенно спокойно ожидал, пока они распахнутся перед ним, хозяином. Акулина Ерофеевна, жена его, та обычно выскакивала из «Волги» и даже бывало принималась тарахтеть в калитку кулачком, на что непременно получала одну и ту же отповедь:
— Быстро только кошки, а я не кошак, а вы, Ерофеевна, извиняйте, не — кошка.
Владимира Иосифовича передергивала сальная грубость «цербера», но он, и то не всякий раз, притрагивался лишь к усикам, успокаивая себя. Жест для постороннего ничего не говоривший. В душе же у Лодочникова в те минуты случалась такая круговерть, что даже сам он не мог разобраться в том хаосе, расставить все, хоть мало-мальски, по полочкам, отдав какому-то из чувств преимущество. Обжигали душу тот давний позор, то насилие, которое испытал он здесь и от этого «цербера», и от Трофима Юрьевича, хотя и не долговременные, но впившиеся в сознание навечно; но стыд тот густо был перемешан с ликованием, ибо тот самый наглый мужлан вот уже многие годы ходит перед ним, Владимиром Иосифовичем, на задних лапках, послушен и робок, хотя, если быть честным перед собой, Лодочников с превеликим удовольствием выпроводил бы его со своей дачи, только Трофим Юрьевич не посоветовал этого делать, и он, Владимир Иосифович, продолжал мучиться ревностью все эти годы, отчего еще властней держал себя по отношению к сторожу-нахлебнику, еще с большим удовольствием унижал его мелкими придирками и, что особенно нравилось делать Владимиру Иосифовичу, частыми приказаниями, каждое из которых обычно противоречило прежнему — он добивался протеста «цербера», чтобы еще сильнее унизить его, пригрозив тем, что отпустит на все четыре стороны; но бывший властелин его судьбы, его жизни покорно нес свой крест, как бы откупаясь святой послушностью за прошлые страшные ереси, а это бесило Лодочникова, вместе с тем и обескураживало его — да, бурлила душа у Лодочникова, а сам он терпеливо ждал, пока отворятся ворота и в почтенном поклоне пропустит его во двор ненавистный, но послушный раб, благостный старикашка с черной душой убийцы. Самое большое, что позволял себе Владимир Иосифович, так это притронуться мягко к щетинистым усикам.
Здесь, на этой даче, не стало Мэлова, отсюда появился в миру Лодочников. Как давно это случилось. Еще до войны, а помнится все до мельчайших подробностей. И тот страх жив в нем по сей день, и та боль, когда остался он у костерка один, а жена его погребла в лодке с Трофимом Юрьевичем, не проходит. Всему бы уже должен прийти конец, все забыться должно, ан — нет. Кровоточат раны.
Долго не раскрывались ворота. Акулина Ерофеевна принялась уже не кулачками, а ногой стучать в калитку, однако привычного шаркания по дорожке все не слышалось.
— Неужто что случилось?!
— Не может быть. Сильвестр позвонил бы.
Еще несколько нетерпеливых минут, и вот, наконец, старческие шаги. Но на сей раз даже без малейшего намека на поспешание.
— Уши что ли заложило? — налетела на старика Акулина Ерофеевна. — Иль спал?
— Сынок ваш, Сильвеструшка, не велел враз бежать. С девицей они тут. Как раз в постели. Из одного, вишь, классу.
— Что ж это ты им тут позволяешь?!
— Чай они спрашиваются…
Вмешался Владимир Иосифович. Одернул жену:
— Перестань. Не ему, — кивнул на сторожа, — нашего сына воспитывать. Его обязанность охранять дачу и подчиняться. И Сильвестру тоже подчиняться. Он за это хлеб наш ест. Еще и деньги дармовые получает, — и к «церберу». — Шашлык готов?
— Отчего ж не готов. Велели же. И Трофим Юрьевич звонили.
— Разожги камин.
— Растоплен уже. Давно. Хоть сейчас шашлыки жарь-парь. Принесть что ль шампуры и мясо?
— Нет, подождем Трофима Юрьевича.
Ухмылка тронула старческие губы «цербера». Сумел и он унизить брандахлыста. Пыжится, гнет из себя, а без воли вовсе.
И в самом деле, Лодочников так и не сумел выскользнуть из цепких рук Трофима Юрьевича. Больше всего на свете ненавидел он этого поседевшего до сизости и состарившегося до пергаментной прозрачности лица и рук, поджарого, как гончая, но такого же, как и прежде, недоступного, привыкшего только повелевать. Но, ненавидя его, Лодочников подчинялся ему беспрекословно, выполняя любую его просьбу без всяких на то возражений и никогда и нигде не сказал о нем ни одного недоброго слова, даже свою жену, после того первого объяснения с ней, больше никогда не упрекал. Ревновал и мучался от насилия над ним в глубокой тайне, и жизнь их семейная текла ровно.
Оценил Трофим Юрьевич послушание Лодочникова, подарил ему дачу-терем, и на уху после этого приезжал не хозяином, а гостем. Правда, все свершалось точно так же, как и в те, давние разы: коньяк, закуска и белорыбица появлялись без участия Владимира Иосифовича, Акулина по-прежнему заманивала в лодку их семейного благодетеля, а Лодочников всякий раз упрямо отказывался купаться. Боялся сома-людоеда. Очень боялся.
Когда Акулина, как она сама выразилась, забрюхатела и особенно после рождения сына страшные пикники сами собой отпали на несколько лет, Мэлов-Лодочников успокоился вовсе, а в семейной их жизни складывались даже радостные дни.
Годы тем временем летели. Сын подрастал, они старели, особенно «цербер», и когда вновь возобновились пикники с ухой, они уже не путали Владимира Иосифовича непредсказуемыми последствиями. Однако же почтительного отношения к Трофиму Юрьевичу Лодочников не изменил, чтобы не приведи господь чем-то обидеть его.
Сына Владимир Иосифович тоже не любил, считая его не своим, но относился к нему нежно и потакал всем его шалостям. Сейчас он тоже не стал ни в чем упрекать его, только попросил:
— Отвези подружку до электрички и возвращайся.
— Но, папан?..
— Приедет, сынок, Трофим Юрьевич. Он хотел с тобой говорить. Понял.
— А-а, тогда слушаюсь и повинуюсь.
Когда Сильвестр уехал, Акулина Ерофеевна начала было упрекать мужа за то, что не построжился, а потакнул безнравственности, но Владимир Иосифович отмахнулся:
— Полно-те, Лина. Не малолетка он. Ты в его годы сына уже родила от Левонтьева. А яблоко от яблони далеко не катится.
Осерчала Акулина Ерофеевна, надула губки, и просидели они молча у камина до самого приезда Трофима Юрьевича.
Он оповестил о своем прибытии обычными тремя длинными гудками, Акулина Ерофеевна сорвалась с кресла и потарахтела каблучками сапожек к воротам, куда уже с натужной поспешностью шаркал «цербер». Но у самых ворот их обоих обогнал Владимир Иосифович и прикрикнул на «цербера»:
— Чего медлишь? Давай ключ! Иди шашлык неси. Я сам открою.
Все враз изменилось, размолвки супругов как не бывало, радость воцарилась на даче, оттого, что вот они вместе, чего давно не получалось, а теперь наступило долгожданное. Акулина Ерофеевна и Владимир Иосифович, правда, с нетерпением и тревогой ждали, когда соизволит Трофим Юрьевич сообщить, ради какой цели велел он спешно ехать сюда, но никак своих тех чувств не проявляли. Радовались встрече, и все. А Трофим Юрьевич не спешил. Он с явным удовольствием отглатывал из рюмки коньяк, блаженно вдыхая аромат начавшей румяниться баранины на шампурах, позволял себе славословить, а когда кто-то из Лодочниковых рассказывал один из анекдотов, плодившихся тогда с быстротой австралийских кроликов, он снисходил даже до улыбки. Сдержанной, верно, достойной его положению и возрасту.
Вот первая партия шампуров опустошена, ополовинена бутылка коньяка, Владимир Иосифович начал подкладывать в камин дрова, чтобы нагорели новые угли, и только тогда Трофим Юрьевич соизволил заговорить о деле.
— Возраст Сильвестра — призывной. Скоро ему на комиссию, вот я и подумал: пусть послужит. Шалопайство сбросит, трудности испытает. А то только девки на уме…
Чего угодно могли ожидать Лодочниковы, только не этого. Они уже все продумали за Сильвестра, все взвесили, единодушно (Трофим Юрьевич тоже одобрил) определили его будущую карьеру на юридическом поприще. Однако не собирались они пересаживать Сильвестра со школьной скамьи сразу на студенческую, а дать ему два-три года (для биографии) поработать либо на заводе, либо на стройке. Да он уже и числился в какой-то строительной бригаде стропальщиком, бывая на площадке от случая к случаю, что, однако, не мешало в удобном месте и в самое нужное время ввернуть, что сын их сам, без лишней опеки, делает себе жизнь. И, веря самим себе, утверждали, что тогда успехи в жизни станут дороже и ценимей, а, главное, надежней, ибо не будут зависеть от поддержки друзей и знакомых. Разве все это продуманное, вынянченное в мыслях и делах плохо? Чего ради менять уже сложившееся? И как менять? Идти в армию. Где ортодоксальная рутинность. Каково там будет Сильвестру, привыкшему поступать так, как ему хочется? Каково будет без отцовского и материнского пригляду?
А Трофим Юрьевич продолжал, никак не реагируя на немую сцену в каминной.
— Но не просто служить поедет Сильвестр, а со смыслом служить. С нашим заданием поедет. И еще вот что я думаю, пусть-ка на границу поедет…
Час от часу не легче. Не только неясное пока еще задание, которое, наверняка, не без риска, но на границе еще и стреляют. Чего ради в омут головой бросать. Нет, пока что не укладывалось в головах Лодочниковых странное решение их благодетеля и, возможно, отца Сильвестра. Сына посылать под пули? В мирное время! Какая в этом нужда?! Не отклик же это на призыв, после всяких сокращений прозвучавший, крепить оборону страны? То сокращать армию, то вновь укреплять ее, не вдруг во всем этом разберешься, и не на сыне экспериментировать.
Владимир Иосифович осмелился даже возразить, робко прикоснувшись пальчиками к усам:
— Может быть, перевести Сильвестра на завод. В нормальный рабочий коллектив. Чтоб, значит, не числился, а работал. Тогда и девки из головы…
— Незачем. Давайте еще жарить шашлык, а договорим, когда шалопай наш вернется.
Сильвестр не заставил себя долго ждать. Его позывной — один длинный — вскоре прозвучал у ворот, и вот он уже сам, собственной персоной, в каминной. Он был бы красив (в меру высокий, темноволосый, с карими умными глазами), если бы не излишняя для его возраста полнота. Сырым каким-то он выглядел, занеженным, заласканным, закормленным. Даже пальцы были надутыми настолько, что, казалось, ткни иголкой и не кровь брызнет из них, а вырвется со свистом воздух. Но особенно его портили щеки, выпиравшие подрумянившимися сдобными булками, придавая лицу его не мужественность, а, наоборот, женоподобность. Ничто, однако же, не стесняло его, недостатков в себе Сильвестр не видел и считал себя, как ему внушали с раннего детства, верхом мужского совершенства. А это, в свою очередь, порождало цинизм, который, к тому же, настаивался на эгоизме.
Сильвестр резко распахнул дверь, широко шагнул через порог и остановился, жадно вдохнув обалденный, как он определил, аромат жарившегося мяса, выдержанного в лимонном соке и белом вине, оглядел повеселевшим взглядом сидевших в кресле и произнес торжественно:
— Снятое семейство и заблудший их сын! Хоть сейчас — в Библию.
— Цинизм хорош в меру и, запомни, не в обращении с ближними, — подняв предостерегающе руку, осадил Сильвестра Трофим Юрьевич. — К тому же ты повторяешься. Это не характеризует развитие твоего ума.
— Я, Трофим Юрьевич, нисколько не пошлю. Я вас всех троих люблю сыновней любовью…
— Вот что! Хватит! — резко оборвал Сильвестра Трофим Юрьевич, потом вновь вернув своему голосу обычную сдержанность и уверенность, предложил: — Замени отца. Доведи до ума шашлыки. Опахалом помаши, чтоб пожарче, чтоб корочкой мясо взялось.
Удивился Сильвестр такому повелению. Ни разу его еще не заставляли «доводить до ума» шашлыки. Он лишь созерцал, как хлопотал отец у жарких каминных углей и получал из рук матери или отца самый румяный шампур, иной раз даже забывая поблагодарить за это.
«Что-то козел старый настырничает. Воспитатель!»
Но перечить Сильвестр не решился. Подошел к камину.
Вроде бы все просто делали родители: специальную ватную рукавицу— на руку, и переворачивай шампуры, ухватив два или три. Увы, созерцание, это не действие. Жарища прет из камина, хочешь или нет, а отшатнется лицо. Пальцы в ватной пухлости тоже непослушны, совсем не хватучие, выскакивают шамлурины, не скучиваются в ловкий пучок.
«Ну, предки, дают! Сами сидят!»
Мать, видя, что непосильный для сына задан урок, вскочила, чтобы помочь, заменить, но Трофим Юрьевич властно попросил ее:
— Сиди, пожалуйста, Акулина Ерофеевна. Сиди.
«Ну, козел, выбрыкивает! Что стряслось?!» — возмущался Сильвестр, но понявший, что и отец тоже не поможет, подтянул лицо поближе и, больше не отворачиваясь от жара, начал упрямо цеплять неподдающиеся шампуры, постепенно осваивая нехитрую в общем-то технологию.
Перевернув шашлыки, взял ватной рукой флажок-опахало и принялся вращать им, стараясь делать это так же, как делал отец, — еще жарче дышит камин, обжигая лицо, но продолжает раздувать до белой накаленности угли, вдыхая успокаивающий аромат пригоревшего мяса, лимона и вина.
«Не подонок-белоручка, осилю!»
Еще раз перевернул шампуры, еще поддал жару, и когда жирные бараньи ломтики стали одинаково темно-коричневыми, выбрал самые лучшие и переложил на поднос.
— Ваше повеление, Трофим Юрьевич, выполнено в срок и качественно. Готов принять поздравление, ибо, как мы знаем, ласка приятна даже паршивому псу.
— Не ерничай, Сильвестр, — совершенно буднично ответил Трофим Юрьевич. — Бери вот рюмку и… Я поднимаю тост не за тебя шалопая-юнца, а за тебя — мужа. Я хочу, чтобы ты понял меня совершенно правильно и, надеюсь, ты одолеешь себя, — голос его обрел торжественность. — Ты обязан одолеть. Если тебе не безразлично твое будущее.
«Ого! Дает, козел!»
Пока еще не ясно Сильвестру, чего ради «одолевать себя», только Трофим Юрьевич — не мать, ему не сдерзишь. Перед ним все на задних лапках. Взял рюмку, опрокинул в рот (не впервой) и стал ждать пока управится Трофим Юрьевич со своей. Раньше, Сильвестру ясно, не заговорит о главном.
Долакал, наконец. За шашлык взялся. А Сильвестру невтерпеж. Поскорей бы узнать, что день грядущий готовит. Всех собрал, значит, не халявы ради какой-то.
— Ты слышал, Сильвестр, Демьяна Бедного: как родная меня мать провожала… Так вот, тебе черед подоспел. Тебя мать будет провожать.
Челюсть отвисла у Сильвестра. Подобного он даже предположить не мог. Ни разу в семье не заговаривали об армии. Институты выбирали, каждому в зубы и под хвост заглядывали, не устарел ли, престижен ли, аль нет, удобен ли для карьеры. Об этом говорено-переговорено так много, что для Сильвестра стало все едино, в какой институт отправят родители. И вдруг?!
А Трофим Юрьевич не реагировал на ставшее удивленно-вопросительным лицо Сильвестра. Будничным тоном продолжил:
— И не просто в армию пойдешь. В пограничные войска отправишься. Расстараюсь я это устроить.
— Защищать любезное сердцу Отечество, — съязвил Сильвестр, обретая дар речи. — Поворот убеждений?
Не забывайся, друг мой, что ты мужчина, и что прощалось отроку, то осудительно для мужчины, — для большей значимости сказанного Трофим Юрьевич погрозил Сильвестру пальцем. — Ты поедешь насаждать культ силы. Не разума, а силы.
— Не пойму. Сила армии в ее силе…
— Верно. Умница. Давай еще прошвырнемся, как у вас теперь модно говорить, по истории. Отчего неудачей был для большевиков девятьсот пятый? Армия ощетинилась штыками. И что дальше? Ленин напичкал армию своими людьми. А мы допустили ошибку — били по командирам, старались самые верхи обложить флажками, чтобы для энкавэдэ подбрасывать лакомые кусочки, а до рядового бойца, до корня, даже не старались дотянуться. Исправляться время пришло, нагонять то, что упустили.
— За такое дело, простите, — притронулся к усикам Владимир Иосифович, — не юнцу браться. Под трибунал угодить можно…
— Так вот, — совершенно не заметив возражения Лодочникова, продолжал Трофим Юрьевич. — В армию нужно внедрить законы бурсы! Да-да. Не перебивайте, — поднял указательный перст Трофим Юрьевич. — Именно бурсы! Или — концлагерей. Внедрять неспешно, но настойчиво. Сработает закон лавины. Обязательно сработает. И вот когда бурса обретет в армии силу традиции, тогда наступит время выпускать на арену самолюбивого, жадного до славы юнца, пусть не совсем одаренного, но все же с царем в голове, чтобы он грохнул повестью или даже романом. И вот тут — снова закон лавины. Пресса тут же подхватит. Журналистский мир жаден до сенсаций. Не ведая, что творят, станут они лепить статью за статьей, одна хлеще другой. А если газетчики и журналисты еще и поддержку почувствуют, тогда уж вовсе: раззудись плечо. И тогда юноши станут бояться призыва и, наверняка, искать любые предлоги, чтобы не идти на действительную, а проводы детей в военкоматы станут для родителей равнозначными проводам на фронт. Тогда начнется брожение умов, а сама армия потеряет главное — единство рядов и, стало быть, силу. А мы сможем бурсовские законы выдвинуть как сильнейший таранный аргумент для размывания авторитета армии.
— Утопия, — размякший и от выпитого коньяка, и от шашлычной пересытости сидел Сильвестр в кресле лениво развалясь, вытянув зажатые в джинсы ноги, и вяло возражал, словно отмахивался от чего-то назойливо-неприятного, совершенно нереального, но мешающего вольготной, бездумной ленивости. — Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи. Разве комсомольцы восстанут против этого. Утопия. Едины народ и партия…
— Да-а-а. Я считал тебя умней, — с явным сожалением протянул Трофим Юрьевич. — Может, и впрямь отказаться от тебя. В институт ты не поступишь без моей поддержки, всегда тебе не будет доставать одного единственного балла. Из бригады, где ты сейчас значишься, тебя скоренько вышвырнут за прогулы, пойдешь ты на завод или стройку и станешь созидателем светлого здания для себя и своих потомков. Один тогда тебе путь — в изгои, — помолчал немного и словно советуясь сам с собой, словно сомневаясь в справедливости только что предложенного, продолжал с еще большей неспешностью. — Ну, что? Подкупает? Перестарались мы, вкладывая в тебя эгоизм, ума же в достатке не вложили. Уважение к собственной персоне, гениальной, бесподобной, напихали под завязку. Только хватит ли одного эгоизма? Вопрос вопросов… Не в бирюльки игра ждет тебя, терны ждут. Лавр появится позже. Его заработать нужно.
Сильвестр сердито засопел. Ему никто и никогда не говорил, что он тупарь, и с оценкой Трофима Юрьевича он совершенно не согласный, однако противиться посчитал неуместным: слишком мрачное будущее определил семейный благодетель в случае непослушания. Не устраивало подобное Сильвестра. Никак не устраивало.
А Трофим Юрьевич дожимал:
— Ленин и Сталин святыми почитались в народе. Святой была и партия ими ведомая. Но это — вчерашний день. Сталина стащили и с бойницы, и со всех пьедесталов. Стащили те, у кого рыльце тоже в пушку, кто повит меж собой круговой порукой преступности. Открыт малый клапан, а каково брожение умов?! То ли еще будет, когда твои, друг мой, сверстники возьмут бразды правления, когда дети тех, кто кормил комаров на сибирских лесозаготовках и мучился в грубых тисках уголовщины, а в лагерях их диктат держался твердо, и дети тех, кто беззаконно расстрелян, обретут голос и, что вполне возможно, возьмут верх в обществе, общество содрогнется от того, что узнает. И презрение, а с ним и ненависть, коснется всех. Интеллигенция станет кручиниться о загубленных гениях; военные поминать добрым словом расстрелянных маршалов, генералов, полковников и видеть в той пронесшейся по командирским рядам косилке все беды и поражения первых дней войны; мужики на завалинках станут вспоминать о показных судах, которые судили сирых вдов, мальцов-несмышленышей либо солдаток, опухших от голода, за торбу зерна, взятого с колхозного тока — да, друг мой, за хищение социалистической и колхозно-кооперативной собственности по закону тысяча девятьсот тридцать второго года все граждане, начиная с двенадцати лет, квалифицировались как враги народа. А что это значит? «Не менее десяти лет…» Или ты думаешь, друг мой, что забыли зло члены семей «врагов народа»? Нет и нет! Они тоже становились отверженными. По статье пятьдесят восьмой уголовного кодекса. И вот когда все это обретет мощный голос, тогда мы с великим удовольствием станем потирать руки и восклицать: «—Свершается!»
— Зачем же теперь шатать армию? — ухватившись, как показалось Сильвестру за разумную мысль, бросил он себе спасательный круг. — Как я понял, благоприятное время еще не подоспело.
Трофим Юрьевич не выразил недовольства тем, что ляпнул Сильвестр, поднял рюмку спокойненько, полюбовался янтарной прозрачностью коньяка, глотнул глоточек и принялся за шашлык, услужливо поданный ему Владимиром Иосифовичем.
Пауза длилась долго. Пока не опорожнил Трофим Юрьевич шампур и не вернул его Лодочникову. Отер губы салфеткой, старательно вытер прозрачные свои руки, будто собирался ими брать что-то стерильное, и только тогда заговорил вновь. Начал с вопроса:
— Ты ничего не слышал, друг мой, о маршале Льотейе? Нет. Был такой генерал-губернатор Марокко. Причалил его корабль в порту, подали фаэтон, а солнце африканское не то, что на Альбионе. Пока до резиденции ехал, темечко напекло. Приказывает тогда, чтобы обсадили дорогу деревьями, чтобы тень от них защищала от солнца. Один из сановников, самый разумный, услужливо ему так: «—Какой смысл, если деревья вырастут только через пятьдесят лет…» И знаешь, мой друг, что ответил Льотей? «— Тогда начните работы сегодня же». Главное, друг мой, посадить, а вырасти посадка вырастет. И как раз ко времени.
На первый взгляд ничего в том не было странного, что рассказ о довольно известном деянии маршала Льотейя прозвучал у камина в подмосковной даче, но услышь этот рассказ кто-либо из тех, кто напрямую противостоит идеологическому напору западных спецслужб, усомнился бы, не знаком ли Трофим Юрьевич с родившимся в тайниках английской Интеллидженс сервис планом идеологического наступления на социалистический лагерь, который так и закодирован: «Операция Льотей». Ее цель и крупная: сеять разногласия между коммунистическими партиями, между правительствами социалистических стран, и более мелкая: отрывать обывателя от веры в социализм, науськивать одну нацию на другую, создавая скандальные ситуации. Средства: клевета, фальшивка, подтасовка исторических фактов… Метод: постепенное воздействие, рассчитанное на годы. Но Сильвестру откуда знать такое. Мал он еще. И зелен. О другом его мысли: разве один в поле воин. Губернатор пальцем шевельнул, тут же вся многомильная дорога обсажена, деревьям остается одно: расти. А он, Сильвестр, осилит пусть десяток деревьев, а дальше что? Солнечный удар?
Подтянул ноги, будто намерился встать, потом вновь решительно распрямил их.
— Физичка у нас похоже швырялась: «— Солнце, как раскаленная сковородка…» Очень разноязычным мне всегда казалось то сравнение. А как вы находите, Трофим Юрьевич?
— Гляди-ка, не так ты и глуп. Только не сравнивай нас с твоей, как ты выражаешься, физичкой. Похожая нелепость. Да, ты среди пионеров. И там, где ты, там ты будешь один. Но помни всегда, что ты не одинок. Сегодня многие отцы посылают своих детей…
— На заклание?
— Если хочешь точности, то — да. Кто глуп и не совсем подготовлен, тот может угодить в дисбат. Только, друг мой, для заклания существуют, слава богу, овны. Агамемнон даже привел к жертвеннику свою дочь Ифигению, но пала от руки Калхаса лань. Ифигения же стала великой жрицей богини Артемиды. И Авраам водил своего сына Исаака в землю Мориа, чтобы принести его в жертву Богу. Но сожжен был овн, запутавшийся в чаще рогами своими, а от Исаака произошел великий народ. Такова, друг мой, правда жизни: овны созданы для заклания, а слава, сытая и комфортная жизнь — для расчетливых и умных. Для избранных такая жизнь. Ты избран. И к восхождению к славе через жертвенник готовить тебя буду я. Сам лично. И первое, с чего мы начнем, проанализируем то, что происходит в армии сейчас, на сегодняшний день. В общих словах ясно: армия никак не оправится от нанесенного ей удара Хрущевым. Она потеряла лучшую часть офицерского состава. Нет, они не уничтожены физически, как при Сталине, но они убиты морально. Неверие сегодня и у оставшихся. Они не знают, что станет с ними завтра. И уж конечно, огня в их работе днем с огнем не сыщешь, — Трофим Юрьевич даже улыбнулся, довольный своим каламбуром. — Но нам с тобой нужны не общие сведения, а самые конкретные. Особенно что касается пограничных войск. Здесь мы проникнем в самые что ни на есть глубины сегодняшней жизни… Все. На сегодня хватит. Еще по рюмочке и — спать.
Их ждала теплая постель в уютных, со вкусом отделанных деревом и бархатом комнатах, и они даже представить себе не могли, что где-то далеко-далеко, в снежно-ледяном безмолвии тоже собирается на ночлег одинокий путник и что для этого ему нужно не просто перейти из каминной в свою комнату, а найти сравнительно ровное и безопасное от обвалов место.
А ведь судьба распорядится так, что тот путник и Сильвестр встретятся, и встреча та принесет Сильвестру известность и уважение, отведет от него карающую руку правосудия. Но это свершится еще не скоро. Пока путнику, имя которому Абдумейирим, требовалось найти хотя бы маленькую площадку, мало-мальски защищенную от снежных лавин.
Больше всего боялся их Абдумейирим. Они уже пронеслись, врываясь в застоялую тишину снимающим сердце гулом, и впереди, и позади. Не близко, слава Аллаху. Только кто мешает вон тем брюхатым карнизам, которые висят вот уже добрые четверть часа пути над головой, оторваться и лететь вниз. Дело к весне. Снег тяжел. Поскорей бы пройти этот опасный участок, где не знаешь, чем обернется твой следующий шаг.
Но желание это неисполнимое: поспешишь, сдвинешь нечаянно снег, и пойдет неудержимо лавина. Тогда и верхний снег не удержится. А попал в лавину, считай пропал. Мало кто оставался живым, если Аллах не оберегал его от безжалостной стихии.
Первый раз Абдумейирим шел этой тропой один, да еще в такое неподходящее время. Обычно они с отцом проносили здесь контрабанду после того, как сбросят горы лишний снег с вершин в лощины, либо в самом начале зимы, когда горные тропы уже считаются закрытыми, но они еще не так опасны. Больше двух раз в год по этой тропе они не ходили. Побаивались, что могут прознать про нее пограничники. Неведомой она была для них. Про нее не знали даже друзья отца Абдумейирима, тоже ловкие контрабандисты. Кроме сына, никому он ее не показывал. И вот теперь Абдумейирим вынужден расплачиваться за то, что секрет отца стал его достоянием.
Как много он понял всего за несколько минут. Наполнилась душа тревогой, и хотя усердней усердного восхвалял он в молитве Аллаха, дающего людям благодать, спокойствие никак не приходило. Еще острей почувствовал он горечь от того, что так нескладно сложилась его судьба, так зло шутила над ним все годы, а теперь вот подбросила новое испытание.
А Абдумейириму казалось уже, что все тяжелое в жизни позади, что ждет его, вполне заслуженно, сытая спокойность. Отцом заслуженная. Да и им самим. Совсем мало джигитов осталось с Мейиримбеком, когда побитый кокаскерами его басмаческий отряд пустился наутек, чтобы укрыться, как было не раз до этого, за кордоном. Но время уже было не прежнее, джигиты устали бездомничать и зверствовать, они все больше начинали осознавать, как упорней и смелей сопротивляются дехкане и чабаны, встречают их в кишлаках не пловом с бараниной, а залпами из дедовских охотничьих берданок. И бьются насмерть, пока не подоспеют на помощь кокаскеры. Редел отряд, хотя Мейиримбек, прозванный волком, измывался над беглецами, если их ловили, страшней, чем над коммунистами и красноармейцами. Но ничто не помогало. А после того боя, когда Мейиримбек скакал к границе сломя голову, окруженный самыми верными джигитами, хвост отряда таял, как снег в июльский жаркий день. Отворачивали всадники поодиночке и даже группами в каждый попадавшийся на пути расщелок.
Отец Абдумейирима не бросил своего курбаши. Так и остался с ним, верно служа ему на чужбине. Настолько был предан, что первенца своего назвал Абдом Мейиримбека, слугой, значит, его, рабом. Не слуга и раб Всевышнего, Всепрощающего, а раб самого простого смертного, который даже ни в Мекке, ни в Медине не побывал, хотя и носил имя — Благородный.
Но про все это начинал думать Абдумейирим, когда стал взрослым, мальчиком же, отроком и юношей безропотно исполнял все прихоти хозяина, за что поначалу звали его бача, а когда вышел из мальчишеского возраста — малай. Законным именем его почти никто не называл до той поры, пока не соблаговолил Мейиримбек одарить его калымом для покупки жены. Правда, в своем дворе оставил, выделив мазанку у самого дувала в конце сада, но то уже был какой ни на есть, а свой угол.
Благодарный за калым, работал Абдумейирим трехжильно, да еще помогала ему молодая жена, а получали они от хозяина только упреки за ленность, неблагодарность и непочтительность к благодетелю. Вот тогда-то и начала появляться крамольная мыслишка: неужели Аллах не видит несправедливости. Или на нем, Абдумейириме, висит проклятие Всепрощающего. Вроде бы нет причин карать его, добропорядочного мусульманина. Намазы не пропускал. Даже когда болел и по шариату мог это делать безгрешно. Садаку и закят вносил исправно. Последние гроши отдавал, но без сожаления. Добровольно отдавал, не греша скаредностью. В том он мог поклясться даже самому себе. Так отчего же не милостив Аллах?
Усердней прежнего бил он поклоны Всевышнему, но мысль-злодейка цепко сидела в голове, и с каждым годом все трудней удавалось двоедушить, служа властелину вроде бы исправно, но презирая его и желая ему самых лютых кар Аллаха.
Умерла мать Абдумейирима, вскорости заболел отец, и бек перестал посылать их с контрабандой по ведомой им одним тропе. Вздохнул с облегчением невольник: не оставалась теперь молодая его жена без присмотра во власти старого похотника. А когда отец, отболев отпущенный Всемилостивейшим срок, переселился в мир иной, бек сам предложил молодой семье занять отчий дом, где был небольшой садик и виноградник.
Абдумейирим и радовался милости хозяина-бека, но и опасался ее — никак к нему не приходило спокойствие, хоть и гнал он тревогу из сердца, а крамольную мысль из головы, так ничего с ними поделать не мог. Отправляясь с восходом солнца работать в сад благодетеля, он всякий раз ждал неприятностей. Но шли годы, он мужал, начинал даже подкапливать деньжонки, чтобы откупиться, наконец, от Мейиримбека, и даже начал уже предвкушать свободу; но совершенно неожиданно, в первый день Курбан-байрама, когда он с женой и подросшим сыном собирался насытиться жертвенной бараниной, к нему пришел посланец от бека и, не снимая калош с ичигов и не проходя к сандалу, передал приказ господина поспешить к нему:
«— Бек осердится, если станешь мешкать!»
Екнуло сердце, но, пересиливая тревогу, он подумал:
«Может, хочет угостить? Или дать свободу? Праздник, все же. Противно Аллаху все недоброе в этот священный день…»
Сыну и жене повелел:
«— Подождите меня. Я скоро, — подумав немного, добавил: — А если задержусь долго, разговляйтесь без меня. Бек, может, пригласит к дастархану, — и даже пошутил: — У него жертвенный барашка, конечно, жирней нашего. Курдюк на полпуда».
Только он сам не верил, что чванливый хозяин, считавший свое благородство сродни святому, пригласит его, простого раба, к своему столу, поэтому никак не мог усмирить сердечную тоску, хотя и старался бодриться.
Неизвестность — самое тяжкое состояние для человека. Благо до дома бека рукой подать. Не долго пришлось мучиться над вопросом, какой хозяйской прихоти он обязан вызовом в праздничный день.
«Не барана же резать?»
Нет, конечно. Поблагородней слуга найдется для такого дела. Ему, Абдумейириму, другой удел.
Встретили его у самой калитки, словно дорогого гостя. Это удивило и обрадовало. Увы, улетучилась радость мигом, когда повели его не прямо к дому, а вокруг хауза, подальше от террасы, которую всеми лампочками освещала люстра и откуда слышались возбужденно-веселые голоса.
«Не хочет показывать гостям, чванливый свинья!»
И в этой обидной догадке была правда, но главное, отчего его вели за хаузом по дальней аллее, заключалось в том, что сами гости не хотели, чтобы их видел лишний глаз в этом доме.
За хаузом проводники свернули к дальней части дома, и тут Абдумейирим сумел сквозь кусты начавших уже бутониться роз разглядеть, что за столом среди других гостей восседал и европеец. Вот тут и обожгла душу догадка:
«Пошлют в Алай!»
Да, туристы сюда, в забытый Аллахом угол, не приезжают никогда, а если появлялся здесь европеец, в лицо которого почти никто из простолюдинов не знал, то либо уходили ходоки в горы через границу, либо кто-то исчезал бесследно. Был человек и — нет его. Никаких следов. Только слухи. Тревожно предупреждающие: поперечил человек воле Мейиримбека, и Аллах покарал его…
«Чего лютует?! Век доживает, на беседу с Аллахом пора готовиться, а он?! В Мекку бы сходил!» — вырывалось в гневе у кого-либо из дехкан — рабов бека, но тут же несдержанный в страхе призывал Всепрощающего простить его за дерзость. Знали люди, как много у бека наушников. Знали и то, чем оборачивается немилость властелина.
Завели Абдумейирима в боковушку за женской стороной, а там сандал, накрытый дастарханом. Баранина, только-только вынутая из котла, нестерпимо аппетитно парит, а шурпа в больших пиалах поблескивает в неярком, в одну лампочку свете янтарным жиром, через который даже и пару не пробиться.
Его попросили пройти к сандалу, а сами вышли. И в глупом он оказался положении: слюнки текут, голод терзает (давно уже пора разговляться), а взять мясо со стола он не может, ибо не вымыты его руки. Не станешь же ради прихоти желудка брать тяжкий грех на душу.
Минут десять томился гость, перебрал глазами все куски мяса на подносе, оценивая достоинство и недостаток каждого; он уже точно знал, какой кусок возьмет первым, только никто не входил в комнатку, ни мальчик с кумганом, тазиком и полотенцем, ни сотрапезник. Но вот, наконец, скрипнула дверь, порог переступил сам Мейиримбек, а следом и насурмленный евнух с серебряным кумганом для омовения.
Вскочил Абдумейирим, будто гюрза нацелилась ужалить его в зад, склонился в низком поклоне, совершенно не в силах справиться с навалившимся предчувствием беды. Не хватало ему даже мужества, чтобы поднять глаза и глянуть на бека.
«— Чего испугался, — мягко вопрошал тем временем Мейиримбек. — Разве я насильно позвал тебя, чтобы обидеть. Я никогда не обижал тебя. Только благодетельствовал».
Он приподнял ногу, евнух тут же, отработанно, снял галошину с ичига, потом вторую и, поддерживая за локоть, провел бека на почетное место. Для гостей оно, то место, но не слугу же сажать в голову стола.
С трудом сгибая отощавшие от ветхости ноги, опустился бек на подушку, поправил обвислый живот, очень схожий с горбом долго не пившего верблюда, и подставил сухие морщинистые пальцы свои, унизанные дорогими перстнями, под струйку воды. Мыл тщательно, но еще тщательней вытирал их, обдумывая в это время ход предстоящего разговора, определяя, что можно и нужно сказать, а о чем лучше помолчать.
Плеснул евнух воды на руки и Абдумейирима, сунул ему полотенце, давая понять, что только прихоть хозяина заставляет его ухаживать за безродным и полунищим рабом. Хотя, если вдуматься, евнух — слуга из слуг, раб из рабов. Но он допущен в покои и самого бека, и его жен, к тому же у него есть свой дом, да и денежки припрятаны на черный день, вот и дерет нос.
Абдумейириму, правда, сейчас не до того, чтобы разбираться в таких тонкостях людских отношений, он ждет, пригласит ли к трапезе хозяин или сразу начнет разговор о том, ради чего привели его, Абдумейирима, в эту глухую (стены и пол в сплошных коврах) крохотную боковушку. Курбан-хаит всего-навсего — повод. Разговор, похоже, будет с глазу на глаз, и, как теперь все больше понимал Абдумейирим, ему придется идти на Алай или выполнять другое какое-то задание, но тоже секретное.
«— Отведаем, благослови нас Милостивый и Милосердный, жертвенного барашка, пролившего кровь волей Великого вместо Исмаила, сына Ибрагима…»
По жирным губам было видно, что бек уже разговелся, но все же взял кусочек баранины, самый маленький и самый сочный — спинной позвонок; а Абдумейирим ухватил увесистую часть бараньей ноги и принялся глотать, не успевая прожевывать, мягкое душистое мясо, забыв даже, что нужно запивать шурпой.
Бек дождался, пока у Абдумейирима от ноги останется лишь обглоданный мосол, и предложил:
«— Пей шурпу и слушай, — подождал еще, пока гость, раб его, торопливо отглотнет первый глоток пряного бульона, тогда только продолжил: — Слушай и запоминай. Когда в России не стало белого царя, мой брат Абсеитбек возжелал овладеть крепостью кокаскеров, чтобы без всякой опаски владеть Алаем и путем для торговли с купцами Востока. Аллах не услышал его фатиху. Абсеитбек погиб. В бою погиб. Он стал святым. Я поехал в его дом побеспокоиться о его женах. Всем нашлось место в моем гареме, и только одна из жен моего брата не захотела поступать по закону предков. Она сбежала. Вопреки шариату. Имя ее — Гулистан. Аллах не покарал ее тогда потому, как определили факиры, улема и имам-хатыб, что несла она в себе плод от святого. Он мог бы стать святым, сын святого, но попал в руки продавшегося кяфирам. В руки Кула. Он не наш, он — потомок пленных невольников, потомок джигитов Кенесары, попавших кокандцам в плен. Казах он. Он дерзнул назвать сына Абсеитбека своим и дал ему имя Рашид. Имя Аллаха. Великий грех, ибо только Аллах — Направляющий на правильный путь. Волей Аллаха сын Абсеитбека стал большим человеком. Ему подвластны пограничники Алая. Но он слеп, ибо служит кяфирам и сам не творит обязательных для правоверных намазов. Я посылал к нему людей, чтобы вразумили они его, но его обуяла гордыня. Тебе предстоит продолжить богоугодное дело, только ты не сразу пойдешь к командиру кокаскеров. Вначале ты посетишь Кула и Гулистан. Они живут там же, где жили. Когда ходил с отцом по своей тропе, ты видел их юрту. Вы обходили ее подальше, теперь ты войдешь в нее».
Абдумейирим продолжал держать пиалу с шурпой, вовсе о ней забыв. Он мысленно шагал уже по тропе и от страха онемел. Еще месяц она будет непроходимой. Успокаивало одно, его посылают проводником воли Аллаха и, значит, случись что, он спокойно пройдет по острию меча в рай. На кого только останутся жена и сын? Замордует их бек. Или подарит кому-либо из своих любимчиков.
«— Сейчас нельзя идти той тропой, — выдавил через силу Абдумейирим. — Там обвалы…»
«— Аллах не оставит правоверного, свершающего богоугодное дело. Положимся на его милость. И еще, — Мейиримбек улыбнулся лисьей улыбкой, — на милость кокаскеров. Да, я сказал то, что сказал: кокаскеры уже несколько лет как огородили колючей проволокой заставу за перевалом Сары-кизяк, бросив ее. Обезлюдела граница, и ты можешь указать любой путь. Проверить они не смогут. Бессильны. А твоя, — он сделал ударение на слово «твоя», — тропа останется сохраненной».
«Откуда знает он, что уменьшилось кокаскеров? Гости-англичане (дехкане всех европейцев считали англичанами, ибо только они приезжали сюда с недобрыми визитами) сказали?»
По закону гостеприимства, хозяину самое время пришло потчевать гостя, у которого и пиала полна, да и мяса он съел всего ничего, но хозяин будто не видел, что гость не ест и не пьет, он продолжал наставления:
«— Будь вежлив с Кулом. Передай от меня пожелания здравствовать долго и рожать сыновей. Попроси, чтобы отвел тебя к сыну Абсеитбека. Напомни ему, кто он есть и передай, что я прошу его пропускать в Ферганскую долину моих людей. Очень редко. Два раза в год. Аллах за это простит все его грехи и сделает моим наследником. Кулу я подарю свою законную жену Гулистан, и она станет его. Аллах благословит их брак. Если вернешься с доброй вестью, получишь хорошее суюнчи: десять баранов. Не выполнишь урок, не ведаю, как решит Аллах. На все его воля».
Сложил молитвенно руки и провел их по окладистой бороде, белой, словно девственный снег. Мягко провел, благородно, а у Абдумейирима мурашки побежали по спине, а лоб покрылся капельками пота. Едва удержал он в руках пиалу. Понял, чем окончится его поход. Пропадет он бесследно. Но страшна не смерть, она неотвратима, не сегодня, так завтра Аллах приберет, страшно, что бросят на съедение шакалам, а не усадят перед дастарханом в могильной нише…
Мейиримбек, дав рабу осмыслить сказанное, подсластил пилюлю:
«— Если сын Абсеитбека запротивится, скажи ему, что покарает отступников рука Аллаха. В первую очередь Гулистан — его мать. Потом — отчима. Третья очередь — за ним. При таком условии они станут куда сговорчивей. Десять баранов, считай, в твоем дворе. И твое деяние не оставит без внимания мулла. Ты идешь на богоугодное дело, — повторил бек. — Омин, олло хаки-бар!»
Повторил Абдумейирим машинально слова благодарности Аллаху за ниспосланную трапезу и вскочил, чтобы помочь беку, который, кряхтя, стал подниматься с подушек, но его отпихнул впорхнувший в комнату евнух и повел господина своего к выходу. А как только переступили они порог, в комнату вошли прежние его провожатые и указали на дверь.
Уводили его тем же путем, каким привели. У калитки предупредили:
«— Кошма, толокно и терьяк у тебя дома. Ты должен уйти еще до рассвета».
Выходит, и отец терьяк носил для отвода глаз. И ему, сыну своему, ни слова. А Мейиримбек каков?! Угодное Аллаху деяние! Терьяк тогда зачем?
И словно услышали провожающие этот вопрос. Предупредили:
«— Если задержат кокаскеры, ты — контрабандист. Понял? Если все сойдет-удачно, терьяк оставь Кулу. Хороший подарок для него. Смотри, не присвой!»
Для чего ему эта гадость. Он — не терьякчи. Половину, правда, можно оставить, как делал, бывало, отец, а после возвращения продавать потихоньку, но риск большой: узнает бек, не то, что баранов не даст, а еще и жизни лишит за ослушание и обман. Нет, пусть он пропадет пропадом, терьяк тот.
А дома, едва он переступил порог, повисла у него на шее жена, причитая, словно уже бежали с его бездыханным телом на носилках на кладбище. Горечью и обидой наполнилось сердце Абдумейирима, хотел он оттолкнуть жену и выговорить ей за то, что отпевает прежде времени, но пересилил себя, поняв ее состояние. Попросил мягко:
«— Давайте ужинать. Все обойдется, да поможет мне Аллах».
«— Вот видишь, — пнула ногой жена стоявший у стенки рулон кошмы. — Для тебя вьюк. Как для ишака».
И вновь едва сдержался Абдумейирим, чтобы не обругать жену за такое обидное сравнение. Рассудил, что без злого умысла, а случайно она обидела его. А кошма и в самом деле походила на вьюк с толстыми лямками для плеч и для груди. Скручена кошма была в тугой рулон, не очень толстый и не очень высокий, точно такой же, какие носил с собой отец. Она ловко ложилась на спину меж лопаток и лишь на полметра поднималась над головой, что для ходьбы в горах не являлось помехой, ибо веток, за которые можно было бы цепляться, на тропе не встречалось. И лишь в одном месте приходилось проползать под низко нависшей над тропой скалою, но там отец всегда протаскивал кошму за собой на аркане. Об аркане позаботились и на сей раз, тонкий он, но прочный, из конского хвоста. Привязан он был к верхней петле лямки и упрятан в кошму.
Отдельно от кошмы стоял крохотный котелок с ножками и ручкой, мешочек с пшеном, прожаренным с солью, а затем толченым в ступке, несколько коробок спичек и снегоступы, очень похожие на плетеные подносы, только чуточку поменьше их.
Вот и все снаряжение. Терьяк запрятан в кошму и в лямки.
«Много ли?»
Прикинул вес кошмы. Похоже, не больше полпуда. Не велик груз, но велико богатство. Не жалеет бек ничего. Выходит, есть в том корысть.
«Богоугодное дело?!»
Испугался, однако же, греховодной мысли и прежде чем сесть за дастархан долго славил Аллаха в молитвенных поклонах.
Утром, еще затемно, покинул Абдумейирим отчий дом. Кишлак, плотно потрапезовавший жертвенными барашками, лениво посапывал, доглядывая последние сны; даже ни одна собака не тявкнула, ибо псам тоже подвалил во вчерашний вечер обильнокостный пир, и непривычная сытость вконец подкосила их собачью бдительность — все шло, как и должно было начаться, в ближнее ущелье он прошагал незамеченным (береженого Аллах бережет, вдруг у кокаскеров здесь свои соглядатаи) и решил немного подождать, что-бы совсем развиднелось, а значит, легче будет найти потайной отвилок. Их с отцом отвилок.
За день он прошел почти половину пути. Правда, несравнимо легкую половину. Остаток едва ли он осилит за два дня. Но это пока что не очень-то озадачивало, снег лежал бездвижно, хотя заметно потяжелел под весенним солнцем. Обвалов не случилось за весь день, да и следов их не попадалось. Для ночевки он все же выбрал безопасное от возможного обвала место — под метровым гранитным карнизом, края которого прогибались, казалось, под тяжестью пухлого языка. Вроде бы не совсем разумно спать там, где висит над тобой снежная глыба, но Абдумейирим хорошо знал, что если оторвется язык, то под карниз он не угодит — лавина покатится вниз, а он может, даже не просыпаясь, продолжать спать.
Утоптав достаточную для себя площадку, раскатал Абдумейирим кошму и развалился на ней, блаженно вытянув ноги, а когда сон начал одолевать, поднялся, отрезал ломоть кошмы (в той половине, где не было терьяка) и, настрогав ее мелкими лоскутками, начал сооружать костерок под котелком, до предела натолкав его снегом. Разрыхленная шерсть занялась сразу, заполнив затхлый закуток роговой горелостью до удушливости, но Абдумейириму ничего не оставалось делать, как мириться с таким положением, как мирился прежде и его отец, и отец отца, и дед отца — дров на этой тропе отродясь не водилось, а тащить с собой поленья совершенно бессмысленно, тем более, что шерсть хотя и горела не ахти как, но казанок вполне можно было разогреть до приятной теплости и, посолив воду, запить в полное свое удовольствие толокно.
Кошма после каждой ночевки убывала, но не настолько, чтобы не оставаться теплой подстилкой.
Прокоротал Абдумейирим ночь. Как ни тихо было вокруг, не спал он крепко: робость подкралась вместе с темнотой и не отступала до самого рассвета. С отцом было покойней. Вдвоем все же. Согревала душа душу.
Пока он молился, а потом, подогрев воду, позавтракал толокном, совсем стало светло, а небо, хмурившееся весь вчерашний день, почти совершенно очистилось, но остатки туч не кучились в фантастические белобокие копны, а растянулись по небу легкой кисеей, очень напоминающей морозный узор на стекле, отчего небо казалось хотя и прозрачно-высоким, но не празднично-синим и бездонным, а серо-настороженным.
«— О, Аллах!» — с тоской выдавил Абдумейирим, вполне понимая, чем обернется через несколько часов этот кисейно-серый рассвет.
Увы, Абдумейирим ошибся. Время шло к обеду, а солнце продолжало светить смягченным узорчатой кисеею светом, отчего снег не полыхал искрами, а поблескивал начищенным серебром и глаза, поэтому, не уставали. Можно смотреть не только под ноги, надвинув цветастую чалму как можно ниже на глаза, но можно любоваться и горами.
Нет, любоваться, не то слово. Горы были чем-то непонятным для Абдумейирима, они влекли его к себе пугающе-властно, и хотя их кишлак лепился к горам, и видел Абдумейирим горы каждодневно, но лишь выдавалось свободное время, он сразу же убегал в какое-либо ущелье или карабкался вверх, чтобы потом с горы смотреть на малюсенькие квадратики домов и на людей, похожих на снующих жучков; но особенно нравился ему один потаенный, очень узкий и глубокий расщелок, из которого даже в самый ясный день виделись на небе звезды и даже луна; а когда, пугая его до полусмерти, взлетали с карканьем из своих неведомых среди скал гнезд вороны, он замирал от непонятной восторженности, наступавшей вслед за испугом. А если он забирался на свой любимый утес, с которого было видно далеко окрест, он забывал время, забывал обо всем на свете, видел только хмурые скалы, где-то похожие на сказочные замки, где-то на громадные наконечники копий воинов-великанов, которых пленила гранитная твердь, и воинам удалось лишь пробиться сквозь нее копьями и верхами шлемов — за те потерянные без дела часы, как считал хозяин-бек, доставалось Абдумейириму крепко, но не очень долго оставался в памяти такой урок, горы его манили, побеждая страх перед наказанием. Когда же первый раз отец повел его вот по этой тропе, Абдумейирим заработал увесистый подзатыльник, ибо, засмотревшись на горы, чуть было не соскользнул с узкого карниза в глубокую пропасть. Но со временем простое любопытство и неосознанная созерцательность уступили место пытливому изучению гор, и теперь Абдумейирим знал горы так же хорошо, как свой двор. В эту же пору года, когда снег еще не сошел, здесь он проходил впервые, поэтому так цеплялись и взгляд его, и память за отличия от осеннего и летнего ландшафта. А мягкое солнце как бы поощряло: смотри не щурясь, во все глаза смотри и запоминай. Словно предвидело, что пригодится ему все это на будущее.
Бодро шагал Абдумейирим по только ему известной тропе, и хотя она была укрыта толстенным снегом, ни разу он не сбился и точно вышел к узкому, километровой длины, пролому в горе, единственному месту, по которому можно пройти, минуя обжитые путниками перевалы. Этот пролом и являлся главным секретом их семьи и передавался от отца к сыну. Страшным был пролом, не ровный, а кривоколенный, идешь по нему и все время впереди тебе видится тупик. Вот-вот, кажется, упрешься лбом в высоченную скалу, но когда подойдешь к ней, откроется поворот, который тоже воспринимается тупиком — и так весь километр. Здесь, перед этим проломом, отец всегда совершал намаз. Долгий намаз.
Абдумейирим тоже остановился, собираясь развязать пояс-платок и расстелить его молитвенным ковриком (путнику по шариату дозволительно пользоваться бельвоком), но он заколебался: слишком много пухлых языков висело и на правом и на левом ребре пролома, местами они даже дотягивались друг до друга, образуя толстенную, толще камышитовой, крышу. Они, эти языки, обласканные уже солнцем, потяжелели и могли в любой момент рухнуть. К тому же, на небо все гуще налипали перья, оно начинало хмуриться, а это явный предвестник ветра, который, по расчетам путника, давно уже должен бы начаться, только по неведомой ему причине запаздывал. А если застанет ветер в проломе, считай, конец. Не убежишь от обвала, не прокатишься с ним вниз, распластавшись на снегу, здесь все трагичней: хлопнет по голове многотонный ломоть, а потом еще сверху привалит, жди потом, когда все это растает. В самый разгар лета они с отцом здесь проходили, а снег все равно хрустел под ногами.
Провел Абдумейирим лодочкой ладоней по лицу и бороде, благословляясь у Аллаха, и шагнул в задавленную гранитом снежную узость. Хотелось припуститься, чтобы поскорей миновать нависшую над головой стройность, но он наоборот шагал расчетливей, чем прежде, боялся даже дышать полной грудью. Ни чихнуть, ни кашлянуть нельзя. Малейшее колебание воздуха, если оно дотянется до пухлых карнизов, может стать роковым.
Один тупик пройден, второй позади. Третий… Вот он — конец. Виден. Так и подмывает побежать или хотя бы прибавить шагу, тем более, что небо совсем потемнело и воздух уже пахнет метелью; только не спешит путник, уповая на Аллаха. Боится спешить. Продолжает размеренно и расчетливо переступать снегоступами, чтобы уберег Аллах от падения снег из-за неосторожности.
Последние пяток шагов. Вот он — простор. Впрочем, какой там простор — небо скребется грязным козлиным брюхом по вершинам, потемнело все вокруг, кажется, ночь уже наваливается скопно. Только, как взглянуть на происходящее: для Абдумейирима, малое время назад сдавленного, словно в колодце, высоченными бело-коричневыми стенами, открылась воля вольная. Душа из пяток вернулась на свое привычное место, хотя еще не улеглась покойно, но уже хвостик у нее не дрожит.
И тут потянул едва ощутимый ветерок, и сразу же в спину ударил тугой воздух — Абдумейирим обернулся резко и даже хлопнул от радости себя по коленкам: язык, висевший у самого выхода из пролома, переломившись, летел, многопудово давя застоялость, вниз. Еще миг и — ухнуло утробно, а Абдумейирим уже лежал, крестом раскинув руки и ноги на снегу. По всем его понятиям, здесь не должен снег поползти, но вряд ли стоит обвинять путника в чрезмерной осторожности, он же впервые в жизни оказался в горах в пору обвалов.
Пролом выплевывал, будто насос, волну воздуха за волной, гудел страшным гулом; у выхода рухнул остаток языка, стена вовсе очистилась, намного приподняв дно, и когда утих пролом, а ветер, к тому времени набравший силу, тронул снег где-то впереди, и там зарокотало, Абдумейирим встал и заторопился обратно в пролом. Перед подъемом, крутым, метров пять высотой, который образовал обвал, снял снегоступы по ненужности, ибо снег лежал теперь здесь спрессовано, и, пробивая носками ступеньки, поднялся в пролом. Чуть-чуть углубившись, снял платок-пояс и расстелил его для молитвы.
Давно так долго и с такой истовостью не совершал намаза Абдумейирим. Да как же иначе мог он себя вести, если всемогущая рука Аллаха придержала ветер, пока он, Абдумейирим, не миновал самую страшную часть пути. Но и этого Аллаху показалось недостаточно, он скинул снег со стен тут же, как избранный им правоверный для свершения правого дела покинул опасное место, и сделал это, чтобы обеспечить совершенно безопасный ночлег.
«Не отвернется Аллах от того, кто творит ему угодное дело…»
Да, Абдумейирим сейчас даже не хотел вспоминать те черные мысли, какие теснились в его голове и в боковушке, когда слушал он своего властелина бека, и всю оставшуюся часть ночи до выхода в горы, теперь он как бы прозревал, что послан не ради прихоти хозяина, а ради великой, богоугодной миссии.
Сон Абдумейирима был хотя и чуток, но спокоен, и поднялся он бодрым, вполне готовым двинуться по тропе дальше, не боясь ничего.
Пока он молился и, пожевав толокна, запивал его подогретой на костерке водой, небо просветлело совсем и, на удивление, оказалось чистым и высоким-высоким. Во всяком случае та полоска его, какую видел Абдумейирим из узкого пролома.
Но и когда окинул взором Абдумейирим все небо, душа его осталась спокойной: ни одного перышка, только над дальней вершиной завис кусок взбитой ваты и словно присматривался, куда приземлиться для отдыха. Середина этой ватной тучки отливала чернотой, но этой мелочи Абдумейирим не придал никакого значения. И, наверное, правильно сделал, ибо добрых полпути шагал он бодро и весело, нагоняя упущенное вчера время: обычно они с отцом ночевали на перевале, у самой границы, а утром, понаблюдав поначалу, нет ли где кокаскеров, переходили ее и дальше двигались уже с большей осторожностью. Когда тропа выбиралась на открытость из скальной духоты, они обязательно останавливались и внимательно осматривали все впереди, чтобы не угодить в руки пограничников. Поэтому путь, равный одному переходу, они осиливали за два дня. Место ночлега определено у них было отменное: просторный грот, узенький лаз в который не вдруг найдешь, если даже знаешь, что он есть.
Сейчас он тоже предполагал провести ночь в том гроте, поэтому торопился поскорее на перевал. Пограничников он, верно, не опасался: кому придет в голову, что в горы в эту пору пойдет человек к тому же совершенно, даже по понятиям контрабандистов, в непроходимую местность.
Вот он — перевал. Последние метры подъема. Остановился все же Абдумейирим на вершине и посмотрел внимательно на разостланный впереди саван. Чист. Без следов. Без пятнышка. Пошагал вниз еще быстрее, вовсе не замечая, что та, дальняя тучка, начала расти, словно вдруг на херман вытряхивали и вытряхивали сборщики хлопка наполненные свои бельвоки, и гора хлопка росла не по часам, а по минутам. Увидел Абдумейирим это, когда разросшаяся туча лизнула краем своим солнце, и все вокруг мгновенно изменилось, посерело, нахмурилось.
«О! Аллах!»
Для него было ясно, что произойдет дальше, и он, даже растерявшись, остановился, решая, возвращаться ли на перевал или прибавить шагу, чтобы до непогоды успеть укрыться в своем гроте.
На перевал — ближе. Но если начнется буран, там негде укрыться. Там околеешь, как голодная и мокрая овца. А если несколько дней будет мести? К гроту — дальше. Только надежно в нем. Пусть бесится пурга, в гроте тепло и совершенно безопасно. Толокна хватит. И кошмы хватит. Только одно пугает, не успеть до обвалов к гроту, вдруг ветер вот-вот начнется. Вот тогда как?
Туча отступила от солнца, снег вновь заискрился весело, и это предопределило выбор Абдумейирима. Он пошагал вперед.
Нет, не успел он дошагать до грота, хотя совершенно не останавливался в пути, не осторожничал, вполне уверенный, что здесь никак не могут оказаться пограничники. Еще с добрый километр оставалось до укрытия, когда подул ветер и с огрузших туч, сплошь затянувших небо, густо посыпали хлопья снега, а ветер подхватил их и погнал в стремительном водовороте, образуя впереди косую, больно хлеставшую стену.
«— О! Аллах! Великий и Всемогущий!»
Уповать Абдумейириму оставалось на Бога. Он, человек, был совершенно бессилен. Сдвинется вон тот, едва видимый в метели карниз, и только летом отыщут тело стервятники и растерзают его.
Позади карниз. Положе склон. Пронесло, значит. Только там, впереди, еще несколько карнизов. Не лучше ли переждать, пока собьет их ветер. Абдумейирим остановился, решая, как поступить дальше, и тут за спиной так ухнуло, что зазвенело в ушах Я Абдумейирим плюхнулся крестом, кляня себя, что сделал роковую остановку, не отошел подальше от опасного места.
«О! Аллах!»
Снег пополз поначалу едва ощутимо, но уже через миг распластавшийся на нем человек несся вниз стремглав, ничего уже не соображая, лишь страшась неминуемого конца: сейчас, внизу, затормозится снег, верхний станет наползать, громоздя многометровые сугробы, один из которых и станет усыпальницей человеку, дерзнувшему не посчитаться с законами природы. Ей, природе, нет никакого дела, добровольна ли дерзость, либо подневольна. Она не способна сострадать.
Свершилось, однако же, то, что случается не так уж часто: Абдумейирим оказался почти на самом гребне сугроба, который пучился от противоборства силы инерции и силы торможения, его перекинуло раз да другой, сорвало со спины кошму, а с ног сорвало снегоступы, резкая боль пронзила плечо, но тут же отпустила — Абдумейирим даже не поверил, что снег остановился, засыпав ему только ноги; он с замиранием сердца ждал нового вала, но минуты шли, метель свистела, хлестал по лицу, а снег продолжал лежать бездвижно.
«О! Аллах! Велик и Всемогущ!» — провел Абдумейирим ладонями по лицу и бороде, почувствовав только теперь, что она спутана и нашпигована снегом; он начал пальцами расчесывать бороду, вытряхивая из нее снег. Зряшнее, конечно, в таком положении дело, когда человек полузавален, унесен далеко вниз от тропы, но кто может быть судьей людских поступков, которые, чаще всего, безотчетны, особенно в критические моменты.
Видимо, Абдумейириму нужно было прийти в себя, прежде чем что-либо предпринимать.
Расчесав бороду, потянул Абдумейирим ноги. Не тут-то было. Не так уж и высок слой снега, а плотен и тверд, ноги будто впаяны в лед. Почесал еще бороду и начал отгребать снег. Без торопливости, но и не вяло.
Освобождены колени. Согнув их, подтянул себя. Ничего, все цело. Продолжил расчистку ног. И, «о, Аллах», показался край снегоступа. Без них он все равно, что без ног. Хотя и прошли обвалы впереди, это он слышал, снегу на тропе все равно осталось много, а идти, проваливаясь, надолго ли сил хватит.
Слава Аллаху, откопал ноги. Откопал и снегоступ. Цел. Теперь второй нужно искать. И кошму. Хоть до ночи искать, хоть и на следующий день…
Нет, не потребовалось ему так много времени. И кошма, и второй снегоступ, тоже целый, оказались поблизости, он откопал их и тут же, сняв бельвок и расстелив его на том месте, где только что лежал, принялся истово молиться, восхваляя Аллаха. Все он забыл. И обиду на Мейиримбека, и все сомнения, какие владели им перед выходом в горы, теперь он осуждал себя за кощунственность мыслей и поступков, теперь он уверился, что бек послал его действительно на богоугодное дело, а фатиха, хотя и совершена была без рвения, услышана Аллахом. Аллах простер над ним, рабом благородного бека, свою всемогущую руку, и разве может он, добропорядочный мусульманин, не оценить это. Он — раб. Раб Всевышнего, и только старательным исполнением порученного ему богоугодного дела он смоет свои прежние грехи.
Глава третья
Полковник Кокаскеров второй раз, теперь уже с большим интересом и потому внимательней, принялся читать письмо: «Мы понимаем, что сложное положение на границе, судя по тому, как многих, уволенных по сокращению, затаскали по военкоматам. Только кому хочется начинать жизнь в третий раз. Перемучились, когда оказались вне пограничных войск, никому не нужными. Делать ничего не умеем. Пошли в ученики. У многих седина в висках, а он — к станку, в подручные к юнцу. Только это не самое неприятное. Квартиры вместо обещанных трех месяцев годами не получали. В исполкоме один ответ: — Кто вас здесь ждал?! Своим жилья нет! Поезжайте в любой колхоз свинарем и стройте себе дом…» — Рашид Кокаскеров вздохнул и положил письмо на стол, как что-то отталкивающе-неприятное, вызывающее досадливую грусть.
Хорошо, ой, как хорошо помнит Кокаскеров то неприятное и противоправное время. Он, Кокаскеров, тогда уже подполковник, вопреки своей преданности пограничным войскам написал рапорт на увольнение. Причин тому было несколько. Первая, и самая главная, неприятие решения Хрущева о снятии льготной выслуги на границе. Ладно бы, на будущее. Кто-то доложил без знания дела, что на заставах не служба, а рай земной, что шикарно исчислять службу год за два и что вполне достаточно обычного исчисления: год за год. Не соглашаться с таким решением можно, но можно и понять. Не оправдать, но понять. Его можно оценить, как вредное, но не как антизаконное. А сделано было иначе: снята у всех офицеров прошлая выслуга, заработанная бессонными ночами в пограничных нарядах, где никто никогда не гарантирует полной безопасности, заработанная великим физическим и нервным напряжением, работой на износ, в которой главная забота и главная цель — крепкая охрана границы: снята вопреки всем юридическим канонам. Бессовестно снята. Такое честный человек, каким был Кокаскеров, ни умом, ни сердцем принять не мог.
Не меньше возмущала Рашида Куловича и так называемая общественная комиссия по увольнению офицеров. Сформировал ее начальник отряда по такому принципу: все руководители служб и отделов, а для демократии — один начальник заставы. Руководящие офицеры, конечно же, при чинах, но с сединами от долгого штабного сидения и с выслугой, вполне достаточной для полной пенсии. Даже начальник заставы был выбран самый старый из всех начальников застав. Всем бы им, справедливости ради, и следовало подать в отставку, но нет, себе они сразу же определили должности, какие по новому штатному расписанию оставались в отряде, а уж потом принялись решать судьбу оставшихся за штатом. И, как это у нас вошло уже в правило, в первую очередь увольнять начали строптивых, неуживчивых, кому больше всех нужно и кто с трибун партийных собраний и конференций осмеливался резать правду матку. Год ли оставался до пенсии, иди даже меньше — не имело значения. Разводили руками в комиссии: сокращение, ничего не попишешь.
Лишился, таким образом, отряд самых лучших офицеров. И молодых.
Многие умные и честные офицеры сами писали рапорта, не ожидая решения комиссии. По тем же мотивам, что и Кокаскеров. Не хотели они быть участниками недостойной возни вокруг святыни, коей они почитали границу Родины.
Совершенно не принимал Кокаскеров и намеченную реорганизацию, в результате которой редели даже заставы, а комендатуры, самый оперативный и, по мнению Кокаскерова, самый нужный орган управления, предавались анафеме. Несколько ночей писал он рапорт, стараясь так обосновать каждый свой протест, чтобы пагубность происходившего увидел самый ярый сторонник сокращения. И даже не мог предположить Кокаскеров, что подай он тот рапорт, обрадовались бы не только те, кто претендовал на его должность, но даже начальник отряда, который видел в Кокаскерове конкурента (из местных, умен и опытен, давно бы встал у руля отряда, да слишком прямолинеен, чем основательно вредит своей карьере) и который с облегчением вздохнул бы, взяв рапорт — подшили бы вымученный ночами крик души в личное дело Кокаскерова, и, проводив автора в народное хозяйство, отправили бы то дело в архив. Но даже знай Кокаскеров судьбу своего рапорта, все равно писал бы его так же продуманно и страстно.
Закончив в рассветный час многостраничный труд, Кокаскеров вложил его в портфель, собираясь в тот же день передать его в комиссию по увольнению офицеров, только не суждено было этому случиться, и причиной тому стало письмо друга Владлена Богусловского, которое он вынул из ящика, выходя из дому. Сразу же, в машине, вскрыл его и поразился вначале возмутительной новости (Костюков уволен за выступление против сокращения), а потом и вовсе растерялся: Богусловский просил принять все меры, чтобы остаться в войсках. От себя просил и от имени Костюкова.
«Даже Лукман не рассудил бы, где верный путь», — думал Кокаскеров, второй и третий раз пробежав по взволновавшим строчкам письма.
Не внять просьбе друга, но, главное, просьбе Костюкова, кому он с матерью обязаны жизнью, Рашид Кокаскеров не мог; не мог он, вместе с тем, смириться и с мыслью, что придется ему лицемерить — согласиться с несогласным. Первое решение такое: повременить с подачей рапорта, обдумать все еще раз…
А в голове давний, не единожды слушанный от отца наказ: «Чем жить без совести, лучше умереть с честью».
И совершенно неведомо чем окончилось бы борение в душе Кокаскерова, что одержало бы верх, чувство солидарности с другом и спасителем или честность перед самим собой, если бы не письмо самого Костюкова. Вынул Кокаскеров его на следующее утро, когда вконец измученный сомнениями длинной бессонной ночью, спешил на службу, чтобы хоть там забыться немного в делах, привычно-хлопотных. Для Кокаскерова письмо то стало настоящим спасательным кругом. Да, Костюков-ага будто жил его, Рашида, мыслями, словно имел ту же душу, что и у него, Кокаскерова.
«… Я поступил и по-мальчишески и, если мерить мерками не личного восприятия происходящего, бесчестно. Вольно или нет, но я оказался дезертиром, в трудный для них час покинув войска. Эка, лихой казак седоусый с шашкой наголо! Думать нужно, прежде чем хвататься за эфес.
Помню в церковноприходской школе, куда отец меня силком загнал, учитель-богослов, поп местного прихода, поучал строптивцев: смири гордыню! Не всегда он был прав, но не всегда и нужно дуром переть на стенку. Вполне возможен обходной маневр. Это говорю тебе я, проживший больше тебя вдвое.
Ты можешь не понять меня по молодости своей, но ты все же выполни мою просьбу, мое, наконец, настоятельное требование остаться в войсках. Смири гордыню! Но оставаясь, прояви максимум активности, чтобы как можно больше осталось на заставах и в отряде не пенсионеров, а толковых молодых офицеров. Это мой тебе, Рашид Кулович, приказ…»
Не понял Кокаскеров генерала Костюкова. Весь день и всю ночь под впечатлением письма Владлена Богусловского, из которого узнал о расправе с уважаемым человеком, с их наставником, носил в себе бережно гордость и за Костюкова и, главное, за себя, что был един в мыслях с почтенным аксакалом; и именно это больше всего вносило смятение в его душу, подпитывая мысль подать все же рапорт, вопреки совету друга («Правда — выше приятельства!»); но, оказывается, все гораздо сложней, нужно, оказывается, «смирить гордыню» и не честно смотреть правде в глаза, а искать какой-то петлястый путь к истине.
«Яд правды лучше меда кривды! Если храбр — выходи на поле!»
Но даже не понимая и не принимая совета Костюкова, Кокаскеров не ослушался его. Слишком уважительно относился он к генералу-наставнику. Нашел и оправдание сделке с совестью: «… если мерить мерками не личного восприятия происходящего».
Вечером Кокаскеров пошел в приезжую, где жили выведенные за штат офицеры застав и комендатур, дорогой обдумывая разговор с теми, кто, по мнению Кокаскерова, мог бы, оставшись, быть в будущем полезным пограничным войскам. Он надеялся на свой авторитет, на то, что к его слову прислушиваются, с ним согласятся, как он согласился с Костюковым, но все же письмо генерала он взял с собой.
Далеко не каждый, с кем говорил Кокаскеров и в тот вечер, и после него, поддался, согласившись просить и даже унижаться, многие лейтенанты, старшие лейтенанты и даже капитаны наотрез отказались молить комиссию о предоставлении им любого места, лишь бы остаться в войсках. Не поддержал Кокаскерова и кадровик, хотя они были дружны. Не от всего, правда, тот отмахнулся, он сделал лишь то, что явно не бросалось в глаза и что не могло вызвать недовольства начальника отряда. И его можно было понять: он уже в возрасте, а увольняться ему не хотелось.
Потом многие из тех, кого Кокаскеров агитировал остаться, писали ему с горечью о своих мытарствах и неустроенности, и вот тогда-то узнал он из нескольких писем о взбаламутившей все сокращенное офицерство резолюции Никиты Сергеевича. Тому, как отцу, написал полковник в отставке, что прошло уже больше трех месяцев, а квартиру ему не выделили, не выполняется, стало быть, приказ, а это — противоправно. Посетовал отставной полковник, что и на работу устроиться трудно… Письмо вернулось к нему с резолюцией самого Хрущева: «Назовите мне любой совхоз, где бы вас не приняли свинарем и не выделили участок под дом, тогда я немедленно приму надлежащие меры».
Анекдотов в то время, после трусливого сталинского, ходило много. Вполне возможно, что и письмо с резолюцией — досужий вымысел злопыхателей, только и на правду все это весьма смахивало.
Потом письма от уволенных стали приходить реже, тон их сделался спокойней. Каждый находил новую свою судьбу, кто у станка, кто, добывая хлеб насущный временной работой, учился, а кто-то упокоил мятущуюся душу в пивнушках, благо даже ерш стоил гроши и малой той пенсии, какую положила отслужившим непредельный срок офицерам держава, хватало на полупьяное прозябание…
Но совсем скоро все резко изменилось. Граница не приемлет волюнтаризма, ее либо нужно охранять, либо «избавляться от столбиков». Она — не колхозное поле, на котором можно экспериментировать, то горшочки торфоперегнойные тыкать в него, то квадратно-гнездовую кукурузу, то травить удобрениями… Граница не через года даст о себе знать, что гибнет, а сразу. Она заставила уважать себя, и хотелось это кому или нет, а пришлось восстанавливать порушенное. Но, как известно, строить — не ломать. Сразу появились вопросы. И главный из них — отсутствие молодых офицерских кадров. Начальника отряда уволили с партийным взысканием за неумело проведенное сокращение, отправили на пенсию начальника политотдела, тоже с выговором, а вслед за ним и кадровика, которому досталось на орехи больше всех. Отряд принял подполковник Кокаскеров, и пошли от него письма к прежним своим сослуживцам. Письма-просьбы. Вернуться в строй. А сделать это тогда было не трудно, ибо военкоматы слали бывшим офицерам повестки за повестками, и добровольцу открыли бы зеленую улицу.
Увы, желание вернуться изъявили только те, кто ничего, кроме пивных, в народном хозяйстве не нашел. Военкомат брал и таких, тем более, что туда они приходили чисто выбритыми, наодеколоненными, с пачками свежих газет под мышками. Но Кокаскеров судьбу всех отрядных офицеров знал, хотел поэтому вернуть только достойных.
Отказ за отказом. Не отвечали долго и, как он их называл, украинцы. Скучилась группа толковых парней и двинулась на крупный металлургический комбинат. Там тоже пошло дело у них хорошо. Один из них уже начальник участка, другой — парторг цеха, остальные — бригадиры. Все учатся заочно в институтах. Создали клуб ветеранов границы. На комбинате бывших пограничников, в разные годы служивших на заставах, оказалось много, и потянуло их на воспоминания о прежних боевых делах. И молодежь к ним липнуть стала. Знал об этом Кокаскеров, вот и надеялся, что вернутся офицеры в отряд и станут добрыми помощниками в ратном труде. Но ответ, который он наконец дождался, рассыпал в пух и прах маниловские его мечтания:
«… Мы в клубе ветеранов границы приняли такое решение: выкуем меч из лучшей стали и делегация привезет его вам. Как знак того, что берем мы над отрядом шефство. Лучших ребят-призывников станем к вам направлять по нашим рекомендациям. А после демобилизации клуб станет принимать их доклады о службе…»
И на том спасибо. Огромное. Выходит, не озлобились те, кому в свое время не оказалось места на границе, не во всем народе, выходит, донельзя упал авторитет пограничных войск, понимают люди, что нельзя границу бросать на произвол судьбы.
Полковник Кокаскеров поднял трубку и попросил:
— Начальника штаба.
Начальнику бы политотдела в первую очередь позвонить, по его части больше письмо (шефство, меч, посылка на службу в отряд лучших производственников — прекрасные показатели для воспитательной работы), но звать его не хочется. Ни рыба, ни мясо. О нем Кокаскеров так отозвался в разговоре с начальником войск:
«— Хрен редьки не слаще».
Ох и ошибался Кокаскеров. Новый начальник политотдела был и рыба, и мясо. Увы, только для себя. Скоро поймет это Рашид Кулович. Совсем скоро. Но пока он, недооценивая его, считал просто слабаком. Начальника штаба ценил выше, хотя начальник штаба отряда тоже из «старичков», переживших чистку. Выслуга у него большая, перспектив никаких, можно, как шутили местные остряки, ногой открывать дверь в кабинет начальства. Он, правда, этого не делал, но при разногласиях, естественных в работе, всем своим видом подчеркивал: «Послужите с мое, тогда и вводите новшество». Но при всем при этом он все же мог загореться. Не надолго, правда. Вот на это-то и рассчитывал начальник отряда. На меч, выкованный из лучшей стали. Дрогнет сердце старого служаки.
Постучавшись, вошел начальник штаба подполковник Томило, довольно округлой внешности, с пышной седой шевелюрой, отчего лицо его казалось маленьким, придавленным белой волосяной копной. В руках его была неизменная тетрадь в клеточку.
— Слушаю вас, Рашид Кулович, — садясь за приставной столик и раскрывая тетрадь, услужливо молвил начальник штаба. — Жду ваших указаний.
С прежним начальником отряда Томило держался вольней и уверенней, без этакого «чего изволите». Кокаскеров и так прикидывал, отчего с ним такая перемена, и эдак — выходило одно: юродствует. Потому, как обижен. Рассчитывал занять кресло начальника отряда, когда оно освободилось.
Еще раз переспросил Томило, как бы удивляясь паузе:
— Жду ваших указаний, — и поднес шариковую ручку (редкость по тем временам) вплотную к листу в готовности не упустить, не дай бог, ни одного слова.
— Вот тут, Яков Куденетович, нам всем указания, — подал письмо Кокаскеров, заставляя себя говорить ровно, не раздражаясь, будто все в порядке, будто не замечает он юродствующей почтительности.
Без охоты взял письмо начальник штаба, предположив, что в нем какая-то жалоба, по которой придется разбираться, а значит, вполне возможен выезд, чего он давно уже избегал: заставы высоко, минимум — две семьсот над уровнем моря, аппетит там теряется, сон беспокойный, и только начинаешь втягиваться, пора вниз. А это тоже не легче, организм тоже не вдруг перестраивается после высоты.
Пробегает подполковник строчку за строчкой и настороженность его отступает. Меч, это же прекрасно! Воскликнул даже, став на малое время самим собой:
— Вместе со знаменем хранить станем. А принять подарок торжественно! Весь отряд построить. С выносом Знамени части!
— Мудрому слову душа радуется, — поддержал Кокаскеров начальника штаба. — Так и поступим.
А Томило уже спешит ручкой по листку, записывая «указания». Как же, каждое слово — золотое.
Улыбнулся Кокаскеров, совершенно не обидевшись на столь быструю смену настроения у собеседника, начал даже подыгрывать подполковнику:
— Не только отряд построим с выносом Знамени, еще и от каждой заставы вызовем представителей. Лучших из лучших. Но выбирать придется, Яков Куденетович, непосредственно на заставе с учетом мнений командования, партийной и комсомольской организаций. Как вы считаете? Разумно?
Не вдруг ответил Томило. Дописал «указания», только тогда поднял голову.
— Возражений никаких. Но это — прямая обязанность начальника политотдела. Ему и карты в руки.
— Еще один мудрый совет, — кивнул Кокаскеров и, поднимая трубку, проговорил согласно: — Позовем майора Киприянова.
Майор тоже был уже в возрасте. Из засидевшихся в окружных кабинетах. Пережил лихую годину тихо-смирно и вот теперь, кажется, настал и его час, ибо на безрыбье и верхоплавка — хариус. В отряд он приехал всего несколько недель назад из Приморья, но вел себя уже так, словно не ему надлежало познавать и участок, и специфику высокогорной службы, а все должны учиться у него, столько лет проработавшего в окружном звене. В звене начальственном. Сухопарый, высокий, отчего казался моложе своих лет, он был сух и высокомерен в обращении со всеми. Даже с Кокаскеровым так строил разговор, будто за ним, политработником, последнее слово.
Вошел майор Киприянов в кабинет, словно сделал одолжение, будто оторвали его понапрасну от важных дел. И даже «слушаю вас» прозвучало покровительственно.
— Почитайте, Корнилий Юрьевич, письмо, — жестом приглашая садиться, попросил Кокаскеров. — Посоветуемся потом. Как у нас говорят: в каждой голове — тысячи дум.
— Вы хотите сказать: один ум хорошо, а два — лучше.
— Пусть будет так. Только учтите, нас здесь трое.
Томило хмыкнул, Киприянов недоуменно пожал плечами.
Читал письмо Киприянов основательно, а закончив, положил перед собой и, прикрыв ладонью, долго-долго смотрел в только ему ведомую даль. Кокаскеров и Томило терпеливо ждали, чувствуя себя лишними в этом кабинете. Но вот Киприянов все же заговорил:
— Подарок, считаю, стоящий. Отказываться не будем. Сделаем его переходящим. Лучшей заставе. Пригласим к годовщине пограничных войск — пятнадцатого февраля.
— Ого! — удивленно выпалил Томило. — Февраль всего ничего как прошел. Без малого год ждать?!
— А почему бы и нет. Не было меча — жили. А за год что случится. Распадется клуб ветеранов на металлургическом? Вряд ли. Расформируют отряд? Сегодня это почти исключено. Подготовимся основательней…
— Эка, подготовимся! Надраил пуговицы, сапоги вычистил и — на построение.
— Такой примитивизм. Я не позволю формальным подходом загубить полезное дело…
Полковник Кокаскеров слушал пререкания своих заместителей лишь краем уха., он воспринял идею Киприянова сделать меч переходящим с восторгом, даже себя ругнул, что не додумался до этого сам, но почти годовая проволочка его вовсе не устраивала. Покоробило и то, что не к годовщине части (если не знал, спросил бы) наметил приезд гостей, а к годовщине погранвойск, вот и думал Кокаскеров, каким манером втолковать новому политработнику, что предложение его фальшиво в своей основе. Тактичный ход подыскивал, а он, этот тактичный ход, не складывался. По его раскладке разговор получался резкий, без обиняков.
Дождался, когда иссякнет пустопорожняя, потому недолгая перепалка, и заговорил тоном хозяина, которого надлежит слушать и к слову которого нужно относиться уважительно.
— Ваше предложение, Корнилий Юрьевич, о переходящем призе я принимаю. Соревнование в войсках — дело новое, не испытанное еще, но, думаю, это на несколько лет внесет живость в борьбу за первенство. Согласен, что и спешить не следует. Подготовиться нужно. Только, почему пятнадцатого февраля?
— Как, почему? Пятнадцатого февраля тысяча девятьсот двадцать первого года Феликс Эдмундович Дзержинский подписал инструкцию по охране государственной границы; этот день и стал днем рождения советских пограничных войск, — привычно, как с трибуны перед новобранцами учебного пункта, пропономарил Киприянов. — А у нас, во всей стране, традиция: праздничные дела в праздничный день. Напишем председателю клуба пограничников письмо, там поймут нас. В ближайшее время я поручу политотдельцам подготовить предложение о соревновании за право принять дар рабочего класса. Победителей пригласим в отряд и доставим на правый фланг…
— Все это верно… Но у нашего отряда есть своя история. Она началась раньше двадцать первого года.
— Есть история пограничных войск. Официально подготовленная и утвержденная. Я привез с собой лекции, разработанные Москвой. Учеными. И, кстати, лекции одобрены официально. В них то, что каждый пограничник, особенно коммунист-пограничник, просто обязан знать, как Отче наш… Так вот, — перешел на лекторский тон Киприянов. — После победы Октября старый корпус пограничной стражи, приспособленный к защите интересов господствующих классов, не мог выполнять задачи, выдвинутые новой властью, новым классом, что делало невозможным использовать старую погранохрану, ибо на пограничных постах процветало взяточничество, через границу незаконно пропускались преступные элементы, отмечались и другие злоупотребления…
— Возможно, но, — попытался Кокаскеров остановить Киприянова, беспардонно начавшего читать лекцию, однако тот предостерегающе поднял руку.
— Минуточку, я не сказал главного. А главное в том, что Владимир Ильич Ленин девятнадцатого января тысяча девятьсот двадцать первого года подписал постановление Совета Труда и Обороны о создании специальных войск ВЧК, на кои возлагались обязанности охраны границ РСФСР. А пятнадцатого февраля того же года Феликс Эдмундович подписал Инструкцию. Лучшие части Красной Армии приняли под охрану границу молодой республики Советов-.
— Я бы хотел уточнить, — с улыбкой взрослого человека, слушающего лепет ребенка, заговорил Кокаскеров. — Участок границы от Каспийского моря до Алтайских гор был взят под охрану в ноябре двадцатого специально сформированной отдельной Туркестанской пограничной дивизией. По предложению Совета Труда и Обороны.
— На Памир, как говорят официальные документы, — с подчеркнутой сердитостью парировал начальник политотдела командира, который проявляет неуважение к слову политработника, а значит, воспитателя, — пограничный отряд отправился из Ташкента лишь в июне двадцать первого. Пробивался туда с боями. Под Гульчей бой. В Суфи-Кургане бой. Возможно, и эти исторические факты для вас аморфны?
— Вам знакомо имя генерала Костюкова?
— Да. Он уволен за противодействие генеральной линии партии…
— Так вот, — усилием воли Кокаскеров постарался не заметить реплики Киприянова, — рядовой казак Костюков, приняв командование пограничным гарнизоном на Алае у Богусловского, царского офицера, который тоже стал советским генералом и погиб в Отечественной, оставался с этим гарнизоном бессменно. Это тоже факт. А моя фамилия вам ничего не говорит? Кокаскеров. Зеленый солдат. Пограничник. Я жизнью обязан пограничникам. И моя мать тоже…
— Не думаете ли вы приурочить рождение пограничного отряда к своему дню рождения? — строго спросил Киприянов, упершись в Кокаскерова своими карими пустыми глазами. — Не слишком ли это?
Метнул гневный взгляд Кокаскеров в лицо наглому глупцу, резкие слова готовы были рвануться в ответ на выпад майора, но сумел Кокаскеров удержать их, вздохнул глубоко и ответил почти спокойно, по-восточному философски:
— Уста — весы разума.
Томило хихикнул пошленько, а Киприянов даже не дрогнул лицом. Неподвижно сверлил он глазами начальника отряда, но что удивляло Кокаскерова, впервые так внимательно вглядевшегося в лицо человека, стоявшего во главе политоргана отряда, так это полное отсутствие жизни в глазах. Так, черные пятна и — все. Какие мысли у человека, какое состояние души, какое настроение — ничего не видно. Там, где-то внутри, упрятано все. Не поймешь, только ли буквоед и себялюб в кресле начальника политотдела, или что-то страшнее…
«Ладно… Не ездить на коне — не разглядеть пути».
И все же прошло еще какое-то время, прежде чем принял Кокаскеров окончательное решение и вполне справился с собой. Заговорил приказным тоном:
— Обсуждение закончено. Записывайте указания…
— Так точно, — моментально откликнулся Томило и склонился над столом в готовности строчить шариковой ручкой все, что скажет авторитетный начальник.
— У меня хорошая память. На склероз не жалуюсь.
— Не смею сомневаться. И все же… Сходите за тетрадкой для служебных записей.
Подполковник Томило рассыпался смешком, совершенно не изменив позы. Шариковая ручка едва не касалась клетчатой странички, готовая без удержу спешить за ценными указаниями шефа.
Киприянов вернулся и, подчеркивая, что незаслуженно унижен, плюхнулся на стул. Тетрадь раскрыл не сразу, ждал, чтобы начальник отряда еще раз попросил записывать указания. Но Кокаскеров терпеливо ждал. Ждал, пока молчаливый поединок не будет выигран.
Не выдержал Киприянов. Вяло, без всякой охоты, начал перелистывать тетрадь до чистых страниц.
— Позвольте карандаш?
— Да. Любой. Итак, подведем итог совещания. Первое, что нужно сделать, Корнилий Юрьевич, напишите письмо генералу Костюкову, пусть вспомнит, когда оставшиеся в гарнизоне казаки-пограничники разгромили банду Абсеитбека…
— Вашего отца?
— Да. Только речь не о моем отце, речь о первом боевом крещении пограничников, перешедших на сторону революционного народа. Сделаем тот день официально днем части.
— Без утверждения вышестоящего командования мы не правомочны. А письмо генерала в отставке — не документ, чтобы готовить ходатайство.
— В формуляре части есть описание того боя, отмечена и дата, — вставил подполковник Томило. — А формуляр — официальный документ.
— Видимо у Корнилия Юрьевича руки еще не дошли до истории части, где ему предписано служить, — ответил Кокаскеров начальнику штаба. Словно Киприянов не сидел вместе с ними в кабинете.
— А до вашей родословной дошли руки? — бесстрастно, будто о чем-то очень уж обыденном, сказал Томило, но не выдержал роли, хихикнул все же.
— Дорогой, Яков Куденетович, мой отец, не Абсеитбек, а Кул, наставлял меня: «— Станешь опираться на кривую палку, сам согнешься», — помолчал немного, дав время проглотить сказанное и Томиле, и, главное, Киприянову, затем вновь заговорил официально: — после получения ответа от генерала Костюкова подготовьте, Корнилий Юрьевич, все необходимое для официального утверждения Дня части. Выписки из формуляра подготовит вам штаб. Меч принимать будем в старой крепости. Генерала Костюкова пригласим обязательно. Пригласим и других ветеранов. Поиском их займется политотдел совместно со штабом.
— В это время в крепости учебный год только-только начнется. Ни строя еще, ни выправки, — возразил Томило. — Что ветераны подумают? Стыд головушке…
— Все мы прошли новобранство. Боец не рождается, он — становится. Вы только подумайте, какой заряд патриотизма получат молодые пограничники. Ну а подшлифовать, подтянуть призывников — дело штаба. Здесь вам, Яков Куденетович, полный простор, — подождав, пока закончит писать Томило, продолжил: — Представителей от застав, победивших в соревновании, туда свезем. Условия соревнования, этапы проверки разработать совместно политотделу и штабу в двухдневный срок. Через два дня мы, Корнилий Юрьевич, выезжаем с вами на заставы.
— Снега еще много в горах, машина не везде пройдет.
— На конях. Два дня у вас есть в запасе, восстановите навыки. Вы же — кавалерист. А что нужно доброму джигиту? Резвый конь да острый клинок. Двух зайцев убьем: нацелим людей на встречу с ветеранами и вы участок отряда изучите. И еще… Посмотрим, в какой помощи нуждается старая крепость.
Подполковник Томило вздохнул облегченно. Он несказанно обрадовался, что оставлен в штабе. Тяжело, ох, тяжело стало с таким округлым брюшком мотаться по высокогорным заставам, тем более, на коне. Самоубийство. Давно он уже не джигит. Сам-то он это знал хорошо.
Анекдотов про то, как ведут себя в седле не кавалеристы, хоть пруд пруди. Особенно много их о моряках, оказавшихся не просто на суше, но еще и на коне. Но вот чтобы к кадровому пограничнику подходил подобный анекдот — такое можно назвать уникальным. Такому никто не поверит. И полковник Кокаскеров, скажи ему накануне выезда кто-либо, что помучается он с Киприяновым, что стыдно ему будет за офицера-руководителя и перед коноводами, и перед пограничниками перевалочной базы у подъема на Алай, и перед заставами, и что спустя малое время понесет устное творчество от заставы к заставе красочную картину восхождения начальника политотдела на Талдык — скажи все это Кокаскерову прежде выезда, ни за что бы не поверил. Но вот они в пути. Несколько часов. И теперь, глядя на то, как мучается майор Киприянов в седле, досадовал, что не догадался первые полсотни километров проехать на машине. Дорога до перевала хотя и трудная, но проезжая. Дело, однако же, сделано, время назад не крутится. Теперь ругай себя сколько душе угодно, а плестись придется. Не расскачешься. Даже не порысишь.
И верно, для Киприянова сейчас рысь, хоть самая легкая — нож в сердце. Икры и голени огнем горят. Не прижмешь шенкеля к коню, как учили его когда-то, но и на стременах стоять, тоже не малина, еще хуже натираешь ноги — майор Киприянов сейчас просто ненавидел начальника отряда за все: за его решение ехать верхом (казах сам ему что седло, что кресло), за его безразличие к его, Киприянова, положению и даже за изящную легкость, с какой Кокаскеров держался в седле; Киприянов клял судьбу, что она забросила его сюда, в тартарары, он клял всех и вся, только себя одного не винил ни в чем. Такое свойственно очень многим людям. Особенно — ограниченным.
Между тем виновным во всем был он сам. Профессия его, как значилось в свидетельстве об окончании училища — офицер кавалерист. Оценка по конной подготовке — хорошая. В соревнованиях не участвовал, лихостью не отличался, но программу осиливал нормально. А вот дальше… Дальше случилось так, что на заставе он почти не служил. Его, как члена партии, рекомендовали на комсомольскую работу вначале в комендатуру, а затем в отряд. Отряд кавалерийский, как все отряды того времени.
У него, Киприянова, тоже был и конь, и коновод, но он старался ездить на заставы попутными машинами. Как правило, в кабине грузовиков, что возили для солдат продукты, обмундирование или топливо. Считал, что так быстрей, но не признавался даже себе, что, главное, — легче.
Потом — округ. Седло забыто напрочь. От занятий по конной подготовке, какие проводились по расписанию, он увиливал ловко, даже замечаний за это не получал, к тому же коня на границе все настойчивей вытесняла автомашина, и на конную подготовку стали поглядывать как на анахронизм. Перевод сюда, на Памир, где коня еще не списывали с довольствия, нисколько не повлиял на мировоззрение майора, на его привычки. Коня своего он, естественно, посмотрел, попросил даже коновода заменить оголовье и седло на новые, но больше на конюшне не показывался, ибо за ним (теперь начальником) был закреплен еще и «газик», обитый для комфорта ковром, хотя и списанным, но еще довольно приличным.
И даже в те два дня, какие дал ему начальник отряда на подготовку, он даже не опробовал нового седла. Иначе сразу бы понял (он все же кавалерист), что не офицерское седло ему нужно, а строевое, обмятое коленями и икрами. Теперь вот мучился, пылая гневом ко всем, чувствуя себя агнцем, которого злой рок определил на заклание.
Одно немного успокаивало: начальник отряда не пускает коня рысью. Устал тоже, видимо, хоть и храбрится, гоголем держится.
Но вот Кокаскеров поднял руку.
«— Проклятие!» — зло прошептал майор Киприянов. И не поводья он подобрал, как надлежало поступить, а за луку ухватился и встал на стремена. Конь сам пойдет рысью. Приучен к строю.
Сам-то — сам, но трензеля и мундштук для того и придуманы, чтобы управлять конем. Он — существо чуткое. Очень даже чуткое. Если всадник безволен, конь поступает по своему разумению, по своему темпераменту. Вот и добавил он рыси, привыкший не подчиняться ритму строя, а задавать ритм. Начальственный конь как-никак. Вот уже голова к голове идет с конем Кокаскерова, но это еще ладно, еще полбеды, если бы конь еще резвей не пошел, вперед не начал вырываться — самое время остановить его, да как это сделаешь, если от луки оторвать руку силы, воли не хватает, а одной рукой с поводьями никак не разобраться. Пытается майор Киприянов натянуть поводья, только выходит совсем не то, что нужно — мундштук натягивается, раскрывая коню рот, а трензеля бездельничают. Коню такое без привычки, трензеля-то он и не думал закусывать, отчего же ему рот драть? Нервничает конь, вскидывает голову, пытаясь освободиться от неприятности, а потом, так и не поняв, чего от него хочет всадник, припустил на всякий случай галопом.
И стыдно Кокаскерову за майора, и жаль его, и смех разбирает. Обернулся — коноводы напыженно рысят. Тоже смех в себе давят. Прижал шенкеля и чуть-чуть отдал повод своему коню, понял тот хозяина и понесся полевым. Только и под Киприяновым конь добрый, к тому же разгорячился, оттого больше километра отмахали они, пока не ухватил Кокаскеров за трензеля разбушевавшегося строптивца.
— Слезай! — резко, переходя на ты, приказал полковник — Слезай-слезай!
Подскакал коновод, спрыгнул торопко и принял коня у едва стоявшего на ногах майора. Кокаскеров приказывает:
— Переседлай, сынок. Себе офицерское седло возьми.
— Есть! — ответил коновод и тут же спросил: — Индпакеты не нужны?
— Давай. Всю аптечку давай.
Еще и у своего коновода взял индивидуальные пакеты, тогда лишь обернулся к майору Киприянову.
— Снимай, Корнилий Юрьевич, галифе. Зеленкой будем мазаться.
Коноводы (воспитанный они народ, скромный) отвели коней вперед, вроде бы полянку поудобней увидели, и начали переседлывать, а Кокаскеров принялся врачевать. Смажет обильно зеленкой растертое до крови место и — бинтом его. Потолще, чтобы не так больно было сидеть в седле. А майор морщится. Вздыхает. И больно, и злость не проходит.
А Кокаскеров вроде бы рентгеном просветил душу Киприянова, заглянул вроде бы в самые потайные уголки. Когда бинтовать окончил, предложил по-отцовски строго и добро:
— Посидим давай, Корнилий Юрьевич, поразмыслим о случившемся.
Побагровел лицом Киприянов, сдерживая накипевший и готовый вырваться наружу гнев. Набычился, но с ответом не поспешил.
— Я не только о том хочу сказать, что срамота — хуже смерти, хотя и это не твое личное дело, тут ущерб авторитету всего офицерского состава. А если на дно колодца заглянуть? Не вам, Корнилий Юрьевич, — Кокаскеров вновь сменил доверительное ты на официальное вы, — рассказывать, сколь пагубно прочесали в свое время заставы, а теперь жизнь заставляет к разумному воротиться, кошма же короткая, ноги не вытянешь. Сколько у нас офицеров армейских? То-то. Ни службы не знают, ни жизни заставы понять не могут — им бы строй красивый и песня звонкая, вечерняя проверка непременно, а о коне и слышать не хотят. В седло сел — коню холку намял, а себе весь зад расквасил. Какой боец из него? Где ему с нарушителем тягаться. И теперь представьте: вы говорите ему о боеготовности, он слушает вас, а про себя смеется… Пример перед очами яркий. Подумайте, Корнилий Юрьевич, очень подумайте. Трудно вам иначе придется. Можем не сработаться. И мое личное уважение…
— Ваше личное уважение — не главный фактор. Я не вам служу. Моя жизнь и мои помыслы принадлежат границе.
— Громкий орех — пустой орех. Не словами седло крепится, а подпругами. А в личном плане? Считаю: лучше иметь сто друзей, чем одного врага.
Поднялся, одернул китель, половчее, на свои привычные места устроил пистолет и шашку, махнул затем коноводам, чтобы подавали коней. А Киприянову бросил:
— Вставайте. Ночевать будем не здесь. Под крышей будем ночевать.
Но между тем сам еще не определился, как поступить дальше, оставлять ли начальника политотдела на перевалочной базе, чтобы вернулся он в отряд на машине, или все же взять его с собой, как и задумывалось. А если ехать, то не сделать ли передышки дня на два. Заживут сбитости у нерадивца, тогда и в путь, а он предстоял быть долгим.
До базы тоже не близко. Много времени для раздумий и принятия решения. И так станет прикидывать Кокаскеров, и эдак, но когда, затемно уже, въедут они во двор, он без колебаний распорядится:
— Коней, сынки, завтра к двенадцати ноль-ноль.
Можно было бы двинуться и пораньше, тем более, что впереди перевал Талдык, при подъеме на который «великий кавалерист», как теперь называл про себя Киприянова, Кокаскеров, в седле может усидеть лишь малую часть, а это означает, что нужно накинуть лишних часа три-четыре на подъем; но начальник отряда не мог не побывать у знаменитого мазара, где Богусловский с Костюковым укрылись, рискуя не только жизнью, ибо смерть их в случае разоблачения ждала мучительная — фанатизм правоверных необуздан и предельно жесток. Хотелось Кокаскерову показать начальнику политотдела и еще один примечательный памятник.
Перевалочную базу или, как ее потом начали называть, Перевалку, построили в начале тридцатых недалеко от главного подъема на Памир. Прежнюю, что была у казаков-пограничников в кишлаке выше мазара, дехкане быстро прибрали к рукам, приспособив под свои нужды, отбирать пограничники не стали, чтобы не обострять и без того напряженные отношения. Место для новой выбрали подальше от кишлака, ради безопасности и чтобы не было лишнего догляду, на приличной ровности метрах в трехстах вниз по течению святого родника. Расчет простой: священную воду правоверный не осмелится осквернить. Да, тогда решалось кто кого, и формы борьбы, особенно врагами Советской власти, не очень-то выбирались.
Возвели поначалу высокий и толстый дувал с крепкими воротами и бойницами, потом начали строить казармы, конюшни, склады. Воду брали из ручья, перегородив его каменной запрудой. И завели пробовалыцика. Охромевшего коня. Попоят его первым, пройдет какое-то время, если ничего не случится можно пить остальным. Красноармейцы любили безответного конька, баловали его и солеными горбушками, и сахаром, а когда случилось так, что после очередного водопоя он, запенив ртом, рухнул, его похоронили вблизи базы и даже огородили могильный холм.
Теперь перевалочная потеряла свое прежнее назначение, не вьючились теперь грузы, привезенные сюда машинами, теперь на Талдык поднимались, кроме зимних снежных месяцев, самостоятельно и трехтонки, и пятитонки, бросать, однако, базу не стали, а переделали часть складов под мастерские, где профилактировали грузовики перед подъемом на перевал. Мог здесь отдохнуть и каждый пограничник, спускавшийся вниз или поднимавшийся в горы. Перевалочная таким образом стала более походить на место адаптации. Все хорошо, только могила хромого коня-смертника заросла лебедой, да часто слышны были недоуменные сетования молодежи:
«— Какой дурак выбрал место для Перевалки? Куда бы с добром — в кишлаке. А то мы вроде отшельников…»
Да, теперь с кишлаком жили дружно. Теперь-то что сторониться.
Вот к той, заросшей лебедой могиле и планировал Кокаскеров сводить майора Киприянова в первую очередь. Потом уж — к мазару.
Тусклым каким-то вышел Киприянов к завтраку, наполнив сразу же тесную столовую запахом мази Вишневского, которой санинструктор явно не пожалел, чтобы угодить начальнику. Сухо поздоровался с Кокаскеровым и с подчеркнутой неохотой сел за стол. Посетовал:
— Всю ночь не спал.
— Полезно. Ночью больше хороших мыслей, чем дурных.
Промолчал Киприянов. Взялся за вилку.
Нет, вид у него после этого не изменился, так и остался постным, но судя по тому, как сметал он все со стола, душа его не надорвалась в ночных сомнениях. Затеял он, выходило, игру в несправедливо гонимого мученика.
«Прав отец, — думал Кокаскеров, поглядывая на Киприянова, — у кого кибитка дымит, тот не зябнет. Камчей этого не прошибешь, шокпар нужен…»
И если до самого этого времени он еще сомневался, прав ли, удерживая начальника политотдела и, значит, причиняя ему не только физические, но и моральные страдания (кому хочется быть притчей во языцех), то теперь стопроцентно одобрил свое решение. И как только осушены были кружки с чаем, сообщил план предстоящего дня:
— На могилу коня сходим, к мазару потом, а тогда — в путь. К вечеру должны быть на заставе…
— На лошадиную могилу? — пожав плечами, недовольно спросил Киприянов. — Что за честь?
— Не честь, а память!
Они вышли за ворота, миновали ореховую рощу, на высоченные раскидистые деревья которой с восхищением глядел Киприянов. Он первый раз видел такую могучую красоту и даже забылся на какое-то время, с лица его спала маска обиды, лицо просветлело и сам он весь, высокий, статный, стал привлекательно-вдохновенным, ожил, проще говоря.
За рощей начался пологий подъем, на котором, густо, тесня друг друга, цепляясь за место под солнцем, росли вначале тополя, ярко зеленея совсем еще свежими листочками, а выше темнели сосны. Сплошная зелень. Непролазная.
— Буйство природы! А говорили Памир гол… как луна.
— Здесь еще не Памир. Только и Памир — не луна. А вот и могила.
Усмехнулся Киприянов, с нарочитой внимательностью разглядывая начавшую набирать весеннюю силу лебеду, перемешанную с татарником, сквозь которые проглядывали ржавые прутки ограды, обошел вокруг могилы, затем молвил философски:
— Память, покрытая ржавчиной. Заросшая травой память. Нет, память нельзя насаждать. Она либо живет, либо помирает. Вот здесь — мертвая память.
Так и рвалось: «— От клячи не жди резвости, от упрямца — мудрого слова», — но сдержался Кокаскеров, ответил насколько можно спокойней:
— Память умирает, если на нее плюют. А человек без памяти, как орел без крыла. И страна без памяти — тощая страна.
— На лекции пример нам приводили: где-то в Киргизии или в Казахстане возвели обелиск собаке. С пятиконечной звездой. И эпитафия: «Сними фуражку, пограничник. Здесь твой друг — овчарка. Она задержала 1847 нарушителей». Фантастическая мелодрама. Лектор правильно высмеял и цифровую гигантоманию и слюнтяйскую сентиментальность… Впрочем, как утверждал лектор, обелиск тоже изрядно изъеден ржавчиной.
— У твоего лектора мозги ослицы. А у пограничников, кто там сейчас на заставе, сердца жиром заплыли. Как и у нас у всех. Разве лошади нужна ухоженная оградка. Нам нужна. Чтобы понимали, как досталась народу власть. Давайте, Корнилий Юрьевич, без камчи жить. Связывайте нити сегодняшнего и прошлого. Там корни нашего патриотизма.
— Ладно. Поставлю задачу комсомольскому богу отряда. Обелиск здесь возведем. Со звездой. А на ней — серп и молот…
Величайшей выдержкой нужно обладать, чтобы не плюнуть на все, не отвернуться от человека, а продолжать делать все, что наметил. Ох, и трудно это для восточного человека.
До мазара шли они молча. Киприянов довольный собой, что последнее слово осталось за ним, хотя он никак не мог отделаться от ощущения какой-то гадкости. Нет, не спокойно у него было на душе, хотя и радостно: утер нос мудрецу-ментору. Кокаскеров тоже был доволен собой, что переборол естественную для него вспыльчивость (владеть собой для руководителя очень важно) и не вызвал тем самым ответной озлобленности.
«Капля за каплей — и даже в камне дырка».
Проще всего написать рапорт по команде, что не по Сеньке, дескать, шапка, но куда тогда человеку деваться. Вон, седина уже без стеснения прет, а все в майорах. Неужто совершенно без царя в голове человек. Не может такого быть. Только, отчего же не может? Вдруг, так и есть.
«Ладно. Поживем — увидим. С рапортом всегда успеется».
И тут же схлопотал новый тычок в нос. Остановились они у мазара, время и непригляд превратили который в жалкое состояние: ворота исчезли, дувал, подгрызанный солончаком, местами еще держался, местами же развалился; купол муллушки рухнул, а из четырех миниатюрных минаретов, украшавших прежде мазар, остался только один, обшарпанный и скособоченный, а на нем зеленел кустик боярышника, тощий, жалкий — так все это выглядело удручающе, что Кокаскеров не мог удержать грустного вздоха. И словно простонал:
— Эх, люди-люди!
— И это восстанавливать? — с иронией спросил Киприянов. — Чем же сия развалюха знаменита?
— Здесь, проявив смекалку, основа которой хорошее знание обычаев мусульманской веры, остались живы два человека, сделавшие потом очень много для пограничных войск.
— Один из них Костюков, уволенный за политическую близорукость… К его, значит, приезду все восстановить. Пусть, значит, вспомнит. Не слишком ли? Личным здесь попахивает. Восточным низкопоклонством.
— Нет! — рубанул Кокаскеров, затем, осекши себя, стал пояснять спокойно: — Вы знаете, кто поощрил укрепление здесь мусульманства? Русские. Христиане. Да-да, они. После присоединения к России казахов и киргизов царские наместники стали спешно строить здесь мечети. Сейчас говорят, что они вроде бы не знали, что отданный под их власть народ не магометанский. Очень далеки, говорят, они были от народа. Только я так рассуждаю: ради своей выгоды они так поступили. С Кокандом чтобы мирней жить. Еще и пример ему веротерпимости. Нет-нет, я одним седлом две лошади не седлаю. Приглядитесь, однако, Корнилий Юрьевич, вон лоскуток на веточке. Вон еще. И вон там. Для верующих этот мазар так и остался мазаром. Но приходят они сюда с недобрым чувством к тем, кто разрушил священное для них место. И сколько не говори сегодня верующим, что конституция у нас гарантирует свободу религиозных культов, они не поверят. Это, первое. Во-вторых, мы мазар этот сделаем своим мазаром. Реконструируем совместно с местными жителями, но восстановим и ту кирпичную стенку, которую сложили смелые и ловкие пограничники для удобства обороны. Всех, кто будет здесь проезжать впервые, особенно призывники, будем знакомить с историей этого кусочка родной земли. Не только в обязанность политотдела это войдет, а в обязанность всех коммунистов. А верующие? Если кто придет сюда совершить омовение в хаузе, пусть приходит. У нас прибавится друзей. Не показных, трибунных, а настоящих. Наставление товарища Дзержинского, чтобы пограничники уважали местные обычаи, мы просто обязаны никогда не забывать!
Закончил Кокаскеров монолог по-командирски жестко, и Киприянов не осмелился перечить.
До самого отъезда ничего стоящего внимания не произошло, да и отъезд прошел штатно, даже майор Киприянов самостоятельно сел в седло. Взыграла кавалерийская гордость. Не хотел ударить в грязь лицом перед провожавшим их старшиной.
Увы, гордости той хватило лишь до первых десятков метров подъема на перевал: дорога круто потянула вверх, петляя серпантинами, и чтобы не сползти с седла, нужно было плотно прижимать шенкеля, а это оказалось сверх сил Киприянова. Сталкивал к тому же с коня и встречный ветер, который усиливался с каждым метром подъема.
Поразила Киприянова случившаяся перемена: только что царствовала благостная теплынь, даже не весенняя, а летняя, и вдруг, как только кони процокали по мосту через говорливую белопенную речку, все изменилось — дохнуло снегом. Нет, лежал снег сплошным покрывалом выше, у подножия перевала, здесь он сохранился только в низинках, уже подтаявших, с облезлыми грязными боками, но казалось, что зябкий воздух был буквально нашпигован снегом.
Кокаскеров тоже слез с коня. Спросил с тревогой в голосе:
— Что? Невмоготу? — потом оглядел небо, почти чистое, с редкими полосками прозрачных перьев, и попросил: —Пересиль себя. Пешком долго. Похоже, южанин пожалует в гости. На несколько дней. Успеть бы до заставы.
Он все здесь знал, он уже представил, как метель пробивается сквозь горы, ближе и ближе подступая к долине, а когда, наконец, вырвется на простор, засвистит без удержу. Сюда, за перевал, она не дотянется во всем своем могуществе, но после подъема придется не сладко, если не успеют они укрыться за стенами заставы.
Да, прорывалась в Алай та пурга, которая едва не погубила в горах посланца Мейиримбека, и донесется она сюда не к вечеру, как предполагал Кокаскеров, а уже через два-три часа. Они успели бы, если бы очень спешили. Увы, пересиливший себя Киприянов и взгромоздившийся на седло, выдержал самую малость. Сполз с коня со стоном и отдал повод коноводу, а сам трудно переставляя перебинтованные ноги, потащился вверх.
Пешком на Талдык идти не меньше двух часов, и они до непогоды не успели. Столкнулись с пургой сразу же за перевалом. Метров с сотню всего спустились. И тоже пешком. Спуск, правда, намного короче и не так крут, но Киприянов не осмелился сесть в седло. Тем более, что идти вниз легче, а в седле не обойтись без шенкелей. Только в луку рукой опереться недостаточно. Не получится. Седло на шею коню сползет.
Узкая дорога поначалу шла вроде бы по дну крутобокого корыта, здесь никогда не было безветренно, только сегодня он дул особенно порывисто и дышал снегом. Для Киприянова это не имело значения, а Кокаскеров начал беспокоиться не на шутку и даже попросил начальника политотдела:
— Может, сядешь. Спешить нам нужно. Очень спешить.
— Я шире шаг сделаю. А в седло — за спуском.
— Думаю, сядешь раньше, — будто сам себе сказал Кокаскеров.
Предсказание кудесника… Путники еще плелись по спрятанной меж скал дороге, а ветер уже начал впихивать сюда не только запах снега, но и первые, еще не густые, белые полоски; но постепенно они сплачивали ряды, залепляя дорожную выемку белизной — видимость падала до нуля. Правда, здесь не собьешься с пути, не загремишь в обрыв, защита справа и слева, только вот-вот эта защита окончится, дорога, изогнувшись, окажется открытой, пойдет бочком по крутому откосу, и не дай бог принять чуток правей — покатишься вниз на добрую сотню метров. Коварное место. Много и лихих головушек, и трусов бессильных осталось здесь навечно.
Вести себя уверенно в такой беспросветной белизне может только конь. Лишь на него можно положиться, отдав ему повод. Полностью отдав.
— Двигаться будем так, — пересиливая свистящую пургу, распорядился Кокаскеров. — Я верхом впереди, вы — следом. За хвост держитесь. Замыкают коноводы.
— Нет! Я — в седло.
Ну, раз в седло, значит, — в седло. Если за хвостом коня плестись унизительно. Возражать Кокаскеров не стал. Предупредил только:
— На трензелях держи, но не управляй. Совершенно.
Умные, знающие цену памирским дорогам кони пошли осторожно. На ощупь пошли. И вышагали вначале до долины, а по ней, без сбоя (хотя Кокаскеров несколько раз слезал с седла и проверял, не сбился ли с дороги) доставили облепленных снегом всадников точно к заставским воротам.
За высоким дувалом чуточку тише. Спрыгнул Кокаскеров, коновод подхватил повод и отвел в сторонку коней, чтобы не мешать рапорту начальника заставы. Коновод Киприянова тоже готов был принять коня майора, но тот продолжал сидеть в седле истуканом, крепко вцепившись в луку обеими руками.
— Помогите, — дослушав положенный рапорт, попросил начальника заставы Кокаскеров. И как бы извиняясь за Киприянова, пояснил: — Отвык от седла в политотдельских кабинетах.
Майора Киприянова сняли с седла и на руках понесли в квартиру замполита, которая пустовала из-за недоштата, как принято говорить о вакансиях в армейских кругах. А за всей той процессией наблюдал часовой по заставе. Наблюдал молча. С жалостью. Это он завтра в сушилке под общий хохот перескажет увиденное, сам тоже станет смеяться до слез, но сейчас он готов был кинуться на помощь, и сдерживала его лишь уставная неположенность отвлекаться от службы.
Двое суток бушевала метель. Для Киприянова — это бальзам на потертости. Он молил Бога, чтобы неслась свистящая белизна бесконечно, он боялся тишины, боялся солнца, ибо это означит конец блаженного ничегонеделания. Хотя, как это — ничегонеделания. Партийно-массовую работу он взял в свои руки, наглядно демонстрируя начальнику заставы и ее формы, и ее методы. Партийное и комсомольское делопроизводство он проверил до строчки, но не только проверил, а еще и заставил секретарей переписать те протоколы, какие не соответствовали стандарту, потребовал привести в соответствие с инструкциями учет проведенных плановых и дополнительных мероприятий — не бездельничал начальник политотдела, вовсе не представляя себе, что все, что он делает, пустышка, что инструкции по учету и отчетности придуманы не во благо заставам, а лишь для того, чтобы легче было уличить начальника или его заместителя в недоработках по линии воспитательной работы, случись на заставе какое-либо серьезное нарушение. Умно они составлены, эти инструкции, но основной их принцип — недоверие.
Такова уж неписаная традиция: когда на заставе все идет хорошо, об инструкциях и указаниях проверяющие вспоминают лишь для перестраховки. Опять же с учетом возможного в будущем ЧП. Чтобы вышестоящие товарищи не обвинили проверяющего в верхоглядстве. Не смог, мол, вникнуть и распознать.
Именно этой заботой и был озабочен Киприянов, трудился он сосредоточенно и много, превратив ленинскую комнату в Смольный, и совершенно не понимал Кокаскерова, который, как ему казалось, мучился от безделья. Даже не провел ни одного официального мероприятия с начальником заставы, какое можно было бы зафиксировать в соответствующих учетах. Киприянов, на второй день, после сытного обеда, попенял даже начальника отряда:
— Приедет кто-либо из округа, посмотрит: вы были здесь не один день, а следов своей работы не оставили.
— Зачем на льду пыль поднимать? — вопросом ответил Кокаскеров. — Какой цели ради?
— Обязанность командиров всех степеней…
— Дорогой Корнилий Юрьевич, я свои обязанности знаю и, как мне думается, выполняю их. А следы? Их на границе надо искать. На КСП.
Не понял Киприянов начальника отряда. Совершенно не понял. О себе, о своей работе он записал во всех существующих на заставе учетах. Она, его работа, видна. Наглядно видна. И когда пурга утихла, он садился в седло с чувством прекрасно исполненного служебного долга, что, естественно, влияло на его настроение. Не хмурился Киприянов и не проклинал судьбу еще и потому, что мазь Вишневского сделала свое дело, а переезды предстояли не так уж большие, и это его вполне устраивало.
Верно, ехали они не спеша, делая на каждой заставе большие остановки, заезжали, к тому же, и осматривали «закрытые» заставы, сиротливо-бездомные, грубо заколоченные окна которых походили на темные очки слепцов; но Киприянова нисколько не волновало запустение, он всякий раз при подъезде к таким заставам предвкушал хоть малую, но все же остановку и радовался этому.
Молча обходил Кокаскеров городок, придирчиво все осматривал, словно недоверчивый покупатель, а следом за ним шаркал толстыми от бинтов и пахнущими мазью ногами Киприянов, недоумевая, для чего нужен вот этот обход, зачем хмуриться и тоскливо глядеть на почерневшие стены, зачем думать о восстановлении — раз сказали бросить, значит, так надо. Скажут Восстановить — приступай к восстановлению. Там, в инстанциях, больше понимают. Им видней. Что здесь-то из себя стратега строить?
Вот так: два человека рядом, одно дело вроде бы делают, а мыслят по-разному. Более того, каждый из них считает верными только свои мысли и считает нормальным навязывать их другому. Настойчиво навязывать. Только время для этого каждый выбирал более подходящее. Первым начал наставлять на «путь истины» начальника отряда Киприянов. При очередном осмотре брошенной заставы. Вздохнул Кокаскеров, остановившись у покосившегося штакетника, некогда сверкавшего краской, а Киприянов тут как тут. Со своей философией:
— Полно сокрушаться. У вас такой вид, будто личное горе давит… Логично нужно рассуждать: кто наделен правом приказывать, ему и карты в руки. Мы — винтики.
Кокаскеров опешил: не мог не знать майор Киприянов, что отряд высказался за восстановление хотя бы для начала нескольких застав, и предложение это прорабатывается, близится, стало быть, время, когда спросят их, какие из закрытых застав могут принять людей. Нужно быть готовым доложить, чтобы разумно все прошло, чтобы и граница выиграла, и люди бы приехали в более или менее приличные помещения.
— Когда открыть прикажут — откроем, — продолжал тем временем Киприянов. — А что сейчас себя утруждать. Пока решение придет, много воды утечет. Многое здесь поразвалится.
— Только лодыри довольны ролью винтиков. У нас говорят: ишак об ишака чешется, тулпара сторонится, — довольно резко ответил Кокаскеров, но тут же перешел на деловой тон. — Не о своем времени нужно заботиться, а вот об этих заставах. Помещения отремонтируем, а где кадры возьмем. Офицеров?
— Тоже не нашего ума дело. Пришлют.
— Откуда?
— Клич бросят: коммунисты — вперед! — не без иронии ответил Киприянов: — Найдутся желающие закрыть амбразуру. Армия от себя выделит.
— Армия? У нас уже есть несколько офицеров оттуда. Один из них как раз на Крепостной. И на учебном тоже. Их ломать, да ломать. Им — строевую давай. Если песня хорошая, они довольны. Служба у них на втором плане. Тут другое нужно: свои кадры. Я держу на прицеле нескольких старшин и сержантов. Отправим на экстернат.
— Будет ли разрешено?
— Решение принимают люди. Винтики ждут указаний. Я уже говорил с начальником войск округа. Он поддержал меня. Вполне возможно, организуют экстернат прямо при штабе округа.
Вновь не за Киприяновым последнее слово. Такое ему совершенно без привычки. Выходит, затирает начальник отряда политработника, хотя просто обязан прислушиваться к его голосу. К голосу партии. Самый раз осадить гордеца, только вот нужные слова для этого не находятся. Странно. В разговорах с другими всегда находятся, а вот с этим… Очень странно.
Хмурится начальник политотдела. Не хочется ему переходить в ведомые. Но к этому все идет. Упрямо идет. Как ни артачься.
Погода баловала путников. Солнце ласкало, доплавляя остатки нагнанного поздней пургой снега, теплый воздух был почти бездвижен, обезножил, видимо, от трехсуточного дикого галопа. Для коней тоже дорога благодать — и снега нет, и мягкая она, хотя и без пыли. Кони по такой дороге рысят с удовольствием, прытко и весело. А Киприянов, все более и более сжившийся с седлом, хотя все еще придерживался за луку, но рыси уже, как прежде, не страшился и даже одобрял начальника отряда, спешившего к крепости, где их ожидала, как думал Киприянов, ночевка.
Киприянов ошибался, надеясь на отдых. Кокаскеров не намеревался ночевать ни в крепости, ни на Крепостной, да и спешил он вовсе не туда. Много уже лет, как он здесь, на своей родине, а всегда волнуется, когда подъезжает к тому месту, где появился он на свет. Как мальчишка-несмышленыш спешит к нему, сломя голову.
Развилка. Та самая, где разъехались было Богусловский с Костюковым, чтобы спускаться с Алая разными дорогами. Осадил Кокаскеров коня.
— Поезжайте, — велит Киприянову. — Я догоню.
Не взял с собой начальника политотдела. Не захотел показать ему место первого своего крика. Один поехал. Тихим шагом. А мысли вихрятся, вышвыривая пригоршнями и годы отшельничества, и жизнь под крылышком заставы «Сары-Кизяк», и службу на границе перед войной, и плен, и партизанский отряд — сколько пережито, сколько выстрадано, каких сил потребовала жизнь, вот здесь возникшая, прежде чем привести к спокойной устроенности. Нужная и важная работа, авторитет. Вполне уверенное будущее…
Ох, как он ошибался, считая, что тернистый путь окончен, и жизнь напомнит ему об этом сегодня же. Перед закатом солнца.
Крепостная встретила командиров не привычным докладом начальника заставы, а зычной командой:
— Смирно! Равнение на средину!
По плацу, уставно вскинув руку к козырьку, чеканил шаг заместитель начальника заставы лейтенант Абрамов. Любо-дорого посмотреть. Среднего роста, он был в меру плечист, в меру фигурист, китель и галифе сидели на нем ловко, а хромовые сапоги лаково искрились на солнце. Сердце какого командира не дрогнет при виде ровного, ранжирного строя, и такого подтянутого офицера. Даже у Кокаскерова, пограничника до мозга костей, мелькнула мысль, что зря недоволен он прибывшим из армии молодым лейтенантом.
Но почему застава вся на ногах? Время еще предобеденное… Спросил об этом лейтенанта. Ответ получил четкий. Без тени сомнения:
— Общий подъем в тринадцать тридцать.
— Что? Все отоспали положенное?
— Никак нет. Время сна им определено после занятий. Перед ужином.
Даже для начальника отряда это оказалось неожиданным. Сознательно разрывать сон солдата? Когда требует обстановка, тогда оправданно, а тут — что-то совершенно новое. Но не теперь же выяснять. Сказал только, пока подходили к строю:
— Пограничники, товарищ лейтенант, шутники. Они спать ложатся, когда все встают. Привыкать к такому надо, лейтенант. Необходимо!
Продолжил разговор в канцелярии, куда, наконец, пришел и начальник заставы капитан Друзяка. Помятый весь, усталый. Не от сегодняшней лишней нагрузки, а усталый вообще. Без перерыва усталый. Начал было докладывать, но Кокаскеров остановил:
— Ваш заместитель доложил, спасибо. Садитесь и рассказывайте, как у вас дела?
— На уровне задач, товарищ полковник.
— Конкретней можете!
— Так точно. Плац вы уже видели. Хорош! В казарме — чистота. Охват занятиями — стопроцентный. Проводим ежедневно вечернюю проверку. Потом и прогулку. С песней. Строй сплачивает коллектив.
— Выходит, у вас основная плотность людей в казарме.
— Товарищ полковник! — с явной обидой ответствовал капитан. — Можете проверить планы охраны границы.
— Проверим, конечно. А пока еще вопрос: в городке следопыта давно были?
На помятом лице капитана появились признаки смущения. Ответил подневольно:
— Давненько.
— Думаю так, — подытожил короткий разговор Кокаскеров, — поступим: направим сюда группу офицеров штаба и политотдела для изучения вашего эксперимента. Договорились?
— Так точно, — без всякого вдохновения ответил капитан Друзяка. — Будем ждать.
Когда они, сделав все, что намечали, уезжали с заставы, майор Киприянов выговорил ее начальнику:
— Командование отряда приехало, а встречает заместитель.
— Виноват. Учту. Только, товарищ майор, и меня понять можно: четыре часа на границе. Есть? Есть, план охраны, боевой расчет, заполнение учетов, работа с сержантами, с заместителем. Больше четырех часов уйдет. А у меня, простите, год за год. И оклад сто двадцать пять рэ. Перегрузочка выходит. А что Конституция нам предписывает? Вот, ведь, дело какое.
— Вам же участок границы поручен. Родина вам его доверила, а вы о каких-то мелочах. Не патриотично для коммуниста.
— С меня, товарищ майор, спрос маленький. Не я начудил. Мое дело телячье. Только я — не осел.
Как ни тих был разговор майора с капитаном, Кокаскеров слышал его и, в какой уже раз, с горечью подумал, как обстоятельства меняют людей. Когда шло сокращение, Друзяка, тогда еще старший лейтенант, ловко скрывал свою «телячью» сущность. Он лизоблюдил, он из кожи лез, чтобы выказать свое согласие с тем, что творится, показать свои способности, хотя, как теперь понимал Кокаскеров, совершенно не соглашался с сокращением застав, а особенно с отменой льготной выслуги. Хотел он того или нет, а, выходило, поддержал «чудачества», как ловко теперь он определил прошлое. И чего ради? Чтобы удержаться. Но и это не ради великой цели, а ради корысти. Как только почувствовал обратный ход и понял, что время увольнений миновало, что для границы он стал ценен как кадровая единица, напыжился, приняв позу обиженного, и стал делать только то, что просто нельзя не делать. И когда появился у него заместитель, из армейских, он совершенно не думал о последствиях, о никчемных перегрузках, какие навалились на солдат, которые ночью несут службу, а днем живут по уставному распорядку, где все расписано с учетом полноценного ночного отдыха. Ему нравится зычная команда заместителя: «Застава, смирно!» — когда входит он, начальник, в казарму, а от мысли, что крик тот разбудит спящих после ночного наряда, он вяло отмахивается:
«Молодые. Уснут снова…»
Зато порядок везде. И охват занятиями стопроцентный. Ни один проверяющий не придерется.
Ловкая форма протеста: безделие, припудренное внешним блеском. Давно изловчилась к такому Русь. Очень давно. И когда иго давило, и потом, когда иноземщина верхние эшелоны власти захватила, с легкой руки Петра Великого. Кровью заливали правители открытый протест, а народу себя жаль, вот и приловчился. Все время совершенствуясь. Теперь вот бездеятельный протест прикрывается великой демагогией, лапшой на уши, пылью в глаза — все хорошо, лишь бы спокойно коптить небо и не участвовать в чудачествах государственного масштаба.
Очень хотелось Кокаскерову поделиться своими мыслями с начальником политотдела, посудачить с ним и, возможно, даже определить какие-то контрмеры, но понимал: не в коня корм. Пока, во всяком случае. Не откликнется душой. Даже не захочет понять всей глубины проблемы. Главное для него пока, кажется, тоже внешняя атрибутика. Его, начальника, не встретили, как положено. В этом он видит изъян…
Мысли Кокаскерова бурлили так же кипуче, как река, по берегу которой они ехали тихим шагом.
Застава и крепость рукой подать друг от друга. Ее бы, может, и не нужно было строить, но… Кто-то решил. Так и вышло. Заброшенная крепость казаков и новая застава. Застава тесная, крепость просторная. Не обогреешь зимой. Недавно совсем приспособил ее Кокаскеров под учебный пункт. Есть здесь и где молодых солдат разместить, есть где и учить.
Вот и водозаборный домик с насосом, монотонно урчащим. Налево — ворота. Гостеприимно раскрыты. Все командование учебного пункта ожидает. Как и положено. Порядок полный.
— Осмотрим крепость, проведем совещание по подготовке к встрече ветеранов, пообедаем и — к моим отцу с матерью, — придержав повод, сказал Киприянову Кокаскеров. — Познакомлю.
Вообще-то Кокаскеров не хотел брать в юрту к родителям майора, но приглашение вырвалось как-то само собой, и он пока что не жалел об этом. Впрочем, не пожалеет и потом, хотя начальник политотдела усложнит все, что можно усложнить в той обстановке, какая вдруг возникнет, зато получит хороший урок высокой нравственности, что станет заметным толчком к переосмыслению своего жизненного кредо.
Крепость, как и предполагал Кокаскеров, не отняла много времени. К обеду они действительно успели все осмотреть и определить, где, что и в какие сроки подремонтировать, навести, как любят говорить офицеры, марафет, поэтому в путь тронулись они без опоздания, и к брошенной заставе «Сары-Кизяк» подъехали еще задолго до темноты, когда солнце только начало пощипывать закатными лучами дальние снежные пики.
Застава, долгие годы державшая под крылом семью Кула, боевая застава, считавшаяся в отряде самой трудной по оперативной обстановке, стояла сейчас за густой колючей проволокой с забитыми окнами. Брошенка. Разумней было бы Крепостную закрыть, там, в старой крепости, все же оставались люди, а здесь нельзя было оголять участок. Но решило то, что застава стоит не у границы, а у гор. Граница впереди. Идет по горным хребтам. Теперь здесь проходят лишь редкие дозоры. Только углядят ли они за всем? Кто может поручиться, что за эти годы никто здесь не прошел безнаказанно?
Заставу эту, как считал Кокаскеров, нужно восстанавливать в первую очередь. Он уже осматривал ее не один раз, поэтому сегодня решил здесь не останавливаться, лишь посмотреть, исправен ли колючий забор, не покосился ли где, не нужен ли ремонт. И вот когда всадники уже замыкали спокойный крут, тут вот и зацепился взгляд Кокаскерова за сбитый кончик снежного языка, высунувшегося из лощинки, где еще лежало много и старого, и наметенного недавней пургой снега. Не след, но что-то непривычное, неестественное.
И коновод торопливо докладывает:
— Товарищ полковник, вон проволока отогнута!
Кокаскеров поднял руку, требуя тишины, внимательно прощупал взглядом линию от сбитого снега до раздвинутой проволоки, прощупал еще раз, еще и еще.
«Кто-то прошел. После пурги. Снег когда сошел. Вон трава примята. Вон еще…»
— Вот что, сынки, — повернулся к коноводам. — Вправо и влево давайте. Тыл прикрыть. Коней положить. Ясно? — потом Киприянову. — А мы с вами — вперед.
Пограничных нарядов здесь после пурги не было. Из-за малолюдия. Сюда вообще редко посылались дозоры. Формальное оправдание: непроходимые горы. Только так уж они непроходимые. Кокаскеров не очень-то этому верил.
Изрядно повозившись с заржавевшим замком, офицеры все же вошли через законные ворота, ведя коней в поводу и держа оружие наготове. Казарма не потревожена. Все на месте. Все забито. Но… Стоп! Следы. На теневой стороне, где снег еще сохранился. Помяты подтаявшие закраины. В одном месте даже можно разобрать, что обут человек в мягкую, удобную для гор обувь.
«Искал, нет ли входа в казарму? Похоже».
Склады и баня тоже нетронутые. Осталось одно место — конюшня.
В глаза сразу бросилось, что калитка в воротах закрыта не плотно. Кокаскеров показал жестом место Киприянову, слева от ворот, рывком рванул калитку и юркнул в полумрак. Долго никаких звуков не доносилось оттуда, потом Киприянов услышал окрик Кокаскерова на местном языке, ответное пугливое причитание, и вот, наконец, вышагал через калитку молодой крепкий мужчина с поднятыми руками.
— Спал на сене. Устал, говорит. С той стороны. Оружия, говорит, нет. Обыскать, Корнилий Юрьевич, все же нужно. Сходите за коноводами.
— Слушаюсь, товарищ Кокаскеров.
Вздрогнул нарушитель, и это не ускользнуло от внимательного взгляда Кокаскерова. И сразу, будто по какой-то неведомой команде, заныло сердце, предчувствуя беду. А нарушитель, едва лишь удалился майор, заговорил торопливо, боясь, что не успеет сказать все, что нужно сказать, пока они одни.
— Я раб Мейиримбека, брата твоего отца Абсеитбека. Теперь мой приход не может остаться тайной лишь для нас: меня, Кула, вашей матери и вас. Зачем вы сюда вошли? Как быть дальше? Я шел к вам. Меня послал Мейиримбек. Если вы согласитесь пускать его людей, он подарит Кулу Гулистан, и они смогут вернуться в свой дом. К людям вернуться. Если его просьба останется неулаженной, Аллах протянет к юрте Кула карающую руку. Свершится возмездие за попрание законов шариата. Велик Аллах! — передохнув самую малость, Абдумейирим залепетал вновь: — Бек обещал посылать своих людей редко. Очень редко. Он не хочет подвергать опасности своего племянника. Своего наследника. Он так и велел сказать: мулла уже благословил завещание. Вам все это богатство и все его жены. Титул бека тоже.
Схватить за горло этого наглеца и душить, душить, душить…
Только его ли нужно хватать?! Он — раб. Исполнитель чужой воли.
— Где перешел границу?!
— Я и Аллах знает об этом. Меня вел Аллах ради угодного ему свершения. По тропе Аллаха я стану водить посланцев Мейиримбека. Никому не ведома моя тропа. Кроме Аллаха. Я сказал вам, почтенный, то, что не сказал бы никому. Для всех я перешел через главный перевал.
— Тебе не поверит никто. На перевале контрабандистов много снега!
— Я отвечу: кому помогает Аллах, того держит снег, — смиренно, будто он уже разговаривает не с Кокаскеровым, пояснил нарушитель. Потом вновь напомнил о главном: — Какую весть я понесу беку? Согласен ли его племянник стать наследником?
— Нет!
— Уважаемый начальник Кокаскеров не боится потерять мать и Кула? Потерять себя?
— Слушай ты, раб алчного! Я — не раб. Я — человек! И Кул — человек! Он мой отец. Только он один. И никто больше. Передашь своему господину это, когда мы вернем тебя назад!
— О! Аллах! — простонал Абдумейирим.
Глава четвертая
Рашид Кулович выпил кису запашистого пенистого кумыса, как и положено, залпом, не отрываясь, слил оставшиеся капли на землю, отвернув утолок кошмы и приложив правую руку к сердцу, вернул кису матери; та поспешно приняла ее, лучась радостью, что может вот так, по-матерински, поухаживать за сыном, и начала ловко вспенивать кумыс в казане, процеживая его сквозь воздух, чтобы угодить сыну, как самому почетному и любимому гостю. Большой смысл в этом традиционном ритуале. И первая киса обязательно залпом, чтобы не стеснялся жаждущий гость, и процеживание кумыса сквозь воздух перед второй кисой, чтобы передохнул гость и начал неторопливую беседу. Да, самое время сказать, что приехал он, сын их, к любимым родителям своим не просто попить кумыса и поесть бешбармака, а привез удручающую новость; но Кокаскеров все не решался заговорить, он смотрел, как мать ловко черпает кумыс большой, с носиком, деревянной ложкой, а потом неспешной струйкой льет его обратно с полуметровой высоты, ни капли не уронив мимо казана, и не хватало у него смелости произнести те слова, какие сразу же слизнут праздничную возбужденность, воцарившуюся в юрте. Молчание нарушил Кул. Спросил:
— Ты, сын, устал? Или ты удручен недобрым? Ты, как мне кажется, не рад приезду в родительский дом?
— Да, отец. Я должен был приехать два дня назад, но…
Гулистан напружинилась, лицо ее померкло, насторожилось, а Кул совершенно спокойно продолжал смотреть на сына, ожидая конца фразы. Он привык и к добрым, и к недобрым поворотам судьбы, и ничто не могло вывести его из равновесия.
— Но… Мы в Сары-Кизяке задержали нарушителя. Случайно задержали. — Выходит, зря закрывали заставу? Но раз ты командир, докажи там, — старик ткнул пальцем вверх, — пусть вернут сюда кокаскеров.
Вроде бы не пограничник, а как оценил случившееся. Киприянов, тот иначе воспринял.
«— Что, командир, минимум по благодарности. А если переход с агентурной целью, рассчитываем на что-нибудь посолидней. Коноводов нужно не забыть. По десять суток отпуска».
«— Нам взыскание положено, — ответил тогда Кокаскеров. — Задержание случайное».
«— Задержание — есть задержание. Будем плясать от факта».
Он не стал тогда перечить майору Киприянову, не до того было. Он никак не мог прийти в себя после разговора с задержанным, хотя еще не совсем осознал возможные трагические последствия начатой Мейиримбеком операции. Потом, уже в старой крепости, куда приконвоировали они нарушителя, после доклада по команде и полученного приказа ждать приезда «компетентных лиц» Кокаскеров долго и, как ему казалось, убедительно объяснял Киприянову, какой вывод должны они сделать из случившегося, тот соглашался вроде бы, обещал даже свою полную поддержку в борьбе за восстановление Сары-Кизяка в первую очередь, но последнее слово было его:
«— А от поощрения за проявленную бдительность командованием отряда отказываться грешно. Иначе у нас усилятся противоречия».
Кулу же и пояснять ничего не требуется. Сразу усек что к чему. Только не время хвалить отца за разумность и верность. Время рассказать ему о коварстве брата Абсеитбека.
— Он шел, отец, сюда. К вам шел. От Мейиримбека.
Весь кумыс уж вытек из ложки, но Гулистан продолжала держать ее над казаном, испуганно-вопросительно глядя на сына.
— О! Аллах!
А Кул спокойно спросил:
— Какую недобрую весть нес он нам?
Его вряд ли можно было сейчас чем-либо удивить или испугать. Он даже в молодости не пасовал перед жизненными осложнениями, а теперь, когда столько пережито, столько приобретено мудрости, и вовсе смешно и стыдно уподобляться месячному жеребенку, пугающемуся собственного фырканья.
— Что нужно этому курдюку, сморщенному от желчи и старости?
Кокаскеров пересказал слово в слово весь диалог с Абдумейиримом и закончил так:
— Если я откажусь, вам, выходит, грозит расправа. Нет-нет, я не могу стать предателем, но я думал, не начать ли с Мейиримбеком игру? Я уверен, со мной согласятся. Я буду знать больше, чем знаю сейчас, а вам не будет грозить опасность.
«— О! Аллах!» — выдохнула со стоном Гулистан, а Кул спросил, насупив брови:
— Тебя ли я слушаю, сын мой! Позор моей седой голове! Позор! Никогда, сын мой, не ходи по мосту труса, лучше пусть унесет тебя потоком. Разве ты забыл мудрость наших предков: не видел никогда никто, ни я, ни ты, от бога милости, от бая доброты!
— Хорошо, отец, будь по-твоему. Только одно условие: вы переезжаете ко мне.
— Нет! Не ровняй меня с ослом, которого погонщик может повернуть куда ему угодно. Я — человек! Я свободен выбирать себе место для жизни сам. Вонючий курдюк пусть повелевает своими рабами. Я — не раб!
Отхлебнул глоток кумыса, еще отхлебнул, успокаиваясь, потом продолжил:
— Не смогу я, сын мой, пить за кирпичными стенами. Как в тюрьме.
Что ж, воля отца — его воля. Нет у сына права идти против нее. Не стоял больше на своем полковник Кокаскеров. Посчитал законченным разговор и Кул. Допив кумыс, предложил сыну:
— Пойдем резать барашка. Не отведав бешбармака, грех уезжать.
Дальше все шло привычно, как бывало во все его прежние приезды: пока мужчины выбирали молоденькую, но упитанную овечку, свежевали ее, Гулистан приготовила тесто и разожгла очаг. Правда, обед прошел без праздничной приподнятости, но о посланце Мейиримбека не упоминали, и за дастарханом царило относительно спокойное благодушие: они все вместе, им уютно и какое им дело до каких-то угроз закордонной толстопузой свиньи.
Только к вечеру Кокаскеров сел в седло. И чем дальше отъезжал он от родительской юрты, тем основательней выветривалась та покойность, которой поддался и он под влиянием Кула. Он, начальник отряда, лучше Кула, как он считал, знает обстановку и в прикордонье и за кордоном. Он не был уверен, что среди тех перебежчиков, толпами через границу совсем недавно валивших и гонимых культурной революцией, какую затеял сосед, нет людей Мейиримбека. Чабанят они сейчас на Алае, числятся в передовиках, в президиумах колхозных собраний даже сидят, однако… Даст сигнал бек от имени Аллаха — змеей приползет раб его в юрту Кула. Так вполне может случиться.
Только может и иное: оттуда, по неведомой им, пограничникам, тропе перевалит горы мусульманин-фанатик и даже не подумает, что не шариата ради его жестокость, даже не в угоду хотя и страшного, но почитаемого святым бека, а ради каких-то совершенно неведомых рядовым исполнителям целей покровителей и повелителей властолюбивого бека-святоши. По той же тропе пойдет, где прошел Абдумейирим.
Да, признание нарушителя, что вышел он в долину по ему лишь одному известной тропе, не очень-то убедило Кокаскерова. Не может того быть, что никто больше не знает ее. А потом… Нарушителя придется, скорее всего, возвратить. Не останется, выходит, тайна тропы здесь. Не открывается он и следователю. Твердит одно и то же: «— Через главный перевал контрабандистов прошел…» Хотя понимает, что не поверят ему, что там в такую непогодь негде укрыться. Перевал гладок, как лоб архара. На подъеме и на спуске тоже нет добрых укрытий. А он же пересидел где-то пургу. В пещере. Но где она? Где?
Вертолет, доставивший гостей, облетел горы почти по самой линии границы— следов нигде не видно. Метель все укрыла. Но кошма со снегоступами упрятаны странно, прямо напротив Сары-Кизяка. Намного левей контрабандистской тропы. И что больше всего наводит на размышления, зарыто все это в лощинке меж двух спускающихся в долину языков у самого подножия. Если бы правей перевала была «его» тропа, то вряд ли он нес ненужный груз несколько километров. И тяжело, и, главное, демаскирует. Там бы, как спустился с гор, и упрятал. По логике выходит, что либо напротив Сары-Кизяка спустился, либо левей. Может быть, ближе к юрте Кула. Там удобна тропа еще и тем, что сразу же можно, не маяча по долине, где и пограничники, и чабаны, миновать Алай. По той тропе, по какой поднимались сюда в свое время они с Богусловским. К тому же, можно спускаться и не по торной тропе, а по другой стороне речки. Трудно, опасно, но для горца вполне посильно. А если это так, если неведомая тропа ближе к юрте Кула, то опасность расправы с ним и матерью во сто крат увеличивается.
«Сворачивать им нужно юрту. В кишлак уезжать, если ко мне не хотят. В свой дом…»
Да, дом Кула, заметно подряхлевший, продолжал стоять в кишлаке. Никто его не разорял, но никто за ним и не ухаживал. Только сам Кокаскеров проводил в нем время от времени свои отпуска, ремонтируя дом и дувал. Можно в нем жить. Нормальный дом. И обстановка в кишлаке иная. Вряд ли отчужденно будут себя чувствовать Кул и Гу листан.
«Настоять придется!»
Время летело в раздумьях, копыта коня отмеряли километр за километром, и Кокаскеров не заметил, как вернулся в крепость. Спрыгнул с седла и сразу к гостям.
— Какие новости?
— Много, — ответил представитель КГБ. — И в то же время ничего нового. Вы удивлены. Тогда, давайте, подробней поясню. И вам, и мне ясно, что недобиток направил сюда эмиссара не по своей инициативе. Посланцу, естественно, карты не раскрыты. Делать этого никто не собирался. Дано конкретное задание. И только. Легенда обычная: нес терьяк, чтобы заработать деньги и откупиться от бая, обзавестись хоть клочком своей земли.
— Вы ему, выходит, тоже не открываете карты. Для него я, выходит, не доложил разговора с ним?
— Нет, мы в полном неведении о вашем разговоре. Но он переборщил, хуля хозяина. Приоткрыл одну деталь. Терпение его лопнуло, как он сказал, в вечер жертвоприношения. Хозяин, дескать, потчевал гостей-англичан, а его, голодного раба, не освободил даже от работы. От какой? Вот тут и получилась загвоздка. Замешкался с ответом. Потом спохватился. Сад видите ли, поливал. Странно. Грешно мусульманину не только самому работать, но и заставлять работать других. Очень большой грех. К тому же сад и накануне можно было полить. Да и не июльская жара там сейчас. День-другой без полива, что случится. Бек, что, в очереди на полив стоит? Пришла очередь, делать нечего, грех не грех, а работай. Неувязочка. Вывод какой? Гости, видимо, инструктировали посланца. Сами. Может, и обидели, не пригласив к трапезе. Может быть… — сделал паузу, готовясь перейти к главному. Начал с нотками торжественности и довольства своим решением: — Я послал предложение, чтобы, значит, начать игру. Вы даете согласие, они шлют людей, мы изучаем связи и…
— А вы спросили меня?!
— Вас? Вы же — коммунист. Вы — офицер.
— Я только что от отца. Я рассказал ему все. Предложил ему и этот ход. Ради безопасности его и матери. Но он отверг. Не выполни я его желания, он, вскормивший меня, отвернется. Нет, я не пойду против его воли.
— Не опрометчива ли с вашей стороны такая откровенность. Пусть он отец, но… Это может усложнить.
— Давайте не будем махать камчей! Я так не живу: слово дал, слово взял. Я сказал нет, значит — нет!
— К нам вылетел генерал Богусловский из Москвы. Завтра будет здесь. Может, он повлияет?
Такой гость?! Что ж. По событиям и гости. Часто ли начальникам отряда предлагают измену? То-то. Всполошились все. До Костюкова даже дошло. И он сразу же позвонил Владлену Михайловичу Богусловскому:
«— По твоей линии, кажется, ЧП? Лети сам. Никого не посылай взамен. Время не сталинское, но… Ты лучше всех знаешь Кокаскерова. Кривотолки пресечешь. Уверен, привычки и понятия прошлого дадут знать. Найдутся стародумы. А то и карьеристы. Огороди».
Как в воду глядел старый генерал. Владлена Михайловича встретили в аэропорту начальник войск округа и начальник политотдела. Намеревались вместе с ним лететь в старую крепость. И не только ради сопровождения. Оказывается, майор Киприянов уже высказал по телефону свое отношение к случившемуся:
«— Коммунист, скрывший свое прошлое, не может быть в партии. Офицер, на прошлом которого можно склонять его к измене, не имеет права находиться не только на командной должности, но и в пограничных войсках». Письмо майор Киприянов уже написал, личное письмо коммуниста, и с первой же оказией обещал выслать. В округ — только копию. Подлинник в Центральный Комитет. Требует партийного расследования и партийной комиссии. Вот и хотели старшие командиры перехватить письмо в ЦК, а заодно выслушать «мнение сторон».
— Зачем? — удивился Богусловский. — Неужели полковник Кокаскеров не заслужил доверия? Какой цели ради ворошить прошлое? Тем более, что мыто знаем о нем. И я, и вы. В личном деле не записано, так велика ли беда. Кул у него отец. Кул!
— Верно все, но письмо. На него придется реагировать. Как Центральному Комитету ответишь, что не скрыл, дескать, а в анкете однозначно написано: отец — Кул. И отчество Кокаскеров взял себе — Кулович. Рашид Кулович.
— Анкета, конечно, бумага. Только если уж быть точным, Кокаскеров — сын генерала Костюкова, сын моего погибшего отца, сын тех, кто здесь, на Алае, создавал пограничную охрану. Советскую пограничную охрану. Этого разве мало для доверия? А новый политработник? Посмотрю ему в глаза. Небось место начальника отряда замаячило впереди. По костям!.. Ну, а если не совладаю с майором, тогда… Что делать? Реагировать придется. Только так реагируйте, чтобы белое оставалось белым, черное черным, а виновный в склоке понес по заслугам. Не ударьте ненароком невиновного. И еще… Позвоните на Алай, чтобы без пышной встречи. Чем незаметней, тем лучше.
Генерал Богусловский даже не поехал ни на Крепостную, ни в старую крепость: слишком они близко от границы, а за заставой с той стороны наверняка следят безотрывно. Дело-то затеяно нешуточное. Поэтому он выбрал такую заставу, которая от границы хотя и недалеко, но не просматривается. Там и провел совещание. Вопросы не простые. Где прошел нарушитель? Что делать с ним? Что предлагает отряд, чтобы не повторялись такие, как теперь оказалось, случайные задержания? Надежно чтобы перекрыть границу.
— Посланец какой-то, допустим, английской, разведки используется в слепую. Он уверен, что Кокаскеров скрыл разговор с ним, поэтому упрямо держится основной легенды: переход в контрабандных целях. — Начал высказывать свое заключение представитель КГБ. — Отсюда вывод: есть прекрасная возможность затеять игру. Создать окно. У пограничников есть подобный опыт. Окно Тойво Вяхи что стоит?! Шульгина через окно вели. Савинков по окну прошел. Увы, товарищ Кокаскеров категорически отказывается. Мне его позиция совершенно непонятна.
— Зачем перегораживать сухой арык?! — раздражительно, совершенно не скрывая недовольства, парировал Рашид Кулович. — Воды все равно не будет! Я сказал нет, значит, нет!
— Тогда моя функция окончена. Я готов для доклада своему руководству вылететь хоть сегодня, — тоже сердясь, отчеканил представитель КГБ. — Нарушителя можно передавать, можно судить. Но это не моя компетенция.
— Подождите до завтра. Утро вечера мудренее.
Предлагаемая игра ему тоже нравилась, и он подумал, что сможет переубедить Кокаскерова. Вся ночь у них для этого впереди.
— Так где все же прошел нарушитель? — после небольшой паузы продолжил Богусловский совещание. — Где?
— Мне он твердит одно и то же. Через перевал, — ответил следователь.
— Я тут один случай из детства вспомнил, — вмешался Кокаскеров. — Мы жили тогда за пещерой. Долинка есть такая, — пояснил он несведующим, — вход в которую только через пещеру. Из нее речка вытекает. Потайное место. Небольшая долина, как вырытый котлован в горах. У отца ружье всегда наготове было, спал он тогда чутко, а тут вдруг у входа в юрту стал ложиться. Совсем перестал спать. И мне тревожно. Тоже не сплю. Родители при мне помалкивали, но один раз, думая, видимо, что я сплю, мать позвала отца: «— Иди ко мне. Вдвоем теплей. Если ты озябнешь и заболеешь, мы погибнем». «— Я следы видел. Человека следы. У пещеры», — ответил отец и не перешел в тепло. Долго спал у входа Кул, но постепенно успокоился. Следы больше ему не попадались, а про те старые, он, видимо, начал забывать. И я забыл. И вот — вспомнилось. Теперь я убежден: тропа где-то там. Я предлагаю, я просто требую восстановить Сары-Кизяк. А пока держать круглосуточный наряд у выхода из пещеры. На довольствие бойцов поставим у Кула. У него и отдыхать будут.
— Заманчивое предложение, — с ехидной ухмылкой заметил Киприянов. — Круглосуточная охрана родительского очага.
У Кокаскерова желваки вздулись на скулах, так он сцепил зубы. Богусловский покачал головой, выдохнув неопределенно:
— Да, дела…
Пауза затянулась. Все собравшиеся почувствовали себя гадливо, словно прикоснулись ненароком к чему-то очень грязному. Увы, никто не возмутился открыто. Богусловский вскоре повел заседание по намеченному плану. Шло оно, правда как-то вымученно, без откровенности, но в конце концов все вопросы были решены.
— Вы, — обратился Богусловский к следователю и представителю КГБ, — по своему плану, а вы, — кивок Кокаскерову и Киприянову, — останьтесь.
Долго сидел Богусловский, думая думу. Не знал, с чего начать трудный разговор. В обход ли вести его, с дипломатическими выкрутасами, либо по-солдатски прямо. Без забрала. Обстоятельства требуют четко расставить все точки по своим местам. Но тогда неминуема резкость в оценках. Тогда вполне возможна жалоба на необъективность. На то, что он, Богусловский, по старой дружбе опекает начальника отряда. Дружба, дескать, выше дела. Выше истины. Тут такую паутину можно наплести, опального генерала Костюкова вмешать, покойного генерала Богусловского — столько, в общем, нагородить, что не одной комиссии придется разбираться. Грязью обмажет. В антигосударственных деяниях обвинит. Верно, ночью из квартиры не уведут, не то время, а карьера основательно пострадает. Даже уволить могут. И его, Богусловского, и Кокаскерова. Тем более, что Кокаскеров отказался от предложения войти в игру. Все будет зависеть, как отнесутся к «сигналу» политработника. Хлопотно, выходит, напрямую. Но и друга как оставишь без поддержки. Мягкость Киприянов может принять за трусость и попрет еще наглее. На одного, правда, Кокаскерова. Его, Богусловского, может даже похвалить.
«Нет! Не дело вилять!»
Прихлопнул ладонью по столу, как бы пресекая все свои сомнения, и спросил полковника Кокаскерова:
— Рашид Кулович, тебе известно о звонке майора Киприянова в округ?
О подготовленном на тебя письме известно?
— Какой звонок? Какое письмо?
— У вас не было разговора с начальником политотдела отряда по поводу случившегося?.
— Нет.
— Товарищ майор, — чеканя слова, спросил Богусловский Киприянова, — вы можете повторить здесь все, что говорили по телефону начальнику политотдела округа и что подготовили для передачи ему в письме?
— Я высказал мнение коммуниста. Мнение политического руководителя! — возмущенно ответил Киприянов. — Я имею право! Я просто обязан, как политработник!
— А вы не соотносите право и честь? Честь коммуниста. Она, честь, предписывает говорить товарищу по партии в глаза. Открыто говорить, а не из-за утла сигналить. О человеческой чести у вас есть хоть какое-то элементарное понятие?! О чести офицера?!
— Мной движет патриотический долг! Доверять участок государственной границы, священной, как известно, товарищ генерал, человеку, прошлое которого может поставить его на путь предательства, я думаю по меньшей мере халатно. Хорошо, что при задержании нарушителя рядом оказался я. А будь товарищ Кокаскеров один? То-то! Кто даст гарантию, что жизнь матери и жизнь отца, как товарищ полковник называет Кула, не станут для него дороже долга? Я не дам такую гарантию…
— А я — дам!
— Вы — едины, — многозначительно подчеркнув слово «едины», ответствовал Киприянов. — И я оставляю за собой право.
— Ваше право за вами. А я оставляю за собой право усомниться, на своем ли месте вы сами, товарищ майор.
— На своем, Владлен Михайлович. На своем, — вставил спокойный свой голос Кокаскеров. — Пока на своем. Просто он не знает обычаев нашего народа. Он думает как русский. Он не может думать, как думает Кул, как думает бек, мой дядя, на той стороне. Как думаю я. Он считает равноправием наций право всех думать, как русские. Я считаю так, Владлен Михайлович, пусть майор Киприянов пишет куда хочет и что хочет, а мы будем делать дело. Он потом сам устыдится.
— Я бы попросил, товарищ полковник!
— Предлагаю завтра выехать, — не обращая внимания на возмущение Киприянова, продолжил Кокаскеров, — на Сары-Кизяк. Посмотреть пещеру и долину за ней. Дорога с сопредельной стороны не просматривается, но лучше все же переобмундироваться.
— Да, — кивнул Богусловский, — в форму старшины-сверхсрочника. Подойдет по комплекции. И вот еще… Начальника политотдела, думаю, возьмем с собой. Как? Рашид Кулович?
— Подойдет.
На том и порешили. Дела заставляли экономить время, не тратя его на отвлекающие пререкания и споры.
Миновал в конце-концов колготной день, и пришел час, когда они остались одни. Они попросили начальника заставы не планировать им выход на границу, ибо завтра предстояла им совсем неблизкая дорога, поэтому весь вечер и вся ночь оказались в их полном личном распоряжении. Если, конечно, не поднимется застава по тревоге.
Им и в этом повезло. Граница жила мирно в ту ночь, их никто не тревожил, и они далеко за полночь вспоминали и первую встречу, увы, в столь печальной обстановке, и совместную здесь службу. А время в те годы было сложным. Заставы обезлюдели в войну, а новобранцы — дети-детьми. Робки и слабосильны. К тому же заморены. Граница же тогда звенела натянутой струной. На пределе обстановка. Хотя и Сталинград и Курск с Орлом были позади, спеси у многих недругов наших это поубавило, но провокации все же продолжались. Пореже, как говорили старожилы, чем в первые военные годы, но от этого пограничникам не стало легче. Ждать-то их все равно приходилось каждый день, каждую минуту. Ждать и готовиться к тому, чтобы достойно ответить. Сильно и хлестко, чтобы отбить охоту совать нос на нашу сторону. Но и перегибать нельзя. Чтобы не перерос ненароком пограничный конфликт в конфликт военный. Гитлер еще не был окончательно сломлен.
И контрабандисты тогда осмелели. Им же видно, кто в нарядах службу несет. Юнцы. Их за нос вполне можно поводить. И водили бы, не помогай пограничникам бывшие джигиты застав и комотрядовцы. Они тоже поднялись. Стеной.
— Ты не забыл, Владлен, как с Кулом сотню терьячников задержал? На перевале.
На том самом, через который, как утверждает он следователю, прошел посланец бека. Разве можно такое забыть?! Жизнь там на волоске висела.
А поначалу все начиналось весьма ловко. Даже самому на удивление. Кул прискакал на заставу и сообщил:
«— Терьякши перевал идут. Если сейчас скакать, успеть можно».
А с кем скакать? Застава пустая. Кокаскеров, начальник, засадит с доброй половиной личного состава, ожидая провокационной вылазки. Сообщения о ней получены были вполне достоверные, как тогда, думалось. Остальные бойцы — в нарядах. Делать, однако, нечего. Повара взял с собой с ручным пулеметом (из молодых он был, но проворный и смышленый), и Кула попросил помочь. Вот и вся наличная гвардия. И очень повезло им, что упредили они нарушителей намного. Успели выбрать для себя ловкие места. Кулу спасибо. Глаз у него наметан и цепок. Всем определил места и даже посоветовал, как действовать, когда появятся контрабандисты.
Начали ждать. Что, как утверждают знатоки, очень невеселое дело. Уж сколько раз сомнения закрадывались, не ошибочны ли данные; уж сколько раз досадливые мысли требовали: «Скорей бы что ли!» Только тихо в горах. Словно на луне, где нет никакой жизни.
Не ведали они, что оттяжка эта для них спасительна. Не случись ее, как повернулось бы дело, одному богу известно.
Кул увидел их первым. Даже не увидел, а вначале услышал. Непостижимо для начинающего пограничника. Шепнул пожилой чабан: «— Идут!» — Богусловский и слух напряг, и глазами зашарил по горам, думая, что вдруг не по тропе поднимаются, но ничего не увидел и не услышал. Минут лишь через несколько появились согнутые в три погибели под тяжестью заплечных мешков серохалатные люди.
«Смотри ты, под цвет гор одежда, — но тут же другая мысль взвинтилась. Пугливая. Тревожная: — Как брать?!»
Да, терьякноши донельзя растянулись. Останови первых, задние назад повернут. Дождись хвоста, первые уже далеко за перевалом окажутся. Лови их тогда. Не знает Богусловский, как поступить. Растерялся. На Кула поглядывает. А тот словно дремлет. Полное ко всему равнодушие.
Контрабандисты не дошли метров сто до перевала, остановились, скучились и, посоветовавшись, пустили разведку. Троих отрядили. Бывалых, видимо, ибо грамотно те двинулись: метров на двадцать друг от друга. Если один наткнется на засаду, у других есть шанс отступить. Всего-то ничего нужно вниз вернуться, и в безопасности. Советские пограничники никогда не переступят границу, а она проходит по перевалу. Все учитывают нарушители. Хитрецы.
Вот первый из разведчиков на перевале. Не пупком выторчился, а прилег. Потом на четвереньках пополз вперед. С оглядом, не спешко. А к самому верху и вовсе на каменья распластался. Пополз ящеркой туда, откуда заперевальная тропа видна. Долго лежал. Не только смотрел, но и, как казалось Богусловскому, нюхал. И понял Владлен Михайлович, отчего в самый тупик узкого ущелья, которое с перевала и так не просматривается, увел Кул коней, а когда поднялись они сюда, и ветер задышал встречно, скуластое лицо Кула стало довольным-предовольным.
«— Джаксы».
Удивило Богусловского такое состояние старика-казаха, не на архара же они вышли, при чем тут ветер. Вон, оказывается, при чем. Дул бы разведчику в лицо, унюхал бы он их, пограничников, присутствие: конским потом от них несет да пахучей ружейной щелочью и ружейным маслом, а пропотевшие гимнастерки и ремни тоже запашисты, и никуда от этого не денешься, ибо не в нежной постели проводят пограничники дни и ночи, не в ванных да бассейнах размываются, а только в бане, и то всего один раз в неделю. Унюхал бы их лазутчик. Это уж точно. А лошадей тоже унюхал и услышал бы, не упрячь их Кул так глубоко.
Намотал себе на ус Богусловский познанное, только на сей миг от маленького того открытия, из которых, зерно к зерну, складывается пограничный опыт, пользы никакой. Лежит Владлен, сын Михаила, молодой страж границы, дышать даже в полные легкие не дышит, а что делать дальше, понятия не имеет. Это потом он познает все повадки нарушителей, загодя будет знать, как развернутся события, а в те начальные свои пограничные шаги все ему приходилось делать наугад. Безбоязненно он рисковал. Слишком безбоязненно. Ведь сюда, на перевал, он поспешил, как в омут головой бросился, совершенно не подумав о возможном трагическом исходе.
Гибелью наряда все бы окончилось, к ворожею даже ходить не стоило, не прояви осмотрительности Кул, да не окажись догадливым и расторопным Кокаскеров.
Разведчик призывно махнул рукой, и все потянулись на перевал, торопясь, обгоняя друг друга. Устали донельзя, теперь предстоял им хоть малый, но все же отдых. Перед спуском вниз. На свою землю. Он, тот отдых, не простой. Со смыслом отдых. Еще раз проверить, временем, нет ли впереди кокаскеров. На тех важных трехстах метрах, где тропа одна-единственная. Там, ниже, она разветвляется на десятки троп, там расползутся терьяконоши, и все будет зависеть от каждого, сможет ли он проскользнуть в долину или попадет в руки пограничников. Там можно рассчитывать на себя, здесь же — только уповать на волю Аллаха. Надеяться, что отвел по ложному доносу он на это время кокаскеров в сторону.
Проскользили подобно змее через перевал и взяли чуточку влево, как раз туда, куда Кул разместил в засаду ручной пулемет. Площадка так, небольшая, от тропы не враз увидишь ее. Удобная для тайного отдыха. На ней и начали гуртиться терьяконоши, сбрасывать с плеч мешки.
«— Командуй, ака, — шепнул Кул. — Пока, сторожа не ставили».
Молодец, как все рассчитал. Минуты расслабленности использовать. Если есть оружие, оно тоже не наготове. Лови момент, подавляй полной внезапностью.
Скользнул Кул между валунами, Богусловский за ним. Десяток неслышных шагов, и вот она — полянка. А они с Кулом — над ней. Вот как знает местность чабан. Учиться нужно. Но это потом. А сейчас — действуй.
Взметнулся и крикнул властно:
«— Ложись!»
Кул рядом. Переводит. Да так резок и строг его голос, что многие плюхнулись животами на пушистые эдельвейсы. Но не все. Нырнули у десятка-другого руки за пазухи халатов и чепанов, сейчас ощетинятся маузерами и обрезами.
«— Огонь!»
Ручной пулемет дал длинную очередь. Не очень высоко над головами, хотя уговора такого не было. Подействовало отрезвляюще. Все лежат. Можно связывать, обыскивая.
Вот тут и поджидала пограничников ловушка: увлекутся они и не заметят, как появится новая группа контрабандистов. И написано в донесениях сколько об этом, и говорено, только неопытность она и есть — неопытность. На этот раз контрабандисты тоже шли двумя волнами. Во втором порядке, их не так уж и много, матерые, имеющие право повелевать. Вот и пускают они впереди себя толпу. Как баранов. Впрочем, бараны эти и не совсем бараны. Понимают что к чему. Но куда им деваться. Путь один: пробиваться в повелители. Бесстрашностью своей, хитростью и, что очень важно, угодничеством.
Кул увидел тех, главных, сразу же, как они появились. Он так устроился, что и с Богусловского глаз не спускает, готовый помочь ему, если что не так будет, и на ту сторону перевала нет-нет да и глянет. Тертый он калач. Помнит, как в году двадцать пятом с начальником Сары-Кизяка разбирались (по следам уже) отчего погиб пограничный наряд. Потом еще раз, в тридцатом, такое же повторилось. Потом еще и еще. Потом — притихло, и пограничники забыли уроки прошлого. Или не знали. Как, похоже, не знает молодой командир, друг Рашида. Ему, Кулу, не хочется погибать не за щепотку наса. И молодому другу сына зачем гибнуть.
Те, матерые несколько человек, шли осторожно, у каждого маузер, а то и два, — у убитых казаков еще до революции взятых. Даже трехлинеек несколько топорщится. Это уж в советское время приобретенные. У тех, погибших, нарядов взяты. Видит с тревогой все это Кул, но помалкивает до поры до времени, пусть Владлен-ака еще несколько человек обыщет и свяжет. Все больше станет оружия и патронов в запасе.
Вот теперь пора. Позвал Богусловского:
«— Командир! Бери мультуки и сюда ходи. Все бери. Скорей бери. Еще идут».
Не вдруг понял сложность ситуации Богусловский, только Кул мигом вразумил. Без колебания выстрелил он в одного из тех, кого взметнула новость. Крикнул остальным грозно:
«— Лежать. Всех поубиваю!»
Не все повиновались, и Кул еще одного успокоил навек, Богусловский тоже сдублировал. Это подействовало. Присмирели все до одного. Тогда быстро сгреб Богусловский отобранное оружие и поспешил к Кулу, который орлино оглядывал лежавших контрабандистов, готовый уложить любого, кто попытается встать. Услышал призыв: «— Давайте вместе все!» и жахнул. Не в голову, в ногу, для вразумления и прыткого, и других. Теперь можно было уже стрелять жалеючи, та первая напряженность схлынула, решимость у задержанных поубавилась. Теперь держи только в страхе, и ладно будет.
«— Бери, Владлен-ака, пулемет сам. Молодой кокаскер, может, плохо стреляет».
Богусловский и сам об этом уже подумал. Вот сейчас положит у ног Кула отобранное оружие, сбегает за патронами, и — к пулемету. Пусть повар из карабина отстреливается. А Кулу стеречь задержанных. Очень важно, чтобы они не поднялись. Очень. Их так много, что сомнут моментально. Если, особенно, все разом. Если командой взметнуть. Утихомирить того, кто попытается скомандовать, вот в чем задача Кула. Молодому солдату она явно непосильна. Хотя встречный огонь Кула был бы куда полезней. Меток бывший джигит заставы. Оставил бы лежать одного да другого на подступах к перевалу, отрезвились бы. Но что делать? На безрыбье и рак рыба. Хоть пугать будет повар. Главное, чтобы не спешил.
Так и сказал бойцу:
«— К Кулу давай. Его советы слушай. Патроны береги. Только прицельный огонь».
Он и себе определил ту же программу. Только в кого целиться? Мелькнет чапан между валунами и снова тихо. Второй так же неожиданно метнется, третий. Не спешат контрабандисты. Не так уж их много, но они в десятки раз опасней тех, которые лежат. Матерые.
Раза два отсек Богусловский короткие очереди впустую, и сердце заныло. Всего два диска. На сколько хватит? А кончатся патроны, что делать тогда?
Голыми руками их можно брать. На подмогу рассчитывать не приходится, Кокаскеров в засаде сидит. Когда вернется на заставу, не ведомо.
Думать начал, как приловчиться к тактике нарушителей. Решил индивидуальную охоту начать. Перебежал контрабандист за валун, определил, куда его следующий бросок, и взял на мушку. Но… Вновь неудача. Запоздал. И тут— эврика! Держать на мушке тот валун, куда станет перебегать нарушитель. И как только высунется тот, дави на спусковой. На пули и напорется.
«Ура! Есть один!»
Зацокали ответные пули, засвистели ройно. Едва успел утянуть пулемет за камни.
Перебежал метров на двадцать, увидев добрую позицию. Точно, хороша. Даже лучше первой. А левей, метрах в пятнадцати, еще лучше.
«Для следующей смены».
Повар тоже постреливать начал, отвлекая огонь на себя. И тоже меняет позиции. Молодец Кул. Сохранит бойца и подучит.
Одна короткая очередь, вторая. Есть еще один. Только теперь без ура. Всего двоих потеряли контрабандисты, а продвинулись намного вперед. Еще с полсотни метров, и у них появится возможность расширить фронт атаки, местность позволит, вот тогда что делать? Первый диск уже заметно опустел.
«— Командир, сын идет! — радостно закричал Кул. — Много кокаскеров!»
Ему, Богусловскому, не видна тропа, но он представил себе, где увидел Кул начальника заставы.
«Минут двадцать. Раньше не успеют».
Заглушая радостное возбуждение, старался стрелять хладнокровно, но теперь не гонялся за одиночками, а очередь за очередью прошивал межвалунье, тормозя контрабандистам перебежки.
И повар зачастил. Теперь-то хватит огнезапаса. Теперь, главное, не подпустить слишком близко.
У нарушителей — своя забота. Крик Кула они тоже слышали. Прикинули, не успеют раньше заставы на перевал и, значит, нет резона лезть дуром. Важно бы без потерь отступить. А те, первые, пусть уповают на милость Аллаха и на милосердие пограничников.
В общем, когда Кокаскеров с бойцами поднялся на перевал, вступать в бой ему уже не было нужды.
— Да, сердце тогда подсказало. Неладное почувствовало.
— Не одно сердце благодари. Сработал верный анализ обстановки.
— Верно. Сердце щемит, а я думаю: что долго никого нет? Может, думаю, обманули? Оставил старшину и половину бойцов, а сам на заставу. Да, чуть-чуть нас тогда вокруг носа не обвели. Сейчас даже стыдно. Ты молодой пограничник был, тебе простительно, а я?
— Что казниться? Былое быльем поросло. И, помнится, там все же пошли.
— Что пошли. Пыль в глаза, чтобы без подозрения остался тот, кто дал нам информацию, — помолчал немного и продолжил философски: — Все повторяется. Через много лет. Обязательно повторяется. Нельзя, чтобы быльем поросло прошлое. Помнить его нужно. И учитывать.
Сколько пудов соли они вместе выпотели, сколько волнений, неприятностей и радостей пережили, а сошлись, вроде бы и не о чем вспомнить. Два-три оставивших след события — и все. Остальное — мелочи жизни, превратности судьбы. Впрочем, это естественно. Что нам в данный момент кажется важным и беспокойным, через годы теряет значимость, если не забывается вовсе, то переходит в разряд мелкоты, не стоящей внимания.
И только война!.. Да, она никогда, особенно для тех, кто^видел ее в лицо, не уйдет из памяти. Там каждый миг рядом, совсем близко, находилась смерть. Чаще неожиданная, никчемная, командиром даже не запланированная. Шальная. Тут у друзей языки развязались, память повела их каждого своей тропой, и это свое, сокровенное, было интересно другому. Хотя, казалось бы, говорили о говоренном прежде (свои жизни они давно поведали друг другу), но и на сей раз находились новые детали, новые акценты — и это естественно, ибо осмысление прожитого идет постоянно.
— За Родину на смерть шли, за Сталина. Его именем поднимали полки в атаку на танки и пулеметы. Наш отряд его имя носил. Партизанский отряд имени Сталина. Звучало. Гордились мы тем именем. Право на главенство среди других отрядов оно давало. А теперь стыдно о том вспоминать. Вон что открылось, — с грустью говорил Кокаскеров. — Самых жестоких тиранов Востока переплюнул. Всю страну, все нации превратил в рабов-поденщиков. Съежившись жили, боясь не только камчи, которая над каждым висела, а и пули. Петли. Сталину все подражали: бас-карма, предрик, партийный секретарь района, области. В этом, я думаю, его главное преступление. Породил себе подобных. Забыть о нем надо. Черным замазать имя его и всех, кто рядом с ним был, кто потакал и помогал…
— Так и станется, Рашид. Осрамят Сталина, как и следует за его деяния. Осрамят, но вычеркнут главное: народное преклонение вождю, как святому. Нигде, ни в книгах, ни в кино не встретишь сейчас главный лозунг войны: «За Родину! За Сталина!» И в том, Рашид Кулович, великая ошибка. Трагедия, я бы сказал, нации. Да-да, трагедия. Что, стыдно признаться, что с именем тирана шли на смерть?! Конечно, проще всего вычеркнуть из памяти все то, что было, в угоду своей совести, своему спокойствию, и начать славословить новому вождю. Большущее дело сделал Хрущев, великое, открыв нам, да и всему миру, глаза. Только чем он лучше Сталина? Кровь, правда, почти не льет, но души губит, землю губит, армию подсек, погранвойска обкарнал, а мы — штурмуем высоты коммунизма с его именем на устах. Вот бы и сопоставить прошлое, не искажая его в угоду себе, а оголяя всю глубину трагизма, да сделать вывод… Тогда только толк будет. Сможет подняться до такого нация, станет здоровой. Не сможет, так и будем под камчей, как ты говоришь, жить, — вздохнул трудно и продолжил с еще большей грустью. — В Сибири я вырос. Травы по пояс. Земли не мерено. И пахотной, и выпасов, и парового клина. Так нет, на леса в атаку пошли с именем Хрущева на устах. Заливные луга — под плуг, выпасы — под плуг. Все под кукурузу. Сотни тысяч молодых людей лепят на субботниках торфоперегнойные горшочки, понимая, что делают глупость несусветную, но вдохновенно все же рапортуют: «… миллион горшочков готов!» Вот в чем, Рашид, трагедия. Нет разума народа, есть разум одного. Ничего не изменилось после Сталина. Ничего!
— Страшно говоришь, Владлен-ага. Сел, выходит, на иноходца — не щадит отца. Одно не совсем понятно мне… У нас извечно говорили: «Народ правду говорит», «Народная молва могущественна». Выходит, кривдой живет народ. Здесь мы одно говорим, на партсобраниях или на митинге — другое. Куда делось могущество народного слова? Народной воли?
— Растеряли. Вместе с честнейшей частью народа растеряли. В гражданскую. В коллективизацию. В годы репрессий. В отечественную. И теперь теряем. Теперь, правда, не так. Теперь — на пенсию. Как Костюкова. Тысячи таких, Костюковых, честных и преданных делу, заточены в своих квартирах, а предавшие их, быстренько приспособились: вместо Сталина кричат Хрущев. И правят делами.
— Нет, не все подлецы…
— Естественно. Одного я знаю. Дружу с ним. Генерал Игнат Семенович Заваров. Повстречался я с ним в час нависшей над батареей смерти. Спас он батарею. Потом мы вместе оберегали переправу через Волгу. Не каждый час бой. Удавалось посидеть за чайком. Но дружбы у нас тогда не сложилось. Он во мне чуть ли не врага народа разглядел, когда я стал убеждать его, что ратная слава дореволюционной России достойна уважения и почитания, а пограничные войска охраняют границу по так называемому российскому варианту. Воспитан так был Заваров. Все, что до революции, все очень плохо, все негодно. Искренне верил, что только гений Сталина позволил нам выбиться из нищеты и сменить лапти на штиблеты. Побоялся я ему тогда сказать, что в словарях российских прежних веков вообще слово лапти не попадается, а массовой обувью лапти стали только после революции. Сейчас он сам это знает. Теперь он о многом судит реалистично, не как ортодокс. Приспособился? Нет. Обрел другую веру. Веру в правду. Искренне и твердо обрел. Я уверен, что Заваровых в стране нашей — сотни тысяч. Я уверен, что найдет наш народ силы и заявит о своем разуме. Когда? Не очень скоро. Быть может, не при нас. Но свершится. И горе тем, кто держит народ в хомуте и зашоренным. Я им не завидую.
— Вздохнет народ — жди бурю. А если едины будем, то и гору в порошок сотрем.
Помолчали. Да и говорить им оказалось вроде бы больше не о чем. Окончился, вроде бы, вечер воспоминаний. На очень грустной ноте. Лишь на будущее надежда. А сами они, выходит, не борцы. По мелочам только свою линию проводят, а в крупном — идут по воле воли. Как в том, только что родившемся анекдоте. Заполняет коммунист анкету. Там вопрос: «Колебался ли в поддержке генеральной линии партии…» К их позиции вполне бы подошел подобный ответ.
Выговорившись, сидели они молча. Не спешили в приготовленные им постели. Им было хорошо вместе. Даже сидеть молча.
Но разве свойственно человеку долгое молчание? Кокаскеров прервал молчание? Грустной и совсем неожиданной для Богусловского мыслью:
— А я не знаю, где мои фронтовые друзья. Встретить друга-солдата в доме, разве об этом не мечтает каждый фронтовик. А у меня так? Тех, с кем начинал войну, нет никого. Уцелело нас в бою всего ничего. Все в плен попали. Оттуда кто вернулся?! Это мне чудо помогло. Воловиков Иван, комиссар отряда, пропал куда-то. Как в тыл отправили раненого, так и — все. Акимыч, начтыла, недавно умер. Бывал у меня в гостях. И я у него. А Темник ни слова о себе. Страшно. Жизнь ему село спасло. Забыл что ли?
— Может, погиб. Вернулся на фронт и — погиб.
— Кто знает…
Скоро. Совсем скоро узнают они, что так Темника и не пустили на фронт, пытаясь какое-то время распознать, виновен ли тот в отравлении генерала Богусловского, но подозрения так и остались подозрениями, достоверных фактов не смогли собрать, документы нужные не попадались, а год за годом шел, острота событий сглаживалась, и в конце концов дело с пометкой «не раскрытое» списали в архив. Пошла потихонечку-помаленечку карьера военврача Темника. Не прытко, но и не так уж вяло. Темник уже возглавлял крупный военный госпиталь. Совсем недалеко. В Ферганской долине. Но если наши забыли о подозрительном прошлом Темника, и запись в анкете: «… командовал партизанским отрядом с… по…» приобрела великий авторитет, то там, за кордоном, он не исчез из картотеки фрица-щеголя, и теперь тот намеревался, уже служа другой разведке, заставить Темника работать на себя. Это было очень заманчиво, ибо начальник госпиталя располагал важнейшими сведениями о дислокации частей и подразделений солидного приграничного региона, а при старании он мог заполучить данные и о новом вооружении, о новой технике, об оборонной промышленности. Он вполне безопасно на многие годы мог бы стать надежным резидентом. К нему и пробивалось «окно» на границе. С помощью Мейиримбека.
Снова завязывался тугой узел, распутывая который, будут ломать головы многие люди и в первую очередь Богусловский с Кокаскеровым. Собственно, они уже начали его распутывать, хотя пока еще не представляли, с чего начать. Главная их забота пока что была элементарной: не дать узлу затянуться еще крепче. Завтрашняя поездка служила тоже этому главному делу.
Уже стояла глубокая ночь на дворе, пора соснуть хоть несколько часиков, но еще один вопрос хочет обговорить Владлен Михайлович с Рашидом Куловичем. Вернее, попытаться все же уговорить друга принять предложение бека и начать с ним игру. Выискивал Богусловский весь вечер удобный момент, но все он не удавался. А теперь уже ничего не оставалось делать, кроме того, как идти в лобовую атаку. Так и поступил.
— Рашид, твой отказ вступить в игру сильно повлияет на твою карьеру. Подожди, не гневись. Послушай. Ты остался в войсках по просьбе моей и Костюкова и сколь полезен оказался твой шаг. Согласись и теперь. Для пользы дела.
— Владлен-ага, когда говорит комитетчик, я его понимаю, когда взбрыкивает начальник политотдела, переросший майор, я его тоже понимаю, а тебя — нет! Тогда, когда вы просили, решал я сам, теперь решает мой отец. Кул решает.
Пойти против его воли я не могу. А карьера? Пойду подпаском к Кулу. Разве пасти скот не благородно?
— Уволить тебя не уволят, мы не дадим. А выше…
— Я отсюда никуда не собираюсь уезжать. Здесь я буду охранять границу. Здесь! И даю тебе, Владлен, слово: посланцы Мейиримбека не пройдут. Пока я жив. Даже если не восстановите Сары-Кизяк.
— Восстановим. Обязательно. А теперь хватит. Пошли спать. Всего ничего осталось до выезда.
И верно. Их разбудили на рассвете. Несколько минут на сборы и — в столовую. Перекусить на дорожку. В ней светло. Целых две семилинейные лампы. Во всей красе предстал старшина-сверхсрочник Богусловский. Ничем не отличишь от заведующего складами: пузцо на ремень прет, холеные полные руки, хоть и плотен еще, но уже пробивается пышная рыхловатость, не так заметная под кителем, но прорисовавшаяся в гимнастерке. Вот что делает с человеком форма. Рашид Кулович в голос расхохотался, разглядывая друга.
— О! Аллах, — скажет моя мать Гулистан, когда увидит тебя. Был, как архар, стал как…
Не уточнил, на кого похож генерал. С другом тоже нельзя нахальничать. Нельзя обижать. А смех от души не останавливал. Не перечил ему. Утихнув, закончил:
— Гулистан может даже не узнать…
— Узнает, — с любопытством оглядывая себя и не находя ничего смешного в своей одежде, ответил Богусловский. — Узнает.
Обязательно узнает. — Потом добавил. — Вот погоны не того. Старые на новой гимнастерке. Не бросится ли в глаза.
— Бросится. Но мы же в куртках поедем. А она, мне старшина показывал, в порядке. Все на уровне заношено.
Свежим и чистеньким выдалось утро. Солнце пряталось еще далеко за снежными пиками, а небо уже на востоке мягко розовело, донося эту розовость и в долину. Кони бодро рысили, настроение путников можно было бы назвать приподнятым (даже у Киприянова, который хотя еще и попахивал мазью Вишневского, но за луку почти уже не держался), если бы не цель поездки, невольно накладывающая отпечаток на чувства и мысли. Только у каждого они свои. Заметно отличные от других.
Для Киприянова было ясно, что поездка эта вызвана не столько оперативной обстановкой, сколько заботой начальника отряда о своих родителях, что, в общем-то, он признал вполне естественным, только не согласен был с формой заботы: заставу вернуть в первую очередь, держать круглосуточный наряд в пещере — не жирно ли? Взять к себе стариков, и — делу конец. Возмущало майора Киприянова и то, что Кокаскеров и генерал Богусловский, вместе раньше служившие, так ловко все повернули, а семейно-дружественные интересы упрятали под такой демагогической упаковкой из серьезных слов, что не сразу доберешься через нее до истинных побуждений.
«Ничего. Не на такого нарвались. Выведу на чистую воду…»
Рождались в голове Киприянова строчка за строчкой, которые дополнят письмо неотразимой убедительностью и достоверностью фактов. А их-то он еще подсоберет в этой поездке. Разговорятся после кумыса. Прорвется истина.
С желанием, короче говоря, ехал в юрту Кула Киприянов. С большим желанием. И радовался резвому аллюру.
У Кокаскерова думы тягучие. Он по линии границы переваливает от хребта к хребту, пытаясь представить, где все же проходит тропа. Ему, начальнику отряда, сыну Кула и Гулистан, обязательно ее надо узнать. Иначе — слепота. И беспомощность. Удручает его, что не он хозяин положения, а тот, задержанный, и еще, закордонный дядюшка. Он, бек, кошка, а роль мышки отведена ему, Кокаскерову. Полковнику советских пограничных войск. Очень ему неприятна эта роль. Может, поездка внесет хоть малое изменение, даст больше уверенности.
Он так был поглощен этими мыслями, что не замечал, что они больше рысят, чем шагают. А это утомляет коней.
Темп задавал Богусловский. Хоть и в старшинских погонах, но ехал впереди. На полголовы опережал начальника отряда. Не упрячешь переодеванием привычки диктовать во всем ритм и темп. Неосознанно все это уже выходило, само собой. Сегодня, правда, действия его исходили из заботы о Кокаскерове. Генерал Богусловский хорошо понял сложность как семейную, так и служебную, в какой оказался друг, и искренне хотел ему помочь. Поездке этой он придавал серьезное значение, ибо считал, что сможет убедить Кула, чтобы разрешил тот сыну завязаться с закордонным дядей. Предвкушал, вместе с тем, Богусловский и радость встречи с почтительным и гостеприимным семейством. Он даже видел, как Гулистан, прижав правую руку к сердцу, подает ему пиалу подрумяненного каймака, так когда-то им любимого.
Снова взмах рукой, и кони идут размашистой рысью. Весело идут, просят поводья на галоп. Разрешить бы им, понеслись бы вихрем по беспечной ровнине, чтоб дух захватило, но нельзя, путь не близок, силы коней надлежит сохранять. Такова кавалерийская доля. Не все по охоте своей делать дозволено.
Без всяких происшествий осилили пограничники немеренные километры, осмотрев (оком большого начальства) попутно Сары-Кизяк, и вот уже стан Кула. Все тут, как у обычных пастухов, прикочевавших на летнюю пастьбу, но только основательней, не временно, ибо не летовка это, а на круглый год жилье. На многие годы. На те, как говаривал Кул, какие Аллах отпустил.
Кул встретил и сына, и, особенно, Богусловского радостно, но без удивления. Раз приехал, значит, нужно. Раз переоделся Владлен-ага, значит, тоже нужно. А Гулистан всех развеселила. Увидев Богусловского, всплеснула руками:
— О?! Аллах?! Сын говорит: ты, ага, начальник большой? Генерал? Кокаскер такой одежда, тебе такой одежда? Тебя прогонял, да?!
— Нет, Гулистан-апа, — улыбаясь и поясно кланяясь совсем уже постаревшей женщине, но все такой же топольно-стройной, отвечал генерал Богусловский: — Служу я, Гулистан-апа. Все в порядке. Прилетел вот на Алай, как же вас, родных мне людей, не проведать.
Жагара чик, — ответно кланяясь, пригласила Гулистан Богусловского на почетное место, на шкурку жеребчика. — Сейчас кумыс пей. Потом — каймак. Пока бешбармак поспеет.
Да, вступило в силу восточное гостеприимство со всеми своими ритуалами, и тут спешишь ты или нет в пещеру и в долину, делать нечего, обидеть хозяев не смей. От кровной обиды за попрание законов гостеприимства даже многолетняя дружба не убережет.
Разговаривали в основном Гулистан и Владлен Михайлович. Вернее, она спрашивала, с женской дотошностью, о жене, о сыне, о квартире, о здоровье, а Богусловский отвечал. Как можно подробней. Чтобы довольна осталась уважаемая хозяйка юрты. Только на один вопрос он не мог ответить вразумительно: отчего у них всего один сын.
— Мне Аллах не дает детей. Как шариат велит не сделала. Твоя, Владлен-ага, жена почему не дает тебе счастья сыновей? Больная?
— Нет. Здоровая.
— Тогда… совсем не понимай моя.
— Городские семьи, Гулистан-апа, по другим правилам живут…
— Уймись, Кыз-бала, — не сердито, но настойчиво остановил жену Кул. — Не приставай. Если им не нужны дети, значит, они им не нужны. Ты думаешь у них на плечах не голова, а тыква, — потом обратился к мужчинам: — Наверное, не только кумыс пить приехали?
— Да дорогой Кул. Ты, как всегда, проницателен, — ответил Богусловский. — Приехали мы за помощью. Тропу надо узнать. Где она?
— Думаю, знаю я ее. Пошли покажу. Кумыс потом будем пить. Каймак кушаешь, сразу пойдем.
Хозяину позволительно прервать трапезу. В его власти инициативно пойти навстречу пожеланиям гостей.
Когда они подходили к пещере, Кул показал рукой влево от нее:
— Вон, гляди, ага. Как седло. Там дорога с Алай-Памира. Вон, теперь гляди там. Тоже седло. Там вниз тоже ходить можно. Из пещеры и туда. Никто не видит. Самый удобный место. Удобней нет. Я тут видел след. Давно видел. Один след. Много людей не знает эту тропу. Один знает. Два знает. Пока я там жил, не ходили. Тогда нас, думаю, не убили, что не сказал тот, ходивший, про нас. Не хотел свою тропу открывать.
Вот она логика знающего жизнь человека. Все на своих местах. Точнее не проанализируешь. Кул все разжевал и положил в рот. Можно дальше не ходить. Все ясно. Принимай такое же логически обоснованное решение. Так оценили услышанное Богусловский с Кокаскеровым, но совсем по-иному воспринял Киприянов: «В одну дуду дует. Небось, перетрусил. Ишь, как ловко: тропа здесь, значит, охраняй это место. Ничего, меня в эту игру не втянете!..»
По самому краю берега весело щебечущей речушки, вытекавшей, казалось, прямо из скалы, протиснулись Кул и офицеры в довольно просторный грот, туго наполненный шумом бегущей воды, резонансно усиленный. Сыро и сумрачно. Лишь через малое время глаза, попривыкнув, начинают видеть гранитный свод, острозубый, влажно-хмурый, с несколькими, поодаль друг от друга, гирляндами летучих мышей, то мертвецки неподвижными, то вдруг начинающими шевелиться, набухать от множества взмахивающихся крыльев — жутко стало от таких молчаливых гирляндовых волнений, будто вздыхающих полной грудью от неведомо давящей грусти.
Молчат все. Долго молчат. Потом Кул сообщает:
— Вот здесь юрту ставил я.
Из той кошмы, что прикрывала домашний очаг от ветра. Какая из такого лоскута юрта? Так, закуток. И жил в том закутке под дышащими гирляндами в сырости и в монотонном, утомляющем шуме Кул с семьей пока не нашел выход в упрятанную меж хребтов долинку, не вдруг рискнув пойти туда, куда улетели на ночь глядя летучие мыши и где оказалась узкая, едва проходимая щель.
Туда, к той щели, и повел гостей Кул, уверенно, но осторожно шагая по неровному мокрому граниту.
И Богусловский, и, особенно, Кокаскеров хаживали здесь прежде. Оба они вспоминали первый свой приход сюда, после фронтовых лет. Кул предусмотрительно пояснял им, как ставить ногу, чтобы не скользить и не падать, советовал прижиматься к стенке, чтобы удержаться, если поскользнешься — короче говоря, вел себя, словно заботливый проводник; а сегодня отчего-то помалкивал, никаких советов Киприянову не давал, хотя не мог не знать, что тот в грот вошел впервые.
«Не принял, — думал Кокаскеров. — Совсем не принял…»
Киприянов поскользнулся, вскинул руки, попытался схватиться за гранитную стенку, но выступа подручного не попалось, и он не устоял на ногах. Кул, услышав падение, остановился и повелел сыну:
— Помоги.
Кокаскеров подал руку майору и посоветовал:
— Приноравливайся к моим шагам. К стенке плотней. Плечом чувствуй ее. Без поддержки не устоять.
Блеснул впереди свет. Потянуло снежной свежестью. Еще несколько минут скользкого пути, и путники выбрались на вольную волю.
И тут случилось везение. Вспугнутые людьми две пары теков, дюжина архаров кинулись врассыпную вверх по противоположному от пещеры склону, а ближе к хребту выстроились в цепочку. Хребет перевалили по едва заметной седловинке. Первыми — теки, за ними — архары. Не обгоняя друг друга ни справа, ни слева.
— Где тек шел, человек тоже идет, — сказал Кул, проводив взглядом последнего архара. — Там тропа.
Что ж, видимо, Кул прав. Ловко все сложилось, — они вышли в долину как раз тогда, когда сюда спустились пастись дикие животные. Можно теперь с уверенностью сказать, что начало тропы засечено.
— Завтра пошлю сюда усиленный наряд. Во главе с офицером. Пусть ищут тропу. Привыкли: непроходим участок. Вот тебе и непроходим! — серчая, передразнил Кокаскеров неведомо кого, всех, видимо, пограничников отряда и себя тоже. Ибо и он считал этот участок гор совершенно непроходимым не только потому, что так уверяли местные жители, но, главное, потому, что здесь ни разу еще никого не задерживали.
— Снарядить нужно, как следует, — предупредил Богусловский. — Из местных привлеките. Горцев.
— Я пойду, — живо отозвался Кул. — Медленно пойду, смотреть хорошо посмотрю. Есть если тропа, найду. Это говорю я, Кул!
— Что ж, на том и порешим. Завтра вызываем комиссара на встречу и передаем нарушителя.
Не так, правда, вышло. Не по намеченному. На встречу погранкомиссар согласился, но заявил, что он не знает ни о каком уходе за границу никого из кишлачных жителей, и просил несколько дней, чтобы выяснить, кто посмел бежать из своей страны. Так и сказал: «Из своей».
— Ну, мудрец, — прокомментировал ответ Богусловский. — Наверняка все знает. Делать, однако же, нечего. Будем ждать.
Трое суток пришлось ожидать встречи. Вернулся посланный через пещеру пограничный наряд. Провел до линии границы, а обратно спустился к Сары-Кизяку. Трудно шли. Попадали в мешки, возвращались на свой след, вновь выходили к непролазным ущельям, вновь повторяли все сначала, и упрямый поиск привел к успеху. Генерал Богусловский, выслушав подробный доклад, покачал головой:
— Еще казакам надлежало пройтись по тем горам, но… Как оно бывает: прилепится если что, то — навечно. Никто отодрать не осмеливается. И мы с тобой, Рашид Кулович, тоже хороши: раз непроходимо, значит, — непроходимо. Чужими оценками жили.
' — Да, слышавший неровня видевшему, — согласился Кокаскеров. — Теперь одна задача: вернуть к жизни Сары-Кизяк.
Нарушителю о том, что узнана тропа, решили не говорить. Так и повезли его, недоумевающего, рассказал или нет Кокаскеров кому-нибудь о предложении Мейиримбека, к месту передачи. Никто из старших офицеров не поехал на Крепостную, возле которой на уходившей за кордон дороге всегда встречались погранкомиссары. Поручили вернуть нарушителя заместителю начальника заставы, запретив ему вступать в какие-либо переговоры с представителями сопредельной погранстражи.
Но даже такой уровень был излишним. Нарушителя приняли рядовые жандармы. Один другого свирепее. Амбалы. Мордовороты. Схватил один из них Абдумейирима, оттащил всего метров на двадцать от границы и налетели на него все скопом. Били без тени жалости. Смачно били. С наслаждением.
— Вот как надо охранять границу! — воскликнул лейтенант Абрамов. — Этот ни в жизнь больше к нам не сунется…
Поспешный и поверхностный вывод. На таких вот, как лейтенант Абрамов, и рассчитана экзекуция. Не забьют до смерти посланца Мейиримбека, натешатся вдоволь и бросят до ночи: глядите, как мы с беженцами расправляемся. Но глубинная суть этого битья не только в том, чтобы пустить пыль в глаза пограничникам. Важно еще и другое: еще послушней станет раб после того, как посмотрит смерти в глаза. Еще сговорчивей будет. А это очень нужно было Мейиримбеку.
Удачна или нет была ходка его посланца, бека ничто не связывало по рукам. Он без колебаний распорядился:
— Избить до полусмерти. Ночью доставить мне.
У него имелся и такой план операции, который предполагал возможность отказа Кокаскерова от заманчивого, как виделось самому Мейиримбеку, предложения. Упрямы советские кокаскеры. Он знал это. Не поймешь их. Своей выгоды не видят. И это, как назидали ему гости-европейцы, обязательно нужно учитывать. Вот и отводил в том плане Мейиримбек своему рабу коварную роль.
Глава пятая
В начале их было всего с дюжину. Джинсовых мальчиков. Оболваненных под нулевку. У каждого увесистый баул со снедью и питьем. Баулы яркие, под кожу. В тон таким же броским, с заклепками, широким ремням. Мало чем парни отличались друг от друга, одетые по той моде, которая только-только начинала входить и которая стоила немалых денег и была, естественно, по карману лишь семьям, имеющим солидные бюджеты. Не разнились парни и по росту, и по конституции. Что-то неуловимо девическое пробивалось сквозь нарочитую грубость, резкость манер. Неженки. Физические и нравственные неженки. Только двое разнились и меж собой, и с остальными — Иван Богусловский и Сильвестр Лодочников. Человек, не видевший Сильвестра после вечернего шашлыка на даче родителей, никак не признал бы его. Ничего у юноши не осталось от бабской полноватой холености. Атлет. Ноги, в тугих джинсах, бугрились мускулами, грудь широкая, налитая силой, да и весь он был как бы переполнен молодецкой силушкой немереной, она прорывалась в каждом его движении, в каждом жесте, что давало ему естественное право, как это обычно складывается в отношениях между молодыми людьми, смотреть на хлюпиков надменно, а говорить с ними властно, непререкаемо, присваивая себе лидерство.
Впрочем, верховенство это подтвердили еще в военкомате, выделив его из всей группы призывников и назначив старшим команды.
Иван выделялся другим — сосредоточенностью, молчаливостью. Он словно вглядывался в новых своих товарищей, изучал их, определяя, надежны ли они. Он словно осмысливал за всех, и за себя тоже, новое их жизненное положение. Еще и одеждой он разнился. Джинсы, не измученные хлоркой, а естественным образом поношенные, перехвачены были офицерским кожаным ремнем, не потертым наждачной бумагой и не украшенным блестящими кнопками — естественно все было на нем, как и сам он, естественный, хорошо развитый юноша, знающий, что он и сильный, и ловкий, но не выплескивающий эти свои качества напоказ. Одно лишь портило его мужскую гармонию — пухлые щеки. От матери они у него. Не очень они вязались с задумчивыми пытливыми глазами, доставшимися, как уверяли родные, от прадедушки.
Сильвестр по-хозяйски оглядел пустой вагон и изрек покровительственно:
— Обживем два средних купе. Считаю, нам, москвичам, держаться нужно вместе. Крепко держаться, — прошелся по вагону от туалета до туалета и остановился у облюбованных отсеков: — Вот этот наш. Вот этот. И этот. — Бросил баул на среднюю полку и к Ивану — А ты давай сюда. Рядом.
— Хорошо, — согласился Иван Богусловский.
Пока еще не покоробило это командное «Рядом», словно брошенное овчарке. Он тоже увидел в Сильвестре эталон парня и признал его превосходство.
В пустопорожнем вагоне они перевалили Волгу, и только после этого втиснулась к ним ватага призывников, под командой молоденького лейтенанта, который тут же начал формировать отделения, определяя каждому из них двухкупейные границы. Хотел он перетасовать москвичей, но Сильвестр мягко, но упрямо отбился:
— Мне в военкомате, товарищ лейтенант, не приказывали переходить в ваше распоряжение. Я могу войти к вам в оперативное подчинение, сохранив вверенных мне призывников под своей командой…
Удивленно оглядел лейтенант-мальчишка, явно проигрывавший в уверенности держаться Сильвестру, поразмыслил, отчего так близок к военному язык новобранца, и, предположив, что он из семьи заслуженного служаки, оттого так независим, решил, чтобы не попасть впросак, отступиться. Более того, определил взять его в помощники. Увидел в этом даже свою выгоду: не ехать же ему, офицеру, в вагоне, набитом до отказа подчиненными, когда у него билет в купейный. Проведывать можно на каждой остановке. Вполне достаточно. А вот этот — пусть здесь порядок поддерживает.
— Как ваша фамилия?
— Лодочников, товарищ лейтенант. Сильвестр Лодочников.
— Назначаю вас, товарищ Лодочников, своим заместителем. Ваша группа остается на своих местах. Помогите распределить остальных.
Величайшую ошибку сделал лейтенант в скрипучих новеньких сапогах и в сверкающем заводской свежестью ремне. Он своей уступчивостью подтвердил слова Трофима Юрьевича, что в армии тоже можно не подчиняться приказу, а настаивать на своем, в чем Сильвестр очень сомневался.
«Выходит, прав кащей, — торжествовал Сильвестр. — Смелей новобранец Лодочников, дави на лейтенанта!»
Только, что поделаешь, если не научили лейтенанта Чмыхова ни жизнь, ни училище распознавать людей сразу, а ситуацией владеть без робости. Из села он. Отец — механизатор, мать — доярка. Вечно они под пятой бригадира, председателя, уполномоченного из района, а то и из области. Вот так же вели себя те, имеющие власть, как призывник Лодочников. На родителей глядя, привык и он подчиняться всем, кто на верхнем насесте. Знал он свой шесток. С самого детства знал, и хотя стал он офицером, обрел право командовать, упивался этим правом, гордился им, но душу крепостного не осилил. Не улетучилась робость перед напористостью с получением погон, да и улетучится ли вовсе, без следа, никто этого с уверенностью определить не может.
Спасовав перед одним, лейтенант тешил свое начальственное самолюбие (знай наших) на других. Не позволял ни малейшего пререкания. Просят его:
— Нам бы вместе. Мы за одной партой сидели…
— Армия, брат, не маменькина юбка. В какие отделения назначены, там и ехать. Менять своих распоряжений я не намерен.
Неприступен. Непреклонен. Сама власть. Отмахнулся еще от двух-трех просьб, ради командирского, как он считал, авторитета, а когда всех рассовал по полкам, бросил небрежно Сильвестру:
— Я — в восьмом. В купированном. Купе — пятое. Если возникнут вопросы, в любое время.
Ему очень нравилось, что он едет в вагоне классом выше и что волен оставаться здесь, либо перейти туда, в общество офицеров, старших и по возрасту, и по званию, и быть с ними равным — он сейчас, не отдавая себе в том отчета, вел себя как те районные представители, выбившиеся, как правило, из крестьян, упивающиеся властью и тем, что допущены к общению с более привилегированными. На одну жердочку повыше забрались в курятнике, на нижних теперь можно поглядывать свысока, а при желании даже и обгадить.
Он поспешил из вагона, провожаемый Сильвестром, который едва упрятывал в себе смех. Особенно трудно пришлось Лодочникову, когда лейтенант бросил:
— Меня ждут в купе.
Но зря смеялся Сильвестр. Лейтенанта действительно ждали. Четвертым. В преферанс. И когда он отодвинул дверь, тут же последовал вопрос:
— Ты где пропадал? Вещи бросил, а сам? Не отстал ли, думаем.
— Никак нет. У меня, — сделав ударение на «у меня», оправдался лейтенант, — полный вагон подчиненных.
— Призывники? Это — пустое. Дезертиров теперь нет, а присяги они еще не принимали, уставов не знают, пусть последние деньки повольничают. А мы тем временем распишем… Как, лейтенант, не против пульки?
— Я фактически…
— Вот и хорошо. Только прежде сбегай в ресторан. Вот тебе, — добряк в полосатой пижаме прихлопнул четвертной на столик. — Коньячок там, шампанское…
— У меня…
— Что у тебя? У тебя лейтенантские гроши. Кстати, ты не представился.
— Лейтенант Чмыхов. Петр Владимирович.
— Петя, стало быть. Ну, беги-беги.
Лейтенант Чмыхов никогда прежде не играл в преферанс, но через часок-другой освоился, заиграл задиристо, набавляя и набавляя проигрыш; он уже несколько раз по просьбе капитанов: «Сбегай, Петушок», приносил из ресторана то коньяк, то шампанское, сутки уже заканчивали свой бег, от дыма и винного запаха в купе хоть топор вешай, только не до всякой подобной мелочи игрокам, они так были увлечены, что если бы не проводник, проехал бы свою остановку один из капитанов, чей путь оканчивался на небольшом полустанке.
Лихорадочные сборы. Выигрыш свой отбывающий к месту службы капитан пожертвовал Пете Чмыхову, жалея, как он пояснил свой жест, тощий лейтенантский карман, над которым нависла серьезная угроза совсем опорожниться. Петр Чмыхов благодарно пожал руку капитану, чуть не уронив слезу, оставшихся это развеселило. Потек поток острословия. А насмеявшись, открыли они окно, ибо почувствовали вдруг спертость воздуха.
Увы, купе еще не успело проветриться, как в нем появился новый пассажир: богообразный старикашка с маленьким саквояжиком, таким же потертым, как и сам хозяин.
— Эт-те-те-те… Вонища. Что в твоем курном заводе.
— Увлеклись, дедушка, малость.
— Карты — штука пагубная. Особливо для вступающих в жизнь.
И повел, повел атаку. Вначале отчитал старших за то, что втянули лейтенанта в богопротивное дело, затем начал выпытывать, без обиняков, словно ему дано на то полное право, кто такие его новые спутники, откуда и куда едут, а у Чмыхова попытал даже и родословную. Вызнав все до мелочей, пыл воспитательный свой нацелил на него.
— Давай, мил лейтенант, все по полочкам и сусекам… Говоришь, из крестьян? Заботливости о живности, стало быть, с материнской титьки приучен. А тут у тебя на руках не телятки, курочки да овечки — молодцы юные тебе дадены для догляду. Что ж ты их, мил лейтенант, бросил, страсти распаляющей игрой занялся. Сыты ли твои подопечные, аль нет, тебе не ведомо…
— У них на целую неделю в рюкзаках снеди, — заступился за лейтенанта один из капитанов. — И не без денег, к тому же они. Вышел на остановке, что нужно купил.
— Эка, батенька, купил?! — возвысил голос старичок, но продолжал буравить белесыми глазками Петра Чмыхова. — Нету того времени, когда купи было. Запрет вышел. Никто не смей на станцию съестное нести. Шаром покати. Только в ресторанах щи ополосные, котлетки из хлеба, мясом припорошенные для запаха, да водки вволю. В гарнизонах-то запершись, много ли ведаете, а в люди удалось вырваться, в карты носы! Эка, мил лейтенант, что нужно купил! Ты как, сеном попревшим живность домашнюю свою кормил? То-то. Кому что Богом определено. И человека не долженствует под нулевку стричь. Ты бы, мил лейтенант, о себе вперед слух пустил, чтобы, значит, встречали в ресторанах новобранцев не полуторастограммами, а мяском жареным.
— Ну, батя, маниловщина какая-то, — с усмешкой протянул один из капитанов. — Чтобы мясо жарить, надо это мясо иметь. Сверх нормы его не дадут.
— Дадут! — сердито отмахнулся старикашка. — Коль настоишь, все дадут! — и снова к лейтенанту Чмыхову: — На второй полочке давай, мил лейтенант, по полочкам рассуем. Говоришь, политработник ты? Я так понимаю, вроде за попа, получается? Над душами властвуешь. А ты, мил лейтенант, хоть одному в душу заглянул? То-то. По сей день помню, как меня, рекрута, в полк везли. В теплушке. Кто с буржуйкой рядышком, тому сносно, а кто крайний, тот не запамятует, какова штука — теплушка. Только поп не давал воли даже мысленно смутьянству. Как остановка — на молитву. Весь состав. После молитвы, проповедь. Не теперешним лекциям чета. За душу брали. И смиряли: все, что есть, — все от Бога, потому и терпи. А ты, мил лейтенант, хоть бы по-теперешнему с людьми слово молвил. А то оно как бывает: где Богова нету, там бесово властвует.
Казалось, старикашка угадал наличие среди новобранцев Сильвестра, который властвовал в вагоне. Да как властвовал! Посмотрел бы трезво лейтенант Чмыхов со стороны, позавидовал бы. Очень позавидовал бы.
Подсел перво-наперво Сильвестр к одному из тех, кто просил лейтенанта не разлучать их с другом, и участливо так спросил:
— Что ж ты, милый мой, нос повесил, низко голову опустил?
Еще когда лейтенант не уважил просьбу этого парня, заметил Сильвестр, как налилось багровостью лицо его, как набычился он. Тогда и закралась мысль сделать друзей-приятелей толкачами тех идей, какие поручены ему Трофимом Юрьевичем. Все, как надо: силенкой природа не обидела, а умом пожадничала. К тому же, похоже, эти два дружка диктовали на селе моду. Даже лейтенанту готов был перечить обиженный. Едва сдержался. Привык, что все делалось, как им хотелось.
— Отлипни! После драки кулаки, чай, не сжимают. Пользы ни на грош.
— И-и, каков? Давай знакомиться. Я — Сильвестр Лодочников.
— Скарзов моя фамилия. Прокоп.
— Так вот, Прокопий, похоже, смышленый ты парень, а простоты не уловил: лейтенант в армии царь и бог. Архангелы же его — старшина и сержанты. До полковников, Прокопий, нам с тобой с нуждой нашей не дотянуться, — и вновь сменил назидательность на учтивость, приправленную шутливостью: — За одной партой, говоришь, сидели? Камчатка? Неуд по поведению один на двоих?
— Трактор потом у нас один был…
— Это — аргумент весомый. А деваха не одна ли?
— Чай, бывает такое? Своя у Мишки у Охлябина. Чай, моей не хужее. Потощее только.
— Чай, говоришь? Какой, индийский или грузинский?
Насупился низкий лоб, короткие волосы торчком торчат над морщинами лобными, а глаза, глубокие, маленькие, сверлом сверлят, гневом дышат. Ну, прямо клад для Лодочникова, если удастся приручить. И надумал враз с чего начать.
— Ну, вот что, на шутки обижаться хуже всего, я с добром к тебе, а ты… Сгребай свои пожитки и пошли, объединяю я тебя и Михайлу. Да-да, не пяль глаза. Будете в одном отделении. И в дороге, и на учебном. А там, глядишь, на одну заставу угодите. Лейтенанта я возьму на себя. Я же его заместитель.
— Век не забудем благодетельства!
— Век?! Очень много. Пару годиков достаточно. А для начала вот что, давайте составим списки отделений, в помощь вам по одному москвичу, для грамотности, и — вперед.
Пока не окончилась придуманная Сильвестром процедура никто не имел права начать трапезу, хотя многие порывались остограммиться. Сильвестр просил мягко, а если кто пытался проявлять характер, предупреждал:
— Не советую! Я сам не справлюсь, Прокопия с Михайлом позову. Запомните: право командира — приказывать, его обязанность — добиваться выполнения своего приказа. Вплоть до применения силы. И еще запомните: командир всегда прав.
— Какой же ты командир? — попытался кто-то оспорить права Сильвестра. — Такой же салага…
— Но-но! Раз лейтенант за себя оставил, я только ему подотчетен. Пошалите мне!
Решительный стоял. Гневный. Поигрывал налитыми мускулами рук. Готовый на все. Повысив голос, чтобы весь вагон услышал, предупредил:
— Люди, нишкни! Я каратэ и самбо занимался! Скручу любого. Беспорядков не допущу, — и вроде бы извиняясь за угрозу, оправдался: — Не хочу краснеть перед лейтенантом. Не желаю ярлыка несправившегося. Всем ясно?!
Прокоп с Михайлом рядом встали. Грозные, решительные. Враз голову свернут, вступившись за благодетеля. Да и москвичи не дадут своего в обиду. Нет, не только лейтенантский приказ на стороне Сильвестра, но и реальная сила. А плетью, как известно, обуха не перешибешь. Попрятали бутылки.
— Из вагона без моего разрешения — ни шагу! Ясно?!
Куда уж ясней. Взял в ежовы рукавицы. Пикнуть теперь, похоже, не даст.
Утихомирив вагон, Сильвестр принялся внимательно изучать списки. Где кто жил и учился, где работал, кто родители. Мотал на ус. Все пригодится. Но чтобы скрыть истинную причину заинтересованности, придрался к пустячным помаркам и ошибкам, заставляя подправлять огрехи. Потом нашел парня с хорошим почерком, посадил его для переписки списка для лейтенанта. Наказал стараться. И лишь после этого объявил:
— Доставай снедь.
Дождавшись, когда пир наберет силу, Сильвестр стал переходить из купе в купе, ему сразу же уступали место у столика, наливали в стакан, пододвигали самые вкусные закуски, он чекался со всеми, сразу же подстраивался под настроение в отсеке, вмиг становился своим, доступным, равным; и так получалось, что даже глотка он не сделает, не съест ничего, а только выспросит все, что заинтересовало его при чтении списков; но никто не останется в обиде, когда Сильвестр объявит:
— В следующее купе пойду. Командиру всех надо знать. Со всеми познакомиться.
Гудел вагон до полуночи. Затем захрапел. А к тому времени, когда лейтенанта взял в оборот старикашка, призывники, опохмелившись, весело играли в карты. Все больше в подкидного. Ничего бесового на первый взгляд тут не было. Старикашка зря умничал. Никому из призывников лейтенант не нужен. Появись он сейчас в вагоне, никто ухом не поведет.
Увы, совесть заела молодого офицера. Действительно, совсем о призывниках забыл. Идти нужно к ним. Немедленно. Встал решительно, начал застегивать китель.
— Неужто к подопечным намерились? — улыбчиво спросил старикашка, обрадованный, что дошли его речи до сознания мальца-лейтенанта, не испорчен еще, значит. — Похвально, конечно, только в таком виде…
— В каком? — оглядев себя и не найдя изъяна в форме, удивился Чмыхов.
— Вы же, извините, выпимши. Пагубность, мил лейтенант, подобного примера.
— Как гвоздь он, — вмешался один из капитанов и подал Петру Чмыхову лавровый листок, запасец коих хранился у него в кармане. — Зажуй.
Гвоздь, правда, покачивался, но — не он в том виноват, а неровности рельсовые, продукт небрежной работы путевых строителей.
Смело вышагал Чмыхов из купе, постоял, соображая, в какую сторону его путь, и, уяснив, наконец, пошагал решительно, хватаясь за стенки лишь тогда, когда вагон особенно сильно встряхивало на рельсах. Шел и воображал себе встречу с подчиненными. Радостную. С вопросами о том, что за место, куда их везут. И уже сейчас, загодя, чувствовал себя неуютно, ибо ничего не знал ни об Оше, через который лежал их путь, ни об Алае, ни вообще о Памире. Прибыл в часть, прожил в приезжей меньше недели, отсыпаясь за прошлые экзаменационные недосыпы и впрок, за будущие, служебные, ни одной книжки не прочитал, ни с одним из офицеров-старожилов не поговорил с любознательностью. Куда, считал, спешить. Успеется. Теперь же Чмыхов ту леность свою осуждал и думал хмельной головой, шумевшей беспрестанно, словно роилась в ней пчелиная семья, как выпутаться, что и как отвечать любознательным подчиненным. А что вопросы будут, он был уверен. Из своего опыта исходил. Когда их везли служить, они своего старшего лейтенанта ухайдакали вопросами.
Увы, вагон не оживился с приходом лейтенанта Чмыхова, не окружил своего командира, не начал «оживленно вопрошать» — вагон сосредоточенно молчал, иногда лишь взрываясь хохотом в каком-либо купе, тут же утихавшем; Чмыхов, оскорбленный, принял гордый командирский вид и начал шествие-осмотр купе-отсеков и то, с чем столкнулся с первых до середины, московских, удивило и обидело его окончательно: призывники резались в подкидного самозабвенно, и когда он с ними здоровался, они отвечали разнобойно и неохотно, словно досадуя на вдруг возникшую помеху их увлеченности. Мимоходом вроде бы отвечали на его, командирское, приветствие. И только москвичи оторвались от игры, встали, а Сильвестр даже доложил:
— Пьянок и драк не отмечено. Самовольных выходов из вагона не было, вот списки новобранцев. По отделениям. Как вы распределили, — Сильвестр подал листки почтовой бумаги, вложенные в целлофановые корочки. Аккуратно все, элегантно. И жест хозяйски-добродушный, тоже элегантный: — Прошу, присаживайтесь.
— Спасибо. Я изучу списки у себя в купе. Сейчас хочу окончить осмотр личного состава. Прошу и вас, товарищ Лодочников, со мной.
Он не хотел в присутствии подчиненных высказывать назначенному им же самим заместителю обиду на равнодушную встречу его, командира. В тамбуре, один на один, он выскажет ему все и прикажет, чтобы выставлен был дневальный и чтобы тот подавал команду в следующие его приходы. Или не командир он, лейтенант?!
Дальше, правда, все пошло по-иному. В утеху командирскому самолюбию, Сильвестр каждому купе командовал: «Встать! Смирно!» — все дружно и, как казалось лейтенанту, радостно с ним здоровались, а где заметен был явный разнобой, Лодочников обещал многозначительно не то лейтенанту, не то призывникам:
— Что ж, будем тренироваться.
Разговор поэтому в тамбуре пошел в ином русле. Лейтенант спросил:
— Как вы думаете, игра в карты так ли интеллектуальна?
— Помилуйте, товарищ лейтенант, чем же иным заниматься? Не уверен, что и в вашем купе обошлось без карт.
— Как чем? — словно не слыша второй фразы Сильвестра, воскликнул Чмыхов. — Вечер вопросов и ответов. Разве нельзя провести?
— Можно. Я знаю Памир. Я прочту лекцию, но это — всего два часа.
А дальше?
— Концерт самодеятельности можно провести. Поищите таланты. Я постараюсь выкроить время и прийти на концерт. Когда доложите о готовности. Турнир можно шахматно-шашечный. Да мало ли что можно при инициативе с низов. Весело, чтоб и культурно.
— Подумаем, — пообещал Сильвестр, пряча ухмылку в устах. — Посоветуемся.
Еще раз прошли, по вагону, задерживаясь на малое время в каждом купе, после чего лейтенант Чмыхов вознамерился вернуться в свой вагон. Распорядился:
— Значит так: всколыхните народ, оторвите его от карт. Больше инициативы и находчивости. Если что, я у себя. Докладывайте в любое время.
— Ясно, — согласно кивнул Сильвестр. — Все будет в исправности.
И только когда закрылась за лейтенантом Чмыховым тамбурная дверь, Лодочников позволил себе на какой-то миг расслабиться. Правда, не полностью. Ему хотелось хохотать во весь голос, а он лишь ухмылялся презрительно, холя в себе чувство явного превосходства.
Вернулся на свое место, где ждала его прервавшаяся игра, плюхнулся на жесткую, вытертую до костяной гладкости лавку и протянул неопределенно:
— Да-а-а!
А после приличной паузы, когда уже разобрался в картах, ему сданных, начал с улыбкой:
— Слышал я как-то по радио интервью с курсантом какого-то, запамятовал название, училища. На последнем курсе. Всему, говорит, меня в училище научили: стрелять, бегать, на турнике солнце крутить… Но, говорит, культурного воспитания маловато. И на вопрос корреспондента: «Что вы имеете в виду?» — начал излагать: учили бы на гитаре, на мандолине, хор хотя бы создали. А самое главное, сетовал, что бальным танцам не обученным остался. Говорит, хорошо бы в отдаленном гарнизоне звучала музыка и пары кружились. Офицеры же мы, толкует, как-никак, не буги-вуги же нам крутить. Нет, если ты с телятами вырос, бальные танцы тебе не помогут. И мандолина тоже.
Неловкость какая-то почувствовалась среди парней. Все поняли, в кого метил Сильвестр, рассказывая о, якобы, услышанном прежде, только никто не одернул самоуверенного наглеца. Даже Иван Богусловский, которого возмутила сильвестровская сентенция, не возразил резко, а вроде бы успокоил:
— Ничего. Наберет еще силы лейтенант. Любо-дорого на него будет смотреть.
Мысли же были иными, осуждающими. Не то, где и как рос человек, а главное, каким он вырос: лентяй или трудяга, циник и нигилист или патриот, уважающий только себя или чувствующий боль других. А воспитанность — дело наживное. Конечно, заложенное в семье — это навсегда. Но если тебе заложили, если у тебя есть, не ерничай, не носи себя поверх остальных, а отдавай, что тебе Богом дано. Не твоя же в том заслуга, а предков твоих. Чего кичиться…
Вполне можно было высказать все это Сильвестру, но Иван не считал, что может взять на себя функции воспитывающего. Морального права, считал, нет. Равные они с Сильвестром.
Разве думал Иван Богусловский, что каждый шаг Сильвестра Лодочникова рассчитан, каждый поступок имеет цель, каждое слово служит тому делу, какое поручил ему Трофим Юрьевич делать во все дни службы в пограничных войсках. Ни теперь он этого не предполагает, не позже не поймет, хотя очень сильно от этого пострадает.
Не думал об этом и лейтенант. Чувствовал он себя гадко и стесненно, понимая, что происходит все как-то не так, как нужно бы, но что не так, осмыслить не мог. И не только потому, что грызла обида на новобранцев за явную непочтительность (встреть так колхозники районное начальство, беды бы им не миновать), но и потому, что не знал он, лейтенант Чмыхов, как поправить дело, ибо чувствовал странную неволю, какой опутал его рядовой новобранец. Да, он, начальник, оказался в вагоне лишним, смешным даже — это он осознал. Но отчего такое случилось, в толк взять не мог, потому еще сильнее расстраивался.
Все логично. Хмельная голова — не Дом Советов. Шумит, ходуном ходит, словно брага куролесит в закупоренном бочонке. Хотя все предельно ясно: получить погоны со звездочками, он возомнил себя «представителем района», кому дано лишь право повелевать, а ответственности на которого никакой не возложено. Только не по Сеньке шапка. Лейтенант, это все одно, что колхозный бригадир. С людьми ему надлежит быть, впереди шагать, себя не жалеючи, за собой всех подчиненных вести. Не сошлись, выходит, претензии лейтенанта и реальность, вот и случился, раздрай, а он, лейтенант, растерялся, не подготовленный к жизненной реальности. Да тут еще Сильвестр Лодочников со своей готовностью подменить его, встать над ним.
Нет, не теперь додуматься до всего этого Чмыхову. Время нужно, чтобы переиначились его понятия о своем месте в армейском пограничном строю.
И голову нужно трезвую. А сейчас что? Кипятится душа, чувствуя нелепость происходящего, одолевают сумбурные мысли и без того непослушно тяжелую голову — такое сейчас у него состояние, хоть плачь, хоть вой.
В купе, однако же, вошел он бодро. И сразу же старикашке:
— Все там, в вагоне, по-божески. Вот списки даже составлены. Где родился, где крестился, — сунул списки под подушку и подкинул свое тело на полку: — Можно поспать. Спокойно.
Поначалу, терзаемый обидой, притворялся спящим, но в конце концов хмельная усталость взяла свое, и Чмыхов уснул. Увы, не так уж и долго. Старикашка-праведник вскоре сошел на полустанке (к сестре, видите ли, ехал проведать, всего ничего пути, а тоже мне — в купе заперся), а на очередной станции купе пополнилось старшим лейтенантом, и можно было начинать новую пульку.
Поезд тем временем прытко бежал на юго-восток, меняя бригады, оставляя за хвостовым вагоном станции, полустанки и разъезды; и вот уже конечная станция — Ташкент. Город хлебный. Здесь вагон с призывниками должны перецепить к другому поезду. К андижанскому.
— Теперь гляди, — посоветовали лейтенанту Чмыхову бывалые капитаны. — Все время с ними будь, а то поразбегутся, не вдруг соберешь. И на коменданта жми, а то проторчите здесь.
Ничего подобного не случилось. Напихав в рот лавровых листиков, Чмыхов двинулся хлопотать и бдить, только ничего этого вовсе не понадобилось: в вагоне порядок, о самовольных отлучках и думок нет, в крепких руках Лодочникова вагон, а у вокзального коменданта разговор длился всего минуту-другую.
— Вот вам, лейтенант, талон на купе. Через два сорок поезд отходит. Выделите людей для получения сухого пайка на сутки.
По-деловому, без эмоций. По-современному. Хотя лейтенанту и казалось, что комендант поглядывает на него подозрительно. Но не заметил, видимо, ибо не отчитал за непотребный вид. Облегченно вздохнул Чмыхов, когда закрыл за собой дверь комендантского кабинета.
«Пронесло… Хватит больше. Ни карты, ни… Даже пива не стану. Совершенно…»
Не пошел ни в буфет, ни в ресторан, а прямиком направил стопы к своим подчиненным и был с ними до самого отхода поезда, хотя Лодочников уверял его, что все здесь будет в ажуре и что два с лишним часа лейтенант может хоть немного познакомиться с Ташкентом. Взять такси и махнуть в город.
Не согласился. Побоялся лейтенант отлучиться так надолго. Как бы не случилось непредвиденного. Потом казнись. А Ташкент никуда не денется. Будет еще время с ним познакомиться. Жизнь — штука длинная. А не удастся, что ж, не велика беда. Город, наверное, как город. Нагляделся он на них. Вон сколько верст поезд отмахал. На каждой остановке в окно глядел, отрываясь от карт, а иногда даже выходил на перрон.
«Все одно и то же…»
Когда ничего не делаешь, когда чувствуешь себя лишним, время тянется долго. Очень долго. Но все равно оно проходит. Поезд, наконец, тронулся в точно установленное расписанием время, и теперь лейтенант Чмыхов с чистой совестью направился в свое купе. Благо его вагон оказался рядом.
Все пошло по установленному режиму: подкрепились призывники сухим пайком, позвякав гранеными, желая себе доброго пути и легкой службы, и принялись тасовать колоды карт. И только одна компания распалась: отказался играть Иван Богусловский. Сказал: «— Не буду» и встал у окна. Не объяснив причины. Не поймут ребята. Не сиживали они у электрокамина рядом с бабушкой, не слушали они ее рассказа о девере, кому выпала доля пройтись по Ферганской долине с отрядом пролетариев из Ташкента, о себе и дедушке, хотя и не здесь служившим, но рядом; не слушали суховатые, но берущие за душу воспоминания отца о службе на Памире в последние годы войны — нет, не понять ребятам его жадного любопытства, его желания почувствовать то, что чувствовали его предки, творя здесь революцию и охраняя затем границу от всяческой напасти. Он, юный Богусловский, хорошо понимал огорчение родителей, а особенно бабушки, что, отказавшись от училища, нарушил тем самым семейную традицию, и мысли его, естественно, нет-нет да и возвращались к тем увещеваниям, какие велись с ним в последние годы, заметно усилившиеся после того, как прошел он комиссию в военкомате. Хотя он вполне осознанно поступил наперекор воле отца и бабушки, в глубине души все же чувствовал себя виноватым.
Вглядеться в те места, где прошла ратная молодость родного и двоюродного дедушек и отца, понять их, но понять еще раз и себя — вот что приковало Ивана к окну.
А там, за окном, все странно, все необычно. И неудивительно: проиграл он в «дурака» постепенный переход от зеленой лесной средней полосы России в высушенную степную безбрежность, а затем в оазисную пышность, какая ближе к горам все чаще вклинивалась в сухостойную картину окружающего; теперь же, когда поезд катил по Ферганской долине, наоборот, степь лишь иногда давала о себе знать в неудержимой буйности песчаными проплешинами. Вдруг. Сразу. За хлопковым или кукурузным полем, а то и виноградником. И тут же, мелькнув, отсечется мутным арыком, за которым вновь встанет стеной широкой толстоствольная кукуруза или еще какие-то культуры, неведомые Ивану, но очень похожие на кукурузу, только с метелками на верху. Желтыми, крепкими.
Пробегали за окном поселки, или, как их называл отец с бабушкой, кишлаки с толстющими глинобитными оградами, за которыми видны были лишь плоские крыши, просторные, как теннисные корты, к которым липли тоже плоские и такие же большие, только зеленые, виноградники; из-за дувалов торчали разлапистые верхушки персиков, айвы, урюка, инжира — все повторялось и повторялось с удивительным однообразием, иногда только придорожные ряды тутовника стегали по глазам своей го л остью; потом все вновь возвращалось на круги своя, поля сменялись кишлаками, песчаной пустотой, гранатовыми или инжирными плантациями, ровными арыками, убегающими в дальнюю даль виноградниками…
И вдруг, за высокой стеной кукурузы — могилы. Обвалившиеся, все в верблюжьей колючке и низкой, полусухой лебеде. Они, эти могилы, шли к горизонту, удручая ветхостью своей, которая как бы оттенялась буйной, более роста человека, полной жизненных соков кукурузой. На многих колючках и, особенно, на пожухлых кустиках заморышей-деревцев, висели безжизненно цветастые лоскутки. И свежие, и давние, обесцвеченные солнцем. Рассказывал об этих могилах Ивану отец, осуждая недальновидность тех, кто позволил хоронить погибших басмачей, упрямо и бесполезно штурмовавших занятые красноармейскими отрядами городские крепости. Пулеметы косили воющую толпу мусульман, веривших, что гибель в бою с неверными — прямая дорога в рай. Тем, кому еще не даровал Аллах той дороги, в перерыве между штурмами хоронили тех, чьи души упокоились в райской благодати. Спешили. Таковы наказы Корана и шариата. Сейчас могилы эти — священные места. Все, что возможно, в долине перепахано, год за годом от сухоземных песков откусываются гектары и превращаются в изобильные оазисы, а могилы остаются неприкосновенными.
«Живут, значит, в памяти народа. Отчего? Говорят, басмачами пугали детей. Долгие годы пугали. Отчего же следы их не стерты?..»
— Вот так повели людей дружной семьей с ликующей песней в светлое завтра. Покосив добрую половину. Остальные со страху что хочешь запоют. Любым голосом, любым тембром…
Это говорил Сильвестр, давно уже стоявший за спиной Ивана; Иван не замечал и не чувствовал его, оттого вздрогнул от прервавшей раздумья неожиданной громогласности; а уловив смысл того, о чем говорил Сильвестр, даже опешил и с явным удивлением и непониманием уставился на доморощенного разоблачителя.
А Сильвестр продолжал:
— Туп да глуп народ, сам своей выгоды не понимает, вот тут и подсказка: кнут да дыба в прошлые века, потом пулеметные строчки, а дальше мы уж с тобой, Иванушка, свидетели, — Сибирь и Север в колючей проволоке. Что, поджилки ослабли? Не пялься, теперь за мысли и слова не ссылают. Пока не ссылают. Вот и спешим сказать свое, нашего поколения слово. Ты помнишь у Грановского: мы не можем смотреть в прошлое время иначе, как с точки зрения настоящего. Каждое поколение приступает к истории со своими вопросами. И еще он говорит: в судьбе отцов мы ищем и объяснение собственной судьбы.
Нет, Иван не читал Грановского, но философские эти мысли, в иных, конечно, словосочетаниях, он встречал у многих авторов и идея эта ему импонировала, возвышала в глазах (как же, он — представитель поколения со своими мыслями, со своим суждением), он всегда старался держаться своего мнения в любых жизненных ситуациях, но он ни разу не покусился, даже в мыслях, на основы основ общественной идеологии, вполне принимая господствующее мнение, что во всех смертных грехах виноват один. Ну, может быть, еще несколько злодеев-перерожденцев. А Сильвестр вон куда замахнулся! Нет, не привычно вести подобные разговоры. Страшновато. И Иван, ухватившись за то, что Сильвестр вспомнил об отцах, круто повернул разговор:
— Что-то не видел я твоего отца на вокзале. И матери. Бабушка одна.
— Бабушка была. Я — продукт стариковской шалости святого семейства. Есть у меня брат по матери.
— Единоутробный? Да?
— Так, если — так. Он твоему отцу едва ли не ровесник. Здесь где-то госпиталь возглавляет. Темник — фамилия. Грех девический маман. А предок, я так думаю, — чего-то испугался. Видел я его. К вагону шагал и вдруг — шмыг обратно, — и вдруг спросил иронически: — А тебя какого ляда во солдаты пихнули? Сын генерала — генерал.
— Да. Это так…
Он не захотел откровенничать с этим самоуверенным парнем, который, хотел того Иван или нет, брал над ним власть. Не как над другими, не с нахальной настырностью, а исподволь, легонько, чему внутренне противился Иван, но открыто пока не восставал.
— Пойдем, швырнем картишки, — предложил Сильвестр, понимая вполне, отчего так неопределенен ответ. — Чуваки безделием мучаются.
Не хотелось Ивану играть «в дурака», но он не отказался.
Глава шестая
Шел второй месяц головокружительной спешки. Пока еще не понимаемой почти ни одним из парней. Ну, допустим, стремительный подъем — куда ни шло, если рассудить. Приучают начинать солдатский день без волынки. Ну а потом пошло-поехало. Где нужно, где вовсе зря, но все одно — беги. Прибежал в столовую на завтрак, а там дежурный по учебному пункту. Давай придираться: и строй ранжира не блюдет, и пряжки ременные «до пупка» свисли, и пятое, и десятое. А всем ясно, что заготовщики не успели все положенное расставить на столы. И дальше такое же. Принеслись сломя голову на стрельбище, а там еще прежний взвод не отстрелялся. Давай порядок упражнения какой уже раз долдонить. Зачем?
После одного особенно попусту колготного дня пустил Сильвестр анекдотец. Избитый вроде бы, бородатый, но так к месту рассказанный, что взвод быстро его подхватил, а затем весь дивизион начал повторять слова цыгана-служаки, сбежавшего из армии в табор: «Все хорошо в Красной Армии, кормят, обувают, одевают, только спешат все куда-то. Бегом и бегом». Не понял цыган зачем и куда все бегают, прихватил коня, за ним закрепленного, и — деру.
Сам Сильвестр тоже частенько задавал риторический вопрос: «Зачем?», когда за секунды раздевшись, юркал под одеяло. Это веселило ребят, чем был весьма недоволен командир отделения, но Лодочникова не одергивал. Пикни после отбоя кто другой, снял бы отделенный с того стружку, а с Сильвестром связываться не хотел: член дивизионного бюро ВЛКСМ, активист, под особой опекой лейтенанта Чмыхова, замполита дивизиона. Не учитывать этого нельзя.
И верно, отношения лейтенанта Чмыхова и рядового Лодочникова, если мерить армейскими мерками, были далеко не штатными. Нет, лейтенант Чмыхов не был теперь беспомощным птенцом, каким выглядел в вагоне. Он рос, как говорится, не по дням, а по часам. Он уже начал осознавать, что идеал его, районный уполномоченный, не по его должности. Не по Сеньке шапка. Если бы там где-то, в далеком верхнем штабе сидеть, тогда можно просто требовать, а здесь, внизу, нужно самому все делать, как делали его отец, его мать, как делала вся его родня. Ну а от лени он сызмальства отучен. К каждому инструктажу руководителей групп политзанятий он готовился основательно, засиживался до полуночи, а когда проводил занятия сам, для показа, чтобы не только словом, но и делом учить, тут уж до красноты в глазах читал и перечитывал все, что рекомендовано методическими пособиями.
Обретал, что называется, авторитет лейтенант Чмыхов трудолюбием и старательностью, но увы, все пособия и инструкции не учитывали возможные каверзы, вот лейтенант Чмыхов нет-нет да и попадал впросак. Проводит политзанятия командир учебного взвода старший лейтенант Абрамов, все чинно и благодатно; пришел во взвод замполит дивизиона — обязательно вопрос к нему. Да такой, что сразу ясным становится уровень культуры и образованности лейтенанта, и задаст кто? Михаил Охлябин, в основном, да Прокоп Скарзов, вдруг ставшие до жуткости любознательными.
Только уши торчат, если вдуматься, ибо задаются вопросы чаще всего неуместные. Идет, к примеру, разговор на тему: «Партия — наш рулевой», и вдрут Охлябин руку тянет.
— Вы хотите высказать свое мнение? — спрашивает лейтенант Чмыхов учтиво, хотя сам уже напрягся.
— Нет. Мнение вы, чай, все сказали. Про партию нам все ясно. Куда вот Кашгария девалась? Мы, чай, супротив нее служить станем…
— Вопрос интересный, но — географический. Выделим для него время в партмассовую. Сейчас отвлекаться от темы не станем, — выходит из положения Чмыхов, а сам уже лихорадочно вспоминает, что ведомо ему о Кашгарии, и с ужасом понимает: почти ничего. И в библиотеке гарнизона тоже ничего об этом, кажется, нет.
И вот тут, сразу после занятий, Сильвестр со своей готовностью подать руку помощи. Предлагает:
— Разрешите мне, товарищ лейтенант, провести беседу о политической (ударение на этом слове заметное) истории сопредельного государства, нынче исчезнувшего? Могу со взводом, могу и с дивизионом.
И верно, мог он — Сильвестр Лодочников. Конспект, конечно, на трибуну брал, ибо без него нельзя, без него беседа не положена, только тетрадки он даже не открывал. Сыпал фактами, именами всегда безошибочно. Словно читал по книге. Или выучил все заблаговременно. Специально выучил.
О Порт-Артуре потом рассказывал, о КВЖД. И вроде бы хвалил Хрущева, что вернул и порт, и дорогу Китаю, но так живописал картину полного военного поражения китайской императорской армии от объединенного англо-французского экспедиционного корпуса, так преподнес миссию России, спасшей Китай от полного порабощения, что ответный шаг императора, подарок Порт-Артура России, казался мизерной оплатой за великое благодеяние. И возникло в молодых солдатских головах сомнение: нужно ли было возвращать дареное. Известно же: дареное — не дарят…
О первом пограничном уставе России прочитал Сильвестр целую лекцию: о засечных линиях на южных границах, об оборонительных валах, оставшихся еще со времен славянской колонизации южных районов Средне-Русской равнины, — и все восхищались им: «Без бумажки! Надо же. Не голова, а Совет министров!»
Даже Иван Богусловский, много прочитавший книг из своей фамильной библиотеки, иной раз завидовал столь разносторонним знаниям Лодочникова. И ни он, ни другие парни, ни даже лейтенант Чмыхов не догадывались, что ко всему тому Сильвестр готовился еще дома, под неусыпным оком Трофима Юрьевича, и что Скарзов с Охлябиным вопросы задавали тоже по программе, намеченной Сильвестром.
А эффект великий. Превзошел даже предположения Трофима Юрьевича. Расступались солдаты, когда Сильвестр заходил в курилку. В столовой заготовители ему выделяли всегда горбушку, а компот наливали в кружку, как он и любил, пожиже. Захоти он, нашлись бы желающие пришивать ему подворотнички и чистить пуговицы. Только он этого не желал. Пока. Считал, что преждевременно. Да и осторожничал. Сам не осознавая глубины чувства, побаивался Ивана Богусловского, хотя тот вроде бы не осуждал его, Лодочникова, действий, и только иногда, уже после очередной сенсационной победы, уличал его в слишком вольном, а то и не совсем точном изложении исторических событий.
«— А видели, как слушали? То-то…»
«— Ты же не эстрадный артист, истину нужно людям нести. Только ее».
«— Истину? Ой ли. Вера рождается не всегда из истины. Более того, в основном не из истины».
«— Не приемлю, — угрюмо бросал Иван Богусловский. — И не одобряю».
Вот это-то «не приемлю» и «не одобряю» сдерживало Сильвестра и, как не удивительно, шло это на пользу его замыслу, ибо (он мог вполне, по молодости и эгоизму, забыть наставления Трофима Юрьевича, распоясаться до бесконтрольности над своими действиями, и тогда это наверняка заметили бы офицеры, а товарищи, теперь уважающие его безоглядно, призадумались бы, а то и вовсе отвернулись. А пока все уважали его. Офицеры, так те частенько о нем говорили. Почти все взводные, в основном замы начальников застав, хотели бы заполучить его себе. Но Абрамов, долго помалкивавший, наконец обрезал, раз и навсегда:
«— Он будет мой. Первый секретарь комсомольского бюро. Политзанятия потянет лучше замполита».
Все знали, что старший лейтенант Абрамов, выигравший поединок с полковником Кокаскеровым, назначается начальником заставы «Сары-Кизяк».
Действительно, Кокаскеров, как и обещал, прислал на Крепостную комиссию, не настраивая ее против новшества, а наставляя детально изучить все плюсы и минусы возникшего новшества. Не одобрила комиссия ни уставного распорядка, не учитывающего плана охраны границы, ни общего подъема, ни вечерней прогулки, ни увлечения строевой в ущерб следопытству, обучению тихой ходьбе и вообще пограничной подготовке — комиссия высказалась против голого перенесения устава внутренней службы на заставу без учета специфики заставских условий. Кокаскеров собрал совещание, и надо же было такому случиться, в тот самый день прибыли в отряд генерал и несколько офицеров из Москвы. Из штаба войск. Отменить бы Кокаскерову совещание, от греха подальше, так нет, решил провести его, ибо считал, что делает дело, поучительное не только в масштабах отряда.
Увы, генерал встал на сторону лейтенанта Абрамова.
«— Ну, позвольте, что плохого — песня на заставе. Вечерняя поверка? Что страшного. Лишний контроль».
«— Боевой расчет есть? Есть, — возразил Кокаскеров. — Зачем еще вьючить вьюки?»
«— Строй сплачивает людей, — продолжал генерал, не принимая возражение начальника отряда. — И потом… Прогулка перед сном. Что может быть полезней для молодого, растущего организма солдата!»
«— После прогулки его ждет не сон, а наряд. Даже устав определяет отдых перед заступлением в караул. А у нас — не склады с бельем. У нас — граница. Не отдохнувший боец…»
«— Позвольте нам самим разобраться! — недовольно одернул Кокаскерова генерал. — Мы назначим свою комиссию. Думаю, опыт лейтенанта может быть полезен всем заставам».
Не одна комиссия побывала на заставе. И все они — высокого ранга. Каждая из них считала своей обязанностью проводить совещания то в отряде, то в округе, и каждый раз на тех совещаниях докладывал свой опыт лейтенант Абрамов. По одному и тому же конспекту, в который каждая комиссия вносила лишь малую толику свежинки. Кокаскеров доказывал на всех совещаниях, каждой комиссии, что застава не есть строевое воинское подразделение мирного времени, что она всегда на передовой, что и распорядок необходим ей именно такой, фронтовой, каждый день свой, отличный от вчерашнего, как отлична ежедневная обстановка на границе; с ним соглашались, его хвалили за принципиальность в отстаивании своих взглядов, но решения принимались всякий раз стереотипные: «Одобрить опыт работы лейтенанта Абрамова и рекомендовать его всем заставам».
Кокаскеров попытался поговорить с другими начальниками отрядов доверительно, в домашней (гостиничной) обстановке, но ответ его удивил, обескуражил и, практически, выбил из седла.
«— Тебе можно права качать, у тебя вон какая поддержка в Москве. А нам каково? Пойди мы против мнения генерала, разжуют и выплюнут…»
Сказал один. Остальные отмолчались. Никто тому, однако, не поперечил. Все, выходит, такого мнения. Вот так вот. Обидно до слез, ибо всегда он, Кокаскеров, рассчитывал только на себя, ни на кого не надеясь. Иван Владленович друг, но не покровитель.
«— Написал бы генералу Богусловскому, пусть вмешается, — тут же посоветовали ему. — Тогда, может, разумное возьмет верх».
«— У него другой круг вопросов, — ответил полковник Кокаскеров подавленно. — И потом… Строптивого коня объезжать должен сам джигит, если он джигит».
«— С конем совладать проще. Порох есть еще в пороховницах. Но вот против ветра. Нет, Рашид Кулович, избавь. А выход найдем: повесим под стеклом, в рамке, распорядок уставной, да так, чтобы каждому в глаза бросался, а дежурному по заставе свой, ежедневный, приспособленный к плану охраны. По нему и жить заставе, когда нет проверяющих. И копья ломать не надо. Волки сыты и овцы целы».
После того разговора сдался Кокаскеров. Без пререканий даже подписал досрочную аттестацию Абрамову на присвоение внеочередного звания старший лейтенант. И согласился на то, чтобы назначить его начальником заставы «Сары-Кизяк», когда она восстановится. Не ведал, что творил. Знай, он, к чему это приведет, костьми лег бы, а назначения этого не допустил. Потом станет кусать локти, только нет такой силы у человека, чтобы повернуть время вспять.
До офицеров застав борьба та доходила в разноречивых толках, с излишней, разумеется, драматизацией. Финал ее всем казался ясным: лейтенанту несдобровать. Комиссии, которые его поддерживают, приехали и уехали, а начальник отряда, в руках которого будущее офицера, все время здесь, но когда получил Абрамов прежде времени звание, когда его продвинули на начальника заставы, хотя были в отряде замы с большим стажем и опытом, авторитет его возрос. Настырный, решили все. И не без руки где-то наверху. Поэтому, когда он сказал, что заберет к себе Лодочникова, никто противодействовать ему не стал. Все равно своего добьется старлей, хоть спорь с ним, хоть не спорь.
Так решилась солдатская судьба Лодочникова. До завершения учебы было еще далеко, а он уже был распределен. Но сам Сильвестр об этом не знал, ничего ему взводный не говорил до времени. Поэтому он прикидывал, куда себя пристроить. Лучшее, что он видел и что, собственно, рекомендовал Трофим Юрьевич — гарнизон отряда. Пусть даже писарем в штаб. Но лучше — клуб. А еще лучше, на комсомольскую работу. Авторитетно. И права качать можно. Под видом индивидуальной воспитательной работы. Развернуться же в гарнизоне есть где. Интеллигенция там солдатская, напыженная. Пусти пробный шар, пойдет без удержу. А если что не так случится, если обвинят в чем-либо, то, как советовал наставник, можно уподобиться валенку: не ведал, что творил, хотел, как лучше, чтобы дисциплина крепче, а если перегнул, учту, исправлюсь…
Только как в гарнизон попасть? Того, что он стал на виду, может оказаться недостаточным. Нужна помощь. Нужно, чтобы кто-то замолвил словечко. И этим «кто-то» мог стать, как виделось Лодочникову, Иван Богусловский. Сопит в две дырки генеральский сынок, прет как вол, что ни нагрузи. Пятерочник. Вроде бы заслуженный. А если вдуматься? Если приглядеться? Сам полковник Кокаскеров, когда в крепость приезжает, с ним обязательно поговорит. И не просто так: «Как дела?» Подолгу они всякий раз беседуют. А Иван, похоже, не очень-то доволен теми беседами и не скрывает своего недовольства.
Спросил Лодочников даже, не удержался, после одной из таких бесед:
«— Ты на полковника, словно на маман фыркаешь. Не слишком ли?»
«— Отец через него в училище агитирует».
И все. И больше ни слова. Вроде бы не заслуживает никакого внимания все то, что только-только вызывало его недовольство, заставляло перечить старшему и по возрасту и по званию человеку.
«Ну, фрукт! — возмутился Сильвестр. — Ну, кадр!»
Виду, однако же, не подал. Бросил реплику, что предки, они и есть предки, их слушать, себя, значит, не уважать, и отошел с безразличным видом. А сам напрягал извилины, ища пути сближения с молчаливым, уверенным в себе Иваном. Чтобы пристойно выглядело сближение, чтобы не так болезненным было для самолюбия.
Только ничего не придумывалось. Единственное, что выходило, нужно подстраиваться под генеральского сынка, который себе на уме. В чем-то уступать ему, соглашаться с его позицией. И первую уступку Сильвестр сделал на кроссах. Все привыкли, что Лодочников всегда прибегал первым, навьюченный несколькими СКСами. У москвичей-хлюпиков собирал. В шаге за ним — Охлябин и Скарзов. Тоже обвешанные оружием и противогазными сумками. Богусловский же всегда прибегал в основном ядре. Не обгонит, не отстанет. Но всегда казалось, что ему посильно еще такое же расстояние: дыхание не запальное, пухлые щеки налиты здоровым румянцем, какими были и до кросса, не плюхается он в изнеможении на землю, а на выбившихся из сил товарищей смотрит с сожалением. Подойдет даже, посочувствует и предложит:
— В личное время давай вместе гирьки бросать.
Однажды и выбрал такой момент Сильвестр. Вмешался:
— Двухпудовки — хорошо, конечно, только это на потом. Сейчас помог бы. Карабин взял.
— Для чего?
— Чтоб без отсталых. Чтобы оценка у взвода лучше была. Чувство локтя. По принципу: сам погибай, а товарища выручай. С меня бери пример.
— Ты это с трибуны барабань. Меня уволь от назиданий. Демагогия.
И пошел ставить свой карабин в пирамиду, думая, что достаточно определенно высказал свою точку зрения.
Увы, Лодочникова ответ тот не устроил. Вынудил он Ивана на более многословный разговор. И получил, что хотел.
— Красоваться своей выносливостью считаю пошлым. Вроде бы ты себя над товарищами поднимаешь, о их душевном состоянии вовсе не думая. А брать карабины и автоматы у земляков, как ты делаешь, аморально. Не в добро это, а во зло. И тому, у кого берешь, и взводу целиком. Мы все одинаково должны быть готовы охранять границу. Все. Понимаешь? А ты, в угоду нашему командиру взвода, культивируешь иждивенчество. А как твои и твоих дружков-бугаев иждивенцы нарушителя станут преследовать? Извини за поучения. Я не вправе диктовать тебе свое понимание, но ты захотел узнать мою точку зрения, я сказал. А поступай по своему разумению. Человек должен жить своим умом. Равно противоестественно водить себе подобных на веревочке, как и ходить самому в поводу.
— Отлично от официоза, но — железно, — согласился Лодочников, хотя ни то, что делал прежде, ни то, что проповедовал Богусловский, всерьез его не интересовало. Но ему нужны были добрые отношения с генеральским сынком, и он сделал вид, что принял его веру. На первом же кроссе не вырвался в лидеры, ни у кого ничего из штатной амуниции не взял. Держался вместе с Богусловским. Многих это поначалу удивило, но Сильвестр вскоре, на очередной своей беседе со всем дивизионом, обосновал свое поведение почти теми же словами, какие услышал от Ивана. Не обошел, верно, и его вниманием:
— Такое же мнение, — заверил всех, — и у рядового Богусловского. Я считаю его принципиальным. Офицеры и сержанты, я думаю, нас поддержат.
Забурлил учебный. Особенно много дебатов среди сержантов и офицеров. Подрывалась основа основ: взаимовыручка. Какой же станет армия, если каждый будет заботиться только о себе?! И никто не сказал откровенно, а, возможно, даже не подумал, что определись в жизни отделений и взводов объявленный Лодочниковым с трибуны принцип, лишились бы отделенные и взводные легкого пути получения высоких кроссовых оценок. Куда проще закрепить сильных за слабенькими, чтобы оружие у них в нужный момент взяли, а если приспичит нужда, то и на ремнях до финиша дотащить, чем денно и нощно тренировать хлюпиков, доводя их до должной солдатской кондиции.
Вот здесь собака зарыта. Оттого и недовольничали отделенные и взводные. И Чмыхова, замполита, настроили, чтобы, значит, провел нужную воспитательную работу с Лодочниковым, да чтобы обязательно лекцию учебному прочитал об армейской дружбе, о войсковом товариществе. Название даже предложил: «Плечо друга». Факты начали выискивать и подсказывать. Особенно из фронтовой жизни. Как обессиленные, голодные солдаты, выходя из окружения или отступая, не бросали раненых. Как закрывали собой командиров… Не понимали или не хотели понять, что все это совершенно из другой оперы. Одно другому не противоречит.
Беседа Чмыхова с Лодочниковым и Богусловским состоялась. Только не лейтенант воспитывал рядовых, а они вправляли ему мозги. Инициативу взял Богусловский, вроде бы защищая Лодочникова. Не спорил с лейтенантом. Нет. Он, солдат, такого права не имел. Он вопросы задавал.
— На каждой контрольной стрельбе Сильвестр обязательно один патрон выпускает в мишень солдату-мазиле, которого к правому бочку ему подкладывают. У Лодочникова минимум четверка, а у того тройка, а то, глядишь, и четверка. Как вы думаете, верно ли все это? Если пограничник не научится стрелять, он сам мишенью может стать. Или вы, товарищ лейтенант, иного мнения? А на соревнованиях между взводами? Старший лейтенант так смены составил, чтобы тем, кто плохо стреляет, по два, а то и по три человека помогали. Кому нужно такое первое место?
Чмыхову подобное тоже ведомо. В училище еще их курсовой тоже подстраховкой занимался. Ну, и что тут плохого? Разве призовое место плохо пахнет? Нет, не понимал Чмыхов вопросов Богусловского. Слушал, однако. С сыном генерала лучше не конфликтовать.
Богусловский же тем временем продолжал:
— Что получается? Взвод в передовых, но, на самом деле, взвод — бракодел. Этично ли это?
Никого словопрения не убедили. Богусловский остался при своем мнении, Чмыхов при своем. Еще и затаилась у лейтенанта неприязнь:
«Ишь ты, взвод-бракодел! Служба длинная, научится еще каждый солдат стрелять. Я и сам не вдруг в десятки стал бить… Не всем сразу дается. Ну и что, что сын генерала? Сам-то — солдат! Чего умничать и не в свои дела лезть?!»
В общем, знай свой шесток. Иначе…
У Лодочникова другое на уме. Есть повод еще более сблизиться, оправдать свою особую к Богусловскому уважительность.
И как только Чмыхов закончил «беседу» и оставил бойцов, Лодочников заговорил с чувством, придав тону даже некоторую торжественность:
— От души благодарен тебе, Иван, за поддержу. Ты поступил как друг. Понимаешь, самому себя отбивать как-то несподручно.
Вроде бы совсем запамятовал, что та точка зрения, какую отстаивал Богусловский, ему же и принадлежит, а он, Лодочников, всего-то и сделал, что раздул кадило и вновь оказался в центре внимания всего учебного.
А Сильвестр продолжал с таким же подъемом:
— Все! Иждивенчеству — бой! Никого не стану больше страховать ни на кроссах, ни на стрельбище. На политзанятиях тоже не буду больше амбразуру закрывать. Ты для меня отныне (наконец-то словесно признал приоритет Богусловского) живой пример для подражания.
Нельзя сказать, что Иван Богусловский понял или хотя бы почувствовал (молодо-зелено) ложность в поведении Сильвестра Лодочникова, но какой-то неприятный осадок в душе остался.
Но потом все прошло. И отношения их постепенно становились почти дружескими. Ивану импонировало, что Лодочников держал слово, вперед стал высовываться реже и действительно, несмотря на недовольство старшего лейтенанта Абрамова, перестал подставлять «плечо друга» отстающим. Твердил во всеуслышание:
— Если хочешь стать бойцом, учись бегать без устали, стрелять без промаха, учись распознавать следы. И грызи политграмоту. Особенно вникай в решения съезда и пленумов родной партии.
Увы, шел и обратный процесс: Иван поддавался влиянию Лодочникова, привыкал к горбушке за столом, к компоту без натолканных в кружку разлезлых яблок, к удобному месту, когда вваливался взвод в комнату чистки оружия.
Прежде Иван Богусловский такого себе не позволял. Никаких знаков внимания, а тем более подачек не принимал. И чем бы окончилось начавшееся отступничество от своего жизненного принципа, одному Богу известно, не окажись вскорости Иван свидетелем странного разговора, который заставил его задуматься всерьез и о своем поведении, и о поведении Сильвестра.
Письмо Иван получил. Из дому. На этот раз от бабушки. Любил ее Иван. Души в ней не чаял. За мягкость ее, за умение понять настроение, за то, что баловала она его тайком от родителей в детстве конфетами, а позже — денежкой, как она говаривала, чтобы мог купить он не только себе мороженое или билет в кино. Родители, поженившиеся в промежутке между боями с вражескими самолетами, не учитывали, что «невеста» может быть у мальчика с самых первых классов, а бабушка понимала это. Она помогала ему быть щедрым кавалером, не стесненным стыдом из-за отсутствия денег. И в письмах она писала не столько о семейных новостях, сколько о его школьных товарищах, ребятах и девчатах. Она знала весь его класс, знала и предмет его увлечения, хотя здесь (все же бабушка — человек другой эпохи) она явно ошибалась, никакого серьезного увлечения у Ивана не было. Письма бабушки Иван всегда читал с увлечением и с большим интересом. Вот и на этот раз, получив письмо (их раздавали с началом личного времени), он поспешил в сушилку. Знал, что там не людно в сухую погоду. Все обычно бегут в ленкомнату постучать костяшками домино либо торопливо набросать письмецо домой, а наиболее радивые собираются в бытовке перешить подворотничок, почистить пуговицы и бляхи.
Сел Иван рядышком с открытым окном так, чтобы солнышко ласкало, тем более, что к вечеру воздух становится прохладным, даже по-осеннему зябким. Вскрыл конверт и, скользя взглядом по строчкам, забыл и о сушилке, и об учебном, о Памире забыл, окунувшись в мир привычных юношеских дел и забот; и не сразу, не вдруг врубился в реальность, когда услышал за окном голоса. Насмешливый Сильвестра Лодочникова, и оправдывающийся Михаила Охлябина.
Там, за окном, была курилка. И судя по разговору, говорившие находились там одни. Сильвестр упрекал:
— Давненько ты, Михайло, лейтенанта-комиссара за титьки не дергал. Прокопий, тот молодцом, варит башка, а ты? Не Ломоносов, выходит, хотя и Михайло.
— Я собирался… Что это, мол, Шелепин — примкнувший.
— Ну, расшевелил извилины! Почитайте, скажет, рядовой Охлябин, газеты. Но направление твоей мысли, Михайло, где-то в русле. Только ты с тыла давай. Все сейчас напевают: «Едут новоселы…» А куда и зачем, вот тут — вопрос. Почему целинные, тут хоть что-то ясно: паши новь; а почему залежные?
— Чай, каждый знает. Залежь, она и есть залежь. Смеяться, чай, будут. И лейтенант, и ребята, какие деревенские.
— Не дрейфь. Ты подними руку и спроси. Пусть кто и поржет себе на утеху, а как лейтенант завертится карасем на сковородке, тогда твой черед ржать подойдет. Ведомо тебе: смеется тот, кто смеется последним. Вот ты ответь, знаешь ли про Горькую линию? Про Иртышскую? А о десятиверстном нейтральном пространстве? То-то. И лейтенант не знает. Когда киргизов колонизовали, пригодные для пахоты земли отбирали у них, а самих их на дальней дистанции от себя держали. Жили себе казаки, не тужили, да вот революция случилась. Иных прикончила она, иные разбежались. За кордон в основном. Осталась земля. Только и у новой власти слюнки на нее текли. А как взять? Калинин ездил к казахам. Киров. Сергей Миронович предложил исподволь обихаживать бросовые земли, зелеными полосами наступать на степь. Только не вышло это. Кокнули его. И появился сталинский план преобразования природы. Начали полосы лесозащитные не в Казахстане сажать, а в России. Про степь забыли. Легче в средней полосе и быстрей. Перед всем миром можно покрасоваться. А Хрущев, когда вокруг Сталина гопака выкаблучивал, на ус мотал. Теперь вот раскрутил маховик… Авантюрно. А кто против, тот примкнувший.
Иван слушал Лодочникова и удивлялся, как можно так злоязычно. Вроде бы все верно сказано о колонизации сибирской степи, но с каким подтекстом. Всего несколько слов в сторонку, и мысли у несведущего набекрень. А про советский период. Факты, может, верны (Иван о целине знал только то, что писалось в газетах, говорилось по радио и показывалось с телевизионных экранов), но и тут — пренебрежение и злобность. Очень похож на тот разговор, что случился у вагонного окна, когда проезжал поезд мимо басмаческого кладбища. Не случайность, выходит. Заданность.
Подумалось Богусловскому и о том, откуда знает Сильвестр о поездках Калинина и Кирова. Об этом никогда не писалось и не говорилось. Всем внушали, что первоисточник идей был Хрущев. Значит, дома говорили о целине вот в таком духе…
И вдруг оборвались все его размышления. Будто окатили Ивана ледяной струей из брандспойта.
— И вот еще что, — донеслось из окна, — друг мой Михайло, отчего, поясни мне, у Ивана Богусловского на обед была не горбушка?
— Прокоп сказал, ему, чай, все равно. Ему хоть весь мякиш положи, глазом не моргнет. Согласный будет.
— Передай Прокопию, не его дело глядеть за глазами Ивана, моргнет тот или нет. Сказано если, чтоб уважение было, значит — делай, — помолчал немного и уже, явно себя убеждая, молвил раздумчиво: — А Иван привыкает. Привыкает.
«Нет, — хотелось, высунувшись из окна, крикнуть Сильвестру — Нет! Нет!»
Только не встал Иван Богусловский с табуретки. Пересилил себя. Но уже не до письма ему стало. Держал его в руках, а обдумывал разговор с Сильвестром. Откровенный чтобы. И резкий.
В тот же вечер, перед вечерней поверкой, он и состоялся. Только не так пошел, как мыслил Богусловский. Он думал, что начнется баталия, но Сильвестр, выслушав возмущенного Ивана, хмыкнул:
— Что касается тебя, извини. Больше не буду. А в остальном. Я говорил правду. Если чуть-чуть акценты, то учти — время не сталинское. Не садят по доносам нынче. Пойдем, лучше сапоги чистить, чтобы старшина не сделал замечание. Мы солдаты, нам устав блюсти нужно, а не хватать друг друга за фалды.
Он и впрямь пошел к банке с какой-то непонятного цвета мазью, где уже толпились бойцы в ожидании, когда подойдет очередь на щетку. Все потеснились, кто-то услужливо передал Сильвестру щетку с захваченной уже мазью, Сильвестр кивнул важно, словно должно быть именно так и никак иначе, и принялся тщательно, без спешки, жирить кирзы. Подождут остальные.
«Подонок! — возмущался Иван Богусловский. — А я тоже — хорош! Попался на крючок!»
Он решил больше с ним не объясняться один на один, держаться с холодной отчужденностью, а лейтенанта Чмыхова уведомить. Но как? Не письменно, чтоб на донос не похоже, и не устно, чтобы не воспринялось как наушничество. Но как? И тут — мелькнуло. Эврика! На комсомольском собрании. Не на взводном, а на всего учебного пункта. Открыто и честно сказать. Тем более, что собрания долго ждать не требовалось, оно намечалось на ближайшие дни. И повестка дня подходящая: «Задачи комсомольской организации по идейно-нравственному воспитанию молодежи».
Иван Богусловский готовился к своему выступлению тщательно, делая даже записи. Не тот, подслушанный разговор записал, его не нужно было записывать, помнил он его наизусть, а вот против акцентов, какие Лодочников внушал Охлябину, нужно говорить языком фактов, поэтому и напрягал память, вспоминая все прежде читанное по всем темам, с какими выступал перед товарищами Сильвестр. Выступление свое Иван Богусловский считал правомерным, не расценивая его как удар ниже пояса, ибо все, о чем собирался сказать, он уже говорил Сильвестру. После каждой того беседы. Правда, тогда Иван считал, что Лодочников просто ошибался, не осмыслив серьезно исторические события, теперь же Иван понимал, что все то было заданно. Вот этой-то заданности он и хотел дать бой. И главное, чего хотел добиться своим выступлением Иван Богусловский, чтобы у всех открылись глаза на Сильвестра, как открылись они у него самого.
Увы, задуманное не свершилось. Приехал майор Киприянов и изменил повестку дня. С докладом: «Достойным ратным трудом встретить шефов — долг каждого комсомольца» согласился выступить лично. Ну а если уж такое высокое начальство любезно удостоило внимания комсомольцев учебного пункта, то, по мнению лейтенанта Чмыхова, комсомол тоже не должен ударить в грязь лицом. Два дня, оставшиеся до собрания, намечали выступающих, писали и переписывали, затем еще и еще шлифовали набело их речи, беседовали во взводах, чтобы не дай Бог кто что лишнего не ляпнул, чтоб все шло, как по маслу.
Зачин выступлениям возложили, естественно, на Сильвестра Лодочникова. Отличник учебы, активист-общественник, язык к тому же подвешен. Толково скажет. Предложили выступить и Ивану Богусловскому. Майор Киприянов сам его пригласил. Посоветовал:
— Надо бы о преемственности поколений сказать. Об отце вспомнить, о дедушках. Как? Беретесь? — и не ожидая ответа, продолжил: — Тезисы набросайте, если сложность какая, лейтенанта Чмыхова подключим, потом уж я сам просмотрю. Подправлю. Из окружной газеты корреспондент будет. Из областной даже. Прозвучать должно ваше выступление, Иван Владленович.
— Я не имею нравственного права на подобное выступление. Я не продолжаю традиции семьи.
— А-а-а! Понимаю. Вместо училища — в солдаты. Но, видимо, прав отец, определив вам такой путь. Офицеру, служившему солдатом, значительно легче. Вот я, например…
— Извините, что перебиваю, но… Свой путь я выбрал сам.
— Думаю, правильный путь. Через год мы вам дадим превосходную характеристику. Курс у вас верный.
— Вы не поняли меня. Прошу вас, прекратим этот разговор. Идти или не идти в училище — это мое личное дело. Сугубо добровольное, как я понимаю. В конце концов это дело нашей семьи. Если у вас есть претензии к моему поведению, к моей учебе, я готов выслушать. Если нет, прошу разрешения быть свободным.
— Хорошо, идите, — сухо бросил Киприянов, сдерживая гнев. Ишь ты, солдат, а вон как! Не лезь не в свое дело. Как это — не свое. Я же политработник. Мне до всего дело. До всего. Ну, ничего, припомнится. Мы, Киприяновы, тоже свою гордость имеем. Ты — сын генерала, тебя уборными не с руки шпынять, но найдется и на тебя управа. Служба еще впереди. Аукнется!
Но пока суд да дело, ущипнуть можно и сейчас. Тут же майор Киприянов вычеркнул из своего доклада два абзаца, где было написано о семье Богусловских. Убрал абзац об Иване Богусловском в подготовленном уже выступлении Сильвестра. Тот разинул от удивления рот, но ни о чем не стал спрашивать, лишь завязал узелок на память. К тому же факт этот обрадовал и вдохновил его. Выходит, для начальства он «прикасаемый». Стало быть, смелей можно с ним в кошки-мышки играть. Хватит, стало быть, подыгрывать генеральскому сынку, только о своем авторитете нужно заботиться, ковать его денно и нощно.
Первый шаг к прежней своей тактике он решил сделать на комсомольском собрании. Он хорошо понял, чем можно потрафить майору Киприянову, еще когда тот с ним беседовал о выступлении на собрании. Теперь он решился на экспромт. Правда, продумал его основательно.
Вышел на трибуну привычно, уверенно, положил исписанные листки, расправил их и забыл об их существовании. Заговорил вдохновенно и страстно. И когда он закончил свою речь призывом: «— Нам выпала великая честь с низким поклоном встретить заслуженных ветеранов границы, но не поклоном старорежимного крестьянина, а сегодняшним, советским поклоном: совершенствованием пограничной выучки, чтобы ветераны и командование отряда были уверены, что там, где мы будем стоять на посту, там граница — на крепком замке!» — все долго хлопали в ладошки.
А пример показал комсомольцам майор Киприянов. Даже встал, рукоплескал.
Призыв Сильвестра вписали специальным пунктом в решение комсомольского собрания.
Жизнь между тем шла своим чередом. Так здорово, по мнению всех, проведенное комсомольское собрание ни в ком ничего не изменило: отличники и хорошисты так ими и остались, кто получал тройки да двойки, продолжал их получать, а те, у кого лень раньше их родилась, как сачковали прежде, так и продолжали сачковать при любом удобном для этого случае. Утвердилось, однако же, мнение, что после собрания воины-пограничники вдохновились и стали более прилежными, вот и вынуждены были командиры взводов и отделений в угоду этому мнению, ставить чаще оценки на балл выше заслуженных. В общем, к встрече готовились всяк на свой манер, то есть естественным образом, не смотря ни на какие старания майора Киприянова и всех офицеров как-то повлиять на ход подготовки к торжествам.
Вскоре начали приезжать делегации с застав. Молодцы. Один к одному. Шинели на всех ладно сидят, словно по заказу сшитые. Нет ни одной мешкастой. А сами заставские представители спокойно-уверенные, знающие себе цену. Когда они утром пошли строем в столовую, да песню запели, у всего учебного челюсти отвисли. Да и как не удивляться, если песня лилась единогласно, шеренги струнно-ровные, шаг отточенный, каким и положено ему быть, но все это делали пограничники без малейшего с их стороны напряжения, шли как бы играючи. Самое же главное, что поразило солдатиков учебного, так это осанка — шли заставские, совершенно не обращая внимания на морозный утренник, не втягивали головы в плечи, не прятали руки в манжеты гимнастерок. И еще удивило молодых обилие самых разных значков на гимнастерках делегатов, кои воочию убеждали, что нерадивцев среди прибывших на встречу с ветеранами отряда нет.
Чмыхов тут как тут с назиданием:
— Будете служить как требует того устав и вас знаки солдатской доблести не обойдут.
Награды, это, конечно же, хорошо, но сейчас под крышу бы поскорей. В столовую, где намного теплей, чем на плацу. И солнце поспешило бы на небо вскарабкаться, да землю за ночь озябшую обогреть, согнать иней. И еще хотелось солдатикам, чтобы поскорей подошло личное время, чтобы поискать земляков среди заставских, послушать их рассказы о службе. Солдатские рассказы. Без командирских прикрас и командирской заданности. Вот, что хотелось сейчас солдатам, поэтому назидательный призыв политработника не был воспринят парнями. Мимо ушей пролетел.
И вот пришел вечер. В самое предназначенное ему время, хотя и хотелось, чтобы он поспешил. Увы, надеждам молодых не суждено было осуществиться.
Разочаровал он и молодых и бывалых: по распоряжению майора Киприянова учебный пункт отсекли от делегаций застав. Как он сказал: бесконтрольные контакты нежелательны, совершенно не пояснив хода своих мыслей, и предложил план встреч в часы партийно-массовой работы. Рассчитан этот план был на несколько дней, и получалось, что каждый делегат должен был непременно выступить перед каким-либо отделением учебного. А это, конечно, не то, что хотелось новобранцам, да и старичкам. Но… Как сказал уместно Сильвестр Лодочников:
— Начальству с бугорка видней.
А потом по учебному пополз слух, что присягу они примут несколько раньше положенного, что для этого из штаба части везут Знамя, которое потом останется на несколько дней здесь, чтобы встретить шефов и ветеранов по полному воинскому ритуалу. И что удивительно, слухи подтвердились. Майор Киприянов даже день назвал, когда это произойдет. Сделал он это сообщение во время лекции: «Военная присяга — закон жизни воина-пограничника». И обо всем после той лекции забыли, о распорядке, о расписании занятий, о личном времени. Учили уставы и присягу, репетировали, до тошноты надоедливо, форму доклада после выхода из строя, да и сам выход. Еще и еще раз показывали, где и как должен военнослужащий расписаться в том, что он действительно присягнул на верность Родине и Партии. И все же львиную долю времени занимала строевая подготовка. Во всех взводах проводилась она вместо плановых занятий, а во взводе старшего лейтенанта Абрамова еще и в личное время. Затягивалась и вечерняя прогулка. Иногда на добрый час. Взводный даже кроссы отменил. В своей оказался стихии. Несколько раз перетасовывал шеренги и добился идеального ранжира. Будто газонная косилка прошлась по шапкам. Ни одной выпуклости, ни одного провала. А песню взвод горланил любо-дорого. Старший лейтенант и прежде, бывало, не распускал строя перед личным временем, пока, на его слух, не выходило то, что надо, а уж теперь лютовал вовсю. Взвод, однако, приловчился: раз да два повернет Абрамов строй к столовой и обратно, запевала тут же сразу: «Там где пехота не пройдет…» Звонко получалось о стальных птицах. Очень звонко. Мягчела душа взводного, и он, довольный, благодарил за песню.
В ответ громко, так, что в горах эхом отдавалось, летело:
— Служим Советскому Союзу.
За счет занятий шли в предшествовавшие празднику дни и хозяйственные работы. Вроде бы все отремонтировано уже, все покрашено и побелено, но придирчивый взгляд начальства всегда что-либо приметит, а значит, исправляй или переделывай сделанное. Короче, колоти пень… Такова уж психология командира: обязательно найти непорядок у младшего по чину и заставить людей трудиться. Без этого командир — не командир.
В общем закон солдатской жизни нарушался с самого подъема до самого отбоя. Тем самым вдалбливалось, в противовес трибунному красноречивому растолковыванию, что закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло. И писан он, выходило, только для тех, кто на самой низкой ступеньке армейского житья-бытья.
В точно назначенный день выстроились встречать Знамя части, хотя по понятиям несмышленышей-солдатиков можно было бы переждать на первой алайской заставе непогоду. А она действительно была примерзкая: морось, перемешанная со снегом, хлестала набухшую землю с полуночи; ветер пронизывал насквозь, и солдатские шинели, хотя остряки шутили, что они суконные, нисколько не грели, только давили плечи своей напитавшейся влагой тяжестью.
Но, может, не так и пронизывающе-холодно на плацу. Просто они, молодые, еще не закалены должным образом. Вон, на правом фланге, что тебе гвозди. Ни один не съежился, не принял «зимней стойки бойца-кавалериста», как высмеивали озябшую согбенность сами же солдаты. Те, правофланговые, тоже торчат, ожидаючи, более часу на дожде и ветре.
Понуро скуксившись стоял молчаливо безразличный строй молодых. Никаких даже признаков того, что накануне вечером они гладились, чистились и подшивали подворотнички, словно собирались на свадьбу. Шинели у всех мешковато обвисли, шапки нахлобучено бугрились. Взводное начальство, даже начальство всего учебного пыталось шутить, чтобы поднять у подчиненных настроение. Увы, безуспешно. Кроме стандартных: «Так точно» или «Никак нет» слова не вытянешь из посиневших губ. Увы, это не останавливало офицеров.
Особенно старался майор Киприянов. Уж таким весельчаком-шутником представлялся, что самому, видимо, противно было. А когда все же надоело, когда понял, наконец, бесполезность своего старания, принялся сердито, хотя и не громко, упрекать начальника учебного пункта за то, что тот так рано вывел людей на плац.
— Ну, за пятнадцать — двадцать минут, я бы мог понять. Но уже час с четвертью…
Забыл, что сам санкционировал заблаговременное построение: «Верно, пока разберутся, подравняются, да и душевный трепет оттенит торжественность момента». Только разве напомнишь командиру высшего ранга о его неразумности. Начал начальник учебного оправдываться:
— Полчаса, как должны были приехать. Не забуксовали ли где?
Действительно, машины со Знаменем и знаменным взводом буксонули в набухшей ложбинке, но не там произошла задержка, там их быстро вытолкнули. Взвод, как-никак. Отборный взвод. Не хлюпики. Но не пойдешь же со Знаменем в заляпанных грязью сапогах и шинелях. Вот и остановились у воды, чтобы привести себя в божеский вид. Делали все основательно, без лишней спешки. Не знали они, что гарнизон крепости, ожидаючи их, мокнет под дождем, иначе, конечно же, поторопились бы. И перекуривать бы не стали, а сразу же полезли бы в кузов, под брезент, на свои еще не остывшие места.
Но вот, покурив и попетушившись для сугрева, тронулись, наконец, и через несколько минут машины вкатили в крепость через распахнутые ворота. Остановились тут же, и ловко, натренированно высыпал охранный взвод. Последовала команда вполголоса, и стоят уже уставно: капитан-знаменосец впереди, за ним — ассистенты, старшины-сверхсрочники, с обнаженными клинками, а потом уж — рослый и ровный строй с новенькими автоматами Калашникова, пока еще редкостью для пограничных войск. Вот сейчас ударит барабан, сделают первый шаг знаменосцы, и тут же разнесется по плацу зычная команда: «Под Знамя смирно!» Начальник учебного пункта уже вдохнул полной грудью, однако… Барабан отчего-то молчал, будто ожидал каких-то дополнительных приказаний от кого-то. И верно, откинулась дверка кабины второго грузовика, и медленно, робко ставя на подножку отекшие от долгого сидения ноги и покряхтывая от неловкости движений по вине тяжело обвисшего живота, принялся спускаться на грешную землю подполковник Томило. Неожиданно. Никто не говорил, что со Знаменем едет сам начальник штаба.
Вот и решай, как поступить: и Знамя нужно встречать, и подполковнику тоже рапорт положен. Быстро сообразил начальник учебного. Гаркнул:
— Гарнизон, смирно! Равнение направо!
Вот и все. Вот и выход. Барабанщик дал ритм, знаменосцы и взвод с привычной легкостью и изяществом пошагали к замершему строю, который вперил сотни глаз в напрягшееся от ветра алое шелковое полотнище, — все пошло по армейской гармонии, все привычно отрепетировано, и только начальник учебного оказался во всей этой четкой слаженности белой вороной. Он спешил, козырнув лишь знамени, когда с ним поравнялся, к подполковнику Томиле, который неторопливо, вовсе не обращая внимания на происходившее в крепости, шел от ворот к строю.
Но это казалось только, что он ничего не замечал. Он, начальник штаба, ему все положено видеть. На все реагировать. Недовольно остановил слишком ретивого начальника учебного, готового рапортовать.
— Потом-потом со мной. Знамя встречайте.
— Так, точно, — вроде бы даже обрадовался начальник учебного, но подполковника Томилу не покинул. Пристроился к нему, на шажок отстав.
И то верно, Знамя, оно, конечно, реликвия, достойная всяческого уважения, но начальник штаба есть начальник штаба. Он и обидеться может, наплевательски если к нему отнестись.
Знамя пронесли на правый фланг, но строй продолжал стоять бездыханно, повернув теперь головы к приближающемуся медленно начальнику штаба. А тот, совершенно не приободрившись, не прибавляя шагу, дошел до средины и только тут, вскинув руку к фуражке, лихо и с ноткой уважительности выпалил:
— Здравствуйте, товарищи пограничники!
Вдох. Счет: раз, два, три — и рвануло единой глоткой:
— Здравия желаем, товарищ подполковник!
— Ничего, — одобрил Томило. — Пару дней, что остались до приезда гостей, потренируемся, тогда, думаю, совсем ладно будет. Ну а теперь, не тратя время попусту, присягать начнем. Потом — строевой смотр. Как? — обратил взор на майора Киприянова. — Комиссар не возражает? Нет. Вот и хорошо.
Конечно, принятие присяги не перенесешь, раз день назначен. Хотя, почему не перенесешь? А вот со строевым смотром можно было бы погодить. Устали парнишки, переволновались, промокли и продрогли до мозга костей. Но… Воля командира — закон для подчиненных. К тому же, командир всегда прав. Вот и перестроили сразу же после принятия присяги строй, чтобы удобно было у каждого подворотничок и пуговицы поглядеть, ремень плотен ли потрогать. Иль неведомо, что к принятию присяги готовились старательно, да и выходил каждый из строя читать присягу, — гляди на каждого, оценивай выправку и опрятность. Только подполковник Томило сознательно отделил смотр, чтобы, как он в своем уме держал, можно было без всякого тормоза накачивать новобранцев. Торжество-то прошло. Полноправный, к тому же, ты теперь солдат, с полной ответственностью перед народом. Вот и отвечай, как ты ту ответственность блюдешь. Хотя основа основ всей затеи была куда прозаичней: до приезда его, начальника штаба, многое упущено было, а он приехал и, напрягшись, используя свой опыт, поправил дело, довел все до ума.
А какова посылка, таково и развитие событий. Пройдясь пытливо по шеренгам, подполковник Томило изрек сердито:
— Плохо! Никакой выправки. Сутулые все. Работать все оставшееся время придется. До пота. Вот еще с песней как? И со строевым шагом?
Пошли взвод за взводом. Каждый свою, коронную, песню горланит. Ногу печатают бойцы, не любо, конечно, дорого, но натужно. Отогревает это малость. Хоть тут на пользу.
— Плохо! — вновь недовольно проворчал подполковник Томило. — Я бы даже сказал — очень плохо. Кроме взвода старшего лейтенанта Абрамова. Выделяется сколоченностью. Всех надо до его уровня подтягивать. Стыдобушка, коль мы вот так перед ветеранами вышагивать станем. Ну, скажут, защитнички…
Вот так и рухнула мечта солдатская оставшееся до обеда время погреться в казарме, а еще лучше — в сушилке. Вместо этого пошли круг за кругом по плацу, то топчась на месте и выслушивая упреки взводного, то вновь отбивая подошвы, напрягая до максимума голосовые связки, не забывая вместе с тем ни о равнении, ни о дистанции. Иначе тут же последует окрик командира взвода:
— Где равнение?! Что? Мешки с мухами?!
Особенно старался показать себя старший лейтенант Абрамов. Он громко, чтобы услышали старшие командиры, объяснил для начала подчиненным:
— То, что начальник штаба отряда выделил взвод в образцовые, будем считать авансом. Перед нами задача: добиться твердого первого места. Ясно? Не слышу восторга!
Хочешь или нет, а прокричишь:
— Ясно.
— Вяло. А ну, дружней. Еще разок. Еще…
Вот так единодушие и выдавлено. А раз всем ясно, старайся до пота и не ропщи.
Все взвода потянулись уже на обед, даже подполковника Томилу увели в столовую, а Абрамов все еще мордует взвод:
— Спины! Спины держать. Как в седле. Дистанция. На вытянутую руку. Не понятно?! Положить руки на плечи впереди идущих! Вот так и пойдем! Вот так и отработаем до автоматизма!
После обеда вновь плац. На следующий день то же самое. О плановых занятиях вовсе забыли. Плац и уборка, уборка и плац. И третий день новшества не принес. Разница лишь в том, что распогодилось. Солнце ласкает, ветерок, хотя и холодный, однако, не сильный, бодрит, а не студит. Веселей пошло дело. Даже подполковник Томило вынужден был признать, что ничего выходит, сносно для молодых воинов. Впрочем, ему это признавать теперь можно, теперь он в выигрыше: погонял как следует и добился успеха.
По его же команде каждый вечер меняли подворотнички. Чистый или нет— значения не имело. Короче говоря, так сложилось, что дыхнуть некогда. Только кто сядет в ленкомнате за письмо домой, его тут же в бытовку: утюжь брюки или шинель, драй пуговицы и пряжку. Тут в самый раз, в самую десятку влетали реплики Сильвестра. Типа:
— Не сердись, народ. Радуйся, сознавая, что приказ начальника должен быть выполнен точно и в срок. А у начальства один лозунг: лучше пере, чем недо…
Тут обычно подхватывали другие остряки. Отводили душу. Замолкали только тогда, когда в бытовке появлялся сержант или офицер.
Но в свой срок пришел конец пустоделию. Выстроился гарнизон со Знаменем на правом фланге. Тепло. Солнечно. Хоть час, хоть два часа можно стоять, тем более, что разрешено разговаривать. Не громко.
На дорогу нацелено несколько глаз. На Крепостной на вышку поднялся специальный наблюдатель, чтобы немедленно доложить, как вырулят из-за поворота машины, а для подстраховки начальником учебного посланы еще и наблюдатели в угол крепости, на дувал. Оттуда тоже хорошо виден поворот дороги. В руках у этих наблюдателей — флажки.
Если бы шефы и ветераны ехали одни, подполковник Томило и майор Киприянов не стали бы столь прытко готовиться к встрече, но с ними ехал начальник войск округа, и тут уж любая промашка непростительна. Тут, действительно, лучше перебдеть…
Несмотря все же на чрезмерную суетливость, все прошло хорошо. И наблюдатели на дувале не зазевались, и на заставской вышке не проворонили, а голос у подполковника Томило зычный, вмиг взбодрил строй, и когда машины въехали в ворота, бойцы гарнизона стояли струнно-замершие, торжественно вдохновенные. И даже ни у кого не вызвала улыбки старательная неумелость начальника штаба, который, вздрагивая животом в такт шагу, топал для отдания рапорта начальнику войск. Ну а те, кого он встречал, тоже были не стройными юношами. Им даже завидно, что почти сверстник ихний, а гляди ты, еще строевым рубит.
Без запинки отрапортовал Томило, а когда строй дружно ответил генералу на приветствие, воссиял. Да как же не радоваться, если великие усилия затрачены с явной пользой. Его личные усилия.
Потом, как и положено в наш речистый век, начались выступления. Короткие и толковые перемежались, затираемые ими, с длинными и сумбурными, но строй вряд ли воспринимал суть ораторских стараний, все смотрели на меч, выложенный шефами на накрытый зеленым сукном стол — приятная глазу мирная зелень будто отторгала великолепно выкованный меч, большущий, холодно поблескивавший, словно он понимал чего ради придумали его люди, словно гордился своей страшной силой. Но вот потоки слов иссякли и началось главное, ради чего все эти торжества: довольно пожилой рабочий, с нерастраченной, чувствовалось, еще жизненной силой, взял меч и, поцеловав его, бережно преподнес его полковнику Кокаскерову. Слова сказал при этом тихие, но веские:
— Разящий меч пролетариата. Вручая его своему отряду, мы, ветераны его, надеемся, что держать меч будут надежные и сильные руки.
Кокаскеров благоговейно принял меч, поцеловал его и, прижав к груди, тоже негромко, но уверенно, ответил. От имени отряда ответил:
— Клянемся, что будет так! Клянемся!
На репетициях такого не предусматривалось, но начальник учебного пункта не растерялся, поднял руку, все поняли его жест, вдохнули полногрудно и вслед за командирским взмахом выпалили дружно:
— Клянемся! Клянемся! Клянемся!
Здорово вышло. Как надо. Ветераны даже растрогались. Полезли, кто постарше, в карманы за платочками.
Пришло время торжественного марша. Сейчас прозвучит команда. Все уже ждут ее, приготовились ее исполнять, но в это время генерал Костюков, стоявший вместе с начальником войск округа чуть поодаль и наблюдавший за происходившим как бы со стороны, перекинулся несколькими словами с начальником войск и, получив одобрительный кивок, вышел к строю. Расправил и без того бодрые пшеничные усы и попросил:
— Вот что, сынки, после марша прошу всех желающих собраться. О многом я хочу вам рассказать. Я же здесь до революции рядовым казаком служил. И революцию здесь встретил…
Вряд ли кто не желал бы послушать одного из основателей отряда, только добровольность, предложенная генералом Костюковым, не вязалась с армейской субординацией. Раз встреча, тут уж хочешь не хочешь, а ставь оружие, снимай шинель и во взводном строю — в клуб. Вот шефы, те как хотят. Те отслужили свое, походили в строю. Но и у них никаких разногласий не возникло. Они, все бывшие пограничники, хорошо знали Костюкова, хотя многие из них видели его впервые. Знали и то, что он один из «погоревших на Хрущеве». Интересно, скажет ли об этом?
Нет. Не сказал. Не та аудитория. Очень молодая, как он посчитал. Поэтому, не собираясь ограничиваться одним пересказом событий прошлого, решил все же не углубляться в слишком острые проблемы. И саму беседу построить, как он определил себе, доверительно. От трибуны отказался. Пододвинул поближе микрофон, предназначенный для ведущего встречу, и попросил:
— Вы уж позвольте мне, старику, за столом сидя? Уютней так. По-домашнему. Вот и ладно, — разгладил усы, улыбнулся с лукавинкой в глазах и начал: — Вы вот на крепостном дувале наблюдателей посадили и никому невдомек, что и мы их там держали. Только ожидали мы гостей непрошенных. И гадали, появятся или нет. Появились. Привел тех гостей глава контрабандистов Алая Абсеитбек. Он еще до революции много нам, казакам, кровушки попортил, а после революции и вовсе обнаглел. Крепость решил захватить. И захватил бы, не выстави мы предусмотрительно наблюдателей, да не набросай перед дувалом колючей проволоки. А контрабандистов на крепость натравил поручик Левонтьев. Не очень понятно? Иначе и не может быть, когда я с хвоста начал.
И повел Костюков неспешный рассказ о том расколе, какой случился в крепости, когда дошли туда первые Декреты Советской власти.
— Два верховода оказалось. Наш, за народ, значит, Иннокентий Богусловский, за богатеев — Андрей Левонтьев. Красив, гад, был. Язык, что твое помело. Кто еще сомневался, куда притулить голову буйную, он своротил. Мягко стелил. Ой, как мягко. С миром отпустили мы отколовшихся, да и что сделаешь, если нас меньше оставалось. Правда, загорячились иные, на дувал предлагают пулеметы, да длинными по изменщикам. Только Богусловский цыкнул: «Хлеб вместе ели! Под контрабандистские пули вместе шли! Как же можно?!» Можно, оказывается. Левонтьев, уходя с Алая, рассказал Абсеитбеку, что мало нас в крепости осталось. Спасибо Иннокентию Богусловскому, что такую возможность предвидел, приготовил гарнизон к бою…
Подробно пересказал Костюков весь тот скоротечный и жестокий бой, а получилось у него похвальное слово умному, толковому офицеру, без оглядки принявшему новую власть. Иван, слушая Прохора Тихоновича, недоумевал, отчего о себе помалкивает генерал Костюков. Он-то, Иван, знал, как много сделал молодой тогда казак для обороны крепости, а вскоре стал командиром небольшого гарнизона этой крепости, на воротах которой все время гордо развевался красный революционный флаг. И это тогда, когда Туркестан кишел басмачами. Большую силу воли и недюжинные военные способности надо иметь, чтобы совершить такое. Только недоумения те развеял сам же Костюков:
— Вы думаете, почему я больше о Богусловском толкую. Верно, все мы, конечно, не дремали. Иначе, крышка бы нам была. А вот почему… Среди нас сейчас сидит внучатый племянник первого, можно смело сказать, советского начальника отряда. Прибыл он сюда охранять границу и учится сейчас этому нелегкому мастерству…
Все завертели головами, ища знаменитость, ибо даже о том, что Иван Богусловский — сын генерала, знали очень немногие. А Прохор Тихонович специально молчит, чтобы, значит, потомились ребятишки. И только когда в зале зашушукались совсем громко, попросил:
— Встань, Иван Богусловский, покажись народу, воин-пограничник, продолжатель ратных традиций войск. Ну-ну, чего смущаться. Будто девица красная потупился. Гордиться надо, что патриот, что из семьи патриотов.
Но и потом, когда позвал на вечер к себе Ивана, чтобы передать из Москвы приветы и гостинцы, тоже начал со сказанного с трибуны:
— Как я понял, ты не очень-то горд боевой славой семьи. Скромность — штука подходящая, но…
— Вы знаете, Прохор Тихонович, о чем призывники говорили в вагоне, когда мимо кладбищ басмаческих проезжали?
— Интересно, о чем же?
— Зря ваше поколение пулеметы часто в ход пускало. Люди рождаются, чтобы жить. Так, как им самим хочется. А их — из пулемета, если по-своему намерился.
— Ты знаешь, чем это пахнет?! Надеюсь, ты дал отпор?!
— У каждого поколения своя философия.
— Не узнаю сына Владлена Михайловича Богусловского, внука Михаила Семеоновича! Не узнаю! — явно серчая, повысил голос Костюков: — Как же можно?! Будь моя воля!
Иван помалкивал. Он и так много, слишком много себе позволил и больше не хотел пререкаться с уважаемым в их семье человеком. Замолчал и Костюков. Он знал, что Иван служит вопреки воли родителей, знал, как упорно пытались старшие переубедить упрямца, чтобы пошел он дорогой предков. Увы, бесполезно. Знал и причину упрямства, причину такой твердости Ивана. И вот высветилась еще одна грань, которая влияет на выбор жизненного пути.
«Расскажу Анне Павлантьевне и Владлену с Лидушкой. Они-то знают, иль нет?»
Откуда им знать. Сильвестр Лодочников втиснул ему эти мысли, эти понятия. Несколько фраз у вагонного окна, поначалу не принятые, впились, однако, в память; и чем больше Иван думал о могилах вокруг крепостей, тем больше начинал сомневаться, так ли все шло в те годы, как должно было бы идти в естественном ходе народной жизни. Новое это у Ивана. Совершенно новое. И только веские аргументы могли бы развеять эти сомнения, однако генерал в отставке не был готов к такому повороту разговора, понимая, что расхожие фразы о классовой борьбе, о борьбе народа за власть, верные, по его, Костюкова, оценкам, но часто применяемые в дело и без дела, сейчас не годились, а иного, веского, разящего наповал аргумента, у него в загашнике не было. Вот и решил он сменить тему разговора.
— Жаловались мне на тебя, Ваня. Индивидуалист, говорят, сам, но что важнее и дружка своего с панталыку сбиваешь. Помогал, говорят, прежде всем щедро, теперь по твоей тропке топает. Мало того, громогласно заявил о необходимости бороться с иждивенчеством. Поясни-ка, Ваня, что за бунт против армейских устоев, против пограничного закона — сам погибай, а товарища выручай?
— Никакого бунта, Прохор Тихонович, нет. Это — раз. Второе, зачем и кому нужны, Прохор Тихонович, пояснения. Все всё понимают, но всех устраивает сложившееся, когда иждивенцу легче всего, а спина, ему подставленная, выдается за героическую. Для общей хорошей оценки подразделению лучше не придумаешь. Без больших усилий со стороны командиров она обеспечивается.
Я считаю это вредным, но, Прохор Тихонович, никого я не собираюсь принуждать думать моей головой. Поступаю по своему разумению и — все.
— Э-э-ге, Ваня. Не узнаю в тебе Богусловского. Богусловские всегда твердо на своем стояли.
— И я стою.
— Ты стоишь?! Ты пока в две дырки сопишь! А за свои идеи нужно громогласно бороться. И самому. Без подсадной утки. Что — смелости самому не хватило, что дружка на трибуну выпустил?
— Не друг он мне, Прохор Тихонович. Набивался в друзья, было такое, только раскусил я его…
Стараясь не упустить ни одного слова, пересказал Иван все, что невольно подслушал через открытое окно сушилки. О беседах Сильвестра Лодочникова с учебным пунктом рассказал, заостряя внимание генерала Костюкова на заданность тех бесед, на акценты в них. О своем намерении выступить на комсомольском собрании рассказал. И услышал в ответ:
— Из мухи слона, похоже, ты, Иван, городишь. Вопросики шильные, думаю я, лейтенанту-замполиту на пользу. Пусть грамотешки набирается, если в детстве не сумел. Ну, а грудь вперед — разве осудительно для молодого человека? И тебе не заказано.
— Понимаете, Прохор Тихонович, вижу я: цель какая-то преследуется.
— Логично. Любые поступки человеческие имеют конечную цель. Иное дело, какую. Уж не вражескую ли? — улыбнулся Костюков. — Максималисты вы, молодые. Натура, видимо, у парня такая. Показушник он, как я их называл. Их много у нас таких развелось…
Как раз вот на такой вывод рассчитывали Трофимы Юрьевичи, направляя своих посланцев в армию. На веру в то, что раз объявлено в Конституции: «Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина», значит, каждый гражданин почитает этот долг поистине священным. И никаких возможных отклонений. Конституция же — всенародная. И не меньше! Кто ж осмелится эту самую всенародную попрать? В армии к этому привыкли, ибо это была официальная точка зрения, подкрепляемая постоянно массовым нажимом всех идеологических процессов, и никто из командиров вслух не говорил (хотя и время стало более открытым и смелым) о том, что основная масса парней, надевших шинели, считают и выпитые, и оставшиеся компоты и везде, где только возможно такое, выжигают, вырезают, малюют красками даты предстоящих увольнений, что добры молодцы годы службы выкидывают из жизни как потерянные — понимать, видимо, какая-то часть офицеров это понимает, но тоже помалкивает: как же против официальной точки зрения пойдешь, карьере тогда, считай, конец. Заморозится у умника звание, тормознется и должностной рост. Для кадрового же офицера это равносильно смерти.
А поколение Костюкова, которое само искренне верило в силу партии, руководимой Великим Вождем, продолжало жить прежним пониманием душевного настроя общества, тем более, что никто из молодых им не перечил, не пытался расшатать хотя и ложные, но все еще крепкие нравственные подпорки.
Да, молчальники делали не менее грязное дело, не осмеливаясь заговорить громко. Нет, они бухтели, они даже горячились на трибунах, только предмет обсуждения был не тот, какой должен бы быть в то раскрепощенное вроде бы время. Обсуждали лишь то, что не могло привнести беспокойства, было испытано временем. И то верно, куда как проще все выкрутасы солдатские объяснить огрехами воспитания в семье и, тем более, в школе; объяснить тем, что не зрел еще юноша, не сложилось у него твердое мировоззрение — объяснить все привычными штампами и закрутить колесо идейного воспитания на полные обороты, чтобы обязательно видно было, как здорово оно крутится.
А с пользой ли? Кому какое до этого дело. Важно, чтобы крутилось колесо. Обрядность важна, как извечно было на Руси, а не вера. И чем внушительней и масштабней обрядность, тем больше авторитета у организаторов этой обрядности. Не только у начальства они в фаворе, но и в собственных глазах — великие мастера.
Чем отличался генерал Костюков от иных руководителей своего времени? Ничем. Перемололи командирские высоты с годами и его природный ум, и независимое восприятие жизни и людских отношений. Вот он и нравоучительствовал Ивану Богусловскому, вполне уверенный в своей правоте:
— Не мельтеши, Иван. За принципиальные взгляды борись, главные принципы отстаивай смело, а на пустяки не траться. Терпимей будь к своим товарищам. Да и врагов нужно ли наживать, не ведая чего ради бодаться? Лучше сто друзей, чем один врат.
Ошибочным было бы утверждение, что Костюков убедил Ивана Богусловского, но нельзя сказать, что разговор этот не повлиял на ход мыслей парня, на его поступки. От выступления, которое он прежде просто перенес до другого собрания, теперь отказался вовсе. Отношение к Сильвестру стало у него ровней, терпимей. Проходил он мимо того, что не принимал, вроде бы не замечая.
До поры, правда, до времени. Когда поймет, наконец, что не все, что советуют старшие, нужно принимать даже с оговорками. Но до того времени пройдет несколько месяцев. Упущенных месяцев и, увы, необратимых.
Глава седьмая
Как-то так получилось, что на Сары-Кизяке создался тот же микроклимат, что и во взводе Абрамова на учебном пункте. Старший лейтенант отобрал из своего взвода вроде бы не так уж и много, но среди тех немногих были Сильвестр Лодочников, Михаил Охлябин, Прокоп Скарзов и Иван Богусловский. На Ивана старший лейтенант Абрамов не зарился, видел, что запросто тот разговаривает с начальником отряда (а кому нужен глаз начальства под боком), к тому же против Богусловского был и лейтенант Чмыхов. Прямо не высказывал это свое мнение, но дегтю капельку-другую своевременно капал в ложку меда:
«— Толковый, вроде бы, боец, ничего не скажешь, только с пониманием пограничной дружбы у него не совсем того. Я с ним не пошел бы в разведку.
А пограничная служба, она, фактически, и есть разведка. И потом… Отдаст ли нам его полковник Какаскеров?»
Верно, Рашид Кулович имел виды на Ивана Богусловского — намеревался взять его в отряд на комсомольскую работу. Вопреки сомнениям майора Киприянова. Для Ивана работа эта, как считал Кокаскеров, будет интересной, а для отряда полезной, но когда сказал об этом Ивану, тот отмел подобное решение его солдатской судьбы.
— Нет! Только застава!
Вздохнул Кокаскеров, пожал плечами, попытался переубедить, но в конце концов согласился:
— Хорошо. На ту, где служил твой отец.
Вот так оказался Иван вместе с Сильвестром. Себе на горе.
Но не только это способствовало созданию такого же, как во взводе, микроклимата. Главное — на организационном собрании Сильвестра, по рекомендации старшего лейтенанта Абрамова и при горячей поддержке лейтенанта Чмыхова, избрали секретарем комсомольского бюро. Проголосовали единогласно, хотя большая часть заставы, которая особенно по второму и по третьему году службы, совершенно не знала Лодочникова. Они уже надумали свою кандидатуру. Сержанта Антона Буюклы. Из Ленинграда. Все, какие установлены для солдатов знаки отличия, у Буюклы на груди. Еще в нем подкупало: безмерно добр, но не панибратствует с отделением. Что положено по уставу и по инструкциям, спросит. Без отступления. Педантично. Чтобы все до буквы. Но как-то у него так получалось, что почти никогда он не повышал голоса. Не в пример другим сержантам. А чтоб оскорбить кого сознательно иль даже ненароком — такого вовсе не замечалось за ним. Вот и слушались его подчиненные, прощая всегда излишнюю педантичность.
Но не только «своим» приглянулся сержант Буюклы, и молодые солдаты проникались к нему все большим уважением. Затмевал он собой Сильвестра. Чистосердечной добротой. Не показной, а деловой. Не словом брал, а делом.
Те первые недели на заставе, когда парни притирались друг к другу, обнюхивались и каждый выбирал себе кумира, выбирал друга, были и колготными, и неустроенными, и чрезмерно напряженными. Да и как могло быть иначе. Что такое обживать заново простоявший хоть и невеликий срок без хозяйского пригляда дом? А тут целая застава. С обилием всяческих построек. Все нужно подновить, сделать на складах полки и стеллажи, а потом распихивать на них запасы продуктов, обмундирования, боеприпасов. Не успели с этим справиться, за конюшню принялись. В ней тоже работы непочатый край. Коней же ждали со дня на день, вот и вкалывали, забывая об отдыхе.
И вот в это-то время отошел на второй план кумир молодежи Сильвестр Лодочников — его потеснил сержант Буюклы. Получилось как-то незаметно. Сильвестр из кожи лез, чтобы быть на виду. Где трудней, там всегда он. Но если на учебном, на кроссах и на стрельбах, он, по просьбе, безусловно, Абрамова, абордажил, то здесь никто его уже ни о чем не просил, а сам он даже не думал пожалеть уставшего. Сержант же Буюклы будто чувствовал, кто устал, кому невмоготу, тут же находил тому работу полегче, а сам вставал на его место. Не белоручкой — командиром вставал, не для плезиру, а равный с равными.
Все это выглядело обыденно-просто, и никогда сержант не упрекал никого за усталость и слабосилие. А если кто начинал сопротивляться, не отдавать лопаты и носилок, сержант успокаивал. Всегда с доброй улыбкой:
«— Долгая еще впереди служба, всего достанет с избытком…»
Как такого командира не станешь уважать.
Тревожило такое положение дел Сильвестра. Лодочников понимал, что Буюклы — не ставил перед собой цели стать неофициальным лидером, он просто поступал, как подсказывала ему его совесть, поступал привычно для себя, но именно это страшило Сильвестра, имеющего цель и обдумывающего каждый шаг по пути к этой цели.
Клин клином вышибить? Но зачем? Не такого уважения добивается Сильвестр. Он, Сильвестр Лодочников, должен понукать. Все лучшее, что положено солдату, должно быть у него. Пока за счет ущемления одногодков, а потом, когда старшие уволятся, то и всей заставы. Он один будет вправе либо карать, либо жаловать.
На учебном проще, там все салажата, там быстро он добился желаемого, здесь сложней. Но не отступать же, не пятиться, не вставать на цыпочки перед сержантом.
Решил вновь вернуться к беспроигрышному варианту игры, к уже испытанному на учебном. Зацепку нашел быстро. Дело в том, что, обустраивая заставу, службу несли не в полную нагрузку. Крепостная так и продолжала дозорить тропы, но на Сары-Кизяке к принятию участка под полную охрану готовились деятельно, изучали его основательно, а вместе с тем шла и морально-психологическая подготовка. С помощью бесед она велась. Очень активно. И чаще всего, в разных вариантах. Естественно, говорилось о священности и неприкосновенности советских границ. Вот тут и поднял руку Прокоп Скарзов. На одной из бесед, которую проводил лейтенант Чмыхов.
«— Товарищ лейтенант, мы, чай, атеисты? Верно говорю? Верно. Чай, священники цареву границу святой водой кропили, а мы чего эт талдычим: священная, священная?»
«— Принято так, рядовой Скарзов, говорить. Принято. Фактически товарищ Ленин так сказал. И товарищ Сталин подтвердил. Я так понимаю: верующие поклоняются святым, а для нас с вами святой фактически является наша земля, граница нашей земли. Все ясно? Вот и ладненько».
Больше вопросов никто не задавал, но после беседы рядовой Лодочников подошел к лейтенанту Чмыхову.
«— Давайте, — предложил, — проведем вечер вопросов и ответов. Такой, допустим: Наша священная граница».
«— Зачем? — искренне удивился лейтенант Чмыхов. — Разве не ясно я объяснил? Лучше, думаю, по инструкции провести. Взять какой-нибудь вид наряда и… Молодые старослужащим вопросы. А? Больше толку, фактически».
«— Не скажите, товарищ лейтенант. Лозунг священности границ, провозглашенный вождями нашей партии, имеет не только большой смысл, но и говорит об их высокой эрудиции. Я бы мог…»
«— Хорошо. Подумаем».
Лейтенант Чмыхов, поначалу радовавшийся, что нашелся у него такой толковый помощник, постепенно начинал понимать, что Лодочников как бы заслоняет его, лейтенанта, выпячивая свою грудь вперед; но поняв это, продолжал все же благоволить Сильвестру, учась у него и надеясь узнанное здесь, использовать в дальнейшей работе. Он даже конспектировал беседы Лодочникова, сразу же, возвращаясь после каждой из них в свою комнату; а когда узнал, что и дальше служить им вместе, определил: придерживать слишком грамотного солдата, держать его в тени ради своего авторитета — лейтенанта вполне устраивало поведение Лодочникова в первые недели жизни на заставе, и он уже уверился, что прыть «умника», как он называл Сильвестра, прошла, только, выходит, все поворачивается на прежний лад.
«Нет! Не выйдет! — твердил Чмыхов возбужденно. — Не дам больше пялиться. Хватит!»
Только Лодочников не просто предлагал поделиться с товарищами своими знаниями (эрудиция сослуживцев его вовсе не волновала), у него была цель, своя цель. Дал он поэтому денек-другой лейтенанту «подумать» и поняв, что тот не ловит мышей, подкатился к старшему лейтенанту Абрамову с идеей вечера вопросов и ответов. Ну, а тому что? Он в тонкости отношений замполита и солдата-активиста не вникал и вникать не хотел, мероприятие же хорошее. Прекрасное мероприятие. К тому же, инициатива снизу.
Прошел тот вечер совсем незадолго до комсомольского собрания с триумфом для Лодочникова, ибо древнеримская легенда об основателях Рима, хорошо известная в интеллигентских кругах, оказалась здесь, на заставе, сенсационной. Только Иван Богусловский знал о ней, все же остальные слушали, разинув рты, о том, как устроил Ромул алтарь и зажег жертвенный огонь, ставший священным огнем города, как, запрягши в плуг с медным сошником белого быка и белую корову, Ромул в одежде жреца бога границ Термина пропахивал глубокую борозду — границу города — и что после этого действа уже никто, ни местный житель, ни чужестранец, не могли переступить эту борозду. Выход и вход в город был только через ворота, где борозда прерывалась.
На месте борозды потом построили стены, которые тоже стали почитаться священными, а оберегать их нерушимую святость призваны были все римляне.
— Вот в чем патриотический смысл сегодня бытующего термина «наши священные границы». Но имейте в виду, что руководители нашей партии, взяв на вооружение дух древний легенды, заимствовали, наверняка, идею самого мудрого из семи первых царей Рима — Нумы Помпилия. Сам, якобы, Юпитер сбросил с неба в руки царя чудесный щит для спасения города, и на том месте, где это свершилось, Нума построил храм богини Весты, храм верности, и храм бога границ — Термина. Нума сумел убедить сограждан, что бог рубежей еще и блюдет справедливость, является стражем мира. Если, значит, границу хорошо стеречь, это будет сдерживать силы неприятеля, силы захватчиков. При Нуме все так и было: сорок три года ворота храма бога войны Януса не открывались. Теперь, я думаю, Прокопий Скарзов больше не станет мешать истинную священность, к какой призывает нас наша партия, с поповской святой водой, — закончил свое долгое, но никого не утомившее выступление Лодочников под громкие хлопки товарищей.
Только Прокоп Скарзов набычился. Для всех это показалось удивительным, — что на шутку обижаться, — и только Иван Богусловский знал подоплеку обиды Скарзова.
О ней бы и рассказать ему, Ивану Богусловскому, на комсомольском собрании, но нет, промолчал. Памятуя наказ генерала Костюкова не мелочится, не наживать врагов пустяка ради.
Только что греха таить, выступи Богусловский на собрании, иначе могли бы отреагировать бойцы на рекомендацию старшего лейтенанта Абрамова. Глядишь, упал бы на несколько пунктов авторитет Сильвестра, а к чему бы это привело — думать да гадать можно. Во вся ком случае, не ко злу.
Дело, увы, сделано. Умолчание состоялось. Сильвестр праздновал победу. Определил он себе образ действия тот, на какой рассчитывал, планируя себя комсомольским работником отрядного масштаба: расчленять молодых со стариками, прикрывая это демагогией об укреплении воинской дисциплины, о соблюдении уставной уважительности. По-своему, короче говоря, перетолковывал уставный раздел «Старшие и младшие».
Никто Сильвестру в этих деяниях не мешал, не требовалось ему уж очень сильно напрягать свои извилины, чтобы прикрыть свои намерения благими лозунгами. Все под рукой — бери и пользуйся. Подготовил и провел он бюро с повесткой дня: «Комсомолец, отдай свои знания и умения товарищу». Решение написал, как определяет комсомольско-партийная лексика, очень конкретное. Почти все «старички» были закреплены за молодыми солдатами в качестве наставников. Позволил себе Сильвестр даже поюморить: закрепил сержанта Буюклы за рядовым Богусловским.
Неспроста, верно, тот юмор появился. Шевельнулась у Сильвестра тайная мыслишка, что не примет помощи Иван Богусловский, и это приведет к конфликту между ним и сержантом, появится повод вмешаться в тот конфликт, а уж раздуть костерок он, Сильвестр, сумеет. Осмотреть перышки обоим. Руками комсомольских «низов», руками лейтенанта Чмыхова.
Правда, крылышки опалить Богусловскому и Буюклы Сильвестру не удалось, хотя действительно, как и рассчитывал Лодочников, Иван воспринял решение бюро с недовольством и обидой. Поговорил, однако, со своим наставником очень спокойно.
«— Решение бюро, товарищ сержант, надлежит выполнять, я это понимаю, но, помните, меня не надо гонять на корде, мне достанет и силы духа, и знаний для прилежной солдатской службы. Мне бы импонировали такие отношения: что меня затруднит, я обращаюсь за помощью. Сам обращусь. Не носите в душе обиды, поймите, иначе я себя перестану уважать».
Понял Антон Буюклы Ивана, и потянулись две молодые души друг к другу к явному неудовольствию и злости Сильвестра.
Съюморил, называется. Себе же заботу создал. Не оставлять же их без влияния, не позволять же им дружить. К добру не приведет.
Но если здесь Сильвестр просчитался, то в остальном решение бюро начало действовать в нужном ему направлении. Тем более что сам Лодочников держал под контролем все пары, время от времени активизируя старичков. Око комсомольского бога, как называл Сильвестра даже с трибуны старший лейтенант Абрамов, можно смело отнести к недреманному: все подмечало это око каждую мелочь не упускало. Даже такие, к которым не особенно-то придирались. Вроде бы чист еще подворотничок у кого-либо из молодых, а Сильвестр наставнику внушение, что худо, дескать, блюдет он всезаставское комсомольское дело. Наставляет, чтобы поучил, повоспитывал.
Через «кобылу» парень не прыгнул, хотя случилось это только что со сна, когда не взбодрился еще как следует, только Сильвестр — не отделенный, который подобные мелочи не учитывает. Тут же следует выволочка наставнику: солдат должен быть всегда солдатом, в любой миг действовать с полной отдачей сил, и именно к этому надлежит приучать молодежь, тренировать и тренировать. В каждую свободную минуту.
А не дай бог проверяющему первому заметить пограничный наряд. Туши, тогда лампу. Посчитает тогда Сильвестр вальком ребра и неудачливому солдату, не сумевшему хорошо замаскироваться или бесшумно двигаться, и нерадивому наставнику, не передавшему свой опыт молодому. Наставнику перепадает даже больше.
Но кому, скажите мне, хочется быть притчей во языцех на собраниях и заседаниях бюро? Тем более, за чужие грехи. Нет, увольте. Оттого все чаще и чаще то на плацу, то в спортгородке, то в городке следопыта стали «натаскивать» старики молодых. И, естественно, очень далекими от терпеливой педагогики приемами.
Безропотно, однако же, подчинялись наставникам молодые солдатики, терпели и грубость, и оскорбления. Мешок с мухами — стало привычным сравнением, на него никто уже не обращал внимания. Шутили даже: ну и что, что не летит, но шевелится же.
Покорность эта распоясывала отцов-наставников, и они становились полными властелинами подшефных. А для Сильвестра — это бальзам на душу. Он рад тому, что все идет по его плану, но он и бдит, чтобы никто не стопорнул его комсомольскую инициативу. И при первой же попытке вмешаться, Сильвестр буквально ринулся в бой. Как бык на красный лоскут.
А случилось совсем пустяшное. Зашел сержант Буюклы, вернувшись с границы, в комнату чистки оружия, чтобы привести в порядок автомат, а там идет полным ходом тренировка. Скарзов, оказывается, на химтренаже не успел в нормативное время облачиться в противогаз и напялить затем на сапоги защитные чулки. Естественно, Сильвестр тут как тут с упреком к наставнику Скарзова. Ну, а тот что? Вполне понятно, решил наверстать упущенное. И вот когда Буюклы оказался в комнате, напряжение тут дошло до максимума, едва не зашкаливая. Скарзов, набыченно-красный, стаскивает защитные чулки, которые почему-то упираются, а наставник, втиснув руки в карманы, разводит педагогику:
— Защититься от химического нападения врага — это тебе не быкам хвосты крутить и не девкам юбки задирать. Деревня! В двух веревочках запутался…
— Не спеши и не нервничай, Прокоп, — вмешался сержант Буюклы. — Давай, я покажу. Вот так. Руками к чулкам не прикасайся. Они же условно заражены. Ну, вот и хорошо. Видишь, получается. Давай, еще разок и — иди отдыхать.
— И то верно, — быстро согласился Скарзов. — Чай, замордуешь когда человека, какой толк от него.
Хороший урок наставнику, и даже не мог предположить сержант Буюклы, как будет расценен этот его педагогический шаг, продиктованный исключительно благими намерениями. Только отоспал он положенное, тут же вызвал его начальник заставы. И с порога, как говорится, в лоб:
— Жалоба на тебя поступила. Подрываешь авторитет комсомольского бюро, препятствуешь выполнению его решений.
— Не знаю. Не было такого.
— А я знаю! По какому праву отменил вчера тренировку со Скарзовым?! Разве он твой подчиненный?! То-то. Молчишь. Секретарь настаивает на проведении внеочередного бюро. Я — санкционировал. Лейтенант Чмыхов тоже не возразил.
Как ни удивительно, первым на бюро выступил рядовой Скарзов, специально приглашенный на заседание. И к полному недоумению Буюклы, сказал противоположное вчерашнему:
— Жалеть нас, молодых солдат, можно, конечно, только во вред сердобольство. Солдат все приемы обязан отработать до автоматизма, а для этого нужно тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться, — попугайно повторил Скарзов чужие слова, совсем не свойственные его стилистике, но закончил по-своему, по-скарзовски: — Чай, всем известно это, и товарищ сержант знает, а вот мешается чего-то…
Вот тебе и на! Зарядили рядового Скарзова. Крепко зарядили. Только, у самого где совесть?
Все, что потом говорилось на бюро, а говорилось одними страстно, другими для проформы, ибо секретарь просил активно вступиться за авторитет комсомольского бюро, все скользило мимо Буюклы, едва цепляясь за его сознание, потому что потрясен он был до глубины души подлостью Скарзова. Никак не соединялись две фразы, вчерашняя: «— Чай, замордует когда человека…» и сегодняшняя: «—Товарищ сержант мешается…». Отлетали две эти фразы друг от друга со звоном, и звон тот мешал сосредоточиться и уловить, что говорят члены бюро. И лишь когда заговорил лейтенант Чмыхов, клин клином вышибло. Слишком обидное говорил замполит.
— Я не понимал, почему с прохладцей, даже с ленью выполняет решение выборного комсомольского органа, им самим выбранного, комсомолец-сержант, совершенно, фактически, не занимается со своим подопечным, а вот сейчас мне стало ясно: не лень и нерадивость в основе, а принципиальное нежелание… Он, видите ли, фактически, умнее всех. Решил, видите ли, не выполнять решения бюро. Еще и другим палки в колеса вставляет.
— Но, товарищ лейтенант, рядовой Богусловский не значится в отстающих, ему не нужна моя помощь…
— Помощь нужна всем! И даже мне. Человек не может, фактически, все знать, все уметь. Вы, товарищ сержант, подумайте над этим вопросом. Серьезно подумайте и сделайте надлежащий вывод. Ясно?!
Ясней некуда. Только гложет обида. Ой, как гложет. И не понятно, к тому же, что происходит на заставе. С ног на голову все ставится. И никто не хочет этого понять, никто не хочет остановить раздрай, пока не зашел тот слишком далеко от недовольства скрываемого, не перерос в открытую конфронтацию молодых и старичков. Кажется, один Иван Богусловский видит истинное положение дел, но как-то со стороны на все смотрит.
Решил сержант расшевелить Богусловского. Внушить ему, что нельзя жить по принципу: моя хата с краю.
Увы, задуманное не получилось. Обратное вышло: Богусловский успокоил сержанта:
— В крови у Лодочникова — быть первым верховодой. А лейтенанта Чмыхова он давно, когда еще на учебный нас везли, за пояс заткнул. За пазуху, верней, засунул. А от тренировок, думаю, лишняя польза есть. Пусть тешится. Ради доброго дела кое-что ему можно и простить, не кипятить в себе обиду.
Не согласился сержант Буюклы, тем более, что имел поддержку. Никто на заставе не остался, чтобы не высказаться о происшедшем, и добрая половина считали сержанта правым и незаслуженно обиженным.
Увы, говорилось это только в курилке или в ленкомнате, когда там не было офицеров или самого Сильвестра. Жизнь же продолжала идти так же, как шла до заседания бюро, совершенно не меняясь, и если кто из молодых пытался было ершиться, комсомольский секретарь тут же принимал надлежащие меры.
А вскоре события навалились так густо, что стало не до мелких неурядиц. Вскинул с кроватей зычный голос начальника:
— Застава, в ружье!
Что ж, привычное дело: ноги в сапоги и — к пирамидам. Но только самые расторопные кинулись к своим автоматам, им наперерез — лейтенант Чмыхов. Поясняет:
— Оружие не брать. Строиться на плацу. В куртках.
Что-то не совсем понятное. Но, что тут размышлять, начальству с бугра видней. Раз подняли в ружье без ружья, так, стало быть, надо. Сейчас, на плацу, все растолкуют.
И верно, растолковал старший лейтенант Абрамов:
— С минуты на минуту к нам прибудут кони. Сейчас распределим станки, согласно списочного состава отделений, потом каждый из вас получит лошадь. Меня предупредили, чтобы мы приняли все, как положено: нет ли натертых спин, полностью ли положенная амуниция. Лошадей передают нам из кавполка, который расформировывается, поэтому глаз да глаз нужен. Особенно я полагаюсь на старослужащих и командиров отделений.
Обещанные минуты растянулись в часы. Станки распределили, конюшню промели, колоду для водопоя вылизали, сена наготовили, уже по второй да по третьей самокрутке высмолили, а коней все нет и нет. Зубоскальство уже началось. Исподволь поначалу, робко, зондажно, но потом набирая силу. И тут Сильвестра осенило:
— Чем языки чесать, давайте повторим, что коням положено. Принимать же будем.
Выход, конечно. Сбегали за наставлениями и разбились на кучки. Время пошло быстрей. Но все равно пришлось отделенным по второму кругу спрашивать, придираясь к каждой заминке. Что ж делать, если вышка молчит.
Но вот долгожданное:
— Едут!
Высыпала застава за ворота. Полюбоваться строевыми конями кавполка. И погрустнели у всех лица. Далеки кони от справных и ухоженных, ох, далеки, хотя статей хороших, явно заводских.
— Буденновские, — кто-то определил.
— Занюхоновские, — поправили тут же знатока и никто даже не улыбнулся. Грустное молчание вновь воцарилось среди встречавших.
Снаряжение тоже оказалось «занюхоновское», грязное и рваное, а все потники можно с чистой совестью бросать в костер.
Взводный, приведший колонну, оправдывался перед старшиной:
— Года два ничего не получали. Расформировываться готовились. А не хотите если принимать, ваше дело. Мы вольт направо и — восвояси. Пусть у высокого начальства голова болит.
Оно бы, конечно, по закону если, то принимать не стоило бы, только скандал кому нужен. Старший лейтенант Абрамов повелел не привередничать и только записать в акт, что бывшее в употреблении.
А для солдатиков это решение командира обернулось многими недоспанными часами и приобретением специальности шорников. Смежной специальности, какие так уважительны в нашем обществе.
Бойцы, правда, гордости от новых своих приобретений не испытывали. А зря. Не за спиной же носить, что знаешь и что умеешь. Но что поделаешь, если так несмышлена молодость. Впрочем, если говорить откровенно, бойцам-кавалеристам недосуг было раздумывать о приобретениях и потерях. Голодали лошади. Нет, старшина не экономил ни сено, ни овес, выдавал всю норму без ос г татка, но больше ни грамма у него не выпросишь, хоть лбом о каптерку и сенник бейся. Ну, а норма — она есть усредненное понятие. Рассчитана она на коней армейских полков, где лошади только и работы, что на водопой сходить или часок-другой на манеже погарцевать. Пограничный же конь неизмеримо больше тянет, его и кормить бы сытней, только где взять лишку. У оседлых застав сено летом накошено, вволю там этого доппайка, а Сары-Кизяк в сенокосное время за колючей проволокой еще стояла. Вот и закавыка.
Могут, конечно, соседи поделиться, только много они не дадут. От силы три-четыре брички. Не выход. Одно остается, просить у Кула конную сенокосилку и по затишкам, где высокая трава, начать сенокос. Снег еще едва только запорошил землю, февральские метели еще не бушевали. Время до них еще есть, можно сделать запасец.
Но пока суд да дело, можно, подумали, и взаймы у Кула немного взять. До летнего сенокоса. Не откажет, наверное. Не должен.
Только все, о чем судили да рядили в канцелярии, оказалось совсем зряшным. Возмущению Кула не было, казалось, предела:
— Зачем долг?! Какой такой долг?! Зачем косить?! Трава жесткий, как палка. Какой польза лошадке? Вон сколько Кул косил, все бери! Какой такой вы люди?!
— Да мы… как лучше. У вас же, товарищ Кул, своего скота вон сколько.
— Лучше будет бешбармак кушать. Кумыс пить лучше будет. Айда юрта пошли. А барашка, не бойся, помирать не станет. Пасти буду. Жилки-лошадка тоже пасти. Когда раньше было, тогда никто не косил сено, барашка и жилки не помирал…
Даже Чмыхов, деревенский человек, не совсем оценил, какую заботу взвалил на свои стариковские плечи Кул. Мороз ли, пурга ли, все одно выгоняй пасти овец и лошадей, от темна до темна сам маячь в седле, а не попивай кумыс в теплой юрте. Ну а старший же лейтенант Абрамов жертву Кула принял как должное.
Что ж, отработка за то, что день и ночь охраняем. Хоть шерсти клок.
Застава, конечно, довольна, хотя и работы еще прибавилось. Сено-то нужно возить. На бричке. Правда, Чмыхов, Охлябин и Скарзов ловко ее переоборудовали, сделав втрое вместительней, только и коней на заставе не пара. У каждого пограничника — конь. Еще и обозные есть. В общем, предельно уплотнилось и удлинилось время хозработы.
Ко всему прочему еще и станки поползли. Вроде бы хорошо трамбовали, только у старичков отчего-то под конями пол что тебе асфальт, а у молодых — весь в выбоинах. Ширятся они и глумятся, как ни латай. Выходило, как не крути, все заново нужно трамбовать. И тут Сильвестр Лодочников предложил провести комсомольский субботник. Чтобы все скопом навалились, но чтобы каждый обихаживал свой станок. По принципу личной ответственности.
Идею поддержали. День субботника наметили, стали готовиться к нему, мастеря дополнительные трамбовки, востря лопаты и ломы. Но надо же такому случиться, что за двое суток до субботника граница преподнесла сюрприз.
Давненько такого не бывало. С самого того времени, когда бежали разноплеменные ободранные и голодные толпы от Культурной революции в Китае. Тогда, правда, шли и шли беспрерывно не одни сутки, теперь же все походило на миниатюру того прошлого. А началось так же неожиданно. Наряд, несший службу на перевале, увидел цепочку разнохалатных мужчин и женщин, которая трусцой поднималась по тропе на перевал.
— Связь с заставой, — тут же командует Ивану Богусловскому старший наряда сержант Буюклы, не отрывая бинокля от цепочки, которая вытекала и вытекала из недалекого ущелья на тропу без разрывов, как единое тело. Будто кто-то там, в ущелье выстраивал оборванцев друг за другом, а потом еще и подхлестывал их камчей, от которой и бежали обезумевшие подневольные.
Иначе чего ради на перевал бежать. Горец ты или нет, высота для всех — высота. Если шагом, тогда ты, может быть, и неутомим, но бегом?! Только страх может на такое толкнуть. Только принуждение. Или погоня. От которой нужно спешно удирать.
С этого и начал доклад сержант Буюклы:
— Через десять минут они будут на перевале. Вдвоем удержать не сможем. Нужна поддержка.
— Как не сможете?! — обрезал старший лейтенант Абрамов. — Приказываю: через перевал никого не пускать. Держать до прибытия тревожной группы. До последнего держаться.
Да, задачка. Тревожная подоспеет самое малое через полчаса. Только причем тут тревожная группа? Всей заставы тут мало будет. Расползутся перед перевалом, останови попробуй.
Не поднял заставы старший лейтенант Абрамов. Так мыслил:
«Подумаешь, толпа. Предупредительная очередь вверх, сразу остановятся. Никуда не денутся. Жить каждый хочет».
Понять Абрамова, не оправдывая его, можно: первый раз человек с таким встречается. Какой у него пограничный опыт. Почитай, никакого.
Не ведомо, чем бы все окончилось, не доложи дежурный по заставе дежурному по отряду. Он-то из старичков, свои обязанности хорошо знает.
Через несколько минут — звонок в канцелярию. Сам полковник Кокаскеров вопрошает взволнованно:
— Что у вас? Почему лично не докладываете?
— Так, не ЧП же. Безоружные люди двигаются к перевалу. Там наряд есть. Во главе с сержантом. Дополнительно выслал тревожную группу.
— О! Шайтан!
— Что вы сказали?
— Ничего. Слушайте меня внимательно. Лучше записывайте. Немедленно заставу поднять в ружье. Усиленный наряд — в пещеру к Кулу. Пусть возглавит замполит ваш. На заставе оставить минимальный резерв со старшиной, со всеми остальными лично на перевал. Спуски в долину перекроет Крепостная. Ей придаются все, кто сейчас находится в крепости. Я вылетаю немедленно. Ясно?
— Так точно, — ответил Абрамов, все еще не понимая сложности момента и удивляясь, чего это ради так колготиться.
«И начальник отряда туда же: лучше пере, чем недо…» Приказ, однако, есть — приказ. Его следует выполнять безоговорочно и в срок. Это Абрамов знал хорошо. Этому его еще в пехоте научили. Крикнул, поэтому, дежурному, чтобы поднимал заставу, а сам достал из сейфа свой и Чмыхова пистолеты.
На перевале ситуация к этому времени сложилась критическая. Ни призывы сержанта Буюклы не нарушать границу, ни предупредительные автоматные очереди никак не влияли на трусившую вверх цепочку. Бежавшие будто были предупреждены, что именно так их встретят, поэтому не обращали внимания ни на окрики, ни на стрельбу поверх голов: они были будто уверены, что по ним самим стрелять пограничники не станут.
И то верно, как стрелять по безоружным. Рука не поднимется. Женщины, старики. Худоба сплошная, что тебе тростник сухостойный. Среди них, правда, довольно много молодых мужчин. Среди передовых они. Это уже меняет дело. Что-то тут не то.
— Что будем делать, — спросил Иван Богусловский сержанта. — Сомнут нас и потопчат.
— Стоять будем. Стоять! — решительно ответил Буюклы и добавил, с улыбкой глядя на Ивана. — Ну, а… Бог не выдаст — свинья не съест.
Голова цепочки потянулась уже к тому месту, где с тропы можно сходить и вправо и влево; и в тот самый момент, словно по команде, будто загодя это репетировалось, люди, загнанно-усталые, без всякой остановки стали разбегаться меж валунов, чтобы россыпью подниматься к границе. В центре же остались молодые мужчины. Точно такая же, как и у всех, ветхая одежда на них, только лохмотья не могли укрыть их упитанной стати.
Антон Буюклы и Иван Богусловский, теперь уже с пронзительной откровенностью увидели в этом что-то зловещее, сердца их сжались от недоброго предчувствия, но они уже не в состоянии были хоть как-то повлиять на происходившее. Один выход — стрелять по толпе. Да, инструкция позволяет сделать это, только не одними инструкциями жив человек. Не муравьи же они в общем муравейнике, а люди. Пусть зажатые рамками устава и инструкций, но люди же. Кто осудит их за гуманность, ради которой они сами рискуют быть смятыми и затоптанными.
Наверное, найдутся такие судьи. Не без того. В семье не без урода. А вот если они сейчас, струсив, не пересилив себя, начнут безоружных косить, к тому же на сопредельной еще территории, тут уж сам у себя никогда прощения не вымолишь.
Вот такой расклад. Иного выбора нет. Остается одно: стоять и ждать, видя, как все ближе и ближе приближаются крепкие мужчины.
Вот они уже рядом, вот окольцовывают пограничников. Молча и плотно. Двойным кругом. Совершенное безразличие на лицах. Потрясающие маски. Невероятное умение владеть собой, скрывать свои чувства.
Воздух в круге как-то сразу сгустился, наполнился вонью от давно немытых тел. У Ивана Богусловского закружилась голова, обмякли ноги, и чтобы не упасть, ухватился он за плечо сержанта.
— Ты что?!
— Дышать нечем, — прерывающимся голосом ответил Богусловский.
— Это уж точно, — согласился Буюклы, потом подбодрил, повторив уже говоренное: — Бог не выдаст — свинья не съест. Вот-вот тревожная подоспеет.
Не знали они, что и тревожная группа тоже окольцована вот так же плотно такими же «гвардейцами», как их окрестил Иван, и будет тоже бездействовать, пока не подоспеет застава. Но Абрамов не вдруг изменит ситуацию, не сразу обретет уверенность и примет правильное решение. Вначале, теряя дорогое время, будет пытаться остановить спускавшихся с гор, но они начнут расползаться по щелям и расщелкам так прытко, словно их ловили для заклания. Вот тогда-то и поймет старший лейтенант, сколь ценна народная мудрость, предостерегающая от погони за двумя зайцами; он вспомнит, что по распоряжению начальника отряда соседняя застава и гарнизон крепости встретят всех, кто спустится с гор, соберет заставу и поведет ее на перевал, чтобы перекрыть его.
Что ж, нужда научит есть калачи.
Но до этого минует много вонючих, потных и жутких минут в безразличном на первый взгляд кольце, но готовом в любой миг сжать бойцов своей плотностью.
Цепочка, теперь уже не спешившая, а двигавшаяся обычным рациональным для гор шагом, перекатывалась и перекатывалась через перевал и, не разрываясь, стекала вниз. Что происходило дальше ни Антон, ни Иван ничего не видели.
А вонючие минуты шли и шли. Молчаливые минуты, страшные своей безвестностью.
— Да что?! Повымерли они там?! — вдруг, будто бы ни с того ни с сего возмутился Буюклы, но это не удивило Ивана Богусловского, ибо он тоже ждал с нетерпением помощи. Ответил успокаивающе?
— Вот-вот появятся.
Он отгадал. Застава уже спешила к перевалу, бросив бесполезное преследование просачивающихся, как через решето, нарушителей, что увидел вонючий круг, сжавшись еще плотней и медленно, вроде бы совсем не переступая ногами, заскользил к границе. Со зловещей молчаливостью, с абсолютным безразличием на лицах.
Вот он уже подошел вплотную к пограничникам, вот начал напирать на них. С улиточной скоростью, но с жестокой силой.
— А ну стой! — крикнул Буюклы и вскинул было автомат, но несколько крепких рук вмиг ухватилось за автомат и за локти сержанта, сковав его, как цепями. Иван тоже не успел поднести руку к спусковому крючку и тоже оказался скованным.
Круг тем временем медленно и верно двигался к линии границы. Метра два до нее. И Антон, и Иван упирались всеми своими силами, но остановить круг не могли. Хотя и сдерживали на какую-то малость вонючее зловещее движение.
Резкий рывок делает сержант Буюклы, пытаясь освободиться от цепких рук, и это ему почти удалось, но еще несколько рук клещами впивается в сержанта, утихомиривая его. Но тут рванулся Богусловский, пытаясь разорвать круг и вырваться на волю, только и его скрутили цепко со всех сторон.
Бесполезное сопротивление? Вряд ли. Выиграна минута, и она-то оказалась спасительной. На перевал вылетел Абрамов и, опешив от увиденного, заорал благим матом:
— Разойдись! Стрелять буду!
Круг не дрогнул. Круг знал, что стрелять никто не станет, ибо пули не будут выбирать, где чужие, а где свои. Круг молча теснил двоих пограничников за границу, до которой оставалось уже совсем немного. Меньше метра.
Для чего это делалось? Чтобы иметь заложников. Чтобы вести переговоры с позиции силы. Чтобы с теми, кто успел спуститься в долину, не поступили плохо.
И тут произошло то, чего никто не ожидал: Сильвестр, подлетев к кругу, взмахнул автоматом, хрястнул по одной голове, по второй, по третьей, первая и вторая цепочки треснули, Сильвестр схватил Богусловского и выдернул его. Тут и другие пограничники подоспели, вызволили Буюклы и, образовав плотную цепь, поперли грудью на развалившийся уже круг, который не стал сопротивляться и, подхватив добитых, прытко сиганул за рубежную черту; но вместо дюжих молодцов, замаскированных в тряпье, на пограничников поперли старики и женщины, заоравшие одновременно, как по команде, разноголосо и жалобно.
Пограничники встали неподвижно. Отирали только плевки, если кому попадали они в лицо.
Врагу не пожелаешь вот так стоять и слушать шакалий вой толпы, вовсе не утихающий десять, двадцать, тридцать, сорок минут. Стоять и не понимать, что требует толпа в истлевших от времени одеждах, сквозь которые видятся ребра, выпиравшие из дряблой морщинистой кожи, улавливая лишь прошение и гнев в тоне.
Даже если музыку слушать вот так, стоя почти вплотную с оркестром, пусть даже виртуозным, все одно обалдеешь, а если плач и причитание, если злобные крики, далекие от убаюкивающего звучания флейт и скрипок, тогда как?
А никак. Стой и слушай. Будь даже готов к тому, что эта воющая толпа начнет ломить стеной.
— Начальник отряда! — прошелестело радостно по пограничной цепи. — С подмогой!
Верно, полковник Кокаскеров с дюжиной бойцов спешил на перевал. Он сам немного опередил всех, даже своего коновода. Повод отдал подбежавшему встречать старшему лейтенанту Абрамову, отмахнулся от его рапорта, вышел на пару шагов вперед от цепи пограничников и встал лицом к лицу с воющей толпой. Поднял руку, призывая внимать, и крикнул резко на том самом языке, на котором орала толпа. Притихли враз первые ряды, но дальние продолжали вой. Кокаскеров крикнул еще раз, столь же резко, потом еще и еще, и только после этого заговорил спокойно и веско.
Из толпы выкрикнули, спросив о чем-то, Кокаскеров долго и старательно что-то пояснял. Вновь вопрос, и снова разъяснение. Но вот вышел вперед согбенный аксакал и принялся горячо говорить что-то Кокаскерову. Ответил на этот раз полковник жестко и всего одним словом:
— Ёк!
Ну, это-то слово почти всем пограничникам знакомо. Нет, и все тут. И пошли догадки. Просятся, значит, они к нам на житье-бытье, а полковник тверд, фигу им. У себя живите. На чужое-то, на готовое нечего рот разевать..
— Нет! — повторил полковник Кокаскеров: — Нет!
— Аллах покарает тебя, отступника от веры, — прорицающе изрек аксакал, затем повернулся к толпе: — Возвращаемся, правоверные, назад и подставим свои спины под байские камчи. Здесь нам дастархан не расстелят.
Очень уж неохотно, вроде бы и впрямь внизу ждала их экзекуция, выдавливала из себя толпа цепочку на тропу, и она, цепочка, едва шаркала ногами.
Вверх — бежала, вниз — ползла как улитка.
А пограничники ждали, когда последний человек покажет спину. Терпеливо ждали. И отдыхали…
— Просили убежища. Притесняют, видите ли, баи, жизни нет никакой, — перевел старшему лейтенанту Абрамову суть разговора с толпой начальник отряда. — Только странный какой-то переход. Очень странный, давайте, наряд еще попытаем. Впрочем, соберем совещание начальников застав, вот там и послушаем. А сейчас — вниз. Оставим здесь усиленный наряд. Остальными — прочешем спуск. Чтоб ни один не затаился. Только, думаю, не здесь главные нарушители пойдут, а там, через пещеру.
Прав оказался начальник отряда: никто из нарушителей не остался в горах. Все, ускользнувшие и от тревожной группы, и от заставы, охотно отдавали себя в руки пограничников, когда спускались в долину. Даже сами их искали. Но это тоже внесло свою лепту в недоумение полковника Кокаскерова и тех начальников застав, кто на границе уже «зуб съел».
До каждой мелочи допытывались офицеры, слушая рассказ Буюклы и Богусловского о переходе нарушителей через перевал, вопросы сыпались один за другим, успевай только отвечать; но и когда выяснено, кажется, было все, Кокаскеров попросил и Буюклы и Богусловского остаться.
— Вдруг что-то еще упущено. Подскажите.
Не только для этого, конечно же, оставлял начальник отряда сержанта и солдата на совещание офицерского состава. Ивану полезно послушать офицеров, прикоснуться к их заботам и тревогам, что, возможно, повлияет на его образ мыслей, а к Буюклы Кокаскеров тоже приглядывался, не предложить ли, прикидывал, в училище.
Но это все, как говорится, мимоходом, второстепенно. Главное сейчас понять, без ошибки понять, что произошло на границе и чего можно ожидать от завтрашнего дня. Не на полчаса разговора со спором. На долгие часы. Карты и схемы вскоре пошли в ход, данные прежних наблюдений вспомнили… Замолола мельница, успевай зерно подсыпать.
Для офицеров, понятно, все это нужное дело, а каково Буюклы и Богусловскому сиднем здесь сидеть, когда вся застава вышла на субботник.
Конечно, разумней было бы перенести субботник, дав людям отдохнуть после столь беспокойных суток, но куда там — и Абрамов слышать не захотел о переносе, и, особенно, Лодочников. Тот горячился:
— А завтра снова тревога?! Пусть кони ноги вывихивают в станках, да?! Мы же — солдаты! Комсомольцы мы! Резерв партии! Нам ли пасовать перед трудностями? Вон, коммунисты нам пример показывают, вместе с нами нарушителям противостояли, а теперь совещаются. Не стали же переносить на потом, на после отдыха.
Всем стало ясно, что выпятиться хочет перед начальником отряда Сильвестр, а вот отчего старший лейтенант Абрамов не одернул показушника, тут не совсем понятно. Да и лейтенант Чмыхов удивляет. Вернулся из пещеры, и слова не говорит. Ни за, ни против. Будто подавлен чем-то тяжелым. Ждали-ждали бойцы, чтобы вразумил замполит Лодочникова и тех, кто его поддерживает, но так и не дождались. Потопали на конюшню выводить на летнюю коновязь лошадей.
А когда Буюклы и Богусловский были отпущены с совещания, субботник перевалил свой пик: старички, пройдясь для плезира по своим и без того ровным станкам вагонными буферами, коим во всех пограничных конюшнях уготована роль трамбовок, уже нежились у сенника, распотрошив для мягкости лежания пару тюков, и потели в своих станках только молодые; но хотя они перекопали железной твердости глину, разровняли ее, а многие уже прошлись легкими деревянными трамбовками, выравнивая профиль станка, впереди у них еще оставалась основная трамбовка, а силенки уже были на пределе. Не то, чтобы, приподняв чугунную тарелку повыше и крякнув, ухнуть ею, — оторвать ее от пола без натуги у многих не получается. Умотали крутые горы щуплотелых пока еще парней.
Буюклы покачал головой и к Ивану:
— Хотел тебе помочь, чтобы побыстрей, но… начинай один. Я сачков расшевелю.
Прошел к сеннику и спросил строго, хотя никак не получалось суровости в его голубоглазом взоре. Грусть, скорее, а не серчание.
— Запамятовали, братцы, как на первом году нас старики оттесняли. Натрамбуетесь еще, говорили, что же выходит: у младших наших товарищей пупки трещат, а нам — разлюли малина?
— Да мы что? Мы хотели. Только Сильвестр говорит: иждивенчество на заставе разводить — вредное дело. Его, говорит, еще на учебном в этом убедил Иван Богусловский. А тот, дескать, знает: сын вон какого генерала.
— А своя голова у вас есть на плечах? А совесть? Как хотите, а я пошел.
— Мы тоже, — поднялись все дружно, но кто-то все же усомнился: — Не заругались бы?
— Стеной встанем за правоту свою, если кто поперечит, — убедительно возразил Буюклы и пошагал к станку Богусловского.
Шумно стало в конюшне. Весело. Один за другим сдавали «общественному глазу» станки «под ключ», а когда дошли до станка Богусловского, Сильвестр не удержался и куснул Ивана:
— Сослуживцу помочь — принцип не позволяет, а принимать помощь, тут — рад-радешенек…
— Не передергивай, — отмахнулся незлобливо Иван. — Не нужно.
Все. Больше ни слова. Смолчал и Сильвестр, вроде бы принявший совет Ивана. Увы, ответ он приберег до комсомольского собрания, которое, как всегда, началось с информации секретаря о проделанной бюро работе.
— Все пункты плана выполнены. Нормально выполнены. Хочу только остановиться на субботнике. Все, что мы намечали, сделано, и можно было бы признать проведенное штабом комсомольской организации мероприятие вполне удовлетворительным, если бы не морально-нравственная сторона дела. На субботнике, ярко проявилась тенденция иждивенчества. И что меня удивило, инициатором этого, как мне показалось, явился комсомолец Богусловский. Почему удивило? Еще на учебном Иван Богусловский утверждал, что иждивенчество в армии вредоносно. На какое-то время он даже убедил меня. Но… Стал подозревать я, что фальшивит он, боится перетрудиться, только о себе заботится, и вот это подозрение подтвердилось. На субботнике. Помощь себе он принял безоговорочно.
Вот так, Иван Богусловский, рядовой комсомолец, получил. Заслуженно. За молчание. За боязнь испортить отношение. За то, что послушал старшего, совет которого явно из прошлого.
«Ничего! Сейчас получишь! — гневался Богусловский. — Первым слово возьму».
Он едва дождался окончания доклада, который на этот раз делал замполит лейтенант Чмыхов. И только смолк призыв докладчика повышать непрестанно бдительность и боеготовность, Богусловский поднял руку.
На трибуну он, правда, прошел неспешно. Уверенный в себе. И начал не сразу с места в карьер, запально, а выдержал минуту-другую, будто собирался с мыслями, хотя первая фраза давно уже была на кончике языка, да и все выступление продумано до мелочи. Собственно говоря, что ему было его продумывать, он просто вернулся памятью что выносил еще на учебном. Добавил лишь новые к тому факты.
Начал с вопроса. Спросил у притихшей ленкомнаты:
— Не кажется ли вам, товарищи комсомольцы, и вам, товарищ лейтенант, что на заставе творится неладное? Мне это кажется. Расскажу, почему. Если позволите, переберу регламент?
— Дать. Дать, — прозвучало несколько голосов, и Иван, не ожидая, пока председательствующий чего доброго примется голосовать, опередил его:
— Спасибо. Я постараюсь быть по-возможности кратким.
Только как сдержать обещание, если нужно, чтобы все поняли, рассказать и про вагонные дела, когда Лодочников подмял лейтенанта Чмыхова, и про подслушанный разговор Сильвестра с Охлябиным, со всеми подробностями (не подумал Иван, как больно хлестнет этим замполита и приобретет в его лице явного недоброжелателя), и объяснить суть спора об иждивенчестве… Время шло, собрание слушало, затаив дыхание, многое воспринимая с удивлением, особенно когда Богусловский разоблачал Лодочникова в тенденциозности и подтасовке фактов на беседах с личным составом, и когда он безбоязненно обвинил Лодочникова в действиях, направленных против монолитности коллектива, особенно припомнив ему разбор на бюро персонального дела комсомольца Буюклы.
— Я считаю, либо Лодочников — недалекий эгоист, либо он имеет какую-то пока еще не понятую нами цель. Но и в том, и в другом случае он теряет моральное праве быть комсомольским вожаком заставы.
Молчала ленкомната. Озадаченно молчала. Не принято так выступать на собраниях. Непривычно. Даже жутко. Что, интересно, скажет лейтенант Чмыхов?
Все ждали его слова, его оценки. Обязательно, считали, должен отреагировать. Сразу. Не ожидая, когда ему, как докладчику, представится право сделать заключительное слово.
А лейтенант сидел, опустив голову, совершенно не владея собой от навалившегося стыда. И то верно, выступление Богусловского больней всего хлестнуло по его, Чмыхова, авторитету. Оказывается, не он один тяготился тем, как сложились его отношения с Лодочниковым, не только он осознавал свою беспомощность, свою слабость, а видели это и другие. Видели и потешались меж собой. Позор.
Только что он мог сделать? Он и в самом деле намного ниже и по образованности и по воспитанности тех же Лодочникова, Богусловского, Буюклы. Ему бы в подчинение таких как Скарзов и Охлябин, он бы сумел повести их за собой, а не плестись в хвосте у Лодочникова. Остается пока только проглотить обиду (настанет и его черед, отыграется тогда), взять себя в руки и высказать мнение политработника, мнение коммуниста по выступлению Богусловского.
Поднялся и, не подходя к трибуне, заговорил жестко и четко:
— Некоторые мысли, высказанные рядовым Богусловским, заслуживают, фактически, внимания. Командование заставы примет их к сведению. А как коммунист, я осуждаю выступление комсомольца за, фактически, тенденциозность и несвоевременность. Поясню. Против того, о чем комсомолец Богусловский поведал нам сейчас, он, как я понял, давно был против. Отчего же помалкивал? На учебном, когда мы обсуждали моральный облик комсомольца, здесь, когда мы выбирали состав бюро. Не дал он отвода комсомольцу Лодочникову? Не дал. Более того, голосовал за него. И выходит, товарищи комсомольцы, пока жареный петух не клюнул в одно место, в сторонке, фактически, стоял. Личное, выходит, для него, фактически, превыше всего. Или, я так имею право думать, все это он нагромоздил после выступления секретаря, пока я делал доклад. А доклад, товарищи, о бдительности, о святая святых нашей службы. Выходит, его, как я могу оценить сейчас, фактически, не беспокоит этот животрепещущий вопрос! Предлагаю поэтому следующим выступающим придерживаться строго повестки дня, обсуждать мой доклад, а не выступление комсомольца Богусловского. Предлагаю голосовать за это предложение.
С охотой или без охоты, но почти все подняли руки. Сам Богусловский отсиделся бездвижно. Буюклы проголосовал против и, к удивлению всего собрания и, особенно, Чмыхова, воздержался Лодочников.
— Хочу подчеркнуть еще один факт, — как бы подводя итог голосованию, продолжил Чмыхов: — Лодочников, фактически, спас от плена и позора сержанта Буюклы и рядового Богусловского. Товарищу Богусловскому первому подал руку помощи. Разве нельзя быть за это благодарным? Очень быстро забыли об этом товарищи.
Этот комментарий Чмыхова подействовал сильней, чем его прежняя речь… Еще все помалкивали, как обычно это бывает на заставских комсомольских собраниях, еще председательствующий тормошил товарищей, объясняя им, что они сами у себя воруют время, как вдруг в ленкомнату влетел дежурный.
— Застава! В ружье!
Крепостная, оказалось, встречает непрошенных гостей. Помощь теперь ей нужна. На коней и… аллюр три креста. А Буюклы и Богусловский получили особое задание: приглядеться, нет ли среди толпы тех, кто был на перевале Сары-Кизякской заставы.
Они узнали всех, кто пытался их вытолкнуть за линию границы, и когда доложили об этом капитану Друзяке, начальнику Крепостной, с того сразу слетела маска брезгливой усталости, он заметно оживился (это его предложение Кокаскерову провести опознание вон как в точку угодило) и послал Буюклы с Богусловским лично доложить по телефону полковнику Кокаскерову.
— Давай ты, — передал трубку Ивану сержант Буюклы. — Тебе проще.
Отчего? Проще, когда о домашнем разговор, а тут? Служебная проблема, к тому же не из приятных. Да и вопросы возникнут, а все ли ухватил, все ли заметил? Простоты тут никакой.
Почувствовал Иван, что доклад его взволновал Рашида Куловича. Очень взволновал. Кокаскеров даже забыл поздороваться обычным своим: «— Салям», как всегда приветствовал Ивана, встречаясь с ним. А первый вопрос задал вовсе не по адресу. Невольно, видимо, вырвался он, так велика оказалась тревога:
— В пещеру к Кулу кого послали?
— Я не знаю, Рашид Кулович, — и к Буюклы. — Ты не уловил, кого в пещеру Абрамов послал. Нет? — И вновь в трубку. — Сержант Буюклы тоже не знает.
— Хорошо. Я сам позвоню на Сары-Кизяк. И вылетаю. Ты и сержант Буюклы ждите меня на Крепостной.
Все повторилось. Толпа, побазарив и поплевав, отступила. Съехавшись вновь начальники ближайших застав на совещание, опять «пытали» Буюклы и Богусловского: их снова оставил Кокаскеров поприсутствовать, и они слушали, как оценивают происходящее офицеры.
Самое разумное советовал капитан Друзяка. Сидел он, казалось, безразличный ко всему и когда дошла до него очередь говорить с трудом поднялся, даже покряхтел со вздохом, будто на каждом плече его были не погоны, а двухпудовки. Начал вяло:
— Мы им не запретим лезть. Это нам всем — ясно. И что лапшу на уши вешают, тоже ясно. Под шумок хотят переправить агентуру и, вполне возможно, исполнить угрозу в адрес отца начальника отряда. Предлагаю поэтому поселить в юрте Кула двух или трех пограничников, легендировав их учениками-подпасками. Ночами они будут поочередно нести службу часовых. Скрытно. А пещера — сама собой. Туда наряды как высылали, так и продолжать высылать.
Не принял этого доброго совета полковник Кокаскеров. Ответил вопросом:
— Зачем кошму на кошму стелить? — а после паузы, припечатал ладонь к зеленому сукну стола. — Командование отряда будет постоянно в крепости. Со сменой на месте. Чтобы оперативно все решать. Так будет. И предупреждаю еще раз: каждая из застав должна быть в постоянной готовности противостоять провокации.
Восвояси сары-кизякцы давно уже убрались, осталась только четверка: Абрамов с коноводом и Буюклы с Богусловским.
— Успеть бы на собрание, — подтягивая подпруги, говорил Буюклы Богусловскому. — Я непременно выступлю. Вопреки запрету замполита. Бои надо давать. Хватит обиды глотать. Глаза надо офицерам раскрывать. Не видят они, что творится.
— Верно. И я еще раз выступлю. Почему лейтенант Чмыхов табу наложил? Стыдно за себя? Стыдно, должно быть стыдно. Только если законопатит нам рты, грамотней и воспитанней от этого не станет. Нельзя ему уподобляться раку-отшельнику. Я бы на его месте не постеснялся бы у нас брать уроки. Авторитет его от этого… Я бы в пояс поклонился за это…
— Не станет. Сельский гонор: казаться умней, казаться богаче, казаться независимей, не понимая, что фальшиво все это.
Вывел коней коновод Абрамова, и хотя друзья продолжали обсуждать то, что их волновало, тот отмалчивался, не встревая в разговор. Из тех, кто живет по принципу: раз запрет от начальства есть, значит, помалкивай. Но, может, этот, скорее всего, боится, что отставят от коневодства за своемыслие. А не хочется: при начальнике как-никак вольготней.
— Половина заставы такая: «Что прикажете?» — прокомментировал молчание коновода Богусловский, когда всадники уже выехали с заставы и они с Буюклы, чуть поотстав, рысили мелко за старшим лейтенантом Абрамовым и его коноводом.
— Психология подневольных. От Батыя она. От крепостничества. От диктатуры сталинской. Не скоро раскрепостимся, — согласился Буюклы. — И все равно, нужно выступать. Будить вот таких молчунов нужно. Не опоздаем, только, на собрание? Что это — рысь разве? Молоко боится расплескать, что ли?
Но не могли они, обгонять начальника заставы. Он — командир. Он ведет группу.
Только зря тревожились и нервничали, никакого собрания на заставе не было и, похоже, никто и не думал продолжать прения.
Буюклы к Сильвестру Лодочникову с вопросом:
— Когда собрание продолжим?
— Лейтенант Чмыхов сказал, чтобы каждый комсомолец делом подтвердил, что поддерживает тезисы его доклада. Бдительность на делах, а не на словах.
— Но я не согласен с точкой зрения замполита на выступление Богусловского.
— Гляди ты, шишка на ровном месте. Начальник заставы зато согласен. Ясно? Начальник заставы! — поднял вверх указательный палец Лодочников.
А в комнате чистки оружия, где приводил в порядок автомат Богусловский, произошел другой диалог. Вошел в комнату вначале Скарзов, за ним — Охлябин. Встали за спиной Богусловского, посопели сердито, потом Михаил Охлябин буркнул:
— Повернись, с тобой, чай, хотим говорить.
— О чем? — продолжая смазывать детали автомата и лишь чуточку повернув голову, с усмешкой спросил Иван. — О том, что вы шестерки у Сильвестра? Так мне это пояснять не надо.
— Не бузи! — зло выдавил Скарзов. — Не цепляй нас! Жизни не дадим!
— Ну-ну, — усмехнулся в ответ Богусловский. — Кишка тонка.
— И Сильвестра не цепляй. Он, чай, жизнь тебе спас, ты Бога за него должен молить.
— Случись с Лодочниковым такое, я поступил точно так же, а лизоблюдничать, как вы, не собираюсь.
— Но-Но! Не бузи! Худо, чай, будет! Мы предупредили. Все!
— Нет, не все. Далеко не все. Только продолжим этот разговор не здесь, не один на один. На собрании продолжим. А сейчас… Пошли вы… Не мешайте чистить оружие.
— Ладно, попомнишь, — огрызнулся Скарзов за двоих, и, сердито сопя, вышли друзья-приятели из комнаты.
Доволен остался Иван Богусловский итогом разговора. Подчинились. Ушли. И не подумал, что сделал ошибку, раскрыв свои намерения, выбросив козырную карту. Выступил бы на собрании неожиданно для дружков, не вдруг нашлись бы, как отбиваться. Туго у них головы работают, медленно мысли ворочают. Теперь же они подготовятся, получат совет Сильвестра. Почти месяц до собрания. Все можно взвесить, все обдумать. И, кроме того, дать понять, что угроза не беспочвенна.
Так и случилось. То в мыльнице оказался песок, и пришлось менять мыло, то зубную пасту прокололи гвоздем во многих местах — она вытекла и перепачкала все в тумбочке, то материал для подворотничков из белого превратился в жирно-черный от ваксы. Смолчал раз да другой, да третий Иван Богусловский, но когда пропали шерстяные портянки, заловил Скарзова одного в курилке и спросил угрожающе:
— Что такое самосуд знаешь?! Не знаешь, значит? Так вот, если станете с другом своим еще пакостить, узнаете. Оба узнаете. Да, да, не бычься. И запомни, я слов на ветер не бросаю!
Только одному Буюклы сказал об этом разговоре Иван Богусловский, и хотя тот не одобрил угрозу, а посоветовал доложить обо всем подробно либо Абрамову, либо Чмыхову, тем не менее обещал сам ничего без согласия Ивана не предпринимать. Но… Их опередили. Уже на второй день Богусловского вызвал лейтенант Чмыхов.
— Мне стало известно, — вкрадчиво начал замполит, — что вы угрожали самосудом Скарзову и Охлябину. За что?
— Заслужили. Детали я доложу на комсомольском собрании. И, надеюсь, вы не запретите обсуждать и мое выступление, и истинное положение дел на заставе.
— Вы из такой семьи, — пропустив мимо ушей сказанное Богусловским, продолжил Чмыхов, — а допускаете, фактически, противоправное деяние. Я не стану докладывать по команде, считая, что вы погорячились, но я настоятельно рекомендую помириться вам с Лодочниковым. Для пользы дела, для пользы службы. Обстановка вон какая на границе, не время, фактически, мелким дрязгам. Подумайте.
— Я хорошо подумал. Разрешите идти.
— Что ж, идите, если не хотите принимать доброго совета.
— Я хочу, как лучше…
Ясно, конечно, что и в прямой конфликт с сыном генерала не хочется вступать (будь на месте рядового Богусловского кто иной, можно было бы скрутить в бараний рог), и авторитет Лодочникова, комсомольского секретаря, да и свой тоже, хочется поддержать. К тому же, и шум лишний для заставы совсем ни к чему.
Понять, в общем, Чмыхова можно, только от этого Ивану Богусловскому не легче. Хорошо, что дежурным назначен. Но это только на сегодня оттяжка, завтра вновь ждет граница, а в байковых портянках не любо-дорого. Придется газетой ноги обвертывать. Отец рассказывал, что намного теплей. Пока не струхлявится, добротно тепло держит.
Не понадобилась на этот раз газета. Случилось так, что он еще не сменился с дежурства, а заставу подняли по тревоге — вновь поперла голытьба, теперь еще дальше от Сары-Кизяка, через заставу от Крепостной. В тепле, выходило, ему оставаться надолго.
Оседлала коней застава, еще минута-другая и тут — звонок полковника Кокаскерова:
— В пещеру выслали?
Богусловский доложил Абрамову вопрос начальника отряда, тот приказал лейтенанту Чмыхову быстро собираться в наряд, до этого Чмыхов оставался на заставе за начальника, теперь же передавал свои полномочия старшине. С явным нежеланием. Богусловский даже услышал, как замполит с обидой жаловался:
— Темень. Холод. Мыши на потолке шевелятся — вот и все. Чего там сидеть? Ложная посылка. Кому та пещера нужна.
Нужна или не нужна, а коль приказ есть, надлежит ехать без промедления.
Опустела застава и стало тихо. Невольно в сон потянуло. Ночь-то вся на ногах да на звонках прошла. Только сон на дежурстве — тяжкий для солдата проступок. Пошел Иван Богусловский в умывальник и смочил голову ледяной водой. Лицо тоже освежил.
«Теперь куда с добром».
Но как раз из канцелярии вышел старшина. Улыбнулся, увидев мокроволосого бойца.
— Что, невмоготу?
— Да нет, товарищ старшина, на всякий случай.
— Так уж и — на всякий случай, — и, сменив тон на повелительный, распорядился: — Вот что, ремень снимай, сапоги снимай и на кровать. Если надобность возникнет, подниму. Говорю спать — значит, быстренько, — но все же снизошел, пояснил: — Теперь наша застава никому не нужна. Вот если лейтенант Чмыхов что… Так у нас с тобой резерва для него все одно нет. Повара и часового не пошлешь. Так что часика три урвать можно. Я у приборов подежурю.
Не получилось поспать часа три. Граница диктует свой ритм жизни в основном строевикам. Ну, а хозяйственники живут по своему распорядку, на который не очень-то влияет оперативная обстановка. По плану тыловиков на Сары-Кизяк должна была прибыть машина с валенками и полушубками, — их доставка и так уже припозднилась. Эта запланированная машина и приехала. Как раз в то самое время, какое ей было определено. Что ж оставалось делать старшине? Пришлось будить Богусловского.
— Не повезло тебе, — вроде бы извинился старшина. — Компенсируем это дело так: полушубок выберешь, какой приглянется, и валенки, чтобы в самый раз, не велики не малы.
Что ж, теперь — легче. Не страшна ночная служба. Даже в седле.
Но и этим не закончились блага, свалившиеся на Ивана. Недели еще не прошло, а на заставу приехали Кул и Гулистан. Привезли дюжину толстенных носков из верблюжьей шерсти.
— Иван, как мой внук, — смущаясь непривычной обстановкой, объясняла свое появление на заставе Гулистан. — Его ноги тепло будет, мне хорошо. Кул хорошо.
— Неужели все они — рядовому Богусловскому, — удивился лейтенант Чмыхов. — Не взопреют ли у него ноги?
— Зачем все? — в свою очередь удивилась Гулистан. — Кому он скажет.
— Так поступим, — заключил тогда Чмыхов. — Раз это, фактически, знак внимания местного населения к пограничникам, заслуживают его лучшие. Позовем командиров отделений, секретаря комсомольского бюро и составим список по их рекомендациям.
— Пусть мой внук скажет кому, — начала было Гулистан, но Кул остановил ее:
— Не мешай, Кыз-бола. Пусть будет так, как будет.
— Хорошо, — с явной неохотой согласилась Гулистан, подозревая, что вдруг в списке, какой хочет составить офицер, не окажется Ивана, ради которого она пряла пряжу и вязала потолще носки. Успокоилась только тогда, когда Чмыхов предложил ей вручить носки Ивану лично, а всем остальным, по списку, в ленкомнате.
Акт передачи носков пограничникам Чмыхов обставил торжественно. Сам произнес, открывая торжество, длинную речь о дружбе пограничников с местным населением, истоки которой идут еще от указания Дзержинского, потом, когда вручение состоялось, сам поблагодарил самоотверженную женщину, затем выпустил на трибуну еще и Сильвестра Лодочникова.
Растрогалась Гулистан, пообещала связать носки для каждого пограничника.
— Зима еще будет, снег будет, трава еще не будет, я принесу…
Русские в таких случаях говорят: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. У местных тоже есть своя присказка на сей счет: вверх яблоко бросишь, пока оно на землю не упадет, неизвестно, что будет.
Одному Сильвестру все известно, погладил он носки (в список внес его сам Чмыхов) и изрек:
— С сего дня мне сам черт не сват.
Глава восьмая
Граница притихла. Все фланговые заставы, особенно Сары-Кизяк и Крепостная, настороженно ожидали ежедневно, ежечасно новой провокации, но стояла совершенная тишина на их участке. Уехал Кокаскеров (в отряде дел много), его сменил начальник штаба, который, устав от безделья, через неделю тоже спустился вниз, уступив место начальнику политотдела. А он — не Кокаскеров и Томило, для кого главное — служба. Майор Киприянов в первую очередь — воспитатель. Он твердо убежден, что если ослабевает идеологическое воздействие на воинов со стороны политработников, партийных и комсомольских организаций, тут же вакуум заполняет пережиточная, как он ее называл, идеология. Ущербная, даже, если хотите, враждебная.
Ну, а если обстановка осложняется, тут, как считал Киприянов, сам бог велел засучить рукава. И как сразу бросилось ему в глаза, она-то, воспитательная работа, зачахла. Боевые листки почти не выпускались, стенгазеты висели давнишние, стенд передовиков тоже запылился, а итоги социалистического соревнования висят (на всех заставах) аж месячной давности.
— Что вы меня воспитываете?! — горячился майор Киприянов, когда на очередной заставе начальник или его заместитель пытались оправдаться из-за чрезмерной нагрузки на личный состав. — Напряженность в службе предполагает усиление напряженности в идеологическом воздействии. Не пытайтесь прикрыть объективными причинами свою бездеятельность!
И к великому, но молчаливому неудовольствию начальников застав, начиналась кипучая деятельность: совещания партийно-комсомольского актива, совета ленинской комнаты, редколлегии стенной газеты, индивидуальная работа с комсомольским секретарем, затем уже и комсомольское собрание, с докладом на котором выступал он лично, — все это майор Киприянов впихивал в два или, в крайнем случае, три дня, заканчивая свое, как он говорил, «расшевеливание» смотром художественной самодеятельности.
Лелеял он еще и главную задумку — заставский конкурс на лучшую художественную самодеятельность. Проводить его он предполагал в крепости. И послать об этом значительном мероприятии заметку в окружную газету, как передовой опыт. До времени он, правда, о том помалкивал.
«Поработаю на Сары-Кизяке, тогда и объявлю, — определил он себе программу. — Если обстановка позволит».
Обстановку он все же понимал, оттого и «расшевеливал» партийцев и комсомольцев. И все, что проводил, аккуратно записывал в отчеты. Самолично. Не доверяя никому. Понимал, что случись во всей этой пограничной суете прокол, обязательно приедет комиссия выяснять причины. Непременно станет она проверять и партийно-политическое обеспечение службы, но увидит, что здесь все в порядке. Без замечаний, конечно, не обойдется (он учитывал свой опыт), но они будут не очень-то существенными и на его карьеру не повлияют. А случись успех, тут он вовсе на высоте. Посыплются тогда изобильно похвалы.
Вот он и старался охватить и предусмотреть все, а потому все записывал и записывал, почти каждый раз комментируя свои записи:
— Запомните, социализм — это учет.
Лейтенант Чмыхов и по комсомольской линии рядовой Лодочников получали точную информацию, к чему придирается начальник политотдела, и они старались вовсю, чтобы выглядеть на уровне. Начальник заставы не перечил: хотите петь и плясать — пожалуйста, хотите бумагу переводить — тоже пожалуйста. И языки чешите тоже сколько угодно. Только не за счет службы (за недогрузку в такой обстановке так взгреют, что свету белому не рад будешь), не за счет хозработ и, особенно, не за счет вечерних прогулок. И еще одно условие ставил: все мероприятия проводить только после общего подъема.
Святым он оставлял общий подъем, неприкасаемым, считая, что четкий распорядок — лицо воинского коллектива.
Впрочем, чем живут солдатские души, каков образ мыслей рядовых пограничников, старшего лейтенанта Абрамова не волновало. И понять его можно: есть уставы, есть присяга, есть Конституция, которые все вместе определили, что служба в армии — священный долг, и расписали, как этот долг исполнять. Вот и исполняй, чего психологии и философии разводить. Допусти чуток, не армия тогда будет, а клуб веселых и находчивых.
— В общем, политический и комсомольский боги, делать все делайте, а распорядок ломать мне не смейте.
Старались. Для совещаний, активов, инструктажей на полную катушку использовали время партмассовое и личное, солдатское; прихватывали еще и часок-другой после вечерних прогулок — все это перед выходом в наряд, чаще всего без отдыха; но бойцы не роптали, понимая, что к чему, только флегматично (как сонные мухи, по выражению Чмыхова) вели себя, без комсомольского задора.
Но все же коренником перегруженного воза оказывался сам Чмыхов. Сильвестр, он рукава засучивать мастер, а работать — тут всегда ловко увильнет, бросил идею, при Абрамове, что стенды бы тоже неплохо обновить, тот поддержал, а писать, клеить и красить пришлось Чмыхову. Благо, из деревни, всему обучен. А то — хоть пропадай.
Осунулся лейтенант, глаза блестят от бессонницы, но храбрится, накачивает себя добрыми предчувствиями похвалы. Этим, собственно, и держится.
Что ж, оправдалась надежда. Майор Киприянов похвалил Чмыхова, а заодно и Абрамова, когда посмотрел наглядную агитацию и полистал учеты.
— Так бы на каждой заставе, мне бы, начальнику политотдела, делать было бы нечего. Молодцы.
Сказать-то — сказал, только пустыми оказались те слова. Все, что проводил он на соседних заставах, начал проводить и здесь, вовсе не смущаясь, что повторяет только что сделанное перед ним.
«Ничего. Уровень выше».
Двое суток майор Киприянов не давал бойцам покою, вытряхивал из них остатки бодрости и элементарной заинтересованности, но вовсе не замечал этого, упиваясь собственной активностью и выносливостью.
На третьи сутки наметил, наконец, комсомольское собрание.
— После собрания — смотр художественной самодеятельности, и я уеду в крепость. Надеюсь, я не только оказал практическую помощь, но и научил вас, личным примером, как надлежит вести партийно-политическую работу в условиях осложнившейся обстановки? Конечно, благодарны. Еще бы быть неблагодарными, — сделав небольшую паузу, повторил: — Сразу после смотра уезжаю в крепость. Без задержки. Коней надо будет подготовить заранее.
Точно так же, как и застава нуждалась в отдыхе от него, он тоже нуждался в отдыхе. Он заслужил его многодневной неистовостью в работе. Он уже предвкушал полный покой… Увы…
Случилась задержка. Коней коноводу пришлось расседлывать. А причиной тому явилось комсомольское собрание, которое пошло не по тому сценарию, какой ему был определен. Даже смотр самодеятельности не состоялся.
И началось это с того, что Иван Богусловский поднял руку сразу же после доклада и, не ожидая, когда председательствующий даст ему слово, прошел к трибуне.
Весьма это удивило и даже насторожило майора Киприянова. Он помнил разговор с Богусловским на учебном. Он не забыл того разговора. До сих пор он чувствовал в себе осадок от резкости, независимости суждений и категоричности генеральского сынка. Позволительно ему все, считает, под крылом отца. Вот и снова, сейчас, подумалось майору, может выкинуть фортель.
Знай начальник политотдела какой «фортель» приготовил Иван Богусловский, ни в коем случае не проводил бы сам комсомольское собрание. Нашел бы повод спешно уехать с заставы.
Лейтенант же Чмыхов знал. Сжался в комок, ожидая оплеухи. Рыльце-то в пушку. Зажал на прошлом собрании критику, теперь выплывает это. Не даст спуску майор Киприянов. Устным распеканием не ограничится…
— Все вы поняли, наверное, товарищи комсомольцы, — начал с вопроса Иван Богусловский, — отчего не закончилось у нас прервавшееся комсомольское собрание? Правильно. Боязно к правде серьезно прикоснуться. Боязно ей прямо в глаза глянуть. Очень сожалею, что не пересилил себя коммунист Чмыхов, не перешагнул через амбиции и не вник серьезно в положение дел на заставе. А Лодочников в обстановке вседозволенности совершенно распоясался — подослал ко мне своих верных подручных Скарзова и Охлябина с явной угрозой. Если, значит, я еще задену Лодочникова и их самих, житья мне на заставе не будет.
— Мели Емеля, — воскликнул Скарзов. — Нужен ты, чай, нам!
Опешил Иван Богусловский. Такого поворота он не ожидал.
Полного отказа не предвидел. Считал, что станут отнекиваться, утверждая, будто шутку шутили, а вышло вон как: совсем отказались.
Вон и Охлябин поднимается. Хмурый. Злой. Низкий лоб, словно навис над глазами-пуговицами.
— Я, чай, не знаю разве, что Иван — генеральский сын. Погрози ему — враз упекут. Жизни, чай, точно уж не будет…
Сел набыченно. Засопел. Всем видом показывая, насколько обижен незаслуженно.
— Ребята! Совесть у вас есть?! — воскликнул Богусловский. — Человеческая совесть? Я уж не говорю о комсомольской…
Больше он не захотел говорить. Ушел на свое место удрученный. Он не в силах был понять такого вероломства, он с подобным еще не встречался.
Только зря он не сказал всего, что собирался сказать. Зря и сержант Буюклы вышел к трибуне сразу же за Богусловским. Возмущенный поведением Охлябина и Скарзова, он начал их стыдить, взывая к совести, а когда хотел уже перейти к главному, что не случайно такое поведение комсомольцев, что их действия направляются секретарем, регламентное время кончилось.
— Давайте так поступим, — мягко прервал спор о том, добавлять или не добавлять время сержанту Буюклы майор Киприянов. — Регламента будем придерживаться, а после собрания я готов выслушать каждого из вас, кто этого пожелает, договорились?
Что тут ответить? Председательствующий без замедления объявил, кто выступает следующий.
И пошло-поехало: кто стыдил комсомольцев Скарзова и Охлябина, кто обвинял Богусловского в том, что тот наверняка приукрасил события и безобидную какую-нибудь шутку переиначил; но тут же поднимался оппонент и с пеной у рта доказывал, как честен и правдив Иван Богусловский, короче говоря, собрание закрутилось вокруг одного вопроса — кому больше верить, а это вполне устраивало лейтенанта Чмыхова, который заметно ободрился.
Устраивало это и майора Киприянова. Он уже видел, как все спустить на тормозах, без лишнего шума, чтоб не вынесен был сор из избы.
И будто подглядел мысли майора Киприянова Чмыхов, когда сразу после собрания, которое прошло в общем-то пустопорожней перепалкой, на вопрос: «Что у вас тут творится?» ответил:
— Не поделили верховодство. Рядовой Богусловский вон из каких, хочет быть уважаемым, Лодочников тоже из семьи адвоката. Известного, наверное, в Москве…
— Наверное? Или — точно?
— Не могу знать. Я приглашал их для личных бесед, рекомендовал помириться, но…
— Иного и ожидать было нельзя. Чтобы вести откровенный разговор с подчиненными, надо их знать досконально. Вот эту свою недоработку учтите.
Так вот и увел майор Киприянов разговор о слупившемся в узкий отвилок. В тупиковый. И это вполне устраивало обоих политработников, ибо все сводилось к малому просчету, а не крупному проколу. Особенно был доволен Чмыхов, ожидавший крепкой взбучки. Ликовала его душа от незлобливой и постепенно вообще переходившей на доверительный тон беседы.
А в то самое время, когда офицеры перебирали весь личный состав заставы, раскладывая пограничников как бы на две колоды (одна за Лодочникова и почему за него, другая за Богусловского и тоже почему) — в то самое время устраивались на ночлег в незаметной пещерке, где обычно коротали ночь отец Абдумейирима и он сам перед переходом через границу, посланцы Мейиримбека. На этот раз их было трое и они едва втиснулись в каменный мешок.
Но почему трое? Отчего же, так старательно скрываемая тропа вдруг по воле бека стала всем известной? Нет, конечно. Не так глуп Мейиримбек, ничем он не поступится, а тем более такой драгоценной тропой, которая не только нужна для выполнения задуманного, но не меньше пригодится и в будущем. Ведомо беку: знает один — тайна; знают двое — знают все. Ну, а если знают все, вполне могут узнать и советские кокаскеры. Потому-то бек позвал к себе ночью, накануне выхода в горы, — Абдумейирима. Тайно позвал. Сам лично подошел к рабу, когда тот поливал в саду розы, и назначил время встречи. В той самой боковушке, в которой уже бывал Абдумейирим в ночь разговения жертвенным барашком.
Вначале Абдумейирима испугало это приглашение (он еще хорошо помнил избиение, после которого едва выжил), но, поразмыслив, заключил, что не станет бек делать дурное у себя в доме. Для этого у него найдется много других мест. Страх отступил. Абдумейирим спокойно закончил свою работу, но домой не пошел, решив дождаться темноты в упрятанном меж деревьев сарайчике, где хранились кетмени, вилы, секиры, ведра и лейки для поливания, всякая другая нужная садоводу мелочь. И чуть было не заснул в спокойной тиши, но вовремя спохватился и поспешил к дому, отмахиваясь от вдруг нахлынувшего предчувствия чего-то таинственно-страшного.
Не сразу оно, это предчувствие, улетучилось после того, как вошел он в полутемную комнатку, где, как и в тот раз, стоял столик, уставленный яствами, многие из которых он знал только по названиям. Попереминавшись с ноги на ногу какое-то время у двери, он все же рискнул снять галоши с ичигов и, стерев с них рукавом халата пыль, прошел робко по толстому ковру в угол комнаты и опустился на корточки.
Ждал долго, борясь с душевным неспокойствием, ибо пугался самой только мысли, что бек заметит его боязливость и не поручит того, что намеревается поручить. Кому нужны трусы! Хозяин уважает бесстрашных слуг, покорных, но сильных и уверенных в себе. А ему, еще молодому, надоела садовая работа, надоели презрительные взгляды тех, кого бек приблизил к себе — Абдумейирим сам хотел быть среди приближенных бека, а лучше вместо них. Он готов был сделать все, что повелит хозяин, лишь бы обрести его милость.
А для бека, как рассудил Абдумейирим, такая милость еще и выгодна: кто кроме него, Абдумейирима, знает тайную тропу? То-то. Проведет он по ней и сына, передаст ему тайну, гарантию жизни до преклонных лет, потому что человек, знающий тропу, всегда нужен могущественным. Уйдет из жизни бек, появится его наследник, а дела-то останутся прежними, жизнь не изменится.
Так убеждал себя Абдумейирим, наполняясь уважительностью к себе.
Через несколько же минут, когда вошел через внутреннюю резную дверь в комнату бек, когда евнух полил им на руки воду из кумгана, когда выпито было по пиалушке чая и когда бек заговорил, наконец, о деле, Абдумейирим действительно зауважал себя.
«— Ты поведешь своей тропой моих телохранителей. Обоих. Не возражай, — поднял палец бек. — Не забывайся. Не считай, что я безмозглый. Проведешь их в пещеру, пусть идут к Кулу, а когда вернутся, оставишь их там. Навсегда. Вот тебе наган. Здесь хватит патронов. Полный барабан. Когда вернешься, получишь землю, получишь рабов. Тропа останется твоей. И моей. Все. Теперь ешь досыта, чего Аллах послал. На рассвете выходите. Все нужное у тебя уже в доме».
Вклинилась заботливая мысль: как восприняли появление кошмы сын и жена, жалко их стало, но радость за свое будущее, за доверие, ему оказанное беком, гордость за себя тут же вытеснили все наносное, не гармонирующее с его нынешним настроением.
Вернулся он домой гордым и радостным, и жена, встревоженная его долгим отсутствием и появлением кошмы, даже изумилась, увидев его преображенным, совсем не таким, каким он бывал обычно: угнетенным думами и заботами и вечно испуганным.
Не стал Абдумейирим рассказывать жене про обещание бека, лишь бросил фразу надежды:
«— Вернусь, по-другому заживем…»
А сам воображал уже, какой просторный построит он себе дом, каким обсадит виноградником, воды для которого хватит в большом и глубоком хаузе, где так приятно будет совершать еще и омовение, славя Аллаха за его доброту.
С нетерпением ждал Абдумейирим урочного часа, а когда он все же пришел, весело и прытко повел телохранителей бека в горы и со злорадством наблюдал за ними, как они, отвыкшие уже от гор, быстро уставали и боялись отстать. Обливаясь потом, тащили вслед за ним, теперь их начальником, свои ожиревшие под бековским крылышком животы и зады.
«Давайте, давайте… Меньше пира останется, скорей пуля печенку достанет…»
Ревнаган приятно бугрился в специально пришитом для него кармане у подмышки. Когда же они без осложнений (время обвалов еще не наступило, а возможная пурга не налетела) дошли до последнего ночлега, перед переходом границы, револьвер основательно начал беспокоить Абдумейирима, толкать его на крайность: так и хотелось ему вот сейчас вытиснуться из каменного мешка будто бы до ветра, а потом, выхватив ревнаган, уничтожить сытозадых телохранителей бека и, выбросив их в снег, разжечь костерок из кошмы и спокойно приготовить ужин.
Одному, как он считал, будет легче там, внизу, справиться с заданием бека. И скорей, и меньше шума.
Но он не сделал того, что очень хотел сделать. Боялся все же он бека. Вдруг осечка какая произойдет там, внизу. Не сносить тогда головы. Привычно распушил он отрезанную от кошмы полоску и чиркнул спичкой. Нужно было поужинать и хоть немного отдохнуть, ибо еще до рассвета они должны были пересечь границу: до каждой минуты расписал бек время своим посланцам и предупредил, что ослушание или самовольство может привести к провалу операции, а чем это для них кончится, они могут представить.
Утром, таким образом, пограничников ожидал трудный сюрприз, только могли ли об этом сейчас знать майор Киприянов и лейтенант Чмыхов. Они — не провидцы. Они — простые смертные. Их волновал сейчас один вопрос: как с меньшим шумом замять скандал, возникший вот так неожиданно на заставе, хотя об этой своей главной заботе они не говорили друг другу. Послушай их со стороны, останешься уверенным, что никакой заботы, кроме заботы о боеготовности заставы, у них нет.
— Что ж, придется прибегнуть к решительным мерам, — как бы подытоживая явно затянувшийся разговор, решительно проговорил майор Киприянов. — Растасовывать коллектив придется. Завтра буду решать. Трудно, конечно, убедить полковника Кокаскерова, что нужно убирать отсюда рядового Богусловского, ну, да — ничего, осилю. Для пользы дела.
И не представлял начальник политотдела, что завтрашний день все круто изменит и, как сам майор потом с удовлетворением определит, нужда в перетасовке отпадет.
Ночь прошла спокойно, а майор Киприянов позволил себе поспать подольше. Не торопясь побрился и умылся, так же неторопливо принялся за завтрак, даже разоткровенничался и начал рассказывать Чмыхову, разделявшему с ним трапезу, забавные случаи из своей службы, сам же смеясь над своими давними промашками. Короче говоря, тянул время, боясь предстоящего разговора с полковником Кокаскеровым, боясь того, что тот отрубит резко: «— Выезжаю сам. Разберусь. Потом решать будем».
Но сколько бы не оттягивал майор Киприянов неприятный для него разговор, а звонить рано или поздно все же пришлось. Поднялся из-за стола и сытый, внешне беспечный, проследовал майор в канцелярию. Следом за ним потянулся и лейтенант Чмыхов.
Ввалился наряд. Огнем горят лица от ядреного морозца. Докладывает старший:
— Признаков нарушения границы не обнаружено…
— Где были? — спрашивает майор Киприянов. — Намерзлись?
— Никак нет. В пещере ветра нету.
— И нарушителей нету, — скаламбурил Киприянов и засиял, довольный собой.
— Так точно, — заученно ответил старший наряда, совершенно не понимая шутки начальника политотдела и не зная, как реагировать на нее. Можно еще и «Никак нет», — но в данном случае это будет не совсем уместно.
Майора Киприянова вовсе не интересовал ответ рядовых пограничников, Он покровительственно распорядился: «Чистите оружие и отдыхайте», — и продолжил свой путь в канцелярию, где намеревался осторожно, но достаточно красноречиво высказаться по поводу ежедневных нарядов в пещере. С одной стороны, офицеры заставы поймут, что он не разделяет ответственности за это с начальником отряда, с другой — еще немного оттянется разговор по телефону с полковником.
Только не удалось майору пофилософствовать о верности принимаемых командирами решений, о их воспитующей роли — едва только он опустился на стул, как донесся в канцелярию через плотно закрытую дверь крик дежурного:
— Застава! В ружье!
Оказывается, на перевал начала рысцой подниматься, как и в прошлым раз, бесконечная цепочка, такая же изможденная и в таких же лохмотьях, хотя сейчас на перевале мороз, как говорится, трещал. Прошибал он даже пограничников, основательно экипированных. Холодновато им было в теплом белье, ватных штанах, валенках и овчинных полушубках. Даже привыкшие к холоду и ветру лошади, которых наряд сбатовал внизу, в распилке, не стояли на месте, а крутились и крутились, чтобы не околеть.
— Что ж это они, с ума посходили?! — возмутился старший наряда, разглядывая цепочку в бинокль, но так держа его, чтобы не касаться ледяными окулярами лица. — Что, им тут тулупы напасены?!
— Тулупы — не тулупы, а с нас полушубки могут содрать.
— Ну, уж.
Ну ни — ну, а озверевшая от мороза толпа на все способна. Стрелять по ней не станешь, застава же подоспеет самое скорое через полчаса. Если, конечно, Абрамов не начнет ловить, как в прошлый раз, просочившихся через перевал.
Не должен. Граница ума добавляет.
Это уж слишком смелое утверждение. Ум, как деньги, если они есть, то — есть, а если их нет, то нет. Граница умения может добавить, и еще — способности находить нужные решения, когда того требует обстановка, но и это очень важное приобретение, можно сказать, даже пограничное богатство.
На этот раз Абрамов не медлил. Тревожную группу послал своевременно, а пока остальная застава одевалась и разбирала оружие, он определил, кого оставить внизу собирать тех, кто прорвется через перевал, кому скакать в пещеру к Кулу.
Но все же случились две заминки. Совсем малые. Одна здесь, в канцелярии, другая — в казарме.
Абрамов определил так: к Кулу — лейтенант Чмыхов, сержант Буюклы и рядовой Богусловский. Но Чмыхов уперся:
— Я с ними не поеду. Еще на учебном я сказал, что в разведку с Богусловским не пошел бы.
— Обсуждать приказ?! — возмутился Абрамов. — Не позволю!
Не отступился бы Абрамов от своего, не вмешайся майор Киприянов:
— Полно-те, старший лейтенант. Решение еще не известно личному составу. А между собой… Трудно ли заменить?
— Хорошо. Пусть тогда патрулируют перед горами. А то их снова по совещаниям поведут. Только от дел отрывают.
Вторая задержка случилась с рядовым Богусловским. Он не нашел на месте своих шерстяных носков. Хорошо помнил, куда положил в сушилке, когда вернулся из наряда несколько часов назад. Валенки на месте, а носков нет.
«Может, кто перепутал?»
Только пустая сушилка, куда ни заглядывай.
А старшина уже подгоняет:
— Поживей, давай. Там нашим ребятам туго.
Да, Богусловский на себе испытал, каково стоять в злобно-вонючем круге. Сунул ноги в валенки и — к тумбочке. Подстегиваемый окриками старшины, наспех намотал байковые портянки и поспешил в строй. Не заметил впопыхах Иван, что подошва правого валенка прожжена. Впрочем, он мог этого не заметить и в спокойной обстановке, ибо чернота полосы была облагорожена зубным порошком и выглядела почти такой же серой, как и вся подошва.
В строй Богусловский встал последним и упрека старшины не избежал:
— От вас не ожидал. Чего копались?
Он мог бы еще добавить что-либо воспитующее, но в это время из канцелярии вышли офицеры, и строй замер.
А возле стана Кула события разворачивались тоже стремительно. Двое дюжих молодцов выскользнули из пещеры и поспешили к тропе, что ведет из Суфи-Кургана. Они постоянно поглядывали на юрту Кула и молили Аллаха, чтобы придержал тот хозяина в юрте за пологом подольше. Они все рассчитали: сейчас Кул, попив чай, выйдет седлать коня и выгонять овец на пастбище, вот тут они и нагрянут. Днем он не опасается нападения и если даже берет карабин, то перебрасывает его за спину. Время надо, чтобы снять его, да и не станет он этого делать, если даже увидит путников на тропе, идущей из предгорья. Тем более безоружных, с малыми хурджунами, перекинутыми через плечи, что привычно для горцев…
Все так и получилось. Они еще не подошли к юрте Кула даже на то расстояние, чтобы всполошились собаки, как отодвинулся полог и вышел хозяин в малахае, меховых штанах и таких же меховых ичигах, но еще без тулупа. Все логично: тулуп в обузу, когда седлаешь лошадь, когда выгоняешь овец из кошары. Тулуп чабан одевает в последний момент. Перед тем, как вставить ногу в стремя.
А посланцам Мейиримбека легкий чапан на Куле, не прикрывающий ни груди, ни шеи, самое то, что надо. Они благословляют Аллаха, что тот благоприятствует их богоугодной миссии, сами же устало приближаются к юрте.
Вот собаки уже насторожились, начали сходиться в кучу, готовые броситься стайно на незнакомцев, оцепить их злобным лаем и не подпускать к жилищу хозяина, но Кул прикрикнул:
— Турдеса!
Послушны восточные собаки. Второго окрика им не нужно. Разбрелись безразлично, будто вовсе не видят незнакомцев.
А те уже близко. Вот уже подошли к юрте и приветствуют хозяина:
— Салям алейкум.
— Алейкум ассалям, — отвечает по обыкновению Кул и тут же спрашивает: — Откуда и куда ваш путь?
— Правоверные приглашают путников в юрту, поят кумысом, потом только задают вопросы. Но мы ответим. Наш путь к тебе. Его указал нам Аллах. Чтобы покарать тебя, отступника.
Два ножа одновременно брошенные сильно и метко, вонзились в горло Кула. Он даже не успел крикнуть, чтобы предупредить Гулистан.
А та слышала и успокаивающий собак крик мужа, и разговор, который непонятными звуками проникал сквозь толстый войлок — ее разбирало любопытство, но выйти из юрты она не решалась, ибо грешно видеть гостей прежде, чем они переступят порог юрты. Потом разговор умолк, и она отчего-то забеспокоилась, решилась все же выглянуть из юрты, чтобы узнать, что же происходит. Откинула полог и оказалась лицом к лицу с ненавистно глядящими крепкими незнакомцами. Она поняла все, метнулась в юрту за карабином, но схватить его не успела. Поздно пришло понимание случившегося. Слишком поздно.
Абдумейирим видел, как упал сраженный Кул, как кинулись в юрту за Гулистан телохранители бека, он облегченно вздохнул и углубился в пещеру. Разувшись, перешел через речку, вновь обулся, насухо вытерев ноги поясным платком, и затаился в темноте. Наган приготовил сразу же. Он так рассчитал: сбоку их постреляет, когда они втиснутся в узенькую тропку между стеной и речкой. Он осмелился нарушить приказ бека стрелять только в глубине пещеры, чтобы не было слышно выстрелов снаружи. Повеление, конечно, разумное, только не знает он, Абдумейирим, какой приказ получили его телохранители. Возьмут и удушат. Или — нож в горло. Как Кулу.
Вот они появились. Оглянулись назад и юркнули в пещеру. Ближе и ближе к роковому месту их шаги. Их последние шаги.
— Товарищ лейтенант, вроде бы два выстрела впереди? — крикнул Лодочников рысившему впереди Чмыхову. — Слышите?
— Нет.
Осадил все же коня и прислушался. Пожал плечами.
— Тихо.
Еще немного постояли, сдерживая дыхание. Все спокойно, и лейтенант решает:
— Поскачем галопом.
Сразу бы от заставы полевым, тогда опередили бы они террористов, а теперь-то чего спешить…
Впрочем, не поспеши они, ушел бы свободно Абдумейирим в горы. Ищи его потом, поднимай вертолеты. Хотя… лейтенант Чмыхов перевел бы вскоре коня на рысь, не допусти повторений оплошности посланец бека… Он не поверил себе, что телохранители убиты с первых выстрелов. Особенно его смущало то, как они упали — оба головами вперед, а не в реку, как он, Абдумейирим, предполагал.
«Притворяются жирнозадые!»
Разуваясь, чтобы перейти речку, не отрывал он взгляда от лежавших бездвижно тел, готовый стрелять еще и еще. У него достаточно для этого патронов, целых пять штук. Хватит, чтобы просверлить насквозь пухлые животы.
Переступая с камня на камень, нащупывая ногами твердую опору, чтобы не поскользнуться (именно этого ждут жирнозадые, сразу бросятся на него), Абдумейирим держал ревнаган наготове. И тут ему показалось, что шевельнулся один из телохранителей бека, тогда и не выдержали нервы, выпустил он пулю за пулей остаток барабана в убитых. И вот эти-то выстрелы услышали пограничники, проскакавшие к тому времени уже изрядно и находившиеся не так далеко от пещеры.
— Раз. Два. Три. Четыре. Пять! — вторил выстрелам лейтенант Чмыхов, пришпоривая коня, выжимая из него все, на что тот способен.
В это же самое время перед перевалом уже столпилось до пары сотен оборванных стариков и женщин, но вели они на этот раз себя довольно странно — орали, чего-то требуя, но нарушать границу не решались. Вроде бы испугались автоматных очередей, пущенных поверх голов. В общем, и границу не нарушали, и возвращаться, похоже, не собирались. Даже когда прискакала тревожная группа, а вскоре за ней и вся застава. Только еще громче заорали, увидев офицеров.
Бездельничали и дозоры, оставленные внизу на правом и левом флангах. Поначалу они где рысью, а где и галопом проскакали по втиснувшимся меж лобастых гряд долинкам, но убедившись, что никого нигде нет, пустили коней шагом по основной тропе, готовые кинуться туда, где появятся перебежчики.
Хоть и большой участок велено дозорить сержанту Буюклы и рядовом Богусловскому до прибытия подмоги с Крепостной, но видимость отменная, и это немного облегчало задачу. Правда, смотреть нужно было в оба глаза, ни на миг не отвлекаясь. А тут, как назло, начала у Богусловского сильно мерзнуть нога.
Пока они рысью и галопом объезжали свой участок Богусловский не очень-то обращал внимание, что правой ноге морозно, пошевеливал только время от времени пальцами, согревая их, не думая даже, что тем самым ускоряет вышелушивание пропаленной полосы, но когда перешли они на шаг, почувствовал одеревенелость ноги. Показалось даже, что леденящее железо стремени прижигает подошву. Поднял ногу, провел рукой по подошве и невольно присвистнул.
— Ты что? — тут же, остановив коня, отозвался Буюклы, хотя свист не входил в определенные ими сигналы.
— Валенок прожжен. Через всю подошву полоса. Насквозь, похоже.
— Снимай. Посмотрим.
— Зачем. Терпимо.
— Смотри, не обморозься. Если почувствуешь, сразу докладывай.
В том-то и беда, что мороз чувствует только живое тело, а побелей оно, перестает замечать человек холод, вроде бы становится ему теплей. Так случилось и с Богусловским. Он даже не заметил, как кольнуло в подошве и ему, казалось даже, что нога согрелась или притерпелась к холоду. И на всякий повторный вопрос Буюклы Иван Богусловский отвечал неизменно:
— Нормально.
Может сержант Буюклы заставил бы Ивана Богусловского снять валенок, посмотрел бы его ногу, но разве до того было: с минуты на минуту ждали они нарушителей, а откуда они, из какой лощинки начнут высыпать, поди отгадай. Вот и сверлили глазами предгорье, боясь что-либо прозевать.
Вздохнули облегченно, когда подмога прискакала. Добрый десяток всадников. Половине из них сержант определил участки, остальных направил на левый фланг на помощь второму дозору. И вот тогда вновь к Богусловскому с вопросом. По-серьезному уже:
— Ну, как?
— Нормально.
— Слушай, не нравится мне это твое — нормально. Слезай. Снимай валенок.
Перекинул Иван ногу через седло и, едва коснувшись ею земли, ее не ощутил и, не устояв, завалился на бок.
Валенок ему помогал стаскивать сержант Буюклы, и оба ахнули, увидев совершенно белую, белей снега, ступню.
— Вот тебе и — нормально! — стаскивая теперь со своей правой ноги валенок, упрекал Ивана сержант. — Давай-ка — снегом. До красноты. Потом вот сюда, в мой теплый валенок.
Сержант торопливо сунул свою ногу в прожженный валенок и, встав на колени, принялся, прихватив снег пригоршней, натирать им белую ступню, но она почему-то не оживала, хотя он тер и тер настойчиво и жестко.
— Надо же, как прихватило. Ладно. Суй в валенок. Без портянок. Давай — галопом на заставу. Подсажу, давай.
Примерно на полпути почувствовал Иван Богусловский боль в ступне, которая с каждой минутой усиливалась и в конце концов стала совершенно нестерпимой, хоть вой. Иван сцепил зубы, но слезы невольно лились из глаз.
Это, однако же, было только началом. Когда сунул он ногу в теплую воду, боль настолько усилилась, что временами мутнело сознание. Но не реветь же благим матом. Оставалось одно — сжимать зубы. До крови из десен.
Ко всему этому и сердце тоской сдавило: как только они вошли в казарму, дежурный — обухом по голове:
— Кула с женой убили. Террорист задержан. Конвоируют на заставу. К нам летит начальник отряда.
Вот так и сплелись две боли, отрешившие Ивана Богусловского от всего реального. Он даже не обратил внимания, что Буюклы долил в тазик горячей воды.
Через полчаса Буюклы с дежурным уложили Ивана в кровать и, казалось, совершенно о нем забыли. Дело в том, что прибыл наряд из пещеры с задержанным и нужно было организовать его охрану, вот Чмыхов и велел подключиться к этому сержанту Буюклы.
— Матерый. Вон скольких порешил. Не убег бы, а то сраму не оберешься.
— Рядовой Богусловский ногу обморозил, — доложил все же сержант, надеясь, что лейтенант отменит приказ. — Мне бы с ним…
— Как это его угораздило? И вы, старший наряда, куда смотрели? Надеюсь, отошла нога.
— Так точно. В постели он.
— Вот и пусть лежит. А вы — в помощь Лодочникову. На руках его надо носить. Не он бы… Все. Выполняйте приказ.
Вертолет прилетел через час. Кокаскеров сразу же велел привести задержанного в канцелярию и начал задавать ему вопросы, все более и более чернея лицом, и без того уже осунувшимся. Чмыхов слушал допрос, — не понимая ни слова, и ждал его окончания, чтобы доложить, как задержали они убийцу, но Кокаскеров вдруг, не получив ответа на один из своих вопросов, приказал:
— Коней мне и себе. Немедленно едем к месту происшествия, — и задал вопрос по командирской привычке. — Больше ничего, заслуживающего внимания?
Вопрос, естественно, об обстановке, а Чмыхов, совершенно не зная ее (он всего-навсего исполнял роль старшего пограннаряда) и не понимая сути вопроса, ответил односложно:
— Никак нет. Все в порядке, — но, подумав, добавил: — Не считая, что рядовой Богусловский обморозил пальцы и сержант Буюклы самовольно снялся с охраняемого участка.
— Где они?!
— Здесь. Рядовой Богусловский в постели…
— Пошли. Посмотрим.
Еще не представлял серьезности случившегося Кокаскеров (пальцы только прихвачены, не большая беда), поэтому, совершенно еще не беспокоясь, прошел в казарму и приветливо бросил свое обычное:
— Салям, Иван-жан.
— Здравствуйте, Рашид Кулович, — вяло ответил Иван, хотя и попытался взбодриться. Боль у него притупилась, и наступило какое-то безразличие ко всему.
— Как же это ты, сынок, оплошал? — поднимая одеяло, спрашивал для порядка Кокаскеров. Затем, уже не слушая Ивана, пояснявшего, что валенок оказался отчего-то прожженым, полковник обратил злой взгляд на лейтенанта Чмыхова.
Немедленно в вертолет. Ногу завернуть в простынь и — в тулуп. Самого тоже — в тулуп. Бегом!
Да, таким гневным Чмыхов еще не видел начальника отряда. Лейтенантское сердце готово было вырваться с перепугу из груди, а в голове рождались варианты тех действий, какие спасли бы его, замполита, от незаслуженного, как ему казалось, наказания.
Вертолет поднялся в воздух через четверть часа, и полковник Кокаскеров, проводив его взглядом, распорядился, уже пересилив себя и потому с меньшей резкостью:
— Задержанного — в крепость. Коней подавать. Выезжаем. Там, надеюсь, вы оставили все нетронутым?
— Так точно, — торопливо отчеканил Чмыхов, радуясь, что смягчился начальник отряда.
Граница продолжала жить своей напряженной жизнью, хотя и проводила одного из своих защитников.
Случись все в иной обстановке, Рашид Кулович конечно же не отошел бы от сына друга, пока не передал бы из рук в руки врачам, и не он вовсе виновен в том, что пришлось ему вместо этого скакать по знакомой до каждой кочки дозорной тропе к юрте своих родителей, чтобы похоронить их.
Впрочем, есть его вина в смерти отца и матери. Есть. И это особенно терзало его душу.
«Я должен отомстить! Я отомщу ему!» — убеждал себя Рашид Кулович, который, чем меньше оставалось до отцовской юрты, тем все более и более ощущал трагизм случившегося.
«Я отомщу!»
Но как? Об этом он пока не думал. Еще не знал, что возможность такую ему представил сам Мейиримбек, родной его дядя.
Да, хитер и коварен бек. Не мытьем, так катаньем намерился подмять племянника. Одному из своих телохранителей он вручил послание Рашиду и велел оставить его в юрте Кула.
«— Пусть прочитает, — самодовольно изрек бек. — Может, одумается».
И он, Кокаскеров, действительно увидел и прочитал арабскую вязь. Всего несколько слов: «Так будет и с тобой, упрямец, если не склонишь голову перед Аллахом».
«Склоню! — едва сдерживаясь, чтобы не крикнуть это во весь голос, вел Кокаскеров гневный диалог с ненавистным дядей: — Склоню, если тебе этого хочется. Только ты, вонючий бурдюк, забыл: к одному дереву две лошади не привязывают… Ты узнаешь, дядюшка, силу склоненной моей головы!»
У него уже рождался ответ беку: «Вы убедили меня. Лучше быть вашим наследником, чем гнить в земле». Ответ этот он тайно вручит задержанному, а его самого передаст погранкомиссару.
«Поддержут ли теперь? Скажут: нужно было бы раньше думать, ослушаться даже отца… Сейчас одна надежда — Владлен Михайлович. Он пошлет и поддержит».
И тут впервые после того, как отправил Ивана в отряд, он вспомнил о нем. Со стыдом вспомнил. Со стыдом за то, что не уберег сына друга своего от беды. Не представлял даже себе, как будет смотреть в глаза Владлену Михайловичу. Ступня обморожена так сильно (Кокаскеров не первый раз видел такое), что возможна ампутация.
Совсем иначе был настроен сам пострадавший. Боль почти совершенно прошла, и теперь он, обессиленный ею, наслаждался покоем. Тулупы, в которые он был укутан, уютно пахли овчиной, тепло разморило, и сон начал овладевать Иваном, хотя вертолет шумел во всю свою мощь и, к тому же, его основательно потряхивало на воздушных волнах, какие в горах и предгорьях не редкость.
Заснул Иван крепко. Не слышал он ни посадки, не чувствовал, как перенесли его в санитарную машину, а потом из нее — в палату; он проспал добрых шестьсот минут, по определению солдатского юмора, чем вызвал одновременно и успокоенность отрядного врача капитана Люлюки и озабоченность.
«Не шок ли?»
Капитан уже несколько раз приходил в палату и сидел у изголовья спящего, а когда жизнь санчасти требовала его присутствия в иных местах, уходя, он обязательно поднимал осторожно одеяло и, глядя на сморщенную, почти черную ступню, сокрушенно качал головой.
«Да-а-а… дела…»
Обморожение сильное, но как виделось врачу, обратимое. Конечно, больному предстоит долгое лечение, но в конце концов появится вместо мертво-черной новая кожа, вначале беспомощно-розовая, и тогда останется лишь ждать терпеливо, пока она огрубеет и позволительно будет надевать обувь. Такой исход подсказывала врачебная практика капитана Люлюки. Он уже приготовил все нужные лекарства и теперь только ожидал, когда проснется больной, беспокоясь лишь о столь долгом его сне.
«Может, нашатыря дать понюхать?»
Но все обошлось, Иван проснулся, когда подошло время, а капитан начал привычное по такому случаю лечение, и только через день он забеспокоился основательно: нога Ивана Богусловского начала краснеть и пухнуть выше обмороженной черноты, и час от часу врачу становилось все ясней, что начинается газовая гангрена.
Этот диагноз испугал врача еще и потому, что в отряде ждали приезда генерала Богусловского, которому конечно же придется докладывать о состоянии здоровья его сына, а о плохом докладывать всегда плохо, виноватым себя чувствуешь, хотя и не причем. Только генерал — есть генерал. Станет он тебе вникать в детали. Ему ясно одно, что за здоровье бойцов несет прямую ответственность медицинская служба, вот и спросит по всей строгости с нее. Не миновать взбучки.
Но, как говорится, голь на выдумки хитра. Решил капитан опередить события и спешно отправить больного в госпиталь, где есть условия для лечения гангрены. Тем более что оперативность вполне можно засчитать в плюс.
«А повидаться с сыном? Генерал сможет всегда, когда захочет».
Капитан Люлюка тут же позвонил начальнику отряда, испрашивая добро отправить Богусловского вертолетом в армейский госпиталь, к помощи которого они прибегали не единожды, ибо он находился намного ближе своего, окружного, и был, к тому же, более современно оборудован.
— Я сам, товарищ, полковник, повезу. Сам сдам больного.
— Не только сдайте. Оставайтесь там, пока не пойдет дело у Ивана, — поправился, — у рядового Богусловского на улучшение.
Сподручно это капитану. Свой, пограничный, глаз не помешает, хотя уход и лечение в госпитале, как считалось, были вполне на уровне. Значит, не это главное. Главное для капитана то, что избежит он встречи с разгневанным отцом, которая может иметь, по его представлению, самые недобрые последствия.
Заблуждался капитан Люлюка. Весьма заблуждался. Не из грязи в князи вышел Богусловский, оттого и не мог поступить так, как поступали многие, обличенные властью. Да, когда ему доложили о случившемся, он нахмурился. Да, он даже сжал кулаки и придавил ими зеленое сукно стола, но упрек генеральский последовал не в адрес командиров, что, дескать, такие-сякие, куда смотрели, отчего не уберегли солдата, а Ивана, сына своего, упрекнул Владлен Михайлович:
— Как же это он обмишулился?
— Начальник отряда сейчас в крепости. После встречи с вами он собирается лично разобраться в случившемся. Возможно и вы… — услужливо высказал свой совет подполковник Томило.
— Нам с ним и без того много дел. А на заставу, как положено, пошлите кого-нибудь.
— Там сейчас начальник политотдела.
— Вот-вот. Пусть разберется и доложит. А к сыну я поеду, когда завершим неотложное на границе. На Алай вылетаем немедленно. Вот только позвоню домой. Бабушка, думаю, сразу понесется к внуку.
До заставы уже дошло, что у рядового Богусловского гангрена и, стало быть, дело принимает паршивый оборот. Тут, как говорится, и схлопотать можно на полную катушку. Вот и объединили усилия майор Киприянов, старший лейтенант Абрамов и лейтенант Чмыхов, поворачивая так дело, будто все случилось по вине самого Богусловского и, что особенно важно, по вине старшего наряда, который проявил явную невнимательность к младшему.
Нет, офицеры ничего сокровенного друг другу не говорили, просто интерес каждого совпал с интересом всех, а уж старательность, великую озабоченность, стремление проникнуть во все детали продемонстрировать можно. Выпятить напоказ не так уж и трудно. Пошли беседы за беседами. Особенно долгой и упрямой оказалась одна из бесед с сержантом Буюклы.
— Вы проверяли экипировку наряда? — вопрошал майор Киприянов.
— Никак нет. По тревоге же подняли…
— Инструкция четко определяет обязанности старшего наряда, не оговаривая никаких исключений, — вмешался старший лейтенант Абрамов. — А у вас, как мне помнится, пятерка.
— Вот-вот, — будто обрадовался поддержке майор Киприянов: — Знания, выходит, не подкрепленные делом. Халатность, стало быть. Я даже бы уточнил: преступная халатность. Вдумайтесь, товарищи, каковы последствия халатности и вы согласитесь с моей оценкой.
— Кто-то прожег ему валенок, — попытался оправдаться Буюклы.
— Допустим. Хотя… Это из области фантастики. Но… Допустим. Так почему он сразу этого не заметил и не доложил? Почему вы, как старший наряда, не доложили?
— Как же можно не заметить, если валенок прожженный, — вмешался и лейтенант Чмыхов. — Значит, сам и прожег. Иначе бы почему не доложить? И потом, кто мог прожечь? Ума не приложу.
— Известно кто, — упрямо стоял на своем Буюклы. — Лодочников руками своих телохранителей.
— Да-а-а, — протянул майор Киприянов. — Я всегда считал вас, товарищ сержант, человеком ответственным, а на поверку вон как поворачивается. Вы обвиняете Лодочникова, а он — геройский боец. Как лейтенант Чмыхов докладывает, Лодочников первым кинулся в пещеру. И потом проявил пограничную сообразительность, когда увидел, что террорист уходит. Воспользовался тем, что подъем крутой, начал перед нарушителем очередь за очередью укладывать, пока тот не остановился и не начал спускаться вниз. Сам, заметьте, спускаться стал. Подняв руки. Действия Лодочникова заслуживают высокой награды. А ваши? Не могли уберечь одного подчиненного! А хотите свою вину перевалить на других. Не выйдет! Впрочем, мы проверим ваше заявление.
Бурно пошла проверка. Один за другим поднимали всех, кто возвратился из наряда после Богусловского. Всех заставляли даже писать объяснительные. Офицеры не единожды (демонстративно, все втроем) ходили в сушилку, искали следы пригоревшей шерсти на дверце печки, на кочерге, но и там ничего не обнаруживали.
Нет, не нашли злоумышленника. Все сходилось к тому, что прожечь валенок мог и сам Богусловский. Выстроилась даже легенда: подбросил дровишек в печку и, ленясь закрыть дверцу кочергой, прихлопнул ее ногой, вот шерсть могла и затлеть. Не заметив этого, снял валенок и поставил в сушилке. Благо, затухло, а то и до пожара дело могло дойти.
Ерунда, конечно. Белыми нитками шито. Но, как говорится, в жизни все может быть. Даже, утверждают, метла может выстрелить. Странно только одно: никто не вспомнил о носках из верблюжьей шерсти. Буюклы, затюканный перекрестными репликами, просто выпустил это из виду, а офицеры вроде бы вовсе о них ничего не знали, ничего не ведали, будто никогда никаких носков не существовало.
Доклад майора Киприянова о проведенном на заставе изучении причин происшествия генерал Богусловский принял без сомнения и отмахнулся от совета Рашида Куловича побывать на заставе им самим.
— Начальник политотдела и, думаешь, не смог вникнуть? Не может быть. Давно в войсках, опытный…
— Так, оно, конечно, — так, только сомнения меня берут.
— Давай, Рашид, делом заниматься. Потом… Разбираться с ЧП, которое собственный сын преподнес заставе, разве этично? А Иван, считаю, получил крепкий урок. Полезный урок.
Почти эти же слова через несколько дней он скажет и сыну, когда тот на отцовский вопрос: «Как же это ты, Ванюша, ЧП отряду принес?» — попытается рассказать обо всем, что случилось на заставе. Отмахнется Владлен Михайлович: «Что-то уж слишком заковыристо. Твое воображение болезненно обострено, — и добавит назидательно: — А вообще, урок ты получил хороший. Думаю, на всю жизнь».
Но тем дням еще предстояло наступить, — генералу Богусловскому еще нужно было все так подготовить для игры с Мейиримбеком, чтобы комар носа не подточил, а Ивану всего-навсего дожить до той встречи, преодолев часы отчаяния, навалившиеся после бестактности начальника госпиталя, как потом охарактеризовал выходку полковника-врача капитан Люлюка и чему вполне поверил Иван Богусловский.
Только не бестактность допустил начальник госпиталя полковник медицинской службы Темник, каждое его слово, каждый его жест были вполне осознанны.
Будто хлестнул по сердцу Темника звонок капитана Люлюки из отряда. Нет, не неожиданностью. Прежде просьбы приютить заболевших бывали не так уж и редки. Всегда, когда возникала нужда в экстренной и квалифицированной медицинской помощи. Вот и сейчас, выслушав, что есть подозрение на газовую гангрену, бросил в трубку согласно:
— Привозите. Санитарку я высылаю на аэродром. С хирургом.
— Врача не нужно. Я сам везу больного. Он — сын нашего генерала Богусловского.
В один миг всплыло все: партизанский отряд, унижение и издевательство перед тем пережитое, чтобы затем получить от немца-щеголя подарок с барского плеча и вечный страх быть убитым либо немцами, либо своими; вечный страх быть разоблаченным, который хотя и притупился с годами, но жил в нем безвылазно, постоянным придатком к его душе. Беспокойство — вот его послевоенный удел. Еще и ожидание прихода визитера с той стороны, хотя и оно, то ожидание тоже становилось все менее тревожным. Но есть оно. Есть. И никуда от него не денешься.
«Процветают, продавшие русскую дворянскую честь, затоптавшие вместе с символами истинных патриотов… Генерал!»
Владлен Михайлович Богусловский остался в памяти Темника юнцом, с одним просветом на погонах. И, как ему со злорадством тогда думалось, остался тот без будущего, ибо не стало у него отца-генерала. И надо же — стал генералом!
«Ишь, прет! Ну, ничего. Сыном поплатишься! Гангрена, слава богу, коварна…»
Он делал все, что положено ему было делать по должности, аккуратно, с показной старательностью. Санитарку выслал загодя, место распорядился приготовить больному получше, а капитана Люлюку сразу же проводить к нему, Темнику, в кабинет. А когда тот появился, выслушал его очень внимательно, хотя Темнику и без того все было ясно. Более того, он сам пошел к больному. Так и сказал:
— Я сам погляжу. Чтоб никакой осечки.
Что ж, факт отрадный. Капитан Люлюка, довольный столь внимательным приемом, какого прежде не бывало, бодро шагал за начальником госпиталя по источавшим чистоту коридорам.
Увы, умиротворенность его улетучилась, подобно эфиру, как только подошли они к кровати Ивана Богусловского и Темник, приподняв одеяло, развернул укутанную в мягкий плед обмороженную ногу. На лице — явный испуг. А разве имеет право врач выказывать свои эмоции? Думай что хочешь, но лицо сохраняй доброжелательным и спокойным.
«Что же это он, с таким стажем?»
Только, оказалось, ягодки были еще впереди. Темник повернулся к появившемуся в палате хирургу и медсестре, повелев непререкаемо:
— Готовьте больного к немедленной операции.
— В каком смысле? — спросил Люлюка, очень удивленный. — Пластины?
— Нет. Срочная ампутация.
— Но сколько я знаю, даже на фронте не спешили с ампутацией. Статистика говорит…
— Разглагольствовать о фронте, не побывавши там, по меньшей мере не этично. Да, излечивали. Но и хоронили. Гангрена — не шутка. К тому же, здесь особый случай. Вполне возможно общее заражение крови. Обморожение — не огнестрельная рана. Без функции большой участок кожи. Вы это не учитываете?
Вполне возможно, что начальник крупного армейского госпиталя задавил бы своим авторитетом отрядного врача, профессионализм которого не высок не по безграмотности своей, а в связи со спецификой работы, в основном профилактической; но тут влиял особый фактор — больной был сыном генерала, что придавало капитану смелости.
— Я бы попросил консилиум. Без него я не дам согласия на ампутацию.
Темник посмотрел на капитана Люлюку тяжело, с гневом, как глядит на надоевшего донельзя щенка матерая дворняга, прозрачные ноздри его еще активней задвигались, будто Темник принюхивался к собеседнику или собирался чихнуть ему прямо в лицо, но Люлюка не отступал. К принюхиванию он уже привык, хотя всегда удивлялся этому в прежние приезды, а гневность видел впервые на лице начальника госпиталя.
«Сейчас прикажет: «—Забирайте солдата и — вон отсюда! Везите к себе, раз такие умные!» — с опаской думал Люлюка, но стоять на своем продолжал:
— По делам службы в отряде отец больного. Его тоже нужно спросить. Согласие родителей…
— Хорошо! Консилиум проведем завтра. Но имейте в виду, вся ответственность на вас, товарищ капитан. Сегодня мы ампутировали бы до колена, а если упустим время, вынуждены будем удалять всю ногу.
Темник, так и не чихнув на Люлюку, вышел из палаты, демонстрируя благородный гнев. Хирург, медсестра и капитан переглянулись, хирург даже пожал плечами, но все же поспешил вслед за начальником, а медсестра, укутав аккуратно в простыню и плед ногу Ивана, выдавила грустно:
— Не расстраивайся, сынок. Все, Бог даст, образуется.
— Оставьте нас одних, — попросил медсестру капитан Люлюка. — Я хочу поговорить с больным.
Подсел к изголовью и спросил:
— Сможете, Иван Владленович, быть решительным?
— Да.
— Вот и ладно. Конечно, риск есть. Но я уверен: отрезать ногу никогда не поздно. Я уверен — нужно лечить. Лампасное рассечение и кислород. Гангрена не запущена.
— Я не дам согласия резать ногу. Не дам! Лучше — смерть!
— Ну, зачем же так мрачно… Думаю, будем жить. С ногами и долго.
Консилиум начался сразу же после утреннего обхода. Несколько госпитальных врачей, а также врачи из городской больницы и поликлиники долго смотрении щупали ногу, затем начали обмениваться короткими фразами, где больше было латыни, чем понятных русских слов, и Иван как ни старался хоть как-то выудить главное из их разговора, так ничего и не понимал. Успокаивало лишь то, что никто не горячился, все слушали каждого с доброжелательным вниманием, кивали головами, и создавалось такое впечатление, что идет обмен мнениями единомышленников. На самом же деле врачи разделились на два лагеря, в котором большинство, в один голос, видела выход лишь в скорейшей ампутации ноги.
— Итак, закончим обмен мнениями, — вопреки всем правилам, существующим в медицине, решать судьбу больного не у больного, а его лишь знакомить с диагнозом в пределах допустимого, заговорил Темник. — Насколько я понял, большинство за ампутацию. Поэтому, готовьтесь, молодой человек, к операции. Больше времени терять не станем. Это — не на пользу.
— Что?! Резать?! — выкрикнул Иван, спокойность которого всех врачей и даже капитана Люлюку умиротворила.
— Увы.
— Не дам!
— В таком случае я снимаю с себя ответственность, — заявил с сухой официальностью Темник. — И как начальник госпиталя, и как врач.
— Я беру ее на себя, — резко вставил капитан Люлюка. — Надеюсь, в необходимой помощи не откажете?
— Ваше решение, товарищ капитан, не диктуется гуманностью. Вас пугает генеральский чин отца пострадавшего, но это же противоречит клятве, какую вы давали как врач.
— Пусть так, — согласился Люлюка, хотя и оскорбился явной бестактностью начальника госпиталя, но осложнять еще более и без того сложную ситуацию он не хотел. — Пусть так. Но я буду лечить. С помощью ваших хирургов. Вы же не запретите им?
Да, рушилось все, что задумал Темник. Капитанишка какой-то встал поперек дороги. Темник, однако, не собирался вот так, запросто, отступать, он напрягал все свои извилины, ища такой вариант, который бы привел к краху капитанское лечение, и тогда уж не ногу потеряет отпрыск Богусловских, а жизнь.
Нашел бы, конечно, Темник, что искал, опыта ему в таких делах не занимать, только все его планы рухнули совершенно для него неожиданно. Произошло то, чего он отродясь даже предположить не мог.
Безусловно, он был уверен, что в госпиталь приедет генерал Богусловский и даже прикидывал возможный вариант разговора, где можно было бы посетовать на злоключения судьбы (отец умер на его, Темника, руках, теперь вот — сын), он так же был уверен, что не сегодня, так завтра прилетят мать и бабушка Ивана, он уже подготовил себя к встрече с ними и обдумал, что и как говорить им; но он не знал того, что еще там, на похоронах мужа, Анна Павлантьевна увидела в нем, Темнике, копию своего брата, но промолчала тогда из какого-то страха, а возможно, из чувства фамильной солидарности — Темник же посчитал тогда, что никто из Богусловских не знает его истинного происхождения, и, естественно, не ждал с этой стороны ничего непредвиденного.
Анна Павлантьевна прилетела через два часа после консилиума, когда у Темника уже вырисовывался приемлемый вариант противодействия капитану Люлюке. Незаметный, но эффективный. Ему доложили о гостье, и он сам вышел ее встречать, нисколько не думая отступать от задуманного.
Все шло, как тому и следовало. Взволнованная довольно уже пожилая женщина, миниатюрная, аккуратная, спросила с искренним удивлением:
— Вы?!
— Да, я — ответил Темник, вглядываясь в лицо Анны Павлантьевны и ничего, кроме удивления и тревоги не замечая.
— Как мой внук?
— Плохо. Я предлагаю ампутацию, мне противодействует отрядной врач, приехавший с вашим внуком. Но им руководит не долг врача, не неподкупная совесть врача, а боязнь попасть в опалу. Перед вашим сыном он пасует.
— Вы мне позволите к Ванечке? Я вот тут…
— Непременно. Давайте, я помогу.
И Темник подхватил сумку, тяжеленную, набитую не столько вкусными гостинцами, сколько склянками, ампулами, тюбиками с различными импортными лекарствами и бальзамами, какие полезны при лечении обморожения и помогут в профилактике возможного заражения крови.
— Причина гангрены, — пояснял тем временем Темник, шагая рядом с Анной Павлантьевной и показывая ей жестом свободной руки, куда идти по коридору, — полная медицинская безграмотность воинов. Начали растирать снегом, оцарапали кожу, открыв тем самым настоящие ворота инфекции. Снег категорически противопоказан. Капитан Люлюка, видимо, нерадив, ибо не научил ничему личный состав, а теперь вот упрямится… Ставит вашего внука под новый удар… Вот сюда, пожалуйста. Здесь ваш внук.
— Здравствуй, Ванечка, — только и осилила Анна Павлантьевна, слезы сами собой покатились из глаз, она попыталась овладеть собой, но рыдание прорвалось, сотрясая все ее старческое тело — началась та самая истерика, какие случались с ней уже не единожды.
Иное, видимо, не могло произойти. Сколько она потратила сил, консультируясь вначале с известными врачами, а затем доставая нужные лекарства, как волновалась в самолете, который летел утомительно долго, и вот здесь, только она переступила порог госпиталя, ее ошарашили такой информацией, что хоть стой, хоть падай. Повлиял и сам факт встречи с Темником. Каким родным виделось его лицо, лицо брата, и каким ненавистным, ибо с годами она все больше убеждалась, что смерть мужа — дело рук Темника. Кому посильна такая психологическая перегрузка…
Ей дали валерьянки, дали нашатырного спирта, но окончательно успокоила ее медсестра, которая положила себе на грудь седую голову и принялась гладить ее, как голову младенца.
— Будет, будет. Все образуется. Все хорошо обойдется, милая, — потом попросила всех: — Идите по своим делам. Я одна управлюсь.
И только когда совсем прекратились судорожные всхлипы, когда Анна Павлантьевна смогла уже упрекнуть себя: «—Ну, вот, приехала навестить внука, а хлопот сколько», — добрая пожилая женщина поднялась со стула и закричала: — Слава богу, полегчало сердцу. Самое время всласть поговорить.
Она оставила их одних, поступив очень разумно, ибо могло бы больше и не быть такого момента для полного откровения сердец. Правда, Иван всегда был с бабушкой более откровенным, чем с родителями, но сейчас ему из жалости к ней особенно хотелось полностью излить душу, а Анна Павлантьевна готова была слушать и слушать любимого внука, понимая его и умом и сердцем.
— Так как же все случилось, Ванюша?
— Не это, так другое случилось бы. К этому шло. Я восстал против подлости. Против бесчестия восстал. И еще против чего-то, чего я не понял, но не приемлю.
А чтобы поняла бабушка, чтобы не отмахнулась, не принялась успокаивать, как сделал это генерал Костюков, он начал рассказывать все, стараясь не упускать не только то, что казалось ему важным, но и мелочей. Он даже не забыл о призвании Лодочникова, что родители того не очень-то откровенны и что есть у того в Ферганской долине единоутробный брат, который возглавляет где-то здесь госпиталь. Припомнил даже фамилию, им названную — Темник.
— Подожди-ка, внук. Темник, говоришь? Так вот он и есть, здешний начальник. А того солдатика фамилию повтори-ка. Лодочников? Не знаю. Не встречала… Ладно, продолжай.
— Приручить он меня хотел, да подслушал я разговор его с дружками.
— Грех подслушивать. Нехорошо.
— Нечаянно я, баб. Так получилось. Но я благодарен случаю, а то, может, плохо бы все пошло, не честно. Податливы мы, склонны к знакам внимания, не думаем часто, заслужены ли они и как этим ущемляем других. В общем, бабуля, началось после этого такое…
Помолчал Иван, собираясь с мыслями и силой, потом продолжил рассказ о том, как развивались события дальше, но как ни старалась Анна Павлантьевна слушать внука внимательно, ей это не удавалось.
«Вот она — разгадка! Вот она! — стучало в голове метрономом. — Вот она… О, Господи! Дай силы!»
Она уже думала, как найти мать Темника в Москве и уже представляла, каковым будет с ней разговор. Вдруг она знает, где сейчас Дмитрий. Вдруг, жив.
«О, Боже!»
Но когда внук дошел до спора прямо у кровати капитана Люлюки с начальником госпиталя, насторожилась, а когда он поведал о консилиуме, только что состоявшемся, она уже решилась на разговор с Темником с глазу на глаз.
Теперь она ждала с нетерпением, чтобы внук поскорее окончил свою исповедь, хотя и не торопила его, слушала вроде бы внимательно и отзывчиво, а сама сидела как на иголках.
— Ты вот что, внучек, — когда Иван выговорился и устало смежил глаза, посоветовала Анна Павлантьевна, — отцу все повтори. Пусть он разберется, как следует.
— Но он там. Должен и без того вникнуть.
— Верно. Только ты не поленись, повтори. Ладно? Я же сейчас пойду к врачам. Побеседую с ними о твоей ноге.
Слукавила. Но цель благородна, ибо ради внука она решилась открыться Темнику.
Вошла в кабинет начальника госпиталя и — оробела. То ли от снежной белизны стен, стульев и стола, из-за которого Темник встал ей навстречу; то ли от улыбки гостеприимного превосходства, на родном лице, то ли от боязни сделать опрометчивый шаг — как бы там ни было, ей потребовалось время, чтобы настроиться на решительный лад.
Пауза затягивалась до неприличия долго. Темник заговорил первым, понимая, что поступает по меньшей мере неуважительно к гостье. Но что ему оставалось делать?
— Вас привело ко мне, видимо, желание расспросить о положении внука более подробно?
— Да… Собственно, нет… Я пришла просить вас, умолять, если хотите… Впрочем…
Голос ее начал обретать уверенность, да и сама она буквально на глазах из робкой старушки превратилась в недоступную светскую даму, которую лишь случай заставил снизойти до разговора с низшим человеком по сословию.
— Если вам не известна моя девичья фамилия, я представлюсь: урожденная Левонтьева. Родная сестра Дмитрия Левонтьева. Да, да. Можете чихнуть. Дима тоже, как и наша покойная мать, когда особенно волновался, вот с таким же лицом бывал. Так вот, Дмитрий Дмитриевич Левонтьев, так ваша истинная фамилия, я ставлю вам условие: внука вы вылечите, не отрезая ноги, и комиссуете его. И еще… Прошу адрес и телефон вашей матери. Да, да, напишите на листке. Вот и хорошо. Благодарю вас. Больше я вас обременять своим присутствием не стану. Завтра уезжаю в Москву в полной уверенности, что никаких осложнений у нас не случится. Прошлое — под пеленой забвения, но пелена так легка и ненадежна, прикоснись к ней рукой, и обнажится все, — Анна Павлантьевна помолчала немного и с грустным вздохом завершила: — Боже, как мы мельчаем! Мы, дворяне, решавшие прежде судьбу империи. Как мы пали.
Свой визит к Темнику она считала верным, но не исключала и осечки, когда Дмитрий Темник поступит против ее требования, оскорбленный какими-то неясными намеками, тогда спасти Ивана может только вмешательство матери Дмитрия — вот почему она так спешно возвращалась в Москву, хотя ей очень хотелось побыть здесь с внуком, поухаживать за ним, последить, чтобы лечение шло без вялости, но иной раз приходится поступать против воли, против принятых среди людей правил. Да, отъезд ее удивил всех, особенно Ивана; но более всего поразило то, как моментально изменил начальник госпиталя свой диагноз, — это Иван тоже связывал с отъездом бабушки, хотя совершенно не понимал, что же произошло.
Утром Ивана Богусловского поместили в барокамеру, а возле него попеременно дежурили то капитан Люлюка, то кто-либо из госпитальных хирургов, но и этого мало — начальник госпиталя сам то и дело наведывался к Богусловскому, чтобы убедиться, все ли идет ладно.
Анна Павлантьевна тем временем, прилетев в Москву, тут же позвонила Лодочниковым, и хотя те отнекивались, напросилась все же в гости без отсрочки. Каково же было ее удивление, когда двери ей открыл Владимир Иосифович Ткач. Старый-старый, но такой же, как и прежде, напитанный услужливостью, с таким же, готовым сорваться с уст: «Чего изволите?» Даже к кончикам усов притронулся пальчиками точно так же, как в молодости.
— Аннушка, дорогая, неужто вы?
— Зачем это, Владимир Иосифович, фиглярство? Вы же знали, кого ждете. А вот я действительно удивлена. Почему Лодочников? И где все эти годы вы пропадали? Отчего, живя в Москве, не попытались нас разыскать?
— Слишком много вопросов, Аннушка Павлантьевна. Давайте-ка разденемся и пройдем в гостиную… Время прошлое, можно и пооткровенничать.
Не вдруг дошел до Анны Павлантьевны смысл последних слов, да ей, собственно, недосуг было улавливать, сколь многое за ними кроется, ибо даже удивление столь неожиданной встречей не оторвало ее от главного, ради чего она шла сюда, от предстоящего разговора с той, которая была близка Дмитрию — с женой или невестой брата. Анна Павлантьевна даже спросила, не удержавшись:
— Акулина Ерофеевна дома?
— Дома, Аннушка, дома. На кухне хлопочет, — хихикнул пошленько Владимир Иосифович, притронувшись к усикам подушечкой пальцев. — Сродственницу, почитай, встречает.
Что-то новое, оскорбительное показалось Анне Павлантьевне в этом пошленьком смешке. Такого прежде у Владимира Ткача не замечалось.
«Да, меняемся мы с годами. Очень меняемся».
Стол в гостиной действительно был уже накрыт, причем так искусно и так обильно, что, казалось, ждали здесь по меньшей мере дюжину дорогих гостей.
— Проходи, Аннушка, проходи. Сейчас Лина, хозяюшка наша, появится. Принарядиться, видно, еще не успела.
И в самом деле Акулина Ерофеевна вышла вскорости и поразила Анну Павлантьевну и ладностью своею, и вкусом: кримпленовое платье, очень модное, но не откровенно-яркое, в каких щеголяют московские девицы из золотой молодежи, а темно-серое было подстать ее точеной фигурке; украшений крикливых тоже нет — нитка жемчуга мягко подчеркивала умеренную полноту бюста, а в ушах искрились бриллиантиками миниатюрные платиновые серьги; все говорило о достатке, привычном для женщины, все подчеркивало умение хозяйки одеться со вкусом: Акулина Ерофеевна была так мила, столь обаятельна, что совершенно не виделся ее возраст.
«А девушкой какой была? Счастье для Дмитрия! Истинное счастье».
А «счастье» это заговорило сразу же после протокольной ритуальности, разрушая собой же созданный портрет:
— Хотите знать, кем я была для Дмитрия? Подстилкой. Извиняйте, что так пошло, но — так и есть. Вы же сестра его, скрывать-то от вас нечего… На заимке у нас жил, подбивал заимщиков императора спасать. Люб он мне был, Дима. А я ему что. Насытился и бросил. Письмецом осчастливил: гордость, мол, что от столбового дворянина понесла, в гордости и дитя воспитывай. Выполняла наказ, жертвуя ради этого своей женской честью. Спохватился Дима-то, после, давай приглашать. За границу, куда его нелегкая занесла. Только тех посланцев ваш муженек того, спровадил в мир иной. Вот и пришлось у него, кто волю Димы выполняя, меня разыскал, остаться. У Мэлова…
— Мэлов?! — вырвалось невольно у Анны Павлантьевны. — Тот самый Мэлов?!
Для нее Мэлов всю жизнь оставался каким-то неопознанным чудовищем, а гляди ты, Ткач это всего-навсего.
— Ты вправе, Аннушка, судить меня, только пойми, что мною руководила и любовь к тебе. Не мог я равнодушно взирать на счастье Михаила. Пойми и другое: совершенное неприятие мною того, что складывалось в родной России. Полное неприятие и, главное, честное. Твое право судить меня…
— Не подсудны нам наши действия. Потомки разберутся, кто из нас избрал верный путь. Оценят они, кто прав, кто виноват. Еще и Господу Богу мы подсудны. Нам надо дожить свой век покойно, заботясь о душе своей, о детях и внуках.
Первый шаг к примирению. Повторилось то, что случалось не единожды в веках меж этими семьями: то вражда, то замирение и спокойное сосуществование, похожее даже на дружбу.
Больше они, в этот раз не стали выяснять, кто есть кто, а беседа их приняла именно то направление, какое хотелось Анне Павлантьевне; только не ультимативность, к чему готовилась она, главенствовала за столом, а взаимное понимание, взаимное уважение.
— Да-да, ему нечего делать в армии с обмороженной ногой, — искренне соглашалась Акулина Ерофеевна. — Я сегодня же позвоню Диме. Сегодня же.
— И устроим ему юридическое будущее, — вдохновился Владимир Иосифович. — Ты не представляешь, Аннушка, как прекрасна адвокатура: всегда нужное людям милосердие. Как контрастна она служилому жестокосердию, естественному для человека с ружьем.
— Видно будет, Владимир Иосифович. Традиция семьи, согласитесь, дело серьезное. Может быть, все же сможем убедить.
— И-и-и, Аннушка, кому нужна сейчас служба? Ну, скажи на милость, кому?
Они обсуждали с полной серьезностью будущее Ивана, вовсе не мысля, что Иван не приедет в Москву даже на несколько дней, долечиваться останется в отряде, откуда повезет его поезд в неведомую глушь лесотундры. И одной из причин тому будет трудный разговор с отцом — генералом Богусловским.
Приехал тот через несколько дней, когда гангрена уже начала отступать, и настроение врачей было приподнятое. Оно передалось и Владлену Михайловичу. Вошел тот и — сразу:
— Мне сказали: страшное позади. На поправку пошел. Молодцы медики. Ничего не скажешь. А тебе, думаю, на всю жизнь урок.
— А я думаю, случай со мной — для многих урок. Скажи, что будет Лодочникову, Скарзову и Охлябину? Как вы с Рашидом Куловичем отнесетесь к лейтенанту Чмыхову, а заодно и к майору Киприянову?
— В чем они провинились? Майор Киприянов разбирался и доложил все основательно. Сержанта Буюклы, не углядевшего за подчиненным, следовало бы наказать, но ограничились переводом на другую заставу…
— Так не вы с Рашидом Куловичем разбирались?
— Как же я мог. Ты же — мой сын.
— Разве, отец, во мне дело. Все сложней. Или я чего-то понять не могу. Переводом Буюклы, считаю, вы развязали руки Лодочникову.
— Не драматизируй. Не ты первый обморозился, не ты последний.
— Да, отец, ты, похоже, так же устарел, как и генерал Костюков. Сверху на все поглядываете, принимаете не что есть, а что вам удобней принять, что спокойней. Все. Больше об армии не говорим. Тем более начальник госпиталя говорит: комиссуют меня.
— Комиссуют? По пустяку этакому? — помолчал немного и добавил примирительно. — Ну, что ж, если случится такое, подумаем о твоем будущем не в ратном деле…
Лишними были те слова. Очень лишними. Иван даже хотел обрезать: «— Не слишком ли велика опека?! Неужели я сам ничего не стою!» — но сдержался. И без того разговор шел у них с накалом, а с отцом не виделись они давно, и Ивану не хотелось полного отчуждения. Он потом поступит по-своему, как посчитает нужным сам, но зачем же сейчас извещать об этом отца, тоже соскучившегося, зачем же окончательно отравлять и без того не очень-то радостное свидание.
Погостив денек, отец улетел в Москву, так и не поняв душевного состояния сына, не разделив его тревоги и заботы, и теперь у Ивана было много времени основательно подумать о прошлом и будущем. Ответа ясного, убедительного в прошлом своем он, как ни старался, не находил, будущее виделось ему в тумане, хотя перебирал он десятки возможных вариантов. Ничто не ложилось на душу без сопротивления и сомнения. И чем бы окончился тот поиск, не ведомо, если бы не приехал в госпиталь комсомольский бог отряда, молодой, подвижный лейтенант.
— Привет тебе, Иван, от начальника отряда. Персональный. От майора Киприянова тоже… Вся застава, я звонил туда перед отъездом, желает скорого выздоровления. Ждет тебя.
— Сержанта Буюклы перевели?
— Да. Без разбора на бюро.
— Плохо, что перевели. Совсем вольготно станет Лодочникову и его дружкам.
— Мы и тебя не хотим туда возвращать. Зачем косу с камнем сшибать. В отряд на комсомольскую работу тебя берем.
— Не получится. Меня не годным к службе признают. Уже сказали мне. Комиссуют.
— Жаль. А мы тут такое дело начали! Формируем отряд добровольцев на целину и на стройки Сибири. Думал я, помощником станешь. Авторитетом своим…
Не слышал последних слов Иван Богусловский, его сердце учащенно забилось: «Вот он — выход! Вот то, что надо!» И спросил, сминая сомнение:
— Когда уезжают в Сибирь?
— Первые через полтора месяца.
— Если можно, включите и меня.
Глава девятая
Им, как они считали, не повезло с поездом. В нем ехал комсомольско-молодежный отряд, собранный из ребят и девчат центра России по решению ЦК ВЛКСМ. Ради этого отряда, вернее, ради помпезности, собран был в Москве комсомольский пленум, где прозвучало великое множество призывов, клятв и заверений, и вот теперь те призывы, клятвы и заверения продолжились с такой же пышностью, только в меньших, естественно, масштабах, на каждой мало-мальски приличной станции.
Они, правда, не случайно попали в этот шумный состав. Так захотел начальник узловой станции, где пограничникам предстояла пересадка. Выслушал тот растерянную дежурную (где взять столько мест в одном поезде, а тем более в одном вагоне) и успокоил ее:
«— Давайте вместе с главным ихним ко мне, — а когда несколько отряженных общим голосованием представителей ввалилось в кабинет, спросил: — Вы хотите обязательно, чтобы компанией?»
«— У нас — бригада. Мы просто обязаны прибыть одновременно. Потом… Мы — коммуна».
«— А-а-а, ясно. Тогда поступим так: день проведете у нас. Город посмотрите. Не ахти какой, но на базаре советую непременно побывать. Завтра идет литерный. Спецэшелон. К нему подцепим вас. В спецвагоне. Согласны?»
Чего ж перечить. Литерный! Спецэшелон! С ветерком, значит, понесет. Зеленой улицей. И хотя они уже читали в газетах захлебистые простыни, сдобренные улыбчивыми портретами, об очередной комсомольско-молодежной бригаде, но даже не подумали, что им придется ехать именно с ней. И даже реплика начальника станции: «—Глядишь, заманят и вашу коммунию», — не обременила парней размышлениями. А вот теперь те слова вспомнились. Не единожды.
Их никто не приглашал к себе. С ними никто даже не разговаривал серьезно, если не считать каких-то реплик во время митингов, на которые пограничники тоже выходили и становились чуть поодаль, своей кучкой. Могучей, как они говорили. Но волей-неволей кучка та могучая переживала обиду от одиночества, от невнимания к ней, тоже едущей на ударную комсомольскую стройку добровольно, по долгу патриотов. Не понимали по молодости своей парни, что все идет так, как должно, что верховоды отряда озабочены лишь тем, как бы не ударить в грязь лицом на очередном митинге, каких за день набиралось порядочно, поэтому им вовсе не было дела до тех, кого прицепили к ним по дороге: девчата же, по своей женской логике, оказывали знаки внимания приглянувшимся парням из своего отряда, не желая их обижать подозрениями, оттого и старались не ввязываться в пикировки с пограничниками, вдруг влившимися в их состав: но хоть и вели себя девчата в рамках, парни все же настороженно поглядывали на бравых молодцов в щегольски заломленных зеленых фуражках, несмотря на то, что чем дальше спецэшелон втягивался в сибирскую глубинку, морозец начинал давать знать о себе заметнее — логично все, оправдано все жизнью, если бы смогли вникнуть парни в ситуацию, но они были молоды, они гордились собой, что добровольно ехали навстречу трудностям, не по приказу, и им была в обузу такая явная к ним невнимательность. А им-то в отряде говорили, сколь великое дело они едут делать. И Ленина цитировали, и Ломоносова, что, дескать, Российское могущество прирастать будет Сибирью, что, дескать, величайшие залежи нефти и газа — место для подвига юности шестидесятых-семидесятых годов. Да, они ехали тоже на Ударную комсомольскую стройку, так отчего же оказались сбоку припека? Не будет ли и там, на месте, к ним такое же безразличие? Приехали, ну, и — ладно. Устраивайтесь, где кто как может и — вкалывайте. А почет и уважительность, лучшие места на стройке вот этим, едущим с такой помпезностью.
Не просчитаться бы. Не на один же день едут. Добровольность-то — добровольностью, а человек, как ни поворачивай, ищет где лучше. И вот после одного из пышных митингов заговорили ребята о сокровенном. Но так, словно в шутку бросая пробный шар.
— Бойцы, а не толкнуть ли нам речугу на следующем митинге? — со снисходительной усмешкой спросил высокий, чуточку сутуловатый с руками-гирями Коля Шиленко. — Иль мы их худшее?
— А кто тебе даст рот разинуть? Чужой, ты и есть — чужой, — вмешался Геннадий Комов, тоже снисходительно улыбаясь своим мягким лицом, приятность которого не портило даже то, что по-девичьи узкие брови случайно попали не на свое место, их вроде бы прилепили снизу к надбровным дугам, и только губы, и без того узкие, Геннадий поджал, как бы пряча за ними истинное состояние духа, истинные намерения. — Что, на поклон прикажешь к ним идти: «Примите к себе, Христа ради. Иль мы худшее вас?» — передразнил ловко Комов Николая. — Верно, Коленька, не худшее, но скажи мне, что из этого вытекает?
Кран открыт. Полилось разноголосье ручьем. Каждый лез со своим уставом, выдавая его за непререкаемую истину.
Долго шел неумолкающий спор, ставший уже далеко не шутливым, каждый вставлял в общий гвалт хоть по нескольку своих слов, и только двое помалкивали — бригадир Алеша Турченко и Иван Богусловский.
Нельзя сказать, что Ивана не волновало то, о чем говорили ребята, он тоже ехал не на один день, но он считал, что не вправе вмешиваться в спор, а тем более высказывать свою точку зрения, ибо он в этой бригаде пришлый. Она уже сформировалась полностью, а его, приехавшего из госпиталя, взяли все же по просьбе комсомольского вожака отряда, и, что еще весомей, из сострадания. Ребята поняли его состояние, и хотя он, по их мнению, не мог быть, особенно в первое время, полезным работником, они протянули братскую руку.
«Как решат, туда и я», — думал Богусловский, хотя ему очень хотелось, чтобы все они, вот эти, ставшие такими близкими ему парни остались вместе.
Разве это плохо — быть вместе? А почет, он что, он — пустое. Хотя это и приятно человеку. Любому. Так уж устроена жизнь.
А отчего Алеша Турченко молчал. Ивану было не совсем понятно. Выжидает, чья возьмет, к тем и присоединится? Какой же он тогда бригадир.
Нет-нет, да и глянет Богусловский на Алексея. Сидит тот неподвижно. И лицом не меняется. Светится оно розовой мягкостью, пестрит множеством смешливых веснушек, кои рассыпались даже по лбу и подбородку, а непослушный рыжий ежик волос как торчал торчком, так и продолжал торчать…
Заговорил Алексей, обрадовав тем Ивана:
— Не пойму вас, мужики. Никак не пойму. Мы кто? Добровольцы мы. Так? Так. Место и работу нам дали выбрать? Так? Так. Какую мы выбрали? Вот эту, куда едем. А меня бригадиром избрали, чтоб научил вас пути укладывать. Так? Так. Коммуной решили жить? Решили. Слово дали быть верными в дружбе, радость и беду чтоб на всех… Выходит, не каждый верен своему слову. Вот я и думаю: кто хочет взять слово обратно — скатертью тому дорожка. Пусть к славе липнет. Только чтоб обратно не просился. Нам в бригаде верные нужны. Вот и весь мой сказ. Могу, если есть такое желание, поставить на голосование. Только я так думаю: плевое это дело, чтоб пограничник слово не держал.
Вроде бы не так громко говорил Алеша Турченко, но его услышали все спорившие и сразу же притихли. Задачку задал бригадир. Если бы всей коммуной в спецотряд, тогда дело другое, тогда не боязно, а так… Не сподручно так, в раздрай. В спецотряде уже принюхались друг к другу, коситься станут на чужаков.
— Толку-то от голосования. Пусть кто хочет сгребает вещички и — айда пошел, — решительно высказывался кто-то из спорщиков и его поддержали многие:
— Что уж там. Пусть идет. Неволить не станем.
— Верно, пусть смутьяны уматывают.
А главный зачинщик смуты Коля Шиленко хлопал глазами. Не думал он, не предполагал, чем обернется сказанное им просто так, будто между прочим.
— Ребята, — взмолился он наконец, — пошутковал я. Куда я от вас денусь.
— Едем, выходит, всей коммуной дальше? — для своего полного спокойствия и полной ясности спросил Алексей. — Так? — и сам же подтвердил: — Выходит, так!
Но не за ним осталось последнее слово. Геннадий Комов протянул мягко:
— Так-то оно так, не пожалеть бы только потом.
Никто ему не ответил, словно никто не обратил внимания на доморощенного пророка, невольный холодок, однако же, остудил горячие головы парней. Заметно сникли коммунары и, поторчав для порядка еще какое-то время возле бригадира, расползлись по своим отсекам думать думку. Каждый свою. И не у каждого она шла в колее с тем, что принародно говорилось и даже думалось.
Верно говорят: человек — это потемки. Даже для самого себя.
Но молодость не могла бы быть молодостью, если бы свойственна ей была мудрость, и не столь переменчиво было бы у парней настроение. Ударила струнами гитара, мягкий голос запел о модной тогда полярной палатке, откуда с любимой можно говорить только языком морзянки, песню тут же подхватили, и потянулась бригада на ее голос, да так скучилась на фланге, что, наверное, перекосился вагон, как перекашивается набитый до отказа автобус в часы пик.
Встретила Тюмень спецсостав оркестром, пышными транспарантами и призывами; динамики плескали брызжущие весельем мелодии, прибывший спецотряд выплывал на площадь и кучился возле красностенной, поспешно сварганенной трибуны, на которой стояла у микрофона местная комсомольская власть — все было празднично, от этой приподнятой торжественности пограничникам тоже не хотелось уходить, хотя бы сбоку пристроиться, но послушать и посмотреть… Только Алеша Турченко повелел:
— Вот что, мужики, тут нам делать нечего. Кто нас ждет? Верно, ждет тот, кому мы нужны.
Как не удивительно, но каламбур бригадира оказался лыком в строку. Их и в самом деле ждали. Еще вчера. Начали уже беспокоиться, не передумали ли пограничники, но потом решили, что заминка с билетами, а потому придержали грузовой рейс, который должен был лететь в Надым.
— Вот что, ребята, — распорядился кадровик, которому недосуг оказалось знакомиться с прибывшими. — Бегом в столовую, я распоряжусь, чтоб без очереди, и — к подъезду. Автобус будет вас там ждать.
Это же прекрасно. Как по тревоге. Жаль, не удалось города посмотреть, только эта беда — не беда. Никуда он не денется, будет стоять до их первого отпуска, когда выдастся воля вольная.
Аэродром, на обочину которого привез их автобус, весь в ноздревато-сером снегу, доживающем свои последние недели. Дует приятный мягкий ветерок, напитанный весенней бодростью. Пришла, значит, она и сюда. На юге, там уже совсем жарища, хоть гимнастерки скидывай, а здесь в куртках самый раз. Зря, выходит, пугали трескучими морозами. Благодатно здесь для русской души.
Многие расстегнули куртки пока шли до самолета по стеклянно-умятой дорожке, и это вызвало улыбку у встречавшего их летчика.
— Разжарились? — и посерьезнев, принялся тот наставлять: — Значит, так. Пока летим — фуражки по чемоданам. Белье теплое поддеть. Свитеры, у кого есть, тоже. Там, куда летим, до Полярного круга рукой подать. Теплый дом вас, как я думаю, там не ждет, а с севером шутки шутить не рекомендуется, так что, пока суд да дело так настудиться можно, что свету божьему не рады будете.
Верится и не верится. Руками-то никто из них не щупал приполярья, хотя и читать о нем читали, слушать слушали о коварстве северной природы, но как обычно бывает, ребенок до тех пор не поймет, что горячее в самом деле горячее, пока не обожжет пальца.
И все же послушались вчерашние бойцы, привыкшие к дисциплине, утеплились, и только после этого уткнулись носами в иллюминаторы.
Куда их леший несет? Бесконечная тайга с проплешинами закованных в лед и засыпанных снегом озер и болот. Даже с такой высоты не видим предел таежной безбрежности. Только там, далеко левей, на берегах Оби, попадаются глазу редкие спичечные коробки охотничьих избушек. Чем тут полниться России, каким богатством и могуществом? Тут прежде чем до богатства доберешься, последние портки на барахолку снесешь. Разве навозишься сюда людей самолетами? Тут нужно великое переселение народов. Великое!
Только кто из благодати в глухомань кинется. Лишь такие, как вот они — добровольцы. А много ли их, таких патриотов. В пограничных войсках и то не каждый спешит получить путевку в Сибирь. Далеко не каждый. Не прельщает даже то, что легко поступить в институт, прямо на месте сдав экзамены, что специальность можно приобрести на выбор, что подъемные не копеечные, а заработка такого в средней полосе днем с огнем не сыщешь — домой все же едут, в обжитое, пусть тесное, убогое, покосившееся, но привычное и, главное, спокойное.
Но исчезли подобные грустные мысли от бодрого крика:
— Вон! Вон! Вагончики!
И в самом деле, впереди, на бугристой проплешине большущим гнездом темнело множество времянок, плотно поставленных друг возле друга.
Вышел из кабины один из летчиков предупредить, что пошли на посадку.
Огромное песчаное поле, с горами по бокам перемешанного с песком снега, сдвинутого сюда бульдозером. Алеша Турченко даже нагнулся, чтобы пощупать песок. Заключил:
— Годен для раствора. Удивительно, прямо в тайге.
Но еще больше удивились ребята, когда по указке пилота: «— Вон по этой тропе прямиком шпарьте, носом в контору и упретесь» — вышагали они за аэродром и оказались среди песчаных барханов, с вершин которых ветер сдул снег в низинки. Сахара на севере. Только холодный, пронизывающий ветер портил впечатление.
Да, спасибо летчику, что надоумил утеплиться. Не по сезону в фуражках. Совершенно не по сезону.
Тропа повернула за бархан, и идущие впереди остановились с разинутыми ртами: большущий плакат, казалось, встал на пути, заслонив собой все. Смотрите, взывал он, мотайте на ус. Только чего тут мотать, если все предельно ясно, стоит лишь чуточку повнимательней посмотреть: стандартные многоэтажки по бокам плаката, башенный кран в центре и утверждение через все это громадными четкими буквами: «Я знаю — город будет!»
А почему ему не быть. Без предсказателя будет. Куда ему деваться. Людям не только газ в трубы загонять, но и жить нужно. Не век же в вагончиках коротать. Вот только ловко ли в панельных, да к тому же еще высоких. Тут бы поприземистей что, поосновательней, чтоб не продувало. Из бревен или, на худой конец, из кирпича.
Ну, да бог с ним, с городом из панелей, им здесь не жить, им железную дорогу строить через тайгу. Там городов не бывает.
Под транспарантом стояла, скособочившись в снегу, початая трехлитровая стеклянная банка с плодово-ягодным вином. Металлическая крышка не открыта, а лишь пробита гвоздем в двух местах, чтоб струйка без перерыва текла прямо в рот. Пей, сколько душа примет.
— Вот мерзость! — буркнул недобро Алеша Турченко и с сердитой брезгливостью запустил банку далеко от транспаранта в снег. — Вандалы!
— Народец тут, видимо, собрался тот еще, не то, что мы, одна семья, — разделил возмущение бригадира Геннадий Комов. — Алкаши сбежались. Рубль длинный, пить есть на что. Гуляй рванина.
— Зачем же так о всех? — не согласился с Комовым Иван Богусловский. — Не без того, наверное, чтоб все святые, но не вот эти, — кивнул в сторону недопитой винной банки, — тон здесь, думаю, задают.
Думать, конечно, никто не запрещает. Для того человеку готова дана, только жизнь по тем самым думкам иной раз так наотмашь хлестнет, что диву даешься.
Огибая голобокие и головерхие песчаные барханы по торной тропе, приближались они к городу счастья (так им сказали переводится на русский Надым) и чертыхались на обман зрения: с воздуха казалось все кучно, а шагать вон сколько нужно до «центра». Тем более что ветерок основательно щипал носы и щеки, пробирался под куртки.
Верно сказал летчик, в фуражках не пощеголяешь. А как хотелось предстать перед оком нового начальства во всей своей пограничной красе. И невдомек было, им пограничникам, что то начальство далеко от мундирной гордости военных, для него все одно, танкист ты, либо пехотинец, пограничник либо артиллерист, для него все они — демобилизованные, у которых почти у всех нет нужной здесь специальности и которых, поэтому, нужно учить и учить. Короче говоря, расклад такой: парни крепкие, закаленные, уважают дисциплину, но возни с ними хоть отбавляй. Вот почему и довольно начальство приездом солдат запаса, и в то же время согласно, чтобы вместо них ехали бы толковые специалисты, от которых стройке было бы много больше пользы. Но, как говорится, ножки приходится вытягивать по одежке.
Вот такое настроение ожидало их в конторе треста, длинном бараке, собранном из малогабаритных панелей, из каких лепили тогда по всем городам пятиэтажки, поэтому барак казался безобразно приплюснутым вагоном, столь же безобразно длинным. Коридор узкий. Не распляшешься по нему. От конца до края заполнила его бригада пограничников, и Алексей, пробираясь меж товарищей, принялся искать нужный кабинет, поочередно открывая каждую дверь и пытаясь объяснить, что за народ прибыл в трест.
— Вот сюда, Алеша, — кто-то догадался по обитой дерматином двери, что за ней сидит начальство. — Сюда давай.
Но не успел Алексей Турченко постучать в ту начальственную дверь, как она отворилась, и перед пограничниками предстал сам управляющий трестом, молодой коренастый мужчина в толстом норвежском свитере, поверх которого была еще наброшена меховая куртка с болониевым верхом. И радость, и забота на обожженном морозами и ветром лице управляющего.
— Отслужили, значит и — к нам? — читая направление, спрашивал для порядка управляющий. — Что на мертвую — это прекрасно. Пора ее оживлять, а людей нет. Очень кстати вы. Очень. Только, как быть с вами? Шофера, наверное, есть? Добро. А бульдозеристы? Тракторист есть. Не в строку лыко, но — сойдет. Денька два постажируешься здесь и — вперед. Пока будете там обживаться, найдем вам путейца. Должны найти. Пусть кадровики снег разгребают, а раз он нужен, нужно и добыть. А то как вы без руководителя работ и наставника. Пока же причал ремонтируйте, базу готовьте…
— Бригадир у нас есть. Он же может быть руководителем работ, прорабом. Наставником тоже, — вспыхнув веснушками, прервал отравляющего Алексей Турченко.
— Кто? Ну-ка, покажись.
— Я. Техникум окончил.
— Милый ты мой! Золотой ты мой человек! — с жаром воскликнул управляющий: — Гора с плеч. Зеленую вам улицу!
Закрутилось куда как с добром. В вагончики, выделенные для ночлега, их проводил сам начальник отдела кадров, и без всякого промедления начала формироваться колонна. Машины с иголочки, мощные «Уралы», бульдозер импортный, «Катарпиллер». «Дружбами» хоть доверху кузов набивай, не жалко нисколько хозяйственникам; вот только ломов, ножовок, двуручных пил, молотков, лопат, кувалд маловато, а костыльных лап и вовсе нет, и как не доказывал Алеша Турченко, что лом с кувалдой самые надежные инструменты, те, кто выписывал накладные, пожимал плечами:
— Рады бы в рай, да грехи не пускают.
Посоветовали поискать на месте, должно же остаться что-то от прежних времен. Но и пообещали, что как только пришлют по заявке, отправят бригаде немедленно.
К обеду следующего дня колонна стояла под парами и коммунистическая бригада Алексея Турченко ждала начальство, которое соизволило самолично проводить бригаду в путь.
Вот, наконец, появился управляющий. Все в том же толстом свитере и той же меховушке нараспашку. Обошел колонну, словно строй, и повеяло на недавних бойцов чем-то родным, армейским. Сейчас скажет, как бывало делали командиры, напутственную речь и распорядится: «— По машинам!». Только вопреки ожиданию, управляющий никакой речи не стал произносить. Похвалил только:
— Собрались толково. Хороший аванс. Значит, вперед. Должны засветло успеть. Дорога прямая, снегом почти не переметена. Для себя они строили…
— Под полотном-то все косточки русские, знаешь, Алешенька, сколько их тут, — переиначил некрасовские строки обращением к бригадиру шофер-проводник, кому предстояло провезти колонну к месту дислокации и вернуться обратно.
Целую лекцию прочитали пограничникам еще в отряде о дороге, которую приехавшие агитировать пограничников на стройку представители называли «мертвой дорогой». Начали ее заключенные через год после войны с разъезда Чум, дотянули до низовий Оби, где она живет и по сей день, а вот дальше, до Игарки, куда ее намечали проложить, не успели — последовала амнистия не только политическим заключенным, но и уголовным, концлагеря обезлюдели, многие вовсе позакрывались, воплощать в жизнь задуманную столь грандиозную стройку оказалось некому, и начали ржаветь кое-где уже уложенные рельсы, гнить шпалы, зарастать травой насыпи. А вот теперь, когда предположения русских, а затем и советских ученых о несметных запасах, здесь имеющихся, нефти и газа подтвердились, дорога оказалась нужной, как воздух.
Они знали все это, и все же то, что им предстояло до места работы ехать той автодорогой, которую строили репрессированные при Сталине и которая густо устлана их безвинными костями, враз изменило их настроение. А у Ивана даже мурашки побежали по спине, ибо сравнил он невольно те, южные могилы, какие мелькали за окном поезда, и эти, северные, под укатанной песчаной дорогой…
«Вся земля в могилах! Священных и неизвестных вовсе!»
И тут, вроде бы улавливая настроение всех и разделяя то настроение, шофер-проводник продолжил, теперь уже прозой:
— В счастливое завтра загоняли, как сайгаков в ловушки…
— Край знать надо, — одернул шофера-проводника управляющий. — Молодые перед тобой, политически не зрелые еще, не забывай об этом.
— Да я что, я — ничего, — отмахнулся шофер и спросил — Иль не пора нам?
— Пора. Двигатели уже хорошо прогрелись.
Дорога, плывшая под колеса, действительно была ровной, непереметенной, совершенно пустынной, и мерный гул мотора не влиял на ощущение того, что она безмолвна, как склеп. Да, сравнение не ахти, но именно оно вдруг, явилось в сознании Ивана Богусловского, который ехал в кабине передовой машины с молча крутившим баранку шофером-проводником. Подействовало, видимо, на него предупреждение управляющего, сопел он теперь в две дырки.
Гудит мотор, втягивая машину то в голостволые березняки, то в густоту сосен, огроздившихся снежными налипами, пушистыми, будто взбитые лебяжьи перины — все ново, все необычно и все захватывающе красиво, но никак не мог Иван безмятежно любоваться всем, что виделось сквозь лобовое и ветровые стекла, ибо не проходило у него ощущение того, что под колесами тяжелого «Урала» трещат и лопаются кости тех, кого упокоила здесь судьба и что в этом кощунственном деянии он тоже виноват; и не только потому, что вот так, запросто, едет по костям, а еще и потому, что он представитель рода Богусловских, рода ратников, оберегавших (причем — как!) чудовищное беззаконие.
Оно, это чувство вины за сотворенное здесь зло, особенно усилилось после того, как шофер-проводник разжал все же рот, когда перед глазами открылась слева большая безлесая низменность.
— А в это болото тысячами, сказывают, стаскивали. Засасывало всех горемык.
Дальше снова ехали молча, каждый сам одолевая свой душевный непокой. Не подоспело еще время открытых разговоров, смелых оценок, побаивались еще люди возможного возврата едва развенчанного произвола прошлого.
Дорога, тем временем, резко повернув вправо, втянулась в сосновую сумеречную гущину, а километр спустя вновь осветилась белоснежьем, на котором, уродуя природную гармонию, темнели ряды приземистых бараков с проломанными крышами, а вокруг тех бараков ровной строчкой торчали отталкивающе-черные колья с лохмотьями ржавой колючей проволоки. Чуть левей бараков, ближе к полуразрушенному причалу на берегу широкой реки, высилось несколько домов (начальства и охраны), хорошо сохранившихся. Туда и повернул «Урал». Подрулил к основательному пятистенку, из трубы которого курился дымок, выключил скорость и посигналил трижды. Из кабины шофер не вылез до тех пор, пока не появился на крыльце высокий старик, лицо которого, хотя и дрябло-обвислое, выдавало его светскую породу.
— Сиятельство! — сквозь зубы зло процедил шофер, открывая нехотя дверцу.
Причину демонстративной ненависти Иван понял тут же, поспешив выпрыгнуть из кабины навстречу благородному старику.
— Граф Антон. Вечный поселенец, — горделиво кивнув, представился старик. — С кем имею честь?
— Богусловский, — отвечал Иван, немного обескураженный таким совершенно неуместным в подобной глухомани приемом. Не бригаду пограничников назвал и не цель ее приезда, а себя.
Реакция, последовавшая за этим, захватила всех, кто успел выпрыгнуть из кабин и кузовов и навострить уши.
— Не из рода ли Богусловских?
— Да.
— Не внук ли Семена Иннокентьевича?
— Правнук.
— Судьба-а-а. Семену Иннокентьевичу представлен был на императорском бале, с правнуком знакомство состоялось в Сибири, — и тут же важный поворот головы к шоферу, надменная презрительность во взгляде и снисходительный вопрос к нему: — По косточкам товарищей пролетариев, стало быть?
— Вынужден! — зло ответил шофер. — Другой дороги нет!
Не первый, видимо, раз пикировались они друг с другом, классовые враги, с разным пониманием бытия и этики.
— Размещайте, ваше сиятельство, присланных. Мне тоже ночлег нужен. Я завтра только возвращаться буду. А они вот — на мертвую дорогу.
— Легко сказать: размещайте. А если некуда. В прежние годы затруднений, как я понимаю, не возникало: гнали партию, а для нее нары уже свободны…
— Не кощунствуй, ваше сиятельство! — набычился шофер. — Вам бы, сиятельствам, любо-дорого, когда народ за колючей проволокой!..
— Концлагери, товарищ пролетарий, — порождение вашей революции.
— А про каторги забыл, ваше сиятельство?!
— Спор, предполагаю, не уместен в данный момент, — продолжая глядеть на шофера со снисходительным презрением, но с нотками примирительности в голосе остановил того граф. — Люди с дороги, им дорого время, — и уже к слушавшим перепалку пограничникам: — Вот в этом доме — Герой Советского Союза, в том — пострадавший от кулаков в коммунии, а вон в том, дальнем, я уже поселил проектировщиков из Петр… простите, из Ленинграда. Их теперь нет, они на дороге, но жилье заняли. Могу потеснить Героя и коммунара, только ловко ли такое, не осудительно ли?
— Деньги, ваше сиятельство, за домоуправство получаешь, а людей разместить — осудительно. Гляди ты, ловок!
— Одно остается, — не обратив внимания на шоферский упрек, продолжал рассуждать управдом граф Антон, — по баракам. В каждом есть по малой комнате, ленинскими их тут отчего-то именовали, вот в них…
— Такой вариант нас не устроит, — отказался сразу же Алексей Турченко. — Мы определились жить коммуной. Укажите нам один из бараков. Целиком.
— Это упрощает дело. Указать барак не составит мне труда, но хочу спросить вас: разумно ли теперь, в наше время, жить коммунально? Я, по возрасту своему, настоятельно рекомендую соизволить отказаться вам от вредоносного пустодельства.
— Как нам жить и работать — вопрос наш внутренний! — довольно резко ответил Турченко.. — Мы — не грудныши. У нас, к тому же, не согласие и не толк, мы — комсомольцы и коммунисты. Мы — пограничники!
— Что ж, с Богом тогда…
Он хорошо поставленной походкой повелителя пошел прямо по снежной целине, как по вощеному паркету, к ближайшему бараку.
Поразительно, как можно было строить жилье здесь, в тайге, из таких вот тонких, швырковых, как их здесь именуют, бревнышек. В детскую руку всего-то толщина, что она для здешних морозов и, особенно, ветров. Не иначе, как ради издевательства.
Одно, видимо, хоть как-то спасало заключенных — отсутствие окон. А небольшие прорези почти у самого потолка наверняка зимой плотно завешивались.
В довершение всего зла, барак поставлен был прямо на землю, на земле же лежали и лаги, на которые настланы были необрезные и не струганные доски, отчего пол был щеляст и шершав.
— Как же тут жить?! — с искренним недоумением спросил Геннадий Комов. — Подохнешь от холода!
— Вполне, — согласился граф Антон. — Дохло, как вы соизволили выразиться, множество. Настелите, если вас это не затруднит, лапник. Нам этого не разрешалось.
— А у меня другая рекомендация: давайте мы с вами поменяемся, — стараясь подражать тону графа, съязвил Комов: — Вы — сюда, а мы — в дом, вами занятый. Лапнику мы сюда наволокём хоть гору. А? Как? Зачем вам занимать одному такой роскошный дом? Он же не ваш, он — наш, народный.
— Время, молодой человек, экспроприаций прошло, огульный захват не принадлежащего алчным теперь не позволителен. Честь имею.
— Что мелешь, — недовольно выговорил Комову Алексей Турченко, багровея веснушками. — Стыдно слушать.
— Стыд — не холод, сопли не поморозит.
— Заткнись ты, — рубанул Николай Шиленко. — Зазря чего человека забижать.
— Не человек он. Он — вечный поселенец. Граф он.
— Кончай балаболить, — осадил спорщиков бригадир. — Давайте разгружаться и приводить жилье в порядок. — Ты, Ваня, — обратился Алексей к Богословскому, — оставайся здесь. Бери пятерых, хватит тебе, и — засучивайте рукава. Печь, главное, раскочегарьте. Стены все прослушайте, где дует, конопатьте. Мох можно из других бараков брать. Разгрузимся когда, все навалимся. Сегодня лапник не удастся, а завтра настелим. Потолще настелим и — ничего будет. Додюжим до весны, а там видно будет.
Голландка поначалу нещадно задымила, дым полез в барак не только из дверцы, но и через плотные, казалось, стыки черного металлического кожуха, ело глаза, давил кашель, и Иван, повытащив почерневшие уже поленья, принялся щипать лучины. Нужно было пробить пробку, как говаривал бывало на заставе старшина, когда печь плохо тянула. А «пробить» ту самую пробку можно только сильным огнем, чего от толстых поленьев в одночасье не добьешься.
Изрядно наглотавшись дыма, одолел все же Иван «пробку», загудела весело печь, затрещали поленья, и покойно сразу же стало на душе. Посидел немного у открытой дверцы и поднялся помогать товарищам, утеплявшим стены барака.
Но странное дело, чем теплей становилось в бараке, тем все ощутимей наполнялся он тошнотворным тленом. Молодым ребятам, никогда не вдыхавшим воздуха тюремных камер и бараков, он казался хуже едкого дыма.
— Как же здесь жить?
Вопрос постучался о вонючие нары и стены и почил в бозе: каждый из бывших бойцов думал об этом, но ни один из них пока не видел никакого реального выхода избавиться от вот этой удушающей вони.
После долгой паузы кто-то все же не выдержал, подбодрил себя и товарищей:
— Ничего. Десятками лет здесь жили люди. Привыкнем и мы.
Успокоил, называется. Плюнуть впору на эти вонючие стены, на этот ледяной пол. Плюнуть и — растереть.
Печь глотала поленья жадно, возле нее стало хоть и особенно удушливо, но зато совершенно тепло, а у дальних стен все еще продолжала стоять уличная стужа, только смешанная теперь с запахом сгнившей грязи — казалось, что вряд ли натопится до необходимой минимальной теплоты весь огромный барак, и у Ивана родилась мысль, которой он не замедлил поделиться с товарищами:
— Определим, давайте, сколько нам нужно места, остальное, справа и слева, отгородим. Под склады пустим.
— Дело, — поддержали Богусловского. — Вернутся ребята, выложим им свою идею.
Они ввалились ватагой, вместе с облаком морозного тумана. Возбужденно-довольные только что оконченной разгрузкой, каждый что-то волок на горбу, либо спальники, либо скатанные поролоновые пластины, коим предстояло выполнять роль матрасов.
— Еще разок обернемся и — отдыхать, — распорядился бригадир, но не вдруг покинули барак пограничники. Приподнятое настроение их улетучивалось так же быстро, как и морозный пар, вклубившийся в барак — лица ребят попостнели, и вот уже прозвучал вопрос-недоумение:
— Как же здесь жить?
— Вонища — хуже чем в свинарнике.
— Люди здесь гибли. Люди. А вы — свинарник!
— Ну, гибли. Так поневоле же. А добровольно как здесь жить?
— Мы, предлагаем,! — вмешался Иван Богусловский, — выгородить для жилья часть барака. Набросаем хвои, настелим второй слой досок на пол…
— А вонь куда денем?
— Тихо, мужики, — остановил начавшуюся перепалку Алексей Турченко. — Тихо.
Прошел проходом меж нар и стен, оглядел и даже пощупал голландку, постоял возле нее, вроде бы советуясь с ней, потом подозвал жестом всех к себе поближе.
— У нас есть выбор? Нет его. Так? Так. Будем, стало быть, жить здесь, — поднял предостерегающе руку, чтобы не загалдели в ответ. — Будем жить. Временно. Пока не построим для себя свой дом…
— Какой дом?
— Какой сообразим. Удобный, думаю, — помолчал, давая переварить ребятам услышанное, и продолжил: — Первым делом что мы должны делать? Причал ремонтировать. Так? Так. Потом стройбазу готовить. Верно? Верно. Вот рядом с той стройбазой и поселимся. Лесу вон сколько.
— Так он же — сырой.
— Зимний он, пустая твоя голова. Из зимнего сразу сруб можно рубить.
— А доски?
— Эка невидаль. Из пластин пол еще добротней. А окна и двери вот из этих нар. Построгаем хорошенько, чтобы вони не было, и пойдут за милу душу. Так? Так. А теперь пошли за вещами.
Вернувшись, начали занимать нары, и так получилось, что Ивану Богусловскому выпало место рядом с печкой. Ногами к ней. Самое удобное место. Можно бы радоваться, а Иван огорчился: считают его, выходит, больным.
Еще более расстроился Иван, когда на собрании бригады, как назвал Алексей Турченко затеянный им сбор после того, как постели были застланы, его, Ивана, назначили единогласным голосованием заместителем бригадира по хозяйственной части. Когда же он попытался убедить товарищей, что такой же он, что способен вместе с ними трудиться, никто ему не стал возражать, но… Все остались при своем мнении. Переголосовывать не стали. А Коля Комов за всех сказал так:
— Кому, как не тебе быть начальником тыла, тебе же проще с графом общий язык найти. Про прадедушку вспомнишь, расспросишь, как он там, на балах, вел себя, а потом: где нашей бригаде обеды готовить? Где керосин брать?
— Верно, поддержал Комова бригадир, — со столовой нужно решать завтра же. Всухомятку долго ли продюжим. Продукты все бери на учет. Деньги коммуны. Меню с поваром определять станешь. Вот здесь все наладишь. Мужиков я оставлю тебе. Но… Не горюй, работать с нами будешь. В свободное от своих дел время. Сам рассчитывай. Вот так. Под твоим началом и дежурный истопник. График составь. Пока все, а дальше жизнь укажет, что делать.
Бригадиру, ему — пока все. А каково Ивану Богусловскому. Двойная нагрузка выходит, ибо не смирится он с ролью лишь хозяйственника, станет еще и работать вместе с ребятами, стараясь не ударить в грязь лицом, чтобы убедить всех, что не инвалид он, а стопроцентный работяга.
Но с утра ему предстояло испросить аудиенцию у графа Антона, вечного поселенца, деньги на житье которому были выделены в виде зарплаты управляющего домами оголившейся колонии. И вот бездельная поначалу должность стала действительно нужной, а со временем, когда стройка развернется вовсю, станет здесь чуть ли не главной. Она вполне сосредоточит в себе местную власть. Не укладывалось это в голове Ивана: враг, осужденный на многолетний строгий режим, без права выезда даже после отсидки и — власть. Тем не менее такова реальность. Сегодня они уже столкнулись с этой реальностью, а завтра он окажется с нею с глазу на глаз.
Неужто и впрямь, чтобы власть стала сговорчивей, придется вспоминать о прадедушке?
Нет, о нем не вспоминали. Но разговор оказался все же таким, какой даже не мог представить себе Иван Богусловский.
Хозяин встретил его на крыльце. Обрадовался:
— Экономка моя в район выехала по надобности, приходится вот самому встречать гостей.
Едва сдержался Иван, чтобы не рассмеяться в голос. Какая экономка? В тайге? У вечного поселенца? Может, приютилась какая-нибудь из амнистированных, потому что некуда ей ехать, никто нигде ее не ждет, а он — экономка.
Только с полной серьезностью говорит граф-управдом:
— Мой скромный бюджет ведет она вполне сносно, дом держит в образцовом для сих мест порядке, но, не обессудьте, сегодня без нее.
Уже в сенцах Иван убедился в справедливости такой высокой оценки: скобленом полу до розоватой желтизны, у стенки, тоже старательно выскобленной, стояло несколько пар валенок с низко обрезанными голенищами, роль которых, как сразу же понял Иван, быть домашними шлепанцами.
— Соблаговолите переобуться. Экономка, иначе, осерчает. Опрятность — ее идеал.
Из сеней дверь вела в большую комнату, которая, должно быть, служила прежнему хозяину гостиной. Широкой души, видно, был человек, если эта самая гостиная разместила теперь полдюжины различных станков по металлу и дереву, и стояли они так, что возле каждого оставалось достаточно свободного места для работы.
«Все станки к себе сгреб, — подумал с неприязнью Иван о графе. — Зачем?»
А граф Антон словно перехватил мысли гостя. Пояснил:
— Экономка моя — мастерица на все руки. Да и я от нечего делать приобщаюсь. Как это у них, у коммунистов: кто не работает, тот не ест. Доходы же, я сказывал, от домоуправства не велики.
И тут только определил Иван, что не бездельно стоят станки, возле каждого из них аккуратные ящички, в которых виднелась свежая металлическая стружка, а сами станки были удивительно ухоженными.
Из гостиной, превращенной теперь в маленький заводишко, расходились коридоры. Не длинные, но довольно широкие. В конце каждого из них виднелись филенчатые двустворные двери.
— Вот сюда, прошу, — пригласил Ивана Богусловского граф Антон. — В мой кабинет.
Просторный, светлый, в три окна, он мало был приспособлен для серьезной работы, но существовал и продолжает существовать для тщеславия. Тот, первый хозяин, эксплуатируя, наверняка, арестантов с умелыми руками, смастерил величиной с бильярдное поле дубовый письменный стол, обтянув верх голубым сукном, под цвет погон, какие носили войска НКВД. В точном соответствии с величиной стола красовался на нем чернильный прибор, тоже ручной работы, из карельской березы, но в чернильницы-башни, более напоминающие высокие чашки, со звездами, серпами и молотами на пухлых боках, было похоже никогда не наливались чернила, а перья ручек, тоже выточенных из карельской березы, никогда не касались бумаги. Ни при прежнем, ни при нынешнем хозяине, который не тронул массивный стол не по широте натуры своей, а из чувства мести, из чувства удовлетворенности случившимся: он, бывший заключенный, униженный, загнанный, вновь, как и прежде, стал хозяином. Масштабы не важны, они и впрямь несравнимы, важна суть.
— Соблаговолите, — предложил граф Ивану кресло и сам гордо воссел на другое, словно на трон.
Только вряд ли по аляповатости своей можно было эти кресла уподобить трону: массивные, хоть парно садись, обтянутые голубым сукном, они могли бы быть даже удобными, если бы не пуговицы, нашитые на спинку в виде пятиконечной звезды, да не широченные подлокотники из карельской березы, умощенные на пухлые, как набитые ватой мешки, боковины — в общем, не кресла для отдыха, а безвкусица, призванная продемонстрировать внушительность и достаток. Такое по вкусу может быть только тем, про кого говорят в народе: из грязи — в князи.
Но судя по тому, с каким удовольствием, даже гордостью, сидел в кресле старый граф, его тоже устраивали эти до безобразия толстые творения какого-то безвестного арестанта, не потерявшего чувства юмора.
И еще одна достопримечательность кабинета — книжный шкаф, сооруженный из дуба и стекла. Не сразу его увидел Иван. Шкаф, когда они вошли в кабинет, оставался вне поля зрения. За спиной оставался. А вот теперь, когда он сел в кресло, шкаф предстал перед глазами во всей красе. Составлен он был из секций, делались которые по наличествовавшим у хозяина книгам с величайшей точностью. Сантиметр в сантиметр. Первая секция, самая большая, под полное собрание сочинений Сталина. Краснокожие книжки стояли в секции уютно и, похоже, никто никогда их не тревожил. Ни прежде, ни теперь. Вторая секция поуже, с несколькими ленинскими томами, с множеством довольно толстых брошюр, на корешках которых тоже мелькало имя Сталина, и только в третьей секции устроилась, тоже размерно, художественная литература: Макаренко, Горький, Маяковский. Устроилась, по-видимому, неподвижно на века.
Вопрос графа Антона, вдруг прозвучавший, не сразу оторвал Ивана Богусловского от удивившего его шкафа.
— Ну-с, чем обязан вашему визиту? — и не дождавшись ответа, граф Антон продолжил после небольшой паузы. — Впрочем, я ждал вашего визита. И, как видите, не ошибся. Помилуйте, разве можно без насилия извне заставить себя жить в бараке, который даже для скота не может быть пригодным. Зачем же вам, воспитанному, как я могу предположить, в благородстве, подвергать себя лишениям. В моем доме для вас найдется приличная комната. Экономка возьмет заботу о вас на себя. Может испросить определенную плату, но, думаю, для вашего будущего дохода посильную…
— Я не смогу принять ваше предложение. Мы определились жить одной семьей, и мой уход к вам равнозначен измене.
— Лозунг, милостивый государь. Лозунг! Я не вправе осуждать вашу семью, семью благородную. Ваш прадед слыл честнейшим человеком, честнейшим генералом, и я, делавший первые шаги в свет, преклонялся перед ним.
С дедом вашим мы были тоже представлены. Если не изменяет память, Михаил Семеонович. Он старше по возрасту и званию, оттого мы не сошлись на короткую ногу. Его тоже, не то что мы, юнцы, уважали за унаследованную от отца честность, но и старшие. Нет, не гнули Богусловские спины ради выгоды, оттого и неподсудны мне. Если переметнулись к коммунистам, значит, искренне уверовали в то, что дело коммунистов правое. Не соизвольте брать на свой счет дальнейшие мои рассуждения, только я не могу не сказать, что Богусловские, как и другие, изменившие идеалу России, стали моими врагами. Да, врагами. Уважительность, однако же, к членам семьи Богусловских, у меня не потерялась. Я предпринимал попытки вразумить их, открыть им глаза, но тщетно. Дороги наши разошлись. И все-таки воля Божья свершилась. Я вижу в этом знамение Господне стать мессией, направить мысли потомка славной ратными подвигами российской семьи в русло не ортодоксально-лозунговое…
— Бабушка, отец и мать внушали мне уважение к старшим, но… Есть вещи, слушать которые без возражений, согласитесь, просто невозможно.
— А я и не предполагал молчаливого согласия. К тому же, сиюминутного. Вера, милостивый государь, более, чем паутина, безжалостно опутывающая жертву.
— Отчего вы себя не находите в той паутине?
— Не исключаю. Только Бог един без греха и без изврат, ему лишь дано знать вечную истину, мы же, грешные, не можем не заблуждаться. Но если мы люди, если Бог дал нам разум, можем ли мы держать его втуне? А мое правило, не философствовать о величии Духа, а анализировать факты жизни, — и почти без паузы, почти не меняя тона, совершенно, казалось бы, неожиданно граф спросил Ивана: — Говоря о наставлениях, вас воспитующих, вы не упомянули дедушки Михаила Семеоновича?
— Он погиб, когда меня еще не было на свете. От руки таких, как вы. Числите себя патриотами России, а шли с полчищами фашистов!
— Похвально, милостивый государь, весьма похвально, — словно обрадовался оскорблению граф Антон. — Иное не могли молвить уста ленинского комсомольца, — потом строже и суше наставил: — Никогда не судите человека, не знавши его. Прежде, даже разность возраста не остановила бы меня, я предложил бы пистолеты, теперь прощаю заблудшего, — помолчал, постукивая длинными, до синевы высохшими пальцами по полированной карельской березе подлокотника, вздохнул порывисто, словно хотел резко вытолкнуть из души тяжелый какой-то груз, и заговорил вновь, уже серчая и дребезжа от натуги: — Да, милостивый государь, я враг коммунистов. Был, есть и останусь до тех дней, пока Бог не позовет в свою обитель. Оттого вот я здесь. Когда закрывали колонию, меня, вот в этом кабинете, спросил начальник: «—Ну, как? Раскаялся? Прозрел?» Я ему: «— Вам следует прозревать, великим грешникам, творящим зло». Кто ж за такое прощение определит. Здесь и оставили на вечное поселение. Дозволен был районный центр, не далее, но я остался именно здесь. Только виновным я себя не считаю. Ни в чем. Совершенно. Ни одного русского человека я не убил. Я ненавидел тех, кто холопски служил немцам, кто добровольно записывался в русскую армию. РОА, как ее именуют, но я шел с ней, чтобы вразумлять словом своим, титулом своим, авторитетом своим заблудших. Я ненавидел их и здесь, изменников. Я не вмешивался, когда уголовные, бандиты, на ком печати негде ставить, бравируя своим патриотизмом, измывались над власовцами, как их тут окрестили. Бог карал их по достоинству. Смею вас заверить, милостивый государь, поступай все русские соразмерно моим действиям, Россия не перенесла бы столько горя и не оказалась бы, как теперь, в тупике. Нет, нет, не пытайтесь возражать, — властно поднял руку граф. — Вы так молоды, так испорчены, что ничего не видите иначе, чем через лозунги. К тому же, я думаю, на сегодня вполне достаточно. Сейчас считаю вправе лишь просить вас об одном: не суйте головы в омут. Коммуна — посылка ложная в сути своей.
— Вы верно заметили, что нам пора перейти к решению деловых вопросов. Ребята ждут меня. Нам негде варить обеды.
— Позволю выбрать исправную плиту там, где была прежняя кухня для арестантов. Второй барак за вами.
— Мы с бригадиром говорили и думаем, была же столовая для охраны. Нельзя ли там?
— Можно. Если есть кому отремонтировать плиту. Ее нарушили, уезжая, охранники. Ключи я вам выдам.
— Спасибо. Еще бригада хочет выгородить для спальни часть барака, разобрав для этого лишние нары.
— Подобное разрешение, милостивый государь, не в моей власти. Я обязан уведомить, точнее, испросить… Впрочем, благоволите поступать по своему усмотрению. Чем еще могу служить?
— Пока все.
— Для вас, Иван Владленович, двери моего дома всегда открыты. Тешу себя надеждой, что Бог даст нам время договорить недоговоренное.
Глава десятая
Представилось такое время. Правда, не сразу, не вдруг. Событий до того произошло видимо-невидимо, вроде бы мелких, местного значения, но на самом деле типичных для времени и общества — событий, которые весьма повлияли на мировосприятие Ивана и во многом смягчили его реакцию на откровения графа.
Только мог ли Иван Богусловский знать, что ждет его в дни грядущие, от графа он вышел в совершенно непонятных даже самому себе чувствах: неприятие политических оценок графа перемежалось с неприятием и того, что творило общество, отрицаемое графом (вот они — бараки, вон сколько могил и на юге, и на севере); уважительность к человеку, сохранившему верность своим идеалам несмотря на всяческие лишения, мешалась с острой жалостью к нему же, кого не обошел стороной недуг тщеславия — нет, Иван не мог оценивать увиденное и услышанное однозначно не только потому, что был молод и не имел опыта в суждениях, а еще и потому, что давно понял, как по разному люди понимают суть добра и зла, каждый считая свое понимание верным. Никто, даже самый бесчестный человек, никогда не скажет о себе, что он бесчестен.
Мысли и чувства эти не отягощали, однако же, Ивана Богусловского, он был доволен тем, что так легко выговорил у графа все нужное, и бодро шагал к низкому и довольно длиннобокому дому, приятно ощущая в руках связку ключей и не понимая, по какой нужде столь много в дверях столовой замков, от кого запирать здесь и для какой цели.
Но и эта мысль была также поверхностной, не обременяющей, все его внимание сейчас было сосредоточено на том, велик ли вред от учиненной плите экзекуции и можно ли привести все в порядок. Не зная еще, что увидит он в столовой и кухне, он искал варианты предстоящего ремонта.
Вот она, входная дверь в сенцы. Амбарный замок в ржавых кольцах, выдрать которые из прихваченной уже гнилью двери не представляло никакого труда; только Иван не стал идти по легкому пути, он начал подбирать ключ, а потом, преодолевая изрядную ржавость, принялся отмыкать леденящий руки большущий замок.
На дверях из сеней — такой же увесистый замок, только менее ржавый. Отомкнул его Иван сравнительно легко и, открыв пискляво проскрипевшую дверь, так и остался стоять за порогом, пораженный жестокостью, с какой люди-охранники расправились с тем, что, видимо, многие годы скрашивало их отдохновение от караульной и конвойной службы..
А, может, не скрашивало? Может, являлось упреком их богопротивному труду, хотя и принудительному для многих из них, но исполняемому с молчаливой покорностью. Они мучались душами и вот когда им сказали: «— Все. Свободны», — они выпустили пары, и ненависть к тому, что творили, перенесли на «Девятый вал» Айвазовского, густо истыкав полотно штыками; на фарфор и фаянс, превращенный из тарелок, чашек и блюдечек в пестрястые черепки, усеявшие весь пол; на ручной работы буфеты, которые были искорежены и стояли сиротливо у стен — все, что можно было поломать и порушить, все было порушено и поломано, вырвана и раздавлена даже ставенка от раздаточного оконца; и только портрет генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина сиял первозданной своей красой, а сам генералиссимус смотрел на все обломки бывшего уюта снисходительно-понимающе, как мудрый отец, наперед знающий, на что способны его дети и прощающий невинные их шалости.
«Непостижимо! Совершенно непостижимо!»
Вздрогнул Иван от того, что кто-то переступил порог сеней. А обернувшись, даже оробел от увиденного: в проеме двери виделся не живой человек, а черный силуэт, словно нечистая сила из сказки заслонила искристую снежную белизну, врывавшуюся через дверь в сумеречный хаос, не пускала ее, чтобы свет не обрел здесь власть, чтобы осталось здесь все так, как было, как есть. Сейчас нечистая сила захлопнет дверь и…
Но силуэт сделал несколько шагов вперед, остановился оторопело и вымолвил, гневаясь:
— Иль люди такое устроили?!
Теперь Иван мог вполне разглядеть говорившего. Никакой не домовой, не леший — обыкновенный человек, пожилой, помятый жизнью, со шрамом через все по-деревенски задубленное лицо, от лба до подбородка.
Человек сам себе ответил:
— Нет. Люди на такое не способны, — потом спросил Ивана: — Выходит, граф расщедрился? Жмотина. Не держал бы ключи под матрасом, давно в божеский вид привели бы мы с Созонтом. Дом-то не ему отдаден. Лесничеству определено им владеть.
Иван Богусловский понял, что возмущавшийся человек был один из тех двух, о которых говорил граф, жалуясь на затруднительность с размещением бригады. Но кто он, коммунар или Герой? Доходило до Ивана и то, что вот эта самая разрушенная столовая является яблоком раздора в глухомани сибирской. Не поделили ее представители разных контор, не нашли общего языка, оттого все и осталось в разрушенном запустении.
— Давай перво-наперво, солдат, друг дружку разглядим. Моя фамилия — Пришлый. Зовут Павел, величают Павлычем.
— Богусловский Иван.
— Вот и ладно. Жить что ли здесь удумали? В бараках вонько?
— Да, воздух там — не ахти, но, может быть, привыкнем. Здесь же думаем сделать столовую. От домоуправа разрешение получено.
— Граф Антон не волен решать. Он самовольно ключи захватил. Дом этот леснический. Для приезжего начальства определен. Дак вот жадюга граф ни себе, ни людям.
— Выходит, нам пищу негде готовить? Не дадите нам дом? — спросил расстроившись Богусловский. — В бараках придется варить?
— Зачем, в бараках. Тут вам столовая и будет. Мы с Созонтом Онуфриевичем Костроминым, Героем Советского Союза, согласны. Милосердно все обиходим. Ежели еще и от вас помощь будет — низко поклонимся. А если вам недосуг станет, сами управимся. По рукам? А перед графом Антоном шапки больше не ломай и ключи не возвертай ни в коем разе.
Не возвертать, так — не возвертать. Не ломать шапки, так — не ломать. Помощников же бригадир выделит с превеликим удовольствием. Чего же ему не выделить? Для себя же. Для коммуны.
Работа вскоре, как говорится в подобных случаях, закипела, и уже на следующий день в столовой состоялся торжественный обед, главной достопримечательностью которого явилась жареная оленина. Да и уха из тайменя так понравилась ребятам, что за ушами у всех трещало. Вкуснятину же эту выделил из своих запасов Костромин.
А получилось это так: когда все было приведено в полный порядок, раны залечены, битое до невозможности выброшено из употребления, а уцелевшее расставлено по своим местам, возникло разногласие по поводу картин и портрета вождя международного пролетариата, как назвал его Костромин. Мнения разные, совершенно не стыкующиеся. Однако порешили: картины повесить пока в таком, истерзанном виде, а со временем подклеить их и даже подкрасить, одним словом, отреставрировать по силе возможности, а Сталина все же выбросить. Туда, к битым стеклам, к битой посуде. И вот тогда Созонт Онуфриевич Костромин попросил портрет себе, чтобы, значит, вечно был перед глазами, чтобы ни на миг не забывалось, кому он обязан за все, что случилось с ним.
Унес Костромин красу-генералиссимуса, а вернулся с оленьим задком и парой тайменей на плечах. Как только донес. Не так уж и крепок на вид, а гляди ж ты, пришагал бодро, будто никакой груз не давил.
Обед затянулся надолго. Куда дольше положенного для перерыва времени. И получилось это вроде бы само собой, как сказали бы на «большой земле» — экспромтом. Когда Геннадий Комов особенно яростно стал расхваливать оленину да благодарить Созонта Онуфриевича за щедрость, тот не выдержал:
— Будет тебе, солдатик. Добра этого здесь хоть руками за рога хватай. Было бы желание.
— Так уж и руками. И потом, лицензии нужны, — усомнился Турченко. — Бесконтрольно если, в малое время все здесь извести можно. Так? Так.
— Лицензии получите у нас, — заверил Костромин. — Мы с Павлом Павловичем уполномочены. Без меры не позволим, а для нужды отчего не попользоваться богатством дармовым. Кто с ружьишком баловался?
— Я, — поднял руку Николай Шиленко. — С отцом зоревал. Зайцев еще стрелял. С собаками.
— Я тоже. С отцом. Тоже с собаками.
— Добро. Доверю ружье. Разбогатеете, свое приобретете. А собаки у нас знаменитые, лайки. Только без нас они не пойдут. Да и не дам я их, не отпущу одних. А вот ружье — есть лишнее.
— Мы его можем даже купить. Деньги в кассе коммуны есть. Иван Богусловский, думаю, выделит. Проголосуем? Вот и ладно.
Но непонятно было, согласны ли продать ружье лесничие, и Костромин и Пришлый как-то вдруг ушли в себя, замкнулись. Это как-то озадачило коммунаров, и невдомек им было, что забытое теперь обществом слово коммуна, растворенное годами в иных, хотя и сходных понятиях и словах, осталось оно, слово «коммуна», занозой в сердцах этих повидавших виды мужчин, воспринималось ими и по сей день, как магическое, как панацея от всех бед.
Не кулаки бы, расцветать и расцветать коммунам — так считали они, продолжая принимать за истину детское свое восприятие той далекой действительности. А многое ли они могли знать и понимать тогда, чувствовать сложность отношений взрослых, их напряженные собрания, где обиды одних на ленность и нерадение других звучали часто и гневно, но ничего не меняли в жизни коммуны, где истинный энтузиазм единиц наталкивался на равнодушие многих, видевших в коммуне лишь источник безбедного житья и в то же время безнатужного и нестарательного — у них, тогдашних ребят, остались в памяти лишь полные миски гороховой похлебки из общего котла, от пуза, крупные ломти хлеба на столе, тоже от пуза, леденцы и подушечки, хоть и мятые, слипшиеся, но сладкие и до отвалу по праздникам, и еще… похороны. Самых смелых, самых работящих убивали поочередно кулаки из обрезов, внося тем еще большую тревогу и разноголосицу в коммуну.
У Костромина убили отца, секретаря партячейки коммуны, а Пришлый сам едва остался жив: его намерились сжечь за то, что он хотел научиться управлять трактором…
Так все и выходило, и не только, наверное, у Пришлого и Костромина, а у всего их поколения, что не кулаки бы, жить и жить коммунарам, объедаясь хлебом, похлебкой и конфетами. В довольстве жить и в достатке. О том и заговорил Пришлый:
— Счастливые вы. Кто вам помешает коммуной жить? Никто. Не то, что в наше время. Меня вон газеты схоронили уж, примером ставили. И то верно, как жив остался, ума не приложу…
— Расскажите, — попросил кто-то от дальнего стола и его сразу же поддержало несколько голосов.
— На работу не пора ли? — ответил вопросом Пришлый. — Перерыв-то что тебе заячий хвостик.
Взоры всех поворотились к бригадиру, а тот поважничал малую толику и изрек:
— Вечер теперь долог. Так? Так. Сколько просидим здесь, в полтора раза перекроем.
— Тогда что ж, тогда ладно. Слушайте, коль интересно.
И начал Павел Павлович Пришлый, оставшийся в памяти его поколения как «огненный тракторист», с того самого схода, когда мужики, получив Декрет о том, что отныне и навек земля ихняя, сошлись всем селом, и загудела старообрядческая церковь, с мясом вырывались пуговицы с овчинных полушубков, каждый стоял за себя упористо, ни на каплю не уступая. Особенно перли однолошадники, требуя делить землю пахотную по ртам. Они, как оказалось, точно знали, на какой заимке сколько десятин и требовали конфискации излишек. Их поддерживали и те, у кого хозяйство покрепче, лошадки две или три во дворе, и разумные голоса, предлагавшие не разбойничать средь бела дня, а взяться за тайгу, выкорчевывать ее сколь душе угодно, враз умолкали.
Так вот и вышла коммуна. Землю у заимщиков обрезали, у них же и трактор конфисковали: пусть на пролетариат работает, а не на богатеев, богатство им копя.
Смирно вели себя поначалу заимщики, ну, а потом пошло-поехало. Его, Павла, сжечь удумали за то, что на ихний, видите ли, трактор сел. Только испугались они чего-то, не довершили свое черное дело. То был первый протест заимщиков, за ним — новые, там уж пули засвистели.
— Отца моего тоже не обошла злая доля, погиб от пули бандюг-заимщиков. Говорили тогда, будто им оружие да патронов возы привезли, а у нас что, берданка на всю коммуну. Вот и не устояли мы, разбежались кто куда. Я на Урал подался, в рабочие. Вернулся, когда колхозы уже сбились. Когда заимщиков — под корень. Сдал паспорт в районе, жена тоже сдала, и стали мы колхозниками. Дом наш, неказистый, но свой, вернули нам. Сынишка, Павлуша, в нем родился, достаток в дом вот-вот пришел бы, только война постучалась, хоть там, далеко за порогом, но налогов прибавляться начало. Терпели мы, понимали, что нужда в том великая. И все надеялись, что стороной гроза пройдет, минует нашу сильно уж обезлюдевшую землю. Нам на успокоение лекторы районные тоже сказывали, не поднимет, дескать, винтовок немецкий трудовой народ против своих братьев, нас, значит, по классу, против первого пролетарского государства, скрутит, дескать, в бараний рог фашистов-гитлеровцев. Не сбылось. Как обухом по голове в сорок первом. Ну, я тут же поехал, чтоб на фронт добровольно. А уж там нагляделся, как братья по классу над братьями вандалили. Волосы дыбом становились. До Берлина самого по злодейству по ихнему докатил. Поначалу на тракторе гаубицы таскал, мучение одно, потом на тягачах добрых, играючи. Награды? Как не быть. И ордена есть, и медалей не счесть. Полная грудь. Только я не о том. Все мы там, на фронте, геройствовали, о том говорить даже неловко. Родину спасали. Не мачеха же она нам. Я не о боях хочу, а о другом порассказать. В тот самый час, как Польшу вызволили, письма мне стали реже и реже приходить, а потом и вовсе перестали. Я пишу, а из дому — молчок. Кручина кручинит, а делать чего — не ведаю. Потом удумал, в военкомат написал. В свой, районный. Ответ получил Зееловские когда переползли. Тут уж не обухом, а кувалдой по лбу: враг народа, оказалось, сын мой, Павлуша. Десять лет ему чрезвычайная тройка определила. А мальчонке-то еще пятнадцати нет. Что свражить народу может такой малец? Хотел было сразу к командиру своему, да поостерегся. Отец-то за сына в ответе. Так Сталин указал. Возьмут, думаю, да сунут в штрафной батальон, у меня же мыслишка грешная: живым остаться во что бы то ни стало и, вернувшись, попытать, кто сынка оговорил. Имел даже надежду вызволить. Жив, как видите, остался, но домой не вдруг отпустили. Но пришел все же и мой черед. Вещмешок за спину и — на всех парах. Прибыл я, значит, в село свое, а окна и двери дома заколочены крестами Первозванного. Стою, разглядываю кресты, подойдет кто надеюсь, только пуста улица, словно никто не видит, что хозяин заявился. Боязливость сковала всех. Ну, да что с них возьмешь, семья у каждого, детишки. Никому не охота под конвоем из села уезжать. Только вечером, впотьмах, сосед дальний прокрался. Лампы просил не зажигать, чтоб кто ненароком не углядел его у меня. До полуночи рассказывал, горемыка. Слушаю я, а у самого слезы ручьем. Председателем-то стал, когда мужиков на войну побрали, Никита Ерофеев, сын заимщика, коновода староверского. Смолил он меня у трактора, точно помню — смолил. Ему бы в тюрьме место, а он вон какой верх осилил. А поглядишь, вроде бы все верно, не гож человек в армию, болен, значит, чем-то, вот и избрали. Из району совет такой дали. Вот тут и закавыка. В районе-то тоже сынки заимщиков при власти сидят. Как им удалось такое — одному Богу известно. Ну, а как стал Никита Ермач председателем, зашпынял тех, кто в коммуне прежде был. Мстил, выходит, за землю свою, за трактор. Моей семье особенно доставалось. С голоду пухнуть стали и жена, и сынишка. Вот тогда Павлуша и отчаялся, стал с тока в карманах по горстке пшеницы домой носить. По горстке всего. И глядишь ты, споймали. Иль, думаю, Никита специально сторожил. Жена после того помешалась, отправили ее в больницу, там, бедная, и отдала богу душу. Вот такие новости принес тайком сосед. Проводил его, лег на лавку и вперил глаза в матку. Так вот и пролежал до свету. А тут — стук в дверь: сам председатель пожаловал. Боров-боровом, розовощек, какая там болезнь, пахать на человеке можно. Дезертир, не иначе. А он гоголем держится, спрашивает сурово, чего, дескать, здесь потерял, места, говорит, в нашем советском селе нет для отца врага народа. Был бы автомат, так и полоснул бы длинной очередью: семь бед — один ответ. И все-таки взял я что-то в руки, не помню уж что, и пошел на него. Вышмыгнул председатель за дверь и грозится: вслед за сыном пойдешь! Мысль подал верную. Вскинул я вещмешок за спину, заколотил понадежней дверь и — в район. К своим, коммунарам. С кем похлебку гороховую хлебали вместе. За справедливостью пошел. Только все разводят руками: не подсуден председатель, он действовал на основе закона тридцать второго года о хищении, который был будто бы. Единственно, что коммунары сделали хорошего, сказали, куда сынишку отправили после суда. По великому секрету. Так вот и приехал я сюда. Сам начальник лагеря принял. Чин по чину. В кресло усадил. И спрашивает так ласково, ажно мурашки по спине: «— А знаешь ли ты, дорогой товарищ, что отец за сына несет полную ответственность? Знаешь, выходит? Так вот, если еще раз о сыне хоть кого-либо спросишь, соберу тройку и быть тебе, дорогой мой товарищ, в зоне…» После уж, когда лагерь закрывали, узнал я, зачем так строжился энкеведешник — сынка-то моего тогда не было уже в живых. Кто сказывал, под дорогой он, кто — в болоте, дескать. Когда, рассказывали, прибыл в лагерь, ажно обрадовался, что теперь хоть хлебушек есть, да похлебка, хоть немудрящая, но горячая и сытная, не как в колхозе. За такие речи ему еще срок добавили. Клевета, мол, на социалистическую действительность, пропаганда против Советской власти, видишь ли. А он возьми, да поперечь: не клевета, дескать, а правда, с голоду, дескать, чуть в колхозе не подох. Слово за слово, только в лагере та правда, какую конвойные определят. Занемог парнишка после «беседы» у начальника лагеря, вот и свезли его в болото. Но тогда я думал, что жив сынок, и никак не хотел отсюда уезжать. Думал, как-то исхитрюсь помочь ему. Вот и определил себе, податься в лесники. Поехал в лесничество, чтоб устроиться. Только и там, будто пономари, дудят: как это мы тебя, отца врага народа, возьмем к себе, в свой, значит, безгрешный коллектив. Гляжу я на начальника лесничества, вроде бы не зверь человек, вроде бы из мужиков, жизнь повидавший, не из чистоплюев, кому кресло случайно досталось, вот он за него и уцепился двумя руками. Взял, да и рассказал все, как на духу. Начистоту все выложил. И про фронт, и про коммуну, про то, как жгли меня. Услыхал он это, аж обрадовался. Читал, говорит, про тебя, товарищ, даже стихи, только ты там, вроде бы, погибший. Живой, отвечаю, живой. Вот он я. Совсем живой. И документы ему на стол. Так вот я и стал лесником. Поселился здесь. Начальникам и охранникам оленины носил, а то и глухаря. Под праздники. Авось, думал, сами что скажут. Но нет. Начальник глухарей брать брал с великой охотой, но о сыне — ни слова. Так и маялся я в безвестности, пока хрущевская амнистия не вышла. Только радости мне она никакой не доставила. Нет у меня сына. Нет! И могилы нет. Псов и то добрые люди закапывают, а тут — человек. Безвинный…
Умолк. Обмякла буйная головушка, свесилась на грудь. Жалкий старик, а не борец за идеалы, коим отдал всю жизнь. Укатали крутые горки. Ой, как укатали. Дальше уж некуда.
Встал бригадир Алеша Турченко. И не громко так:
— Вот как я думаю и, надеюсь, все меня поддержат: берем вас, Павел Павлович, к себе в коммуну. На полное довольствие, на равноправное, а работать будете по силам своим. Так? — обвел взглядом столы и по своей привычке сам же ответил: — Так.
— Нет, сынки, не могу. Лесничество не могу бросить. Они меня, почитай, подобрали, а я им — фигу. Не посильно мне такое. Да и какой из меня теперь работник. Развалюха. Вот если что с трактором. Помочь ли, иное что, тут — ко мне. Днем ли, ночью ли. Беру шефство, как нынче сказывают, на общественных началах.
— И я ему пособлю, — пообещал молчавший до этого Костромин. — Танкист я. Выпускался технарем. Это уж я в боях строевиком стал. Прижучили нас фрицы, командира полка убило, а я как раз на КП был. Что оставалось делать? Взял полк на себя. До сих пор не пойму, как мы тогда вывернулись, одолев немцев. Комдив говорил, хваля меня, будто схитрил я, фланг вроде бы подставил, а когда немецкие танки развернулись на приманку, тут мы с тыла начали их колошматить. Так вот и остался командовать. Впрочем, вы от Пришлого, должно быть, в себя не придете, а тут я со своим. Может, в другой раз, а?
— Переварим, — убежденно уверил Алеша Турченко. — Думаю, не так печален будет ваш рассказ.
— Ой ли. Детдомовец я. Отца, председателя коммуны, кулаки, как и у Павла Павловича, из винтовки. А следом и — мать. Пошла по грибы, да так и не вернулась. Всей коммуной искали. Только и нашли, что косынку ее алую, какие тогда у коммунарок в моде были. После этого мне посоветовали коммунары уехать, вот я и пустился в бега. Иначе, как стращали, и мне конец должен наступить. Теперь вот думаю, с умыслом стращали, чтоб от лишнего рта избавиться, я же еще малым был, не работником, но тогда я и в самом деле испугался. Ночью уехал. Тайком. Так больше и не вернулся. Детдом. ФЗУ. На заводе работал. Потом — армия. Танко-техническое училище. Все ладом шло. На финской побывал. Орден получил и звание досрочно. К сорок первому — зампотех полка. И уж на фронте, я говорил как, стал командиром полка. Орденов и медалей тоже — полная грудь. Отбирали, правда, только недавно вернули. Берлина не брал. Еще раньше повез нас эшелон на восток. Сахалинский десант готовили. Там я и получил Героя. С ДОТом в единоборство вступил. У них там три орудия, у меня— одно. Вплотную почти подвел танк и — в амбразуру. Один, второй… Танк уж загорелся, поранило нас всех, но мы не отступили. Добились своего, взорвалось в ДОТе от нашего снаряда, пехоте путь открылся. Ну а нас, полуживых, вытащили и — в местную больницу. Медсестры, все до одной, айны и японки. Ну, думаю, конец тебе, на фронте не погиб, здесь доведут до ручки. Что ж, думаю, в медсанбат не передали. Думки только мои зря были опасливыми, не так все оказалось. Не отходили от нас, обожженных и израненных, сестрички, хоть и ненашенские они, хоть и враги мы им, если по большому счету. А мне особенно ласковая и нежная сиделка попалась. Маленькая, хрупкая, а сутками у подушки. Откуда сила у нее не понимал я тогда, не понимаю и по сей день. Вскоре полк мой вернулся. Задача: оборона бухты от возможного десанта. Хоть и мир объявили, но — береженого Бог бережет. Вскоре узнал, что присвоили мне Героя Советского Союза. К тому времени я уже на поправку пошел. Сестричка моя и пригласила к себе на чай, чтоб, значит, радость отметить. Одинокой она оказалась, как и я, горемыка, без отца, без матери. Ладушкой я ее назвал. Ну и, естественно, рапорт по команде: прошу разрешения зарегистрироваться в законном браке. Месяц прошел, другой, третий — молчок. Хоть бы полслова. А тут еще слух пошел, что японцы добиваются, чтобы их подданных вывезти с Сахалина, и Сталин якобы сказал уже свое да. Месяц за месяцем идет, уж не слухи, а дела начались. В город наш пожаловала делегация из Японии, чтоб обговорить условия передачи подданных: в каких местах, в какие сроки. А моя Ладушка на сносях уже. Сама не своя. Не хочу, лопочет уже по-русски, по-нашенски, от тебя, от меня, значит, уезжать. Тогда я второй рапорт комдиву на стол. Только тот не успокоил меня, а душу разбередил. Говорит: в самых верхах вопрос решается. Не один ты, говорит, прыткий такой. Как скажет товарищ Сталин, так и будет. Тогда я к комиссару, чтоб помог, чтоб не стоял в стороне, умывши руки. Пообещал. Только, я думаю, палец о палец не стукнул. Трусы все тогда были. Ой, какие трусы. Вышло, уезжать моей Ладушке нужно, а она только-только сынишку нам принесла. В один день, как узнала участь свою, старухой сделалась. Я в полк побежал. За автоматами и патронами. Не пущу думаю, никого в дом, пока жив, а когда вернулся, ее уже нет. Ушла. На столе листок от блокнота и крупно-крупно, на весь листок — люблю. По-русски. Даже не думал, что научилась она даже писать по-нашенски. Я — бегом в порт, а он оцеплен. Энкэвэдэшниками и пограничниками. Адъютант мой предлагает место удобное на мысу и бинокль подает. Смышленый, стервец, был. Я туда бегом. А там уже толпа. Гражданских и офицеров. Вместе сплелись. Увидев меня, Героя, расступились, пропуская к берегу. Только, как теперь думаю, лучше бы не пускали. В бинокль-то все видно, хотя и далековато на рейде стоял их корабль. Челночат к нему катера, битком набитые. Семейных, тех сразу же в каюты, одиноких женщин, мужчин — тоже туда. А кто с детьми на руках или у подола, тех на палубе оставляют. Вот я и свою Ладушку увидел. Стоит, сынишку нашего у груди держит. Соседки, тоже с детьми на руках, что-то ее спрашивают, а она молчит. Как баба каменная. Не шелохнется. Последний катер ошвартовался к кораблю. И этих рассортировали. Быстро, без суеты. Вроде бы репетировались долго-долго. Потом на палубу вышло с пяток япошек, построили тех, кто с детьми стоит, судьбы ожидаючи, в шеренгу и замерли. Туз тут ихний какой-то вышел. Все ему кланяются. Даже некоторые женщины из шеренги. Говорить он им что-то начал. Гляжу, несколько женщин детей своих подают японцам, а сами семенят к надстройке, чтобы в каюты убраться поскорей. Поныряли в дверь одна за другой и тут… Не могу и сейчас вспоминать без ужаса: детей — за борт. Еще заговорил туз: только без пользы. Тогда молодцы дюжие подлетают к женщинам, выхватывают детишек и тоже — за борт. И тут Ладушка моя к борту пошла. Отшатнулся ихний туз, она мимо него и — бултых вниз головой, дитя нашего к груди прижимаючи. Потом за ней еще и еще… А толпа на берегу оцепенела. Только я один не сдержался и во весь голос:
— Его бы сюда, генералиссимуса, отца родного. Да чтоб его дитя и жену вот так — за борт!
Мыс опустел разом. Как ветром сдуло. Только адъютант мой остался. За что поплатился. Сгинул бедолага. В тот же вечер взяли его. А ко мне утром пришли. Комиссар дивизии, дескать, приглашает. Чтоб, значит, не сопротивлялся я, чтоб обманом. Поехал, что делать. И впрямь в кабинет комиссара ввели. Он сидит, неприступный такой, смершевец, мягенький, интеллигентненький, и еще кто-то в гражданском. Комиссар спрашивает:
— Знаете ли вы, что товарищ Сталин не стал обменивать своего сына на Паулюса. Он интересы народа ставит выше интересов личных. Для товарища Сталина святы интересы партии. А вы — коммунист!..
Не дал я ему мораль свою договорить. Партбилет ему в лицо. И крикнул:
— Вот вам! Подавитесь!
Думал расстреляют. Сюда сослали. А здесь зеки сгинуть не дали, узнавшие, за что осужден. Конвойным запретили измываться. А те побаивались уголовников. Ни одного дерева я за кого-то не спилил. Мог бы вообще сачковать, как зеки сами, выезжая на политических, только совесть не позволяла. Пайку никто у меня никогда не отбирал, а спал я совсем близко от печки. Недавно вот Героя вернули, ордена все. Хотели восстановить в звании и должности, только не согласился я. Не боец я уже. Не боец. Так вот, я беру шефство над вами. Для начала по охотничьему делу. Подучу, кого выделите.
Тотчас перейти к прозе жизни ребята не смогли. Вопреки всем договоренностям не курить в столовой, зачадили. Жадно. Ища в папиросном дыме успокоение. И только поздно вечером, после уж работы, настроились они обсудить предложение Костромина.
Не гладко прошло то обсуждение. Вопроса по сути дела всего два: выделение денег на ружье и припасы, определение хозяина этому ружью. Точнее, ответственного за уход и хранение. Лично ответственного. С деньгами легко решилось. Они общественные, не свои, оттого все едино, куда потратятся. С закреплением тоже все ясно. Раз Иван начальник тыла, ему и карты в руки. Коля Шиленко может брать только с его личного разрешения.
И вот тут задал вопрос Геннадий Комов:
— А вот, допустим, я захочу с ружьишком пройтись, или кто другой, как тогда?
— Тебе же Герой сказал: нельзя сплошняком охотиться, чтоб, значит, от греха подальше. Хочешь если, давай к Ивану в напарники. Так? — спросил Алеша остальных. Только Комов не дал бригадиру закончить обычное свое утвердительное, ставившее всегда точку. Возразил:
— Я не о промысле. Для отдыха если. Я кто? Будущий машинист рельсоукладчика. Вот мне и укладывать рельсы. Тут мой долг. А вот для отдохновения душевного почему не погулять по тайге, улыбнулся лукаво — вопросик бригадиру: — При коммунизме как? Каждому по потребностям. Вот и рассуждай: возникла у меня потребность пострелять, а мне ружья не дают. Моего ружья. Коммуна же у нас…
— Не разводи демагогию, — оборвал Комова Турченко. — Хочешь в группу охотников — иди, не хочешь — твое дело.
Но спичка чиркнута. Заговорили ребята вначале не очень смело, но потом все набирая и набирая обороты, и не сразу можно было понять, кто бригадира поддерживает, кто Комова.
А Алексей Турченко молчал. Как и тогда, в вагоне. Только теперь это не озадачивало Ивана Богусловского. Он предвидел, что спор окончится впустую, ибо бригадир вновь предложит желающим выйти из коммуны, и это остудит ребят.
Так и вышло. Алексей поднял, наконец, руку.
— Тихо, мужики. Что я скажу… Коммуна — вещь добровольная. Так? Так. Не желаешь — скатертью дорога. Дом я хочу строить только с единомышленниками. Кто не желает со мной, пусть здесь остается или сам себе домишко городит… Голосую. Кто за коммуну?
Добрая половина рук взметнулась сразу, потом уж, постепенно, все остальные поднялись.
Восстановлено полное единогласие. Добровольное, вроде бы, единогласие. Только, если вдуматься, какая тут добровольность. Попахивает полной узурпацией власти, трамплин для которой — бытовая неустроенность, да еще привычка солдатская держаться вместе, боязнь остаться один на один с жизнью. Нет, не может человек быть совершенно свободным в выборе своего бытия. Никак не может. Видимо, именно это имел в виду граф, утверждая, что коммуна — посылка ложная в сути своей.
«Ишь ты, — ругнул себя Иван за философствование, — куда тебя понесло…»
Прогнать мысли подальше от себя в конце концов вполне возможно, а вот уйти от прозы жизни — тут никак. Понятно же, что не удержать долго ребят в единстве, играя на их естественном пока еще состоянии души. Завтра, когда приглядятся они к жизни и поймут, что она не так страшна, когда поодиночке, подобный финт не пройдет. Как тогда поступит Алексей Турченко?
Что ж, жизнь покажет. От нее никуда не денешься…
Новые, вернее, дополнительные обязанности, установленные Ивану, хотя и не были для него приятными (нога после каждой охоты ныла всю ночь напролет), вместе с тем стали доброй проверкой его упрямства и настойчивости. Иной раз через силу надевал он лыжи, предчувствуя ту боль, какая вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, скрутит ногу, но он старательно прятал ото всех свое состояние, и никто ничего не замечал. И только один раз он не сдержал стона, когда по без того болевшей уже от усталости ноге стеганула еловая лапа, спружинившая от идущего впереди Костромина. Стон вырвался сквозь стиснутые зубы, глухой, почти не слышный, но Костромин остановился.
— Что с тобой, сынок?
— Все в норме.
Не поверил командир-фронтовик. Не из верхоглядов и не из тюфяков. Учинил самый настоящий допрос. Когда же узнал все, что хотел узнать, покачал головой. И сказал с подъемом:
— Не перевелись на Руси добры молодцы. Выйдет из тебя толк. Принимаю условие твое: ты мне ничего не говорил, я ничего не знаю. Ходим, как ходили. Устраивает такое?
— Вполне.
Только начал замечать Иван, что Костромин, когда ветрило и мело, брал с собой Колю Шиленко, а когда с ним, с Иваном, шел, то забредали не так далеко они, как бывало прежде. К тому же, перестал Костромин пускать его впереди себя, когда сворачивали они с лыжного следа в таежную глубь. Охотничьи лыжи — широченные, держат человека на самом пухлом снегу, но все равно вторым идти легче, чем передовым. Нога, естественно, на такой охоте уставала меньше, ночные послеохотные боли вовсе прекратились, это вело к душевному упокоению, и Иван все более и более ощущал важность и нужность того, что делает. Особенно довольным он был от того, что вдвое сократились расходы на питание, и хотя до получки оставалось всего несколько дней, выделенная на продукты касса далеко еще не оскудела.
Но на охоту ходил он не каждый день. Не каждый день заботили и хозяйственные вопросы. Продукты, по заявкам, привозили два раза в неделю, попутно со строительным грузом. Принять их и вручить шоферу новую заявку — дело плевое, а все остальное, связанное с бытом, вошло уже в привычное русло, не требуя особых усилий и забот, вот и зачастил Иван Богусловский к ребятам на стройплощадку. Поначалу за все брался: то причал ремонтировал, то на доме в подсобниках мельтешил, но в последнее время нашел себе постоянную работу— подружился с «Дружбой».
Захватывающее дело — лесорубство. Подходишь к сосне, стоит она вековая, величественно, словно ликуя своим великолепием. Прямоты она линейной, ствол не обхватишь, а высота такая, что только задрав голову сможешь увидеть лапы ее, покрытые пухлогривым снегом. И жалко тебе ее, и чувствуешь ты власть над ней, и понимаешь, что губишь красоту не баловства ради, а для великого дела, для пользы людской.
Не вдруг вздрогнет сосна, грызет и грызет ее зубастая «Дружба» то с одного боку, то с другого, а сосна даже снежинки не стряхнет с себя. Лишь потом спохватится, швырнет снежную тяжесть вниз, чтобы отогнать человека или даже придавить его, но, увы, поздно — не устоять ей уже, конец пришел. Заскрипит, запоздало жалуясь соседкам своим на горькую долю и предупреждая, видимо, их от беспечности, но делать нечего — падать надо. Сперва медленно клонится, но постепенно скорость нарастает, и вот уже со стремительной гулкостью летит в сугроб, хлопая и взвихривая снежное облако. Все. Кончилась жизнь. А соседушки ее продолжают стоять в полной беспечности, не внемля ни скрипу, ни гулкому удару о снег. Величественно стоят. Не чуют конца своего.
Как и охота, работа эта нравилась Ивану не только своей азартностью, но и, главное, полезностью. Охота делала более обильным стол коммунаров, рубка леса позволяла впрок готовить шпалы для будущей дороги, которая разбудит тайгу — чувствовал Иван необходимость своих дел, оттого и жил полнокровно, и никогда в голове его не рождалось мысли, что не созидатель он, а разрушитель, что не будит он тайги, не приносит сюда жизнь, тайга в том совершенно не нуждается, а вносит смятение в ее извечный природный уклад…
В очередной раз усталые, но довольные, как зубоскалили сами парни, возвращались они в барак, а у особняка домоуправа-графа их давно уже ожидал шофер грузовика, привезшего всякую всячину, нужную для ремонта причала, и продукты, а рядом с грузовиком стояла неведомая еще ребятам каракатица на гусеничном ходу, с вытянутым вперед клешнистым хоботом. Возле нее курил «беломор» низкорослый крепыш в замасленной телогрейке, расстегнутой до пупа; фланелевая рубашка, когда-то яркая, но уже изрядно выгоревшая и основательно засаленная, тоже была расстегнута на несколько пуговиц, и через эту расхристанность виднелась черноволосая полоска груди — нипочем морозец крепышу, так держит себя, словно теплынь летняя стоит вокруг, впору от комаров отмахиваться.
— Что ж это не ласково механизацию встречаете? — с насмешливым упреком шагнул вперед расхлестанный крепыш. — Кто бригадир?
— Я.
— Будем знакомы. Валерий Гузов. Лесорубщик. Вкалывать послан при вашей бригаде. Вишь, какая красуля? Манту лит, как Бог!
— Алексей Турченко. Мог бы сказать: очень рад технике, но не пойму, почему — придан. Прошу направление.
— Ну и ну, — скривился Гузов. — Может, ксиву еще?
— Можно и паспорт. В бригаду будем принимать как-никак. Мы все должны знать о новом члене, — взял паспорт и направление отдела кадров и подтвердил удовлетворенно: — Вот видишь, так и есть — в бригаду путеукладчиков.
В бригаду, а не к ней. Так? Так. Пойдем ужинать. Потом машину разгрузим и все остальное порешим.
— Бабки еще вам пришарашил, — сообщил Валерий Гузов. — Получку. Не по косой, сообщу вам. Так, семечки. Когда возьмешь?
— Деньги примет вот он, наш начальник тыла, Иван Богусловский. Лучше, если после ужина.
— Мне-то что, мне хоть завтра, хоть вообще не получайте.
После ужина. Все. Пошли.
— Ужинать, так — ужинать.
Ловко Валерий Гузов вскарабкался в кабину, расконвертил картонную коробку, вынул трехлитровую банку с «Солнцедаром», пробил отверткой крышку в двух местах и, запрокинув голову, прилип губами к одной из дырок — все с привычной умелостью, отшлифованной до роботной запрограммированности.
— О, дает! — не то с осуждением, не то с восхищением воскликнул Геннадий Комов, и лесоруб тут же отреагировал: оторвался от банки и предложил с доброжелательной готовностью: — Испей, если душа просит.
— У нас сухой закон, — ответил за Комова Алексей Турченко. — Только в праздники.
— Ну и дураки.
Ужинал лесоруб аппетитно, с добавкой, даже удивительно, как не разжирел коротышка от неумеренности — не кащей, конечно, гладкотел, что и говорить, только в пределах нормы полнота, не оплыла еще салом природная широкая кость, вот и видится он завидно сбитым и крепкотелым.
Все уже поели, но ждут его, не уходят. Культуру соблюдают. А он с ухмылкой:
— Ну, что в рот глядеть? Шли бы разгружать. Скорей хрусты отсчитаю.
Не очень понятно пограничникам, отчего нужно спешить с деньгами. Горят они что ли? А разгружать — это дельный совет. Встали дружно по команде бригадира.
Они уже закончили разгрузку машины, даже успели закурить, когда вышел, наконец, из столовой насытившийся Гузов. Поковырялся в зубах без спешки, с уважением, закурил «беломорину» и не стронулся с места, пока не додымил до самой картонки. Пошел тогда к своей каракатице.
— Держи, мужики.
Подал одну за другой полдюжины картонных коробок с «Солнцедаром». Увесистые. В каждой коробке по четыре трехлитровки. Потом выбросил спальник, ужасно замызганный, но меховой, любому бы пришелся по душе, даже в таком вот виде; подал ружье в чехле и деревянный ящик с охотничьими припасами, оглядел кабину, словно это была безбрежная поляна, где может что-то ненароком остаться незамеченным и забытым, и заключил, вроде бы для себя, но громко:
— Все.
Фирменный инкассаторский кошель с деньгами не выпустил из рук, хотя он и мешал слезать. Спросил:
— Там хавира ваша? — указывая на барак свободной от мешка рукой. — Ишь ты, угадал.
Пошел первым по утоптанной тропе, крепко держа кошель с деньгами, весь же свой багаж позволил нести за собой парням. Будто посол средневековый идет на визит к властелину иноземному, а рабы, к нему приставленные, волокут следом дары посольские.
— Где тут моя кимарка? Здесь. Ну, что ж, с краю даже лафовей. Ставь все сюда, к стенке. Да проворней. А спальник — на нары. Ну, вот и добро. Слушай все: вино, если открытое, можно пить на халяву. Дозволяю. Все остальное — не вздумай кто шманать. Особенно, ружье. Все слышали? Вот и ладно. Давай за бабками. Предупреждаю: не толпиться. По очереди. Начнем с бригадира.
Сломал сургучную печать, откинул металлический зажим и вновь пригласил, теперь уже удивленный тем, что никто не спешит к нему.
— Подходи. Бригадиру самые крупные и новые хрусты.
— Деньги, я уже говорил, примет Иван Богусловский.
Нет, не входило это в расчет Валерия Гузова, у него иной план. Выношенные, не единожды проверенный: после получки — игра в карты с обмыванием, естественно. «Солнцедара» вон сколько, пей — не хочу. Первые ставки мизерные, рублик, или хруст, как он говорил, подражая камерникам и ворам, хотя никогда не был связан ни с какой «малиной», но потом, глядишь, пойдет-поедет. Ловок он был в игре, чаще всего выигрывал десятку-другую, вот и недовольно воспринял распоряжение бригадира, сделанное там еще, у машины, хотел обойти его, рассчитывая на естественную тягу лишь к деньгам. Не вышло. Пришлось передавать кошель Богусловскому.
— Пересчитай.
— Опечатано же было.
— Пересчитай!
Что ж делать. Принялся перекладывать пачки, а рассыпанные пересчитывать, поплевывая непривычно на пальцы. А Гузов напоминал, чтоб без спешки, чтоб внимательно, без претензий чтобы потом.
Гузов продолжал еще ждать, что сейчас хоть и не все, пусть часть какую, все же выдадут ребятам деньги, но увидел, как Иван Богусловский расписался внизу ведомости, что получку, присланную бригаде коммунистического труда и быта, полностью получил ее начальник тыла, подпись его тут же заверил бригадир и позвал всех.
— Давайте судить-рядить, как с деньгами быть.
Приказали долго жить картишки и червончики от той игры, какую готовил со всем старанием Гузов. Он понимал, что ребята несмышленые, а азарту как у них не быть, есть он у них. У всех есть азарт — это Гузов хорошо знал. Великий ущерб нес Грузов. Он даже не сдержался.
— Полакшить бы с получки. Иль нет желающих?
— Чего-чего? — удивленно спросили сразу несколько парней. — Выпить что ли?
— В картишки, дурья голова. С выпивоном, само собой.
— Ты что, и в самом деле блатной?
— Где сидел?
— Было дело, — неопределенно, с долей таинственности ответил Гузов. — Брали менты на виды.
— За что?
— Было дело, — с той же загадочностью ответил Гузов. — Было.
— Все ясно, — остановил любознательных Алексей Турченко. — Рассаживайся на собрание.
Отчет Ивана Богусловского о расходах был краток: все налицо, все при глазах. Экономия большая. Можно не одно, а два ружья купить, со всеми к ним принадлежностями.
— Пока не будем, — решил за всех бригадир. Затем продолжил, уже не столь категорично. — Думаю, так поступим: выделим на питание и другие нужды, остальное — в казну коммуны. Неприкосновенную без особого собрания. Так?
Не дали ему закончить ответным утверждением, ставившим обычно точку всем разногласиям. Посыпались предложения:
— Поделить бы остаток, заработку соответственно.
— Верно, чтоб без обиды.
— Кто домой пошлет, кто еще куда, — это Геннадий Комов, перебивал всех громогласно. — И надо всем поровну.
— Ну, хлюст, — хмыкнул Шиленко. — Ты в кабине сидишь, рычагами балуешься, а я вкалываю.
— Я осваиваю путеукладчик. Начнем рельсы ложить, я твое вкалывание ой как перекрою.
— Верно, — согласился бригадир. — Пока он в долгу у бригады, потом мы все у него будем.
Вроде бы опытней всех ребят бригадир, рабочая косточка, а наивный не менее остальных. Ну, ничего, жизнь обтешет. А пока вновь за ним последнее слово:
— Считаю, делить не станем. Кассу нужно иметь. Большую кассу. Вдруг дома у кого что, вот тут и — помощь. Или ехать кому. А дом начнем обставлять? Если всем поделить, пустяк у каждого на руках, а в кассе если — солидно. Всяко распорядимся. Так? Так. Теперь — второй вопрос: прием нового члена бригады. Значит, так. Для начала, Валерий, бросаем пить. Все банки — в болото.
— Чего-чего?! Ты меня спросил, хочу ли я вашу коммунию? Мне лучше сучий куток. Мне мои шайбы нужны, а не общаг. Мантулить задарма? Ловко. Да я на своей машине столько зашибаю, что вам и не снилось еще. Что ж, вам отдать. Нет, не разевайте рта…
— Зачем, нам. В коммуну, — перебил Гузова бульдозерист. — Я, может, тоже по ведомости первый, только я даже не глянул в нее. Если необходимость возникнет, мне всегда выделят.
— Манту ль, коль башки нет! — рубанул Гузов. — А меня на мушку брать не надо.
— Но тогда вопрос стоит о твоем жилье. Мы дом для коммуны строим, — начал было Алексей Турченко убеждать Гузова с другой стороны, но тот вновь резко отпарировал:
— Валяйте. Мне и тут ладно. Нары добрые. Такие люди здесь кантовались, а уж мне чего нос воротить.
— Вопрос с питанием, — продолжал бригадир. — У нас общий котел.
— Хабару определите за мою пайку. Сколько постановите, столько хрустов и выложу. Хоть сейчас.
Вот и все. По всем пунктам отбрехался. Будет теперь вроде бы в бригаде, но котом, гуляющим сам по себе. Да, работничек, видать. Где сядешь, там и слезешь. Как по тому анекдоту: в Африке котел заморозит.
Только уже к обеду следующего дня ребята изменили о нем мнение. Восторгались даже:
— Во, дает!
Гузов действительно работал, казалось, самозабвенно. Во всяком случае, очень быстро. Даже за неделю, несколькими пилами столько не навалишь. Сразу заметно, как тайга потеснилась. Техника, она и есть — техника. Да если еще в умелых и работящих руках.
Только восторгались по молодости своей, не приглядевшись, не вникнув в суть столь высокой производительности. Первые недоуменные вопросы возникли сразу же, как объявлен был послеобеденный аврал: всей бригадой обрубать сучья и отпиливать не стандартной толщины вершины. Потом вблизи увидали ребята все, что натворил Гузов на своей лесорубочной машине: навалены сосны беспорядочно одна на другую, трактором только и можно растащить завалы; снег же, начавший оседать основательно, и уже становившийся настом, разворочен местами до самой земли, а она, бедная, покорежена гусеницами с совершенной безжалостностью. Поняли — Мамай прошел, не меньше. Ко всему прочему, почти ни одной сосенки, коим расти бы, получивши солнце и воздух вволю, не осталось без повреждения. Не начав еще жить, превратились они в инвалидов-уродцев.
— Ну, дает! — теперь уже возмущались коммунары. — Что за безалаберщина!
Разговор же бригадира с Гузовым, этот первый разговор, был очень коротким.
— Аккуратней можешь?
— Могу.
— Соблюдай технологию.
— Попробую.
Без спешки подвел машину к большущей и прямой, как свеча, сосне, зажал ее цепкими захватами, включил пилу. Ловко все, красиво и быстро. Попятился, аккуратно положив срубленное дерево недалеко от опушки, рядом со спиленным раньше. Вторую сосну рядышком положил, ровнехонько, третью, четвертую и… выключил мотор.
— Все. Амба. Теперь на станок можно, ноги вытянув.
И совершенно не интересуясь, как будут расценены его действия бригадиром, пошагал развязно по дороге к базе. Шел, словно ничего и никого вокруг него не было.
Ребята задержались даже после урочного часа, чтобы свезти поваленное к месту, где готовятся шпалы, потом еще стаскивали в кучи разлапистые ветви (решили сжечь отходы порубки, когда сойдет снег, чтобы зола не пропала, а удобрила бы землю для новой поросли) и долго затем, сокрушаясь, ходили от деревца к деревцу, превращенных в калек безалаберностью Гузова, поднимали их, прихорашивали, обрубая надломленные лапы, обкладывая деревца снегом и утрамбовывая его, чтобы держал их, чтоб дал им возможность вновь зацепиться корнями за землю и выжить.
— Вот вурдалак! — пыхтел больше всех Геннадий Комов. — Души нет у человека.
— Какая душа? Алкаш несчастный!
— Довольно, мужики, — остановил готовое расплескаться возмущение на всех бригадир. — Слышали же его обещание, что станет работать аккуратней. Так? Так.
Что ж, утро и впрямь вечера мудренее. Стоит подождать, прежде чем полоскать почем зря человека.
Утро действительно поставило все на свои места. Гузов перед завтраком заправился «Солнцедаром» основательно, так же основательно закусил и отправился к своей каракатице, не попросив даже помощника. Вот тогда-то Иван Богусловский и предложил бригадиру, чтобы пойти следом за ним контроля ради. Но Алексей Турченко не согласился.
— После обеда всей бригадой навалимся. Пока пусть пилит. А тебе, если хозяйство позволяет, шпалы можно делать. Там запарка. Или на дом давай.
— К шпалам пойду. Ладно?
— Добро, — вполне уверенный, что поступает правильно, согласился Турченко.
Он ошибся, оставив без присмотра лесоруба. Будь рядом с Гузовым хотя бы один член бригады, быть может, он чувствовал бы себя не так вольготно, ну, а раз никого нет, тут даже сам бог велит гнать выработку.
«Отбрехаюсь, если давить начнут».
В общем, — раззудись рука, развернись плечо. И когда после обеда бригада вышла на участок лесоповала, увидели пограничники что-то ужасное: деревья навалены в беспорядке, друг на друга, комлями в разные стороны, настоящие противотанковые ежи, а не штабеля для удобной обработки и транспортировки; помяты были даже те деревца, которые они так старательно вчера пытались возвратить к жизни — ни на что, видать, не обращал внимания Гузов, пер на своей гусеничной каракатице дуром, мял все, что попадало на пути. Во многих местах снег перепахал до земли, а саму землю безжалостно разворотил гусеницами.
— Что ж ты, сукин сын, творишь?! — возмутился бригадир. — Где у тебя совесть?!
— Ты, бригадир, на анос не возьмешь меня. А за сукиного сына я и пощекотать саксончиком могу.
— Заткнись. Видел я таких, как ты! Знаешь, как вашего брата урки зовут? Знаешь. Черт. Ты бабушке моей мозги пудри, что срок сидел и что блатной. Понял?! Вот так. А теперь — вон отсюда. Отстраняю тебя от работы. Вечером, на собрании, будем решать твою судьбу окончательно.
За спиной у бригадира плотнился полукруг решительных ребят, и Гузов предпочел отступить, видя единство всех. Но отступить по-своему, не признав вины.
— Согласен. Полдня можешь сактировать. Сильный ветер, к примеру. Жаловаться не стану. В суд не подам.
И пошагал по дороге независимо, как и вчера, будто никого в этой далекой тайге не было и быть не могло, кроме него, хозяина. Вольного, никому не подвластного.
— Ну, подонок! Гнать будем из бригады!
Все согласились с Алексеем. Твердо решили отлучить от коллектива человека, не имеющего, как выразился Комов, рабочей совести. Решили дать бой наглости.
И «бой» тот состоялся. Только трудно сказать, кто вышел из него победителем. Начался он с условия, продиктованного бригадиром:
— Значит, так… Без блатных словечек разговор. Серьезный разговор. Так?
— Так, — поддакнул Гузов, и всем показалось, что первая уступка — начало торжества добропорядочности.
— Ты грубейшим образом нарушаешь технологию — это раз. Ты…
— Давай, бригадир, по этому самому: раз. Если в струнку ложить буду, приказ управляющего трестом сорву. Меня на месяц сюда послали, потом — ручкой вам вот так, — он и в самом деле показал, как помашет строптивой бригаде на прощание. — А за месяц навалить велено столько, чтоб шпал до газодобычи хватило. А будете лес сейчас таскать к базе или после — дело ваше. Управляющий говорил, лучше на делянке оставлять. В штабеля стаскивать.
— Что, двойной труд выходит. Удорожание работ. На такое я не пойду.
— Не знаю, кто выше, бригадир или управляющий трестом.
— Либо будем работать технологично, — продолжал Алексей Турченко, словно не слыша насмешливой реплики Гузова, — либо вообще не станем работать. Дозволяю перекрывать дневную выработку самое многое на двадцать процентов. Тогда и мы сможем, не нарушая общего плана работ, обработать спиленный лес. Так? — спросил он бригаду, но ответа, как всегда, ждать не стал, а закончил своим обычным: — Так!
— Вот приедет барин, барин нас рассудит… Давай твое — два, три, четыре…
— Три, четыре — не будет. Только — второе. Я просил тебя аккуратней работать, землю не похабить. После твоих гусениц тут же сплошная эрозия начнется. Ты дал слово, помнится, мне, так в чем же дело? Нам твоя безалаберность ни к чему.
— Ответь ты мне, бригадир, кто меня сюда посылал: и зачем посылал?
— Странный вопрос. Мы здесь все, чтобы строить.
— Гляди, угадал. А для чего строить? Не трудись, не напрягай мозги, меня слушай. Державе валюта нужна. От рубликов ее тоже не вытошнит. Вот и выходит, нас послали сюда, чтоб богатство державы множить. Не хмурь лобешник, не пулемёть веснушками. Я в корень зрю, а не шаляй-валяй, не что замполит роты сказал. Так вот, теперь суди: должна держава снабжать меня той машиной, какая здесь годна? Не должна, а обязана. Что, лень ей было захваты подвижные сделать на лесорубочной? Башка не варит у инженеров?! А я-то при чем тут. Я даже им писал, на завод, только ни ответа, ни привета. А так что выходит: если сосна свечей, цапай ее за бок и — на пол, а если скосилась малость — елозь тогда вокруг, изловчайся, с какого боку захватывать. Мертвые, бригадир, захваты, мертвые.
— Можно же, если наклонено дерево, пилой, — вмешался Иван Богусловский. — Я готов в свободное от своих обязанностей время. Думаю, бригадир еще человека выделит.
— Умен, как погляжу. Их, косых, чуть не половина. И что, прикажешь рот разинувши стоять добрую половину смены? А какой приказ мне даден, забыли? На всю дорогу до газа за месяц. С меня спрос, если не управлюсь.
— Не это тебя беспокоит, — ковырнул под самый корень кто-то от дальнего стола. — Зашибешь здесь деньгу и дальше. Чтоб и там пенки слизать.
— Ты не халявь меня! — взвился Гузов, но его тут же одернул Алексей Турченко.
— Не ботай! Уговорились же.
— Извиняй, бригадир. Все извиняйте. Только я так прикинул, когда вербовался: державе богатство получить пупком постараюсь, но и себя, пусть малой толикой, не обижу. Что мне нужно? Домишко свой, машиненку какую-никакую, телевизор… И чтоб не ворованное. Кто у державы крадет, тому наши сотенные — семечки. А я — руками своими. Не буду я ваши сто с хвостиком процентов делать. Не буду. Сколько навалю, все, бригадир, запишешь. А землю беречь? Я уже сказал, за инженера безмозглого я не ответчик, своего по его нерадению упускать не собираюсь. Все!
— В чем-то вы, Валерий Гузов, правы, только я в нашей бригаде двойной работы не допущу. Либо трудишься в общем конвеере, либо — скатертью дорога.
— Счастливый ты, бригадир. Если в тот срок, какой назначил он, управляющий выдержит, послезавтра будет здесь. Два дня, предполагаю, согласится сактировать. Молодость твою пожалеет. Если задержится, штанов у всей вашей коммуны не хватит, чтоб расплатиться за простой лесорубки и меня. Бывайте. Прикурнуть минут шестьсот — не подорвет мое богатырское здоровье, На охоту сбегаю. Управляющему глухарчиков. Любит он.
Бросил, значит, кость, теперь грызите, а ему и сам черт не брат, он с самим управляющим на короткой ноге, глухарями давно обратил его. Поддержка обеспечена.
Сидит бригада, помалкивает. Многие впервые столкнулись с таким неприкрытым цинизмом. Гадко на душе. Особенно от того, что в позиции Гузова есть какое-то рациональное зерно: рабочий должен работать, работодатель обеспечивать его работу всем необходимым и без зажима оплачивать ее. Каждому свое, тогда и порядок будет. Но это — в идеале. А если нет его — идеала? Вот тут ребята не согласны с Гузовым: моя хата с краю. К другому они приучены, к поиску выхода. Изловчаться приучены. Ради единой цели.
Открой сейчас бригадир канал для дискуссий, много бы разного услышал. И советов добрых, и, что совершенно не исключено, поддержку Гузову. Но Турченко был уверен, что все думают так, как он сам, поэтому изрек категорично:
— Подонок. Хорошо, что выгнали. Так? Так. А вот насчет простоя техники нужно раскинуть умишком.
— Позовем шефов, — озвучил Иван Богусловский вдруг родившуюся у него идею. — Разберемся, думаю. Лично я иду к ним в ученики.
— Что ж, выход. Айда.
Если исключить чаепитие, деловой разговор с Пришлым и Костроминым занял всего пару минут. Бригадир только было начал объяснять, в каком положении оказалась бригада, выгнавшая лесоруба, Костромин остановил его.
— Молодцы. Вчера как глянул, что он натворил, сердце зашлось. О всех вас, грешным делом, худо подумал. Безразличные, мол. Советовались мы с Павлычем, как поступить, выход один увидели — сперва побеседовать с вами, а не помогло бы, акт составить. Ошиблись, выходит, всех осуждая. А технику, чего ж ее не приручить. Ключи берите, завтра и начнем.
Потом долго они пили чай, совсем не чайный, а травный, душистый, как лесная поляна в пору цветения, и вели неспешный разговор о житье-бытье. Старики сокрушались, что губится тайга нерадивцами-хапугами, подобными Гузову, но и они далеки были от главного, от признания истинной сути природы, они тоже видели спасение ее в мелочной опеке, в том, в чем природа на особенно-то и нуждалась. Раны ее не от нерадивости единиц, а от того, что человек уподобился вселенскому хозяину, самодержавно вершит суд над природой, казнит или милует ее, сообразуясь лишь со своей выгодой, и никак не может уразуметь, что сам же рубит сук, на котором комфортно устроился.
Когда Алексей с Иваном, завершив чаепитие, возвращались в барак, Гузов уже забрался в спальник, поцедив прежде изрядно «Солнцедара» из трехлитровки, и не сразу сообразил, чего ради пристают к нему. Но когда дошло, взвился:
— Может, тебе, падла, хавиру указать, где бока рыжие и скуржавые?!
— Я просил тебя, Валерий, без блатного жаргона. Со мной, учти, хипиш не пройдет…
— Не качай права, бригадир! — распарывая молнию и резко поднимаясь, выкрикнул зло Гузов. Пьяные глаза его бестолково и зло пялились на Алексея. — Не бери на горло! Я и пощекотать могу! Перышком!
Иван сделал полшага к Гузову, подошли еще парни, затем еще — плотно стало в проходе между нарами. Очень плотно.
Пьяный-пьяный, а понял Гузов, что не в его пользу ситуация, что и в самом деле «на горло» не возьмешь, а бока помять могут основательно, сотворив темную. Потом все откажутся, и останешься с носом, битым, расквашенным. Вытащил из-под подушки, хлипкой рукой, замасленной еще основательней спальника, ключи и милостиво подал бригадиру. Молча. Лишь про себя костил и его, и всех, кто стоял в проходе, самыми что ни на есть бранными словами. И думал уже, что и как попортить в лесорубке, чтобы не смогли ее завести, не смогли на ней работать. Выхлопную заткнуть… По контактам в пускаче тормозной пройтись…
Но вроде бы угадал его мысли бригадир. Предупредил строго:
— Не пытайся колдовать с лесорубкой. Не простим.
— Что, фофан я, да? Век свободы не видать… Клятва клятвой, а дежурного истопника Алексей на всякий случай проинструктировал, чтобы поднял его, бригадира, если Гузов уйдет ночью из барака надолго.
Утром, после завтрака, на котором Гузов уминал за обе щеки, будто вообще ничего не произошло, словно душевный покой его непоколеблен ничем, не понявшие друг друга стороны разделились: лесоруб пошел в барак собираться на охоту, Иван Богусловский с шефами, да еще и в сопровождении бригадира, — на делянку. У каждой из сторон была полная уверенность в своей правоте, но если Гузов готовил ружье и припасы совершенно спокойно, точно зная, что охота не может быть неудачной, что если не густо попадется глухарей, то уж косачей и рябчиков он принесет полный рюкзак; четверка же тех, кто шагал к лесоповалу, волновалась основательно, и у каждого для того была своя причина — Пришлый и Костромин опасались опростоволоситься (давно они не имели дело с техникой, порядком отвыкли от нее, да и новая она теперь, если закапризничает не сразу разберешься, что к чему!). Богусловский же совершенно не понимал, отчего непривычно гулко бьется сердце, а душа замирает от одного лишь предвкушения скорого будущего, когда не «Дружба» будет биться в лихорадке, строптиво вырываясь из рук, а послушные рычаги станут проводниками его, Ивана, воли (это же — прекрасно, не оказаться бы только тугодумным учеником). И совершенно иное волнение озадачивало бригадира, его беспокоило одно: пойдет или не пойдет лесорубка, ибо от этого зависело его бригадирское я, его престиж, его, наконец, работа здесь. Да, Алексею Турченко было неспокойней всех, к тому же волноваться ему пришлось дольше всех, ибо как только Пришлый, Костромин и подбадриваемый ими Богусловский принялись за ознакомительный осмотр, они тут же забыли о только что мучивших их сомнениях, бригадиру же казалось, что вся эта «тройка борзых» растерялась, походит еще какое-то время вокруг лесорубочной машины, подергает рычагами, пощупает мотор и разведет беспомощно руками: «— Нет, не поймем…»
Ждал этого удара исподтишка Алексей Турченко и даже не поверил своим ушам, когда услышал:
— Ну, что? С Богом.
Еще миг, и звонко залился, как пустобрешка, пускач. А когда слился тот брех в заливистое повизгивание, уркнул главный мотор, мощно заглушив поперхнувшегося пустобреха — силу источал из себя дизель, мощную силу, оттого и рычал так надменно, так самоуверенно. Гора свалилась с плеч Алексея Турченко, он махнул «тройке» рукой, давайте, мол, вперед, повернулся уже было, чтобы шагать к другим участкам, где нужен был его бригадирский глаз, но передумал, остался стоять, теперь уже ликуя душой и посылая угрозы Гузову.
«Близко, хапуга, не подпущу к машине. Близко!»
Первым сел за рычаги Костромин. Не отвыкли, как оказалось, руки от них, наоборот, стосковались безмерно. Никак не хотят выпускать, хоть понимает он, что бесконечно не может властвовать в кабине. Одно уложил дерево, второе, третье… Пора бы Павлу Павловичу место в кабине уступить, тоже, небось, рад-радехонек вспомнить молодость лихолетнюю, но никак не может себя пересилить — валил бы еще и еще, пока бы за шиворот из кабины не вытащили, только заминка вышла: дерево с наклоном оказалось на пути. Не берут захваты. Отпятился аккуратно и остановил на холостых.
— Пилу давай!
Раза в три дольше «Дружбой». Да еще нужно время, чтобы оттащить сосну с дороги. Не случайно упрямился Гузов, действительно, с такой работой вряд ли осилишь дневную норму без сверхурочного времени. Но им-то, шефам, не хомут на шее, им дневная выработка — не указ. И все же не порядок, если машина стоит, клешни раззявив, а люди пупки надрывают. Подумать стоит.
Об этом самом и Пришлый размышлял, когда ему не повезло с первого же захода — сразу же угодила наклоненная сосна. Пришлось попятиться. Ругнул в сердцах создателей лесорубки:
«Головы бы поотрывать! Инженера!»
Пока валила сосну «Дружба» он думал, как изменить захваты, чтобы можно было им придавать нужный наклон. Нет, не на завод писать предложение, а сделать здесь, самим. Станки у графа есть, не зажилит же в конце концов. Они— не его собственность. Приструнить можно, если заупрямится.
Но, как понимал Пришлый, не в станках главное. К ним доступ получить можно, а что делать на тех станках, что сверлить и что токарить. Вот в чем вопрос, в чем закавыка.
Ничего не приходило в голову. А уж и скорость пора включать.
Спилив и уложив в ровную стопку несколько сосен, Пришлый остановил машину и позвал Ивана:
— Садись. Мы с Онуфричем сбили охотку, а тебе хозяить на ней.
Все так просто: садись и — вперед. А он впервые управляет машиной. И сразу — такой громоздкой и не очень-то послушной. Рычаги — не руль. Навык нужен большой, чтобы управлять. Но как все молодые, Иван тоже — сам с усами. Наблюдал же вон сколько времени за Костроминым и Пришлым. Не боги горшки обжигают.
Включил скорость, отпустил педаль сцепления и — мотор, захлебнувшись, заглох.
— Ты плавно педаль. Плавно. И смесь погуще. Вот этой ногой. Уразумел?
— Да. Кажется, да.
На этот раз не заглох мотор, зато аж подпрыгнула лесорубка от взвывшей моторной силищи. Потом ровней поползли гусеницы по снегу, круша наст. Ура! Идет! Идет!
Вот тут бы остановиться, прицелиться получше захватами, но куда там. Радости хоть отбавляй. Все забыто, кроме одного: идет! идет!
Если бы не проскользнули захваты мимо дерева, едва царапнув его клешнями, то конец бы всей этой великолепной технике. Полный конец. Теперь же только снегом обсыпало лесорубку с ног до головы, да бригадир, всегда спокойный Алеша Турченко, взвинтился до неузнаваемости. Глаза злые, веснушки мечут молнии.
— Ты что, по миру нас хочешь пустить?!
— Не серчай, бригадир. Он — не виноватый, — заступился Пришлый за Богусловского. — Мы, старики, виноватые. Кто ж знал, что совсем впервой ему. Ну, да ладно, беда не велика. Поправим дело.
Вывел лесорубку на чистое место, воткнул в десятке метров от нее в снег лапу потолще, ободрав предварительно крупные ветки, и повелел:
— Садись.
За каждым движением следил, ничего не пропуская мимо, и все же сбил Иван Богусловский ветку. Не успел скорость выключить вовремя. Поставили ветку и — на второй заход. Потом на третий, на четвертый, на пятый. И так — до самого обеда.
А перед тем, как идти в столовую, Пришлый и Костромин постояли довольно долго возле захватов. Молчали. Словно молились. Иван даже не выдержал, позвал:
— Пойдемте, опоздаем.
Ему хотелось скорее пообедать, чтобы вновь вернуться сюда и победить в конце концов железное упрямство машины. Но его душевное состояние не было ведомо старикам, их мысли крутились вокруг захватов, поэтому они откликнулись с неохотой.
— Пойти можно, что ж не пойти. Что вот только с этими мертвыми клешнями делать.
— А что, если винт, — осенило вдруг Ивана Богусловского. — Поворачивай, куда хочешь.
Довольно часто бывает такое: никогда человек не имел дела с техникой, даже не знает принципа, на основе которого создается чудо-машина, да и не совсем серьезно предложит что-то, от балды, как сейчас модно говорить, а гляди ж ты — чуть не изобретение. Такое вот и сотворил Иван Богусловский своим не зацикленным на технические закономерности умом. Ассоциация с болтом, который можно вращать на винту, гениально-простая, хотя, казалась, совершенно нелепой. Костромин даже засомневался:
— Захваты жесткими должны быть. Сосны-то вон какие, их крепко держать нужно. А ты — винт.
Нисколько это не обидело Ивана. Родилась мысль, он ее высказал. Не подходит если, что ж делать. Только другого-то тут ничего не придумаешь.
И не предполагал Иван, что его предложение, хотя и воспринятое с иронией, овладело стариковскими умами и те начали прикидывать активней. Когда уж полдороги прошли, Пришлый заговорил:
— Онуфрич, парень дело сказал: на станине если мертво, а захват — на винт.
— У меня тоже такая мыслишка. А крепить стопором. Несколько сквозных отверстий просверлить, чтобы можно на разный угол ставить. Вручную, правда, придется перестраивать, только, думаю, все равно проворней дело пойдет, чем с «Дружбой».
— Верно, — согласился Пришлый, потом обернулся к Богусловскому. — Предложение твое, Ванюша, на завод пошлем, пусть внедряют. Глядишь, из кабины сообразят угол менять. Молодец, башковит. Хорошо начинаешь.
После обеда Костромин засел за расчеты и чертежи, а с Иваном Богусловским на делянку пошел только Пришлый. Сразу же предупредил:
— Не отпущу, пока не осилим. Меня, в пацанстве еще, тракторист так учил. Сказывал: мозгами не можешь шевелить, потей до седьмого пота.
Нет, не мозги нужны, для них невелико напряжение уразуметь, что за чем делать, тут глазомер нужен, реакция нужна. Главное как раз в том, что на столько думать нужно, сколько ногами и руками работать, опережая, порой мысли. Именно этому нужно было учиться Ивану. Бесконечно. Однообразно.
Но вот, вроде бы, получилось. Потом еще раз, потом еще. Все, как надо идет. Пришлый искренне радуется:
— Гляди, не только башковит, но и в руках ловок. Правь валить сосны.
И сразу потерялась уверенность, конем застоялым рванул с места, надрывая попусту мотор. А Пришлый успокаивает:
— Погоди малость, отдышись. Что жердь, что сосна, не один ли леший…
Взял себя в руки, сосредоточился и повел, как в лобовую атаку, все еще не очень послушную машину. Чуть-чуть, самую малость не рассчитал, но вовремя застопорил ход. Попятился, подкорректировал рычагами и облапил захватами-клешнями гладкобокую сосну. И жалко красоту губить, и радостно от того, что подчинил себе строптивую машину. Ликует душа. Сердце трепещет весело. Архимед, бежавший нагишом по людным городским улицам с криком: «—Нашел! Нашел!» не был так счастлив, как Богусловский, молодой парень, совершенно еще не знавший себя и вдруг почувствовавший, что он может делать все то, что захочет. Он еще больше зауважал себя и поверил окончательно в себя. И как он думал в те радостные минуты, ему больше не нужно искать места в жизни, он нашел свое призвание и останется верным ему до конца.
Взмокла спина, словно несколько часов кряду таскал он непомерную тяжесть. В испарине и лицо. Пот щиплет глаза, солонит губы, но Иван не дает себе передышки, пилит и пилит без остановки. Пока не сжалился над ним Пришлый и не положил руку на плечо.
— Будет сегодня. Запалишься.
Шел Иван Богусловский к базе так, как вообще еще не ходил никогда: нес радость за себя, боясь ее расплескать на колдобинах. Все обратили внимание на необычное состояние Богусловского, но понял его только Алексей Турченко и поздравил новоиспеченного работягу:
— Рад за тебя. Очень рад.
Потом спросил:
— Много ли?
— Да нет. Семечки, как говорит Гузов.
— Запишем и их. Выведем процент. Сказал бы тебе: ступай после ужина отдыхать, только к графу придется идти. Со станками договариваться. Боюсь, откажет, если пойдет кто другой. Так? Так.
После этого «так» — куда деваться. Нужно идти. Хотя, собственно, почему ему должны быть неприятны встречи с человеком, хотя и сильно заблуждающимся, но, судя по первому разговору, честным в своих заблуждениях. А бабушка, помнится, всегда наставляла: дели людей на честных и бесчестных. Честный, хоть и противоположен тебе, но достоин уважения.
— Ладно. Схожу.
Одного все же опасался Иван Богусловский — приглашения квартировать у графа, заняв целую комнату. На каком основании отказываться от столь заманчивого приглашения и каким образом отказаться от вторичного приглашения, не обидев хозяина, — эти вопросы казались Ивану весьма неловкими и без фальши неразрешимыми. Но, подумав, решил так: «Прямо скажу, как и в прошлый раз: коммуна. Не принимать ее — его право, но вмешиваться — права нет… Интеллигент же он в конце концов. Не может не уважать чужое мнение».
Напрасно Иван ершился раньше времени. Граф Антон на этот раз вел себя куда интеллигентней, не хулил коммуны, не настаивал, чтобы перебрался Иван к нему. Он лишь посетовал, вернее, мягко выговорил за то, что не посещает его Иван так долго.
— Вечер за чаем и легкой беседой осудителен ли? — не столь упрекал, сколь спрашивал граф.
— Недосуг все. Такое навалилось.
— Предлог, милостивый государь, предлог. Однако, что же это я. Воля ваша. Дверь моего дома всегда открыта для вас.
И все. И никакой политики, никакой философии. Считал, видимо, граф, что еще не время бесед с заблудшим юношей, чье происхождение никак не согласуется с его сегодняшним образом жизни, его мышлением и вытекающими из этого поступками. Для таких бесед нужна интимность, взаимная готовность говорить и слушать, нужна готовность убеждать, ибо только в противоборстве рождается страстность, а без нее какая убедительность размышлений и доказательств.
Немного помедлив, соблюдая такт, спросил:
— Не тешу себя уверенностью, что вы пришли в мой дом без всякого дела, просто на чай, какой все равно нам подаст экономка. Вот тогда я и выслушаю вас.
На этот раз они сидели в бывшей столовой, теперь же, при новом хозяине, выполнявшей роль гостиной — комнате внушительной по размеру, но так заставленной мебелью, что, казалось, трудно здесь даже дышать. Обеденный стол, выполненный из карельской березы, раздвижной, на двенадцать персон, судя по стульям, теснившимся у стены, задвинут за буфет, тоже массивный и тоже из карельской березы. Сразу за стульями, тесня их, стояли пухлые кресла, немного скромнее тех, что были в кабинете, но тоже безвкусные. В равном отдалении друг от друга стояли два шахматных и два журнальных столика, тоже ручной работы, кажущиеся даже легкими, хотя сработаны были из дуба и березы. Дубом были обиты и стены до половины, а дальше — бревна, гладко струганные, покрытые лаком, а на этих бревнах висели в самодельных рамках, сделанных, похоже, не великим краснодеревщиком, аляповатые картины, средние между реалистическими и авангардистскими, а если быть предельно точным и честным, написанные неумелой кистью, но с претензией на значимость. Более всех, и по размеру, и по яркости, да и по неумелости, выделялся портрет женщины, расползшейся от неумеренной полноты, от довольства жизнью. Если внимательно присмотреться, можно заключить, что туалет женщины вечерний и что декольте подпирают невообразимо-массивные груди, с наибольшей старательностью выписанные художником.
— Моя экономка, — перехватив любопытствующий взгляд Ивана Богусловского, пояснил граф Антон: — Шалость досуга. А вот и она сама. Натура, так сказать, собственной персоной.
Натура и в самом деле мало чем отличалась от портрета: разъевшаяся баба, с сальными выпуклостями вместо талии, с массивным бюстом, покойно устроившимся на вспученном животе, но удивительное дело, шаг ее был легок и ловок, словно не несла она такую излишнюю полноту, словно вовсе ее не замечала.
Лицо, когда-то, вероятно, очень миловидное, теперь же, как и сама хозяйка, растолстевшее, было добродушное и приветливое. Приветливо прозвучал и голос:
— Угощайтесь, чего бог послал. Не трещат в райсельмаге полки. Голодно стало.
Не трещал от изобилия и столик карельской березы на дубовых колесиках, который экономка бережно катила перед собой: кроме чайника и стаканов в массивных подстаканниках, сработанных под кремлевскую стену со Спасской башней в центре, стояли вазочки с вареньем собственной, должно быть, варки, потрескавшиеся от времени и низкого качества пряники да потерявшие, тоже от времени и низкосортности, былой аппетитный блеск сушки.
Проворно переставляя все привезенное на журнальный столик, экономка продолжала сетовать на магазины, оправдывая тем скудность поданного к чаю:
— Почти, как в войну. Шаром покати. Мышам, думаю, даже нечем поживиться…
— Это гостю не очень интересно, — прервал экономку граф. — Он к нам по делу.
— Извиняйте, — без обиды ответила женщина и с удивительной легкостью вышла из столовой-гостиной.
— Слушаю вас, — разливая чай, спрашивал тем временем граф Ивана Богусловского. — Чем могу служить.
— Мы задумали сделать подвижными захваты лесорубочной машины и хотели бы воспользоваться станками в удобное для вашей семьи время.
Умышленно не сказал «вашими станками». Так инструктировал Алексей Турченко. Ни в коем случае не признавать права собственности графа на станки. Богусловский был подготовлен к тому, чтобы доказывать равное право и графа, и бригады на пользование государственным имуществом, но, к его удивлению, граф сразу же отмахнулся:
— Станочное хозяйство — не по моей линии. Хранительница их — моя экономка. С ней и заключайте контракт.
Позвал он ее, однако же, только после того, как окончили они чаепитие. И, как сразу понял Иван Богусловский, слово «контракт» молвлено было графом не по дореволюционной своей привычке, ибо экономка сразу поставила переговоры на договорную основу.
— Станочный парк передан мне. По акту. Мне и деньги платят, чтоб держала я все в сохранности. Доверить станки никому не могу. Случись если что, где мне, бедной женщине, за такую дороговизну рассчитаться.
А с вас взятки гладки. Мне начальство так и скажет: не доверяла бы, — так категорично все это говорила экономка, что Ивану просто не хватало духу поперечить, хотя он лихорадочно искал хоть какую-нибудь зацепку, чтобы вначале смягчить категоричность экономки, а уж потом перейти и самому в наступление.
Ничего у него не получалось, хоть плачь. Зато у самой экономки готов был выход. Она хорошо понимала, что вот так, просто, от бригады не отделаешься, если еще на ее стороне лесничие. Додавят. К начальству путь проложат. Вот она, мозгуя, определяла, как выгоднее срядиться. И придумала.
— Буду сама точить. Чертежи давайте. Я — токарь пятого разряда. Сработаю как надо.
— Огромное спасибо.
— Эко, — спасибо. Так уговоримся: я задание ваше сделаю честь по чести, а вы меня на месяц в свою бригаду. И чтоб справедливо, чтоб без обмана. Сколько всем, столько и мне.
— Хорошо, — согласился Иван, понимая, что берет на себя лишку, но надеясь получить бригадирскую поддержку на собрании, которое и решит вопрос положительно. — Вполне приемлемо.
Очень довольный возвращался он в барак. Сумерки, набросившие вуаль на все, что еще виделось вокруг, сгладили контрастность, и бараки казались не таким уж безобразным недоразумением на белом снегу, а лес, оттиснутый людьми подальше от лагерной зоны, гляделся приплюснутой полоской, еще более сгущавшей своей темнотой сумеречность — все это Ивану становилось уже привычным, не вызывая ни восхищения, как в первые дни, и не влияя на настроение. И он бы шел до барака без остановки, не зацепись его взгляд за одинокого лыжника, бегущего споро от полоски темного леса к баракам.
«Гузов, что ли?»
Верно. Он. Не дошел до своего барака, остановился у соседнего, сбросил тяжелющий рюкзак и, сняв лыжину, принялся разгребать ею сугроб у стенки. А Иван Богусловский, совершенно замедлив шаг, с любопытством наблюдал за Гузовым, не совсем еще понимая, что тот делает, хотя и чувствовал себя неловко в роли подглядывающего. Впрочем, смотрел он открыто, не прячась.
Гузов же, выскребший в сугробе неглубокую ямку, вывалил в нее глухарей, тетеревов и рябчиков, засыпал их снегом, поставил над схроном лыжи крест-накрест и двинулся, стараясь не повредить наст, наперерез Ивану.
— Ну, что зенки пялишь? Голову оторву, если кто тронет! Управляющему гостинец. Завтра будет здесь. Разгонит вашу малину.
Глава одиннадцатая
На следующий день, когда бригада как раз собралась на обед, дали о себе знать «Уралы», еще издали донесся танковый гул, и хотя бригадир распорядился всем идти в столовую, никто даже не обратил внимания на его команду. Раз решение принимали, как они считали, вместе, значит, и отвечать сообща. И Алексей, поначалу возмутившийся непослушанием бригады, когда поразмыслил, то успокоился. Даже поблагодарил всех:
— Спасибо, мужики.
На машинный гул вышел из барака давивший «шестьсот минут» Гузов. Потянулся сладко, обвел восторженно искрившуюся на солнце природу и пошагал вальяжно к бригаде. Но не слился с ней, остановился поодаль. Беспечный. Уверенный в своей правоте. Предвкушающий торжество победы.
Или это только виделось внешне. А что творилось в его душе? Чужая душа — потемки.
Так и противостояли они. Один и — много. До тех самых пор, пока не прошипела шумно тормозами четверка «Уралов» с полными кузовами грубых ящиков. Машины управляющего в колонне не было. Да и кабины пусты. Поспрыгивали только одни водители, заглушив моторы. Довольные, что, наконец, твердь земная под ногами.
— Бригадир, организуй разгрузку. Сегодня же мы — назад.
— Айда в столовую. Потом — мигом. Так? Так.
И впрямь, бригада после обеда разгрузила машины быстро, хотя ящики тяжелющие — гвозди, скобы, костыли и другой разный металл, нужный для ремонта причала и монтажа рельс. Взмокли парни, будто пропарили их летние Каракумы. Один из водителей даже посочувствовал, хотя крепкая мужская работа в Тюмени была в чести и не нуждалась в сердобольстве.
— Что кран не возьмете? В Надыме есть они.
— Думаю, как рельсы станут поступать, — ответил Алеша Турченко. — Что зря технике простаивать. Накладно.
— И то верно, — согласился сердобольный, но тут же выдал еще один совет: — На лесоповале используй, чтоб не вагами.
Гляди ж ты, вроде бы всего-навсего водитель, а знающий человек. Хотя, совет только на первый взгляд толковый, а если посчитать, то все равно кран будет много простаивать, дорого обойдется бригаде. Ответил, подавая заявку на следующий рейс.
— Ничего. Обойдемся. К управляющему с заявкой пойди. И устно объясни, что к чему.
— Постараюсь.
В то же самое время Гузов тоже просил водителя передовой машины, вырулившей уже на выезд, зайти к управляющему трестом. Он перегружал свою добычу в кабину и наставлял:
— Вот этих глухарей — управляющему. Вот этого — главному инженеру, этого — завгару. Усек? Остальное шухнешь в лавке на бормотуху и гудите. Мне пока не требуется. Все усек? Управляющему так и выложи: Гузов, мол, кланяется, сука, мол, буду, бригадир — хуже бугра. Донесешь?
— Постараюсь.
После такой разноречивой информации, какая направлялась от мертвой дороги в трест, управляющий, по логике вещей, либо сам должен был бы немедленно приехать сюда, либо послать кого-то из своих заместителей, и теперь оставалось враждующим сторонам только ждать. Валерию Гузову, торопя начальство, Алеше Турченко, моля Бога, чтобы начальство задержалось еще хотя бы на несколько деньков.
А нужны Алексею были те дни для многого. Ну, перво-наперво, чтобы Богусловский совсем освоился с лесорубочной машиной и показал бы управляющему свою работу. Бригадир знал, что влетит ему за то, что разрешил сесть за рычаги человеку, не имеющему прав. Нарушены тем самым меры безопасности. Турченко, однако же, готов был получить накачку именно за это, лишь бы не отвечать за главное — за самовольное отстранение Гузова от работы.
В конце концов ни одна инструкция не предписывает карать за помятую землю. Ну, а то, что валит спиленные деревья безалаберно, достойно порицания, конечно. Однако к этому особо не придерешься, ибо норму перекрывает лесоруб вдвое, а то и втрое. И не важно, что после него придется делать двойную работу, не бесплатно же бригада ее станет делать, что ж ей выступать, против чего бороться. Против повышения стоимости строительства? Эка, забота. Гроши какие-то в масштабах миллиардов.
Вот такие пироги.
Второе, не менее важное для Турченко — усовершенствование захватов. Не может оно не потянуть весы в бригадирскую сторону. А закончат точить нужные детали, как понимал Алексей, не сегодня, так завтра. Проворной и умелой оказалась экономка графа, и в самом деле — рабочая косточка. Не зря деньги берет. Да там еще и Костромин. И помогает, и контролирует. Все будет в норме. Лишь бы не спешил управляющий, а то, чего доброго, попадет ему вожжа под хвост, запретит без инженерного расчета что-либо делать. Лучше, когда поставлен начальник перед фактом, и тому остается лишь разжечь скандал, что не очень-то выгодно, ибо бьет по нему же самому, что не в состоянии поддерживать дисциплину и порядок в вверенном тресте; либо хвалить, повышая тем самыми свои акции руководителя, умеющего поддерживать все новое и полезное. Путь фанфар, конечно же, наиболее предпочтительный и наиболее проверенный.
Так, во всяком случае, считал Алексей Турченко. А он-то насмотрелся на начальство еще до армии.
Однако самое главное, почему была желательна для Алексея Турченко задержка управляющего — это предстоящее новоселье. Домина, как они называли новостройку, отгрохан, заканчиваются отделочные работы. Проект, как считал бригадир, удобный: комнаты на четверых, на две комнаты — печь с топкой из коридора, а сам коридор просторный и светлый, не закуток; из коридора выход в дровяной склад, пристроенный к дому, — все под рукой, все не стеснено, и только пока еще не хватает кроватей. Ребята предложили сделать нары, но бригадир уперся:
— Соорудим нары — если кроватей нам не видать, как своих ушей. Так? Так!
Завтра Пришлый доделает последнюю печь, выведет последнюю трубу и — играй новоселье. Только если с трубой Турченко поторапливал, то новоселье намеревался провести в день приезда управляющего. Сделать так, будто случайно совпало. Но приготовить к новоселью все нужно заранее, и очень важно закатить пышный обед, разжившись ради такого случая не только свежанинкой, но и спиртным.
Вот какие планы имел бригадир, собирая вечером собрание, чтобы распределить всем завтрашнюю работу, онормироватъ каждого.
Все шло хорошо, все по его, бригадирскому, плану. И сухостойные сосны пилить на дрова все назначенные согласились охотно, и в райцентр вызвался доброволец, и помощников Пришлому пришлось даже выбирать, а вот с охотой вышло не совсем так, как хотел бригадир. Костромин отказался.
— Завтра кончаем винты. К вечеру ставить станем. Пусть Иван с Николаем Шиленко идут. Дозволяю по сему случаю на лизунец к Корге.
Лесничие в нескольких местах, обычно рядом с родниками, разложили под покровами от дождя и снега крупные куски соли, куда и привыкли со временем ходить лоси, олени и другая всякая травоядная живность. Полижут, снежком закусят, если зимой, водицей студеной запьют, если летом, и — довольны жизнью. У каждого такого места поставили Костромин с Пришлым полусрубы с щелями-бойницами, чтобы и наблюдать за зверьем, и при большой необходимости стрелять. Вот та самая необходимость, по мнению Костромина, как раз и наступила. Но не на любом месте разрешал свалить Костромин оленя (лосятина у бригады еще была, а для свежанины на обед хватит и оленя), а на том лизунце, где давно не стрелялось. Учитывал он и то, что к лизунцу у Корги было особенно много торных троп из двух распадков. Звери, они тоже выбирают места получше, чтоб спокойно, без опаски, нализаться соли, вот им приглянулся лизунец, устроенный в уютном уголке, под высокой скалой, рядом с родником, за которым начиналась топь, большая, ровная, с торчавшими сплошь корягами. Оттого и звали то место Коргой. Волк незаметно не подберется оттуда, сверху, со скалы, он тоже не бросится, очень высоко, а на тропу, по какой пришел, можно то и дело поглядывать. В случае опасности, можно дать стрекача через топь. С кочки на кочку, с тверди на твердь. Для обитателей тайги топь — не препятствие.
— Показывал я им Коргу. Дорога не буерачная, не собьются, — продолжал Костромин. — А мне никак нельзя: винты неподъемные женщине, хоть и бой-бабе. Да и доверить никому не доверю.
— Согласен, — кивнул бригадир. — Дело ответственное. Но и Богусловскому не резон идти на охоту. Полета процентов до остановки даст и то — дело. Нельзя лесорубке простаивать. Если с винтами быстро управитесь, еще немного попилить можно будет. В порядке испытания. Я вот как думаю: не попросить ли Гузова. Чтоб с Николаем вместе. Так?
— Один я пойду. Что мне Гузов, — заупрямился Шиленко. — Кабы дороги не знал. Лыжня наша куда делась? Не буранило же.
— А лешего не испугаешься? Он с одиночками ой как нашалить может, — подначили Николая товарищи. — А то и ведьмачка вмешается.
Верно, тайга — не граница, где и комару дорога на замок закрыта. Кто здесь лешего тревожил или ведьму. Никто.
Остряки начали было изощряться, хохоток уже вспыхнул, только не понравилось бригадиру зубоскальство, и он остановил его.
— Будет, мужики. Спать пора.
Будто предчувствовал Алексей, что накаркают ребята беды, что обидят они лешего и накуролесит тот так, что придется ребятам основательно поволноваться, да и пободать лбами тугие буранные струи.
Едва забрезжил рассвет, Николай, поднятый дежурным истопником, надел лыжи. А еще на четверть часа раньше ушел в тайгу Гузов. За глухарями. Ни тот, ни другой не почувствовали подавленности в воздухе (жить здесь нужно очень долго, чтобы замечать такое) и не увидели тучную полоску на северо-западном горизонте. Только звезды увидели на небе, хотя и тускнеющие, но еще не очень растаявшие.
Вроде бы и морозец обычный, хотя, если повнимательней прислушаться, не так звонок и крепок, как вчера, позавчера и все предшествовавшие дни.
Ничего необычного не заметили и ребята, когда поднялись, умылись, заправили свои постели на нарах ровно, по струнке, как бывало в казармах, и тронулись, чуть ли не строем, к столовой, перекидываясь вялыми репликами. Не было у них веселья, какое каждым утром царило в бригаде, но и этот факт остался совершенно без внимания. А бригадира нешумливость ребят вполне устраивала, ибо ему не приходилось одергивать слишком развольничавшихся товарищей, когда они выходили за рамки приличия в зубоскальстве друг перед другом, и можно было без помехи думать о наступавшем рабочем дне, планировать, где и когда сделать маневр личным составом, чтобы ритм не сбивался от начала и до конца; чтобы никто не оказался бы в простое.
Все, в общем, шло своим естественным путем, парни еще не знали, что такое непогода на северных широтах, что они не на юге, что здесь, как их предупреждали, налетают невообразимой силы ветры, которые могут дуть сутками, не утихая и наметая сугробы даже летом, — они в беспечности своей, как и ушедшие в тайгу на охоту, не почувствовали ни потеплевшего и необычно бездвижного воздуха, не увидели лохматую темную полоску, поднявшуюся над лесной грядой на северо-западе, и даже к предупреждению Костромина и Пришлого никто не прислушался.
Появились шефы сразу же после завтрака, когда ребята сонливо перекуривали перед тем, как разойтись по своим рабочим местам. Поздоровались и— к бригадиру.
— Пурга, слышь, идет.
— Где?
— Вон. Гляди.
А что смотреть, если небо чистое, как родник. Облако над тайгой? Так оно где еще. И почему оно обязательно должно прийти сюда. Вполне может быть, что полетает-полетает за дальней тайгой и растает. Ну, а посыплет снег, что у них крыши над головой нет?
— Да я к чему, — продолжал Костромин. — Мужики в лес ушли, как бы худого чего не случилось.
— Отозвать предлагаешь? Так? Телефона нет же. Послать Богусловского за Николаем? А Гузов где? Ищи его по тайге… И потом, мы же договорились вчера, кто чем занимается. Богусловскому нужно пилить. Иначе не миновать нагоняя от управляющего. Да и за Николая я не опасаюсь. Пограничник он. Иль не попадал в непогоду. Всякое бывало.
Вздохнул Костромин. Но успокоил себя:
— Глядишь, успеет, если пораньше на лизунец олешек выйдет. Ну, а если что, бросит, должно быть, а сам-то как-нибудь огорит, — помолчал чуточку, затем продолжил, но уже тоном приказа: — Как зашевелится воздух, сразу работу бросай и все крепи. Разнесет, не сыщешь потом. Убытку не оберешься. Заранее подумай, бригадир, что и как крепить.
Этого-то совета что не послушаться. Инструменты не трудно упрятать под готовую уже часть причала, а доски стянуть веревками и закрепить их к причальным столбам. Конечно, лучше бы тоже под причал, но много времени потребуется для этого. Нужно тогда прямо сейчас начинать. Не расточительно ли?
На пилораме, кажется, все крепко держится, там ничего не нужно крепить. Не вырвет же с корнем всю раму с тяжелыми электромоторами и дисками к ним. В общем, дел не так уж и много, управиться можно быстро, как начнется ветер. Но что вполне возможно, его и не будет вовсе. Зачем же опережать события.
Разошлась, короче говоря, бригада, и работа началась в привычном ритме, без лишних перекуров. И никто всерьез не подумал о своем товарище, ушедшем в тайгу. Их не клевал еще жареный петух в мягкое место: до армии они лишь пели песню о том, как замерзал ямщик, читали, и то далеко не все, «Метель» Льва Толстого, а на границе тоже весь участок был изучен досконально, к тому же на заставе за солдат думали офицеры, они волновались и принимали нужные меры в случае непогоды — беспечность, таким образом, переплелась с неопытностью, оттого и покойно вела себя бригада. Обычной жизнью жила. Как вчера, как позавчера, как все прежние дни.
Совершенно ничего не предчувствовал и Коля Шиленко, бодро шагая по проторенной лыжне и беспокоясь лишь о том, как бы не ошибиться с поворотом на отвилок, хотя все отвилки, которые отпочковывались от основной лыжни, имели свои, довольно заметные отличия. Путь к Корге начинался от трехстволой березы, раскорячившейся в центре небольшой, удивительно круглой поляны, охваченной со всех сторон, как частоколом, стеной из высоченных сосен. Когда они с Костроминым поворачивали у той березы, он сказал хорошо запомнившееся:
«— Леший, видать, посадил ее здесь. Иначе как бы она появилась между сосен?»
Кто бы ни занес ее сюда, но коль скоро зацепилась она здесь, запрудит теперь своими сестрами всю поляну. Сырая, как сказал Костромин, она подходящая для березы, и лишь трава по пояс, сейчас заваленная снегом, мешает пробиться к свету новым деревцам, губит их, но все равно уже кое-где торчат светлые тонюсенькие стволики с метелочками коричневых веточек; они победили, жизнь теперь распахнула перед ними свои объятия, теперь они станут теснить вражью траву, отвоевывая место для новых своих сестренок. Хорошо, что Николай Шиленко в тот первый раз ухватил поляну пограничным цепким взглядом, потом, когда еще здесь ходили, закрепил все в памяти, а вот теперь воспроизводил все ее обличив, словно рисунок перед глазами, со всеми мелкими деталями, и все же сомнения не отступали. То ему казалось, что он уже прошел ее, не заметив, ибо слишком уж долго идет, а как ему помнилось, она была не так уж далеко, то вновь убеждал себя, по каким-то запомнившимся признакам, что она еще впереди, а потом, вновь ему казалось, что отвилок он уже проскочил, и тревожно шарил он глазами впереди лыжни, чтобы увидеть приметное дерево.
Что ж, его понять можно. Даже на границе, на хорошо изученном участке ему не приходилось ходить в наряд одному. Раньше, до них было, говорили такое — одиночные наряды несли службу, а они ходили все больше парами, а той по несколько человек.
Но вот, наконец, блеснули, будто светом, растопыренные стволы и повеселело на душе у Николая. Дальше-то дорогу, особенно первую ее половину, он знал хорошо. Они здесь, не доходя до Корги, раза три охотились. Удобные места. Километра три густого леса с ерником на опушке, а за ним — поляна. Широкая, вольная. Трава на ней тоже высокая и густая, что было видно по выбитым зверьем местам. Летом здесь паслась, как говорил Костромин, всяческая живность, сюда же она тянулась и зимой тебеневать. Разгребала снег копытами и щипала некошеное сено, остававшееся под снегом вкусным и запашистым. В ернике у Костромина и Пришлого были проделаны удобные лазы, через которые бесшумно можно пробраться к поляне, и тогда оставалось только не промазать.
Коля Шиленко снял ружье, вставил патроны, один с жаканом, другой с картечью, чтобы вдогон, если жакан минует цель, и бодро зашагал влево, теперь уже заботясь лишь о том, чтобы не миновать поворота к лазам через ерник.
Вот и он. Все идет ладом. Завалить бы олешка здесь, на поляне, куда бы как с добром было.
У ерника он скинул лямки лыж-волокуш, широких, с петлями для привязывания добычи, смахнул с ног лыжи на умятую тропку и полез в узкий лаз, стараясь не тронуть ветки, не сделать резкого движения, чтобы даже снег не хрустнул. Ему очень хотелось, чтобы паслись олени на поляне не так далеко, не дальше, во всяком случае, ружейного выстрела. Последние шаги он делал особенно осторожно, чтобы не спугнуть зверя…
Увы, поляна пуста. Пришлось возвращаться. Минут двадцать, не меньше, потрачено впустую.
«Ладно, впереди еще одна есть», — успокоил Шиленко себя и все так же без уныния заскользил по лыжне к следующей поляне, которая была совсем уж недалеко от Корги и где тоже убивали они и лосей, и оленей.
Но и на следующей поляне ему не повезло. Пусто. Такое впечатление, что здесь никто никогда не пасся. Если бы еще следы тебеневки замести, ну просто целина. Безмолвная, белая и холодная.
Оставалось одно — уповать на везение у лизунца. К засадному полусрубу, правда, не подойдешь незаметно, но это не беда, прошлый раз, когда он, Николай, был здесь с Костроминым, звери шли и шли, как по расписанию.
Забилось азартно сердце, когда увидел, как спугнутый им сохатый пружинно понесся через топистую поляну, перемахивая, словно весил он не больше пушинки, особенно опасные низинки — не один десяток разного зверья засосала, видимо, трясина, прежде чем выработалось у лесных обитателей понимание того, где ожидает их смертельная опасность. Жить захочешь — научишься.
Полюбовавшись мощным, но легким на ногу красавцем, Николай Шиленко основательно устроился в засаде, чтобы не копошиться, когда подойдет время стрелять, чтобы все находилось под рукой, но чтобы ждать можно было без напряжения. Удобно чтобы было ждать.
«Все. Давай, подходи».
Подходить, однако же, никто к лизунцу отчего-то не спешил, хотя и ветерок тянул из распадков, откуда обычно шли звери, и запаха человека и пороха почувствовать они не могли, к тому же завсегдатаи лизунца свыклись с полусрубом, притерпелись к его пугающим запахам, ибо вел себя полусруб мирно, не изрыгал ни огня, ни грома — все это Николай знал, говорил обо всем этом ему Костромин, но сомнения вновь, как и на лыжне, вкрадывались в его душу. Он даже ружье понюхал, не слишком ли небрежно почищено после прежней охоты.
Нет, нормально все. А патронташ на всякий случай перепоясал под куртку, чтоб не разносило вольно пороховой вони.
«Так лучше».
Ну, и что же, что лучше — зверя все равно нет. Волей-неволей пригорюнишься. Ведь ему очень хотелось вернуться с добычей, чтоб не зубоскалили ребята про лешего. Без злобы они, конечно, для потехи своей, но все равно обидно.
И никак не замечал он аналогию с тем опытом, хотя и малым, какой обрел дома, выходя на охоту с отцом или дедом. Если зверя или птицы на том месте, где они водятся всегда, нет, то и отец, и дед говаривали обычно:»— Все, пошли вертаться. Непогода идет». Но Николаю было не до анализа прежнего и сегодняшнего: оленя завалить ему хочется. Очень уж хочется.
Лишь почти через час вышагал из распадковой чащобы лосище. Высокий и стройный. Создаст же такое великолепие природа. Втянул зверь ноздрями воздух, попрядал ушами и, ничего не почувствовав опасного, пошагал уверенно к лизунцу. Куда как хороша добыча, но… Разве один доволочешь.
Нализавшись вволю, воротился сохатый в распадок, и тут же ему на смену вышел новый лосище, будто ждал, маскируясь подлеском, своей очереди. И любо Николаю глядеть на великанов, и досадно. У него одно уже на уме, чтоб вон из того, правого, распадка выглянул зверь. Там оленья тропа. Оттуда они заходят. С лосями не путаются. Вот и поглядывает Николай на нужный ему распадок, ждет, когда же появится долгожданный олень.
Случилось на удивление: олень и в самом деле, словно внял мольбе и вскоре вышел из густого ерника. Поднял голову, запрокинув ветвистые рога на спину, пошевелил ноздрями и пошагал к лизунцу. Он еще не видел, что место занято лосем.
«Не станут ли драться? — подумал с тревогой Шиленко. — Этого еще не хватало».
Но не дерутся по пустякам звери. У них все рационально. Да иначе они просто бы не выжили. Увидел олень лося и остановился как вкопанный. Только ноздри шевелятся. Стоит и ждет своего часа. И тут, словно назло Николаю, вышел из левого распадка еще один сохатый на стартовую площадку. Но тоже не пошел к лизунцу, а стал ждать возвращения своего собрата.
«Уступит оленю? Он же — раньше».
Не уступил. Да, собственно, олень не пытался даже заявлять о своем праве в очереди; он как стоял, так и остался стоять, наблюдая, как происходит смена у лизунца, будто его вовсе не интересовала соль, будто пришел он сюда просто так. Постоять пришел и все.
«Так и будешь пялиться?! — возмущался поведением оленя Николай. — Еще придет сохатый, тоже уступишь?!»
Уступил бы, конечно. У тайги суровые законы. Раз ты слабый, посторонись, чтобы не пасть в неравной борьбе. Впрочем, только ли тайге присущи эти законы?
Прошагал, налакомившись солью, лось в свой распадок, не обратил даже внимания на замершего статуей меньшего собрата и — ура! — нового лося не появилось.
«Ну, чего стоишь? В чем дело? Шагай! Шагай, милый!»
Услышана молитва Николая, тронулся олень. С гордо запрокинутой головой. Только кажущаяся та гордость, с опущенной головой рога долго ли наносишь, вон они какие раскидисто-тяжелющие.
«Давай, давай, — подзывал оленя Шиленко, затаив дыхание. — Смелей».
Вот уже нужно стрелять, чтобы не у лизунца упала жертва, чтобы не окровянить уплотненную площадку, иначе станет то пятно отпугивать зверье от соли — так учил Костромин, так охотился и сам; но Шиленко забоялся обмишулиться, пропустил оленя к самому лизунцу, и нажал спусковой крючок лишь тогда, когда рогач спокойно принялся лизать отполированный шершавыми языками леденистый камень.
Удачный выстрел. Ткнулся олень головой в умятый копытами снег, а Николай и ликующий, и понимающий, что поступил не по совести, перемахнул через стенку полусруба и, схватив оленя за рога и напрягаясь донельзя, поволок его подальше от лизунца, за полусруб. Торопился, пока еще не натекло много крови.
Потом он выскребал кровавые пятна возле соли и дорожку от нее к полусрубу, пороша сверху свежим снегом и хороня окровавленный снег за полусрубом — делал все основательно, не очень спеша, ибо добыча в руках, беспокойства больше нет никакого, а доволочь до дома оленя, дело техники. Лоб и спина взопреют, только и всего.
Не заметил он за работой, что на средину неба выползла туча, светлая по краям от яркого солнца и тревожно-черная к центру, которого солнечные лучи достать уже не могли.
Николай уже приторочил к лыжам-волокушам оленя, особенно долго провозившись с рогами, пока не догадался заломить голову, запетляв бечевой отростки и притянув их к задним ногам — голова оленя улеглась на живот, и ни одна ветка рога не цеплялись теперь за снег. Даже если где и провалятся лыжи-волокуши, все равно рога не станут плугом, лишь почиркают снег самыми разлапистыми отростками. Но это — не беда. Главное, дело сделано. Можно, перекурив, трогаться тихо и мирно.
И тут только он понял, что не получится ни тихо, ни мирно, он даже ругнул себя за неспешность после выстрела; все можно было бы сделать быстрее, если захотеть, кровь убрать только лишь у лизунца, попроворней прикрепив оленя к лыжам-волокушам — много прошагал бы он уже по лыжне к дому. Увы, упущенного не вернешь. Остается одно — поспешать.
Не верно. И покурить бы нужно было, и, что самое главное, подкрепиться. Был у него в кармане и хлеб с маслом, и кусок отварной лосятины, и сахар… Забыл он об этом. И вообще не мешало бы подождать, чем все закончится, приглядеться после начала пурги, а уж потом определить, что дальше предпринимать. Нет, неразумно поступил Николай, торопясь домой. Очень неразумно. Только что с него возьмешь, не знал он еще, какой силы бывают здесь бураны.
Пурга налетела как раз в то время, когда Николай Шиленко пересекал первую от Корги поляну. Кошмар какой-то. И случился он моментально. Ничего вокруг не видно. Летит все в диком водовороте. Сплошная белизна везде. Словно стена непрошибаемая. И летит она сумасшедше, валит с ног, лезет за шиворот, за пазуху…
Остановился в растерянности Николай, давай поднимать капюшон, преодолевая сопротивление ветра, и застегивать куртку до самой верхней пуговицы — так они поступали там, на Памире, когда попадали в буран. Справился еле-еле. Затянул сколь можно туго шнурки капюшона, и снег, уже пробившийся к телу, быстро растаял, отчего стало неприятно-зябко, но новым снежинкам путь был уже перекрыт. Это успокаивало, степлится мокрота, компрессом даже станет.
«Вперед, Коля-Коля-Николаша! Вперед!»
Он шел уже не по лыжне, ее моментально замело, а скорее по интуиции, держа ветер на правом плече, откуда он налетел. И получилось у него все удачно. К опушке подошел всего в полуметре от лыжни. Здесь, под прикрытием деревьев, она еще сохранилась, ветер не успел ее замести, и Николай почти сразу же увидел ее. Обрадованный, бодро пошагал по ней вперед.
А лес гудел надрывным гулом, нагоняя тоску и страх. Усиливалась жуть одиночества еще и потому, что то справа, то слева врывался в монотонный гул пронзительный треск падающих деревьев.
Вторая поляна. Более широкая, оттого и ветру здесь больше простору. От лыжни даже закромочных бугорков не осталось, все белым-бело, все свистит и несется неведомо куда и зачем. Страшно. Но что делать, нужно идти.
«Бог не выдаст — свинья не съест…»
На авось не следовало бы ему надеяться. Обойти бы ему поляну по опушке до встречи с той, противоположной лыжней, но возникшая было мысль об этом сразу же была отвергнута: олень рогатый наверняка помешает, станет цепляться за валежины, коих по опушке выпирает из снега множество. Это он видал в прежние походы. Намучаешься, их преодолевая.
Даже не мелькнула благостная мысль сбросить с себя лямки, давившие перекрестно грудь.
Выбрел с оленем из-под защиты деревьев, постоял немного, твердо запоминая ветер, и пошагал вперед, оживленно, чтобы загодя выйти к противоположной опушке, чтобы почувствовать по времени, если вдруг закрутит ветер на поляне, собьет с курса.
Но то, что делал он ради своего успокоения, на всякий случай, ибо был уверен, что минует поляну благополучно, оказалось весьма кстати, ибо случилось то, что должно было случиться непременно: ветер ближе к середине поляны метался бесформенно, то хлестал колким снегом справа, то слева, то начинал подталкивать, хоть беги сломя голову, а то наоборот, упирался в грудь, не пуская сделать даже шагу вперед — в конце концов Николай Шиленко сбился с точного направления, запетлял, как и ветер, в шальном круговороте, не отдаляясь и не приближаясь к заветной таежной чащобе, пусть не у лыжни, пусть где угодно (не до жиру), только бы укрыться от этой дикой ведьмовской пляски.
Торопился Шиленко, понимая, что сбился, а это еще более сбивало его, и начиналось самое страшное в подобной обстановке, начиналось то, что люди называют паникой. Злая у нее биография, коварная. Николай Шиленко, служивший на Памире, где погода — не мед, знал это хорошо и боролся с паническим страхом всеми своими силами, но он был один-одинешинек, и силы его постепенно таяли. Как физические, так и духовные.
Однако именно то, что встречные порывы начали ставить Шиленко на колени, привело его в чувство. Теперь только он вспомнил о бутербродах и мясе, присел на мягкий олений живот, стряхнув с него снег и стараясь не обращать внимания на вихрившуюся вокруг него белую карусель, принялся уминать хлеб с маслом и мясо, время от времени заедая все это снегом.
Ему бы сахар перво-наперво пожевать, сразу бы его взбодрило, но он оставил его на потом, вдруг еще раз придется подкрепляться. Впрочем, это была вполне трезвая мысль, от которой вместе с боязнью перед неизвестной опасностью, какая его ждет впереди, пришло и полное успокоение.
«Ничего страшного не случилось. Выберусь. Должен выбраться!»
Передохнув, он упрямо пошагал вперед, таща за собой свою добычу. Шел и шел, то пробивая упругую белизну грудью, то тараня боками, то, как парусник, скользя по снежной глади, а леса все не было и не было. Вот уже вновь паника начала давать о себе знать. И вновь приходилось бороться не только с метелью, но и с душевными вихрями.
И кто бы праздновал победу, предсказать было уже трудно, почти невозможно. Шиленко заметно сдавал, но именно в это самое время, когда иссякли его последние силы, он начал чувствовать, что ветер подул постоянный, все больше в спину, а с каждым шагом постоянность та становилась все ощутимей и ощутимей.
«Ура! — возликовал Николай. — Ура!»
Он прибавил шагу, вполне понимая, что миновал середину поляны, что опушка уже где-то недалеко, но понял он и то, что не к лыжне он выходит (тогда бы ветер бил в бок), однако не стал менять направления, тем более, что по ветру идти было легко, а для него сейчас факт этот имел весьма существенное значение. Сил-то оставалось всего ничего. Кот наплакал.
Едва не наткнулся он на первые стволы, и радостная успокоенность расслабила пружину, державшую душевные силы хотя и на пределе возможности, но все же на взводе. Приткнулся он беспомощно к толстому стволу, ноги мелко дрожат, сил нет даже шагу шагнуть, чтобы укрыться меж деревьев от хлестающего в спину ветра. Так бы и рухнул в мягкий снег, как в перинную постель, запомнившуюся с детства.
Вот тут и сахару черед подошел. Разжевал один кусочек, второй, да третий, полизал, подхватив пригоршню, снег, еще похрустел сахаром, и заметно начала отступать безвольная вялость, ноги и руки перестали неприятно дрожать и казаться лишними.
«Что? Вперед?»
Но с этим самым «вперед» он вновь опростоволосился. Нужно бы, держась лишь опушки, идти на поиски лыжни все же по поляне. Пусть ветер здесь сильный, но зато чисто, нет бурелома, нет сплошных завалов, какие так часты у опушек таежных полян — он вроде бы знал это, но желание укрыться от донельзя надоевшего ветродуя пересилило, и Николай попер через ерник, здесь не очень густой и широкий.
Был еще второй толковый вариант — уйти подальше от опушки, но Николай побоялся сделать это, ибо вполне, как он считал, можно сбиться с пути, а тайга — не поляна, у нее нет ни конца, ни края.
«Ничего, проскребусь и здесь».
Наивность бесподобная. Первый десяток шагов, и огромная лесина с растопыренными цеплячими ветками, сухими и жесткими, встала на пути. Пошел вокруг. И тут же уперся в новую вековую сосну, свалившуюся наверняка от старости и заполнившую собой изрядный кусок леса. Между ветвями сосны, высохшими до костяной твердости, уже пробивались новые сосенки. Обошел старушку, снова напоролся на лесину, такую же раскоряченную — в общем, минут через пятнадцать — двадцать он так запутался в буреломе, что уже не знал, как из него выбраться. Непосильным казалось ему даже возвращение по своему же следу. Он остановился передохнуть и, возможно, присмотреть более легкий путь из лабиринта торчавших из снега стволов и сучьев, но тут одна из сосен крякнула жалобно и начала крениться, прямо, как показалось Николаю, на него — он согнулся в три погибели, стараясь укрыться за толстым стволом, у которого остановился, и это его спасло. Его только хлестнуло по спине колючей лапой, а основной удар пришелся на ствол, который даже зазвенел от натуги.
«Еще не хватало! Давай-ка, Коля-Николай, руки в ноги…»
Руки его невольно потянулись к лямкам, чтобы сбросить их и оставить оленя, который стал уже великой обузой в этом девственном хаосе жизни и смерти, но усилием воли остановил он самоуправство рук, развернулся, протискиваясь сквозь мягкие, живые еще ветви, пошагал, придерживаясь точно прежнего своего следа, то и дело освобождая от зацепов волокушу с оленем.
В это самое время ему на помощь вышел от лесосеки Иван Богусловский. Гневный. Решительный.
Пурга для Ивана, как и для всех оказалась неожиданной. Только он, спилив очередное дерево, дал задний ход, она — тут как тут. Ударила хлестко, и Иван даже почувствовал, как напряглись захваты, из последних сил сопротивляясь упругой волне — он моментально сообразил разжать клешни, предоставив дереву падать, куда ему заблагорассудится, сам же продолжал отползать подальше от стены сосен. Нет, он не предвидел, что крайние сосны, потерявшие соседей, не так крепки теперь корнями и начнут падать — он не знал этого, он просто отползал, не давая себе в том отчета, пока еще не врубившийся в суть случившейся перемены. Действия его, однако же, оказались как нельзя кстати — первая упавшая сосна достала вершиной только хобот, но удар получился ощутимый, отразившийся судорожной дрожью по всей машине.
«Не погнуло ли захваты?!»
Когда отпятился достаточно, выпрыгнул из кабины и — едва устоял на ногах. Враз расхотелось ощупывать захваты (чем теперь поможешь, если погнуты?), но ради душевного спокойствия, чтобы совесть была чиста, пробился все же к раззявленным клешням и тщательно их осмотрел.
Вроде бы все в норме. Спокойно теперь можно идти домой. Только куда идти? Все белым-бело. Будто какая-то сила тянет с неимоверной скоростью сотканное небом плотное полотно. Белое-белое. Ни увидеть сквозь него ничего нельзя, ни пробиться.
«Придется ждать».
Не очень-то приятно сидеть в кабине, где свистят щели, где холодеет с каждой минутой, только другого ничего не придумаешь. Остается одно: ждать. Не бесконечно же это летящее куда-то полотно. Иссякнет. А уж поредеть, обязательно поредеет. Просвистит заряд и — развиднеется.
В принципе он был прав, хотя северные снежные заряды куда мощнее памирских и, особенно, подмосковных, не минуты они могут лететь, а часы, но все равно, конец им приходит. Только нужно ждать. По-северному терпеливо.
Прошло около часа, и только тогда стали появляться просветы в пелене. Поначалу совсем куцые, едва уловимые, затем все заметнее и заметнее — устали неведомые небесные ткачи, явно начали лениться. Что ж, можно подумать и о возвращении домой. Не век же здесь зябнуть. Но если говорить откровенно, не очень решительными были его намерения, побаивался он этой слепящей круговерти. Это когда солнце, то до базы — рукой подать, а в такую непогоду путь может растянуться на долгое время.
Пока он собирался с духом, оправдывая всячески свою робость, в одно из просветлений увидел Иван лыжника, устало передвигавшего ногами. Держал курс тот лыжник прямо на лесорубочную машину.
«Коля? Гузов?»
Заряд вновь заполнил все окрест, будто отсек лыжника от лесорубки, но на этот раз просветлело скоро, и теперь Иван точно разглядел, что к нему шагал Гузов, а не Николай Шиленко.
О Николае Богусловский уже вспоминал, но не особенно волнуясь за него. Думал, что вероятней всего пурга застала того у лизунца, там он ее и переждет. Еду, вроде бы, взял, а в полусрубе даже при пурге можно костерок развести, свежатинки поджарить на углях. Особенно хороша печень на углях. Даже без соли. Костромин любил полакомиться сам и попотчевать его, Ивана, свежей печенью. Жарил ее, наверняка, и когда ходил на охоту с Николаем, знает, значит, тот что к чему. И даже то, что Гузов вышел из тайги, а Николай нет, не изменило мнение Ивана, он так и продолжал считать, что Шиленко пережидает метель в укромном затишке, однако же, с первых фраз он понял, что в тайге все шло не по его, себе внушенному сценарию.
«— Что не переждал?» — спросил Гузова Иван, впуская его в кабину и освобождая побольше места.
«— По-твоему что, я чокнутый? Или туман какой? Задует теперь ой-ой…»
«— Что, надолго? А Коля не знает и останется пережидать».
«— Идет твой Коля. Идет».
«— Видел, что ли?!»
«— Следы видел. У второй поляны. Гляжу — попер прямиком. И добычу не оставил, туман безмозглый. Я-то рюкзак у лыжни на сук повесимши пошагал в обход, по опушке…»
«— Тогда он впереди тебя должен бы быть?»
«— Должен, да не обязан. Не видел я следов его на выходе. Нет их. Завертелся на поляне».
«— И ты ушел?! Не помог?!»
«— Разве он зек, а я метелка? Не сбежит. Приконает… Мне-то чего ради сопли морозить?»
«— Какой же ты!» — бросил гневно в лицо Гузову Иван, выпрыгнул из кабины и, даже не спросив, хозяина, надел лыжи.
Он бежал, держась опушки, продолжая злой диалог с равнодушным эгоистом, стирая в этом споре его в порошок. А ветер подхлестывал его в спину.
Умерить бы ему пыл, поразмыслить трезво, наверняка повернул бы обратно, к бригаде, и уже оттуда, вместе с Костроминым, Пришлым и еще несколькими ребятами, кому нашлись бы лыжи, направился бы на выручку Николая. Еды бы захватили с собой побольше, да и сами бы перед выходом подзаправились. Экипировались бы как следует. А так, ни ружья, ни топора, даже ни ножа, а в кармане ни крошки съестного. Обессилеть можно через часок-другой. Вовсе обезножить.
Нет, не разум руководил Иваном в этот момент, а эмоции. Душевный порыв. Чувство товарищеского долга толкало его вперед.
Место сворота в тайгу Иван нашел сравнительно легко. Он ходил на охоту чаще Николая Шиленко и дорогу знал лучше того, поэтому сомнения не одолевали Ивана. Почувствовал, что сворот где-то близко и умерил бег. Затем, подражая Гузову, стал даже останавливаться и пережидать заряды. Двигался лишь тогда, когда немного светлело. Поэтому и не проскочил креста из свалившихся друг на друга лесин, ставших ориентиром для охотников. Здесь они поворачивали в лесную глухоту.
Ветер, прошмыгивающий поначалу меж деревьев, остался наконец где-то там, над деревьями, но недовольный этим бешено трепал вершины. Особенно доставалось тем деревьям, которые вымахали выше всех, которые возвысились над остальными своими собратьями. Трещали такие вершины, обламывались, а то и сами деревья не выдерживали, валились, обламывая и свои могучие ветви, и попадавшие по пути соседние деревья. Не за что страдали, ибо не были столь мощны и не высовывались над общим уровнем, чтобы купно противостоять лихому напору частых здесь ветров — да, в тайге, как и в среде людской, действовал закон газонной косилки, и если здесь усекался выдающийся, то, как и у людей, страдали те, кто рядом. Безвинно страдали.
Поначалу ни гул тайги, пугающий своей мощностью и непрерывностью, ни треск падающих деревьев, резким диссонансом врывающийся в бушующую монотонность, почти совсем не трогали Ивана Богусловского, разгул природы происходил где-то там, вне его восприятия, а он продолжал спорить с Гузовым, спорить сердито, принципиально, спорить о человечности; но, и это естественно, долго такое состояние не могло продолжаться, реальность окружающего шаг за шагом начинала восприниматься все более зримо, и особенно отрезвила Ивана хлестнувшая почти перед носом по лыжне вершина сосны.
«Эка, силища!.. Придавит еще…»
Он стал внимательней, осторожней, реагировал теперь на скрип, который вдруг врывался в монотонный, тоскливый гул. Но скорость хода старался не сбавлять, ибо от той уверенности, что Николаю Шиленко ничто не грозит, у Ивана ничего на осталось, и он то видел Николая обессиленным и занесенным снегом где-то посредине поляны, то задыхающимся под тяжестью навалившейся на него сосны — теперь им все больше овладевала мысль, что Николай попал в беду, и спешил к нему на помощь.
Шиленко и впрямь нуждался в помощи. От сосны он, правда, удачно уберегся, поляну, как известно, он пересек, но найти лыжню он никак не мог. Ветер, дувший поначалу в лицо, когда он выбрался из бурелома на опушку, начал уже бить в левое плечо, и, значит, он оказался уже в том месте, где поляна закругляется, значит, идет он уже обратно туда, где лыжня выходит на поляну, и надо поэтому поворачивать обратно. Он сделал это и поскользил, теперь сравнительно легко, подстегиваемый тугими ударами ветра. Вроде бы внимательно вглядывался, а надо же, снова проскочил лыжню и оказался в другом конце поляны. Почувствовал это потому, что ветер постепенно менял направление (как загибалась поляна) и стал снова бить в левое плечо.
Развернулся, досадуя на себя, Николай и попер, прошибая головой встречное упрямство. Вперед и вперед. А силы, между тем, у него заметно таяли. Паническая тоска леденила сердце, хотя, вроде бы, страха не было. Но Николай даже не замечал, что временами метель редеет и становится видно на десяток, а то и больше метров вокруг, ему бы воспользоваться этим благодатным подарком, но он пер и пер вперед, не поднимая головы. Зачем и куда? Он уже не отдавал себе в том отчета.
В это самое время поднялась тревога в бригадном стане. Там совсем недавно закончили уборку и крепежку того, что еще не разметало метелью. Хоть и считал бригадир, что быстро они управятся, когда начнется ветер, и не принял поэтому никаких мер заранее, но все вышло не по-бригадирски. Получилось по известной народной пословице: скупой платит дважды, лентяй дважды переделывает. В конце концов все надежно упрятали и упаковали и, держась кучкой, добрались до столовой. И вот тогда первым забеспокоился бригадир.
— Шиленко там как один? Если на месте застала, ничего, а если в пути?
Пошел к Пришлому в новый бригадный дом. Там работа шла полным ходом, ибо Пришлый предусмотрительно велел ребятам-помощникам натаскать побольше глины, воды и кирпича, чтобы полностью хватило на печь, и теперь, насвистывая какой-то мотивчик, подбирался кладкой к потолку.
— На чердак только выведем, а там — остановка. Ничего не поделаешь, ничего не попишешь, — встретил он бригадира своеобразным докладом. Потом успокоил: — По пурге, думаю, и управляющий не пожалует. А стихнет как, мигом управимся.
— Это хорошо, Павел Павлович. Это — хорошо. Только я о Николае Шиленко…
— Сказывал же тебе Онуфрич, чтоб остерегся посылать. Сейчас-то что, сейчас перегодить нужно. Не бежать же, сломя голову. Найдет затишок, думаю. От соски давно отнятый… Повременить надо, повременить. Завтра, должно, поутихнет чуток, и если не возвернется, вот тогда уж…
Спокойное это «тогда уж…» никак не успокоило Алешу Турченко, но он сделал вид, что вполне разделяет сказанное Пришлым и не паникует попусту. А что ему оставалось делать? Тайги он не знал, как и вся остальная бригада, лыж у них не было, поэтому волнуйся или не волнуйся, а мириться с обстоятельствами— мирись. Не липнуть же ему, бригадиру, назойливой мухой к много прожившему здесь человеку и потому знающему, что делать и как поступать.
Так бы, возможно, и потянулся вьюжный день в ничегонеделании, не появись в столовой Гузов. Весь в снегу. Чуточку лишь отряхнувшийся у порога. Прошагал прямиком к раздаче и крикнул в окошечко:
— Двойной давай! Чего бычишься?! Не халявная пайка, хрусты без зажима отваливаю.
Принял, оскорбленный неприветливостью и непониманием повара, наполненную до краев алюминиевую миску, более подходящую для коллективного стола, и принялся шумно хлебать наваристые клецки, не забывая набивать рот и хлебом.
Порасспросить бы его, как там, в тайге, только не очень удобно: вон как проголодался. Пусть немного утолит жадность, тогда… И все же бригадир не вытерпел. Подошел к Гузову как раз тогда, когда тот получил взамен пустой миски полную, с макаронами по-флотски.
— Ну, как там, в лесу, свистит? — спросил заискивающе.
— Сшастай, узнаешь, — пробубнил в ответ Гузов, не прекращая жевать очередную порцию макарон. Но проглотивши, не отправил в рот новой порции, зачерпнул лишь ложкой побольше макарон и задержал на весу, чтоб поближе, чтоб, высказавшись, тут же продолжить приятное во всех отношениях жевание: — Ты не темни, бригадир. Не зуботыка ты, чтоб душу мотать, а мне зачем держать стойку. Видел вашего… Видел. Не его самого, следы. В поляну вошел, а из нее не выскребен.
— Как не выскребен?!
— Не дрейфь, болотин там нет. И не велика — версту в ширину, а в длину — версты полторы, не более. Куда денется.
— И не остался помочь?!
— Мне что, жить надоело! Надо тебе — хеляй. Иван-то ваш похелял уже.
— Разобрался, что ты подонок, но чтоб до такой степени!
Взметнулся Гузов, взбугрился весь, готовый броситься на оскорбившего, но осадил себя: слишком много парней стояло за спиной бригадира. Иные даже стали заходить справа и слева. Нет, не время. Но не просто отступился. Не мог не предупредить:
— Припомню я тебе! Умоешься красными соплями!
Только Алексей уже не слышал этой угрозы, он спешил к Пришлому, пересказать тому разговор с Гузовым.
— Эка, несмышленыш, — осудил Николая Пришлый. — Чего сломя голову бежать? Иль дома мал-мала меньше с голодухи пухнут. А Иван-то чего побег? Топора, небось, даже не взял. Ни ружья. Дети, вы и есть — дети! Теперь что, теперь, значит, собираться надо. У меня две пары лыжин, у Онуфрича тоже две. Ивановы тоже возьмем. Троих, выходит, выделяй, бригадир. Покрепче на ногу.
— Ясно. Я и сам пойду.
Костромин, к которому они было направились, встретился им сразу же, почти у крыльца. Довольный поспешал, словно не мела-свистела метель, а теплый ветерок ласкал его, разгоряченного, после только что оконченной трудной, но удачной работы.
— Готово, бригадир. Испробовали. Ловко все! Утихнет метель, сразу можно и ставить.
— Хорошо. А мы вот предлагаем идти Николаю на помощь…
— Чего это ему помогать? Едушка есть? Есть. Перегодить непогоду найдет в тайге закуток. Спички, думаю, тоже есть.
— Гузов говорит, сбился он с пути. На поляне.
— Вот, недолга. И впрямь нужда идти.
Они вышли через четверть часа. Как раз в тот момент, когда Иван Богусловский вначале попал в ловушку, а потом и вовсе прихлопнуло его сосной. Едва он уклонился от смертельного удара.
Поляну с трехствольчатой березой он миновал без сбоя. Переждал заряд и — к березе. Возле нее тоже подождал просвета, чтобы уж наверняка пересечь открытое место и выйти точно к лыжне. Поляна небольшая, но ветер заветривал все же лихо, лыжню перемело, а в нескольких местах, на опушке, повалило уже деревья. Правда, в сторонке от лыжни, никакие отвороты поэтому не нужны. Это прекрасно. Держи только верный курс…
И все же метров на десяток Иван Богусловский скосил. Пришлось находить лыжню, зайдя чуть-чуть вглубь, чтобы и бурелом не особенно мешал, и лыжню можно было поскорее увидеть. Верно все сделал и нашел лыжню довольно быстро, но именно те минуты, которые он потерял, и сыграли с ним злую шутку. Печальным оказалось и то, что он позволил себе расслабиться, передохнуть чуточку, когда вышел к цели.
Потому что снова загудел грозно новый заряд, замотались неприкаянно вершины деревьев, то пригибаясь, то вновь упрямо вскидываясь, но одна сосна, высокая и старая, не осилила ветра, повалилась, крякнув сокрушенно. Вначале медленно, затем все стремительней, ломая и свои сучья, и соседские, живые, попадавшиеся на пути — Иван попятился, чтобы от греха подальше, с досадой на вдруг возникшую потребность обходить свалившееся дерево. Глядел уже в сторону комля и вершины.
«Где удобней? Там или там?»
Не успел он еще определиться, как услышал, что еще одно дерево сразу же за спиной, начало падать. Оглянулся и ужаснулся: сосна валилась не поперек лыжни, как первая, а наискосок, и он, Иван, оказывался на том самом месте, куда она валилась. На какой-то миг он оцепенел, но потом рванулся вперед и, упав, притиснулся как можно ближе к стволу только что упавшей сосны. Начал даже разгребать снег, чтобы хоть голову спрятать под защиту толстого ствола, но не успел — его хлестнуло по плечу и боку, вмяло в снег, и он потерял сознание.
Очнулся он от того, что ноге, той самой, исполосованной операцией, стало нестерпимо больно. Он застонал и тут же услышал радостный выкрик бригадира.
— Живой! Вон там он!
И в ответ — упрек Пришлого:
— Дуром не лезь. На ствол не становись, вдруг он им придавленный.
Застучали топоры, резво и торопливо. Но тут же новое наставление Пришлого:
— Нижние не руби. Не давай стволу оседать.
Чтобы вывести спасателей из затруднения, Иван напряг все силы и, стараясь как можно громче, сообщил о себе:
— Я здесь. Ствол левее меня.
— Тогда не трожь левую сторону, — распорядился Пришлый. — Руби только правую.
Они чуть было не обошли свежий завал. Увидели свежий след у выхода с поляны и уверенные, что прошел Иван здесь до того, как метель набедокурила, приняли вправо. Но… дальше на лыжне следов не было видно.
«— Неужто завалило?!»
Это Костромин высказал общую тревогу. Затем распорядился:
«— Давай, обратно».
А когда начали они вглядываться в зелено-колючую плотность, а бригадир влез на ствол, чтобы пройти по нему подальше к вершине, где самая густота веток, — вот тогда и застонал Иван от боли. Облегчение он почувствовал сразу же, как Алексей спрыгнул со ствола, и тогда только мог подать голос. Потом Иван пытался пошевелить руками и ногами, превозмогая боль, когда она возникала. Все, как ему показалось, цело. Переломов нет, есть только ушибы. Ну, возможно, трещины. По плечу, как он попал, пришелся скользящий удар. Чуть бы полевее — все бы размозжило. А сейчас он между двух веток. Как в тисках.
С ногами и того проще, одна, здоровая, вовсе свободна, а вот больной все же досталось — вмята она в снег, придавлена веткой, не вытащишь, да и силы нет на это — очень уж болит, когда шевелишь ею. Не раздавлена — это факт, однако же, прилично помята. Как бы вновь гангрена не вспыхнула. И все же, рад Иван до смерти, что жив. Ликует:
«Судьба!»
Но самое главное, за что благодарил он судьбу, что не дала она ему времени подсунуть под ствол голову: все, что успел он подрыть под стволом, плотно им придавлено. Расплющило бы голову. Или отсекло, как да гильотине…
— Держись, Ванюша, — подбадривал Ивана Алексей Турченко. — Мы — мигом.
И верно, рубили в три топора споро, только когда уже казалось Ивану, что вот-вот конец страшному плену, услышал он приказ Костромина:
— А ну, давай все в сторону. Бригадир, вагу на всякий случай сруби. Потолще.
Верно поступал Костромин, осторожничая. Как-никак, а ствол держался на ветках. Какие-то из них переломились, но большинство лишь согнулось, и теперь они, словно мощные стальные пружины, чуть не так что-либо сделай, сруби что-нибудь лишнее в спешке и как они себя, эти пружины, поведут, совсем не ясно. Вот отчего Костромин долго изучал положение ветвей, прежде чем махнуть топором. Очень боялся повредить Богусловскому-пленнику. Он даже оттаскивать ветви позволял лишь после того, как отсекал все веточки, сцепленные с соседней веткой, еще не отрубленной.
Долго ли скоро, а дошла очередь до той ветки, которая терзала ногу Ивана. Присел Костромин, пощупал и ногу, и снег вокруг, потом повелел ожидавшим приказа ребятам:
— Подваживай.
Легко сказать, а как сделать. Конец слеги утопает в снегу, и все усилия оказываются тщетными. Но нужда заставит изворотиться, если ты и в самом деле хочешь вызволить товарища из беды. Уложили крест-накрест все отрубленные от сосны лапы, получилась приличная опора. Подалась она, правда, немного, уплотняясь и снег уплотняя, потом уперлась. Тогда уж одно осталось — плечи под вагу и:
— Раз-два — взяли!
Вызволил Иван ногу, и от приятной легкости даже голова закружилась. Теперь можно полегонечку выползать из-под соснового ствола, пятясь, как раки. Только бы чуть-чуть развернуться, чтобы бочком вытиснуться меж сучков-зажимов. Но только Иван пошевелился, как тут же Костромин крикнул:
— Лежи! Жить надоело?! — и к ребятам: — Вагу держать! Не ослаблять!
И принялся подрубать сук, зажимавший Ивана справа. Как раз тот, который ударил по плечу и особенно больно продолжал на него давить. Каждый удар топора отдавался резкой болью в плече, но Иван сцепил зубы, чтобы не стонать.
«Скорей! Скорей из плена!»
Щепки гулко шлепались на капюшон, иногда попадали даже на лицо, но это были радостные шлепки, ибо близился миг свободы. Глаза лишь нужно прикрыть, чтоб не засорить их.
— Как же это тебя угораздило? — спросил Костромин Богусловского, помогая ему подняться. — Раззявничать в тайге нельзя…
И тут, немного левей их, затрещала, крякнув, сосна, взвихривая снег, который тут же подхватил ветер — Костромин вскинул голову и успокоился.
— Мимо.
И верно, метрах в пяти от них хлестнули ветви, а ветер понес треск ломающихся лап в таежную непроходимость, швыряя его о деревья, рассыпая на мелкие кусочки.
— Уходим подальше в лес. На лыжню, — и к Ивану: — Лыжи целые? Ну, слава богу, держись за меня.
Неимоверно ныло плечо, ломило ногу, но Иван пересилил себя. Хотел даже идти сам, без помощи Костромина, но тот только усмехнулся:
— Эка, герой, — потом построжился: — Говорят, висни, значит — висни.
Отошли поглубже в тайгу, где вероятность падения деревьев намного уменьшилась, и, к удивлению Ивана, Костромин не повел группу вперед, а распорядился:
— Доставай припасы. Чайку горяченького хлебнем, тогда подумаем как дальше быть.
Настолько это необычным показалось Богусловскому, который считал, что нужно спешить к Николаю Шиленко, ибо и тот, возможно, придавлен сосной, Иван даже попытался повлиять на Костромина:
— А если Коля Шиленко в опасности? Если придавлен?
— Не может быть, двоих одинаково не может. Такого еще не бывало, — потом добавил назидательно: — В тайге сила нужна. Без нее ты — пшик. А ты — не обедавший. Пей чай, жуй мясо. Вот еще сально кабанье. Все остальное — потом.
Выходит, ради него, Богусловского, эта остановка. Остальные все так, между делом, чайком термосным балуются. Им просто подфартило. Не успокоилась от этого душа, рвалась она вперед, протестовала против вот этого долгого, как ему казалось, стояния, он вовсе сейчас не думал о боли в ноге и плече, он рвался к действию. Перечить, однако, больше Костромину не стал. Только теперь торопливей отправлял в рот куски мяса и сала, чтобы хоть тем самым укоротить привал.
Только зря он спешил. Ему не определено было идти на поиски Николая. Приказ прозвучал непререкаемо:
— Значит, так. Бригадир, ты — Ивана на канат. И давай домой. Я провожу за поляну, а там — не собьетесь, — потом повернул голову к Пришлому. — Иди, Павлыч, с остальными. Я вскорости догоню.
Сколько раз благодарил Иван в душе Созонта Онуфриевича Костромина за то, что и покормил тот, и отправил домой. Уже на поляне, когда они повернули на основную лыжню, ветер встретил их колючей упругостью. Богусловский понял, что не ходок он на ветродуе. А Костромин будто погостил в Ивановых мыслях. Успокоил:
— В лесу потише будет. Полегче. А там, на поле, недалеко уж останется. Если уж невмоготу, у лесорубки остановитесь. Передохнете, отдышитесь. Только там не заплутайте. Заряд налетит — стойте; посветлеет — вперед.
Это уж Иван освоил. Да и Турченко разве несмышленыш. Уловил, небось, как сам Костромин вел группу.
Верно, в лесу идти стало намного легче, и Иван даже старался сам двигать лыжами, пересиливая боль, чтобы не совсем висеть на веревке, за которую тащил его Алексей Турченко, и это было весьма разумно, ибо Алексею просто необходимо было сохранить силы для того, голого участка их пути. Не мал он, ох, как не мал для связки, в которой один основательно помятый, едва сдерживающий стон от боли при каждом шаге, при каждом движении, и которая прет против встречного ветра. А он — немилосердный, от него не жди попустительства.
Тащил Турченко Ивана наперекор стихии во всю силу. А что ему оставалось делать? В тепло нужно поскорей. Посмотреть нужно, что повреждено у Ивана, помочь ему, если необходимость возникнет. Тут хочешь или нет, а напряжешься. И хорошо, что Иван помогает. Хоть малое, но облегчение.
С передышками идет связка. Но идет. Даже отказались они от отдыха на лесосеке, хоть и очень хотелось, пусть на самую малость, забраться в кабину, где нет этого пронизывающего насквозь ветра. Скорее в тепло. В барак скорее. И уж бог с ним, что он вонючий, укроет зато и обогреет.
Машинально шаркает лыжами Иван, уже не понимая, что и где болит — все отупело, все налилось свинцовой болью, а голова шумит не тише пурги. И чем ближе к бараку, тем тяжелее его шаг, тем больше приходится жилиться Алексею Турченко. Только и этого уже не понимает Богусловский, шаркает и шаркает бездумно, бесчувственно, а как увидел барачную стену, совершенно потерял контроль над собой. Иван просто рухнулся бы в снег, не тяни его, порожним мешком обвисшего, Алексей Турченко.
В барак Ивана внесли на руках. Бригадир же, хотя тоже валился с ног от усталости, не отошел от нар Ивана, пока того ребята не раздели. Он отвечает за здоровье рабочих бригады, ему решать, как дальше поступать, что предпринять…
— Аптечку давай! — бросил бригадир первое распоряжение, хотя еще не знал, нужна ли она.
Плечу, похоже, ничего не требуется. Чуть-чуть опухшее, с небольшим кровоподтеком, но без ссадин. И кости, вроде бы, когда щупаешь, целые. Ровней от этого стали мысли бригадира. Если и с ногой так же — отлежится без врачей. Скоро встанет в строй… Но то, что увидели ребята, стянувшие аккуратно с Ивана ватные штаны, обескуражило и напугало их: операционные шрамы налились синевой, а сама нога, тоже посиневшая, заметно опухла — никто не осмеливался пощупать, цела ли кость. Тихо-тихо стало. И вдруг:
— Вызывать нужно. Скорую.
Это сумничал подошедший к нарам Ивана Гузов.
— По телефончику брякнул и — вот она. Принимай белохалатного кудесника, — с нескрываемой злостью парировал Турченко.
— Ты бы раньше заботился, когда в тайге был! Если бы не оставил Николая…
— Не помирать же человеку. Так? Так, — подражая бригадиру, продолжал Гузов, словно не слыша его упрека. — Вызывать скорую надо.
— Как таких земля носит?!
— Я тебе объясню!..
Но он не успел исполнить своего намерения: двери распахнулись и вместе с воем ветра ввалились в барак спасатели. Первым перешагнул порог виновник переполоха — Николай Шиленко. И сразу к нарам. К Ивану Богусловскому. Следом за ним — Костромин. Сразу же ладонь ко лбу. И головой, покачал:
— Горит! Спасать нужно.
— Графскую сожительницу покличем, — ответил за Костромина Пришлый и без промедления вышел из барака.
Почти всех ребят удивила полная уверенность Павла Павловича в том, что экономка графа как раз то, что сейчас нужно Ивану, но никто не осмелился усомниться вслух. Молчали все. И бригадир, почувствовавший, что нужна отдушина, обратил взор на Николая Шиленко, стоявшего со скорбным видом у изголовья Ивана.
— Пошутил, выходит, леший? А, Коля? Обидел, выходит, ты его зазнайством.
Никак не отреагировал Николай. Не дошло до него, чего ради потянуло бригадира на шутку. Человеку вон как худо, а он… Алексей тогда с другого бока:
— Расскажи хоть, что случилось?
Николай вновь отмолчался. Будто глух и нем. И тогда за него ответил Костромин.
— Ничего не случилось. Обезножил. Бросить оленя, так нет — упрям. А нашли его быстро. Почти у лыжни сидел. На олене скуксился. Мы в цепь, значит, чтоб по опушке начать сперва проческу, а потом уж к центру крути сводить, а он — вот он. Сидит, голубчик. Ни рукой, ни ногой не может двинуть. Чайком погрели, подкормили и — все. Сам пошел. Даже добычу не хотел отдавать.
Вроде бы никто ни о чем не говорил, так вел себя Николай. Он, похоже, молился, глядя на Ивана: ради его, Николая, спасения чуть не погиб товарищ — лихая головушка. И что его еще ждет впереди? Все эти мятущиеся мысли свои он втиснул в твердо прозвучавшее требование:
— Алеша, бригадир, бульдозер нужно в районную больницу.
— Верно, бульдозер пробьется, — поддержал Николая Костромин. — Только, думаю, подождем давайте, что скажет экономка.
— Будет так, — подтвердил бригадир.
Экономку ждали недолго. Впорхнула телесами своими в барак стремительно и сразу — к нарам. По всему видно, собиралась без раздумий и спешно: натянула свитер поверх домашнего халата, накинула пуховую шаль на голову, ноги, вовсе без чулок, в валенки и — вперед. Будто не метель на дворе, а солнце весеннее, пригревающее.
Под перекрестными взглядами бригады вела экономка свою пухлую руку по уже изрядно вспухшему плечу Ивана, потом по совсем уже посиневшей ноге, даже нажала на кость, отчего Иван дернулся, застонав. Тогда она придавила ногу, теперь уже без мягкости, хватко и, стони не стони, прошлась сильными пальцами по всей голени и только после этого, вздохнув облегченно, вынесла судный приговор:
— Не вдруг, но на ноги поставлю.
Упаковала сноровисто Ивана в спальник, затем потребовала:
— Давай еще одно одеяло. Не все сразу. Одно нужно. Какое потеплей, вот это давай.
Бригадир кивнул двум ребятам, чтоб одевались нести Богусловского, но экономка легко подхватила внушительный сверток, будто новорожденного, и, уже держа Ивана у своей мягкой груди, определила условие:
— Платы не возьму. Чаю, сахара, крупы — на ваше усмотрение. И мяса. Ляжку лосиную дадите и — ладно будет. Только сразу. Сейчас же. Без обмана чтоб.
— Оленя я сейчас разделаю и принесу.
— Оленя? Вы же себе его добывали на новоселье, — чуть-чуть подумала, взвешивая совестливость своего решения, и согласилась — Давай оленя. После пурги еще добудете. А разделывать, я сама с руками. Волоки так.
— Ну, баба! — покачав головой, молвил бригадир Алеша Турченко. — Дает дрозда! Куда, как деловая.
— Баба как баба, — с будничным спокойствием осадил бригадира Костромин. — Ей жить надо. Еще и сожителя кормить. Да она и не зазря берет. Ивана вернет лучше огурчика нежинского. Если, конечно, его не переманят из коммунального барака в человеческий уют.
Уют — не то слово. Точнее, архиуют. Просторная деревянная кровать с высокими, инкрустированными спинками, но не с обычным стандартным матрасом кровать, какие принято делать на мебельных фабриках, а тоже с изюминкой: вместо пружин — резиновые ремни крест-накрест, отчего упругость и прямизна вечная, не выпрет бугром, как рассупонившаяся пружина. Да и на матрасе не сразу простынка, вначале положена приличной толщины перина из хорошо расчесанной оленьей шерсти, смешанной наполовину с пухом гусей и уток весеннего перелета. Не утонешь в мягкости, чрезмерно изнеживающей, но теплота и приятность буквально обволакивают. Возле кровати — тумбочка с лампой. Напротив — шифоньер, а у боковой стенки — журнальный столик и два кресла, чуть правее которых красуется этажерка с томами Сталина; лишь на ее нижней полке стоит десяток книг, авторы которых носят гордое имя лауреатов Сталинской премии — вся мебель в одном стиле, сработанная краснодеревщиком из белой березы и инкрустированная мельхиором, дубом, карельской березой. Здесь все было удивительно гармонично. Даже в доме Богусловских, не бедной в общем-то семьи и не лишенной вкуса, такого не могли себе позволить, их гостиная, которую старались особенно обставить, бледнела по сравнению с этой роскошью. Что же касается комнаты Ивана, то она была очень скромной, без малейших претензий на помпезность. Дорогой была лишь картина, висевшая напротив кушетки…
В общем, когда Иван пришел в себя, он долго и с восхищением разглядывал комнату, в которую занесло его не по доброй воле, и начинал понимать обиду графа на его, Ивана, отказ переселиться в эту светлую теплоту.
Вошла экономка. Энергично-сосредоточенная. В руках бутылочки с темной жидкостью и стакан, наполовину наполненный чем-то пахучим. Комната сразу же наводнилась хвойной терпкостью, перемешанной с ароматом весенней цветущей поляны, а через все это пробивалось, отвращая приятность, запах застарелой гнили. Поставила экономна бутылочки и стакан на тумбочку, сама сразу же ладонь ко лбу. И обрадовано:
— Слава богу. Жар спал…
Откинула мягкий байковый, в крупную клетку, плед и принялась распаковывать ноющую ногу, шурша пергаментом. Многослоен кокон: вата, клеенка, вновь вата, а уж потом — бинт, темно-коричневый от впитавшейся мази и пахнущий ворванью. Каждое шевеление отдается болью, но Богусловский, пересиливая ее, спрашивает:
— Не знаете, с Николаем ничего не случилось?
— Жив. Отыскали. Оленя, свою добычу, тебе на выздоровление пожертвовал. А ну-ка приподними голову. Гляди. Видишь, синюшность сходит. — Прошлась нежно по шрамам. — Больно?
— Нет.
Сильней надавила. Тут, как говорится, только терпи. Боль слезу вышибает. А толстые пальцы с железной твердостью продолжают мять и мять ногу.
— Цела кость, даже трещины нету, — молвила наконец экономка, заканчивая экзекуцию. — Через неделю хоть пляши.
Затем она старательно втирала в ногу жирную, трудно пахнущую жидкость, но делала это совершенно не больно, отчего приятное спокойствие разливалось по всему телу.
Укутав ногу, принялась за плечо. Тут все сложней и намного больней. Опухоль не начала даже спадать. Краснота, правда, чуть-чуть убавилась, и жар немного спал, и это обрадовало экономку. Верное, значит, лекарство, пройдет суставный ушиб не сразу (сустав есть сустав), но обязательно, как ей уже виделось, пройдет. Она так и сказала:
— Все заживет до свадьбы. Испей-ка настойки и сосни. Сон врачует лучше всяких мазей.
О каком сне речь, когда он вот только что взбодрился. Сколько времени он был вышиблен из седла, теперь самый раз порадоваться, что все обошлось не так уж и плохо, что жизнь продолжается; самый раз все вспомнить бы и осмыслить свои действия. Разве до сна, когда душа полна тихой радости, а мыслям есть пища для анализа?
Увы, он даже не заметил, как уснул. Он даже не услышал, как входили в комнату, с лампой уже, экономка и граф и советовались, не подежурить ли у больного поочередно. Победила уверенность экономки.
— До утра без просыпу проспит. Жара нет. Чего сидеть, в потолок пялиться. Она оказалась правой, пробился уже свет, мутно-серый, сквозь метельную гущину, а Богусловский все еще не просыпался. И много тому набиралось причин. Очень устал Иван Богусловский, даже не замечая того в ежедневной круговерти, которая брала и физические, и духовные силы почти без остатка. Так устал, что не осилил выпавшего на долю испытания — отключился, потерял чувство реальности, а уж когда вышло облегчение, да еще выпил настойки травной, совсем расслабился. Не просыпался еще и от удобства. Не жесткие нары под тобой, не спальником опеленован, не в вони задыхаешься — чего еще для покоя надо. Мягко, тепло, тихо. Окно с подветренной стороны, сюда метель только завихривает космы снежные, а стены дома специально сделаны из толстущих бревен, чтобы никакой метельный вой не пробивался бы в комнаты.
Будить Ивана пришли и граф, и его экономка. Она, как бывало мать, погладила по голове, подержала ладонь на лбу и сказала по-матерински нежно:
— Завтракать пора, Ванюша.
А когда Иван открыл глаза, граф, словно извиняясь за него перед экономкой, объяснил столь долгий и крепкий сон так:
— Я тоже после барака не мог выспаться. Помнишь?
Ничего вроде бы особенного в этих словах, но именно они явились началом долгого разговора совершенно разных по убеждению людей, в котором, и это вполне естественно, верх брали жизненный опыт, лучшее знание истории и умение соотносить факты и события, перемежать теорию с практикой жизни — побеждала, как всегда это зовется в народе, стариковская мудрость. Хотя и упрямство, свойственное молодости, не вдруг вскидывало руки…
— Надеюсь, милостивый государь, вам есть что сравнивать: вонючий барак коммуны и удобство моего дома, — продолжил граф начатый у кровати разговор, когда завтрак подходил уже к концу и экономка, расставившая варенье, принялась разливать чай.
— У нас готов дом.
— Дом? Барачное общежитие. Темные кельи. Ради чего аскетизм?
— Вы не правы, — у него чуть не вырвалось «товарищ граф» и он даже улыбнулся, — оценивая коммунистический быт. В коммуне — легче. Жизненные невзгоды — на всех. Забот меньше. Вольней живется… Я вполне уверен, что дружная коммуна — идеал человеческого бытия. А от коммуны-ячейки до коммуны-государства шаг не велик. Не просто же так Никита Сергеевич заявил, что наше поколение будет жить при коммунизме.
— Еще один пророк. Этот, правда, пустозвонный. Не чета тем, первым. Пустомельство сегодняшнего — ползла. Не зло даже в том, что меняется лозунг без смены образа жизни. Зло едино осталось в прежних философских построениях, — вздохнул, словно великое горе грызло его душу, и спросил: — Библию, милостивый государь, читали? Не всю? Осудительно подобное. Весьма поучительная штука. Весьма. А как с историей христианства. Знакомы? В общих чертах? Весьма осудительно. Умозаключаю на этой основе, что вы, комсомолец, и Маркса с Лениным знаете лишь в общих чертах. «Общие черты», милостивый государь, не пища два глубокого осмысления жизненных явлений. И заметьте, милостивый государь, пошло это «в общих чертах» от первых ваших идеологов, от первых вождей.
— Почему «ваших»? Вы же русский. Значит и вы — наш. Все мы в ответе за свою страну.
— Консолидация, явление отрадное. Весьма отрадное. И если возможно, если во благо общества, если с признанием той исторической вины перед Россией и той интеллигенции, какую вы зовете ленинской гвардией, и той, которая не сумела противопоставить им ничего путного, то надлежит всем честным россиянам, погибшим на ратных полях, поставить единый памятник. Чтобы он воплощал и зло, и добро, чтобы видно было в нем осуждение нечести и восхваление чести. Считал бы я тогда, что и мне он поставлен и обрел бы покой. Только сегодня, милостивый государь, подобная мысль покажется, если не всем, то доброй половине людей кощунством. Не подсуден мне завтрашний день, я не пророк, завтра, может быть, общество образумится, но сегодня я — не ваш. Сегодня я вечный поселенец, которому, слава богу, стали хоть один раз в году разрешать выезд за пределы ссылки. Даже в Петербург не закрыты двери. Впрочем, мы уходим от главного. Так вот, милостивый государь, я и ваших родоначальников знаю не «в общих чертах», и христианское вероисповедание тоже. Я утверждаю: те, кто созидал теорию единения в мировую коммуну либо знали историю христианства менее даже чем «в общих чертах», либо сильно заблуждались, либо, как бы помягче, щадя ваши, милостивый государь, комсомольские идеалы, лицемерили.
— Не слишком ли вольны и смелы ваши суждения?
— Я, милостивый государь, доживаю век. Я — вечный поселенец, и, следовательно, враг. Но враг потому, что действительно не приемлю ложь. Погодите, не пытайтесь перечить, ибо ничего кроме «в общих чертах» у вас не получится. Да, собственно говоря, я не переубеждаю вас. Я выкладываю лишь факты, а ваше дело принять их или отвергнуть. Если же, тешу себя надеждой, отпрыск славного российского рода займется настоящим самообразованием, не «в общих чертах» познает мир, будет весьма лестно. Так вот, нова ли мысль о коллективном бытие и коллективном труде? Нет, милостивый государь. Еще иерусалимские христиане пытались создать общество с единым сердцем и единой душой. Сошлись в коммуну, где никто ничего из имущества своего не называл своим, но все было у них общее. Каков конец, милостивый государь? Полнейший раздор. Евреи-эллинисты усмотрели, что более благ имеют евреи иерусалимские. Первый бунт утихомирился избранием дьяконов, семерых, чтобы блюли справедливость. Но власть, милостивый государь, есть власть, а деньги есть деньги. Каждый из семи повел дело в угоду себе, а единственного справедливца Стефана, кто выступал против их самовольства и алчности, побили каменьями. Он— первый христианский мученик. Тысячи подобных попыток коммунизации знает христианская история как древняя, так и средних веков, и совсем недавняя. Куда подевались левеллеры и копатели, где коммуны духоборцев и молокан? Или истинные христиане? Помнится, проходили они по моему департаменту как сютаевцы. Их проповеди более коммунистические, чем проповеди коммунистов: если не будет собственности, а все будет в общем пользовании, не будет тогда вражды. И скажите, милостивый государь, где их коммуна на началах любви? Задавили наглецы кротких, обогатились лодыри за счет трудолюбивых, но безответных. А разве не коммунистическую проповедь несли одесские и херсонские духовные христиане: если все станет общим, то право на пользование продуктами земли получит только тот, кто трудился на ней, обрабатывая ее — трудящийся да ест. Прочтите, милостивый государь, первый Декрет о земле, не поленитесь. Еще духовные христиане утверждали: люди должны разделиться на коммуны со специализацией труда и обмена натурой; богопротивная торговля прекратится, торгаши исчезнут, о деньгах останется одно только воспоминание. Проведите аналогию с вашими классиками, милостивый государь, не поленитесь. Даже неверные, магометане, значит, тоже имели не одну попытку. У них даже целое государство, махди, дай бог памяти, образовалось на основе коммунии. И грех вспоминать даже, чем там все кончилось. Закономерно, милостивый государь, лишь историческое бытие. Любое вмешательство — нелепо. Оно — зло. И если человечество в конце концов отмело мысль об общем, как пагубную, делящую людей на неимоверно богатеющих деспотов и на убогих, совершенно неимущих, для чего тогда вытаскивать гниль на свет божий. Я не приемлю этого, ибо это — ложь. Заведомая, если хотите, милостивый государь, ложь!
— Что ж, по-вашему, коммунизм — это апологетика неудавшихся начинаний христианства и мусульманства? Но если это так, отчего же церковь не поддержала того, о чем мечтали верующие от рождества Христова.
— Разные вещи, милостивый государь. Совершенно разные. Терпимо ли, когда тебя грабят, сдирают золотые и серебряные оклады, тащат иконы, гребут святые атрибуты и тут же плюют в лицо тебе: мракобесы, дескать, опий для народа!
— Да, порушено много. Что верно, то верно…
— Бог наказал святотатцев. Всех! Рукою деспота.
— Ого! Этак можно не знаю до чего договориться.
— До истины! До того, чтобы не принималась ложь совершенно. — И вновь вопрос: — Вы, милостивый государь, не знакомы хотя бы «в общих чертах» с «Революционным катехизисом»? Нет. Жаль. Весьма жаль. Я не могу, по старости своей, память слабеет, воспроизвести все до запятой, но есть там идеал революционера. Он — обреченный человек. У него нет ничего своего. Ни интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни имени. Все изнеживающие чувства родства, любовь, умение быть благодарным за добро — все это непременно обязано быть задавлено единою, холодною страстью к революционной борьбе. Ради этой цели революционер должен быть готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что несоразмеряется с его пониманием революционного дела. И эта, милостивый государь, ненависть к устойчивому человеческому бытию не нова. Аскетизм присущ христианству. Даже извращенный аскетизм. Вам не известна «дисциплина трупа» короля иезуитов Лойолы? Очень схожие по сути вещи. Однако, милостивый государь, есть одно очень существенное отличие: стать признанным авторитетом среди всех направлений христианского аскетизма мог лишь тот, кто сам истязал себя веригами, чей быт был организован максимально убого, и в этом — притягательный смысл; но стать признанным вождем революции — не значит стать суровым к себе. Достаточно умения вдохновлять массу, горячо ее призывать, а самому после митинга коротать досуг в шикарных дворцах, или их теперь называют дачами, построенных не на свои, как строили мы, дворяне, деньги. И в этом — отталкивающая ложь. Не всеми и не сразу она увидится, но что определенно увидится, я в этом совершенно уверен. Сладкозвучие, не подкрепленное действием, не может оставаться приятным вечно. Да, да, милостивый государь. Не пытайтесь возражать. Поверьте старику, я повидал жизнь.
А Иван и не возражал. Он был ошеломлен услышанным. Он, как и все его сверстники, естественней, с меньшей внутренней борьбой приняли право говорить то, что прежде, до разоблачения культа личности Сталина, считалось совершенно запретным и наказывалось концлагерями, ибо у них не было ни великого почитания вождя, ни сильной, как у старших, боязни быть увезенным ночью в машине НКВД; однако то, что сейчас он услышал, никак не укладывалось в его понимание общественного порядка и в полном смысле шокировало его. И это вполне объяснимо, ибо те годы, вроде бы дохнувшие свежестью, оставались еще затхлыми. Как воздух в их бараке. Не выветрилась еще сталинщина. Годы пройдут, многие годы, прежде чем обо всем заговорят не только недруги коммунистической идеологии и практики, но, и в первую очередь, друзья — заговорят во весь голос те, кому судьба свободной социалистической Отчизны не безразлична. Лишь через четверть века Иван Богусловский сможет без опаски судить обо всем, что сейчас услышал и еще услышит, с чем-то соглашаясь, что-то отрицая. Теперь же он воспринимал все то, что вываливал распалившийся граф с робкой подавленностью.
А граф продолжал:
— Против чего Маркс звал бороться, милостивый государь? Против эксплуатации и сверхэксплуатации, против присвоения капиталом так называемой прибавочной стоимости. И чего добились? Создали монополистический государственный капитализм, который еще более жаден. Стопроцентная прибыль его совершенно не устраивает. Он даже тысячепроцентной недоволен. И заметьте, милостивый государь, забрав себе весь доход, он из рабочих грошей еще вытягивает подоходный налог, утверждая при этом, что все в стране для блага человека. Разве это не ложь?! Ратники и те обложены налогом. Где подобное видано: человек жизнь поставил на карту ради Отечества, а оно…
И вновь, как ни искал Иван контраргументы, они не находились. Граф же продолжал наседать:
— Что вздыбило Россию? Лозунги. Да, да. Власть народу, земля крестьянам. Поделим, мать их так, капиталы миллионщиков, сколько каждому достанется?! Поделим поместья, каждый мужик получит громадный надел. Получили? Ни власти, ни земли…
— Извращение основ социализма Сталиным привело к подобному. Теперь-то все станет не так…
— Ой ли! Приглядитесь, милостивый государь, не к лозунгам, а к жизни. Власть партия узурпировала еще до Сталина, скрутив в бараний рог недовольных. Именем народа. Концлагери и так называемые лагери особого назначения появились задолго до Сталина. Чего стоит один Соловецкий лагерь. Туда упрятали цвет того, что осталось в России и приняло революцию. Заметьте, приняло. Вам не попадался журнал «СЛОН» или «Соловецкие острова»? Впрочем, о чем я спрашиваю. Мы о России знали больше, чем вы, жившие в самой России. Так вот, тот каторжниками издаваемый журнал поместил в первом номере определенную начальством суть ссылки: исправлять трудом, проводить опыты ведения культурного сельского хозяйства, воспитывать и просвещать… Какой цинизм! Хозяйство на Соловках испокон веку велось даже для России образцово, чего ж над ним изгаляться? А просвещать кого? Туда непросвещенных не отправляли. Один тот факт, что заключенные выпускали свой журнал, может заставить здравомыслящего человека серьезно поразмышлять. Сталин, милостивый государь, не начинал, а продолжал. До него «расказачивали», уничтожая народ, расстреливали поголовно офицеров, сдававшихся в плен, переходивших на сторону красных, хотя давали слово не преследовать, даровав свободу. Сталин высылал целые народы, использовав тот опыт, который тогда не полностью был воплощен…
Да, Иван как-то слышал подобное у себя дома. Гостили у них Заваровы, Игнат Семенович и Виктория Владимировна. Остановились на денек-другой перед отъездом в Крым, на море. Как раз в то время, когда у всех на устах было выступление Хрущева на съезде против культа личности Сталина, правда, еще с робостью, с оглядкой, но все же люди пытались понять, что породило сталинщину. Игнат Семенович доказывал одно: породила революция, породил лозунг беспощадности в борьбе с классовым врагом. Генерал Заваров сыпал фактами, проводил целые линии из единого процесса, как он говорил, гражданской войны, одна из которых осталась в памяти Ивана: Тухачевский, не считая жертв, подавляет тамбовское восстание, руководимое Антоновым, а сам становится жертвой Ворошилова, ибо тот председательствовал на суде; и никак Заваров не соглашался отделять одно от другого, уравнивая их одним понятием — классовая беспощадность. Да, он соглашался, что многое дозволила сама интеллигенция, требовавшая полного отказа от прошлого опыта целого народа, полного разрушения того, что именуется традицией нации; да, он не отрицал, что борьба за власть во время изолированности Ленина в Горках шла бескомпромиссная и что Сталин оказался ловчее всех, натравливая одних на других, он прибирал власть к своим рукам, а когда захватил ее, тут же показал свой характер, дал волю своей жестокой натуре; но вместе с тем Заваров утверждал, что уже в восемнадцатом появились концентрационные лагеря и что один из них был в Андронниковой монастыре, что тогда уже не единицами, а сотнями расстреливали заложников — непримиримо и горячо тогда говорил Заваров, отстаивая свое понимание того, что свалилось на плечи российского народа. Отец Ивана, генерал Богусловский, возражал, удивляясь даже:
«— Не узнаю тебя, Игнат. Ты же был тверд, как скала, во всем соглашался с политикой Сталина. Чай даже перестал с нами, вольнодумцами, пить…»
«— Было такое. Верно. А почему? Ничего, кроме «Правды» не читал. Да, еще и «Краткий курс истории партии». Потому и видел все сталинскими глазами. Как миллионы других, — парировал упрек Заваров. — А вот нынче ты жирком, похоже, оплываешь. Некогда стало читать, да?»
Вспомнились сейчас и слова Сильвестра, брошенные, вроде бы мимоходом, у оконного стекла о том, что «пулеметами гнали к счастливому завтра».
Очень уж социально разные граф Антон, генерал Заваров и юнец Сильвестр, а гляди же ты, будто в одном хоре поют. Впору по-мужицки почесать затылок, благо одна рука вполне здорова.
А времени на это граф оставил предостаточно. Допив чай он предложил:
— Поступим так, милостивый государь, вы отдохнете до обеда, иначе моя экономка осудит меня, что задерживаю, а там, бог даст, договорим. И примем такую дислокацию: вы — в постели, а я рядышком, в кресле. Покойней. По-домашнему. Душевней, полагаю, разговор пойдет.
И верно, он вошел в комнату к Богусловскому после обеда, лишь тогда, когда экономка окончила натирать жирновато-пахучей жидкостью плечо и ногу Ивана и укутала их в компрессы. Погладила Ивана по голове и, откровенно радуясь заметному улучшению, окончательно ободрила его:
— Все. На поправку дело пошло. Никаких гангрен не будет. Полежишь еще несколько деньков и, думаю, достаточно. Отдыхай, давай.
И только закрылась за ней дверь, граф тут как тут. Пододвинул кресло поближе к изголовью, опустился на него, кряхтя и охая по-стариковски, посидел немного, блаженно-расслабленный, затем, не меняя позы, спросил:
— Продолжим, милостивый государь? Настроены?
Да, он был настроен. Все тянувшееся после завтрака время он думал над услышанным от графа и в конце концов пришел к окончательному выводу, что очень слаб в знании того, чем жила страна после революции. Однажды в библиотеке отца он нашел шкаф, всегда прежде замкнутый, открытым. В нем хранилось запретное, изданное в двадцатых и начале тридцатых годов. Серо все, не привлекательно. Он даже подержал в руках несколько брошюр Троцкого, Плеханова, Бухарина, но даже не раскрыл их (что могут сказать полезного ему, комсомольцу, враги народа, наймиты международного капитала), потом полистал «Махновщину», удивляясь тому, что в книжечке нет привычного эпитета, какой всегда прикладывал к Махно преподаватель истории в школе — бандит. Но он только удивился, а не заинтересовался. И причиной тому, как он теперь с запозданием понял, являлось упрямство: он рассудил, что шкаф не забыли замкнуть, а подсунули ему специально. Теперь-то он понимал, что зря не воспользовался педагогическим приемом родителей и бабушки. Больше бы он знал. Намного больше. И вот сейчас не раскрывал бы удивленно рта, слушая графа, не удостоился бы справедливого упрека «в общих чертах». Да, он ждал продолжения разговора, ибо он волновал его.
— Не приемлю, милостивый государь, ложной надежды, что нынче торжествует истина. Постаскивали «мудрого отца народов» в речки, в болотины, отправили на переплав, а взамен что дано? Новый кумир! Если бы, милостивый государь, столь часто помещали бы в газетах портрет Его Величества Императора нашего, он непременно бы сослал главного цензора вот сюда, в Сибирь. А то и в Петропавловку загнал бы. А этот, ваш партийный вождь, зальет глаза и несет чушь несусветную про «кузькину мать». На трибуну взгромоздясь, несет. И что же все? Уракают до хрипоты. Во всех газетах хвала ему богоданная, а он сегодня одно глаголит, завтра иное. Что в голову взбредет. Мне-то стариковское время позволяет внимательно читать. Изучающе читать. Говорит о народном благе, а сам разоряет его окончательно, да еще велит какие-то горшочки лепить из дерьма. Тьфу! Все позволительно! Любая дурость за благо идет. Нет, такой возможности не имел даже светлой памяти Император. Самодержец, как вы величаете. Не позволили бы ему творить над страной пьяный кураж! — Помолчал немного, собираясь с духом, и, уже более спокойно, продолжил: — Николай Второй возжелал получить Георгия за поездку на фронт. Так вот, милостивый государь, не дали ему Георгия. Не совершил ничего. Блюлись тогда законы чести. Не то, что в нынешнее время… Нынче же погонщик торопит куда-то, сам не зная, не ведая, массу народную, лишь бы догнать и перегнать, а все бегут взапуски, глаза выпуча, а в это самое время огромная каракатица, независимо от погонщика и запыхавшегося люда, гребет под себя все, как драга, оставляя после себя лишь безобразные кучи, намывая лишь граммы золота. Она скрипит, теряя изношенные части, но ползет и ползет, гребет и гребет. Такова ваша, к сожалению, теперь и моя, страна. И никто не хочет вмешаться и повернуть жизнь в разумное человеческое русло.
— Вы говорите так, будто переродились русские люди, трус на трусе сидит и трусом погоняет. Не очень верится. Не сломил же Сталин всю нацию. Не мог. Наверняка, мы просто того не знаем, есть твердые люди там, в Кремле. Они не помалкивают, не бегут, как вы говорите, запыхавшись…
— Верно. Только чем, милостивый государь, все заканчивается для них? Булганин где? Маленков где? Молотов где? И примкнувший к ним Шепилов? — И вдруг еще один вопрос, совершенно неожиданный, казалось бы: — Вам понятно ли, отчего церковь стала не над правительством, даже не рядом с ним, а под пятой светской власти?
— Да.
История — не сегодняшний день. Иван в ней силен. Он мог вспомнить сейчас многие факты борьбы церкви и власти, борьбы идеологической силы и силы, наделенной правом решать. Не сразу, не вдруг он понял, отчего князья и цари так долго не могли заставить церковь безропотно служить им, а быть может, так и не понял бы, не задай он этот вопрос отцу и бабушке. Бабушка поясняла долго и не очень понятно, видя основу в божественной основе царской власти и, следовательно, должной уважать служителей Бога на земле; отец же ответил по-военному четко и ясно:
«— Все дело, сын, в экономической силе. Власть у того, кто держит в руках экономические рычаги. А монастыри и церкви были в прежние времена даже богаче царей… Главная, поэтому, борьба властей была против экономической самостоятельности церквей. Ты обратил внимание, как легко Екатерина Вторая победила последнего борца с секуляризацией церковных вотчин Арсения Мацеевича? Руками самих священнослужителей. А почему? Вся церковь к тому времени содержалась на государственных окладах. Оклад зависел от должности, а должность же зависела от милости или немилости властей».
— Если знаете, тогда хорошо, — продолжал граф. — Тогда скажите, милостивый государь, много ли вы найдете в советской империи людей, скажем, богатых? Таких, чтобы мог уехать, если не согласен с чем, в свое имение и выделить какую-то часть капитала на противостояние неверности? Нет таких. Все на окладе, все на жердочках. Всяк на своей. А чем выше жердочка, тем благодати больше. Только жердочка та тонкая, не очень надежная, чуть не так повернулся и — вниз головой. Кому такое по душе. Кто от кормушки под носом отвернется? Если и начинает кто тяжбу, то только лишь за более просторное и удобное место. Вот так, милостивый государь. Оттого и вседозволенность тому, кто места на жердочках распределяет. Оттого и почитание ему такое, что воскресни средневековый восточный шах, от зависти бы снова скончался.
В комнате было тепло и тихо; ветер, бесившийся за стенами дома, здесь даже не был слышен, и если бы не снежная гущина, вихрившаяся за окном, то казалось бы, что в мире покой и благолепие, и сколь волнующим не был бы разговор в этой умиротворяющей обстановке, она все же не могла не влиять на настроение и говорившего, и слушающего — накал страстности постепенно притухал, граф, сам не заметив того, перешел на спокойный тон, хотя от этого концепции его не стали округленней, затушеванней. Граф выворачивал пласт за пластом, как он выражался, коренные, определяющие суть бытия, совершенно не учитывая, принимает его откровения или нет молодой человек.
Впрочем, он действительно, как и говорил прежде, не перекрещивал Ивана в свою веру, он лишь внушал ему, что жизнь нужно знать не «в общих чертах» и не принимать на веру, без сомнения, без собственного осмысления ни один лозунг.
Прервала его монолог экономка, которая вошла в комнату со стаканом, на треть наполненным янтарной, как доброй заварки чай, но очень пахучей жидкостью. Не стала даже ждать, когда граф закончит мысль, но не по беспардонности своей, а по твердому убеждению, что все разговоры «о политике» совершенно зряшное дело, и важна в жизни лишь сама жизнь. Сейчас эта жизнь требовала от нее попечительства о попавшем под дерево юнце, поэтому она и вела себя сообразно с этим главным моментом. Она даже и в мыслях не держала, что у кого-то может быть совершенно иным понимание жизни, для кого сытость и достаток — не предел исканий.
— Пей, Ванюша, и баиньки. Языки дочешете завтра. Сегодня все, а то жар нагоните, мне потом хлопочи.
Не поперечил граф своей экономке. Послушно склонил голову.
— Завтра, так завтра.
За завтраком они не «чесали языки», лишь экономка поохала по поводу метели, которая по ее мнению, будет дуть еще с неделю (так разгулялась), похвалила Ивана, что быстро поправляется (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить), затем, вместо чая, подала пахучий разнотравный настой, и он после этого безмятежно спал до самого обеда, пока не пришла будить его экономка. Распаковала ногу и плечо, посидела молча, будто решала серьезную для себя задачу, потом заявила твердо:
— Все, поить больше лекарствами не стану. Вон какая прелесть, а не нога. Синь совсем схлынула.
Поплевала через левое плечо, постучав до тумбочке, сгребла баночки с мазью, а взамен принесла пол-литровую банку с чернущей и вонючей ворванью.
— Не нравится? И мне не нравится. Но что попишешь, долечивать тебя надо.
Комната сразу же заполнилась отвратительным запахом, хуже, чем в бараке, и Иван, хотя экономка плотно запаковала плечо и ногу и оставила открытой форточку, тянул время за обедом, чтобы подольше не возвращаться к себе.
Напрасно. Воздух в комнате был свеж и прохладен, пришлось даже закрыть форточку.
— Так на чем мы вчера остановились? На самом главном: отчего вы позволили господствовать лживым теориям, которые не стали вам же поддержкой, лживым деяниям, кои вы, с радостной пеной у рта, именовали эпохальными? Умозаключаю: вы сами уже привыкли без зазрения совести обманывать себя, создавать иллюзию целостности идей и деяний…
И неожиданный вопрос, в его, графа, манере, к которой Иван уже начинал привыкать:
— Кто первый сказал об ипостасях Триединого Бога? Квинт Септимий Тертуллиан. Честным, как мне видится, был богослов, ибо сказал людям, что дает им догму, в которую нужно верить лишь слепо, ибо вера, по его, не нуждается в доказательствах. Почему он это утверждал, можно уяснить, прочитав его и о нем не «в общих чертах». Он так и говорил: «Верую, ибо нелепо!». Он имел в виду всякие божественные чудеса. Несравнима, конечно, я это хорошо разумею, по значимости для рода людского мысль о создании страны-коммуны, мира-коммуны, но по нелепости совершенно схоже. Никто, однако же, из ваших вождей не сказал вам: «Верьте, ибо нелепо!» Более того, милостивый государь, тех, кто считал коммуну нелепостью, всячески порочили, не стесняясь лексикона ломовиков и половых. Почитайте, милостивый государь, Плеханова и иже с ним. Почитайте противоречащие ему утверждения. Весьма, смею вас уверить, прелюбопытная драчка. Каждый хотел быть умнее каждого. Но, думаю, пусть бы себе полемизировали, так нет, до поножовщины дело дошло. Каждый намеревался диктовать, подминая, а при возможности и уничтожая инакомыслящих. Не бывало в России испокон веку такого, вот и изверился народ, запутался, где ложь, а где истина, махнул на все рукой. И то верно, сколько крови пролил народ в гражданскую. За что? За страну-коммуну, за мир-коммуну. А что это такое, ему толком объяснить до сих пор не могут. Народу не фразы нужны, ему несушку подавай, а какая она, рябая ли, белая ли, какое ему до того дело! Ни в Бога нынче масса не верит, ни в коммунизм — вот в чем страх. А нет веры, нет и идеала. Нет веры, нет и чести. Нет веры — нет совести. Вы потеряли все: державную гордость, гордость многоплеменной Руси великой, но вы потеряли и чувство рода. Вот вы, милостивый государь, что взяли от своего заслуженного перед отечеством рода? Ничего. Все забыто и заброшено. А сила нации, сила страны в силе родов. В чести родов. В семейной чести. Я говорю далеко не только о дворянах. Я говорю о мастеровом, о хлебопашце, о купце, о ратнике. Опыт родов движет общество к лучшему укладу, к более организованной, по делу организованной жизни. Вот так, милостивый государь.
Граф говорил ему сейчас то же самое, что внушала ему бабушка, отец и мать. Они тоже нажимали на необходимость следовать традиции семьи, не рвать нить с прошлым, гордиться прошлым семьи и быть достойным продолжателем того прошлого. Но если он даже и слушать не хотел своих старших, ершился, проявляя непонятное им упрямство, то теперь он отчего-то не раздражался тем, что прежде не хотел воспринимать. Дрогнула его душа, а разум подтвердил верность оценок графа, и сомнение в том, что прав ли он в выборе пути, возникавшее и прежде, теперь заявило о себе основательно. И чем больше времени пройдет после этой послеобеденной беседы, тем сомнения эти станут крепнуть, ибо не только на свой аршин он станет мерить свое нежелание продолжать дело предков, а сообразовывать с общим жизненным ходом страны. И хотя знал он жизнь тоже «в общих чертах», но багажа для раздумий ему было достаточно.
Глава двенадцатая
Ветер утих так же быстро, как и взбесился, и Иван, чувствовавший уже себя почти здоровым, засобирался в бригаду. Он так и сказал графу и его экономке сразу после обеда:
— Все. Отлежался. Работа ждет.
Действительно, он беспокоился о том, как бы простой лесорубочной машины не потянул показатели бригады в омут (производительность сразу ухудшается), но не меньшей причиной была та, что Ивану начали надоедать послеобеденные беседы с графом. Старик начал повторяться, старик брюзжал, но ничего нового к своей позиции (что бы не делалось в обществе, все необходимо соотносить, не авантюрничая, с экономическим и нравственным состоянием этого общества) не добавлял. И если еще позавчера он адекватно воспринимал гнев в речах графа, слова его наводили на раздумья, то уже вчера у Ивана начало возрождаться протестующее упрямство, а сегодня он, не случись ухудшения погоды, наверняка начал бы возражать со свойственной ему искренностью, чем обидел бы в общем-то по-своему честного человека.
Теперь же появилась возможность расстаться мирно, не причинив досады тем, кто так заботливо к нему отнесся.
— Эка: «спасибо», — удивилась экономка. — Аль я определила, что оклеманный ты? Оно сейчас вроде бы ничего, а со временем деньки спешки в недожитые годы обернутся…
— До того времени дожить еще нужно, — отшутился Иван, но экономка не унималась. Поддержал ее и граф. Еще бы немного и они бы смогли переубедить Ивана, но в доме появился гость. Очень своевременно. Алеша Турченко пожаловал. Собственной персоной. Будто почувствовал он обстановку. Прервал массированную атаку на Ивана Богусловского сердобольных людей.
— Пришел вот проведать. Бригада привет передает.
— Зачем ему привет, жаль он вознамерился прервать лечение, — с явным неудовольствием встретил гостя граф. — Вы, как бригадир, как начальник его, посодействуйте. Уймите нелепую ретивость.
— Конечно-конечно. Не нужно спешить. Долечись, Ваня, до конца. Мы как-нибудь управимся. «Дружбами» лес валить станем. Сверх урока. Да и управляющий, может, не вдруг после пурги появится.
Ну и хитер, «как-нибудь…», «сверх урока…», «может, не вдруг…». Но не ради же того, чтобы просто проведать пришел бригадир, а выяснить, когда вернется он, Иван, в бригаду. Исподволь поторопить пришел. Разве непонятно это. И Иван Богусловский решил тут же прекратить «хитрую» игру.
— Я одеваюсь и иду. Никаких больше уговоров и слушать не хочу. Ни от кого.
А уже через час он прогревал мотор застоявшейся лесорубки.
Разумность и нужность поступка Ивана Богусловского открылась уже на третий день после бури. Неожиданно, без всякого предупреждения, нагрянул управляющий трестом и сразу — в атаку:
— Самоуправство! Я прислал вам технику, прислал лучшего специалиста, а вы что?! Кто дал вам право?! А техника сколько дней простаивает. За такое дело…
— Машина не простаивает. Только в пургу.
— Выходит, Гузов лжет? Никто его не отстранял?
— Гузов отстранен, но лесорубка работает. Мы можем пройти на лесосеку…
Как бы агрессивно не был настроен управляющий, какие бы наказания не готовил он бригадиру, вплоть до увольнения и расторжения договора с бригадой, не мог он не порадоваться тому, что увидел: спиленные сосны, обрубленные по всем правилам, лежали ровными стопами, а ветки тоже собраны в кучи. Да и сама лесосека не перепахана гусеницами, а то там, то здесь выглядывают из-под снега пушистые сосенки — будущий лес.
— Ветки будем сжигать. Зола — стимулятор роста молодняка.
Но управляющий пропустил мимо ушей пояснение Турченко, он не спускал глаз с лесорубочной машины, не понимая пока, что же такое происходит: у наклоненной сосны машина остановилась, с кувалдой в руке вылез машинист. Увесистый удар чуть выше зацепов, еще удар…
— Что такое?! Кувалдой?! Работничек, похоже. Загубит мне технику!
— Он по сосне меняет наклон захвата. Верно, процесс не очень совершенный, но… Повышает производительность труда, экономит горючее, позволяет сохранить лесной чернозем.
— Как это — меняет?!
— Рацпредложение. Его. Ивана Богусловского. Воплощено в жизнь лесничими и экономкой графа.
— Ничего не пойму.
Турченко доволен. Тон уже другой у управляющего. А объяснить ему — тут, что, тут — с большим удовольствием.
Все понравилось управляющему, но недоумение он все же высказал:
— Почему сразу не информировал, — это Ивану упрек, — что специалист. Еще когда прибыл. Сразу бы машину вручил.
— Он здесь освоил лесорубку, — ответил за Богусловского Алеша Турченко. — Проникся нуждой бригады и — в кратчайший срок.
— Без прав?!
В голосе управляющего вновь проявилась жесткость.
— А случится что, кому по шапке?! Понимаешь, какую ответственность взял на себя?! Теперь вот и я, выходит, соучастник…
— Понимаю. Но его обучали бывший танкист, Герой Советского Союза и «огненный тракторист».
— Что за «огненный»? Не читал, чтоб кто-то из «огненных» живым остался. Вон на целине недавно… Тоже не спасли. Хлеб целехонек, а человека нет.
— Не из сегодняшних. Заимщики палили его за свой трактор. Когда коммуны еще…
— Не имеет значения, — вовсе не заинтересовавшись прошлым «огненного тракториста», ответствовал управляющий. — Учить могут все, а отвечать нам с тобой.
— Но Иван Богусловский делом доказал, что может работать.
— Верно, — вновь смягчился управляющий. Поразмышлял малость и заговорил указующе: — Поступим так: актируй лесорубочную, как требующую ремонта. Все наработанное парнем переведи на «Дружбу».
— Ого!
Да. Турченко не мог сдержать восторга, ибо великий приварок получала бригада ни за что, ни про что. Сразу заметно пополнится касса коммуны. Будет возможность не скаредничать.
А управляющий продолжал, словно не слышал вот этого: «— Ого!»
— Как его бишь. А — Богусловский. Беру его с собой. На курсы. Временно пусть Гузов.
— Бригада не примет Гузова. Он — не наш.
— Ваш… Не наш… Тоже мне, собственники!
— Бригада не примет его.
— Ладно. Подумаем. Списывайте с машины парня, пусть собирается. Вечером — в путь.
— Бригада просит вас на новоселье. Так совпало. Сегодня у нас торжественный ужин и распределение комнат.
— Совпало, говоришь? Что ж тогда делать, раз совпало. Остаюсь.
Бригадир шел на риск. Тут же, как прибыл управляющий, Алеша Турченко послал Колю Шиленко к Костромину, чтобы, значит, сбегать в тайгу за свежатиной, как оно прежде и было договорено. Охотники собрались мигом, но удачной ли будет ходка, этого с уверенностью сказать никто не мог. Если часа через два не вернутся, придется подчищать все запасы. До тушенки придется снисходить.
«Ну, да ладно. Естественней даже. Пусть думает, что туговато у нас с провизией», — убеждал себя Турченко, но все же продолжал уповать на удачливость охотников.
До конца рабочего времени оставалось еще несколько часов, для «великого переселения» время еще не подошло, но Турченко уже отрядил в помощь повару троих. Незаметно, конечно, для управляющего. Сам же водил «большое начальство» по развернувшейся уже вовсю стройке: на площадку для заготовки шпал и их пропитки, на причал, на участок монтажа путевых секций…
Доволен управляющий. Может быть, и не изящная работа, но добротная. Как для своего дома, а не для государства. Он то и дело хвалил бригаду:
— Молодцы. Пограничники, они и есть — пограничники. Верные люди. Вы вполне оправдываете цель свою — коммунистический труд.
— У нас и быт коммунистический. Одно другому помогает. Коммуна, короче говоря. Вечером убедитесь.
За ужином, однако, случился конфуз. Нет, не при делении комнат. Тут все прошло без сучка, без задоринки. Да иначе и быть не могло, ибо все давно знали свои места и все спорное давно уже разрешилось. Коля Шиленко не согласился жить вместе с Геннадием Комовым (бригадир объединил их по принципу землячества), Турченко без лишних пререканий заменил их, и Комов оказался в одной комнате с Богусловским. По принципу механизаторских интересов. Мелочный тот разлад, таким образом, до управляющего, естественно, не дошел. Конфуз случился под самый конец ужина. И совершенно неожиданно для всех, но особенно для бригадира.
А все началось с того, что Алеша Турченко решил продемонстрировать перед управляющим свою личную заботу о Гузове. Для работы в бригаде, дескать, он не пригоден, но бригада тем не менее не отворачивается от него. Кормит и поит. Вот даже на новоселье пригласили. Места в новом доме, правда, для него нет, в нем только члены коммуны, за стол же праздничный — пожалуйста. Не гнушаемся.
А Гузову что. Ему хоть плюй в глаза, он скажет, что божья роса. Пришел. И поближе к управляющему. Ведет за столом себя так, словно никакой размолвки с парнями у него не было и в помине. Да и ребята-коммунары не бычатся. Тоже вроде бы ничего кроме приятного расположения к нему не имеют. Вот тут-то и решился управляющий еще раз закинуть удочку. Ему показалось, что самое время разрешить спор бригады с лесорубом заключением перемирия, а то и мирного договора.
Поднял управляющий стакан и встал, чтобы держать речь. Вроде тоста на дипломатических приемах. Шумливый галдеж, царящий обычно в многолюдных праздничных застольях, начал стихать, а когда бригадир призвал всех к тишине, и вовсе смолк.
— Я поднимаю бокал за лучшую бригаду нашего треста. Да-да — лучшую. Вы даже не представляете, какие вы молодцы, — и управляющий старательно, не дай бог что-либо упустить, принялся перечислять все то, что сделала бригада и, естественно, прекрасно об этом была осведомлена. Но слушала. Что поделаешь: начальство воздает должное. Разве это не приятно?
Но вот управляющий перешел к главному, ради чего городил многословную речь.
— Одно беспокоит руководство треста — ваша размолвка с лучшим лесоповальщиком нашего огромного, но единого в стремлении идти к прогрессу коллектива. Ложка дегтя занесена над бочкой меда. Нам бы не хотелось, чтобы ложка эта все же опрокинулась, осквернив добрый мед. Предлагаю такое решение: пока ваш Кулибин не получит права, Валерий Гузов остается у вас…
Алексей Турченко вспыхнул веснушками.
— Гузов — халтурщик. Пенкосниматель. После него тут останется вечная пустота. Не восстановится лес. Это — раз. Второе: он — эгоист. Бригадный технологический цикл для него не существует.
— Но он примет к сведению вашу критику…
— Нет! Бригада проголосовала.
— Известна ли бригаде стоимость простоя лесорубочной машины? — прибегнул к еще одному аргументу управляющий.
— Известно, — уверенно ответил Леша Турченко, словно и впрямь бригада знала это. Так же уверенно, хотя разговора с бригадой Турченко еще не вел, он добавил — Техника не будет простаивать. Бригада норму машины свалит вручную. Ночи начинаются светлые…
— Пупки не повылезают? — хмыкнул Гузов, нисколько до этого, казалось, не интересовавшийся перебранкой бригадира с управляющим.
— Нет! — рубанул Турченко. — Да и не твоя в том забота!
— Ладно, — примирился управляющий. — Гузова я заберу. Но как дальше жить станете, когда недели через две подброшу я вам технику. Полотно ровнять, мосты в порядок приводить… Тоже начнете нос воротить: этот не гож, другой не подходит. Где ж я вам по вашим меркам людей найду. У каждого человека своя к жизни мерка, а дорогу вести надо. План! Государственное дело, а не частная лавочка: хочу или не хочу. Не придется ли оргвыводы делать? А?
— Нет. Пусть механизаторы создают свою бригаду. Место для размещения есть. Наш барак. Первое время возьмем на довольствие, а потом. Мы — не богадельня.
Алексей говорил так, словно прошло уже бригадное собрание по этому вопросу, решение уже принято и ему, бригадиру, остается только довести то решение до начальства. А бригада тем временем переваривала услышанное, пока еще не зная, аплодировать ли своему бригадиру или возмутится его самовольством. А управляющий уловил в этом предложении хотя и не выгоду для треста, но полное спокойствие. Потому кивнул:
— Кажется, подходяще. Пусть будет так.
И тут совсем, пожалуй, неуместно, встал Геннадий Комов.
— Прошу тост.
Не слово. Нет. А тост.
— Я вот за что хочу выпить… За умного нашего бригадира. За любимого нами Алешу. Здорово как — механизаторов отдельно. Я с полным своим согласием, совершенно добровольно поддерживаю бригадира и перехожу в бригаду механизаторов. Сегодня же отношу вещи обратно в барак. Прошу сделать это же и Ивана Богусловского. Вернется с правами, место его сохранено. У печки.
И тут тоже неожиданно и нелепо выплеснулись искренние недоумения Шиленко:
— Как же это так?! Мы, значит, за него вкалывали, а он нам за то — спасибочки!
— Я тоже не бездельничал. Я — учился! — отрубил Комов. — И почему я, механизатор, должен быть в бригаде разнорабочих? Не пояснишь, Коленька? — ехидно подковырнул Комов земляка. — Мы с Богусловским идем на свое законное место, какое определил нам наш бригадир.
— Я остаюсь со своей бригадой, — ответил Богусловский. — С бригадой разнорабочих. В коммуне остаюсь.
Столовая взбурлила аплодисментами, даже управляющий хлопнул разок, поддавшись общему настроению. И уж потом, у машины, когда на следующее утро бригадир провожал и его, и Богусловского с Гузовым в путь, произнес назидательно:
— Держи, бригадир, еще крепче людей. Хватка у тебя есть, но учти, первая трещина — худой сигнал. Жаль будет, если расползется коммуна. Не тебе объяснять установку партии…
Вот так. Вполне сопоставимо с тем, о чем говорил Ивану Богусловскому граф. Вполне. Только слова управляющего резче, конкретней, заземленней, что ли, подальше от теоретизации и философского обрамления. Жаль, что расползется и придется выслушивать критику на партийной конференции. А чтоб не случилось такого, зажимай людей в ежовые рукавицы.
И как-то так шло само собой, что всю дорогу до Надыма Богусловский размышлял о том, что произошло на торжественном ужине, посвященном новоселью, искал первопричину случившегося и все более уверовал в то, что предсказания графа сбудутся. Ежовые рукавицы до поры до времени хороши, а потом…
Потом придет время, когда люди почувствуют колкость тех рукавиц.
Подобные размышления хороши, конечно же, в пути, быстрее летит время, но от предстоящих забот тоже не отмахнешься. Как с билетом на самолет? Когда рейс? Где, в конце концов, приютиться на ночь, если нет по расписанию сегодня днем самолета?
Впрочем, вопросы эти можно задать управляющему. Отчего же не задать?
— Ты с кем едешь? — самодовольно ответил управляющий. — Вот-вот. Не забивай поэтому голову пустяками.
И верно, очень хорошо попасть под опеку большого начальства. Вечером Иван прилетел в Тюмень: управляющий устроил его на грузовом «Дугласе».
И в общежитии, которое он, правда, нашел с большим трудом, о нем уже были уведомлены. Не вызвало осложнения и то, что занятия в школе механизаторов с очередным набором шли почти три недели. Его лишь предупредили:
— Придется нагонять. Программа, учтите, насыщенная. Справитесь?
— Надеюсь.
— Ну, тогда — с богом.
Так он оказался за партой. Рядом с девчонкой, которую можно было бы назвать красивой, если бы не чрезмерно выпирающие скулы на вообще-то миловидном лице и не вызывающе-пушистые волосы с рыжеватым оттенком, которые явно не шли ей.
Богусловский видел уже эту девушку. В той комсомольской молодежной бригаде, с которой они, пограничники, волею судьбы оказались попутчиками.
Он удивился тому, что вот так, вдруг, вновь сбежались их стежки.
«Верно, что гора с горой только не сходятся», — подумал он, но не стал вспоминать недавнее прошлое, а просто предложил:
— Давайте знакомиться. Я — Иван Богусловский.
— Ой, а я тебя видела. Там, в поезде. Вы все там такими индюшными казались, что на козе не подъедешь.
— Вас свои парни стерегли пуще глаза.
— Если девчонка захочет, никто ее не устережет. Даже мать родная.
— Но вы не назвали своего имени.
— Ксюша. Ксюша Максимова.
Так начался длиннющий день, совершенно непонятный. Все путалось в голове: трансмиссия, экономайзеры, система зажигания. Всем, как виделось Богусловскому, все понятно, ребята даже пытались полемизировать с ведущим уроки, даже Ксюша и та что-то вякала, а Иван сидел бараном. В конце занятий он даже подумал с неприязнью к себе:
«Не в коня корм».
С унылыми думами двинулся он в общежитие. Вроде бы в толпе таких ж< как и он сам, парней, но совсем одинокий, неприкаянный. И тут подхватила е: под руку Ксюша. Защебетала:
— Что, Ванюша, так не весел? Что ты голову повесил? Мы-то сколько учимся, вот тебе и не все понятно. Давай так сделаем: пройдет день, вечером я тебе все непонятное растолкую. Что мы раньше проходили. Можно ко мне, — и остановилась, словно не туда пошла. — Нет. Там подружки мои глаз на тебя положат. Видный ты. А они красивше меня. Давай, к тебе.
— Но и я не один в комнате.
— Ерунда. Пусть на танцы мотают. Или в кино. А потом ты меня проводишь. Наша общага через квартал. Совсем рядом.
Не очень-то хотелось Ивану совать голову в хомут без огляда, но слишком уж непосредственно вела себя Ксюша, и он не смог обидеть ее отказом, хоть и мало надеялся, что можно получить от девчонки толковую помощь. Мысли-то у нее какие? Чтоб кто из подруг глаз не положил. А по какому праву? Что случайно за одной партой оказались?
То, что она, Ксюша, выделила его из всех пограничников и запомнила, он оставлял без внимания. Да и ответу ее, что никто не устережет девчонку, он тоже не придал значения. Не опытный еще. Никто на него еще не «ложил» глаза.
Весь его скептицизм улетучился, однако же, как только Ксюша начала разъяснять Ивану непонятный вопрос. Лаконично, без эмоций. Все так конкретно и понятно, что Иван даже удивился, отчего он этого сразу не уловил. Там, на уроке.
А Ксюша преподавательским тоном спросила:
— Ну, как? Усвоили?
— Еще как. Спасибо.
— Тогда пойдем дальше.
Скулы ее порозовели, выдавая ее волнение, да и Иван почувствовал непривычную взволнованность от того, что так близко сидел с девушкой. Их плечи иногда соприкасались, дыхание их сливалось, колени их, едва коснувшись, отскакивали друг от друга, будто ошпаренные, но каждый старался казаться совершенно спокойным. Вроде бы как на взаправдашнем уроке: она учит, он — прилежно внимает.
И только одно позволил себе Иван. Когда Ксюша окончила объяснение всех непонятных вопросов, он легко провел ладонью по пышным, отливающим медью волосам.
— Спасибо, Ксюша.
Она вспыхнула, а лицо ее стало почти таким же, как волосы, и Ивану в этот миг она показалась очень миловидной.
На следующий вечер все повторилось. И еще на следующий. И еще. Ивану Богусловскому все уже было ясно, на занятиях он не хлопал по-бараньи глазами, а вполне прилично запоминая объяснения учителей, получил уже первую пятерку за ответ, однако вечерние уроки их продолжались. Правда, теперь они больше рассказывали о себе, о своих взглядах на жизнь, своем понимании происходящего, и каждый вечер Ксюша все более и более умиляла Ивана не столько своей непосредственностью, сколько восторженным восприятием происходящего здесь, в Сибири, строительства.
— То, что мы делаем, это поистине эпохально! Мы, молодые, разбудили тайгу! Мы положим бессметные по богатству недра на алтарь коммунизма!
Даже то, что их бригада ударная, созданная ЦК ВЛКСМ как образцовая, распалась, не сотворив ничего, Ксюша воспринимала без анализа, без каких-либо осуждающих мыслей. Виновен только бригадир.
— Он фронт работы не мог обеспечить, технику не смог раздобыть, стройматериалами не разжился. Мы же хотели дома возводить. В Нижневартовске. А там уже были бригады, бригадиры которых порасторопней нашего. Тогда мы настояли, чтоб бригадир нашел другое место, в Тюмень его отправили, но без толку. Ничего не смог добиться. Вялый он какой-то. Махнул, в итоге рукой на бригаду и уехал в Москву. Тюхтя, он и есть тюхтя. Дезертир! Ну, ничего, я решила на трассы идти. Представляешь, по трубам газ идет в Москву и ко мне в Подмосковье? А? И мой труд в этом! Здорово! Люди-то какое спасибо скажут. И теперешние, и потомошние. Вот почему я в школе механизаторов…
— А мы дорогу строим. Мертвая была. Оживляем. Груз пойдет из Надыма к газоконденсаторным разработкам. Быстрей тогда все пойдет. Легче.
— Ой, как здорово!
— Ты вот что, ты к нам в бригаду пойдем. Мы коммуной живем, по-коммунистически и трудимся.
— Ой, как здорово! Дорога жизни! Дорога жизни почти в тундре!
Вроде бы так, между делом сорвалось с языка у Ивана это предложение, а надо же, вцепилось оно в их юные сердца. День ото дня все явственней становились их мечты о совместной работе на границе тайги и тундры, а это еще больше сближало их. Теперь уже никакого поворота не сделаешь, и Иван написал письмо Алеше Турченко, известив его, что привезет с собой нового члена бригады.
Оставалось около месяца до экзаменов, у Ивана, как и у Ксюши, пошли одни только пятерки, и большую часть вечеров они стали проводить либо на танцах (Ксюша любила танцевать), либо, что бывало реже, шли в кино. И как-то мимо них шла жизнь города. А он день ото дня все более напрягался, все с большим вниманием слушал по радио и читал в газетах прогнозы: Тура поднимется выше того уровня, какой случился в 1927 году. Кто-то отмахивался, всего, дескать, на десять сантиметров, а у дамбы есть такай запас; но немало было тех, кто говорил, что на целых десять сантиметров. Особенно тревожил прогноз Ленинский, Калининский и Центральный районы, которые разместились не как вся Тюмень высоко над Турой, а по ее низменным берегам, а Центральный и вовсе на острове.
Полемика шла, тревога нависла над городом, у вечерних самоваров более всего говорили о паводке, но дел пока никто никаких не предпринимал: гром же еще не грянул, чего ж креститься.
Правда, молва, как всегда подобное происходит, утверждала, что кто-то видел самого секретаря горкома на дамбе и что создал он после того комиссию, а комиссия та вынесла заключение: выдержит дамба, надежно сделана.
Во всяком случае, никто не укреплял старую дамбу, никто не усиливал ее.
И вдруг сообщение: Тура поднимется выше десяти метров. А это — более высоты трехэтажного дома. Как тут не задуматься. Двадцать пять тысяч тюменцев окажутся под водой. На острове же по самые коньки покроет все дома. Ну, и как обычно бывает, начали креститься. Все, что двигалось на колесах и ползало на гусеницах — все надлежало безоговорочной передаче в распоряжение штаба по борьбе с паводком. Вся техника переходила на круглосуточную работу. А это означало, что все, кто хоть чуть-чуть может крутить баранку или выжимать рычаги — все под ружье!
Вот тогда, после такого решительного приказа городских властей, занятия в школе механизаторов начались с вопроса. Сам директор его задал:
— Кто имеет навыки вождения бульдозера?
Встало десяток человек.
— Все?
— Я управлял лесорубочной машиной, — поднялся Иван Богусловский.
— Сойдет.
— Я тоже умею, — встала и Ксюша Максимова. — Правда, умею.
— Хорошо, раз умеете, — согласился директор. — Переходите все в соседний класс.
Кто-то, как всегда, уже знал, куда их пошлют работать, началось возбужденное обсуждение новости, в котором участвовали все, кроме Ивана и Ксюши. У них шел свой разговор.
— Как же вы, Ксюша, рискнули? Мы же не начинали еще вождение.
— Не могу я, Ванюша, в стороне от такого общего дела остаться. Понимаешь, не могу. Я — комсомолка. Я здесь по путевке ЦК ВЛКСМ.
— Великолепно. Ничего не скажешь. Аргумент сногсшибательный. Бульдозер, Ксюша, путевкой не испугаешь, для него главная управа — рычаги.
— Не серчай, Ванюша. Я попрошусь с тобой на один бульдозер. Пригляжусь, как ты станешь делать и — хватит с меня. До своей смены усвою.
Их повезли на станцию, где начальство задержало целый состав с новенькими бульдозерами, куда-то предназначенными, и через час лязгающая колонна, сопровождаемая милицейской легковушкой, ползла туда, куда стекалась сейчас вся городская техника.
Им с Ксюшей дали отрезок берега и пояснили: ровнять и утрамбовывать гусеницами все, что станут подвозить самосвалы. Ксюшу такое задание обрадовало:
— Не так страшно, Ванюша: назад, вперед, назад, вперед.
— Ладно, давайте потренируемся, пока нет машин.
Зарделась вся. Лицо и волосы будто слились, светясь медью, но села за рычаги уверенно, перебарывая волнение.
— С богом, — подбодрила шутливо сама себя.
И удивительное дело, тронулась без малейшего сбоя, включивши скорость.
— Стой! — резко скомандовал Иван, который готов был сразу же, если у Ксюши что-либо не получится, помочь ей.
Ксюша потянула за рычаг, бульдозер залихорадило, мотор напрягся, рвя гусеницы, а те едва скреблись, ибо Ксюша со всей силой тянула рычаг на себя.
— Сцепление выжми!
Она моментально выполнила команду, а затем, выключив скорость, промолвила умиротворенно:
— Наконец-то.
Он не понял ее. Он только видел, каким довольным стало ее лицо, каким-то блаженно-спокойным и никак не мог взять в толк, что же такое стряслось.
А все просто. Не «выжмите», а «выжми». Насколько это ближе. И она осмелилась попросить:
— Ванюша, не выкай больше мне. Ладно? Сорвалось у тебя, я понимаю, но мне так приятно.
Вот оно в чем дело. Ну, что же, если приятно, стало быть пусть будет так.
— Хорошо. А теперь прокрути в мыслях все свои движения, когда трогаешься и когда останавливаешься. Особенно при экстренной остановке. Одновременно нужно: сцепление и рычаги. Не забывай ни в коем случае про сцепление. Повторяй себе: сцепление, сцепление…
Они беспрестанно утюжили тонкоснежный берег на удивление другим, которые на своих участках пока «загорали». Кто-то даже не выдержал. Прокричал, подойдя поближе:
— Что солярку переводите?
Ксюша с Иваном улыбнулись. Он попросил ее:
— Останови, — потом откинул дверцу, чтобы слышали его возможно больше товарищей, и ответил: — Снег с землей мешаем, чтобы надежней дамба держалась.
— Ишь ты, — удивился парень. — И верно ведь.
Завел свой бульдозер и начал тоже елозить, вдавливая в землю снег по своему участку.
А Ксюша прыскала, стараясь сдерживать смех, но не осиливала его. Она восхищалась находчивостью Ванюши. Она готова была его расцеловать. Горячо. Страстно. Только, похоже, он этого не хотел. Он следил, чтобы она все делала правильно и без опозданий.
Время шло, а самосвалов все не появлялось. Для чего же их сюда прислали? Практиковаться в вождении?
А Ксюша довольна, что тянется такая вот пауза. У нее получается все лучше и лучше.
— Пусть, Ванюша, подольше не везут.
Ему-то что, пусть будет подольше. Тем более что Тура совершенно не выказывает, что готова вздыбиться. Лед как был на ней вчера и позавчера, так и держится. Лишь в нескольких местах пробивается через лед вешняя вода и, растекаясь, образует сине-серые проплешины на грязной белизне речки.
Земля загудела под колесами многотонных самосвалов в самый разгар обеда, который им привезли в солдатских термосах. И не так шли машины: первая ласточка, за ней вторая — сразу пошел сплошняк. Интервал в полсотни метров, не больше. Плюхали бугры темной с прожилинами снега земли и тут же встраивались в неспешно ползущую обратно колонну. А оттуда, из дальних улиц, ползли и ползли новые машины. Будто закружился вечный двигатель.
Зорко следили водители самосвалов, чтобы ни один бульдозер не простаивал, не жег зря солярку: только Иван управится с очередным бугром, как тут же из колонны выруливает громадина и гулко плюхает новую порцию сырой тяжести. Все начинается сначала.
— Ванюша, дай мне. Передохни.
— Подожди. Приглядывайся. Запоминай. Прокручивая в голове свои действия.
Он говорил так, словно сам был отличным бульдозеристом. Но у него самого только одно было отработано хорошо — он мог застопорить ход моментально. Или продвинуться на точно намеченные сантиметры. Там, на лесосеке, нужда заставила его научиться ювелирной работе. Навык тот, конечно же, и здесь в пользу, только здесь земля, а к ней нужен подход. Попри в лоб, захлебнется от перетуги железная махина, но не осилит. Лучше по ломтикам, с боков. Намного лучше. Только величину ломтей нужно довести до возможного максимума. Вот Иван и не спешил передавать рычаги Ксюше, пока сам еще не наловчился выжимать из бульдозера все его способности.
Только под вечер, когда уже исподволь начали подбираться сумерки, пересел Иван на кресло рядом, передав управление Ксюше. Советуя ей, теперь уже самим испытанное, как лучше разгребать кучи.
Сразу же сносно у нее пошло. Медленней, конечно, чем у Ивана, но — вполне прилично. Очень уж не отставала от соседних бульдозеристов. А чуточку — это не в счет. Он, Иван, догонит, когда сменит ее. К тому же, задел уже есть. Машин на десяток повыше они соседей справа и слева.
— Ты, Ванюша, расслабься. Подреми. Я приловчусь. Честное слово — приловчусь. А как устану, скажу.
Совет дельный, но чего-то нет желания дремать. Как бы не случилось чего с Ксюшей, правда, дамба у основания широкая, не так-то просто сползти с нее ненароком, но как говаривала бабушка, береженого бог бережет. Ведь случись что с их бульдозером, от подначек до конца учебы не отделаешься, да и стыдно в такой момент выходить из строя, разрежая его, переваливать груз на плечи товарищей, увеличивать им нагрузку.
Нет, он не расслабился. Он зорко следил за Ксюшей, подсказывая, а то и помогая ей.
Привезли ужин. И тут Иван увидел, что, оказывается, на всех бульдозерах подвое. Никто не ушел отдыхать. И никто даже не думал, верны ли их действия, к пользе ли они делу. Одно было ясно: никто в общежитие уходить на ночь не собирался.
Так бы и вышло. Со вредом бы вышло, ибо ночь бы они прохорохорились прытко, а на следующий день точно уже походили бы на осенних мух. Не беспредельны силы человеческие. Все, однако, поставил на свои места директор. Похвалил поначалу за ответственный подход к делу, увидев, что бульдозеристы ужинают посменно, не останавливая работы:
— Верно, что к ужину подтянулись сюда все. Вот и проводите смену. Часов, наверно, до трех-четырех. Я распоряжусь, чтобы вас своевременно разбудили.
Не вдруг признались парни, что они вовсе не вылазили из бульдозеров, ни о какой очередности еще даже не думали не гадали. Так и остался бы в неведении директор, не сорвись с языка у одного из механизаторов:
— Мы не планировали смены. Ответственность большая. Вместе лучше. В общежитие никто не собирается…
— Как это — не собирается?! Вы что, роботы? Мне нужны работоспособные, а не измочаленные смены. Городу они нужны! Не на сутки, не на двое. На неделю. А то и больше. Ну-ка, разберитесь быстренько, кто останется сейчас, кто в следующую смену. Я сам отведу вас. Быстро-быстро. Никаких возражений, слышите?! Никаких!
Ксюша, а она ужинала, когда приехал директор, поспешила к Ивану, пересказала все и попросила:
— Ты, Ванюша, иди. Ладно?
— Не очень ладно. Тебе отдых более нужен. Ладней станет, если ты пойдешь.
— Но ты же больше меня работал…
— Но мне и более привычно. Меньше, поэтому, устал. Иди. Не теряй время, Вон, все уже собрались. Иди-иди.
Ой, с какой неохотой вылезла она из кабины. Знал бы он. А он лишь проводил ее взглядом. И сделал вывод: комбинезон из грубой ткани сидел на ней куда уютней, чем крепдешиновое платье, которое она надевала на танцы. Комбинезон скрадывал ее чуточку лишнюю полноту, подчеркивал здоровость и даже сильность молодого упругого тела.
Иван вздохнул облегченно и включил передачу. Его ждала нетронутая еще куча, которую плюхнул перед самым носом самосвал.
Темнело постепенно, но упрямо, пора включать фары. Вот уже и машины идут с ближним светом, и что-то фантастическое видится в этой бесконечной двуглазой веренице, ползущей и ползущей без малейшего перерыва.
А если реально воспринимать, то видна во всем многомашинном движении чья-то сильная рука. К тому же — умная. Что ж, верно говорится: при нужде и холоп — князь.
Иван включил фары и вырвал из темноты спешившую к нему Ксюшу.
«Что-то случилось?»
Ничего. Все в порядке. Просто не смогла она уснуть. Вот и…
— Я с тобой вместе буду? Ладно. Я усну. Обязательно усну. Честное слово. Вот тут. На сиденье. Ловко здесь. Ловко. И рядышком. Меняться чаще станем. Лучше так будет.
— Только сразу засыпай.
— Ладно-ладно. Прямо вот сейчас и усну.
Подложила под руку ладошку, сместившись чуточку на бочок, и притихла, словно мышка в норке, которую подстерегает сердитый котище.
Вскоре и впрямь заснула. Спокойно, безмятежно, вроде не гудело вокруг, не лязгало, не натужился надрывно бульдозер, осиливая очередную порцию тяжелого грунта.
Ночь постепенно отступала. Скоро дело к рассвету. Усталость все ощутимей. Хорошо бы хоть часок передохнуть, но жаль будить Ксюшу. Уж очень сладко посапывает. Лицо довольное, умиротворенное.
«Сдюжу, пока сама не проснется», — решил Иван Богусловский и время от времени стал останавливать бульдозер, массируя пальцы и полностью расслабляясь на минуту-другую, опустив безвольными плетьми руки.
В одну из таких остановок Ксюша проснулась. Он как раз откинулся на спинку и опустил руки. Она затараторила, упрекая себя:
— Ишь ты, разоспалась. Ванюша вымотался, а тебе вроде беды нет, — потом к Ивану. — Давай-давай, пересаживайся. Поспи. Я уж хорошо поспала. Честное слово. Мог бы и разбудить…
— Жалко стало. Уж больно хорошо ты спала.
— Правда?
В голосе ее и радость, и надежда, и недоверие.
— Ты вот что… Взбодрись на свежем воздухе, потом сменимся.
Он уснул моментально, словно тишина и уютный домашний покой царили вокруг. А Ксюша старалась не дергать бульдозер, меньшими порциями отгребая боковушки кучь, благо машины немного поредели и почему-то проползали все больше вперед, в темноту, прошивая ее пучками колких лучей.
Выдался ей даже перерыв. Можно было бы, конечно, утрамбовывать дамбу, утюжа ее, но она жалела Ванюшу.
Утром она узнает, отчего самосвалы проползали мимо: там, впереди, почти у самого начала дамбы, треснул на реке лед и выбилась фонтаном вода, напластываясь на лед. Паводок таким образом проклюнулся, а там, у основания дамбы, было самое низкое место.
Рассвело. Машин стало больше, они пошли почти вплотную друг за другом, и работы Ксюше прибавилось, а как назло бульдозер делался все более непослушным. Хоть плачь. Но она, глотая слезы, продолжала упрямо разгребать кучу за кучей, совершенно даже не собираясь будить Ванюшу. Даже не останавливалась, чтобы бездвижность и мягкое тарахтение отдыхающего двигателя не потревожили его сон неудобством.
Он проснулся, когда солнце, с трудом одолевая толстую пелену едкого солярного выхлопа, глянуло сверху на людской утомленный от непрекращающегося труда муравейник. Шалунишки-лучики щекотнули Ивана по лицу, будя его, гоня прочь сон. И первое, что увидел Иван, весело искрившиеся слезинки на пунцовых скулах Ксюши, а уж потом упрямо сжатые губы, пухлость и яркость которых от этого не стала менее привлекательной. Двумя руками (и было ясно, что из последних сил) она включала поворот, но лицо Ксюши, одухотворенное непонятным Ивану душевным настроем, не выдавало ни отчаянности, ни предельной усталости, а наоборот, казалось умиротворенно-очаровательным.
«Ну, Ксюша! Кремень!»
Он относил и ее настроение, и ее упрямство к тому убеждению (молодежь должна сказать свое слово в новой эпохе, стать полезной людям), какое двигало ею при вступлении в бригаду комсомольцев-добровольцев, при поступлении в школу механизаторов, и при том обмане, какой совершила она, чтобы попасть на дамбу. О том, каким она видит свое поколение, Ксюша не единожды уже тараторила ему и когда выполняла роль репетитора, и в вольные вечера — она все время была верна себе, постоянна в убеждениях, и это нравилось Ивану. И только одного не знал Иван: она любила. Любила его. А это ой как возвеличивало ее убеждение, ее верность тому идеалу, который сложился у нее под влиянием вспыхнувшей вдруг общественной активности молодежи: целина, комсомольские стройки, шефство над целыми регионами, призванными разбудить их от вековой спячки.
— Что, Ксюша, не разбудила?
— Ой, потревожила, да?
Смешным выглядело восклицание, словно спал он в тихой комнате, а она вдруг уронила что-то громыхающее. Но не это, смешное, удивило Ивана. Он вдруг понял, что ради того, чтобы он, Иван, подольше поспал, она пересиливала себя.
«Вон оно что…» — неопределенно подумал он, невольно засмотревшись на смену ее настроения, которое отобразилось на лице: оно засияло радостью, подстать той, какую разбрызгало солнце по берегу ледяной реки.
— Давай, Ксюша, в общежитие. Спать до обеда. За меня не волнуйся, управлюсь.
Она не перечила. К тому же долго стоять бульдозеру просто было нельзя — плюхнулся перед носом огромный бугор, словно специально, чтоб, значит, не прохлаждались за рычагами.
— Хорошо, Ванюша. Я не опоздаю.
Только не к обеду она не опоздала, а к завтраку. Поспешила подменить его, чтоб без торопливости он покушал. А его недовольство обезоружила мягкой, послушной улыбкой.
— Не серчай. Я тут посплю. Рядышком. Или тебе неприятно?
— Для тебя не комфортно.
— Удобно. Очень удобно. Сиденья новенькие, не грязные. Мягкие они.
С того времени так и приловчились они, спать в кабине поочередно. Почти не уходили в общежитие. Они потеряли счет времени, зато дамба росла и плотнела под тяжестью ползущих, теперь уже по ней, нескончаемым потоком самосвалов и беспрерывным утюжением бульдозеров.
А река все еще не пробуждалась, как пугали прогнозы. Правда, то там, то здесь треснет лед, выпуская из плена через твердь свою тугие струи студеной воды, но в целом держится пока крепкий панцирь, не так просто разрушить его более чем полуметровую толщу, хотя солнце все заметней ноздрит его монолитную жесткость. За обедами и ужинами все чаще слышатся реплики:
— Похоже, перестраховка.
И ответы иронические:
— Лучше пере, чем не до…
Лень начала ощущаться уже в кабинах, и темп наверняка заметней снизился бы, не подхлестывай людей сообщения одно другого тревожней да поторапливание: «— Давай! Давай!» представителей штаба, сновавших по дамбе постоянно. Хотя и отмахивались вроде бы механизаторы:»— Чего страху нагоняют?» — но никому не хотелось ударять в грязь лицом. Отпихивали от себя расслабленность, сжимали в кулак нервы и волю.
И очень кстати, как оказалось. Ибо уже через пару дней вспучился лед, река начала набухать, будто тесто в тепле и на хорошей опаре. Тут уж никого не нужно было подгонять. Все поняли, что началось критическое.
И верно, росла дамба быстро, а вода прибывала еще быстрей. Не по дням поднимался уровень, а по часам, съедая упрямо тот запас, какой укатали на берегу люди. И никто теперь из бульдозеристов школы не уходил в общежитие, а по примеру Богусловского и Максимовой спали в кабинах, чтобы почаще сменять друг друга, потому что работы, до этого казавшейся предельно-возможной, еще добавилось. Увеличили скорость движения самосвалы да и добавились они числом, хотя тоже прежде казалось, что не воткнешь в эту ползущую цепь ни одной машины.
Борьба с опасностью, которую человек видит своими глазами, делает его собранней, рациональней и смелей в решениях. Вступает в силу закон: хочешь жить — вертись. А жить-то каждому хочется.
Вода подбиралась к самому верху плотины, считанные сантиметры разделяли твердь и стихию.
Кто кого!
Сузили плотину люди. До возможного минимума. И это позволило оторваться отводы, сантиметр за сантиметром увеличивая тот отрыв. Опасность, однако, оставалась. Великая опасность. И чтобы видеть ее, чтобы ощущать круглосуточно, ночью по всему берегу зажигались прожекторы. Мощные, армейские.
Есть у нас, слава богу, палочка-выручалочка.
От бульдозера к бульдозеру пошла весть, что армейские вертолеты стоят с прогретыми моторами и что подвезли несколько эшелонов амфибий. Успокаивающая новость, ободряющая. Случись прорыв дамбы, людей вызволят, не бросят на произвол судьбы, не дадут погибнуть. И все же — жутко. Оттого, что вот она, рядом, крутит водовороты, и чуть перегреб бульдозером, уронив в нее шмат тяжелющей земли, тут же уносит ту землю, словно между делом, без всякой натуги. А если поднапряжется? Тут и бульдозеру не устоять.
При каждой смене Иван предупреждал Ксюшу:
— На самый край не лезь. Не рискуй.
— Ладно-ладно. Спи. Не беспокойся, — убеждала она, вспыхивая радостью от его заботливости, и пока он не засыпал, держалась на безопасном расстоянии отводы, но как только он начинал дышать ровно или даже посапывать, утюжила тогда дамбу безоглядно. Особенно старалась, как и сам Иван поступал, утюжить у самого уреза, чтобы не стала земляная рыхлость той лазейкой, по которой просочит себе проход водная стихия. Ей ведь чуть-чуть просунуться, потом ее ничем не удержишь.
Вода прибывала, зловеще блестя то под лучами солнца, то в лучах прожектора, а дамба натужно выла моторами, наращивая себя. Так и идет, ноздря в ноздрю, и не ясно еще, кто победит. И вдруг вода на глазах пошла на убыль. А следом за этим донесся из низовых домов вначале поросячий визг, а потом смешались все визги и крики в один истошный призыв о помощи. Ксюша даже остановила бульдозер, не зная, что делать, направлять ли машину туда, где люди оказались в беде, либо продолжать утюжить дамбу. Разбудила даже Ивана. Не пожалела.
— Ванюша, слышишь?! Где-то прорвало дамбу! Без пользы вышла вся работа!
Нет. Не без пользы. Новая дамба держалась, прикрыв собой большущий жилой массив. Беда подкралась оттуда, откуда ее не ожидали: вода подточила старую дамбу, добротно многие годы прикрывавшую собой Калининский район. Потом, когда вода сойдет и город станет подводить итоги борьбы с паводком, штаб той борьбы найдет определение случившемуся: неожиданность. Но так ли уж неожиданно прорвало старую дамбу, которая не была все же рассчитана на столь необычный по мощности паводок. Подсыпать бы ее немного, одновременно расширив ее, но никому такое не пришло в голову. Стоит раз, так и пусть стоит. Понадеялись отцы города на авось.
Ну, а раз так, спасай, значит, людей, проявляя героизм, достойный награды, самыми высокими орденами. Поднимай в воздух вертолеты, вводи в битву за спасение людей амфибии…
Все это происходило вдали от того участка дамбы, где трудились механизаторы школы. Все они, как и Ксюша, остановились в нерешительности, не зная, что предпринимать дальше, но мегафон, разорвав ночной дальний вой, повелел:
— Продолжайте работать, товарищи! Наша дамба держится! Нельзя допустить, чтобы и ее прорвало…
Взревели дизели, заглушив дальнейший призыв напрячься до предела. Куда уж напрягаться больше, они и так сверх всякого предела напряглись. Кроме досады ничего больше не вызывают бездумные лозунги-призывы. Для чего их слушать? Утюжить нужно землю. И все.
Еще сутки миновали. Вода и дамба поднимались одинаково быстро. Но вот, наконец, вырвались люди вперед окончательно, но не напряжением сил своих (хотя и этого не отнимешь), а тем, что река перестала пучиться. Бурлила, пенилась мутно, несла, играя ими, вековые сосны и кедрачи, крутила в водоворотах бревна от бывших еще вчера или позавчера жилых домов, рамы окон и дверные косяки, а то и целые срубы, лишь помятые и перекошенные, небольших домишек и сараюшек, но уже не лезла вверх, не пыталась перехлестнуть через земляную насыпь. Обрадованные люди стали веселеть, заработали с большим душевным подъемом, вовсе скинув с себя многодневную угнетенность и усталость.
Выше и выше дамба. Не хватит ли? Нет, еще метр. Еще сантиметров двадцать. Вот теперь — все! Последний часок-другой поутюжить бульдозерами, чтобы еще более уплотнить и — сдавай технику тем, для кого везли ее через даль-дальнюю.
И спать. Двое суток. Не меньше. Заслужили.
Только невдомек директору-благодетелю, что вряд ли кто из парней завалится на боковую. Загудели ребята, спрыскивая свершившееся. Быть может, впервые в жизни. Герои. Победители. Раззудись плечо, размахнись рука… Со стаканом бормотухи.
А Ксюша с Иваном — в кино. Сказали, что вместо журнала покажут хронику героизма строителей дамбы.
— Вдруг и нас сняли, — возбужденно тараторила Ксюша. — Вот бы здорово было.
Их, естественно, никто не снимал. В кадрах мелькали лишь руководители штаба по борьбе с паводком. С мегафонами все, деятельные все до зависти. Так и кипит все, где они появляются. Короче, не они бы, дамба не огородила бы низкий район города, не спасла бы людей от вешней воды. В общем, ура! Начальству. Умелому и мудрому.
Без настроения после такой хроники смотрел Иван Богусловский бодрый боевичок. А Ксюша после кино шла необычно молчаливая. Даже ей, похоже, не понравилось явное подхалимство хроникеров, но она не осмеливалась осуждать их. Сказала только на прощание Ивану:
— Все газеты куплю, где о дамбе. И ранешние добуду. Вдруг все же о школе есть доброе слово. И про нас с тобой.
Она сдержала слово, повырезала статьи и репортажи из всех местных газет и даже из центральных, где тоже хоть что-то говорилось о борьбе со стихией. Но читали те вырезки Иван и Ксюша уже в вагоне скорого поезда Тюмень — Москва.
Их облагодетельствовал директор шкоды. Сразу, как закончился отдых, проползли те тягучие сутки с застольями победителей (сучок, плодово-ягодная да колбаса с сыром), директор объявил, что всем, кто работал на дамбе, вручается свидетельство об окончании школы с отличием и права, а время, оставшееся до конца учебы, в полном их распоряжении. Вот так. Прямо тебе — с барского плеча.
Что ни говори, а времени осталось уйма. Целых пятнадцать дней, куда их девать? Конечно, можно в свою бригаду вернуться досрочно, Ксюша именно это и предложила. Ей нетерпелось уехать с Ванюшей в его бригаду, бригаду коммунистического труда и быта, в ее мечту. Она, конечно же, если ее примут, станет очень добросовестным ее членом, ибо сбылась бы ее мечта, которая и определила ее жизненный выбор. Иван вначале было согласился, тоже перепевая, что ребята рубят лес вечерами и ночами, чтобы не простаивала по отчетам, лесорубочная машина, но потом все же передумал. Предложил ей:
— Давай своих проведаем. На недельку.
Ксюше что, ей хоть на край света, лишь бы рядом с Ванюшей. Воскликнула радостно:
— Ой, как здорово придумал! Только уговор: обратно тоже вместе. К тебе в бригаду.
— Конечно. Что поодиночке добираться. Вдвоем сподручней.
В купе у них оказался только один попутчик — видный мужчина с глубокими залысинами, как бы подчеркивавшими мудрый его лоб. Мужчина тот с чувством явного превосходства сообщил о себе, что он представитель Госплана СССР.
До самого вечера Ксюша читала вырезки, выбирая их из объемистой стопки только по ей ведомым признакам, и все большей гордостью полнилось сердце девушки за свершенное (и они с Ванюшей не сбоку припека находились) великое дело, хотя, казалось бы, столь уж малое на фоне того поистине великого, что свершалось в таежной глухомани. Нет-нет, да и восклицала она, поддерживая ту или иную мысль газеты:
— Ой, как правильно! В едином порыве мужественных сердец! Это о нас, Ванюша!
Представитель Госплана снисходительно улыбался, слушая восторги Ксюши, время от времени потирал залысины, будто утихомиривал свои мысли, которые теснились в его сократовском лбу, но которые он до поры до времени не выпускал наружу. Он ждал момента. Ему хотелось предстать перед молодыми попутчиками в полном госплановском блеске. Ему нужна была отдушина, чтобы отделаться от того гнетущего чувства, которое сложилось у него за время командировки, ибо ему, десятистепенному аппаратчику, приехавшему выяснять, в чем он когда-то ошибся и к какому перекосу привела та ошибка здесь, на стройке, какие вызвала нестыковки, никто особого внимания не уделял, а попенять горазд был каждый, хотя и вежливо. Самолюбие его, госплановского представителя, страдало, в купе же он мог продемонстрировать свое полное преимущество, важность своей персоны, высокую общественную ее значимость.
— Смотри, Ванюша, как верно: «… когда едины все, когда плечи сотен, плечи тысяч сливаются в одно плечо, этой силище все по плечу…» Как здорово!
— Сейчас-то писать легко, — вставил, наконец, свое веское мнение представитель Госплана. — Теперь здесь всего вдоволь: людей, денег, фондов. Но что-то я не припомню прыткости журналистов, когда мы в Госплане доказывали перспективность сибирских месторождений нефти и газа. Инстанции противились. Убедили верхи горе-ученые, что нет, видите ли, в Тюмени в промышленных масштабах ни нефти, ни газа. Вопреки этому мы все же финансировали изыскания. Головой рисковали. А уж карьерой, это — как пить дать. И что нас спасло? Единство смелых людей, объединенных патриотическими помыслами. И мы победили, ибо шли плечом к плечу. К тому же совершенно своевременно взлетела на воздух буровая вышка, не выдержавшая напора нефтяной струи. Вот тут, как водится, закрутилось все. Мы торжествовали. И как не торжествовать, если держава наша могучая еще уверенней расправит плечи. Валюта по трубам пойдет! Валюта! Это почувствует каждый советский человек. Мы станем богаче. Намного богаче. Возьмите Иран… Как поправил дела нефтью? А Эмираты? А Саудовская Аравия? Огромные капиталы! Вот так и к нам потечет золотая река. В руки советских людей. В новые дома их, в новые дворцы культуры, в новые стадионы, и тот, кто это понял, кто по призыву партии бросился в бой за большую нефть, за большой газ, тот истинный патриот своей Отчизны. Да-да, я не боюсь, что громко сказано, ибо тускнеет самая пафосная фраза перед жизненной действительностью, перед захватывающими дух перспективами.
— И я говорю Ванюше: в великом деле мы участвуем! В великом! В историю войдем!
— Вот это совершенно верно, — погладив залысины для успокоения бурливших мыслей в сократовском лбу, поддержал Ксюшу представитель Госплана. — Ради скачка в благосостоянии народа можно и нужно претерпевать временные трудности. Вы молодцы, что поняли веление времени: место молодежи там, где главные свершения века, где судьбоносные для нашего общества стройки, где дерзко воплощается лозунг партии: «Вперед! К победе коммунизма!» А воплотим лишь при постоянном движении вперед. И не мелкими шажками, удобными обывателю, а бросками, как в атаке. Только не сквозь пули, а через невзгоды и неурядицы, сквозь неустроенность и лишения. Переносить все это ради светлого завтрашнего, разве это не счастье?!
Как он был сейчас похож на того «подгоняющего» общество, о которых с неприязнью говорил Ивану граф. И вот так же убежденно. А где правда? Вот вопрос? А Ксюше все ясно.
— Ой, как верно! Сама история нам диктует: дерзайте.
— Именно, дерзайте! — еще более вдохновился поддержкой восторженной девушки представитель Госплана. — Мы возводим неведомое прежде диво, и мы не вправе медлить. Нам нужен как можно скорее земной рай. И мы достигаем его. Тяжелая индустрия, топливно-сырьевая база — вот наши киты, на которых мы вплывем в изобилие, какое даже не снилось хваленой Америке…
Мужчина с залысинами продолжал вещать о пути к светлому горизонту, куда в конце концов уткнется многоцветная радуга и засияет озаряющей мир благостью, Ксюша ойкала, представляя будущее со спертым дыханием, гордясь своим участием в созидании того будущего, а Иван никак не мог определить, где же истина: в словах графа, который так же убеждал за движение вперед общества, за то, чтобы прозрели наконец стоявшие у власти и перестали бы давить на общество, подстегивать его, а само общество перестало бы шарахаться с выпученными глазами от одного лозунга к другому, а начало бы приобретать чувство самосознания, а власти устраняли бы на этом пути возможные препятствия. Перед глазами Ивана стояла громадина-драга, подминающая все под себя, теряющая то одну, то другую деталь, но не останавливающаяся, чтобы отыскать те детали и поставить их на свое законное место, ибо в том нет ни у кого нужды, потому что драга, трясясь и громыхая, продолжает лезть вперед.
«Грохоту будет, если развалится», — думал Иван, но представитель Госплана называл в это время не только то, чего добьется энтузиазмом заряженный народ, но и сроки, когда наступит изобилие, и Ивану все больше казалось, что прав вот этот мужчина с сократовским лбом, а не граф, отставший от жизни, обиженный ею, потому и недовольный всем на свете.
Новая мысль утверждалась: его, Ивана, руками творится благо не только для сегодняшних людей, а и для потомков. Не в этом ли смысл жизни, не в этом ли нужность бытия? И пусть это будет вопреки традициям рода, традициям семьи. Впрочем, почему — вопреки? Его пращуры тоже творили благо Отечества. Ратным трудом. Более нужным тогда, ибо Россия отбивала свое право на свободную жизнь. Ей нужны были храбрые и смелые люди. Сейчас другое время. Советская Россия борется за экономическое могущество. Ей непривычна роль сырьевого придатка Запада. Испокон веку такого не бывало. А он, Иван, на одном из горячих участков этой борьбы.
И не думалось ему, не только по молодости и жизненной неопытности, но и от неинформированности, от фанфарности, окружающей его со всех сторон, что великая стройка не принесет почти никакого блага России, нефть и газ потекут через границу, а полученная валюта станет транжириться бездумно, превращаясь чаще всего в груды металлолома из очень дорогого оборудования, купленного за нефть и газ, а часть валюты вообще исчезнет неведомо куда. Ущербной для потомков станет великая Сибирская стройка. Разорительной. И тем, что оскудеют запасы земли нашей (они не безграничны), и тем, что зряшные миллиарды по спешке и неразберихе нерадивцы зажмут в болотины, а Города Счастья, там построенные, окажутся ненужными никому.
Но ту, истинную, оценку своего труда Иван Богусловский сможет дать спустя годы, когда не только Госплан, но и сами люди начнут считать и думать о своей судьбе, ибо увидят себя на краю пропасти.
Но тогда, в вагоне, мог же он, Иван, подумать хотя бы о том, отчего он не спал столько ночей и дней, громоздя срочно дамбу. Почему вдруг возникла необходимость в его самопожертвовании? Нет, не неожиданный паводок столь высокого подъема, а просчеты городской партийной и советской властей, не думающих перспективно, живущих, как и вся стройка, безалаберной жизнью, несущейся безоглядно вскачь. Дамбу можно и нужно было сделать давно, без спешки и без надрыва, без таких огромных лишних затрат, без срыва ритма городской жизни.
Мог бы, конечно. Особенно после увиденной в кинотеатре хроники, где партийные и советские лидеры выглядели не иначе, как великими героями, прекраснейшими организаторами и вдохновителями. Но для того, чтобы закрылась подобная мысль, ей нужен был толчок. А его не оказалось. Кто мог дать такой толчок? Ксюша? Директор училища? Представитель Госплана?
Представитель стелил и стелил мягко, даже пушисто, что дух захватывало, и к концу пути Иван с Ксюшей прониклись совершенным уважением к грандиозной сибирской эпопее, к начавшим ее людям и к себе, принимающим посильное участие в судьбоносном для страны созидании.
Дома он удивил всех. И неожиданностью приезда, и той восторженностью, с какой рассказывал о спешном возведении дамбы, о полученных правах на лесорубочную машину; и даже тот неуют, какой был в бараке, та пурга, которой он едва не оказался похороненным — все то, что пережил он там, в тайге, в его рассказах выглядело буднично, как само собой разумеющееся, без чего не могла жить такая крупная стройка в таежно-болотной глухомани.
Отец, слушая его, с трудом сгонял с лица хмурость, мать и бабушка едва сдерживали слезы, изо всех сил стараясь быть радостными (как же, приехал, наконец, Ваня), и никто не омрачил торжественного обеда неосторожной фразой, которая могла бы обидеть Ивана — впереди была целая неделя, а, значит, и время попытаться притушить восторженность, помочь взглянуть на ту обстановку, в какой он оказался, трезвыми глазами.
Но так получилось, что едва Иван успел позавтракать, как ему позвонила Ксюша, и он исчез на целый день. На следующее утро повторилось то же самое. И на третий день, и на четвертый. А когда бабушка предложила:
— Привел бы ее, познакомил с нами, — он отмахнулся:
— Не знаю, бабуля, нужно ли. Учились вместе. На дамбе на одном бульдозере оказались, теперь вот в бригаду нашу едем…
— А там может так случиться, что на всю жизнь вместе…
— Не знаю. Пока об этом не думал.
Так и не привел он ее в дом, сам же почти не бывал дома, уезжая рано поутру и возвращаясь поздно. На вопросы, где проводил время, отвечал неизменно:
— Москву изучаем. И Подмосковье. Дух захватывает от красоты.
И только к концу недели состоялся тот разговор, который хотели и отец, и мать, и бабушка. Каждый из них много раз репетировал каждую фразу, чтоб била в цель, и каждый факт, казался вполне убедительным. В атаку пошли они массированно.
Начало той атаки положил вопрос отца, прервавший очередной радужный рассказ Ивана о значении того, что делают он и его товарищи.
— Неужели ты думаешь всю жизнь дергать рычаги трактора? Неужели это соответствует твоему, единственному продолжателю нашего рода, интеллекту? Не слишком ли примитивны твои жизненные устремления?
Иван вспыхнул, но сдержался. Неловкость повисла над обеденным столом. Минута, за ней другая гробового молчания. Потом вздох Анны Павлантьевны:
— Грубеем мы непомерно.
— Но в принципе Владлен прав, — поддержала мужа мать Ивана. — Ну, не хочет продолжать дело наших семей, Богусловских и Чернуцких, шел бы в гуманитарный институт. История. Археология. Филология. Философия в конце концов.
— Я не о том, Лида. Я о примитивизме в общении, — возразила Анна Павлантьевна. — А что касается жизненного пути, то я уверена, что Иван наш просто обязан стать офицером. Особенно сейчас, когда даже верхи поняли, что просчитались с сокращениями и принялись вновь усиливать армию.
— Я в училище не пойду, — упрямо, как и прежде бывало, отрезал Иван.
— А я уверена, что твое мнение все же изменится, — спокойно ответила Анна Павлантьевна. — Вполне уверена. Но даже если ты продолжишь упрямиться, я предлагаю тебе другую карьеру — юридическую. Благородно. Полезно для общества.
— Ничего нужней того, что делаю я, для общества сейчас нет. И потом, бабуся и дорогие родители, я не могу подвести бригаду. Там ждут меня. Там работают ночами, чтобы я спокойно учился. Как же я могу?!
— Я бы тоже, наверное, не смог отшвырнуть честь, став эгоистом. Да разве мы тебя неволим выбросить билет? Мы говорим о завтрашнем твоем дне. Заботой только о коллективе не проживешь. О себе тоже думать не возбраняется, — не столь уж раздраженно заговорил генерал Богусловский. — Повторяю, совсем не грех заботиться о своем будущем.
— А я и забочусь. И думаю. Стану и впредь думать. Обязательно. В чем искренне вас уверяю.
Конец третьей книги
Книга четвертая
Глава первая
Под горочку, да еще в тени деревьев, бежать хорошо, отставшие было на крутом подъеме курсанты подтянулись, и взвод вновь побежал не разнобойно, а в привычном ритме, и этот ритм подчинил себе и Михаила Богусловского, боль в ноге притупилась, что его весьма обрадовало.
«Вот так бы до самого конца».
Увы, благодать эта длилась не слишком долго — проселок, повернув круто влево, выскочил на опаленное солнцем пшеничное поле и запылил. Бежать стало намного трудней: пыль непомерная, к тому же выбоины почти на каждом шагу. Усугублял еще и ветер, который подул в спину, и пыль начала обгонять бегущий взвод. Получалось так, что задним дышать было легче, чем головным.
Взводный (или по штатному расписанию — курсовой офицер) поднажал, стараясь побыстрей миновать пыльный и колдобистый участок трассы, и через малое время стал едва различим.
Место старшего сержанта Михаила Богусловского как помощника командира взвода сразу же за офицером, поэтому и ему пришлось ускорить бег, дабы не образовался большой отрыв взвода от своего командира; это, однако же, для Богусловского оказалось не слишком посильно: нога сразу дала о себе знать, а когда он еще оступился, не углядев колдобины, именно раненой ногой, боль пронзила все тело. В глазах потемнело и из них вышибло даже слезу.
«Вперед!» — приказывает себе старший сержант, сжав зубы, отчего взбугрились жгутами и без того выделявшиеся скулы, пухлые щеки покраснели от натуги.
Конец полю за ним — крутобокий холм. Ветерок повернул на встречный, смахнув со взвода пыльную накидку. Дышать стало легче. Бежать тоже. Но ненадолго: дорога пошла круто на подъем, и боль в ноге усилилась.
«Вперед!»
По большему счету он мог бы сойти с дистанции, и никто бы его не упрекнул, но он даже не брал это в голову. У него была цель. Благородная, как он считал.
В первые же месяцы учебы в пограничном институте он понял, что усилиями бабушки и в какой-то мере отца подготовлен к будущей службе в пограничных войсках не в пример другим, даже детям действующих офицеров. Все давалось ему легко, и только по равнодушию к оценкам он иной раз получал даже тройки. Первый курс он окончил лишь с тремя четверками, остальные — пятерки. Курсовой сказал ему тогда:
«— Ты можешь, если захочешь, без особого напряжения окончить институт по первому разряду».
«— Для чего? Чтобы выбили на мраморной доске мою фамилию? Что пятерочник, что троечник получат одинаковые звания».
«— А право выбора?»
«— Граница — везде граница. Москву же я выбирать не собираюсь. Я намерен служить».
Это мнение не менялось у Михаила Богусловского до второй стажировки.
Все трудней отталкиваться больной ногой, а дорога круче и круче ползет на холм, и кажется, нет конца этой коварной крутизне. Перевалить бы вершину, дальше — легче: до самого финиша больше нет ни одного подъема, да и дорога втянется в прохладный лесок, тогда полегчает бежать.
«Вперед!»
Резкая боль до помутнения разума, а следом — судорога. Нога отрубилась. Михаил едва не упал, но вынужден был остановиться. Взвод, наткнувшись на него, замешкался, но старший сержант, хотя и не любил приказного тона, на сей раз не попросил, а твердо рубанул:
— Не останавливаться! Я догоню. Управлюсь с ногой и — догоню.
— Давай карабин. Ремень с подсумками тоже.
— Нет!
— Не упрямься.
— Не отдам. Либо сам, либо я не ратник. Догоняйте курсового.
Сокурсники поняли его. Один лишь остался. Сержант Василий Силютин.
И не для помощи. Пояснил:
— Не прогоняй, все равно не оставлю одного. Вдвоем куда как легче догонять.
— Ладно.
Они вдвоем принялись торопливо массировать ногу, но без какой-либо пользы. Казалось, все. Рухнули все надежды. Рухнули бесповоротно. Не видеть первого разряда.
Второй раз в жизни такая паническая мысль, хотя обстоятельства совершенно различные. Тогда маячила перед глазами смерть, теперь же низкая оценка за кросс, которая войдет в аттестат. Но молодость иногда сопоставляет несопоставимое, хотя как посмотреть на случившееся.
На стажировку вся учебная группа во главе с курсовым офицером была направлена в Северо-Кавказское региональное управление. Оттуда — в отряды, а уж из отрядов — на заставы. Исполнять обязанности заместителей начальников. Михаил Богусловский угодил на «Ущельную».
Начальник встретил его с распростертыми, можно сказать, объятиями. Не дослушав установленного рапорта, перебил:
«— Ждал с нетерпением. Один кручусь. Как белка в колесе. Даже старшина заставы удосужился угодить под шальную пулю. Хорошо хоть слегка царапнула. Скоро вернется, но пока… Впрочем, впереди много времени, чтобы вникнуть в нашу жизнь. Давай знакомиться. Я капитан Алдошин. Семен Семенович. Ты, как меня известили, Богусловский Михаил Иванович. Еще предупредили: возвращенец на круги своя. Так?»
«— Можно сказать и так, товарищ капитан».
«— Давай проще, по имени и отчеству».
«— Хорошо. Только есть одна просьба: не по заслугам прадедушки и дедушки определять мою стажировку».
«— Вполне приемлемо».
Несколько дней прошли спокойно. Капитан Алдошин вместе с курсантом составлял план охраны границы, затем, согласно этому плану, давал стажеру возможность самостоятельно составлять распорядок дня и контролировать его исполнение. Занятия тоже начальник заставы взвалил на плечи стажера. Все без исключения. Не легко, но Богусловский не ударил в грязь лицом — все у него получалось ладно и споро, однако Михаилу более хотелось не колготиться на заставе, а полноценно нести службу, сочетая ее с обучением личного состава. Как и полагалось офицерам. Об этом он и сказал капитану Алдошину:
«— К тому, что вы мне поручили делать, я вполне подготовлен, но, как я понимаю, офицеру заставы не главное, хотя и важное, забота о порядке на заставе. Занятия — очень важный элемент, и все же основа основ — охрана границы, а тут одной теорией не обойдешься. Нужен навык…»
Капитан, хмыкнув, покачал головой и заговорил внушающе:
«— Главное в командирском деле, Михаил Иванович, изучение подчиненных и их воспитание. Запомни, главное из главных. Остальное приложится как бы само собой».
«— Я, Семен Семенович, сейчас не беру весь аспект обязанностей офицера, я лишь сомневаюсь, даст мне настоящую пользу стажировка, если я не проверю еще и еще раз себя непосредственно на границе».
«— А ты не подумал, отчего я загрузил тебя однобоко?»
«— Как я рассудил, поручив мне колготное, сами больше внимания уделяете службе. Вы же почти на заставе не бываете. Я же хочу предложить иной вариант: все сегодняшние мои обязанности не снимаются, добавляется только нагрузка служебная. Постараюсь справляться без осечек, а для сна хватит два-три часа».
«— Молодо-зелено, — со вздохом молвил капитан Алдошин, но вопреки вздоху задубевшее на ветрах и морозах лицо словно лучилось мягкой улыбкой. Еще раз вздохнув, теперь уже с облегчением, капитан продолжил — Я ждал этого разговора. Вернее, надеялся на него, видя, как ты стараешься. Но старательность еще не показатель. Приказ получил, приказ выполнил, а дальше хоть трава не расти. Это не служба, а отбывание номера. Понятно тебе, о чем я говорю?»
«— Выходит, изучение подчиненного?»
«— Нет, не подчиненного. Изучение будущего офицера. Будем считать разговор оконченным. Но я попрошу тебя, Михаил Иванович, еще несколько дней потерпеть. Старшина, прапорщик Вагитов возвращается послезавтра. Уйдем мы тогда в изучение участка и организации на нем службы и контроля за ней».
«— Но занятия прошу не исключать из моих обязанностей».
«— Хорошо. Будет по твоему желанию».
Но граница очень часто преподносит сюрпризы, круто переиначивая основательно выношенные планы. Так произошло и на сей раз: поступила ориентировка, что вертолетчики, совершающие облет границы, заметили подозрительное скопление людей на сопредельной стороне в нескольких километрах от границы. В лесистом ущелье сооружаются шалаши, которых с каждым днем становится все больше. Вот и подозвал стажера капитан Алдошин к схеме участка заставы.
— Давай порассуждаем. Вертолетчики здесь засекли подозрительное скопление. Чего ради в лесу сооружаются шалаши? Лесорубы? Думаю, нет. Как твое мнение?
— Если поразмышлять, не очень похожи на лесорубов. Они бы не прохлаждались, а сразу же вооружились бы топорами и мотопилами.
— Логично. А еще?
— Глубже в ущелье, совсем недалеко — большое село. Или аул. Как правильно?
— И так верно, и эдак.
— Стало быть, если еще не определен фронт работ, что носы морозить в лесу? Не лето жаркое, а зима-зимушка.
— Верное рассуждение. Полагаю, из Панкиси к нам намерились. Как пить дать — схлестнемся.
Не стал уточнять, где это самое Панкиси, ибо даже не предполагал, что стажер не наслышан о нем.
Верно. И радио с телевидением, и газеты давно уже колоколят о том, что в Панкисском ущелье чеченские боевики свили себе уютные гнезда, да и в региональном управлении, когда стажеров знакомили с обстановкой на границе, не обошли вниманием и ущелье, которое генерал назвал санаторно-курортным и учебно-подготовительным для боевиков и головной болью не только для пограничников.
— Заставы уже имели кровавые боестолкновения с боевиками, — тверже обычного заговорил генерал, — но некоторые офицеры благодушничают, считая границу с Грузией чуть ли не административной. Нет! Сегодня, к великому сожалению, она не только межгосударственная, но еще и враждебная. Тревожно сейчас даже на административной границе с Дагестаном. Боевики, которых мы задерживаем, признаются, что используют акинцев, принявших ваххабизм, в своих целях.
Капитан Алдошин был из тех начальников застав, кто с полной ясностью понимал обстановку и не жил устаревшими понятиями.
— Какие наши ответные меры? — спросил капитан Михаила Богусловского. — Не появилась еще мыслишка?
— Я не знаю участка, поэтому воздержусь от конкретности. Одно неоспоримо: нам просто необходимо готовить встречу, даже если она не состоится, даже если тревога ложная.
— Разумно, — кивнул начальник заставы, но тут же упрекнул: — Разве я не говорил тебе, что до схода снега все горные тропы закрыты? Путь один, вот этот перевал. Он один проходим. Только о нем можно вести речь.
— Не смею оспаривать, но утверждать с полной уверенностью, что зимой нет проходимых троп, известных боевикам. Не очень ловко ссылаться на опыт моего деда, но он рассказывал, как у них на левом фланге долгое время ходили контрабандисты безнаказанно, оттого что пограничники считали горы непроходимыми в зимнее время.
— Соломки, стало быть, предлагаешь под бок?
— Судить вам. Вы хотели услышать мое мнение, я высказался. А перевал давайте считать главным. Можно там держать наряд не менее десяти человек. Еще лучше, если кто-то из нас его возглавит. А по тылу, на спусках в наше ущелье — поисковые группы, на помощь которым держать крупный резерв, который способен быстро выдвинуться в указанное место.
— Да-а-а. Аппетиты.
— Не очень великие. Пару взводов из маневренной группы.
Или, как ее теперь стали называть, из спецназа.
— Не дадут. Имей бы мы конкретные данные, иное дело. А пока… Подозрительное скопление? Будем пока суд да дело кроить Тришкин кафтан.
— Попытка, Семен Семенович, не пытка. За спрос деньги не берут. И батогами не бьют.
— Хорошо. Я принимаю твой совет и по резерву, и по усилению поста наблюдения на перевале. Завтра в шесть ноль-ноль выйдем в ущелье. Поглядим самые уязвимые места. Послезавтра я на перевал. Денек там побуду.
— Я снова на заставе?
— Пока, да. После моего возвращения возглавишь усиленный наряд. К тому времени и прапорщик вернется. Он, как я говорил, послезавтра должен прибыть. Мне он уже позвонил. Получит кое-что — и домой.
Вопреки сомнениям начальника заставы штаб отряда незамедлительно выделил два взвода (в основном из старослужащих) на усиление, которые и привез на заставу прапорщик Вагитов. Почти сразу же после ухода капитана Алдошина с усиленным нарядом на перевал целые сутки курсанту Богусловскому пришлось заниматься с привалившим многолюдием. Он мог бы растеряться без помощи Вагитова — тот в самый нужный момент подставлял стажеру свое плечо. И то сказать, за этим плечом честного и добросовестного прапорщика двадцать лет службы на границе, а на «Ущельной» он с первого ее дня.
В общем, все прошло ладно, и вернувшийся с парой солдат капитан Алдошин остался доволен.
— Теперь — на перевал, — определил он Богусловскому. — Завтра в семь ноль-ноль выход. Во время отдания приказа тебе стоять в строю. Так будет лучше.
— Понятно.
Вроде бы ущемляется авторитет курсанта-стажера, который сам мог бы отдать приказ, возглавляя одновременно наряд, но с другой стороны, приказ самого начальника заставы подчеркивает важность предстоящей службы.
Капитан добавляет:
— Сразу же после боевого расчета приготовьте вещевые мешки, чтобы с утра не колготиться.
— Само собой. Сухой паек и прочее.
И тут прапорщик Вагитов вставил свое слово:
— Подъем долгий и крутой, много на спине не унесешь, потому мой совет: тушенки меньше, больше боеприпасов. Не очень сытно если, прожить можно, а если патрон да гранат мало окажется, вот тогда пиши пропало.
— Или там нет боезапаса?
— Обижаете, товарищ курсант.
— Михаил Иванович.
— Обижаете, Михаил Иванович. Только не помешает запомнить на всю жизнь: патронов и гранат никогда не бывает лишних. — И к капитану Алдошину: — Я подствольники просил у оружейников, они руками разводят. Рады, говорят, бы в рай, да грехи не пускают. Какие грехи?! Требовать нужно! У округа (он никак не воспринимал нового названия округов), а если и там недомыслие, шайтан их забери, до Москвы дозваниваться нужно. Бандиты лучше нас вооружены!
— Прав конечно ты, Арслан Вагитович, только не напускай на них своего шайтана. Не все зависит даже от Москвы. И еще пойми, зубами выскребать нужные вещи не унизительно ли?
— Не понимаю. Какая унизительность?! Разве унизительно вбивать в чугунные головы праведное? Поставил заставу, обеспечь всем необходимым. Кровью солдат, нашей с вами кровью, Семен Семенович, недомыслие или что иное тех, кто сидит на денежных мешках.
— Горяч ты, старшина. Хотя и прав. Но, как мне известно, в самое ближайшее время улучшится снабжение. И с поддержкой наладится. Первые шаги уже делаются. Для поддержки с воздуха нам выделены армейские вертолеты. И это — кроме наших.
— Может оно и так, но пока халву в рот не положишь, сладко не станет.
— Зря ты так. Я уверен, армейцы не подведут.
Последнее слово было за начальником заставы, хотя и у него самого оставались сомнения.
Но пока еще гром не грянул. Пока еще теплилась надежда, что все обойдется, не полезут дуром боевики (если в лесу именно они), проявят разумность, и, стало быть, крупного боестолкновения не произойдет.
В семь утра усиленный пограничный наряд стоял в строю с вещмешками за плечами и автоматами у ноги. Привычно зазвучали слова приказа, только концовка не по инструкции:
— Не замешкайтесь с докладом на заставу, если что. Поддержка обязательно подойдет.
Все прищелкнули к автоматам рожки — и вперед. Головным — сержант Бахарев, хорошо знавший тропу на перевал. Ему задавать темп. Прытко он пошагал сразу же за заставскими воротами.
«Не слишком ли? — подумал Богусловский. — Четыре часа в гору — не к бабушке на блины со сметаной».
Однако решил не вмешиваться. Не впервой им. Что касается его самого, он был уверен, что выдержит любой темп. Натренирован.
Не знал он о сговоре солдат: «прощупать» стажера. Ловок проводить занятия да хозработами нагружать, так ли ловко осилит горушку? Они-то все по второму году. Им действительно не в новинку многокилометровые переходы.
Когда тропа пошла круто вверх, огибая обдутые ветрами валуны, к своему неудовольствию Богусловский почувствовал, как дыхание начинает сбиваться, а по спине поползли струйки пота. Неуютная мокрота расползалась под вещевым мешком. Вскоре взопрел и лоб под шапкой, и пот начал щипать глаза. И уж совсем на смех курам капелька пота повисла на кончике носа. Он смахнул ее, она вновь появилась. Хорошо, что он шел последним, а никто из пограничников ни разу не обернулся.
Успокаивало еще одно: идущие впереди тоже сопели почти как паровозы.
Но чем выше цепочка пограничников поднималась вверх, тем у Михаила Богусловского, к его радости, дыхание становилось ровнее, лицо обсыхало, обдуваемое ветерком, который становился все более прохладным, а вскоре и мокроты на спине поубавилось.
«Слава богу».
Он машинально повторил сейчас то, что часто слышал от бабушки.
Добрый час на исходе. Темп немного спал. Богусловский видел, что солдаты явно устали, но сержант, верный уговору, пер и пер вперед. Он ждал, когда курсант-стажер, выдохшись, скомандует привал. И в самом деле, у Михаила Богусловского подобный приказ висел на кончике языка, но что-то сдерживало его. Он даже не отдавал себе отчета, отчего одергивает сержанта. Себя он чувствовал прекрасно, но видел, как даже покачиваются от усталости солдаты. Они сопели все сильней, да и пот с лиц смахивали чаще прежнего.
Он успокаивал себя: сержант не первый раз ведет наряд к посту наблюдения, да и солдаты не салаги — по второму году службы. Однако ему не очень понятно, куда спешит сержант. Не на пожар же?
Только через добрые полчаса сержант Бахарев остановился за высокой зубастой скалой, которая загораживала собой от ветра, дующего с перевала, уютную полянку.
Очень разумно. На ветру, здесь уже весьма холодно, легко простудиться, когда ты разгорячен.
Почти все пограничники повалились на землю, только сержант да еще пара солдат начали неспешно снимать вещевые мешки и отчего-то с пристальной внимательностью поглядывать на Михаила Богусловского. А он, хотя тоже с великим наслаждением повалился бы на каменистую землю, подошел, не сбросив даже вещмешка, к сержанту Бахареву с упреком:
— Командир, определяя темп движения, просто обязан всегда сохранять силы подчиненных для возможного встречного боя. Случись сейчас засада на нашем пути, только мы вчетвером в состоянии действовать энергично. Мы же не на пожар спешим. Не на помощь товарищам, ведущим бой. Те, кого мы идем сменять, только завтра утром спустятся на заставу.
Сержант Бахарев потупился на какую-то минутку, затем вскинув голову и, открыто посмотрев в глаза Богусловскому, заговорил извинительно:
— Мы, товарищ курсант, говор имели: поглядеть, мол, тонка ли кишка подняться на горушку. Учить, мол, легко, а вот на деле… Я виноват, что поддержал. Меня и осуждайте за сговор.
— Что и говорить, не по-товарищески за спинный сговор, но я вполне вас понимаю. Вы хотели убедиться, вправе ли я вами командовать, и можно ли мне довериться без каких-либо сомнений. Будем считать, будто ничего чрезвычайного не произошло. Сейчас перекур — и вперед. Расчет времени и темп движения за вами, товарищ сержант.
— Привычней, если на ты. Ближе так. Душевней.
— Согласен.
Дальше шли размеренно, и на перевал поднялись к обеду.
Перевал не дать, не взять — седло. Всего метров тридцать. Справа отвесная стена десятка на два метров в вышину, затем она оскаливается угрожающими клыками, основания которых обрамлены снежными воротниками. А еще выше — сплошной снег, из которого лишь выглядывают беспомощные зубки, словно молочные у ребенка. Потом и эти зубки исчезают, и сплошной снег плотно лежит до самого хребта. Действительно, зимой через него пройти невозможно.
Впрочем, и летом он вряд ли доступен тем, кто не привык горам с детства.
Левая сторона более доступна. Здесь тоже гранитные клыки, тесня друг друга, круто взбираются вверх на заснеженный хребет, но по обочине этого крутозубья видны террасы. На них — снег, но, как видится, не очень глубокий. По террасам можно подняться выше перевала и как бы нависнуть над ним. Это очень опасно с тактической точки зрения.
На самом перевале — бруствер из валунов для стрельбы лежа, а чуть ниже этого бруствера — сам пост: сооруженная из валунов и скальных обломков сакля с крышей из лапника, придавленного валунами. Она явно не рассчитана на столь большое количество жильцов, какое скопилось теперь на перевале.
— Ну что тут? — спросил Михаил Богусловский у старшего наряда.
— Тихо. Те, что в лесу, носа не кажут. Какое-то время топорами стучали, и снова — молчок. Наше мнение, дровишки заготовляли.
— Если тихо, пусть теперь же идут на заставу, — предложил сержант Бахарев. — Спать, а то тесно будет.
— В тесноте, да не в обиде, — ответил Михаил Богусловский. Давай оглядимся, тогда — решим. Мое первое впечатление — бруствер стоит поднять, оставляя только амбразуры для стрельбы лежа.
— Капитан об этом же говорил, — вмешался старший сменяемого наряда. — Как можно, мол, выше. Чтоб в случае боя, понадежней защита. Но мы как ни старались, большего сделать не смогли.
— Предлагаю, поэтому, оставив для наблюдения одного, остальным после обеда засучить рукава.
Основательно вымотались пограничники за полтора суток, таская валуны, за которыми приходилось спускаться все ниже и ниже, однако никто из них даже не высказал неудовольствия. Не благодушны они, знают, как важно доброе укрытие при боестолкновении.
Правда, на перевал боевики еще ни разу не совались, избегая открытости, но все же. Лучше спина мокрая, чем пуля в нее.
— Бронежилеты предлагаю снять, — посоветовал сержант Бахарев. — Полегче станет.
— Наверное, пока светло, можно, — согласился Богусловский. — После ужина вновь облачимся. Тогда и каски из вещмешков достанем.
— Верно, лучше пере… чем недо…
— До самого вечера таскали пограничники валуны. Работа шла споро, ибо прежний наряд сколотил волокушу, что весьма ускоряло дело: грузи на нее и впрягайся. До вечера стенка из валунов заметно подросла, за ней можно даже перебегать согнувшись, а это очень важно. А еще что удобно, через каждый метр — амбразура для стрельбы лежа. И ветки лапника, на которых можно разложить автоматные рожки и ручные гранаты, прикрыв их тем же лапником на случай непогоды.
Ох и похвалят себя ребята, когда начнется бой, за свою старательность.
Впрочем, еще за ужином, умастившись в темном кругу, они нет-нет да и похваливали себя за ловко устроенные укрытия.
К утру занялся ветер. В сакле из камней продувало насквозь, стало не то чтобы неуютно, но основательно холодно. Пришлось затопить буржуйку, и больше уже никто не заснул. Те, кому предстоял спуск, принялись собираться.
— Пораньше выйдем, пораньше дойдем. Доспим на заставе недоспанное здесь.
Очередная смена наблюдателей. Теперь уже без приборов ночного видения, очередная связь с заставой, традиционный доклад, что признаков нарушения границы не обнаружено. Устоявшийся порядок нарушил вертолет. Не часто они балуют облетами, чтобы, значит, ущелья перед перевалом как можно глубже прощупать оком своим.
Когда вертолет подлетел к перевалу, вышел на связь с саклей. Доложили:
— В лесах на склонах — никакого движения. Следов на снегу не замечено.
Богусловский, выслушав доклад связиста, буркнул вроде бы самому себе:
— Расслабляться не станем.
Ждать и ждать — такое состояние для солдат, а они все по второму году службы, привычно, Богусловскому же, кого граница еще не обтесала, безделье казалось расточительностью. Но что он мог изменить? Высылать дозоры? Но куда? На скалы не полезешь. Короче говоря, сиди и жди у моря погоды.
Прошелся вместе с сержантом вдоль бруствера, придирчиво изучая его, но никаких изъянов не обнаружил.
Особенно долго стоял на левом фланге. Все вроде бы и здесь в полном порядке, бруствер упирался в подножие зубастой стены, стало быть, все в ажуре, и невдомек ему, что террасы, которые позволяют хотя и с трудом, но взобраться на хребет и занять господствующую позицию, отсюда не видны. Они оказываются как бы в мертвом пространстве. Но не зная ничего об этом мертвом пространстве, Богусловский чувствовал незавершенность оборонительного сооружения. Он даже поделился своими сомнениями с сержантом:
— Не возьму в толк, но какая-то неспокойность у меня.
— Пустое. Кто и что здесь может просочиться? Бруствер вплотную к стене. К тому же, снег вправо и влево от тропы по пояс. Не меньше.
Сержант, хотя и не первый раз нес службу на перевале, не знал, что террасы чисты от снега — ветер сметает его с них почти полностью.
— Впрочем, — добавил сержант Бахарев, — в случае чего вон к тому зубу можно подняться. Укрывшись за него, поливай духов, если они пожалуют, очередями.
Вроде бы выход найден, но ни Богусловский, ни Бахарев не подумали о том, что зубастая скала укроет только от тех, кто пойдет на левый фланг, бока же их будут открыты для огня справа, от тропы.
Пока суд да дело, подкрался вечер. В горах зорь нет. Ни вечерних, ни утренних. Особенно в горах южных. Едва солнце скроется за хребтом, и вот она — ночь.
— Облачиться всем в бронежилеты, — приказывает Михаил Богусловский, а его команду перебивает доклад наблюдателя:
— Товарищ курсант, со стороны террас поднимается человек. В бурке. С большой палкой в руке.
Дать команду «К бою»? Нет, лучше повременить. Один, он и есть — один. Поспешил сам к левой стороне бруствера, чтобы встретить неизвестного.
А тот шагал уверенно, нисколько не прячась, хотя и не мог не знать о пограничниках на перевале.
«Но почему тогда не по тропе?»
Ответил на этот вопрос гость сразу же, как поднялся на перевал:
— Я шел к вам. Все мужчины сказали мне: иди и предупреди русских пограничников об опасности. Ты лучше всех говоришь по-русски. Вот я здесь.
Он и в самом деле говорил чисто, лишь с небольшим акцентом.
— Заходите, уважаемый гость, в нашу саклю. За чашкой чая поведаете, какая опасность подстерегает нас.
— Нет. Не примите за оскорбление мой отказ, но меня ждут мужчины моего села, а я сказал почти все. Чеченцы (они в лесу) нападут на вас ночью. Их добрых две сотни. Не мне вас учить, как поступать дальше, я только могу от себя и от мужчин моего села пожелать вам удачи. Все.
Кивнул и, повернувшись, пошагал вниз. Вскоре наступившая темнота поглотила его полностью.
Да, задачка. С доброй ли вестью, рискуя быть засеченным боевиками, поднялся на перевал пожилой грузин, либо разведать, много ли здесь пограничников?
«Хорошо, что никто из сакли не вышел. Не смог определить гость нашу численность».
И плюнул с досадой, ругнув себя: «До чего докатился, братец ты мой! Как можно так подумать о добром вестнике?»
Вернувшись в саклю, открыл что-то вроде совета, сняв ради этого на несколько минут даже наблюдателя. Заговорил, стараясь быть убедительным:
— Пожилой грузин по поручению своих односельчан оповестил о намерении боевиков напасть на нас ночью. В какую из ночей, он не знает. Вот я и хочу послушать мнение каждого, что нам предстоит предпринять.
Никто не отмолчался, и Михаил Богусловский, обобщая высказанное, начал распоряжаться:
— Гранаты и рожки к автоматам вынесем к брустверу сейчас. Каждый для себя готовит огневую точку. Место сержанта Бахарева — на правом фланге, мое — на левом. При появлении боевиков, в сакле оставаться только связисту. Ему поддерживать бесперебойную связь с заставой. Наблюдателей буду менять через каждый час. Очередность смены определит сержант Бахарев. Пока я докладываю обстановку начальнику заставы. После чего — ужин. Общий подъем в три ноль-ноль.
Разговор с начальником заставы короткий: доклад о полученных сведениях и о принимаемых в связи с этим действиях. На вопрос капитана Алдошина, нужна ли поддержка, ответил твердо:
— Мы углядим через прибор ночного видения движение боевиков, о чем сразу же я доложу. Стоит ли дергать личный состав, не имея точных данных?
— Не стоит, говоришь. Ну-ну.
Капитан Алдошин не разделил мнение стажера, изменил план охраны границы, выделив десяток пограничников (из своих и прибывших на усиление) на пост наблюдения, приказав им тут же подготовиться к выходу на перевал.
— Выходим без промедления. Поведу наряд лично.
Очень разумное решение.
Впрочем, и эта мизерная поддержка, хотя и подоспевшая в самый раз, не спасла бы положения, прорвались бы боевики, не вмешайся в ход боя вертолетчики. Но разве мог знать обо всем этом Михаил Богусловский, вот и мучили его всяческие сомнения — он долго не мог уснуть, прокручивая в своем воображении предстоящий бой, и все с большей ясностью понимал опасность на левом фланге. Если даже боевики прежде не знали о террасах, то увидевши следы на снегу, которые оставил грузин-доброхот, поймут выгодность обходного маневра. Михаил Богусловский еще и еще раз оценивал надежность левого фланга и пришел к окончательному выводу, что фланг уязвим.
«На самом верху устроить бы гнездо, защитив его сбоку бруствером. Что ж, прошляпил, самому и исправлять».
Приняв твердое решение, что если попытаются боевики пойти в обход, он сам полезет вверх наперехват, Михаил немного успокоился и вскоре утонул в забытье, хотя слышал, как менялись смены наблюдателей.
Очередная смена. Не успел еще сменившийся угнездиться на свое место, когда вернулся его сменивший и Михаилу Богусловскому:
— Товарищ курсант, появились. Тайком. Врассыпную.
— Далеко?
— С полкилометра.
— Спасибо. Занимай свою позицию.
Дождавшись, пока наблюдатель покинет саклю, объявил:
— Подъем!
Не «К бою!» — спешить нельзя: все дело можно испортить.
Пограничники вроде и не спали. Стоят, готовые выполнить любую следующую команду. А Богусловский сдерживает свое волнение. Как-никак, а в такой обстановке первый раз, не на тактических занятиях, а реально. Но понимает: подчиненные должны видеть командира спокойным и уверенным.
— Выдвигаться к своим огневым точкам по одному. Скрытно и бесшумно. Имейте в виду, у боевиков тоже могут быть приборы ночного видения, а любой шум, не мне вам напоминать, слышен в горах далеко. Особенно ночью. Если демаскируем себя, боевики, сменив тактику, усложнят нам задачу. Все поняли?
— Так точно.
— Огонь по осветительной ракете, — и повернувшись к связисту, приказал: — Вызывай заставу. Доложи: боевики поднимаются к перевалу. О их намерении пока ничего определенного доложить не можем. После осветительной ракеты сразу же связывайся с заставой вторично. Доложишь о начале боестолкновения. Дальнейшие доклады — исходя из обстановки. Ясно?
— Так точно.
Михаил Богусловский покинул саклю последним и тоже осторожно, пригнувшись, прошмыгнул к своей огневой точке. И не плюхнулся, а лег с величайшей осторожностью, держа автомат так, чтобы даже не задеть им за камень.
Левофланговый наблюдатель у него под боком. Шепчет:
— Рассыпаются в цепь. Но не спешат.
— Дай мне прибор. Тебе вот — ракета. Пустишь по моей команде и сразу — огонь, — тоже шепотом приказывает Михаил Богусловский.
Обмен беззвучный. Теперь Богусловский самолично видит все действия боевиков, одновременно вслушиваясь, тихо ли за бруствером.
Мертвая тишина. Ни малейшего звука. Прекрасно.
Боевики время от времени останавливаются без всякой на то команды, но почти одновременно (индивидуальная связь стало быть у каждого) и какое-то время прислушиваются. Потом с удивительной слаженностью и совершенно беззвучно начинают движение.
Метров полтораста до перевала. Пошли еще медленней. И вдруг — исчезли. Залегли за валунами.
«Будут ждать рассвета?»
Вполне возможно. Опасаясь растяжек. Поднимутся, как только можно будет разглядеть впереди себя на метр-другой. И это хорошо. Пока метров в полета пройдут, совсем посветлеет. Отличными станут мишенями.
Но что это? То там мелькнет силуэт в лучах прибора, то здесь. Стало быть, от укрытия к укрытию как можно ближе, а затем — бросок. Коварно. Шепнул наблюдателю:
— Проскользни за бруствером. Передай: приготовить гранаты. Отогнуть усики запалов.
Так учил их преподаватель по тактике. Пояснял: до десяти секунд экономия времени, а в бою дорога каждая секунда. На весах жизнь.
Вернулся наблюдатель. Доложил:
— Приказ передан всем.
— Сам тоже готовь гранату.
Вот едва-едва забрезжил рассвет. Вроде бы спокоен Михаил Богусловский, только отчего-то ладони вспотели. Обругал себя тюхтей и попытался сосредоточиться.
«Сейчас поднимутся. Вот-вот. Прикажу — ракету».
Боевики, однако, не поднимались в рост, а продолжали, ловко лавируя меж валунами, приближаться короткими перебежками. Они уже совсем близко. Подпускать еще ближе очень опасно. Хотел приказать наблюдателю: «Ракету!», но, вроде бы не отдавая отчета в своем поступке, вскинулся и, крикнув во всю мощь своих легких: «Гранатами — огонь!» — швырнул свою туда, где только что после очередной перебежки укрылся за невысоким валуном боевик.
Гостинец добрый. Но лишь на миг опешили боевики, не ожидавшие подобного. Взвихрилось грозное:
— Аллах аки бар!
— Ракету! — крикнул Богусловский, но она уже никому не нужна: автоматы пограничников, не ожидая сигнала, зашлись длинными очередями.
На добрые четверть часа воцарилась поначалу яростная, однако, постепенно снижающая накал перестрелка. Ни боевики ничего решительного не предпринимали, ни пограничники. Они время от времени швыряли гранаты, но, похоже, без большой пользы: валуны надежно укрывали боевиков от осколков. Единственная, пожалуй, польза: взрывы гранат сдерживали прыть боевиков, и они не решались подняться для решительного броска.
Вроде бы не свойственно это борцам за торжество ислама. Смерть в бою с неверными — открытая дорога в рай. Не придется тогда идти по мосту, острому, как клинок дамасской стали, над гиеной огненной. Грешнику не одолеть моста в рай. А жизнь даже самого преданного Аллаху и его пророку Мухаммеду правоверного не может оставаться безгрешной.
А кому не хочется в рай?
Но что это? На тропе появляется группа боевиков с подствольниками.
«Резерв главаря?»
Надеясь на легкий захват перевала, боевики вышли налегке, а вот теперь вызвана подмога. Что-то похожее на англо-американскую тактику: встретил сопротивление — подави огнем тяжелого вооружения, не бросая людей на верную гибель. О такой тактике боевиков Михаил Богусловский не слышал ни от преподавателей, ни от тех, кто прошел ад Афганистана и особенно Чечни.
Действительно, боевики не двигались вперед, пока подствольники изрыгали гранаты на головы пограничников, сея смерть.
Залп сменялся залпом. Оглушительные взрывы. Дождь осколков. Первые раненые. Более всего — в ноги. Стало быть, можно не покидать своей огневой точки. Наоборот, следует прижиматься к брустверу как можно плотнее. Камень, он спаситель.
Еще один залп. Еще… В это время часть боевиков начала перемещаться в сторону карнизов.
«В мертвом пространстве окажутся! А поднявшись наверх, постреляют всех, как курят!»
Не видя иного выхода, Богусловский решился на смертельный риск. Объясняет наблюдателю, стараясь говорить предельно буднично:
— Милошкин, поднимаемся вон на те скалы. Старайся возможно скрытней. Гранат натолкай не только в карманы, но и за пазуху.
— Ясно, товарищ курсант.
— Я первым, ты — за мной.
Не удался скрытный маневр. Увидели боевики поднимавшихся по крутизне пограничников, и пули зацокали по зубастым скалам, взвизгивая словно от боли.
— Не останавливаемся! На огонь не отвечаем!
Почти у цели. Еще одна перебежка вон за ту скалу, укроет она от пуль справа, а террасы будут как на ладони. Но что-то сдерживает, какое-то внутреннее сопротивление.
«Не дури!» — ругнул он себя, рванулся вперед, и тут пуля угодила в ногу, вторая в бок, но бронежилет принял на себя ее удар. Помутнело в глазах, но Михаил Богусловский не плюхнулся на камни, а бросил себя, превозмогая боль за скалу.
Позже, осмысливая каждый свой шаг во время боя, он вполне осознал, что, не одолей он боль, оказался бы прекрасной мишенью для боевиков справа, и они с превеликой радостью изрешетили бы его. Но в тот момент он просто несказанно обрадовался, когда увидел карабкающихся с карниза на карниз боевиков. Приказал сам себе:
«Не спеши. Боеприпасов тебе не поднесут. Бей короткими. Бей прицельно!»
Про боль в ноге он на какое-то время даже забыл: боевики близко, но не смогут они броском преодолеть малое расстояние по трудным для подъема террасам, а вот и падают один за другим после коротких, в три патрона, очередей.
Когда первая горячка прошла, Богусловский перевел автомат на одиночную стрельбу.
Рядовой Милошкин уже рядом. Вопрошает:
— Можно, гранатами? Побережем патроны.
— Давай.
Одна за другой полетели на карнизы гранаты — боевики попрятались. Кто за какой клык успел, но пяток их остался лежать бездвижно.
— Ловко, — похвалил сам себя Милошкин, затем спросил: — Разрешите перевязать рану?
— Перетяни только. Чтоб кровь остановить.
Минутная передышка для боевиков, и те встрепенулись.
— Гранатами! — приказал Милошкину Михаил Богусловский, сам же, выцеливая наиболее прытких, посылал в них меткие выстрелы.
Но вольности их вскоре пришел конец: мина разорвалась совсем рядом, однако, не причинив никакого вреда. Все осколки приняла на себя скала, что высилась за спинами пограничников. Еще одна мина разорвалась. На сей раз далеко за спиной.
— Недолга!
Однако, как понял Михаил Богусловский, не главное в том, что мины полетели в их сторону, опасность высветилась совсем с другой стороны: густо полетели мины на сам перевал, и вот уже начали один за другим умолкать автоматы пограничников.
«Ранены?! Или убиты?!»
Зычно, перекатываясь эхом от скалы к скале, пресекая автоматные очереди, разрывы мин и гранат, гаркнул призывной клич:
— Аллах аки бар!
Дружным многоголосьем откликнулись боевики и, поднявшись во весь рост, упрямо полезли вверх.
Всего метров сорок. Для броска на ровности — плевое дело, но как не подбадривали себя боевики именем Аллаха, быстрей возможного у них не получалось.
— Давай! — кричит Богусловский тем, кто внизу, хотя его команда вряд ли подхлестнет пограничников, они и без понукания обороняются упрямо, не обращая внимания на раны.
— Давай!
Тридцать метров. Двадцать пять — израненные пограничники встречают врагов длинными очередями и гранатами, но ничто не останавливает боевиков. Их много, пограничников — горстка.
У самого Богусловского тоже жарко, тем более, что крепко ранен рядовой Милошкин. Силится поднять автомат, но тот никак не хочет слушаться. Богусловский уже забыл об экономии патрон, перешел на автоматическую стрельбу и встречает карабкающихся вверх длинными очередями — цепь боевиков редеет, но живые поднимаются все выше и выше.
«Не сдержать!»
До гранат дело дошло. Одну лишь Михаил Богусловский отложил, чтобы взорвать ее последней.
Но что это?! Начальник заставы рядом.
— Молодец! — кричит — Молодец!
Автомат его зашелся длинной очередью.
Еще одна горстка пограничников, вступивших в бой, не изменила круто обстановку— боевики, опешившие на малое время, снова упрямо полезли вверх, оглашая окрестности истошным «Аллах аки бар!» Спасли пограничников от явной гибели вертолеты. Подоспели они в самый раз. Припозднись хотя бы минут на десяток, прилетели бы к шапочному разбору, ибо едва (пограничники с радостью, боевики с опаской) уловили стрекот винтокрылых, духи поперли еще более упрямо, и только крутизна не позволила им сделать стремительный бросок. На автоматные очереди почти в упор они не обращали внимания, ибо похоже, тоже были в бронежилетах, а гранаты уже не пустишь в дело, ибо осколки могут поразить своих. У боевиков же одно стремление — захватить перевал любой ценой. Видимо, вслед за этим крупным отрядом должен был проследовать очень крупный и очень нужный груз.
Первый вертолет, снизившись донельзя, густо полил из крупнокалиберного атакующих перевал, за первым — второй, следом — третий, а первый уже успел развернуться. Пошла карусель. Некоторые боевики начали стрелять по вертолетам, но все обходилось.
Ракетами бы боевиков угостить, да слишком накладно своих зацепишь, а крупнокалиберный смертоносный ливень не останавливает атакующих — упрямо они одолевают метр за метром.
Несказанно удивив пограничников, один из вертолетов, круто развернувшись, перелетел перевал и завис метрах в трех от тропы.
— Что с ним?! — не выдержал Михаил Богусловский. — Не подбит ли?!
— Нет, — спокойно ответил начальник заставы, продолжая посылать длинные очереди на встречу духам. — Десант.
И в самом деле из открывшегося люка начали выпрыгивать спецназовцы — и бегом за бруствер.
Высадив десант, вертолет продолжил огневую обороняющим перевал, после чего юркнул за перевал второй вертолет. Тоже для высадки десанта.
У спецназовцев не только автоматы, но и пулеметы. Заговорили они хрипловатым басом и словно выбили дурь в один миг из очумевших голов атакующих: кто-то укрылся за валуном, хотя главарь продолжал призывать во имя Аллаха захватить перевал даже ценой жизни: а что ему оставалось делать, если его предупредили, что если не захватит перевала и не удержит его хотя бы часов пять-шесть, пока через него пройдет караван с оружием, боеприпасами, но, главное, с деньгами для сражающихся во имя Аллаха, ему больше не быть командиром. Более того, под сомнением окажется и сама его жизнь. Голос его оставался гласом вопиющего с пустыне. Кому, если признаться честно перед собой, хочется умирать во цвете лет? Только совсем одурманенным. Рай — раем, но и жизнь прекрасна.
Нашелся первый, кто предпочел жизнь раю — припустился вниз и, одолев сотню метров, юркнул в лес, который густо облепил бока ущелья. Ну, а дурной пример заразительным побежали боевики, вдогонку им полетели пули с перевала и вертолетов.
Очистились и террасы, тогда начальник заставы сам перебинтовал рану Михаилу Богусловскому, внушая в тоже время:
— Молодец, что разглядел опасность, но плохо то, что прежде не изучил, как положено это делать пограничникам. Уловил, конечно, что я поднялся к тебе без риска для жизни и легко. Заруби себе на носу, стажер, для пограничника одно из важнейших обязанностей — знание местности. Мы обязаны знать ее лучше местных жителей.
Вот так закончилась стажировка Михаила Богусловского. Вертолет, полный ранеными, госпитальная палата. Там, при собрании ходячих раненых со всего корпуса ему вручили орден Мужества. А на его вопрос, не слишком ли высока честь, прозвучал твердый ответ:
— Заслуженная! Гордись, курсант!
Вернувшись в свой родной институт, который и многие преподаватели, курсовые офицеры, да и сами курсанты продолжали называть военным училищем, Михаил определил себе учиться только на отлично, чтобы, получив право выбора места службы, заявить о желании поехать на ту заставу, где проходил стажировку. Он чувствовал свою вину без всякого на то основания за гибель и ранение пограничников в бою на перевале. Ему казалось, что он что-то упустил, что-то не смог по неопытности своей предпринять упреждающее — он лелеял мечту очистить свою совесть прилежной, вдумчивой службой, благородная цель которой — обеспечение охраны и обороны границы с возможно минимальными потерями личного состава.
И надо же, когда цель можно сказать достигнута, по всем предметам у него пятерки, вдруг взбунтовавшаяся нога может перечеркнуть все: не жди ничего, кроме баранки за кросс. Михаил массировал ногу, все более и более сердясь на нее: ему обидно было не только за себя, но и за взвод. Он видел, что взвод сбавил темп и, стало быть, может не уложиться в отличное время. По его, Михаила, вине. Он с отчаянием стукнул кулаком и крикнул так, как кричал там, на перевале:
— Давай! Давай!
Резкая боль вышибла слезу, но тут же он почувствовал, как нога начала оживать. Пошевелил — послушалась. Осторожно встал, поплотней наступил, ничего, все в норме.
«Ура!!!»
Побежал поначалу с опаской, но с каждым шагом чувствовал все большую уверенность, и ускорял бег.
— Не сбавляйте темпа! Я догоню! — крикнул он, надеясь, что курсовой офицер отзовется на его призыв. Но вышло иначе: притормози лея один из курсантов.
— Давай автомат.
— Нет!
— Ну, хотя бы ремень с рожками.
— Нет!
Он не хотел выглядеть на финише беспомощным, к тому же он знал, что когда в группе тянут кого-то «на буксире», штрафные очки ей обеспечены, взвод же ставил перед собой задачу завоевать по кроссу первое место.
Глава вторая
Азиз возлежал на ковре перед дастарханом, всем видом показывая, словно ничего, кроме ублажения себя чаем с миндальной халвой, его не интересует. Мысли его меж тем ой как далеки от благодушных. Вроде бы он мог гордиться тем почетом, какой ему оказали столь почтенные люди: встретили в аэропорту с поклоном и не в гостиницу повели, а, как они выразились, на природу. И ни разу никто из почтенных не назвал воровской клинкой Багдадский вор, обращаясь не иначе как Азиз-ага. Но вот недолга: в душу самовольно вползла тревожность уже тогда, когда его повезли по знакомой ему дороге, особенно когда из шикарного лимузина ему пришлось пересаживаться в серый, основательно выгоревший уазик.
«Как в тот раз…»
В тот раз в горы вез его начальник горотдела милиции, брюхатый полковник, который всем видом показывал, что он, Багдадский вор, глава крупнейшей в Ферганской долине малины, в полных его милицейских руках. Но Азиза веселило такое поведение разжиревшего на поборах пузана, ибо он знал, ради чего затеян выезд «на природу».
Уазик, переваливаясь на неровностях каменистого дна стремительной речушки, преодолел ее и пополз по ущелью вверх, петляя меж валунами, и Азиз с наслаждением глядел на зеленую густоту склонов, где, как ему виделось, вцепились друг другу в глотки ощетинившиеся колючками ежевика и барбарис, а на эту борьбу за лучшее место под солнцем взирают с презрением могучие ореховые великаны, развесистые урючины и яблони. У Азиза на языке висела фраза: «Твой удел, разжиревший полковник, ежевика, мой — ореховое дерево», но он сдерживал себя не из боязни обидеть высокое милицейское начальство (полковник — шавка, не более), просто он не считал нужным опускаться до такой низости. Тем более, что он уже знал, ради чего поездка в горы. Его духовник, который не случайно получил кличку Хитрый Лис, пронюхал о готовящемся великом базаре.
Ущелье сужалось, все более скалы нависали над едва заметной колеей, петлявшей меж лобастыми валунами, вот оно круто вильнуло вправо — и перед взором Азиза открылась уютная поляна, в центре которой был расстелен большущий ковер ручной работы, а на нем возлежал, положив под спину несколько подушек, тщедушный сморчок. Вправо и влево от него восседали размашистыми крыльями городские тузы.
Никто не встал, чтобы поприветствовать полковника и Азиза.
Полковнику было сухо брошено: «Завтра к обеду лично приедешь за Багдадским вором», самому же Азизу снисходительно указали на свободное место в свите плюгавого представителя из Центра, как его представили Азизу.
Разговор начался сразу же, как молодой мужчина, словно свитый из мускул, подал Азизу пиалу с чаем.
— Твой отец, — заговорил первый секретарь горкома, — самый авторитетный вор во всей Ферганской долине, хорошо помогал нашим отцам, когда они намерились освободиться от ига не только Петербурга, но и Ташкента. Наши отцы не смогли отстоять Кокандскую автономию — слишком много пришло русских полков, но теперь близится время, когда мы можем объявить себя свободными и независимыми. Действовать на этот раз станем без спешки и хитрей.
Первый секретарь сделал паузу, подобострастно посмотрев на представителя из Центра, не скажет ли тот свое мудрое слово, но тот многозначительно промолчал, и тогда первый секретарь продолжил:
— В нашей долине по воле Москвы осели и расплодились турки-месхетинцы. Они хитры и проворотливы. Они вызывают зависть у узбеков-тружеников своей зажиточностью, и мы хотим, еще более разжигая зависть, поднять массы на расправу с месхетинцами. Мы считаем эту акцию пробным камнем великого дела, как бы его началом. Эта акция послужит уроком для живущих у нас русских, что станет с ними, если они не поддержат нас тогда, когда мы заявим об автономии? Эта акция послужит и маловерам — трусам наглядным уроком того, что нам по силе задуманное.
Азиз сразу же понял, что именно его малине и малинам всех других городов долины предстоит исполнять главную роль в так называемой возмущенной массе. Понял он и то, какое богатство сулят ему предстоящие погромы, и он не стал долго колебаться. Только для вида, лишь для солидности изобразил задумчивый вид, затем, вдохнув ароматный парок крутого зеленого чая, ответил уверенно:
— Через месяц малины Ферганы, Намангана, Андижана, моего родного Багдада и всех других городов долины будут готовы действовать по вашему, мугалим, указанию.
— Указаний никаких не будет. Все на твое, Багдадский вор усмотрение. При тебе останется как советник, — кивок в сторону представителя из Центра, — имеющий великие полномочия. Все о предстоящем. Сейчас — охота. На кекликов и на архаров. Нас ждет прекрасный ужин и еще более прекрасный завтрак, приготовленный в тандыр-гуше.
Советник даже не соизволил удостоить Азиза взглядом.
«Ладно, попляшешь у меня, когда базар начну!»
Он и в самом деле проучил плюгавого чванливца, отдав его на потеху своим боярам. Но этому придет свое время, пока же партийно-советская власть города принялась утешать себя охотой.
Мелкокалиберок хватило всем, и все охотно, разбившись лишь на две группы, понесли бережно свои животы вверх к скалам, где кекликов почти не пуганных — палкой бей.
Только представитель из Центра остался нежить свое тщедушное тело на Дорогом, ручной работы ковре.
Азиз стрелял не в пример всем метко, но не спешил к трепыхавшемуся еще кеклику, чтобы непременно отрезать ему голову, пока тот не успел еще утихнуть, и получалось, что почти вся его добыча оставалась брошенной, ибо первый секретарь горкома всякий раз брезгливо пинал носком сапога безжизненную тушку и твердо объявлял:
— Хорам! Поганая!
Сам же он, если попадал в кеклика, уморительно тряся отвислым животом, семенил к добыче, чтобы дорезать падонка, и если успевал это сделать, то оглашал горы торжественным криком великого победителя, если же не успевал, то пинал жертву, как футбольный мяч.
Все остальные политработники (а Азиз оказался в их группе) поступали точно так же, как и их босс, поступали по предписанию шариата.
В отличие от партийцев Азиз не был правоверным мусульманином — любопытства ради он прочитал Коран, но не воспринял его сердцем. Вольная душа его не желала томиться в клетке, и Азиз жил, как его отец, вольно, чтя лишь кодекс чести воровского мира. Вот поэтому, отколовшись от коммунистов-мусульман, начал он угодную его душе охоту: стрелял наверняка, затем зажимал меж пальцев головку (еще трепыхавшегося или мертвого — все равно) кеклика, резко встряхивал — головка отрывалась от туловища, и он совал добычу в висевшую сбоку торбу.
Взяв десятка полтора куропаток, он вернулся в стан и передал свою добычу мускулистым служкам, которые ловко содрали с них кожу вместе с перьями и выпотрошили.
Когда вернулись толстобрюхие (кто с парой, кто с тремя или четырьмя кекликами), добыча Азиза была уже готова для жарки.
Вскоре запылал огонь под большим казаном, в котором вначале растопили курдючное сало, затем побросали в кипящее сало кекликов, а через четверть часа тушки налились янтарной приятностью, и их стали вынимать шумовкой, укладывая. на большущий поднос. Аромат — слюнки глотать не успеваешь.
Налили в пиалы водки, и первый секретарь не приминул оправдать предстоящую пьянку:
— Аллах запретил пить вино, но он ни словом не обмолвился о водке, поэтому мы остаемся безгрешными перед Всевышним, указывающим нам верный путь, если пригубим пиалы с аракой.
Пригубили по одной, пригубили по второй — и пошло-поехало.
Когда подоспело время вечерней охоты на архара, у всех заплетались языки, только один Азиз оставался трезвым: он, не любивший ни вин ни водку, действительно только пригубил ради приличия первую пиалу, кекликов же запивал чаем.
В засаду он пошел вместе с одним из служек, которого называли не иначе, как мерген (меткий стрелок). Вооружились они карабинами «Барс».
— В скрадке посидим до водопоя, — предложил Азизу напарник, — не шевелясь посидим.
Скрадок был устроен ловко, метрах в тридцати от заводи, которую образовала бурливая речка, — заводь эта стала излюбленным местом для водопоя теков и архаров. К тому же для приманки устроено было близ заводи несколько лизунцов.
Ждали не очень долго. Даже не успели разговориться. Первым гордо вышел из лабиринта скал круторогий архар. Любо-дорого посмотреть. Одни рога, как охотничий трофей, чего стоят. Но укрывшихся в скрадке мало интересовали рога, не ради рогов они здесь, им нужно нежное мясо, а у рогача не может быть мясо мягким.
— Не стреляем? — спросил на всякий случай напарник у Азиза, и тот согласно кинул.
На этот раз ждать пришлось добрых полчаса, пока к водопою вышла годовалая самочка. Именно то, что нужно. Азиз взял ее на прицел. Пуля пронзила шею.
Азиз еще от отца слышал о тандыр-гуше. Одно восхищение: пальчики оближешь, вкуснее мяса, как он утверждал, нет на всем белом свете, чем мяса, приготовленного в земляном тандыре. Он даже объяснял, как готовится такое мясо. Теперь же Азиз воочию все это увидел. В каменистом грунте на обочине поляны выдолблены две узкие ямы глубиной в рост человека. Одна — метра два длиной, вторая очень напоминает трубу. Она и служила трубой и поддувалом одновременно, ибо было соединена с большой ямой довольно широким отверстием. В большой яме-траншее уже лежали сухие яблоневые дрова, а рядом кучился сухой хворост и повяленная полынь.
Полынь в ущелье не росла, стало быть, ее загодя привезли снизу.
«Размах! Умеет ублажать себя партийно-советская власть».
Пока служки разделывали тушу, сам первый секретарь, то и дело готовый свалиться в пылающую траншею, но всякий раз подхватываемый могучими руками служек-телохранителей, пытался подбрасывать хворост на, как ему казалось, слабо горевшие дрова. Наконец понявши, что его усилия тщетны, он пьяно махнул рукой:
— Аллах предопределил мне руководить, а не заниматься мелкими делишками.
И он действительно принялся руководить, и если бы служки поступали по его советам, земляной тандыр никогда бы не был готов к приему мяса, но они, вроде бы слушая его, одни готовили тандыр с умелой ловкостью, и дрова в яме-траншее пылали, выплескивая нестерпимый жар даже наружу, другие, разделавши тушу, принялись разрубать ее на шесть частей и навешивать их на две толстые, почти с руку толщиной жерди — завершив эту работу, принялись готовить большую лепешку из пресного теста и нарезать полоски курдючного сала.
Яма-траншея начала белеть боками. Брошена еще одна охапка хвороста, и только он погорел, тут же пара служек закидала землей яму-трубу, и угли в самом тандыре вскоре начали покрываться серым пеплом.
— Пора, — многозначительно изрек первый секретарь, и на сей раз служки с ним согласились, они швырнули лепешку на угли да так ловко, что она легла ровно, не покоробившись затем перекинули вдоль тандыра жерди с навешенными на них оковалками, разложили на мясе полоски курдючного сала и без промедления застелили все это толстым слоем полыни, которую тоже без проволочек забросали землей, образовав довольно внушительный холм.
— Все! Ожидаем до утра, глотая слюнки, — ляпнул третий секретарь, но первый снисходительно поправил его:
— Ты как всегда не прав. Зачем нам глотать слюни, если мы можем сесть за дастархан. Или у нас закончилось питье? Или у нас нет закуски?
Вдоволь всего этого добра, и номенклатура пила и ела до полуночи.
Сейчас, лежа на столь же дорогом ковре и столь же пухлых подушках, Азиз невольно сравнивал то далекое прошлое с сегодняшним. Вроде бы все повторялось, словно заново прокручивалась та же самая лента, и только отличалось отношение к нему хозяев пикника. Его никто ни разу не назвал Багдадским вором, обращались к нему с почтением — его так же ублажали, как тогда представителя Центра, и именно это более всего смущало его.
Тогда он сразу понял, что представитель — ноль без палочки, он и поступил с ним, как ему Аллах на душу положил.
«Неужели и меня принимают как пустоту? Ради денег я им нужен. И только».
Но иная мысль выталкивает прежнюю: нет, не ради разового взноса пригласили его, Азиза, из Москвы. Он может постоянно и довольно щедро финансировать вот эту невесть что о себе возомнившую свору. Сегодня он не Багдадский вор, имеющий под рукой только одну малину, — теперь он в авторитете самого московского клана, и если что, клан не оставит его в беде.
Все так, но почему ему не дали мелкашку поохотиться за кекликами? В несколько голосов: «Отдыхайте, отдыхайте. Гостю не престало утомлять себя беготней по камням». Но если я почетный гость, отчего нарушается святая святых: желание гостя — закон для хозяев. Когда было высказано желание идти в засаду на архаров, повторилось то же самое: «Отдыхайте, отдыхайте». Что он старец какой-то, чтобы возлежать на подушках?
Нет, не доброжелательность, не почтительность, наоборот, опасение руководит их поступками. Они наверняка боятся дать ему в руки оружие. Почему? Если честные отношения, то честные. Стало быть, черные мысли владеют головами хозяев.
Теперь он обратил внимание еще на одно обстоятельство: прислужников, молодых качков, непомерно много.
Как он не отнекивался, а сомнения и тревога все упрямей вгрызались в душу, заставляя внимательней приглядываться к окружающему, более разумно взвешивать его, скрупулезно анализируя, чтобы попытаться во всем разобраться, соотнося нынешнее с прошлым, когда он впервые, к тому же не по своей инициативе, вошел в сговор с партийно-советской верхушкой.
Тогда он свои обещания выполнил с лихвой, но несмотря на это его предали. Он оказался в лагере строгого режима, и все же номенклатуре даже этого оказалось мало — его, Азиза, замыслили убить, дослав одного из его же бояр, клюнувшего на посулы. Спасибо духовнику, Лису Хитрому: прослал весть. Погиб боярин на лесосплаве — случайно зашибло бревнами.
Он же, Азиз, выжил и несказанно богатым обосновался в Москве, раскрутив игорный бизнес. Женился, родил сына и, казалось, мог в полном достатке и счастливо доживать свой век, тем более, что его приняли в свой клан московские авторитеты, не отказавшиеся от солидного вклада в общаг.
Покой его нарушил гость из Ферганы. Солидный мужчина спортивного вида. Он не назвал своего имени, он подал письмо от Избранного Аллахом. Так он назвал автора письма, чьего имени на письме тоже не было.
Письмо короткое: каждый родившийся в Ферганской долине обязан поддержать великое начинание.
— Какое? — поинтересовался Азиз.
— Великое! — с пафосом ответил гость. — Борьба за свободное государство. Мусульманское. Живущее по законам шариата.
— Воскрешение прежней идеи? Кокандская автономия.
— Не совсем. Тогда ставилась цель освобождения от России, теперь Избранный Аллахом ведет нас к полной свободе, к тому, чтобы стать самостоятельными во всем. Нашим законом станет один только шариат. И ничто иное!
— А что потребовалось от меня?
— Деньги. Их у тебя много. Еще нужен ты сам.
— Я дам весть духовнику в Багдаде, он отстегнет нужную сумму.
— Речь не идет о выделении.
— Обещаю двадцать процентов от дохода моего бизнеса. Ежегодно. Можно каждый квартал, можно раз в полгода.
— Похвально слово праведного. Только у Избранного Аллахом иные виды на тебя: он предлагает тебе место в своем правительстве.
— А если меня больше привлекает мой бизнес?
— Воля твоя. Но тогда берегись кары Аллаха!
Предупреждение это прозвучало со зловещей сухостью, и Азиз понял: нужно ехать. Там, на родине, стены помогут.
«Выкручусь с помощью Керима. Не даром же его кликуха — Лис Хитрый».
Не знал Азиз, что духовник его, загоревшийся приманкой войти в правительство нового государства, стал верным слугой замысливших переворот в Ферганской долине. В одном он схитрил: назвав полностью имущество Багдадского вора, о своем частично, а об общаге полностью утаил.
Не вдруг узнает об этом Азиз. Когда будет слишком поздно.
Знай он об измене духовника до разговора с посланцем от Избранного Аллахом, он повел бы себя иначе, да и теперь он размышлял бы не столь благодушно, лежа на дорогом ковре в ожидании ужина.
Находясь же в неведении, Азиз старался успокоить себя. Нет, он не имел полной веры в истинность относившихся к нему с великим почтением и обещавших завтра же представить его Избранному Аллахом: он уже испытал на себе коварство власть предержащих. Сегодня они одни, завтра без зазрения совести станут совсем иными. Для них честь и совесть — не существующие понятия. У них один бог: личный интерес, личная выгода, видимая польза для себя. Они в один миг с легкой душой наплюют на то, чему только что молились.
И все же рассуждения Азиза шли по ложному пути:
«Кто я был тогда? Известный только в Ферганской долине пахан. А сейчас? Московский клановик. Российский бизнесмен.
Не по зубам я вот этой мелюзге, возомнившей о себе невесть что…»
Не высокомерие ли? Не лучше ли посмотреть на событие реальней? Можно было бы понять, что он можно считать беззащитен. Вся его недвижимость, все капиталы в Москве фактически принадлежат жене, хитрой и проворотливой бестии, у который к тому же есть могущественный любовник. И ей все едино, вернется в Москву муж или нет. Она палец о палец не ударит, чтобы помочь ему, даже узнавши, что он в трудном положении.
Не пошевелятся и клановики. Приняли они его в свой клан за большие деньги, но сам он нужен был им как собаке пятая нога.
Азиз об этом даже не думал, зато хорошо взвесили все те, кто окружил его почтительностью. Они твердо знали: он в их руках, и не трепыхнется, когда ему полностью откроется его роль в предстоящих событиях.
Ужин из кекликов, прокипяченных в курдючном сале до аппетитной янтарности, тоже начался с тоста, который слово в слово повторял тост первого секретаря горкома о том, что Аллах запретил пить только вино, но ни араку. На сей раз Азиз не только пригубил пиалу, но пил почти со всеми наравне, и вскоре хозяева пикника стали казаться очень даже приятными и доступными. Вся его подозрительность улетучилась без остатка.
В столь же дружеской обстановке, можно даже сказать, очень приятно прошел завтрак. Мясо из тандыра Азизу показалось особенно вкусным, и он уплетал его за обе щеки, запивая водкой, которую служка заботливо подливал ему в пиалу.
Очнулся Азиз в машине, которая сумасшедше неслась по асфальтовой ровности, и сразу же тоска сдавила его сердце: справа и слева его подпирали здоровенные качки, готовые в один миг приструнить его, если он трепыхнется. Его уже возили вот так, когда арестовывали. Только машина была не импортная с так прекрасно отделанным салоном, а грязная и запыленная, пропахшая потом, да и по бокам сидели не вот такие накачанные бугаи в модных костюмах, а затюканные милиционеры, которых всегда удавалось в конце концов подкупить, отстегнув изрядную сумму.
— Куда везете? — спросил Азиз сидевшего рядом с шофером бритоголового качка.
— На встречу с тем, кликуха которого Избранный Аллахом.
Больше ни слова. За каждый вопрос — в зубы.
«Вот это влип!»
Хотя бы шило припрятать. Шильнул бы одного, второго, а бритоголового — по темечку, как миленький развернул бы шофер машину и повел в Багдад. Но пустой он, голорукий.
«Раззява!»
Через пару часов сумасшедшей езды он поймет, что будь у него даже шило или что иное, спасения нет: на дороге, по которой его везли, стояли частые легковушки, битком набитые качками с автоматами. Когда же машина въехала через ворота высокого глинобитного дувала в просторный двор с красивым двухэтажным домом, все стоявшие на обочинах легковушки тут же заполнили двор. Это окончательно убедило Азиза, что влип он основательно.
«Все, живым не выпустят если что не так!»
Качок пристегнул свою руку к руке Азиза наручником и вяло бросил:
— Спешиваемся. И как только они оказались вне салона, тут же смурной верзила пристегнул наручниками вторую руку Азиза к своей руке. И усмехнулся:
— Тебя ждет, Багдадский вор, зиндан.
Его завели в клетку, чем-то напоминающую лифт, и клетка в самом деле поползла вниз, все более погружаясь в полную темноту. Несколько минут спуска в этой кромешной темноте — и свет. До рези в глазах яркий.
Но самым удивительным для Азиза оказалось не обилие света, а гнев тех, кто встретил его и конвоиров:
— О! Аллах! Всемилостивейший! Указывающий верный путь! Как вы посмели унизить и оскорбить почтеннейшего гостя?! О безмозглые!
Конвоиры моментально отстегнулись от Азиза, но продолжали держаться рядом, хотя встретивший Азиза в подземелье продолжал без удержу костить их. Наконец, руку прижав к сердцу, начал вроде бы искренне извиняться перед Азизом:
— У кого есть сила, у того нет ума. Им велели привезти, они исполнили. Но как?! До глубины души оскорбив будущего члена правительства свободной страны. Избранный Аллахом, если ему позволит время, приедет сюда встретиться с тобой, будущим главой всех вооруженных сил мусульманской страны.
Знакомый Азизу прием: поначалу испугать основательно, а потом пообещать лепешку с нишаллой или халву.
Понять-то он понял затеянную с ним игру, но разве он мог хоть что-то изменить в сложившейся обстановке. Его удел в данный момент выказывать полное одобрение тому, что происходит, принимая все будто бы всерьез.
— В ожидании совета, который здесь откроется как только приедут остальные члены будущего правительства, я покажу тебе арсенал, каким мы располагаем.
Азиз слышал еще до сговора с партийно-советской элитой, что где-то на границе с Таджикистаном пробивается под горой ход вместо старинной подвесной дороги, устроенной много веков назад на склоне той горы. Древняя караванная дорога как раз в том месте разветвлялась. Одна ветвь ее шла через Фергану на Самарканд и Бухару, вторая — в Афганистан через Памир. Вот ее и решили в свое время те, кто замыслил отколоться от СССР, возродить, но не обновляя дорогу-карниз, а пробив тоннель в самой норе, создав вместе с тем еще и арсенал в тоннеле. Строительство тоннеля-арсенала велось в строжайшей тайне. Когда затея эта провалилась, и многие из заговорщиков подверглись аресту за причастность к так называемому хлопковому делу (а спекуляция хлопком велась для прикрытия антисоветской деятельности и для добывания денег на готовившийся переворот), тоннель засыпали, схоронив и работавших в нем. Не могло быть, чтобы чекисты не знали об арсенале и не доложили о нем на самый верх, но там решили, должно быть, оставить все в тайне — не принято тогда было даже упоминать о сепаратизме.
Шило в мешке, однако же, не утаишь: в Узбекистане все от мала до велика знали, что дворец министра внутренних дел республики брали штурмом специально приехавшие из Москвы подразделения.
В тот год Азиз велел своей малине на какое-то время уйти в тень.
Тогда аресты обошли стороной его малину, и жила она еще много лет в благополучии, пока не оказалась на службе второй волны заговорщиков.
Вот теперь третья волна. Удастся ли ее пережить?
А Азиза ведут по широкому тоннелю, открывая каждую комнату справа и слева. На кованых дверях — внушительные висячие замки. Ключник без всякой задержки находит нужный ключ, и перед взором Азиза предстают либо новенькие самой последней модификации «Калашниковы», либо цинки с патронами, но самыми внушительными выглядели в особенно просторных комнатах самонаводящие ракеты.
— Есть и русские, есть и американские. — Поясняет ключник. — По точности и дальности полета они не уступают друг дружке.
Проверено.
— На живых целях?!
— Конечно.
Ответ прозвучал настолько буднично, что Азиз, привыкший запросто распоряжаться жизнями людей, был ошарашен: как же можно испытывать на ни в чем неповинных людях, сбивая мирно летящие самолеты или вертолеты?!
— Комиссии по выявлению причин авиапроисшествия из наших же составляется, — заметив смену настроения Азиза и поняв ее по-своему, пояснил хозяин. — Выводы известны: нет конкретных виновных — неполадки в двигателях или ошибка пилотов, с которых уже ничего не спросишь. Так что, никаких подозрений.
«Да! мораль!»
Едва успели они осмотреть весь арсенал, как в подземелье начали спускаться один за другим те, кто встречал Азиза в аэропорту, а затем ублажал на пикнике. На сей раз, однако, ни у одного из боссов не было на лице подобострастности. Само величие. И еще брезгливость. Словно не нужда, они бы ни за что не стали бы разговаривать с подонком. К запятнавшему себя воровством, насилием они бы, не прикажи им Избранный Аллахом, не подошли бы близко.
Слова тоже оскорбительные:
— Избранный Аллахом не счел нужным встречаться с тобой, Багдадский вор. Его воля будет доведена до тебя нашими устами.
— В чем его воля? Я приму ее, если на то будет моя воля.
— Не задирай нос, Багдадский вор. Мы все под волей Аллаха и под волей Избранного им. У тебя очень маленький выбор: либо ты безоговорочно, со всем прилежанием исполняешь то, что сейчас услышишь от нас, или останешься здесь на утеху вот этим, — кивок в сторону бугаев, — и они покажут тебе, как говорят русские, кузькину мать. Живым ты отсюда не выйдешь.
Заруби себе на носу: никто за тебя не заступится. Даже искать не станут. Ни жена, которая даже рада, что ты уехал от нее, ни московский воровской клан. Мы это выяснили давно. А если вдруг начнут искать, упрутся в глухой дувал. Ты же узбек. Тебе ли пояснять, как мы умеем запутывать следы. Так что у тебя практически нет выбора.
— Я готов встать под руку Избранного Аллахом, — твердо ответил Азиз, сам же подумал: «попляшете под мой сурнай, как только править стану я. Отыграюсь! Клянусь!»
— Мы не ждали иного ответа.
— Тогда — к делу.
— Тебе надлежит передать весь свой клад в полное распоряжение Избранного Аллахом.
Не поспешил с ответом. В свое время Лис Хитрый давал вроде бы дельный совет: устроить подземелье где-либо в горах, но он не пошел на это. Все свое богатство он упрятал в убогих домах на самых окраинах города. В домишках тех жили дряхлые старики, которые были несказанно рады получать ни за что ни про что добрую мзду только за одно молчание.
«Вдруг кто-то из них проговорился?»
Он еще не решил, что ответить, как его словно огрели по темечку обухом:
— Нам известны оба схрона. Мы могли бы взять их сами, но мы не воры. Не бандиты.
«Только Керим, духовник малины, знал о схронах. Значит, он! Предатель!»
— Ну?! — поторопили его.
— Без всякого сожаления отдаю золото, жемчуг и бриллианты на великое дело, угодное Аллаху!
— Слово праведного.
— Что еще?
— Не только свою шайку вызовешь сюда, но пошлешь своих людей к главарям в другие города. Нас устраивает кодекс воровской чести, устраивает ваша дисциплина, поэтому Аллахом Избранный постановил так: ты, Багдадский вор, во главе отряда, костяком которого станут малины, как вы называете свои банды. Главари банд — командиры над своими, но не только. Под знамена освобождения встают сотни добровольцев по зову сердца, преданного Аллаху и им Избранному — вот они тоже будут подчинены командирам так называемого первого звена. Над ними всеми, повторяем, ты, как главнокомандующий.
— Продумано основательно. Я готов принять на себя столь великую ответственность.
— Похвально. Вот тебе бумага и ручка. Вели Лису Хитрому привезти сюда всю твою малину. Отсюда станете посылать тех бояр, как вы называете отпетых бандюг, кому доверяете, по другим городам.
Не очень-то устраивал такой расклад Азиза, но он не видел смысла перечить: только послушностью можно обрести полное доверие, а завоевав его, можно исподволь все обернуть в свою пользу.
Азизу отвели довольно уютную, даже побеленную комнату с парой кроватей и телевизором.
— Это для тебя и Лиса Хитрого. Ваша резиденция. Ваш штаб.
Без насмешливости это было сказано, что Азиза особенно оскорбило.
«Торжествуйте! Но помните, придет время варить плов не вам, а мне!»
Только к исходу следующего дня Керим привез малину. Не скопом вся, а попарно входила она в калитку указанного ей дома, и спускались прибывшие в подземелье тоже парами. И чем больше собиралось воров (а прибыли в основном бояре), тем шумней они выказывали свое недовольство происходившим.
Вот, наконец, и сам Лис Хитрый. Обнялись, потерлись щеками, и Керим доложил:
— Приказ, отец наш, выполнен. Кроме пескарей, все до одного.
— Сказал, ради чего сбор?
— Нет. Твое это право. Скажешь такое слово, какое нужно.
Что же, все по уму. Но что сказать своим верным друзьям? Не раскрывать же сразу все карты. Тайность — весьма великое подспорье.
— О чем базар, бояре? — Азиз, узнаваемый ими, спокойно-уравновешенный, вроде бы свой в доску, но в то же время он вроде за непроницаемой стеной, ни в коем разе не дающий ни малейшего повода для панибратства. — Скажите, загонял я малину когда-либо в угол? Нет! Я вел малину дорогой великого благополучия и богатства. Вы богатейшие из всех воров нашей долины и даже всего Узбекистана. Наш общаг поистине неисчерпаем. Так неужели вы усомнились в чем-то? Как вы могли подумать, что я поведу вас не по верному пути? Базар прекращайте и спокойно ждите нашего с духовником слова. Вас разместит хозяин арсенала. Да-да, вы не ослышались — именно арсенала. Мы же с духовником как всегда пошевелим мозгами.
Все.
Совершенно уверенный, если судить взглядом стороннего наблюдателя, что бояре безоговорочно ему подчинятся, повернулся и твердой походкой пошагал в отведенную для них с Керимом комнату.
Едва они вошли, духовник тут же написал на листке бумаги: «О главном — ни слова, не без жучков здесь».
Азиз понимающе кивнул и принялся рисовать Лису Хитрому захватывающую дух картину:
— Я главнокомандующий вооруженными силами свободной страны, ты мой первый заместитель. Все наши бояре при ответственных должностях. Ради этого можно идти в бой. Но скорее всего боя не будет. Мы встанем стеной в горловине Ферганской долины за Наманганом, и разве найдется сила, способная нас столкнуть. У нас есть все, чтобы противостоять и танкам, и самолетам. Но, думаю, отец нации не решится на боевые действия. Побоится потерять Ташкент. Разве у него под боком мало тайных сторонников шариатского государства?
Он говорил то, что ему внушали на пикнике в горном ущелье до того, как опоили, и Керим кивал в такт его фразам, а на бумаге написал: «Нужно поговорить».
Теперь кивнул понимающе Азиз, хотя так же вдохновенно продолжал свою речь, постепенно переходя от перспектив светлого будущего к делам сегодняшним: в какой город кого послать, чтобы авторитетно выглядело для паханов, и чем их пугать, если кто заупрямится. Когда же обговорили кажется все, Азиз буднично так вопросил:
— Ты передашь боярам наше слово или пойдем вдвоем?
— Считаю, вдвоем убедительней.
— Хорошо. Пошли.
Азиз знал, что бояре его малины размещены в шатрах в ущелье, куда пробили тоннель через гору, — до выхода минут десять топать, можно обменяться информацией, поделиться сомнениями, спросить в конце концов, кто выдал места вкладов. Азиз, однако, не начинал разговор первым, ожидая, когда же заговорит Керим. Но Лис Хитрый шел по левую руку Азиза молча.
Вот и выход. Мягкое дуновение свежести. Привыкший к быстрой ориентировке взгляд Азиза ухватил сразу все: уточку, продолговатую, размером с пару стадионов поляну, над которой нависли крутые клыкастые склоны высоких гор, и только в одном месте в них словно кто-то когда-то прорубил брешь ударом гигантского топора. Вся ровность заставлена рядами шатров. Новенькие они. С иголочки.
Азиз хмыкнул:
— Долина… Дно колодца.
Керим, притронувшись к локтю Азиза, чтобы обратить на себя его внимание, приложил палец к губам. И только когда отошли от тоннеля на несколько шагов, а до шатров оставалось еще порядочное расстояние, Керим приглушенно заговорил:
— Они нарушили уговор. Я им сдал твои клады, треть своих, полностью сохранив общаг. Они обещали одно, поступили иначе. Я успел послать Махмуда-боярина в Ташкент. Он сможет сказать кому надо о заговоре. У него есть к кому дать хабар.
— Поторопился ты, Лис Хитрый. Не схитрил на этот раз. Нам выгоден большой базар. Нам выгоден шмон. В неразберихе мы могли бы рвануть когти. А если шмон начнет Ташкент, тогда что? Нас отсюда не выпустят. Они нас засыпят, как засыпали всех, когда началось раскручиваться хлопковое дело.
— Тогда не было выхода. Сейчас он есть. А сколько оружия?
То-то. Пока же осту паем так, словно мы ничем на обижены.
Согласен?.
— Не совсем. Я продолжаю считать твой шаг поспешным. Но теперь уже ничего не изменишь. Пойдем по твоему плану.
Короткая откровенность больше не повторялась: они не верили, что в самом деле Азизу дана полная бесконтрольная самостоятельность. По всем правилам они не должны упускать без наблюдения ни один шаг Багдадского вора. Не могут они ему доверять безоглядно. Понимая это, Азиз с Керимом очень осторожничали, взвешивали каждое слово, прежде чем произнести его вслух.
При крайней необходимости они обменивались мнениями на бумаге, тут же ее проглатывая.
Паханы отозвались, и шатры на поляне начали с каждым днем все более и более оживать. С паханами приезжали только матерые бояре, и вели они себя весьма независимо. На первых порах слово Азиза для них почти ничего не значило: законным они считали только слово своих паханов. По воровскому праву все верно, но обстановка-то необычная, вот Керим предлагает Азизу собрать совет авторитетов и на нем определить главу совета.
— Не воспримут ли это чертовы боссы с обидой? Я же ими назначен главнокомандующим.
— Не по шерстке им — это точно. Но пусть привыкают.
Несколько дней Азиз медлил, но как шатры стали заселять идейные добровольцы, горевшие желанием во что бы то ни стало отделиться от Ташкента, не думающие о последствиях, сбор паханов стал просто необходим. Дело в том, что бояре без зазрения совести начали подминать идейных.
Базарили паханы долго, но все же приняли предложенное Лисом Хитрым постановление: «идейных не притеснять, относиться к ним с братской уважительностью. Слова Азиза для всей братвы — законное слово». Внесено было лишь малое изменение: Багдадский вор волю свою объявляет паханам и только в крайнем случае боярам не своей малины.
Разумное дополнение. Получилась более четкая, как в армии, подчиненность.
Поправка эта сохранилась и когда началось формирование так называемых особых отрядов, во главе которых по твердому настоянию Азиза (боссы с неохотой, но согласились) ставили только паханов. Каждому особому отряду определяли город для захвата главных учреждений Ташкентской власти. Самому же крупному отряду, командовать которым поручили Кериму, предстояло перекрыть узкий вход в Ферганскую долину, оседлав главную магистраль и железную дорогу.
Керим сразу же предложил:
— Снимем рельсы километра на три перед собой.
— Годится, — согласно закивали боссы.
Вроде бы с гордостью восприняли Азиз с Керимом столь ответственное задание, но когда они остались одни в своей комнате, Лис Хитрый черкнул на листочке: «Не пополнить наш общаг».
— По-полним, — буркнул в ответ Азиз, потом, спохватившись, на бумаге продолжил: «Настою половину малины оставить при себе, и все пойдет как по маслу».
Назначили день присяги. Ждали приезда Избранного Аллахом, он, однако же, не приехал. Верные его апостолы объявили, что он очень занят делами государственной важности и присягу принимать поручил им.
Все прошло торжественно. Особенно удался той с пловом, свежими лепешками до отвала и в достаточном количестве не только хмельной бузы, но и водки для тех, кто не считает ее пить за грех.
Покидая шумный от изрядно выпитого хмельного той, Апостолы пообещали:
— Очень скоро узнаете день начала действий.
Дни, однако, шли чередой, но не только не объявлялось время начала действий, «армии» даже не выдавали оружие и боеприпасы. И вдруг поползли от шатра к шатру слухи, будто во все города Ферганской долины входят войска из Ташкента, Самарканда, Бухары. Верные президенту войска. Более того, начались аресты.
Паханы потребовали созвать совет, намереваясь тут же разъехаться по своим хавирам, забрав с собой всех своих бояр, Азиз согласился, пообещав:
— Перегодим пару деньков и соберемся.
— А чего ждать?!
— Подождем слово тех, кто затеял этот хипеш.
— Они, должно быть уже загорают за решетками!
— Не базарьте попусту. Сказал — подождем, слово не меняю.
Как не по уму поступил Керим, направив весть о заговоре в Ташкент, так не по уму поступал теперь Азиз, не предвидя, чем все закончится. Он уже на следующее утро понял свою ошибку: в подземелье спозаранок спустилась сотня вооруженных до зубов молодцов в бронежилетах и пуленепробиваемых шлемах, как у настоящих спецназовцев. В большинстве своем они разместились в первых комнатах арсенала, взяв таким образом под полный свой контроль выход из тоннеля. Меньшим числом они блокировали выход в долину и организовали постоянное патрулирование самого тоннеля. Они явно примут меры против тех, кто попытается взломать замки на комнатах с оружием.
«Влипли», — черкнул на бумаге Керим.
«Будем шевелить мозгами», — ответил Азиз.
Им, однако, не осталось времени разработать план своего освобождения. Один из выходов — уходить малыми группами в горы и кружным многодневным путем добираться до своих домов. Но что их ждет там? Милицейские и спецназовские засады. Если взяли хоть кого-то из боссов, те не станут ждать пыток, выложат следователям все, что знают.
С боем пробиваться через тоннель? А что это даст? Тупик полнейший. Разумного выхода не видно.
И тут — словно снег на голову: еще одна сотня качков спускается в подземелье. Но не вся вдруг, а по несколько человек, соблюдая тайность. Тут же позвали Азиза.
— С часу на час прибудет Избранный Аллахом. Его воля такая: отбери две сотни верных тебе людей. Бесстрашных и сильных. Мы уходим в Афганистан. Кто-то предал нас. Кто-то из допущенных к планам освобождения. Пока не знаем, кто. Но мы узнаем. В Ташкенте много наших людей.
«Вряд ли, — хмыкнул про себя Азиз. — Лис Хитрый следа не оставит».
Часа через два в подземелье и в самом деле спустился Избранный Аллахом. Черная окладистая борода, пушистые смоляные брови нависли над пронзительными карими глазами. Зеленая чалма венчала святую голову Избранного.
Внимательно пронизывающим и лишающим воли взглядом посмотрел Избранный на Азиза и спросил:
— Готовы ли сотни?
— Через полчаса будут готовы. Останется раздать им оружие.
— Действуй быстро, но без излишней спешки.
Уходя по тоннелю к выходу, Азиз услышал за спиной шум, характерный для падающего гравия.
«Что?! Остальных замуруют?!»
Он не ошибался в своем страшном предположении: всех, кто не уйдет с Избранным Аллахом, загонят в тоннель и плотно затворят чугунные ворота.
Глава третья
Радостное возбуждение, шумная бестолковность царили на плацу, пока не установились ровные квадраты взводов выпускного курса и не подошли с песнями курсанты младших курсов. Вот тогда только установилось торжественное молчание. Вот-вот должно появиться командование, чтобы зачитать приказ о присвоении выпускникам лейтенантских званий и поздравить с первым шагом в их долгой офицерской карьере.
Время, однако, шло, всем становилось понятно, что вышла какая-то помеха. Через несколько минут лейтенанты начали перешептываться:
— Приказ не дошлифовали.
— Что его шлифовать. Он давно отшлифован.
— Не скажи. Троечникам возьмут да на младших срежут.
— Не каркай.
Приглушенный смешок в ответ на столь резкое слово. Все знали, что никакого различия не делается между окончившими с отличием и едва-едва вытянувшими на троечки. Еще в последние месяцы перед выпускными экзаменами курсанты меж собой довольно активно толковали о заметном поощрении лучших. Они даже предлагали курсовому схему: круглый пятерочник — старший лейтенант, троечник — младший. Однако курсовой, внимательно выслушав прожектеров, отмахнулся:
— Нет такого ни в уставе, ни в наставлениях. Сдал без двоек — лейтенант. А кто по первому разряду, у того право выбора места службы.
— Жаль, — единую оценку дали курсанты. — Нарушается главный принцип армейской жизни: поощрения достойным, по делам карьера, а не по звонку.
Но смешок тут же вроде бы поперхнулся, ибо увидели курсанты совсем не то, чего ожидали: в почтительном окружении полковников и генералов, к тому же поддерживаемая под локоток замом по воспитательной работе уверенно, хотя и не торопливо, шагала очень приятная старушка. И никто в строю не заметил, как краска не то гордости, не то смущенности вспыхнула на щеках Михаила Богусловского, увидевшего совсем неожиданно для себя свою бабушку.
Анна Павлантьевна Богусловская в свои почти сто лет выглядела можно сказать прекрасно. Строгий серый костюм подчеркивал ее на удивление сохранившуюся фигуру. Лицо почти без морщин. Густые каштановые волосы, пышность которых укрощали бриллиантовые заколки, являлись приятным обрамлением ее и без того милого лица.
«Что она скажет?! — терзался Михаил. — Вспомнит всю нашу родословную? Разве современно? Насмешек товарищей не избежать».
У микрофона встал начальник отдела кадров и с заметной взволнованностью возгласил:
— Слушай приказ!
Голос его обрел будничность лишь тогда, когда он начал перечислять фамилии, имена и отчества удостоенных первого офицерского звания.
Приказ прочитан. Сейчас сам начальник поздравит выпускников, и взовьется троекратное «ура» над плацем, полетит эхом меж казарм, учебных корпусов, перекинется даже за высокий забор и пощекочет радостью девушек-невест, которые терпеливо ожидают своих суженых уже с лейтенантскими погонами на плечах.
Увы, к микрофону подошел заместитель по воспитательной работе.
— Слово для поздравления предоставляется старейшей представительнице славной пограничной династии Анне Павлантьевне Богусловской.
Почтительно уступил ей место у микрофона.
— Три славных ратными делами дворянских рода — Богусловские, Левонтьевы (я урожденная Левонтьева), Ткачей-Буберов — неизменно охраняли рубежи нашего отечества многие сотни лет. Отменно, скажу вам не хвалясь, охраняли. Но нашу дружбу расколола революция: все три потомственные пограничные роды приняли революцию каждый на свой манер. Левонтьевы сгинули в борьбе за восстановление монархии, Богусловские остались верными границе, ее нерушимости. Они были в числе тех, кто создавал пограничные войска молодого государства. Но семейная традиция прервалась из-за выкрутас Хрущева и его подпевал. Тогда мне казалось, что навсегда, и я тяжело переживала. Но слава богу, мой внук стоит сейчас в пограничном строю, что наполняет мое старческое сердце радостью и гордостью. Я приехала сюда, чтобы самой вручить ему лейтенантские погоны и благословить на самоотверженную и честную службу. Рада я и тому, что имея право выбора, он решил ехать на самый опасный участок границы. От души я поздравляю его с этим выбором.
Она передохнула, собираясь с мыслями. Но вот вдох и продолжение:
— Но было бы эгоистичным поздравлять лишь своего внука. Я сердечно поздравляю вас, внуки мои, юные лейтенанты.
Скажу я вам то, что говаривала мужу, когда отправлялся тот на опасное задание: храни вас Бог!
Вопреки всякому протоколу, вначале не очень стройно, лишь очагами, всколыхнулось «Ура!», затем было подхвачено всеми взводами и загремело необычно мощно и радостно, не смолкая очень долго.
Анна Павлантьевна приложила к глазам батистовый платок и, поддерживаемая замом по воспитательной работе, пошагала ко взводу своего внука. Следом за ней кадровик нес стопки новеньких лейтенантских погон. Она, по ее просьбе, должна была вручить погоны всей группе, в которой учился ее внук.
— Можете ехать домой с бабушкой, предложил заместитель по воспитательной работе. — Машина выделена.
— Благодарю, — ответил лейтенант Богусловский. — С вашего разрешения я своим ходом. Не заслужил я персональной машины.
— Ишь ты…
Михаил Богусловский не обратил внимания то ли на одобрительную реплику, то ли на осудительную, он обнял бабушку, поцеловав ее в щеку, и попросил извинительно:
— Не могу я, бабуля, ехать сейчас домой. Я часов в шесть вечера прибуду. Ладно?
— Еще бы не ладно. Друзья к этому времени соберутся. Их уж немного осталось, но все же. Надеюсь, не заставишь их скучать, ожидаючи тебя?
— Нет, бабушка. К шести — как штык.
Но он приехал домой даже несколько раньше, даже помог матери и бабушке в хлопотах на кухне и вместе с ними встречал гостей.
Первыми пожаловали Лариса Карловна Оккер с дочерью, которую все друзья звали Викой, хотя она недавно стала сама бабушкой, и зятем, генералом в отставке Игнатием Семеновичем Заваровым. Эта семья всегда удивляла Михаила Богусловского тем, что мать и дочь, хотя Ларисе Карловне перевалило уже за девяносто, выглядели почти одинаковыми. Более того, Вика была даже немного полнее своей матери, и это ее старило, а Лариса Карловна вроде бы соревновалась со своей подругой Анной Павлантьевной в сохранении своей талии и нежности лица. Игнат Семенович, в молодости очень подвижный и деятельный, как о нем рассказывал отец Михаила, основательно оброс жирком и страдал старческой одышкой.
— Заставил, пострел, старика тащиться через весь город, — напустив строгость, упрекал Михаила Игнат Семенович, в то же время обнимая его. Потом, оттолкнув легонько, изменил тон на восторженный:
— Ишь ты, каков молодец! Видом весь в деда. Надеюсь, и в делах станешь таким же. Он собой рисковал, спасая моих пограничников. На берегу Волги. В Сталинграде. Никогда не забуду. Да и потом сколько мы с ним добрых дел сотворили. В едином прошляпили: отца твоего Ивана не приобщили к границе. Ну, да ничего, шагать тебе по торной дороге рода своего, множа его славу. Первый шаг сделан: орден Мужества — не фунт изюма.
— Довольно-довольно, — остановила Игната Семеновича Лариса Карловна. — Сел на своего конька и забыл женщин поприветствовать. Перво-наперво следует поздравить бабушку с тем, что внука вразумила, да мать Миши Лидушку. Она вообще ни сном ни духом не прикасалась к пограничным войскам, а надо же — взяла сторону свекрови. Ивана своего по женской слабости своей принудила не дуть в поперечную дудку.
Лариса Карловна как старинный друг семьи знала все тонкости нелегкой борьбы за душу Михаила. Отец и мать его, окончившие институт нефтехимической и газовой промышленности, в годы перестройки оказались весьма востребованными и устроились, как они сами оценивают, шикарно, с солидными долларовыми окладами, и видели в своем единственном сыне продолжателя их дела. Анна Павлантьевна же мечтала о возрождении древнейшей семейной традиции, вот и пришлось ей потратить много сил, чтобы убедить невестку и сына готовить Мишу к военной, точнее, к пограничной службе. Не единожды она напоминала сыну:
«— Ты говорил, что вернешься в пограничные войска, когда общество признает их нужными. Время это настало. Нынче пограничники в авторитете или на вашем современном языке — востребованы. Ты устарел надевать погоны. Жизнь твоя, слава богу, сложилась и устоялась, но сын твой просто обязан вновь возродить вековую традицию наших семей — Богусловских и Левонтьевых».
«— Отчего не вспоминаешь Буберов — Ткачей?»
«— Они вроде бы при границе были, а все где-то обочь ее».
Не слишком поддавался нажиму матери Иван Богусловский, тогда она исподволь привлекла на свою сторону невестку, и они вдвоем одолели упрямство Ивана.
— Ты как всегда, милая тещенька, права, — принял упрек Ларисы Карловны Игнат Семенович и без всякой иронии низко поклонился Анне Павлантьевне:
— Ты великая женщина, великая мать и великая бабушка. Я от имени всех пограничников кланяюсь тебе земным поклоном.
— Ишь ты, все еще мнишь себя генералом, — вновь вставила свое слово Лариса Карловна. — Или знают пограничные войска о новом лейтенанте?
— Узнают! — твердо пообещал Заваров. — Узнают непременно. И если не о лейтенанте, то уж о генерале Михаиле Ивановиче Богусловском — точно.
— Ладно вам, — отмахнулась Анна Павлантьевна. — Проходите в гостиную. В столовую перейдем, как Баня приедет с работы.
— Или никого больше не будет?
— Должен наведаться племянник покойного Прохора Костюкова, Прохор Авксентьевич. Начальник штаба отряда. Академию заочно одолел. Нынче диплом получает.
— Грешно его не подождать.
В гостиной, на мягком диване и в мягких креслах беседе идти куда как ловчее. Начались воспоминания о годах давней пограничной службы, о геройски погибших, и тут, вроде бы неожиданно для всех, Анна Павлантьевна всплакнула. Никто, однако, не кинулся успокаивать ее, не стали спрашивать, отчего слезы, она заговорила сама: извинительно.
— Извините старую. Вспомнила вечер накануне штурма Зимнего. Последний совместный вечер Левонтьевых, Ткачей и Богусловских. Вечер принципиальных разногласий. На том вечере Богусловские и Левонтьевы стали непримиримыми врагами, хотя и те и другие считали себя патриотами. Да они и были такими. Они не щадили себя, борясь за свою правду. Пал первым Петя Богусловский, мой жених, — голос ее дрогнул, и слезы еще неудержимей потекли по ее щекам. Она отерла их батистовым платочком, всхлипывая то и дело, наконец справилась она с собой и вновь извинительно:
— Повенчаны мы были. Любила я его. Люблю посей день.
Для Ларисы Карловны это откровение оказалось абсолютно невероятной новостью. Более, чем для других. Ни один год она видела нежную заботливость Анны к мужу и ни разу не усомнилась в ее любви к нему. А надо же?
Свое удивление, однако, она оставила при себе, хотя и кольнула обида: вроде бы жили душа в душу, с полной откровенностью рассказывали все о себе, но, выходит, носила Аннушка в себе неисповеданную тайну.
Анна Павлантьевна тем временем продолжала:
— Друзья-враги, как это страшно! Сегодня вот радостно на душе, что нет подобного. Общество живет совершенно единым стремлением — возвеличить Россию.
Как далеко от истины подобное умозаключение. Впрочем, откуда она могла знать истину? Сын и невестка зарабатывают более чем прилично, ее пенсия тоже не маленькая, ни в чем она не испытывает нужды, из дому же она последние годы почти не выходит — вот и распространяла она семейное благополучие на все общество. Но хотя бы один разок сходила бы она на рынок или постояла бы в очереди за дешевыми сосисками, невесть из чего сделанными, многое бы она услышала, многое переосмыслила. Поняла бы: не на классы рассечено общество, что вполне естественно, а на пласты внутри самих классов, на враждебные и непримиримые пласты. Особенно кипят гневом тысячи, даже миллионы, оказавшиеся нищими в одну ночь. Вроде бы не слишком бросается в глаза гнев на жульнически захвативших все богатство могучей державы и на правителей, ими поставленных и ими же финансируемых, ибо до поры до времени обворованные и донельзя униженные беспомощны. Как торф до поры тлеет и тлеет в толще своей, пока вдруг, неожиданно для верхоглядов, прорвется наружу все сметающим на своем пути огнем.
Увы, много горя приносит такой огонь простолюдью, который теряет чувство меры в лихие годины переполоха.
У всех возникло желание убедить Анну Павлантьевну в том, что не так все ладно в державе, и каждый обдумывал, как это сделать, не обидев заблуждающуюся старушку. Первой заговорила невестка:
— Скажите, Анна Павлантьевна (невестка всю совместную жизнь обращалась к свекрови очень уважительно), что в ответ на приглашение сказали вам Лодочниковы — потомки Ткачей? Нашу общую радость разделили?
— Сослались на занятость.
— А со мной они были более откровенны. Чего, говорят, в нищенство подался? Какая радость получать гроши, мотаясь по заставам, живя в сараях с удобствами во дворе?
— Как мельчаем, — по своему пониманию восприняла слова невестки Анна Павлантьевна. — Только быт. Только зарплата. Как пошло, а если задуматься, чем Лодочниковым гордиться? Все внуки Акулины — слуги. Звучит вроде бы гордо — советник депутата Г ос думы по юридическим вопросам, фактически же— в услужении. Толи дело мой внук Михаил. Защитник Отечества! Юн еще, а уже ордена Мужества удостоен! — она грустно вздохнула, хотя только что звучала гордость в ее словах, и повторила:
— Как мельчаем. Квартира. Дача. Деньги. А что со страной — мимо мыслей, мимо душевной боли.
После такой реакции Анны Павлантьевны на попытку Лиды внушить ей, что она заблуждается в своих оценках нынешней жизни общества, всем остальным расхотелось наставлять ее на путь истины. Не дитя она малое. Очень трудно изменить у нее сложившееся отношение к жизни, вернее, к цели жизни, а толочь воду в ступе нужно ли?
Игнат Семенович круто перевел разговор в иное русло:
— Поведай-ка нам, Миша, извини, лейтенант Богусловский, какие выводы ты сделал за то малое время, какое провел на заставе?
Михаил сразу же откликнулся на просьбу, ибо понимал, как важно отставному генералу узнать, какими нуждами и какими заботами живут нынешние пограничные заставы. Хотелось порадовать заслуженного ветерана, увы, ничего приятного он не мог поведать. Рассказать о сакле, продуваемой ветрами на ветродуйном перевале? Об одном офицере на заставе, который крутится как белка в колесе, но власть имущие не спешат вернуть хотя бы год за два (с двойным, естественно окладом), либо добавить еще по одному офицеру, чтобы с учетом отпусков, оперативных совещаний, многих различных семинаров, на заставе всегда находилось не менее двух офицеров. Михаил Богусловский видел это, он слышал об этом от начальника заставы и других офицеров застав и комендатур, но он не считал еще вправе говорить о таких вещах, о которых голова болеть должна у высшего руководства не только войск, вернее, не столько у них, сколько утех, кто правит страной, кто является главнокомандующим всеми Вооруженными силами. Он поэтому начал рассказывать о бое на перевале, в котором рядовые пограничники показали себя с самой лучшей стороны.
— Понимаете, ни один раненый не уполз в саклю. Истекает кровью, но автомат не выпускает из рук. Только те огневые точки умолкали, где автоматчик был убит или терял сознание.
— Мужество — свойство пограничников! — Взволнованно подхватил генерал Заваров. — Это я увидел еще там, в степи под Сталинградом и в самом Сталинграде, а потом в долгой моей службе в пограничных войсках неоднократно убеждался в этом.
Прорвало Игната Семеновича. Неудержимо полились воспоминания. За генералом и Анна Павлантьевна принялась вспоминать свои молодые годы, проведенные на границе. И Ларисе Карловне было что вспомнить, особенно о тех днях, когда она возглавляла заставу и едва не была безвинно отдана под ревтрибунал.
Для Михаила многое из услышанного оказалось новым, и он иными глазами смотрел и на довольно повидавшую на своем веку бабушку, и на ее подругу Ларису Карловну, на генерала Заварова и даже немножечко жалел, что время не то, не столь бурное, в котором можно проявить себя в полной мере.
Ох, как он ошибался. Не вся граница нынче в огне, но еще остались участки, где еще горячей, чем в те далекие годы. Да он, собственно говоря, уже успел пролить кровь на одном из таких участков, куда теперь и получил, по собственной воле, предписание.
И не знал он, что служебная стезя его круто меняется, что ждет его иная граница, еще более тревожная, еще более боевая.
Ровно через полчаса узнает он об этом, когда пополнит малый круг гостей майор Костюков Прохор Авксентьевич.
Когда Михаил Богусловский услышал от бабушки, что его с лейтенантским званием приедет поздравить племянник Прохора Костюкова, путь которого в войсках от рядового казака до крупного генерала, заместителя начальника войск, и что этот племянник достойно продолжает дело дяди: сегодня получает диплом об окончании академии — Михаил представил себе его в летах, строгого и рассудительного, но майор оказался совсем молодым, не более, чем лет на десять старше самого Михаила. И повел он себя не со строгой серьезностью — он с открытой улыбкой вручил букет цветов Анне Павлантьевне и нежно ее поцеловал, затем порывисто повернулся к Михаилу и, пожав ему руку, огорошил:
— Нам предстоит служить вместе. Я получил назначение в отряд. Начальником. Отвоевал тебя к себе. Прошу, поэтому, покорно извинения за опоздание.
— На чеченско-грузинскую границу?
— Нет. Но об этом позже. Дозволь поздороваться со всеми?
«Отчего он счел возможным решать за меня? Мое право выбора, и я его сделал!»
Чувство неприязни вползло в молодую лейтенантскую душу. Михаил отчего-то посчитал, что майор ради уважения к Анне Павлантьевне, уважения к семье Богусловских намерен взять над ним опеку и тянуть за узду…
Мне не нужно такого. Я сам добьюсь того, чего добьюсь. Моя слава — моя! Моя карьера — моя! Осечки и невезение — тоже мои. Одолею их — хорошо, не осилю, стало быть, не по мне папаха».
Вроде бы майор Костюков не обращал внимания на Михаила Богусловского, целуя женщин в щечки, осыпая их комплиментами (фу, как мещански пошел, осуждал Михаил), с Заваровым же поздоровался почтительно — товарищ генерал не иначе — но, улучив момент, упрекнул Михаила:
— Не осуждай, Михаил Иванович, меня, не ведая моей цели. Твое право не принять моей руки, но решение принимай после ужина, на котором я расскажу все.
Не вдруг, конечно, он исполнил обещанное. Так получилось, что роль тамады как-то само собой перешла к Прохору Костюкову, и он то произносил тосты сам, то принуждал, вроде бы деликатно, вроде бы понимая настроение и желание всех сидящих за столом молвить слово, когда же тосты иссякли, и подали чай, майор Костюков заговорил о своем самовольстве:
— Я обескуражил юного лейтенанта, который лелеял мысль вернуться в Чечню. Как я понимаю, он казнит себя за погибших в бою на перевале, виня в их гибели себя. На первый взгляд — благородный порыв души. Но дело не в нем. Он сам сделал почти все, что мог сделать, готовя пост наблюдения к обороне. Проблема более сложная, требующая кардинальных решений не на лейтенантском уровне, на уровне начальников застав, комендантов участков и, позволю сказать, даже не на уровне отряда. Чтобы изменить положение дел на границе, нужно решительно бороться с Хрущевским наследием, но особенно с тем отношением к зеленым фуражкам, какое впихивают в умы не только обывателей наши доблестные в кавычках СМИ. Это дело не одного года, тут пахнет десятилетием. И посильно оно станет нам тогда, когда мы сможем влиять на положение дел. Для этого нам просто необходимо продвигаться по службе, честно исполняя свой служебный долг, опираясь на таких же честных и преданных границе офицеров, всячески находя и поддерживая их. А претворять в жизнь столь благородную цель лучше всего там, где нашей стране более всего угрозы.
Костюков сделал несколько глотков уже остывающего чая и спросил, интересно ли всем то, что в общем-то он намеревался рассказать новоиспеченному лейтенанту пограничных войск, дабы снять его обиду, вызванную, по его понятию, ущемленной гордостью.
— Ты, Прохор, как я понимаю, ковырнул залежный пласт. То, что происходит на Таджикско-Афганской границе не может не волновать всех русских людей, но особенно нас, стражей границы.
Он не сказал — бывших. Бывших пограничников не бывает.
А Прохор Костюков, получив столь мощную поддержку, собрался было оправдывать свое самовольство по отношению к лейтенанту, но генерал Заваров приподнял ладонь.
— Погоди, я не все сказал. Впрочем, высказывайся ты, а что прошло мимо твоего глаза, добавлю я, ибо Памир и А лай, Киргизия, Узбекистан и Казахстан— место противоречивых интересов разных стран. Проходят века, а ничего практически не меняется.
— Я вполне уверен, — подождав, не скажет ли еще чего-либо Игнат Семенович, заговорил вновь майор Костюков, — что ввод наших войск в Афганистан никакая не авантюра. Сейчас мусолят анекдоты, будто причина такого шага — обида из ума выживавшего генсека Брежнева: он целовался с Кармалем, принимая того в Кремле как своего друга, Амин же пренебрег этим фактом, покусившись на жизнь обласканного первым из первых столь великой державы. Могла ли стерпеть подобную обиду Россия? Видимо, доля правды в этом есть. Если трезво судить по первому шагу: штурм резиденции Амина и его физическое устранение, по моему разумению, то была роковая ошибка. Дело еще и в том, кто штурмовал резиденцию. Те, кто по договору с Кремлем специально был послан для охраны Амина. Не охраняли они главу государства, который готов был с нами дружить, а подготавливали его убийство. Разве такое допустимо?! Коварство во все времена осудительно, а в данном случае осудительно вдвойне, ибо американские и английские спецслужбы, их дипломатические корпуса и верные им средства информации сделали все, чтобы об этом коварстве узнал весь мир. Приукрашено, подано было.
— Да, знали во всех странах, кроме нашей. Наше радио, наше телевидение, наши газеты взахлеб расхваливали героев-альфовцев, но ни словом, ни полсловом не обмолвились, как оказались в резиденции Амина «Альфа» и целый батальон отборных спецназовцев. Один мотив: блестяще проведенная операция. И точка. Гордись страна своими отважными сынами.
— Верно. Напакостили — и рот на замок.
— Ас Амином можно было бы договориться о военной базе.
— Думаю, да. Однако свершенное свершилось. Мы можем только судить о свершившемся, лишь анализируя факты. Оценивать же факт ввода войск только с отрицательных позиций считаю ошибочным. Мы практически получали выход к Персидскому заливу. Марш-бросок танковой армады, и мы на берегу моря. Расчет военных был стратегически верным.
— А тактика?
— Вот об этом я и хотел сказать Михаилу. Мы можем потерять и Таджикистан, если поведем себя как властелины. А червяк великодержавства точит сердца даже иных наших пограничников. Нам нужно вести диалог с таджиками открыто, объясняя наши интересы, а также интересы самих таджиков. Нам просто нельзя забывать, что таджики народ столь же великий, история которого уходит в глубины тысячелетий, да какая история! У таджиков столь же достойная культура, как и у славяноруссов. Но об этом у нас с Михаилом будет время основательно побеседовать. Я зову его с собой не в качестве пристяжного, которого тянет за собой коренник, я зову, чтобы вместе, отдав все наши силы на алтарь служения отечеству, хоть как-то смягчить последствия для страны столь великого развала.
— Похвально. Только не все верно в твоем умозаключении. Не спорю, важно иметь друзей не только среди руководящей элиты, но и на самой, как говорится, земле. Но, как я понимаю, народ в основе своей жалеет о развале, и придет время, когда все вернется на круги своя. Но тут более усилий должны были бы прикладывать политики и дипломаты. Обратите внимание, ничего нового мы не получили по сравнению с тем, что произошло в Средней Азии и в Закавказье в революционные годы и годы гражданской войны: басмачество в Узбекистане и Туркмении, в Азербайджане власть захватывают проанглийски настроенные круги, Армению стремится захватить Турция, Карабах, как и теперь, объявляет о своей самостоятельности. Почти один к одному.
— Но отцы и деды наши смогли переломить хребет всем тем, кто желал отделиться от России, и роль пограничников в том великом деле не так уж и мала. Наши деды героически отстаивали интересы отечества. Иные гарнизоны, даже не признавшие Советской власти, не принявшие большевизма, не покидали на произвол судьбы границу, продолжали охранять и оборонять ее, дожидаясь, пока новая власть пришлет замену. Не героизм ли это? Не пример ли для подражания?
— Верно. Героизм, как принято говорить, был массовым. Но с басмачеством отцы наши покончили не только в схватках с ними. Пока наши дипломаты не смогли найти общий язык с Афганистаном, басмачество, несмотря на наши боевые успехи, не шло на убыль.
— Разве не об этом я заговорил сразу же? Граница с Афганистаном и обстановка в Средней Азии опасны для России — мы потеряли всякое влияние на Афганистан. Сейчас там бал правят английские и, главное, американские спецслужбы. В этой обстановке большая нагрузка ложится на пограничные войска. Вместе с таджиками мы должны упереться рогами, решая двуединую задачу одинаковой важности: с одной стороны, стоим на страже интересов своей страны, с другой — помогаем таджикам оставаться самостоятельным государством. Никому не секрет, что на богатство Памира, на его великую стратегическую важность алчно взирают из дальнего зарубежья так и, пока тайно, некоторые деятели из ближних, находящихся формально в одном союзе.
— Слава богу, — вроде бы совершенно не к месту заговорила Анна Павлантьевна. — Слава богу, я слышу речи мужей, речи соколов-шестокрыльцев, у которых не вдернуты маховые перья. Как это прекрасно! Многие годы пограничные войска были в полном забвении. С Хрущева началось. Помню, как приехали мы к твоему, Прохор Авксентьевич, дяде, которого отправили в отставку за высказанную правду о головотяпском разорении границы. Грустной была та встреча. Одно светлое пятно: Игнатий Семенович и сын мой Владлен послушали генерала Костюкова и не написали рапорта протеста. Они и сотни таких же патриотов все прошедшие годы боролись за восстановление престижа пограничных войск, доказывая великую их нужность для страны. И вот — слава богу.
— Рановато, Анна Павлантьевна, славить Бога. На словах сегодня все поддерживают пограничников, а на деле? Воз практически не двигается с места. Не время еще нам почивать на лаврах, ожидая манны небесной от Бога. Наш удел и сегодня не только мужественно исполнять свой долг, но еще убеждать и доказывать, сколь важны не говорильня, а истинная забота о пограничниках.
— Не отнять, ни добавить к твоим словам, Прохор Костюков. Взять хотя бы такую проблему, как казачество. За что проводили на покой твоего дядю, еще вполне боевого генерала? Его бы просто повоспитывали, поперечь он только сокращению, и простили, но он самое нутро вывернул: опора на казачество. Царское правительство знало, что делало. Вроде бы теперь задумали возродить казачество. Появился даже всероссийский атаман при самом президенте. Словеса льются любо-дорого, но пустота в них удивительная. Неужели не понятно: казаки не наемники американского пошива, они по другим меркам жили и теперь по ним же хотят жить. Дай им землю. Твердо закрепи за ними полосу в самом приграничье, они так ее обустроят, что и себе в благость, и с державы снимут головную боль о границе.
— Офицеры об этом много меж собой говорят, до кого только те разговоры доходят? Или еще вот такая проблема: что получает в приклад награжденный орденом либо, допустим, медалью «За охрану Государственной границы»? Ничегошеньки.
Даже внеочередного звания не дают. А какой приклад был в царское время к подобной награде: пара годовых — годовых! — окладов, повышение звания на одну ступень, основательная добавка к пенсии и еще право поступления, как бы мы сейчас сказали, вне конкурса в академию, если награжден офицер. Вес имела награда. Вес! А вот наш юный лейтенант? Орден Мужества не за понюх табака, но что в прикладе? Ничего. Как и все — лейтенант. Не учтено и то, что окончил он пограничный институт на пятерки. Граница — не только новая техника, но и люди. Они не прочь, утомившись, отдохнуть в уютной спальне, пообедать не за колченогим столиком, едва втиснутым между печкой и солдатской кроватью, а в столовой или пусть на кухне, но просторной, располагающей к умиротворению души. Да и любая награда должна иметь вес. Не только моральное значение. Особенно сейчас, когда насаждаются товарно-денежные отношения. Они должны быть для всех, а не только для тех, кто процветает в бизнесе, раскрученном на у народа украденные деньги, украденные у той же армии, у тех же пограничников! Почему бы не вернуть прежнее, какое было в первые годы Советской власти? Задержал пограничник контрабанду — определенный процент от ее стоимости тому, кто ее задержал..
Долго собравшиеся толкли воду в ступе, ибо застольные речи, горячие, справедливые, но за закрытыми дверями не станут путеводительными для тех, кто определяет политику страны. Даже на митингах подобные речи ровным светом не значат ничего: мало кто из элиты в так называемое переходное время живет интересами страны. Главное — личные интересы.
Почти у всех. От мала до велика.
Постепенно пылкая беседа друзей и единомышленников все более утихомиривалась, и вот настал тот момент, когда майор Костюков без всякого неудобства для собравшихся мог сказать:
— Если нет возражений, я предлагаю Михаилу пройти в его комнату для окончательного решения пока еще не прояснившегося вопроса.
— Пойдемте, — согласился Михаил.
Комната Михаила Богусловского, хотя он в ней бывал лишь во время увольнений, не казалась запущенной, и по обстановке более походила на рабочий кабинет, чем на спальню: во всю стену стеллажи, набитые книгами, но даже при первом взгляде видно, что книги эти не натолканы в беспорядке, а строго распределены по тематике. Особенно много полок отданы историческим книгам. Тут и дореволюционные издания не только известных историков, но и, так сказать, не обласканных монархами. Тут и издания первых послереволюционных лет, особенно интересных своей оголенностью разномастных мнений. Тут и книги самых последних лет — весьма смелые, сметающие заскорузлую предвзятость с нашей многовековой истории.
— Ого! Даже «Тайна древних руссов» Петухова. Успел уже прочитать?
— Да.
— Тогда наш разговор станет полегче.
— При чем Петухов и граница?
— В том-то и дело, что в нашем случае при чем.
Они помолчали. Михаил готовился возражать Прохору Авксентьевичу с максимализмом молодости, но сдерживал себя, не желая обижать гостя, который так обидел его самого.
«Пусть обоснует свой тезис».
Костюков же решал, как в дальнейшем построить разговор: щадить ли самолюбие Михаила обтекаемостью фраз или резать правду-матку оголенно? В конце концов определил прямоту. Пусть обидно, но более действенно.
— Если читать такие труды, как у Петухова, только ради того, чтобы потешить обывательский интерес, то можно сделать вывод именно такой, какой делаешь ты, Михаил. А если с анализом и вдумчиво? Оставим пока в покое наши отношения с Прибалтийскими странами, с Украиной и Белоруссией, хотя Петухов открывает глаза на многое в этих отношениях, особенно если пройтись мысленно по последним столетиям. Не станем обсуждать и промахи труда Петухова в отношениях славян и греков. Верно, что греки переняли культуру славян, но нужно ли доказывать так сложно легко доказуемое: Александр Македонский покорил Грецию, когда она была еще полудикой страной, но нужно ли умолять заслугу народа, сумевшего впитать более передовую культуру и поднять ее до заманчивой высоты. Опустим, однако, и это. Давай поговорим о таджиках и Таджикистане, куда я тебя приглашаю служить. Начнем с того, что таджики — индоевропейцы. Обратил, видимо, внимание на схему этногенеза индоевропейских народов? От индоариев отпочковались таджики, от протославян. Народ древнейшей культуры. Испокон века, как было прежде и у славяноруссов, считавший убийство человека величайшим злом. Приняв насильно навязанный ислам, как нам насильно втиснули православие, таджики смогли внести в него свое миролюбие, свой уклад жизни, основанный на покое. Теперь таджикам навязывают войну. Извне навязывают. На Памире, вопреки всем народным обычаям, льется кровь. Объединенные силы антитаджикской коалиции действуют по праву силы. Они упорно насаждают право силы. Так вот, я спрашиваю: может ли таджикский народ противостоять в одиночку объединенной агрессии? Нет! А мы, по просьбе Душанбе, помогаем им. Но и для нас Памир стратегически важен. Он препятствует созданию единой мощной противороссийской системы.
Прохор Костюков отодвинул стекло на полке, где стояли книги и брошюры, повествующие о делах разведок, как наших, так и англо-американских. Спросил:
— Все прочитано?
— Нет. Едва половину осилил. Теперь вот вплотную займусь. Больше времени будет.
— Вряд ли. Если ты все же согласишься принять мое не так уж простое предложение, то отпуск твой отменяется. Вылетать нам придется самое большое через два дня, а то и раньше. В киргизский город Ош.
— Отчего в Киргизию?
— Особый разговор. После твоего согласия.
— Я согласен.
— Тогда так. Отряд узбекских сепаратистов пробивается в Афганистан через Киргизию. Мне поручено, по просьбе командования пограничной охраны, помочь консультативно в борьбе с этим отрядом. После исполнения этой миссии— на границу.
— Я слышал по радио об этих событиях. Похоже, сепаратисты заблокированы, но не хотят сдаваться.
— Верно. У них много заложников. Дело, в общем, сложное.
— Могу ли я отказаться от серьезного дела?
— Слово мужа.
— Не так звонко. Ладно?
— Хорошо, — кивнул Костюков и, пробежав глазами по книжным корешкам, вынул из полки книжицу в мягкой обложке. — Вот: «Международный терроризм и ЦРУ». Возьми с собой. Если же успеешь, прочитай до отъезда.
— Но это же вчерашний день. Нынче мы в одной коалиции. В антитеррористической.
— Не спеши с выводами. Мы об этой самой коалиции не единожды потолкуем. Путь наш с тобой до места службы не на один день растянется.
Глава четвертая
И майор Костюков, и лейтенант Богусловский знали, что полетят до Оша спецрейсом и понимали: не ради них одних целый самолет, стало быть, будет какой-то груз, будут и попутчики, но они даже предположить не могли, что увидят. На взлетной полосе — брюхастый «АН», а у грузового трапа стоит, явно ожидая майора Костюкова, высокий, богатырского сложения капитан в спецназовской камуфляжке. Уставно поприветствовав майора Костюкова, капитан доложил:
— Придан вам в полное подчинение до конца операции. Командир роты спецназа капитан Игнатьев.
— Здравствуй. Что? Со всей ротой?
— Так точно. И со спецмашинами. Своим ходом пойдем из Оша.
— Мне говорили о вертолете.
— Из информации, какую я получил, четко видно: спешность не нужна. Отряд сепаратистов основательно заблокирован в старинной казачьей крепости на А лае. Попытки прорвать блокаду не удаются, и теперь ведутся тягучие переговоры. Час лету, машинами — двенадцать. Велика ли разница. Зато мы прибудем в полной готовности к действию. И как я понимаю, наше появление, не маскируемое, произведет определенный эффект.
— Думаю, вы более правы, чем не правы.
Майор Костюков не стал откровенничать с капитаном, не сказал о неожиданном для него усилении — он готовился к роли консультанта, вышло же совсем иное.
«Выходит, переговоры о помощи велись не только по линии пограничных служб».
Однако, как ни суди, а усиление к лучшему. Умное слово — хорошо, но если оно еще и подкреплено возможностью силовой поддержки — куда как лучше.
В брюхе вместительного «грузовика» — пара бронетранспортеров и три «Урала» — мощных, пригодных для всех дорог. На скамейках по бортам в привычных позах, держа автоматы меж колен, плотно сидели спецназовцы. Лишь впереди, у самой кабины летчиков, было оставлено место для офицеров.
Встретить майора Костюкова из кабины вышел сам командир. Доложил:
— Мы готовы к вылету. Какое будет распоряжение?
— Действуйте по указаниям диспетчеров. Мы — гости на вашем борту.
Самолет в воздухе. В салоне гулко. Не то, что в рейсовом. Не напрягая голосовых связок, не поговоришь. Все, уткнувшись подбородками в грудь, отдались приятной дреме. Михаил тоже попытался расслабиться, но не смог: мысли его уже витали по тем местам, куда они летели, где в юные свои лета охранял границу Иннокентий Богусловский. Его воображение рисовало высокие скалистые горы (Памир же), хотя Прохор Костюков говорил, что на Алае нет никаких скал. Высоко над уровнем моря — это верно, но все сглажено миллионнолетними ветрами, дождями и снегами.
«Что попусту предполагать? Прилетим — увижу», — решил он в конце концов и достал ту самую книжку, которую майор Костюков порекомендовал ему непременно прочитать.
«Международный терроризм и ЦРУ». Тысяча девятьсот восемьдесят второй год. Двадцати летняя, считай, давность. Какую пищу для раздумий дадут столь устаревшие факты. Вот и начал Михаил Богусловский листать первые страницы без особой заинтересованности, почти равнодушно пробегая взором по строчкам: ничто пока не привлекало внимания — антиамериканские словеса, расхваливание политики нашего Политбюро и правительства в одном генсековском лице.
«Умели лизоблюдить. Впрочем, разве что изменилось в наши дни?»
Но постепенно голословие начало отступать и на его место заступали факты. Весьма и весьма любопытные. Над которыми стоит задуматься, соотнося их с днем сегодняшним, и Михаил Богусловский начал некоторые страницы даже перечитывать. Особенно те, какие касались Афганистана.
С весны тысяча девятьсот семьдесят восьмого года ЦРУ начало готовить диверсионные группы, которым предстояло противодействовать законно избранному народом правительству, потому что оно предпочло дружеское отношение с СССР прежнему проанглийскому курсу. В этом англо-американские правящие круги усмотрели ущерб для своих геополитических устремлений. И вот — диверсионные группы головорезов. Готовили их в Пакистане, вооружали новейшим оружием, щедро снабжали долларами.
«Вот они — истоки «Алькайды» и Бен Ладена».
И чем больше он вдумывался в прошлые факты, сравнивая их с делами сегодняшними, тем более кощунственным, по его же собственной оценке, рождался вывод: игра, рассчитанная на десятилетия вперед. Дабы не только вернуть Афганистан в сферу своего влияния, но и ухватиться хотя бы одним пальчиком за Среднюю Азию. Все шло по единому замыслу: развалить Советский Союз и через возвращенный под свою руку Афганистан подчинить своему влиянию Среднюю Азию, Закавказье, особенно Грузию и Азербайджан.
«Ради этой цели Америка инициировала отделение Пакистана от Индии, потратив на это уйму денег».
А взрыв небоскребов?! Вряд ли ЦРУ, как утверждают иные горячие головы, готовило страшные террористические акты, но что попустительствовало «Алькайде» — тут к ворожеям не нужно ходить.
Вывода этого, однако, Михаил даже испугался: такими жертвами неповинных добиваться своей цели?!
Но факты — упрямая вещь. Не сложилось желаемое в Афганистане (но вполне вероятно и в этом был расчет), вот и нужен был повод, чтобы сделать уверенный шаг к цели. Впрочем, повод этот тоже был заранее предопределен. Такой, чтобы мировая общественность не узрела подвоха. Так и вышло.
«Даже Киргизия предоставила антитеррористической коалиции — считай, Америке — базу. А Грузия, похоже, вовсе подлегла под Америку. Американские самолеты-разведчики свободно летают вдоль грузино-российской границы».
Итог раздумий таков: поделиться своими выводами и своим сомнением с майором Костюковым, которого Михаил начал считать авторитетным для себя.
Но не вдруг это удалось. После встречи в аэропорту их повезли в гостиницу с крохотными номерами на двоих, в одном из которых сразу же начался обмен информацией, длившейся добрую пару часов. Обстановка такова: отряд узбекских сепаратистов, в составе которых более половины настоящих бандитов, блокирован в старинной казачьей крепости. Можно смело сказать — неприступной. Прямой ее штурм чреват большими потерями и вряд ли принесет желаемый успех. Ко всему прочему, в руках сепаратистов оказалось более трехсот заложников. Среди них есть дети.
— Но главное, — заявил представитель пограничной службы Киргизии подполковник Саркисов, — в том, что в руках у бандитов — японские туристы.
— Туристы?
— Мы тоже сомневаемся. Они, однако, официально значатся туристами. Много их теперь едут к нам под видом туристов, особенно на А лай. Понятно было бы, если их интересовал бы Ош. Легендарный город. Связан с именем Бабура, основателя мощного государства Великих Моголов, над которым простер руку пророк Сулейман. Но почти все туристы только для отвода глаз поднимаются на Сулейман-гору, и уже на следующий день — на Алай.
— А нам и дня не отпущено познакомиться с Ошем, — с сожалением вставил свое слово Костюков, но подполковник Саркисов попытался его успокоить: — На обратном пути определим лучшего экскурсовода.
— Для капитана спецназа и его подчиненных сделайте, а у нас с лейтенантом путь в Таджикистан, до самого до Хорога.
— Придет другое время, — все же не унимался Саркисов. — Пограничные пути нам не ведомы. Теперь же — на запоздалый обед. Рота спецназа, думаю, уже сыта и отдыхает, пора и нам уделить себе внимание. Обед и добрый отдых. Путь нас ждет утомительный, — так завершил разговор подполковник Саркисов. — Я буду вашим спутником. Машина для нас подготовлена. Надежная.
Поздний обед затянулся до позднего ужина, и только по просьбе майора Костюкова гостеприимные хозяева сжалились над гостями, хотя до традиционного киргизского бесбармака еще оставалось довольно много.
И как только Костюков с Богусловским остались одни в своем люксовском номере, размером чуть больше десяти квадратных метров, Костюков сразу же спросил Михаила:
— Чувствую, что-то неотступно гложет тебя. Но вроде бы у нас все идет штатно. В чем-то ином дело?
— В ином, Прохор Авксентьевич. Вы наверное видели, я за время полета одолел рекомендованную вами книгу — вопросов много.
— Стало быть, впечатлило?
— Более того, целую систему разглядел: Пакистан от Индии отцапали не просто так, а имея цель создать плацдарм против Кармаля, а затем и Амина. Бен Ладен, талибы, разрушение небоскребов — все взаимосвязано. Ради одной цели: поплотней устроиться под боком у России.
— Молодо, да не зелено. Конечно, очень смелые по понятиям сегодняшнего дня мысли. Даже, скажу откровенно, опасные для карьеры. Мы же входим в антитеррористическую коалицию и не перечим Америке ни в чем. На базы, которые она успела понатыкать в бывших наших республиках, мы закрываем глаза.
Твои мысли — против ветра.
— Меня не это беспокоит: против или по ветру. Не о карьере речь. Прав я или нет — вот главное.
— Максимализм молодости. Но давай разложим все по своим полочкам.
Прохор Костюков довольно надолго замолчал, ища такие весомые аргументы, чтобы и овцы остались целы и волки бы насытились. Наконец, решился. Заговорил, не кривя душой:
— Ни тебе, начинающему службу лейтенанту, ни мне, прошедшему ад Афганистана и теперь вот окончившему академию, не дано право перечить тем, кто делает так называемую большую политику. Мы — служивые. Наш долг — защита границ отечества.
— Верно, но мы же не бараны, слепо идущие за козлом — провокатором?!
— Не горячись. Дослушай до конца. А начну я с примера исторического. Я не современник предвоенных лет и месяцев, но я многие недели внимательно читал и перечитывал «Правду» сверх академической программы. Очень предвзято, смею тебя, Михаил, заверить, подают наши учебники вопрос о договоре с Германией. Иное совершенно писала «Правда», хотя тоже скрывала и о переподготовках офицеров вермахта в наших военных учебных заведения, и о курсантах в училищах. Она клеймила позором коварную англо-американскую политику, которая направлена на то, чтобы столкнуть нас с Германией. Мир и благодушие царят на страницах главной газеты страны, лишь редко появляется настораживающая информация, явно рассчитанная на восприятие ее военными. А что они? Спустя рукава ведут строительство линии обороны, разработанной Карбышевым. А готовые доты не оснащаются оружием, не складируются в них боеприпасы, нет и бойцов — совершенно безлюдные казематы. Ни в одном боевом уставе: пехоты ли, кавалерии или бронетанковых войск — нет ни слова об обороне. Не существует как такового оборонительного боя. Армия как и весь гражданский народ, как знаменитые артисты, поет самую популярную песню того времени: малой кровью, могучим ударом. Даже в последние предвоенные дни, когда появились перебежчики с вестью о дне агрессивного нападения, когда одна за другой задерживались немецкие разведывательно-диверсионные группы на нашей территории, никто из генералов или высокопоставленных офицеров не приняли надлежащих мер. Все поголовно заразились благодушием, которую несла в массы официальная пропаганда. Не смогли военные разложить все по полочкам, отделив зерно от половы, на что, по моему разумению, рассчитывал Сталин. Последний и его окружение могли закрывать глаза на скопление вражеских армий у наших западных границ, они могли делать вид, что вполне верят официальным немецким объяснениям, будто войска отведены на отдых, ибо устали в боях против Франции, но военные-то не должны были заглатывать явную мормышку.
Не случайно Сталин так круто поступил с оставшимися в живых генералами и полковниками Киевского военного округа и других западных округов. Так вот, когда уже все особые отделы всех частей и соединений, командиры всех степеней знали о готовившемся нападении фашистской Германии, полки и дивизии выехали в летние лагеря, оставив боевую технику на полной консервации, лишь под охраной комендантских взводов. А в Брест собрали жен командного состава на так называемую олимпиаду. На явную смерть собрали. На позор плена. Только пограничные заставы (я не вникал в дела окружного масштаба тех предвоенных дней) и пограничные отряды, не все, к сожалению, приняли надлежащие меры. И вот — примеры: неделями оборонялись они, сковав тем самым какие-то вражеские силы, а один из отрядов вошел даже на вражескую землю, установил во многих районах Советскую власть. Да и отступал он, когда вынужден был это сделать под напором крупных сил противника, с боями. А в то же время целые армейские полки, целые дивизии не смогли навязать врагу хотя бы мизерные оборонительные бои, а комдивы, комполки встречали немецкие танки револьверными пулями, хотя в их подчинении были и танки, и орудия. Сейчас пытаются подавать стрельбу генерала в солдатском окопе по танкам как героизм, но я считаю это величайшим позором для командира, который своей беспомощностью погубил вверенных ему подчиненных, и даже его, в общем-то, мужественная смерть не обеляет его, не смывает позора.
Прохор Костюков помолчал немного, ожидая возможного вопроса и вместе с тем давая время хотя бы чуточку осмыслить услышанное. Михаил тоже молчал: не все было для него внове, но с такой оголенностью, с таким жестким обвинением воинских начальников он еще не встречался. В то же время он вполне осознавал справедливость обвинения и уже начал переносить услышанное на сегодняшний день, на сегодняшние дела, на свое место в этих делах, и Прохор Костюков, словно почувствовавший борение мыслей юного лейтенанта, пришел ему на помощь.
Считаешь, верхоглядная политика полуприкрытых глаз на наглое вползание американцев в наши бывшие республики под шумок борьбы с международным терроризмом, который сама же Америка выпестовала? Твое право так мыслить, но не дано тебе право по статусу пограничника, статусу служивого выставлять рога и лезть на рожон, поучая политических несмышленышей. Если имеешь такую цель, скидавай погоны и шагай в политику. Возможно, что-то у тебя получится. Но коль скоро ты избрал пограничную стезю, оставь политику политикам, сам же делай на своем месте положенное военным, положенное пограничникам: не теряй собственной полной ответственности за охрану порученного участка, соотнося свои действия с действительной обстановкой, а не той, какую рисуют нам наши доблестные СМИ в угоду толстым кошелькам или политической тактике, политической стратегии. Но этого мало. Нужно со всем старанием воспитывать подчиненных в том же духе. Воспитывать неустанно. Я верю, что ты станешь так и поступать, поэтому и позвал тебя с собой на самый горячий и самый чувствительный для России участок границы.
Майор Костюков вновь замолчал. На сей раз совсем на малое время. И уже другим, более доверительным тоном, заговорил:
— А что касается твоего вывода, то он совершенно точен. По поводу Бена Ладена могу тебе рассказать анекдот. Бородат он, но все же уместен. Мимо таверны, возле которой дымят сигарами два добропорядочных американца, вихрем пролетел всадник.
— Кто такой? — спрашивает один другого.
— Джон неуловимый.
— Что, и в самом деле его нельзя поймать?
— Поймать-то можно, только кому он нужен. Вот так с Бен Ладеном. Никому он не нужен. Верно, что время от времени в газетах, на радио и по телевидению проскальзывают сообщения о якобы уже известном месте, где скрывается террорист номер один, как его окрестили журналисты, но проходит день-другой, и вновь полное молчание. Или, думаешь, Масхадова нельзя арестовать и отдать под суд? Журналисты его находят, берут интервью, а наши чекисты в неведении. Такого не бывает, если в этом кто-то из высокопоставленных не заинтересован. И если таджикско-афганская граница очень важна, как я тебе уже говорил, и для России, и для самого Таджикистана, то Чечня — кровавая, но, как бы я сказал, пустопорожняя война. Прежде Чечня и в самом деле была очень опасной: чувствовалась рука агрессивной коалиции, виделась ее конечная цель — разрезать Россию ваххабитским кинжалом по Волге вплоть до Казани, теперь же, когда тот замысел потерпел крах, на повестку дня встала нефть. Как только разберутся, кому и сколько от нее иметь, так все утихнет в одночасье. Вот так, мой юный друг. А теперь — спать. На рассвете — выезд. Дорога, поверь мне, весьма и весьма. Потребует много сил.
Легко сказано. Вначале она, бетонная, плавно поднималась вверх обочь стремительно несущейся речки, особенно шумливой на малых водопадах (шум ее заглушал даже урчание моторов), сверкающих радужными брызгами в лучах жаркого солнца — брызги те, однако, лишь раздражали, ибо в уазике стояла нестерпимая жара, и пот стекал за воротник кому фляжки ручьями.
«Остановиться бы хоть на немного. Прохладиться».
Желание это Михаила Богусловского в конце концов исполнилось. Подполковник Саркисов скомандовал водителю на подъезде к очередному водопаду:
— Останови. Полюбуемся. Часа три езды, и мы в царстве полного безводья, — и к Костюкову с Богусловским: — Вон какая красота. Но главное, вода — это жизнь.
Для знойного юга это действительно так. Горная эта речка несла студеные воды свои через Ош, орошая сады, бахчи, виноградники, огороды, хлопковые поля, затем несла живительные струи свои в Ферганскую долину, к соседям, где тоже трудилась без отдыха, отдавая всю себя земле, даря жизнь всему растущему на ней.
— Недаром же реки у нас называются — дарья. Дар самого Всевышнего. А по старине, если — дар богини Апи.
Михаил удивлен: русское слово у среднеазиатских народов. Ему очень хотелось спросить об этом, но он сдержал свою любознательность.
«Не попасть бы впросак».
Впрочем, вряд ли подполковник смог объяснить такое совпадение так просто и убедительно, как делает это майор Костюков, и Богусловский спросит майора, но до этого пройдет несколько неуютных дней — пока же любуйся буйством кристально чистых струй и вдыхай свежесть прохладного ветерка.
— В заводях форель и маринку хоть руками лови, — с явной гордостью поведал гостям подполковник Саркисов и с явным удивлением добавил: — Не очень только понятно, чем рыба питается. Вода вон какая прозрачная, что в ней можно съедобного найти?
— Не было бы чем питаться, не плодилась бы, — с философской мудростью ответил коллеге-приставу Прохор Костюков и добавил — Вон сколько деревьев на берегу. С веток, склоненных над водой, падают всякие червячки и букашки.
И в самом деле, насколько видел глаз, речку вроде бы сдавливали могучие карагачи, орех, тутовник, а в низинках, куда палая летняя вода намывала лесс, густо переплетался барбарис, дразнивший спелыми ягодами.
Многие спецназовцы, высыпавшие из кузовов, уже бросали в рот аппетитные на вид, но кислые на вкус ягоды, явно подвергая себя опасности набить оскомину.
Четверть часа вольности — и по машинам. Чем выше в горы, тем пустынней берега, тем меньше кишлаков. Последний, перед крутым подъемом на Алай — Гульча, раскинулся большой поселок, который утопая в виноградниках и тутовнике.
— Здесь погранкомендатура. Не посетим? — спросил подполковник Саркисов. — Не очень удобно мимо.
— Почему не удобно? У нас свой путь, информировать о нем погранкомендатуру вряд ли нужно.
— Пусть будет так, — согласился Саркисов, хотя в голосе его улавливалось недовольство. Отчего? Покрасоваться? Или есть какое-то дело.
Майор Костюков, однако, не изменил своего решения, и кишлак проехали без остановки, лишь до предела сбавив скорость, чтобы ненароком не зашибить кого-либо из босоногих мальчишек, которые, бахвалясь друг перед другом, перебегали дорогу перед моторами машин. Для них это была щипающая нервы забава, не очень часто вносившая разнообразие в их в общем-то унылую жизнь.
— Сколько конфликтов создали вот такие же сорванцы в Афганистане. Зацепит кого-либо из перебегающих, а еще хуже если совсем задавит, вот тебе — кровная месть, — заговорил Прохор Костюков, — колонны одни и те же ходили с продуктами и боеприпасами, и те колонны, которые задавили или стукнули мальчонка, забывали, что такое спокойное движение. То мины, то засады. Кошмар. А вот наша колонна ходила без помех. Продукты и боеприпасы в мангруппу, где я командовал ротой всегда привозились полностью, без всяких задержек и потерь… Ее ни разу даже не обстреляли издали. А почему? Лейтенант Курдюмов, возглавлявший колонну, поступил мудро: когда в одном кишлаке стукнули парнишку, не до смерти, но довольно крепко, Курдюмов остановил колонну, выяснил, чей сын пострадал, сам прошел в дом отца с извинением и выгрузил ему несколько мешков муки и риса на лечение, как он сказал отцу пострадавшего сына. О благородстве зеленого аскера полетела весть впереди колонны, и сколько она ни ходила к нам с грузом, ни разу не попадала в неприятность. А Курдюмов, проезжая кишлак, где пострадал мальчик, всегда заезжал с каким-либо подарком и для отца и для мальчишки. Даже женщин по мелочам баловал.
— Народы Средней и Центральной Азии чтят благородство. Это у нас в крови, — прокомментировал рассказ Костюкова подполковник Саркисов; — не все это понимают. Даже друзья пограничники на заставах.
— Мотай на ус, — посоветовал Костюков Михаилу. — Обретешь благородством уважение у таджиков, легче станет охранять вверенный тебе участок. Это нужно не только помнить как азбуку, но и жить этим.
За разговорами подъехали к главному подъему на Алай, или как принято в обиходе называть, в Алайскую долину, что вполне равнозначно маслу масленому. Но что поделаешь с устоявшимся. Впрочем, разве в такой момент мыслится о пустяках — дух захватывает от одного взгляда на уходящий в небо серпантинистый подъем. Михаил даже присвистнул.
— Вот это да! Лишь начало! А дальше что?
— Дальше — легче. Если говорить об этой дороге до Хорога, таких вот серпантинов не будет. Сейчас мы взберемся на три с небольшим тысячи, а дальше перевалы до четырех, пяти и даже шести тысяч, но подъемы на них куда как легче, — пояснил Костюков. — Я проезжал по этой дороге в лейтенантские годы. Впечатляет, скажу тебе. Память на всю жизнь. Ко всему прочему, о каждом перевале — легенда. И в каждой — умная нравственная назидательность. Не с помощью глагольных рекомендаций, а основанная на жизненных примерах, на людских поступках. Но мы не поедем той дорогой. Свернем налево — и по ровной ровности.
Водитель без всякой команды остановил уазик перед началом серпантинов, внимательно осмотрел машину снаружи, словно от внешнего ее вида зависел удачный подъем, затем постучал носком ботинка каждый скат, проверяя вместе с тем, надежно ли сидят на своих местах колпачки ниппелей, и тогда только сделал окончательный вывод:
— Если Аллах соблаговолит, поднимемся без помех.
По команде капитана Игнатьева водители «Уралов» проверили надежность скатов и доложили, что все в порядке.
— Что же, перекурим — и вперед. На Крышу мира.
Алай далеко еще не Крыша, однако, можно снисходительно отнестись к словам капитана Игнатьева, ибо он, как почти все спецназовцы — романтик.
Километра два петлястой крутизны, сердитого до замирания сердца урчания мотора, кажется, почти на выдохе — медленно тянутся минуты. Очень медленно. Даже медленней, чем ползут машины. А за стеклами салона справа— зубастый отвес, слева — бездонная пропасть. Даже самому привыкшему и самому смелому станет жутковато от всего этого.
Хорошо спецназовцам: они сидят за брезентом, им ничего не видно, лишь надрывность моторная может их в какой-то мере беспокоить, хотя «Уралы» и по равнине едут довольно шумно.
Всему, однако, приходит конец. Уазик круто рульнул на очередной серпантин, мотор усилил урчание — и тут впереди ровность ровная. Лишь у самого горизонта видна гряда, более похожая на крутобокие холмы, чем на скалистые горы, каким представляется Памир не видавшему его воочию обывателю.
— Алай! — с явной радостью известил водитель, словно сами офицеры еще не поняли этого, не оценили того, что преодолен подъем и что теперь впереди безопасная ровность. Ни кустика, ни заметного валуна. До бесконечности, ограниченной лишь по бокам тупоголовыми холмами, которые тоже как бы укрылись вуалью большого расстояния, вольно распласталась долина, пепельно-зеленая от изобилия горной полыни, — хасырыка.
— Километров сорок до крепости. Дорога торная, — пояснил подполковник Саркисов. — За час добежим с ветерком.
Действительно, торная. Даже чрезмерно: в довольно частых колдобинах— кто ее здесь грейдером гладит? Встряхивало иногда так, что фуражки задевали тент, но водитель даже не обращал на это внимания — сам он не очень подпрыгивал на сидении, ибо держался за баранку. Пассажиров же измотало донельзя, и когда впереди показался большой кишлак, прежде скрывавшийся в низинке, Костюков спросил с надеждой:
— Скоро крепость?
— Не очень. До крепости еще почти десять километров.
— Ничего себе!
Кишлак безлюден. Словно вымер. Отчего? Саркисов, вздохнув, поясняет:
— Весь кишлак, с детьми и стариками, в крепости. В заложниках. Только те остались, кто отары пас. Теперь и они, собрав ночью весь скот в кишлаке, взяв даже всех собак, ушли с отарами подальше. Не хотят возвращаться, хотя их известили, что узбекские сепаратисты блокированы в крепости, да и сидят они тихо-мирно, требуя лишь свободный путь, поэтому безопасны. Не верят.
— Может, они правы, — отозвался Костюков. — Как у нас говорят: береженого Бог бережет.
Подполковник Саркисов и в самом деле не владел истинной обстановкой. Избранный Аллахом не единожды приказывал главнокомандующему всеми вооруженными силами оппозиции прорвать кольцо блокады. Азиз вел на прорыв свои сотни, видя бесполезность предприятия, но не возражал, ибо продолжал считать, что только полное послушание приведет к полному доверию. Однако всякий раз вылазки натыкались на твердый отпор — Избранный Аллахом негодовал, не понимая вроде бы, отчего не поддерживают святое дело правоверные киргизы, хотя он избран самим Аллахом и исполняет его волю.
Его гнев иногда выливался в расправу над мужчинами-заложниками или в благосклонное разрешение своим нукерам тешиться с женщинами и девочками, ну, а ворам-разбойникам только чуток дай слабину, они развернутся во всю ширь. Не отставала, впрочем, от бояр и сотня телохранителей Избранного Аллахом, не скромничали даже апостолы Избранного — стон и плач переполняли крепость, но высокие и толстые стены ее не выпускали наружу плач и стоны, да и сдерживали заложники себя, боясь громкими стенаниями навлечь на себя еще больший гнев, чреватый смертью. Уже успели они насмотреться на то, как бандиты легко убивают их мужей и сыновей.
Километра за три до крепости колонна со спецназовцами остановилась: Костюков решил посоветоваться, тихо ли подъехать или демонстративно?
— Как ваше мнение, капитан Игнатьев? Какое мнение у командиров взводов?
— Под самые стены. К главным воротам. Пусть видят.
— Не лихо ли? — подумавши, не согласился майор Костюков. — Но основную мысль поддерживаю: без маскировки. В открытую.
Согласился с этим и подполковник Саркисов:
— Нужно их напугать. Пусть поймут, что если не согласятся на капитуляцию, со всего СНГ соберутся силы.
Слово-то какое: капитуляция! Масштаб. Ну, да ладно, пусть преувеличивает донельзя, хотя смысл верный: принудить их к конструктивным переговорам, добиться перво-наперво освобождения заложников, затем безоговорочного отказа сопротивляться самих сепаратистов.
Развернули план крепости. Очень неловко ее штурмовать, если до этого дойдет. С трех сторон — ровное поле. Нет даже кустиков или валунов, за которыми можно укрываться. Сама же крепость стоит на холме, вершину которого строители сравняли, пустив глину на стену, бока же холма обрубили почти отвесно до самой стены. С третьей стороны — дорога. Проходит она между крепостной стеной и говорливой речкой, на которой устроен водозабор. Дорога эта тянется до самой границы, где стоит контрольно-пропускной пункт.
— Выдавить бы их за кордон, пусть помыкают горе-беду, — высказал неожиданно мнение один из командиров взводов, но для киргизского пограничника это мнение оказалось не откровением.
— Мы предлагали, но они в Китай не хотят. Твердят свое: через Горный Бадахшан в Афганистан. К своим одноплеменникам имеют желание. Думают, получив там добрую поддержку, вернутся в свою долину крупными силами. А, может, надеются на поддержку мусульман-таджиков. Только зря они рассчитывают на исмаилитов, чьи законы запрещают убивать. Тогда сепаратисты-бандиты сами станут убивать их. Можем ли мы, соседи, пойти на подобную подлость, выпустив из своей земли на соседнюю разбойное стадо?
Рассуждение верное с моральной точки зрения, но не с военной. Если выпустить их из крепости, можно будет на их дальнейшем пути устроить засаду. Куда как тактически выгодно — так считал Костюков, но до времени придержал свое мнение при себе.
«После переговоров видно станет».
Решение короткого совещания получилось такое: всей колонной проследовать по дороге под стенами крепости, хотя это очень рискованно. Что на уме у сепаратистов? Откроют по машинам огонь, разве брезент защитит от пуль? И все же большинство посчитало, что риск окупится демонстрацией силы.
— Миновав крепость, вливаемся в кольцо блокады, какое в ней место укажет командир полковник Нуралиев, — подвел итог совещания майор Костюков. — И сразу же предложим встречу для переговоров.
Вроде бы все по уму, но не учли Костюков, Саркисов, Игнатьев реакции бандитов, которых в отряде сепаратистов добрая половина.
Поначалу все пошло вроде бы ладно. Колонну со стен крепости не обстреляли, хотя на них поднялась пара десятков сепаратистов с автоматами, подствольниками. Все до одного в бронежилетах. Вполне могут открыть огонь. Вопреки, однако, желанию поскорее миновать опасность, колонна еле двигалась и время от времени для большего шума напрягала моторы при выжатых сцеплениях.
Но вот первый сбой: не командование войск, заблокировавших сепаратистов, потребовало переговоров, а сами сепаратисты. И начались они тоже с непредвиденного ультиматума:
— За каждое новое пополнение ваших войск — десять казненных заложников!
Это заявление сделал Азиз, который фактически взял в свои руки бразды переговоров, и хотя апостолы Избранного Аллахом были недовольны, но никто не сказал ни одного слова против. Они посчитали так: пусть Избранный Аллахом сам отвергнет сказанное Багдадским вором. Увы, Избранный Аллахом промолчал. Его вполне устраивал такой поворот событий. После открытой казни заложников, все будут еще крепче держаться в единой куче.
— За кровь придется расплачиваться, предостерег майор Костюков. — Дорогой ценой.
— Колонией строгого режима? — с ухмылкой вопросил Азиз. — Нас этим не испугаешь. Мы знаем, что это такое. Но мы не намерены сдаваться на вашу милость. Наше условие остается прежним, но теперь более жестким: вы открываете нам путь в Афганистан через Горный Бадахшан или мы решаем все вопросы силой. Вы штурмуете, мы отбиваем штурм, но после каждого штурма за каждого убитого воина Аллаха десять казненных заложников. Головы их вы будете видеть на стенах.
Первые десять голов за прибывшее пополнение мы выставим сегодня же.
— Безвинных?!
— Они не хотят идти путем Аллаха, — спокойно ответил один из апостолов. — И караем их не мы, а сам Аллах.
Твердолобость непробиваемая, но и понять осажденных можно — они в безвыходном положении, хотят же остаться победителями. Понять, но никак не оправдать.
Через час после окончания переговоров на крепостную стену и в самом деле было выставлено десять голов. Одна из них — детская. Варварство! Словно древние века!
Руководитель блокадных войск полковник Нуралиев срочно собрал совещание, однако все сидели молча очень долго, подавленные увиденным.
— Какая пропасть между идеей свободы и независимости, за что головорезы ратуют, и их делами, — наконец нарушил молчание капитан Игнатьев. — Считаю, варварский поступок требует резких ответных мер. Но что мы можем предпринять, не подвергая опасности жизни заложников?
— Штурм! — горячо воскликнул лейтенант Богусловский. — Скорейший штурм! Будут жертвы, но не столь позорные и страшные!
— Горяч молодой джигит, — не то осуждающе, не то с долей благосклонности молвил полковник Нуралиев и, помолчав немного, спросил майора Костюкова. — Вы, товарищ майор, разделяете мнение своего коллеги?
— Нет. У меня иной план. Почему я против штурма? Крепость построена башковитыми ратниками: стены высокие и толстые, даже крупнокалиберными снарядами не разрушишь. К стене же не вдруг можно подступиться. Холм стесан со всех сторон, оставлен только метр у стены. Много ли сил сосредоточишь на этом метре, если спецназовцы ночью бесшумно поднимутся по стесанному обрыву. Есть в одном месте, на углу у дороги, просторней площадка, там можно ночью сосредоточиться — и через дувал. Но считаю это авантюрным решением. Оно на самый крайний случай.
— Неожиданный ход не авантюра. Особенно при штурме. Но я тоже против штурма, — поддержал Нуралиев Костюкова, затем спросил: — Какой выход вы предлагаете?
— Отпустить банду сепаратистов по тому маршруту, каким они намерены идти в Афганистан. В Горном Бадахшане им устроить добрую засаду, зажав в узком ущелье, каких там много. Думаю, вернее, уверен, что таджикские спецназовцы и пограничники нам помогут и в выборе места, и в уничтожении банды.
— Есть над чем подумать, хотя я смею предположить, что бандиты погонят с собой заложников.
— Поставить условие на переговорах: отпустим, если отпустят заложников.
— Начнем проработку вашего плана, товарищ майор. Слово за руководителями наших стран. Когда согласуем все позиции на высшем уровне, тогда начнем переговоры с варварами. Сейчас наша задача — держать ухо востро. Любая попытка прорыва не должна застать нас спящими в юртах.
О юртах полковник сказал не ради национального колорита — ратники и в самом деле были размещены в юртах. Прибывшим спецназовцам тоже поставили новые юрты. Просторные, застланные коврами поверх кошм и в достатке обеспеченные подушками и одеялами. В одеялах, правда, нужды не было, на улице жарища, в юртах же вполне комфортно, словно добрые кондиционеры поддерживают нужную температуру.
Для Костюкова с Богусловским — отдельная юрта. Тоже весьма просторная, явно рассчитанная на большую семью. В ней уютно, так и хочется расслабиться, забыть все, блаженно развалившись на ковре, но у Михаила Богусловского не выходило из головы резко брошенное Костюковым — нет. Засада в будущем? Бабка надвое гадала. Штурм, вот реальный шаг. Да будут жертвы с обеих сторон, но будет торжество победы, зло будет наказано! Михаил Богусловский едва сдерживал себя от неприятного, как он его оценивал, разговора, ожидая, не начнет ли его первым майор Костюков — Михаил уже раскусил манеру Прохора Авксентьевича убеждать фактами, начиная разговор всегда первым.
«Какие приведет сегодня, оправдывая свое нежелание рисковать?»
Михаил Богусловский не ошибся. Когда они уже улеглись, собираясь отойти ко сну, Прохор Костюков заговорил. Очень спокойно, будто не пытался наставлять молодого офицера на путь истины, а собрался рассказать что-нибудь приятное перед сном, как сказку для малыша.
— Мой дед из уважаемого казачьего рода, полный кавалер Георгиевских крестов, в первую мировую был лазутчиком. Он с товарищами часто ходил в тыл к германцам, приводил «языков», словом, отличался мужеством и смекалкой. Из любых передряг умело выкручивался. Возвратившись из очередной ходки в тыл германцам, лихой казак поспешил к командирскому блиндажу, чтобы поскорей доложить об увиденном (германцы подтягивают крупные силы, явно готовясь к наступлению), но перед блиндажом опешил. Массивная дверь приоткрыта, и из блиндажа доносится голос полкового священника: тот откровенничает с господами офицерами, что церковь на всем русско-германском фронте имеет установку молить Господа Бога о сохранении жизни офицеров как элиты не только армии, но и нации. Что касается рядового состава, то этого мусора, как выразился поп, в России больше, чем достаточно. Потери солдат всегда восполнимы. Не решился мой дед, как он мне сам рассказывал, войти в блиндаж, но и не отошел прочь на время: очень уж захотелось узнать, как воспримут откровения попа — ненавистника солдат — господа офицеры. Только двое молодых подпоручиков не согласились с варваром в сутане, горячо доказывая, что иной простолюдин умней дворянина, хотя и не образован. С жаром они отстаивали свою точку зрения, что образованность не есть еще ум. Ум — от природы, и он дается Богом не только господам, а всем сословиям, поэтому элитой нации можно считать только тех, кто наделен умом от природы. И еще они доказывали, что все люди есть люди. Нет элиты, нет мусора. В каждом сословии, и в духовенстве тоже, есть и мусор и элита. Солдат нужно беречь, как и самих себя, ибо умереть не трудно, победить и остаться живым — гораздо трудней.
— Ноя, предлагая штурм, не собирался укрываться за спинами спецназовцев!
— Верю. Если бы было принято решение о штурме, я тоже не остался бы в сторонке. Но ты не обратил внимание на главную для нас военных мысль, высказанную теми неизвестными нам подпоручиками: погибнуть в бою не геройство. Победить и остаться живым — вот истинный героизм. Но я продолжу рассказ деда. Он, по его словам, постарался донести то, что услышал у двери командирской землянки, до рядовых солдат. До, так сказать, мусора. И чем закончилась та история? Когда германцы через пару дней предприняли наступление, все полковые офицеры, кроме двух подпоручиков, погибли в том бою. Даже попу досталась шальная пуля.
— Жестоко, но справедливо.
— Верно. Но я не о справедливости и жестокости. Я вот о чем: сохранилось ли прежнее чванство в армии в наше время? В годы гражданской, как я уяснил, оно почти отсутствовало, командир впереди на лихом коне или на тачанке. Личным примером вдохновлял. А вот позже, в годы так называемого Финляндского конфликта, высшее командование то ли по глупости, то ли по приверженности к прежним тактикам губили тысячи рядовых бойцов неразумными с тактической точки зрения и вовсе не подготовленными атаками. А откровение прославленного полководца, о котором поведал всему миру генерал Эйзенхауэр? Минные поля разминировались массами красноармейцев, сержантов и командиров низового звена. А под Москвой остановили немцев, бросив им навстречу очень плохо вооруженную армию сибиряков. Массой мусора добились что-то вроде локальной победы. Да, командиру дано право распоряжаться жизнями подчиненных, но это не значит, что можно командовать бездумно, без поиска тактически выгодного варианта. Вот об этом я думал, сказав решительное нет штурму крепости.
Ни майор Костюков, наставлявший молодого офицера, ни Михаил Богусловский, не могли даже представить, что примерно об этом же вели разговор молодой казак Прохор Костюков и столь же молодой офицер Иннокентий Богусловский, лежа в засаде на дороге у водозабора. Они ждали атаки Абсеитбека, короля контрабандистов. Впрочем, о самой обороне крепости знали из рассказов старших и майор Костюков и лейтенант Богусловский. Через какое-то время возник разговор и о том событии.
— Абсеитбек, которого на Алае чабаны называли меж собой не иначе как шакал ненасытный, а лизоблюды Керосиновым королем, привел на штурм крепости почти всех мужчин долины. Не потому они откликнулись на его зов, что так сильно уважали, — все они были его должниками, и он мог за неповиновение потребовать немедленного возвращения долга или увеличить процент. Для Абсеитбека народ, его же соплеменники — мусор. Он ничего не терял, ведя чабанов на смерть: вдовы и дети отдадут ему долг. А если не смогут, станут его рабами либо откупятся девочками или мальчиками. Вот я и спрашиваю, Михаил, тебя: разве можем мы идти путем кровопийца?
— Но засада, которую вы предлагаете, не обойдется без боя, значит, и без жертв.
— Безусловно. Но бой в более выгодных условиях. Это — раз. Второе — исход боя решат мужество и сноровка, штурм же крепости — явно проигрышное дело. Никчемная гибель. Вот о чем я тебе толкую. Да еще гибель заложников, чьи жизни, штурмуя крепость, мы поставим под прямую угрозу. Ну, а это и вовсе бесчестно.
Михаил Богусловский уже давно понял, что ляпнул на совещании о штурме, не взвесив все, по горячности ляпнул — он в тот момент не видел иного выхода. Ему представлялось что бандиты, как он справедливо называл сепаратистов, не пойдут на уговоры, не отпустят заложников, что также обрекает их на смерть, наиболее даже мучительную, после издевательств и попрания чести. Голод или нож по шее — вот конечный итог. Он не изменил своего мнения и сейчас. Переча майору Костюкову, он надеялся в споре найти что-то наиболее приемлемое, но сколько долго они ни обсуждали сложившуюся обстановку, ничего светлого впереди не проглядывалось. Они не могли даже предположить, что это светлое появится уже завтра на рассвете, когда их разбудит сам полковник Нуралиев.
— Я пришел позвать вас на заставу Ик Кизяк. Там задержаны контрабандисты. Целая группа. Большая группа. Хочу лично допросить. Зову и вас с собой. Машина готова. Позавтракаем на заставе. После допроса.
— Едем, — согласился майор Костюков, сразу же понявший идею полковника: через контрабандистов избавиться от банды сепаратистов. И все же спросил: — Разве контрабанда из Афганистана?
— Трудно судить. Скорее всего — да. Но мы не вдруг узнаем об этом. Ходокам такие подробности неизвестны. Главное же не в этом. Контрабанда — в обход властей, в руки которых сепаратисты не хотят попасть. Определенную ясность мы получим, допросив задержанных. И если улыбнется удача, через них свяжемся с тем, кто их послал. Пока же помолчим. Наш народ так учит: не говори, что поехал, пока не сел в седло.
— У нас тоже есть подобное: не говори гоп, пока не прыгнешь.
— Тоже мудро. Поехали, значит, не гопая.
От крепости до заставы Ик Кизяк километров двадцать. Их одолели быстро, тем более, дорога ровная, без колдобин.
Ворота на заставе отворены. Начальник заставы ждет, готовый доложить о задержании, хотя, если быть откровенным, не совсем понимает, отчего такой переполох. Задержание, можно сказать, обычное. Почти все тропы контрабандистов заставе известны, и просачиваться ходокам удается только потому, что не хватает людей надежно перекрыть все тропы. На сей раз повезло: наряд — на фланг, прямо ему в руки — ходоки.
Не сразу, конечно, они подняли руки. Попытались вернуться в горы, отстреливаясь. Наряд, однако же, не лыком шит — отсек путь отхода, и побросали оружие контрабандисты, когда один из них был убит, а двое ранены.
Полковник прервал рапорт начальника заставы:
— Веди на завтрак. За дастарханом все подробно объяснишь нам. Особенно гостю из России.
В столовой стол накрыт. Повар в чистой куртке снежной белизны и даже в колпаке по случаю приезда гостей, встречает докладом.
— Твой доклад — на дне тарелки, — благодушно заключил полковник и жестом гостеприимного хозяина пригласил к столу не только майора Костюкова и лейтенанта Богусловского, но и начальника заставы.
— Начнем с кумыса. Он дает аппетит.
Михаилу не понравился кумыс. Запах какой-то непривычный. Отталкивающий. Он, однако, увидев, с каким наслаждением буквально впитывают его в себя как что-то божественное хозяева, пересилил себя и тоже выпил кису. А вот бесбармак понравился. Баранина свежая, нежная и не очень жирная, а сваренные в крутом бульоне пластины теста вкусны, поэтому Михаил не отставал от других, хотя и ел впервые это блюдо.
Наконец, чай. Время для делового разговора.
— Тропа, по которой пришли задержанные, известна давно, но пользуются контрабандисты ею очень редко. Почему? Ответ на этот вопрос сложный. Видимо, берегут ее для наиболее важных случаев.
— Об этой тропе сложено много легенд. Она использовалась легендарным начальником отряда для игры с Мейиримбеком, братом короля контрабандистов Абсеитбека, убитого, похоже, своими же при штурме казачьей крепости. Об этом, если гости захотят, мы можем рассказать. После допроса, естественно.
— Не стоит, — ответил майор Костюков. — Нам с лейтенантом все, что здесь происходило, известно из уст участников тех событий. Мой дядя, Прохор Костюков — мое имя в честь него — отбивал штурм Абсеитбека.
— Постой-постой. Костюков — большой генерал?
— Да. Но тогда он был простым казаком и оборонял крепость вместе с родственником лейтенанта Иннокентием Богусловским, который возглавлял пограничный гарнизон после раскола.
— Богусловский тоже большой генерал.
— Да. Богусловские известны хорошо в пограничных войсках. Отец лейтенанта Богусловского, — кивок в сторону Михаила, — служил рядовым вот на этой заставе.
— Уважаемые люди! — воскликнул полковник Нуралиев. — Очень скромные люди. Не вот этот бы дастархан, мы не узнали бы ничего о вас.
— У нас самих еще скромные послужные списки.
— Нет-нет. Вы обязательно повстречаетесь с пограничниками этой заставы, с пограничниками отряда. — И добавил: — После окончания операции. И не говорите, что вам нужно спешить к месту службы: два или три дня не очень большая потеря времени.
— Нас действительно ждет граница с Афганистаном, но мы не откажем вам в вашей просьбе.
— Прекрасно. А теперь — за дело. Начнем допрос.
Какой допрос, если оценивать его по большому счету. Узнав, кто главный в группе контрабандистов, полковник сразу пошел в атаку.
— Или ты все рассказываешь без утайки, или мы передаем тебя и всю твою группу погранстраже официально. Вместе с героином. А это, как тебе хорошо известно, смерть.
Подействовало без осечки. Знали контрабандисты, что ждет их, попади они в руки властей. Изобьют до полусмерти, затем отдадут под суд. А у суда с контрабандистами один разговор: смертная казнь. А если даже отправят на многие годы в исправительную колонию, то там смерть слаще жизни. А кому такое по душе? Рассказал старший все. Оказывается, несли они не только заплечные мешки с героином, но и устное слово к руководителям оппозиции, то есть сторонникам создания государства, живущего по законам шариата. А слово такое: если не перестанут дремать, им не будут поступать деньги.
— Кто послал?
— Абдурашидбек.
— Не внук ли Мейиримбека?
— Да.
— Все ясно. Жди нашего слова.
Допрошенного увели, и полковник Нуралиев как бы спросил самого себя:
— А не начать ли нам игру с Абдурашидбеком? За его спиной видны клыки какой-то разведки. Вполне возможно даже ЦРУ. Или — английской. Не исключено, как, товарищ майор, говорят у вас — убьем двух зайцев: спровадим бандитов, именующих себя сепаратистами, и возьмем под свой глаз так называемую правоверную оппозицию. Плохо ли?
— Замысел верный. Нужно его хорошо продумать тактически.
— Этим и займемся.
Ноша, можно сказать, неподъемная. Естественней все будет выглядеть, если к переговорам с сепаратистами подключить оппозицию. Но как?
— А если подключить, не подключая? — неожиданно даже для самого себя предложил Богусловский. — Разве тот, как его…
— Абдурашидбек.
— Вот-вот, Абдурашидбек будет знать, встречались ли те, кто хочет деньги и того же, как в Узбекистане, так и в Киргизии?
— Добрая мысль: использовать вслепую. Ей и дадим путевку в жизнь.
— Тогда придется отпускать ходоков. Немалый риск.
— Можно и не отпускать. И здесь можно вслепую. Главного ихнего отпустим одного, и даже не отпустим, а сопроводим.
План удался. Переодетые под ходоков пограничники с заплечными мешками спустились короткой дорогой по извилистому ущелью до Гульчи, и каково же было их удивление, когда они оказались в доме местного торговца хлебом, который стоял под самым боком комендатуры. Торговец был вне всяких подозрений, цены на свой ходовой товар держал более чем умеренные, много помогал пограничникам. Бескорыстно. Так во всяком случае, они считали.
В присутствии только одного переодетого прапорщика глава группы контрабандистов передал вначале героин, затем слово Абдурашидбека руководителям оппозиции, и хлеботорговец, еще раз основательно удивив пристава прапорщика, попросил ходока:
— Передай своему хозяину так: в трудное положение попали правоверные из Узбекистана. Спроси: сможет ли он подать им руку помощи?
— По нашей тропе разве смогут пройти много нукеров Бека для успешного удара по войску кокаскеров? — спросил недоуменно прапорщик. — Да и не пойдет на это наш хозяин. Он — мудр и очень осторожен. Поэтому он и процветает.
— Процветает он не потому. Его держат, пока он нужен! — резко бросил хлеботорговец. — Он слуга тех, кто поддерживает нас, борющихся за шариатское государство! А пойти по тропе? Если проходит один, пройдет сотня. Слушайте и запоминайте: пойдете обратно вы вдвоем, остальные все останутся у меня. Помогут мне по хозяйству. Передадите мою просьбу принять правоверных узбеков.
Новый поворот. Неожиданный. Как идти прапорщику к Абдурашидбеку? Что, тот не знает в лицо тех, кого отправлял с наркотиками?
Ломали, однако, голову не слишком долго. Решили идти на риск: прапорщик пойдет представителем оппозиции. Это даже лучше. И впредь именно через него можно будет продолжить игру.
И то, что остальных контрабандистов на какое-то время задержал хлеботорговец, тоже лыко в строку. Снимет это все возможные подозрения.
Загвоздка только в одном: среди тех пятерых, которых заменили пограничники и которые под крепкими запорами сидят на заставе, не окажется ли несговорчивого.
— Пугнем основательно. Либо они принимают наши условия и носят по своей тропе наркотики с прибытком для себя, либо расстаются с жизнью. Расправа над ними свершится руками самого Абдурашидбека. Станем внимательно отслеживать, чтоб самим не попасть на крючок, чтоб с нами не начали контригру.
Но это — головная боль будущего, тем более, что к игре подключатся органы госбезопасности, теперь же главным своим успехом пограничники считали обещание хлеботорговца подсказать там, в столице, идею о тайном пропуске за кордон сепаратистов. В средствах массовой информации изложить дело так, будто сепаратисты сдались и их главари после расследования предстанут перед судом. А расследование может длиться годами, и факт этот забудется.
Ходоки ушли тайной тропой, и целых двое суток прошло в ожидании. Но вернувшиеся от Абдурашидбека посланцы принесли радость — Бек согласен. Он даже рад принять у себя правоверных и тайно, малыми группами, переправить к узбекам в Афганистан. А на следующее утро поступила шифровка с указанием полковнику Нуралиеву повести срочные переговоры с отрядом узбекских сепаратистов и, добившись их согласия, выдворить из пределов Киргизии. Начатую игру с закордоном поведут органы госбезопасности.
Что же, руки развязаны. Можно начинать переговоры. В них вмешивать прапорщика нецелесообразно… Но одному — веры мало. Пришлось обрабатывать еще одного из контрабандистов. Остальные, мол, в явочном доме до тех пор, пока не подойдет их очередь сопровождать отряд, если будет на то их согласие.
Но на переговорах Азиз уперся:
— Если мы пойдем, то пойдем все вместе.
— Такой отряд не может быть не замечен властями. Вы не хотите идти открыто через КПП, справедливо опасаясь быть разоруженными и арестованными, отчего же вы отказываетесь от разумного предложения Абдурашидбека? Он согласился принимать вас только небольшими группами и такими же группами переправлять в Афганистан, к вашим соплеменникам.
— Пограничный полковник, — подтвердил слова Нуралиева старший контрабандистов, — говорит то, что сказал мой хозяин. Только малыми группами. Нас осталось пять ходоков, знающих тропу. Мы поочередно станем водить вас через горы.
— Я посоветуюсь с Избранным Аллахом. Его слово станет окончательным.
Через час Азиз вернулся.
— Мы принимаем условие Абдурашидбека: пойдем через горы поочередно, но отсюда и до полной нашей безопасности мы пойдем все вместе. В окружении заложников. В случае нарушения вами договоренности, первыми примут смерть они.
Почти тупик. Однако на помощь пришел старший из контрабандистов. Он уже понял, что теперь полностью в руках пограничников и не видел смысла хитрить с ними, боясь за свою жизнь. Стать верным их помощником — в этом он видел свое благополучие на ближайшее время, а если Аллаху станет угодно, то до конца дней своих. Вот он и вмешался:
— За узким лазом в гроте — путь в горы по нашей тропе. Но подъем сперва пологий, где можно поставить десять, а то и пятнадцать юрт. Лаз, если в нем поставить пулемет, никто не одолеет. Полная безопасность обеспечена.
— Ты самолично, а не полковник, скажешь нам, когда там поставят юрты и доставят вдоволь мяса и хлеба. Тогда мы пойдем.
Условие приемлемое. Прошло пару дней, и сепаратистам дали знать — их требования выполнены.
Теперь самое ответственное. Не расставишь по всей дороге заставы, да еще и до левого ее фланга бойцов, а без доброй охраны не пустишь бандитов. Им вера какая? вот и решили, взвесив все, сопровождать сепаратистов ротой русского спецназа. Бойцы натренированы и наиболее готовы к любым неожиданным поворотам в обстановке.
Ворота крепости отворились. Первыми вышли вперемешку заложники и десяток наиболее преданных главе сепаратистов из сотни его телохранителей. Следом, как и обещал главнокомандующий вооруженными силами Избранного Аллахом, все остальные бандиты в окружении заложников. Им велено было держаться друг за друга, иначе — пуля в голову.
Избранный Аллахом сменил свой халат на поношенный, снял и свою отличительную чалму, надев простую, и при всем желании его нельзя было отличить от остальных бандитов или идейных, если бы снайпер имел задание поразить его одним выстрелом.
Не мог не понимать Избранный Аллахом, что подобное исключено, но он очень высоко ценил свою жизнь и оберегал ее со всем старанием.
Шагали медленно. Можно сказать, брели. Особенно тормозили движение старики, старухи и дети. Голодные, напуганные прежними расправами, они старались не упасть, чтобы не получить пули в голову, их поддерживали молодые, у которых сил осталось побольше, но прытко толпа двигаться все же не могла. Избранный Аллахом даже велел Азизу убивать обессиливших, однако Азиз поперечил. Впервые.
— Нельзя. Мы дали слово.
— Слово?! Аллах простит деяния наши ради святой цели.
— Наши святые деяния прервутся после первого выстрела. Вон сколько аскеров с автоматами, в бронежилетах. Предлагаю отпустить аксакалов, старухи малолеток. Быстрей пойдем.
— Поступай, как знаешь.
Главнокомандующий тут же велел всем остановиться и начал самолично распоряжаться, кого из заложников отпустить.
У обалдевших от счастья старух и аксакалов едва хватало сил делать в сторону несколько шагов, и они тут же валились в изнеможении на землю, истово целуя ее.
Дети подражали своим бабушкам и дедушкам.
Капитан Игнатьев связался с майором Костюковым и попросил.
— Высылайте все машины, какие есть. Не только наши «Уралы».
Миновали заставу. Еще несколько километров пути, теперь более спокойного, и вот он — грот, из которого вытекает речка. Капитан Игнатьев, взяв пару бойцов, встал у входа в грот.
— Проходят только сепаратисты. Ни одного заложника я не позволю взять с собой.
— Зря это, капитан, — вроде бы с сожалением ответил Азиз.
— Я — Багдадский вор, умею держать слово.
Вскоре за освобожденными заложниками приехали машины. На них прибыли майор Костюков и лейтенант Богусловский.
— Все, наша миссия окончена, — с облегчением промолвил капитан Игнатьев. — Обошлось без жертв с нашей стороны.
— Ваша — да, — ответил Костюков и покачал головой. — А нам с лейтенантом, думаю, еще придется с ними встретиться. И не единожды.
Глава пятая
В то самое время, когда майор Костюков и лейтенант Богусловский выполняли спецзадание, как они называли свою миссию на Алай, произошло два события, по важности не уступающие друг другу. Одно из них — в Москве. Точнее — в Подмосковье. На даче депутата Юрия Трофимовича.
Началось оно с того, что Юрий Трофимович, сухопарый чистюля с холеными руками, считавший себя выдающимся политиком, пригласил одного из своих помощников, Иосифа Сильвестровича Лодочникова, на свою дачу.
— Часиков эдак к двенадцати. В субботу. На шашлычок.
Лодочников знал, что дача Юрия Трофимовича частенько принимает гостей, но как правило, весьма значительных. Он как помощник иногда исполнял довольно пикантные поручения, привозя гостям для утехи мелькавших на экранах телевизоров певиц, а то и вовсе безвестных красавиц — певицы вели себя с ним надменно, как и подобает раскрученным до звездной величины артисткам эстрады, хотя отличались они не столько голосами, сколько соблазнительными телами, которые охотно выставляли напоказ с помощью соответствующих одеяний. Безвестные красавицы не корчили из себя невесть кого — они ехали на заработки, поэтому и вели себя сообразно своей профессии. Лодочникову не очень-то к душе были подобные поручения, но он не мог от них отказаться. Знал: не исполни просьбу шефа, завтра же получишь под зад коленом.
А разве ему худо живется за спиной у шефа, вернее, между теми, кто желает поддержки депутата, и самим депутатом. Не жадничали домогавшиеся депутатской благосклонности его лоббизма.
Где еще найдешь такое теплое место?
И вот — приглашение на дачу его самого. И радостно, и тревожно. Если же быть более точным — предчувствие чего-то необычного.
«Какая-то особая нужда во мне».
Он старался предугадать, какое серьезное задание даст Юрий Трофимович ему как юристу, но ничего стоящего из этого не выходило. Подспудно лишь пробивалась тревога. Всем помощникам Юрия Трофимовича было известно, что в омуте на Истре, близ дачи, водится сом-людоед. Особенно всем стало ясно, что это не легенда, пришедшая из прошлого, после того, как один из помощников сгинул в том омуте.
Меж собой помощники не обсуждали тот трагический факт, опасаясь друг друга: известит о пересудах кто-либо шефа, несдобровать тогда. Такое предупреждение получил Иосиф Сильвестрович от отца, когда поделился с ним своей тревогой.
— Какую-то крупную игру затевал твой шеф, а помощник, втянутый в эту игру, хотел, видимо, кинуть своего шефа. А тот клан никому ничего не прощает. Он добр только к тем, кто верно ему служит.
Отец-то знал больше сына, и как ему не поверишь?
Теперь вот, вспоминая тот разговор с отцом, Лодочников скрупулезно анализировал свое отношение с шефом, пытаясь найти хоть малую свою оплошность, которая бы вызвала гнев шефа и соответствующую этому гневу расплату, но ничего не находил.
«Нет, все у меня в ажуре. Ни разу не обманул шефа, не присвоил себе положенное шефу».
Вот с такими противоречивыми чувствами он поехал на дачу Юрия Трофимовича. На своей, а не на служебной машине, без шофера. Как и попросил шеф, предупредив:
— Разговор серьезный. Лучше, если о нашей встрече будут знать как можно меньше людей.
Иосиф Лодочников не знал, что на даче, куда он едет, в свое время произошли важные события, сыгравшие решающую роль в жизни их семьи и что именно там старинная родовая фамилия Буберов-Ткачей ушла в небытие, а появилась новая — Лодочниковы. Он не знал и того, какую роль сыграл в жизни его отца отец Юрия Трофимовича. Для внука тайна деда и бабки, тайна отца — тайна за семью печатями.
Дорога знакомая, машина идет легко, послушная рулю и педали газа. Помех почти нет, и Иосиф Сильвестрович не опасался опоздать. Но раньше тоже не нужно. Лучше за пару километров до дачи переждать время.
Так он и поступил. За мостом через Истру он принял на обочину, заглушил мотор и спустился на берег. В его распоряжении добрых полчаса, можно еще и еще раз, созерцая спокойное течение воды, уверенной в своей скрытой, но необоримой силе, подумать о предстоящем.
«Вот так нужно вести себя, как эти тихие струи. Не вдруг чтоб бросалось в глаза истинное состояние души. И не только сегодня. Пример для подражания вообще».
Но одно дело — благие пожелания, другое — исполнение этих благих пожеланий. Тут, как считается, характер нужен. А у Иосифа Лодочникова уже давно выработалось определенное поведение: скрывать слабохарактерность и даже природную робость ничем не обоснованной наглостью. Мнение о нем, как о неисправимом наглеце, основательно укрепилось у всех, кто общался с ним по деловым вопросам. И только Юрий Трофимович основательно раскусил его, проник в глубину его робкой душонки. Поэтому и выбор свой остановил на нем.
Дачу, которую подарил ему отец Трофим Юрьевич, он, став депутатом, основательно перестроил. Пользуясь своим положением, взял в аренду несколько гектаров земли, затем приватизировал ее, как дачный участок. Терем он оставил для себя, а для охраны и прислуги построил многоквартирный кирпичный дом. Участок же свой огромный огородил высоким плотным забором. В глубине леса вырыл довольно большое озеро, где любил побаловать себя спиннингом или удочкой. Не забыл он и о бассейне, и о сауне — все как у людей с крупным достатком, которых, в обиду русскому народу, окрестили новыми русскими.
Подвозил Иосиф Лодочников певиц и красавиц, как правило, к бассейну с сауной, где проходило обычно разнузданное веселье. Он надеялся быть нынче удостоенным чести попариться с шефом и поплавать после этого в прохладном бассейне, увы, мечте этой не суждено было сбыться: его встретил страж ворот и указал на стоянку, которую здесь называли предбанником.
— Юрий Трофимович звонили. Они на подъезде. Они велели тебя проводить в терем.
Совсем не то начало, на которое он надеялся в тайне. Это грубое — ты. Терем. Впрочем, терем, так — терем. Тоже не плохо. Не в машине ждать. И не во дворе вот с этим хмурым грубияном.
В тереме встретила его горничная, женщина в летах, но приятная мягкой округлостью тела и миловидным лицом, с естественным румянцем щек.
— Проходите в каминную. Юрий Трофимович вот-вот будут.
Это «вот-вот» растянулось на добрых полчаса, которые коротал Лодочников, восседая в мягком кресле и, казалось, безмятежно созерцал умиротворяющие языки пламени — если бы кто поглядел на Лодочникова со стороны, увидел бы уверенного молодого мужчину, ублажающего себя совершенно расслабленным отдыхом. Но это не так: Иосиф Сильвестрович был напряжен до предела. Никогда еще шеф не заставлял себя так долго ждать. Если он назначал время для деловой беседы, то был пунктуален, требуя пунктуальности и от своих помощников. И вот — такое.
Дверь наконец в каминную приоткрылась, и горничная заговорщицки известила вполголоса:
— Юрий Трофимович идут.
Стало быть, следует встать.
Он не извинился за опоздание и в то же время удивил Лодочникова необычным обращением:
— Пора, мой друг, побаловать себя шашлычком. Все готово на берегу Истры. Приглашаю.
Когда они вышли за калитку и даже отошли от забора на довольно приличное расстояние, Юрий Трофимович приостановился:
— Не верю я, чтобы меня не прослушивали. Мнение не просто депутата, а заместителя председателя комиссии, считаю, очень важно знать компетентным органам. А у нас разговор, мой друг, не для их длинных ушей.
Вот тебе — новая загадка. Взвихрила она у Лодочникова разномыслие. Очень хотелось заглянуть вперед. Лучше, конечно, спросить, но ловко ли?
«Дождусь его первого конкретного слова».
Довольно долго пришлось Лодочникову ожидать этого слова, находясь в полном неведении… Не спешно они подошли к берегу Истры, где рядом с угрюмым остовом, над которым нависли кусты лещины, пылал углями мангал, а на переносном складном столике из карельской березы стояла бутылка «Сантори» и тарелочки с нарезками нескольких сортов колбас, ветчины и янтарного лимона. В отдельной большой вазе бугрились фрукты и виноград.
Один из парней ловко наполнил коньяком рюмки, второй уложил веер шампуров, нанизанных нежной бараниной в перемежку с помидорами и круглешками лука.
— Что же, мой друг, причастимся и закусим, что бог послал, пока поспеет шашлык, — предложил Юрий Трофимович и первым взял рюмку.
Чокнулись. Без тоста. Одно лишь произнес, вроде бы для себя, Юрий Трофимович:
— Ну, с богом.
Долгий перерыв между первой и второй рюмками не положен. По этому поводу существует много поощрительных баек, и Юрий Трофимович не приминул воспользоваться одной из них:
— Долгая вторая — загубленная первая!
После второй — новая присказка: «Бог троицу любит». Юрий Трофимович явно спешил одурманить коньяком гостя. Должно быть и прислужники имели соответствующий инструктаж, ибо не спешили снимать с мангала шампуры. Пока хозяин не вопросил:
— Не пережарится ли мясо?
— Никак нет. У нас такого не случается, — гордо ответил занятый шашлыком прислужник. — Вот, отведайте.
Действительно — сочный, ароматный, явно без уксуса, выдержан в хорошем вине с умеренным добавлением лимона — Иосиф Сильвестрович с жадностью стаскивал с шампура кусок за куском (коньяк основательно раздразнил аппетит) и не сдерживал своего восторга, более, конечно же, в угоду Юрию Трофимовичу:
— Вот это да! Впервые в жизни. Кайф!
Бутылка «Сантори» опорожнилась. Откупорена еще одна. На мангал легла еще одна партия шампуров, и только когда от нее тоже ничего не осталось Юрий Трофимович предложил Иосифу Сильвестровичу:
— Покатаемся на лодочке. Потом — по второму заходу. Обмоем наш уговор.
В основательно затуманенной спиртным голове Иосифа Сильвестровича вяло заворочились мысли:
«Что за уговор? Чего тянет кота за хвост?»
За весла сел сам Юрий Трофимович. Молча отгреб от поляны подальше, и тогда только молвил свое слово:
— Вот теперь наверняка никто не подслушает. Можно будет в открытую, — и, помолчав немного, спросил: — Помнишь ли ты, друг мой, приезд депутатской группы из Душанбе? Пару месяцев назад?
— Конечно, — еще не понимая к чему клонит шеф, ответил, стараясь как можно бодрее, Лодочников. — Солидная группа. Я много с ней работал.
— Верно. Много и, нужно признать, умело. Ты понравился возглавлявшему делегацию Исмаилу Исмаиловичу.
— Хочет переманить к себе?
— Не подгоняй лошадей. Помедленней давай. Как у Высоцкого: чуть помедленнее, кони. Хотя в какой-то мере ты почти уловил суть. Тебе предстоит стать посредником или связным. Как будет угодно определить твою предстоящую миссию. Возможно, иное что придумается. Твое право. Важно иное. Важна суть. А суть вот в чем: Исмаил Исмаилович крепко связан со своими родственниками через Афганистан, и время от времени получает оттуда посылки. Много посылок. Девать их в Таджикистане нет возможности, вот он и просил меня принимать те посылки здесь. В Москве. Куда они дальше пойдут — не наше дело.
— Какие посылки?
— Неужели проницательность твоя подводит тебя? Не узнаю. Не узнаю.
— Может, виной тому коньяк, — оправдался торопливо Иосиф Сильвестрович, начиная понимать, какое страшное задание дает ему шеф-депутат.
А Юрий Трофимович, ухмыльнувшись, продолжил:
— Какие посылки могут быть из Афганистана? Верно — героин. Чистейший, доложу я тебе, друг мой. Самой высокой, так сказать, пробы.
— Весьма опасное предприятие. Последствия могут быть очень печальными, — попытался повлиять на шефа Иосиф Лодочников. — Мало ли у нас мзды без героина?
— Молодо-зелено. Мзда, особенно твоя, — мизер. Ты хочешь иметь вот такую, как у меня, дачу? Да, хочешь! Нет такого человека, кто не желал бы большего. А много без риска не бывает.
— Риск риску рознь.
— Не стоит преувеличивать опасность. Кто посмеет поднять руку, задержать и досмотреть помощника зампреда комиссии Думы! А если его еще провожает как своего друга уважаемый в республике депутат?
— Так-то оно так. И все же.
— Выбор у тебя, друг мой, ограничен. Или — да, или — нет, — в голосе Юрия Трофимовича прорезались нотки недовольства. — Третьего не дано!
Приперт к стенке. Вернее, к борту лодки. Какой выбор? Никакого. Если дать согласие — обмывание договора, если отказаться — чем все закончится?
Хмель выветривалась из головы стремительно. Не такой ли разговор вел Юрий Трофимович с тем помощником, который попал в зубы сома-людоеда. Великую тайну открыл тому шеф, как теперь ему, Лодочникову. Получив отказ, рисковать не стал.
«Упрятать концы в воду решил тогда, не повторит то же самое и теперь, если откажусь? Лодочка может оказаться верткой как раз в омуте. Или спихнут в воду добры молодцы-прислужники. Конец неминуем».
Юрий Трофимович терпеливо ждал ответа, а Лодочников все не решался сказать роковое слово.
— Ну! друг мой?!
Металл прозвучал в голосе шефа.
— Пожалуй, я соглашусь, — наконец ответил Лодочников и добавил, бодрясь: — И в самом деле, риск есть, но не очень великий. А богатство? Вы правы, Юрий Трофимович, оно никогда не станет лишним.
У самого же душа заныла. Отвратительно. Непослушно.
— Вот и ладушки. Погребли. Новые угли в мангал подбросим.
— Когда мне ехать?
— Точно я не могу тебе, мой друг, сказать. Точный день назовет Исмаил Исмаилович. Твоя задача быть готовым хоть завтра. Все нужное для командировки собери. Чтоб осталось поцеловать жену с сынишкой и — на самолет.
Еще одну бутылку, теперь уже «Наполеона» осушили Юрий Трофимович с Иосифом Сильвестровичем. Шеф заметно опьянел, Лодочников же только притворялся охмелевшим. На самом деле он был трезв, как стеклышко.
Второе событие, кровавое, которое потрясло не только пограничные войска, произошло на таджикско-афганской границе. На заставе, которую пограничники меж собой называли Приостровной. Она действительно стояла близ Пянджа, а на ее левом фланге был довольно внушительный остров, принадлежавший Таджикистану, ибо стоял он по эту сторону фарватера. На острове — обилие фазанов, однако пограничникам охота на нем не рекомендовалась, ибо его облюбовал для своей охоты депутат Исмаил Исмаилович. Почти каждый месяц он приезжал на свое заповедное место, убивал десятка три фазанов, часть из которых презентовал офицерам заставы. Он вроде бы курировал «Приостровную» довольно регулярно присылал гуманитарный груз, а иной раз еще и с группой известных в стране артистов. На заставе приветливо встречали Исмаила Исмаиловича, и никто, как казалось, не подозревал, какая истинная цель скрывается за любительской охотой.
Обстановка на заставе была относительно спокойной. На сопредельной стороне талибы не вышли к Пянджу — войска Дустума, а после его убийства, его приемников, удерживали свои позиции надежно, получая поддержку от России и иных стран Содружества Независимых Государств, поэтому не было ни одного случая обстрела нарядов с противоположного берега. Только, как и на других соседних заставах, время от времени задерживали контрабандистов с наркотиками. На «Приостровной» даже чаще, что считалось успехом. Начальник заставы в чести, заставу хвалят, и к этому привыкли и начальник заставы старший лейтенант Чирков, и вроде бы его заместитель лейтенант Дадабаев — пограничник со стажем, из прапорщиков. Как выяснится позже, он неоднократно внушал старшему лейтенанте Чиркову обратить особое внимание на остров, особенно перед приездом на охоту депутата, однако Чирков не просто отмахивался, но даже подшучивал над, как он говорил, чрезмерной бдительностью.
— Разве может депутат пойти по скользкой дорожке? Мне такое даже в голову прийти не может.
На этом обычно все и заканчивалось.
Жизнь на заставе продолжала идти привычным ритмом, не предвиделось ничего особенного и на эти трагически закончившиеся сутки, кроме такого важного события, как двадцатипятилетний юбилей старшего лейтенанта Чиркова, закоренелого, как говорили меж собой пограничники, холостяка.
Торжественный ужин готовил заставский повар, ибо и лейтенант Дадабаев тоже еще не успел обзавестись семьей, хотя у него уже была невеста — местная учительница русского языка и литературы Кокаскерова Гульсара. Вот Дадабаев и предложил Чиркову:
— Виктор Дмитриевич, а не позвать ли на твой юбилей Гульсару? Пусть поближе познакомится с нашим бытом. Скоро ей сюда переезжать. Она согласилась выйти за меня замуж. В летние каникулы.
— Зови, конечно. Может, подругу прихватит из учительниц. Мне тоже о невесте думать пора.
— Не высовывая носа с заставы, невесту не найдешь. А в поселке есть медичка, есть девчата-учительницы. Весьма симпатичные. И по годам тебе в самый раз. Любая из них рада будет надеть на себя семейную уздечку.
— Скорее — на меня.
— Это как получится. От мужчины многое в семье зависит, так говаривала моя покойная мать.
— Расфилософствовался. Бери машину и дуй в село. Вези свою Гульсару и ее подругу по ее выбору. Может, помогут повару, а то и вовсе заменят его.
Лейтенант Дадабаев едва успел застать Гульсару в школе, хотя у нее по расписанию значился еще один урок. Она же отчего-то спешно собиралась уходить.
— За мной пришли, — пояснила она Дадабаеву. — Ждут меня. Что-то страшное, Латып, готовится.
— Для тебя страшное? Но кому нужда тебя обижать? Родителям твоих учеников? Но от тебя дети без ума.
— Как и ты, — улыбнулась Гульсара, согнав с лица хмурость. — Я тебе, Латып, все объясню. Потом. Когда минует опасность. Теперь же мне нужно спешить. Извини.
— Но какая опасность?
— Потом-потом. Пока я только догадываюсь, толком ничего не знаю, — со вздохом ответила она, затем — решительно. — Пойдем со мной к аксакалу, что ждет меня за школьной оградой.
Они вышли во двор, затененный пышными деревьями, растущими вдоль ограды, миновали калитку, но на скамейке в сквере никого не оказалось. Гульсара даже растерялась.
— Внук аксакала передал, что мне грозит неволя и что дед его будет ждать на скамейке.
— Явный розыгрыш.
— Не скажи. Такими вещами не шутят.
— И все же, думаю, возвращайся к своим ученикам. Я эти сорок минут подожду. Потом увезу тебя на заставу. Старлею нашему двадцать пять стукнуло. Юбилей. Пригласи еще свою подругу. На смотрины.
— Спасибо. С удовольствием приму приглашение, но прежде все же повидаюсь с аксакалом. Внук его сказал: старейшины села долго о чем-то советовались прежде чем передать свое слово через моего ученика. Не могу я обидеть стариков. Не могу.
Пока они вот так пререкались, на дорожке, обрамленной живою изгородью из роз и пионов, показался согбенный старец с посохом в руке. Гульсара рванулась к нему навстречу, Латып Дадабаев едва поспевал за ней.
— У тебя гость? — вроде бы недовольно спросил аксакал и почтительно прижал руку к сердцу, приветствуя лейтенанта. — Салям алейкум.
— Алейкум-ас-салям, — с легким поклоном и тоже приложив руку к сердцу, ответил Дадабаев. — Я приехал за Гульсарой позвать ее в гости на заставу.
— Она никуда не поедет. Так решил совет старейшин и это решение одобрил улема. А то, что ты здесь — хорошо. Никому из нас не придется плестись на заставу.
— С приятной ли вестью?
— Нет. На вас нападут. Когда точно, нам узнать не удалось. Может, даже сегодня ночью.
Латып Дадабаев даже присвистнул. Он-то хорошо знал памирцев, хотя сам был узбеком. Памирцы слов на ветер не бросают. Памирец скажет слово, когда будет точно знать его вес.
Аксакал же повелевает:
— У езжай поскорей. Чем меньше народа тебя увидит, тем селу спокойней. Все. Больше ничего я сказать не могу. Для вас, кокаскеров, услышанного вполне достаточно, чтобы принять нужные меры.
Дадабаев хотел поцеловать Гульсару, но постеснялся при аксакале это сделать. Он поклонился старцу, Гульсаре лишь кивнув.
— До свидания. Береги себя. И все же, не нужна ли наша помощь?
— Ее сберегут, — пообещал твердо аксакал. — Помощь нужна вам самим. Поспеши, аскер.
С этих последних слов и начал Дадабаев пересказ разговора с одним из старейшин села начальнику заставы, но старший лейтенант хмыкнул:
— Какая помощь? Какое нападение? Не талибы же на той стороне, а твои соплеменники. Они лояльны и к таджикам, и к России.
— Разве известно, откуда может подуть свирепый ветер? Известно только одно: ветер почему-то всегда дует в лицо.
— Восточная философия.
— Если хочешь — да. В ней очень много мудрости, если ее понимать и воспринимать без иронии.
— Не серчай, Латып Дадабаевич, я не хотел тебя обидеть. Я не вообще о восточной философии, я о твоем тревожном, якобы сообщении. Не предвижу ветра ни с какой стороны. К нам одинаково лояльны как таджики, мир и покой которых мы охраняем, так и узбеки на сопредельной территории. Если прорыв контрабандистов — вполне допустимо. Даже крупной вооруженной группой. Но при чем тут Гульсара? Разве она мешает наркобизнесу? Не сходятся концы с концами. Тем более — не связываются. Нелепость какая-то.
— Если услышишь звон, скажешь себе: караван идет и приготовишься его встречать.
— Да я не против усиления охраны границы, я совершенно против того, чтобы просить помощь. Не хочу прослыть паникером. Давай покумекаем, какие меры усиления нам самим принять.
Они подошли к висевшей на стене под стеклом схеме участка границы, хотя сделали это по привычке. Оба они знали свой участок лучше, чем свои пять пальцев.
— Напротив острова выставим заслон.
— Я возглавлю его.
— Но у нас — вечер. Не откладывать же мой юбилей. Двадцать пять — первый юбилей. Он больше не повторится.
— Извини, но я только пригублю рюмку, провозгласив тост за тебя и за твою офицерскую карьеру. Оставлю затем одних со старшиной. Я знаю: аксакалы пустословить не станут.
— Ладно. Воротишься к утру — продолжим застолье.
— Усиленные дозоры по берегу, секреты, заслон против острова — все верно, но меня беспокоит нависшее над нами плато.
В самом деле, вправо и влево от заставы — береговая ровность, а вот с тыла она как бы отгорожена от мира высоким крутым обрывом, которым оканчивается довольно обширное плато. Можно было бы сказать, что оно ровное, если бы не обильные валуны, выглаженные дождевыми и снежными ветрами, но все же внушительные.
— Что, с тыла кто подойдет? Ты, Латып Дадабаевич, похож на пуганную ворону, которая куста боится.
— Плато — не куст. Сверху застава как на ладони. Стреляй — не хочу.
— Не настаивай. Я считаю необходимым все наши силы сосредоточить на берегу Пянджа. Так и составлю план охраны. Усиление в основном в первую половину ночи. Если задумано нападение, сосредоточиваться вражья сила на нашем берегу станет загодя и постепенно. Засечем обязательно.
— Но с заслоном я пробуду у острова до самого утра.
— Ладно. Уступлю твоему упрямству.
— Доложи по команде о полученной информации.
— Обязательно доложу. Но помощи просить не стану.
— Зря. На плато бы десятка два из мангруппы.
— Нет. Глупо это.
— У меня иное мнение.
— Оставь его при себе. Станешь начальником заставы, ответственным за все, тогда твое мнение станет главным. Непререкаемым. Пока же за охрану участка спрос в первую очередь с меня, и я составлю план охраны на сутки, исходя из своей оценки обстановки.
Так и подмывало лейтенанта Дадабаева ответить, что он оставляет за собой право лично доложить коменданту или начальнику штаба отряда в связи со сложной обстановкой, но усилием воли остудил себя. К тому же еще и подумал:
«А может, действительно у страха глаза велики?»
Начальник же заставы доложил о полученных сведениях только дежурному офицеру по комендатуре. Тот спросил, не нужна ли помощь, но старший лейтенант наотрез отказался.
— Обойдемся своими силами. А потом, кто-то что-то сказал, не зная когда что-то будет и будет ли вообще, а мы — в панику. Не вижу реальной угрозы.
— Тебе видней. Если возникнут осложнения, докладывай немедленно.
На этом продвижение вверх полученных тревожных сведений остановилось.
На боевом расчете старший лейтенант Чирков не очень-то насторожил личный состав заставы, когда доводил обстановку.
— Мы получили неофициальные сведения, что возможно нападение на заставу. Время — неизвестно. С сегодняшнего дня переходим на усиленный вариант службы. Прошу более бдительно наблюдать за рекой, особенно в первую половину ночи. Цель: своевременно обнаружить и пресечь попытку диверсантов дестабилизировать наши отношения с сопредельной стороной.
Все. Никаких мер по обороне заставы в случае нападения на нее старший лейтенант Чирков не определил, и все пошло по привычному ритму, только прибавилось время службы в нарядах. Но для пограничников это, можно сказать, не очень обузно. И привычно. Когда о готовящемся переходе через границу контрабандистов поступает ориентировка, тоже дольше обычного приходится торчать на берегу Пянджа, упрятавшись в тугаях.
Заслон к острову запланирован в одиннадцать ноль-ноль. До этого лейтенант Дадабаев высылал наряды, стараясь каждый из них насторожить, но от солдат ничего не спрячешь, они знали о том, что начальник заставы и старшина уже сидят за столом, а если это так, то, стало быть, ничего страшного не предвидится, лейтенант же Дадабаев зря пургу пуржит.
Дадабаев, как и обещал, перед выходом в наряд к острову поднял тост за здоровье старшего лейтенанта, за скорейшее получение капитанского звания, выпил рюмку, закусив ее бутербродом, затем обратился уставно:
— Разрешите выступить на охрану границы?
— Ни пуха, ни пера. Если твои сведения точные, тебе встречать диверсантов. Они скорее всего пойдут через остров. Связь, как обычно, по рации. Не забудь о ракетах.
— Встретим.
Заслон действительно был готов встретить непрошенных гостей. Дадабаев велел взять с собой два пулемета, тройной комплект боеприпасов в рюкзаках, еще и по десятку гранат каждому. Когда все вроде бы было готово к выходу, услышал лейтенант Дадабаев реплику. Тихую, не для его уха.
— Чего ради такую тяжесть тащить. Особенно мне. Рация тоже не сто граммов весит.
Ефрейтор Алдошин, связист заставы, высказал свое недовольство, и Дадабаев не сделал вида, будто не услышал его слов:
— Первогодок бы ляпнул такое, простительно, ты же — дембель. Не ожидал от тебя, ефрейтор, передовик службы.
— Да я так, товарищ лейтенант, я понимаю, — дал задний ход Алдошин, но Дадабаев не принял простенького отступления:
— Не совсем, на мой взгляд. Потеря бдительности, потеря чувства настороженности, чувства постоянной опасности может стоить жизни не только благодушному ротозею, но и многим другим его сослуживцам, а то и мирным жителям. Так что, не бухти, а будь примером для молодых.
— Так точно.
И все же почувствовал Дадабаев нотки недовольства в этом стандартном «так точно». Подумал:
«Ничего. Пусть посерчает. Поймет, если гюрза клюнет».
Как в воду глядел лейтенант. Именно от него услышит он проникновенное: «Спасибо, товарищ лейтенант». Но до этого произойдет довольно много событий, поначалу буднично привычных.
Какое-то время после ухода лейтенанта Дадабаева к острову, наряды высылал самолично начальник заставы, но потом, как более стойкий, старшина заставы прапорщик Кожахметов. Хватило у них сил еще и на то, чтобы встречать возвращающиеся наряды и выслушивать привычное:
— Признаков нарушения границы не обнаружено.
— Тихо, стало быть?
— Так точно.
Потом, после двух часов ночи, начальник заставы и старшина не выходили из офицерского домика, доклады от нарядов принимал дежурный по заставе, а юбиляр за изрядно опустевшим столом сетовал:
— Испортил Латып мне весь праздник. Обещал привезти свою невесту и ее подругу, а привез переполох. Зряшный.
— Да, проявлена сверхбдительность. Метит, похоже, в начальники.
— Пусть метит. Он — достоин. Важно, чтобы под меня не копал. И не подличал.
— А сорвать юбилей, разве не подлость?
В четвертом часу они уснули, ткнувшись лбами в стол. Свалила их попытка научиться пить со свистом. Инициатором стал старшина заставы. Он рассказал, что когда они были на сборах, прапорщик, переведенный сюда откуда-то с севера, демонстрировал свою лихость так: наливал полный стакан водки (тонкий стакан), вдыхал полную грудь и медленно, не отрываясь, пил, выдыхая одновременно воздух со свистом. Как ни старались остальные прапорщики, ни у кого свист не получался.
— А у меня удастся! — С пьяной гордостью заявил Чирков. — Наливай!
Вот так и доналивались, не добившись желаемого свиста.
Как предполагал лейтенант Дадабаев, юбиляр должен прервать застолье и появиться с часу на час с проверкой службы заслона, он даже подумать не мог, что застава осталась без головы. Не мог начальник отдаться только празднованию своего юбилея в столь тревожную ночь. Она, однако, подходила к концу, но старший лейтенант не появлялся. Это вызывало все большее недоумение.
Меж тем и на острове, и по всему берегу Пянджа стояла полная тишина, которая расслабляла.
«Может, я действительно преувеличиваю?»
Но как не поверить аксакалам? Не знай они наверняка о готовящемся нападении, стали бы они прятать Гульсару…
«Но почему ее нужно прятать?»
Тут сколько угодно гадай, толку чуть. Пока сама не расскажет.
Вот так размышляя и слушая тишину, коротал зябкую ночь лейтенант Дадабаев.
«Через часок можно сниматься. На рассвете не станут переправляться. Поздно. Значит, не сегодня…»
Мысли эти пресек взрыв. Там, на заставе. Затем, почти без перерыва — второй. Следом — третий. Затрещали автоматные очереди, в которые впивались четкие одиночные выстрелы.
«Снайперы! По важным целям! — первое, о чем подумал Дадабаев и тут же ругнул себя: — О чем думаю?! Что делать — вот главное».
Спешить на помощь, это само собой. Только не сломя голову. Лучше, если зайти с тыла. По плато, укрываясь валунами. И — почти в упор. Наверняка они не заботятся о своем тыле.
— Свяжись с заставой. Уточни наши действия, — приказал Дадабаев связисту, — и сразу же комендатуру вызывай.
— Есть, — моментально отозвался ефрейтор Алдошин, хотя сам уже пытался вызвать заставу, но она не отзывалась. Он — в растерянности.
— Застава не отвечает, — с полним недоумением доложил он лейтенанту. Совсем молчит.
До заслона звук боя доносился хорошо, и по нему можно судить, что он набирает силу, ожесточается.
— Докладывай в комендатуру, — поправился. — Вызывай, я сам доложу.
Комендатура отозвалась сразу, Дадабаев в микрофон:
— На Приостровную нападение! С тыла. Похоже, со стороны плато.
— Похоже?! Или точно?!
— Не знаю. Я с заслоном у острова. Иду заставе на помощь. Поведу заслон по плато. Все!
Дадабаев не стал слушать уточняющие вопросы, считая, что и так потерял много времени. Даже буркнул с досадой:
— Поднимите вертолеты. С них все увидите.
У самого еще одна мысль: собрать наряды, что по берегу. Не кинулись бы в одиночку к заставе. Приказал лежавшему слева солдату:
— По берегу бегом. Всех посылай ко мне. Вверх на плато.
Как было бы хорошо иметь со всеми нарядами связь. Дал команду и — все в ажуре. Но бы да кабы. По кошме вытягивай ноги. Несись во весь дух по берегу, передавая приказ идти на соединение с заслоном. Не плохо было бы и уточнять по ходу дела маршрут.
На допотопном уровне связь. Даже хуже. Но осуждения эти пронеслись в голове лейтенанта походя. Он уже поднял заслон (не велика сила, всего дюжина) и бегом повел его вверх на плато, вполне понимая, как важна заставе помощь.
Верная оценка обстановки, однако, лейтенант Дадабаев даже не мог себе представить, в каком положении оказалась застава. Первая мина, пущенная из подствольника, угодила в окно дежурной комнаты и сразу же лишила заставу связи. Погиб и дежурный сержант Калиновский. Пограничники, однако, взметнулись без команды и — в оружейную комнату. Но велик ли в ней боекомплект? По четыре рожка на каждый автомат да по три коробки к каждому пулемету. Специальная комната, в которой хранились боеприпасы, на замке. А ключ у старшины.
Некоторые, менее опытные пограничники, рванулись из помещения, чтобы выяснить, откуда выстрел, и ответить огнем, но все они сразу же погибли от меткой мины и столь же метких автоматных очередей.
— Стой! — крикнул сержант Сивокрылов, взявший на себя руководство личным составом до прибытия начальника заставы или старшины. — Выбивай окна! Занимай круговую оборону!
Через несколько минут заставе стало понятно, что круговая оборона не нужна, противник на плато, поэтому все перешли к окнам, обращенным именно к нему. Установили и пулеметы в окна.
«Где начальник?! — досадовал сержант, понимая, что вот такая оборона (всего четыре окна) не даст эффекта. — Где старшина?»
Они уже в мире ином. В офицерский домик было пущено несколько мин. В окна. Без промаха. Но осколки пощадили старшего лейтенанта и прапорщика, выбив лишь хмель из их дурных голов. Однако не настолько, чтобы они могли осмыслить в полной мере опасность.
— За мной! — крикнул Чирков и рванулся к выходу. Но только выскочил за дверь, как тут же был сражен снайперской пулей. Явно из винтовки с прицелом ночного видения.
Прапорщик кинулся к начальнику заставы, чтобы поднять его и затащить под защиту спасительных стен, но снайперская пуля оборвала и его жизнь.
Пограничники, тем временем придя в себя, начали огрызаться пулеметными и автоматными очередями, цели определяя по вспышкам. В ответ по окнам летели и меткие очереди, и особенно меткие выстрелы снайперов. Да, у бандитов были приборы ночного видения на всем оружии. Мины тоже продолжали лететь с удивительной меткостью. Они, как и пули, несли смерть.
Тех пограничников, кого доставали пули или осколки, сменяли новые, явно идя на смерть. Никто не прятался за спины.
А что оставалось делать? Прекратишь ответный огонь, тут же нападающие устремятся вниз, и тогда тоже конец. А так — своей грудью защитишь ждущих своей очереди товарищей, глядишь, подоспеет подмога.
Минуты, однако, шли, но прерывистого вертолетного гула не слышно. Что они?! Спят что ли?!
А что вертолетчикам делать ночью, если никто никакой задачи им не поставил? Пока дежурный доложил коменданту, а тот, понявший сразу серьезность положения, незамедлительно доложил начальнику штаба отряда, время бежало. Но главное, ни одного экипажа вертолета не находилось в боевой готовности.
Получив приказ, вертолетчики, как не спешили, прогреть двигатели должны непременно, тут малыми минутами не обойдешься. Благо, что хоть боезапас на борту. Нарушение, конечно, инструкций, но оно на сей раз в угоду. Вот так и тянулись минуты, каждая из которых несла смерть обороняющим заставу. На ней уже половина пограничников либо ранено, либо убито.
Но заходит с тыла напавшим заслон. К нему уже присоединилось четыре наряда. Ближе и ближе стрельба. Теперь уже ясно, где враг. Лейтенант останавливает своих бойцов.
— В цепь. Интервал — два метра. Бесшумно, укрываясь валунами, сближаемся. Огонь после моей очереди. Ясно?
— Так точно.
— Вперед.
Чуть-чуть забрезжил рассвет, но хорошо видны пока что только вспышки автоматных очередей. Сами стреляющие сливаются с валунами. Стало быть, нужно еще ближе. Как можно ближе. Чтобы — в упор. Но и рисковать чрезмерно нельзя: опасно показать малые силы, прибывшие на помощь. И все же — ближе и ближе.
Вроде бы пора. Выплеснул огонь вражеский автомат — лейтенант Дадабаев нажал на спусковой крючок. И понял: не промахнулся.
Автоматы пограничников зашлись в дружных длинных очередях, не столько сея смерть, сколько панику в рядах нападавших на заставу. Но не цыплята брошены на заставу — натренированные головорезы. Быстро они оценили обстановку, зазвучали отрывистые команды, и добрая половина «духов» повернула стволы в сторону напавших с тыла.
Огонь по заставе ослаб, и сержант Сивокрылов приказывает:
— Первое и второе отделение, со мной на прорыв. Всем остальным продолжать отстреливаться.
Маневр разумный, но, как оказалось, запоздалый. Метрах в трехстах-от заставы в сторону правого фланга есть удобный подъем на плато. Утоптанная тропа. Поднявшись, по ней можно ударить сбоку по нападающим «духам». Раньше, однако, сержант об этом не подумал. Молод. Не бывал в подобных переделках. Мысль эта возникла только тогда, когда услышал он стрельбу на самом плато.
— Не в двери. В окна тыловые.
Тоже разумно. Все целы и невредимы за стенами казармы. Метров пятнадцать по-пластунски, дальше они уже невидимы с плато. Можно бегом. Во всю прыть. В помощь тем, кто ввязался в перестрелку с «духами» наверху.
Немного бы раньше предпринять этот маневр.
«Духи», восприняв нападение с тыла как малый передовой отряд крупных сил, решились на преждевременный шаг, который в общем-то входил в их план уничтожения заставы, по той самой тропе, о которой вспомнил сержант Сивокрылов, но лишь после того, когда она почти вся будет уничтожена огнем. Там, на уничтоженной заставе, сделать снимки для отчета заказчику, затем переправиться через Пяндж в Афганистан, где их примут втайне от узбекских воинских частей. Теперь же возглавлявший нападение решил поспешить со спуском. Оставив половину своих сил противостоять и заставскому огню, и напавшим с тыла, остальных повел к спуску. Спешил, чтобы до рассвета покинуть плато.
Лоб в лоб столкнулись более сотни прошедших крым и рым так называемых воинов Аллаха, чья профессия убивать, убивать и убивать, с полутора десятком пограничников, совсем еще молодых ребят, хотя тоже привыкших не теряться при неожиданных встречах с нарушителями границы — они не растерялись и в этот роковой для них миг. Дружно ударили их автоматы, полетели гранаты, неся смерть головорезам. Однако положение пограничников было менее выгодно, чем у «духов», хотя ни тем, ни другим не было возможности хоть как-то рассредоточиться, но позиция пограничников ниже, а это при встречном боестолкновении играет существенную роль.
— Аллах аки бар! — крикнул главарь банды, «духи» истово подхватили клич и ринулись вниз, перепрыгивая через своих убитых и раненых.
Нет, не смогли сдержать пограничники атаку более чем в десять раз превосходящего противника. Стреляли в упор, но в упор получали в грудь автоматные очереди.
Оставшиеся на заставе не слышали боя на тропе к плато, они продолжали отстреливаться как прежде через разбитые окна, но теперь уже более прицельно, ибо быстро светало, и отсекать короткие очереди можно уже не по вспышкам, а по самим стрелявшим врагам.
Прерывистый вертолетный гул ворвался в автоматную трескотню, с каждой минутой усиливаясь, и вот прошелся он басовитой очередью крупнокалиберного пулемета по тем, кто остался на плато. И не увидели вертолетчики тех, кто успел притиснуться к стенам заставы со стороны Пянджа.
Не услышали и пограничники, обрадованно усилившие огонь по плато, как через разбитые окна с тыла влезли в помещение заставы «духи» во главе со своим командиром.
Короткая и жестокая схватка вспыхнула мигом, быстро и утихла. Всего несколько минут продлилась она.
После двух столкновений с пограничниками от полторы сотни «духов» осталась едва ли половина. Но и пограничники погибли все. Геройски. Ни один не поднял руки, ни один не выпустил автомат. Многие, видя неминуемый конец, бросали себе под ноги гранаты, уводя вместе с собой в иной мир и врагов.
— Уходим! — приказал главарь. — Быстро!
— Не снимая убитых кокаскеров на камеру? Чем докажем свой успех?
— Давай. Одна минута.
Через те же окна «духи» покинули заставу и во всю прыть понеслись к Пянджу.
А на плато бой не утихал. Полторы сотни бандитов, понявших, что их бросили на произвол судьбы, не желали сдаваться. Они решили пойти на прорыв, чтобы укрыться в горах, до которых рукой подать. Поднялись с истошным криком: «Аллах аки бар!» навстречу автоматным очередям.
Еще перед походом им объясняли, что у кокаскеров с собой, когда они выходят на службу, не более четырех рожков. На это и уповали «духи» — расстреляют кокаскеры свои рожки, вот и конец им. Вышло, однако, не так: рюкзаки пограничников хотя и похудели изрядно, но еще осталось патрон не менее, чем на десять минут боя. Да еще почти не тронуты гранаты.
А тут и лейтенант Дадабаев кричит во все горло:
— Гранатами — огонь!
И сам первым встречает атакующих врагов ловким броском лимонки.
В самый критический момент подоспел еще один вертолет. Заходит сбоку. Да так метко проредил цепь атакующих, что сбил с них пыл без волокиты попасть в рай: поприжались воины Аллаха к валунам.
Но валун — не защита от пуль сверху, это хорошо знали закаленные в дерзких боях наемники, и клич «Аллах аки бар» вновь поднял их в опасную атаку.
Не удалась и она, хотя один из вертолетов, сделав крутой вираж, устремился в сторону Пянджа: увидели вертолетчики подбегающих к берегу «духов», поняли, что заставы нет, и оставалось одно: отомстить налетчикам.
Увы, не слишком высокая месть. Осталось на таджикском берегу с десяток «духов», кое-кого достали пули на воде, но Пяндж стремительно уносил налетчиков вниз и к Афганскому берегу, а туда путь заказан. Нарушать границу нельзя, иначе спровоцируешь более серьезный конфликт.
Зато можно отвести душу на плато, где налетчики не прекращают попыток прорваться через жидкий заслон. Не опасаясь быть сбитыми, вертолеты дерзко утюжили и утюжили плато, пока небольшая кучка оставшихся в живых, поднявши руки, побросала оружие. Для острастки вертолеты еще раз прошлись над ними, едва не задевая вздернутые вверх руки.
Так и хотелось напоследок угостить «духов» хорошей очередью, но не варварством же отвечать на варварство?
У лейтенанта Дадабаева, уже понявшего, что вся застава, кроме заслона и присоединившихся к нему береговых нарядов, погибла, а те, кто с ним, почти все ранены, некоторые тяжело, чесались руки вскинуть автомат и стрелять без всякой жалости, и сколько силы воли потребовалось ему, чтобы сдержать себя, может сказать только он сам.
— Отсоединить рожки, — приказывает он, почти уверенный в том, что кто-либо из пограничников не пересилит гнев и не одарит кучку с поднятыми руками очередью из автомата.
А лиха беда — начало. Не остановить тогда солдат. Всех расстреляют. До последнего.
Подошел лейтенант Дадабаев поближе к сдавшимся и на таджикском языке приказывает, чтобы отошли на десяток шагов от оружия. Многие поняли, даже начали было исполнять приказ, но вдруг замерли в прежних позах.
«Странно, — удивился Дадабаев. — Очень странно».
Скомандовал на узбекском языке — та же реакция. И только беспрекословно выполнили команду, полученную на языке пуштунов.
«Очень странно. Обязательно об этом нужно доложить».
Что делать дальше, лейтенант никак не мог сообразить. Конвоировать на заставу? Для чего? Охранять здесь. Как долго? И не приходит ему в голову, что бой на заставе всполошил не только комендатуру и отряд, но даже Душанбе и Москву. И первый вертолет с солдатами, сержантами и даже офицерами мангруппы прилетит уже через полчаса.
Когда он приземлился, и из его брюха стали выпрыгивать мангрупповцы, стоявший рядом с лейтенантом Дадабаевым ефрейтор Алдошин буркнул:
— Пораньше бы им. Теперь что — к шапочному разбору, — и уже другим тоном, полным душевной теплоты: — Спасибо, товарищ лейтенант. Жизнь вы нам спасли, велев взять дополнительный боезапас. Не прав я был, проявив свое недовольство. Великое спасибо от всех солдат. Век станем помнить.
— Не нужно. Не красные мы девицы. Лучше организуй перевязку раненых.
В первую очередь — тяжело. И себя обиходь. Вон как напиталась кровью камуфляжка.
— Чуть-чуть зацепило. Ерунда. До свадьбы заживет. А перевязку? Вон медик комендатурский спешит от вертолета. С ним еще пара санинструкторов. Увозить начнут раненых. А меня, товарищ лейтенант, не отправляйте. Кости у меня целы, кишки тоже. Здесь у меня рана поскорей заживет. Да и дел здесь невпроворот. Товарищей своих проводить тоже хочется.
— Не обещаю твердо, но попробую отстоять.
Прошло еще с полчаса, и начали прилетать один за другим вертолеты с большим начальством из Душанбе. Для них вертолеты всегда готовы.
Глава шестая
Они спускались со сцены под бурные, без всякого приукраса, аплодисменты.
Перед ними не расступались, а наоборот, старались как можно дольше оставаться с ними, не переставая задавать вопросы, хотя официальный вечер вопросов и ответов, как его назвал заместитель начальника отряда по воспитательной работе, окончился. Но вопросы продолжали сыпаться, выходит, ребятам хотелось простоты в общении, больше доверительности. Майор Костюков понимал молодых пограничников и охотно отвечал даже на пустяшные вопросы.
Радовало его и то, что и киргизы, и узбеки, и таджики — все хорошо говорили по-русски.
«Не хотел и не хочет простой народ, даже молодежь, отделяться от России». Но вот команда: «Выходи строиться» — пара поспешных вопросов, столь же коротких ответов, и майор Костюков с лейтенантом Богусловским принимают приглашение в баньку перед ужином.
— С превеликим удовольствием, — согласился Прохор Авксентьевич, даже не поинтересовавшись мнением Михаила Богусловского. Баня для пограничника, особенно с хорошей парилкой, — лучший отдых. Снимает усталость как рукой.
Часа только через два они, распаренные, удовлетворенные полученным удовольствием, сели за стол с обильными яствами.
— Начнем с кумыса.
На сей раз Михаилу Богусловскому кумыс показался даже приятным на вкус, и он осушил кису с удовольствием.
— Еще? — спросил начальник тыла отряда. — Кумыс у нас свой. По старинной технологии. Не привозной с завода.
— Пожалуй.
Увы, с наслаждением поужинать им не удалось. В дверь каминной при бане постучал дежурный по отряду.
— Разрешите доложить? — и не ожидая согласия, выпалил. — У соседей ЧП. Геройски погибла одна из застав на таджикско-афганской границе. На Пяндже.
— Подробности.
— Не знаю. В ориентировке их нет. Думаю, поступят позднее.
Майор Костюков поднялся.
— Давайте так: вы продолжайте, а я схожу на ВЧ. Выясню, не на моем ли участке отряда.
Вернулся майор Костюков скоро. Взволнованный. Заговорил твердо:
— Поездка по заставам отменяется. Я просил руководство регионального управления решить вопрос с вертолетом. Нам с лейтенантом нужно спешно лететь.
— Принимать отряд с таким ЧП, — сочувственно вздохнул начальник отряда, — во многом придется разбираться, многое менять.
Верные слова опытного пограничника. Гибель заставы сам по себе факт невероятный, и не может такого быть, если не потеряна бдительность.
Такое же мнение и у Прохора Костюкова, но он не спешит высказывать его. Нужно прежде разобраться во всем, тогда можно делать выводы, основанные не на умозаключении, а по фактам. Их-то не сбросишь со счетов.
Костюков только с Михаилом чуточку пооткровенничал, когда они остались одни:
— Чует мое сердце, много грешников в этой трагедии.
Михаил Богусловский на этот раз не стал выяснять, какая подоплека этой, вообще-то сомнительной для него фразы, ожидая, не разовьет ли майор сам свои мыли, но тот о ЧП не проронил больше ни одного слова. Тоном заботливого отца предложил:
— Давай спать. Должно быть, поднимут нас на рассвете.
Их и в самом деле разбудили ни свет ни заря. Доложили, что вертолет готов к вылету, двигатели прогреты.
— До самой заставы летит. Оттуда возьмет груз «черный тюльпан» до Душанбе. Там заправится и — обратно.
— Ясно. Сейчас будем.
Пока спешно собирались, майор Костюков объявил свое решение лейтенанту Богусловскому:
— Хотел я, прибыв лишь на место, определить тебе для замства заставу, теперь имею цель оставить тебя на погибшей заставе. Причин несколько. Но главные — две. Считаю, спокойной жизни заставе и впредь не дадут. Видимо, она кому-то на мозоль наступила, в чем предстоит разбираться. И не один день. Вот проверка самого себя, выяснение чего стоишь, да еще лыко в строку для обретения пограничного опыта. Второе: почти полностью новый коллектив. Единицы из прежних. Все предстоит создавать заново: сплачивать заставу, одновременно изучая участок границы, учитывая новую обстановку. Вместе с начальником заставы, а им скорее всего станет проявивший разумное мужество лейтенант, тогда дам я вам движение вперед. Устраивает?
— Еще бы. Лучше там, где трудней, а не там, где сонное болото да еще без лягушек.
— На этой границе сонных болот нет, но ты прав: не везде одинаковое напряжение и, стало быть, не везде можно показать себя полностью, на что ты способен. А «Приостровная» теперь долго будет в центре внимания. До нового где-нибудь ЧП. Так, к сожалению, у нас ведется.
Через четверть часа вертолет поднялся в воздух, и Михаил Богусловский прилип к иллюминатору, забыв обо всем на свете — он был потрясен видом раскинувшейся под брюхом вертолета панорамы. Снежные пики с клыкастыми боками при всей фантазии ни с чем на земле нельзя было сравнить. Одно слово — жутко.
Между пиками — глубокие ущелья. Дух захватывает. Но самое поразительное в том, что если ущелье чуточку пошире, на его дне не так уж и редкие кишлаки. С высоты домики кажутся очень маленькими, а люди, ослы, козы — игрушечными.
Не мог Михаил Богусловский даже предположить, что ему придется побывать в одном из таких ущелий и даже взбираться в горы. И не ради простой прогулки в неведомое, а под пули.
Блеснула речка. Довольно широкая — вертолет спустился ниже и полетел вдоль речки над довольно частыми и крупными кишлаками. Было хорошо видно, как детвора приветливо машет руками, а взрослые, что бы они ни делали, останавливаются и сопровождают вертолет взглядом.
«Видят опасность? Или еще не познали ее?»
Речка явно впадала в Пяндж — довольно широкий и можно сказать полноводный. Минут десять лету и вот она — застава. С разбитыми окнами и покореженными дверями. Даже с дырами в стенах. Но взгляд Михаила Богусловского едва скользнул по заставским постройкам, которые ему восстанавливать, и сразу же остановился пристально на плато, где стоял замерший строй пограничников, численностью более роты, а перед ним — генерал с несколькими полковниками, подполковниками и майорами, еще и двое гражданских. За спинами генерала и офицеров — цинковые гробы.
Поодаль от строя — вертолеты. С опущенными, как длинные уши провинившихся дворняг, лопастями. Там приземлился и вертолет с Костюковым и Богусловским. Встретить нового начальника отряда спешили подполковник и два майора. Четкий доклад:
— Начальник штаба, временно исполнявший обязанности начальника отряда подполковник Кириллов.
— Здравствуйте, Игорь Александрович, — протянул руку майор Костюков. — Моя фамилия, надеюсь, вам известна?
— Так точно, — вздохнув, добавил: — В трудный час вам придется принимать отряд. Не так я хотел его сдать.
— Хотение — не факт, — ответил майор Костюков. — Да и граница частенько преподносит нам неожиданные сюрпризы, как правило, — не радостные.
Пропустил вроде бы мимо ушей подполковник Кириллов слова майора Костюкова, заговорил тоном рапортующего:
— От личного состава заставы осталось не ранеными всего пять человек. В их числе — лейтенант Дадабаев. Легко ранен ефрейтор Алдошин. Дадабаев просил оставить его на заставе. По согласию медика я удовлетворил просьбу. Думаю, хороший будет старшина заставы. Если согласится. Остальные раненые отправлены в Душанбе. Готов принять и Центральный госпиталь, если возникнет необходимость. На заставу по моей команде определены наиболее опытные из мангруппы. Их командир вместе с лейтенантом Дадабаевым возглавит заставу.
Хотел Костюков поперечить начальнику штаба, мол, у двух маток — дитя без глазу, но не стал этого делать, учитывая присутствие майоров, — похоже, начальников отделов. Ответил весьма уклончиво:
— Не могу ни одобрить, ни внести какие-либо изменения в ваши решения. Мы вместе во всем разберемся, тогда примем окончательное решение.
— Я уже во многом разобрался.
— Хорошо. Познакомите меня с вашими оценками трагедии сразу же, как исполним печально необходимый ритуал.
— Так точно.
— Не нужно, Игорь Александрович. Нам вместе воз везти. Вместе.
— Понял, Прохор Авксентьевич.
— Вот и ладно.
Доложили о себе начальник тыла и начальник инженерной службы. У них уже определился план восстановления заставы, но они ничего по этому плану не делали: возник непредвиденно вопрос о переносе заставы на новое место. Вот они и хотели услышать мнение нового начальника отряда. Узнать его позицию. Но Костюков вместо ответа спросил:
— Слышали байку, как купец счетовода нанимал? Нет. Тогда послушайте. Одному претенденту он задает вопрос, сколько будет дважды два… Второму задает, третьему, четвертому — все отвечают однозначно: четыре. Устроил купца только ответ пятого: столько будет, сколько нужно хозяину. Нужна ли нам, пограничникам, такая позиция? Вот и подумайте сутки. Доложите не то, что нужно начальству, а что потребней делу охраны границы. Ясно ли?
— Так точно.
— Пойдемте. Простимся с героями.
Представившись генералу и представив ему лейтенанта Михаила Богусловского, майор Костюков подошел к гробам, поставленным в ровный ряд, снял фуражку и низко поклонился.
— Простите нас, что не уберегли.
И еще долго стоял молча, со склоненной головой. Пока не подошел к нему генерал и не спросил:
— Не скажешь несколько назидательных слов личному составу?
— Пока я не имею такого права.
— Тогда я командую погрузку.
Пограничники подняли на плечи гробы с погибшими боевыми товарищами и скорбным шагом понесли их к вертолетам. Первыми несли гроб с начальником заставы старшим лейтенантом Чирковым подполковник Кириллов с офицерами отряда. Лейтенант Дадабаев и оставшиеся в живых солдаты несли гроб со старшиной. Лейтенант Богусловский хотел было к ним присоединиться, но генерал остановил его, как и майора Костюкова.
— Я познакомлю вас с уважаемым народным депутатом Исмаилом Исмаиловичем и его другом из Москвы.
Что за спешка? Увы, начальству не поперечишь. Оставалось одно — провожать взглядом скорбную процессию, продолжая держать фуражки в руках.
Исмаил Исмаилович подошел к майору Костюкову сам. Сам и назвал себя. Народным избранником отрекомендовался. Не больше, не меньше. Без тени снисходительной иронии. С явной гордостью: вот кто я — уважайте!
— Он много помогал погибшей геройски заставе, — поддакнул генерал. — Он всегда уважаемый нами гость. Гость заставы. Гость отряда.
— Я даю слово найти не только средства, но и строителей для возведения новой заставы. Хорошо зная местность, я хочу посоветовать вам перенести заставу километра на два вверх по Пянджу, к устью его притока. Великолепный обзор. Обнеси лишь крепким дувалом, и — крепость, к которой тайком не подступишься. А под боком — хрустально чистая вода. Можно на заставу провести водопровод.
— Извините, Исмаил Исмаилович, но я пока не могу сказать ни да, ни нет. В отличие от вас, я пока местности не знаю.
— Вы меня известите о своем решении, — согласно кивнул Исмаил Исмаилович и подал визитку. — Вот мои телефоны.
— Хорошо.
— Но учтите, ваше начальство тоже настроено на переносе заставы.
А чуть поодаль между ними шел другой разговор. Скорее не разговор, скорее обмен репликами. Иосиф Лодочников, подав руку Михаилу Богусловскому, воскликнул с явно наигранным удивлением:
— Михаил Иванович, вы здесь? Место службы?
— Что, разве от родителей своих не узнали? А вы-то, Иосиф Сильвестрович, какими судьбами?
— По приглашению друга Исмаила Исмаиловича. Приехали поохотиться, да, как видно, не ко времени.
Михаил Богусловский пожал плечами, не поддержав дальше разговора. Их знакомство было шапочным. Всего несколько раз они встречались по каким-то праздникам, когда собирались все бывшие дружеские кланы, и — не более. На семейное же торжество по случаю присвоения Михаилу лейтенантского звания, никто из Лодочников не пришел. Более того, они об избранном пути Михаила отозвались весьма скептически.
— Надеюсь, — намереваясь продолжить разговор, Иосиф Лодочников высказал свое желание, — мы теперь станем чаще встречаться и даже подружимся.
— Время покажет, — сухо ответил Михаил и демонстративно отвернулся.
Один за другим вертолеты поднимались в воздух и, делая прощальные круги над заставой, ложились на курс в Душанбе. Остался только один вертолет. Для генерала и сопровождавших его полковников. Вот генерал заговорил приказным тоном:
— Приготовься, майор, встретить москвичей как положено. Насколько мне известно, прилетит сам директор… В крайнем случае — начальник штаба. Особо оцените героизм рядовых пограничников, не забывая и об офицерах. И на самой заставе, и вот здесь, на плато, и на тропе сюда. Приготовь списки для представления к правительственным наградам. Не забывая о живых, отдайте честь погибшим. Окажите всяческое содействие музейному работнику в сборе фактов героизма. Мы полетели, — он повел рукой в сторону стоявших поодаль полковников, — в Душанбе. Встречать московскую комиссию, готовить для нее предварительный доклад и предварительные выводы. Настраивать, как говорится, на нужный лад. Главный же вывод комиссии будет зависеть от тебя и начальника штаба отряда. Я надеюсь, вы не подведете. Надеюсь — справитесь.
— Мне важно во всем разобраться самому. Еще до приезда комиссии. Разобраться и принять надлежащие меры по недопущению повторения подобного.
— Ишь ты — не допущению. Героизм следует поднять на щит. Вот в чем твоя главная задача на данный момент. Потом не допускай, что найдешь нужным. Сегодня же смотри не накуролесь — первые шаги в должности начальника отряда, ой как важны для будущего.
— Я это очень хорошо знаю.
— Вот и ладушки. Дерзай.
Генерал подал руку майору Костюкову, затем, подумав немного, и лейтенанту Богусловскому. Фамилия-то знаменитая как никак.
Едва только вертолет с генералом и полковниками поднялся в воздух, начал прощаться Исмаил Исмаилович:
— Охота на острове отменяется. Кощунственно развлекаться в столь трагический час. Мы тоже уезжаем. Подумайте, Прохор Авксентьевич, над моим предложением и позвоните мне. Дней через двадцать, впрочем, я выкрою время на отдушину. От своих важных дел отвлекусь, приеду поохотиться. До встречи.
— До встречи, — повторил вслед за депутатом Лодочников, адресуя свое слово в первую очередь Михаилу Богусловскому. Добавил затем: — Передам твой горячий привет твоим родителям и низкий поклон бабушке твоей.
— Буду благодарен.
Исмаил Исмаилович махнул рукой. Внедорожник, осанистый, мощный, моментально подрулил, и водитель услужливо открыл дверцу своему шефу.
— Прошу.
Когда внедорожник скрылся из их вида, майор Костюков проговорил не то с облегчением, не то с признанием весьма и весьма неприятной необходимости, увы, неотвратимой.
— Теперь наша работа. Героизм до времени оставим музейному работнику и заму по воспитательной, сами же мы займемся анализом упущений и ошибок, ставших причиной трагедии. Вам, лейтенант Дадабаев и тебе, лейтенант Богусловский, быть неотлучно со мной. Во все вникайте, не упускайте не одной мелочи, ибо вам командовать на этой заставе. Но прежде, чем шагать вперед, начнем с вас, Латып Дадабаевич. Хочу услышать искреннюю исповедь. Ничего не скрывайте. Не обеляйте ни себя, ни покойного начальника заставы. К данному случаю не подходит бытующее: о покойнике или хорошо, или ничего.
— Постараюсь. Хотя память о погибшем…
— Памяти оставим место, когда разберемся в деталях того, что случилось! — резко обрубил Дадабаева майор Костюков. — Нельзя верхоглядно, с ложной сердобольностью подходить к оценке страшной трагедии! Мы, командиры, в ответе за своих подчиненных! Нам их учить и воспитывать, но нам же и сохранять их жизни! А мы не смогли этого сделать! Я на сто процентов уверен, что такой позорной гибели заставы не случилось бы, прими командование заставы надлежащие меры! Не юлите, лейтенант!
Михаил Богусловский впервые видел Прохора Авксентьевича столь гневным. Михаил привык уже к его прямолинейной категоричности в оценке событий и фактов, но категоричность та была мягкой, скорее внушающей, а не навязывающей — сейчас же майор Костюков не внушал, а требовал жестко, даже безжалостно.
«Доля командирская? Шагни через себя? — вопросил Михаил Богусловский и сам же ответил: — Именно так».
— Я виновен во многом, — со вздохом начал признание Латып Дадабаев. — Я подозревал, что депутат Исмаил Исмаилович не ради забавы облюбовал остров для охоты. Фазанов в тугаях хоть палкой бей. А он — на остров. Я говорил о своем подозрении начальнику заставы, но уступал его ироническому восприятию моей тревоги. У меня не хватило мужества шагнуть через его голову. Проявил я малодушие и после того, как получил весть о возможном нападении. Настоял только на одном: заслон оставить у острова до самого утра, а не до полуночи. От засады на плато отступился. От просьбы о помощи — тоже. Нужно бы решительней отстаивать свою позицию. Позвонить, минуя всех, коменданту или начальнику штаба отряда.
— Твердость в отстаивании своих позиций — важнейшая черта командира. Теперь, надеюсь, вы это поняли на своем горестном опыте?
— Да. Грызет совесть.
— Естественно для честного человека. А теперь давайте обо всем подробнейшим образом. Не упуская ни малейшей детали.
Дадабаев начал пересказывать слово в слово и разговор с Гульсарой Кокаскеровой, и пререкания со старшим лейтенантом Чирковым о тех мерах, какие необходимо было предпринять, но по упрямству начальника приняты не были. Но тут майор Костюков перебил Дадабаева:
— Не упрямство, а благодушие. Мы все вскидываем взор не туда, куда положено нам глядеть. Узбеки Афгана нам лояльны. Вот и весь сказ. Не пропускай контрабанду наркотиков, ходоков перехватывай и будешь в чести, — и к лейтенанту Михаилу Богусловскому, — повторяется то, о чем я тебе говорил: в рот большой политике заглядываем, игнорируя фактическую обстановку. Не научил нас ничему трагический первый период Отечественной.
— Нов данном случае, как я оцениваю, личный интерес превысил все. Лишь бы ловко было сидеть самому в седле журги.
— В какой-то мере ты, Латып Дадабаевич, прав, но в твоем понимании нет глубинного проникновения в суть поведения старшего лейтенанта Чиркова. Мой взвод несколько иной. Он возомнил себя пупом земли, позабыв главное — свою полную ответственность за жизнь подчиненных. Он — начальник, солдаты — что-то такое, путающееся под ногами. Они должны исполнять его волю, только и всего. Страшная, лейтенант, болезнь. Для командира-пограничника особенно страшная. Каждый день солдат, рискуя жизнью, выходит в наряд, и нужно думать и думать, чтобы риск этот свести до минимума. Отцы и матери отдали своих сыновей нам в руки, и мы просто обязаны стать для них отцами, если не больше. Солдаты — не мусор. Это — аксиома. Ладно, хватит пока об этом. Продолжай, Латып Дадабаевич, исповедь. Меня интересует несколько вопросов. Первый. Откуда пришли нападавшие, если не зафиксирован факт нарушения границы? Выходит, с тыла подошли? Что, приверженцы халифата когти выпустили?
— У меня такие же предположения. Точного же ответа я дать не могу.
— Допрос пленных, возможно, просветлит этот вопрос. Это — наш следующий шаг. Как я предупредил, допрашивать станем вместе. Дальше.
— Дальше вот что: нападавшие о заставе знали все. Знали где что размещено. Почему я так определяю? Первая мина была пущена в окно комнаты дежурного, где вся радиосвязь.
— Но вполне может быть, что по окну, где горит свет?
— Товарищ майор, свет на заставе горит и в спальном помещении. Это же вам известно. Так вот, в спальню пущен был третий или четвертый выстрел. Второй — по офицерскому домику. Мне лично это говорит о том, что напавшие имели сведения от тех или от того человека, кто хорошо знал заставу. Измену своих я исключаю. Под мое подозрение попадает депутат Исмаил Исмаилович. Он знал о заставе все. И еще, он присылал довольно регулярно на заставу артистов, привозил которых его помощник, любознательный проныра.
— Не преувеличенные домыслы?
— Нет! Я подозреваю депутата в связях с контрабандой наркотиков. Я несколько раз говорил о своих подозрениях Чиркову, но тот высмеивал меня, у меня же не хватило мужества поделиться своими наблюдениями хотя бы с замом коменданта по разведке.
— Не осуждай себя за это. Если даже твои подозрения реальны, голыми руками депутата не возьмешь. Не тот уровень — комендатурский разведчик. Но об этом мы еще поговорим. И не единожды. Вот только окончим разбор трагического ЧП.
— И все же позвольте мне, товарищ майор, высказать вдруг возникшее подозрение в связи со встречей с Лодочниковым? — спросил Михаил Богусловский, и, получив согласный кивок, продолжил: — Лодочниковы — скользкие люди. Это так, для ориентировки. Вопрос же вот в чем: разве отпускное время, чтобы разъезжать по охотам? И какая бескорыстная дружба может быть между совершенно разными людьми, столь разными и по общественному статусу.
— Подобное бывает, — бросил реплику Костюков. — Тяга людей, даже разных, друг к другу необъяснима. Это не тот повод для каких-либо умозаключений.
— А прибытие на охоту сразу же после гибели заставы? Не случайность, как я предполагаю, хотя допускаю и такой факт. Но почему так настойчиво предлагал депутат перенести вот эту заставу? Разве не повод, чтобы заняться поисками истины?
— Верно, — подхватил Дадабаев. — Остров. Он хорошо виден с заставы. Он что называется, просвечен. Маленький поворот Пянджа, какой он делает, и — все. Остров не виден… Скрыт от постоянного наблюдения с заставской вышки. Потому, можно предположить, предлагает ставить новую заставу Исмаил Исмаилович. Вроде как подарок. За великое спасибо.
— Верный ход мыслей, но, повторяю, одними подозрениями сыт не будешь. Нужны факты. Их же собрать не так просто. Не за один чих. Вернемся мы к этому, как я сказал, позже. Пока же, Латып Дадабаевич, давай дальше.
— Почему сельской учительнице русского языка и литературы Гульсаре Кокаскеровой нужно было прятаться в ту ночь, когда напали на заставу? И кто мог обидеть ее, уважаемую всеми учениками, и, стало быть, — родителями?
— Вопрос вопросов, — и к Михаилу Богусловскому, — тебе о чем-то говорит фамилия Кокаскеровых?
Спросил Костюков специально для лейтенанта Дадабаева. Не мог не знать, что Михаил хорошо знаком с историей семьи Кула и его приемного сына Рашида Куловича. Но разговор об этом, как считал Костюков, должен начаться не с очередной загадки для Дадабаева.
Михаил Богусловский понял шаг Прохора Авксентьевича.
— Кокаскеров Рашид Кулович был начальником отряда на Алае. Мой отец служил там рядовым на заставе.
— Почему Рашид? — Удивленно спросил Дадабаев. — Рашид — одно из имен Аллаха: Направляющий на правильный путь. Не может мусульманин носить имя Аллаха. Только Абдурашид, раб Аллаха.
— Верно, если чтить шариат. Но приемный отец Кокаскерова не хотел, чтобы тот стал рабом Аллаха. Кул хотел, чтобы сын рабыни Абсеитбека, короля контрабандистов Алая, бежавшей из его гарема и родившей сына свободной женщиной, тоже был совершенно свободным. Зачем ему становиться рабом? Пусть он сам станет направляющим на праведный путь.
— Как рассказывал отец, Рашид Кулович и стал таким. Очень честным. Он воспитывал честность и у своих подчиненных, — добавил Михаил Богусловский.
— Стало быть, нити из прошлого? — покачал головой Латып Дадабаев. — Гульсара не открылась мне. Она только говорила, что не таджичка. Да и имя ее узбекское — цветок любования…
— Не увлекайтесь, Латып Дадабаевич, — остановил Костюков лейтенанта. — Вполне возможно простое совпадение фамилий. Возьмите хотя бы Дадабаевых? В Узбекистане их более чем достаточно.
— Но я выясню. Она обещала мне все рассказать о себе. Когда минует опасность.
— Выяснять станем вместе. Теперь же — следующий шаг: допрос. Вот только дам задание начальнику штаба. Задание короткое: доложить, кто дежурил по комендатуре в те роковые сутки и кому он доложил о полученных от старшего лейтенанта тревожных сведениях.
Начальник штаба ответил сразу:
— Офицер службы. Никому не доложил о докладе начальника заставы.
— Вы имели с ним разговор?
— Да. Предупрежден о взыскании: не полное служебное соответствие.
— Понятно, — закончил разговор майор Костюков. — Понятно, — а положив трубку, вздохнул: — Может быть, придется понизить по службе. В назидание другим. Безусловно, после личной с ним беседы. Теперь же — допрос.
— Разрешите совет, товарищ майор?
— Почему нет? Запомните, лейтенант Дадабаев, в любое время любой совет я выслушаю. Повторяю: в любое время, любой совет. Если дельный, приму обязательно к исполнению. Если отвергну, объясню почему.
— Начните с таджиков. Среди пленных, как я успел заметить, есть узбеки, есть киргизы, есть таджики, а вот пуштунов нет. Не из Афганистана они. Вот те, которые ушли, скорее всего, пуштуны.
— Верное слово: расчет на обиду брошенных? Вернее, на смерть оставленных?
— Да.
Расчет оказался верным. Первый же пленный, приведенный на допрос, спросил, коверкая русские слова и потея от натуги, знает ли кто таджикский. Дадабаев ответил сразу:
— Я переведу.
— Но ты — узбек.
— Я хорошо знаю ваш язык. Я вырос в окружении таджиков в Ферганской долине.
— Да, там моих сородичей много. — Признал право переводить за лейтенантом, но все же предупредил: — Не ошибись. Я хочу, чтобы ты перевел такие мои слова: я скажу все, если меня отпустят домой.
— Но прежде, чем перевести условия, я хочу спросить тебя, как поворачивается твой язык, если ты убивал пограничников, а теперь хочешь остаться чистеньким?
— Я не убивал. Все таджики не убивали. Мы — исмаилиты. Мы не убиваем людей. Еще там, в лагере, куда нас согнали силком, под страхом расправы с семьями и родичами, мы все поклялись друг другу, что наши пули полетят мимо людей. Выше голов. Когда нас бросили пуштуны, мы бы прорвались. Мы видели, как мало кокаскеров, но наши пули не приносили вам вреда. Узбеки и киргизы обмануты именем Аллаха и мечтают о великом владычестве мусульманства — они стреляли метко. Но их было меньше половины. Мы орали во все глотки вместе с ними, но, повторяю, мы не стреляли в кокаскеров.
Лейтенант Дадабаев сразу же поверил пленному. Он еще в горячке боя улавливал свист пуль над головой, но тогда было не до анализа столь не меткой стрельбы. Теперь только оценил:
«Именно это спасло нас!»
Слово в слово он перевел откровения пленного, добавив:
— Он сказал правду. Я верю ему.
— Это — хорошо. Спроси, сможет ли он провести нас к той базе, где их готовили для нападения на заставу?
Пленный не только согласился стать проводником, но твердо пообещал, что плененные таджики помогут взять базу без выстрела.
— Переведи: тогда мы их всех отпустим, — подождав, пока Дадабаев переведет, обратился уже к лейтенантам: — Идейных же сторонников халифата отправим в Душанбе. Думаю, власти не погладят их по голове. Что касается захвата базы в горах, я согласую этот вопрос с комиссией, которая прибудет из Москвы. Попросим спецназ, но присоединимся к нему и мы. В походе участвовать и вам, товарищи лейтенанты.
— Есть!
Вроде бы первая точка поставлена над i. Пора садиться в машину и — к аксакалам. Они могут еще больше приоткрыть занавес.
— Кто самый уважаемый из старейшин? — спросил майор Костюков у Дадабаева. — С него и начнем.
— Улема. Но мое мнение иное: первым посетить следует аксакала, который, уводя Гульсару, предупредил меня об угрозе.
— Пожалуй, верное предложение. Едем к нему. Знаете, где его дом?
— Конечно.
— Командуйте.
Дом аксакала почти в самом центре села. Высокий глинобитный дувал, крепкие ворота урюкового дерева, столь же крепкая резная калитка с массивным медным кольцом, под которым медная же пластинка. Ударь кольцом о пластинку, и хозяин выйдет встречать гостя.
Дадабаев постучал кольцом о пластинку, и тут же за калиткой злобный, с хрипотцой от старания, лай пары собак. Привычное дело. Во всех дворах у таджиков — крупные собаки, способные даже загрызть непрошеного гостя. Но они злобятся только до слова хозяина. Нельзя, скажет хозяин, и лай в один миг прекратится, а псов словно подменят — хоть за хвост дергай. Невероятная послушность.
— Кому Аллах путь указал? — донесся вопрос из-за калитки.
— Лейтенант Дадабаев с начальником отряда.
— Сейчас, сейчас.
Заклацали проворно задвижки, калитка распахнулась и аксакал с приложенной к груди рукой пригласил:
— Входите, гости желанные.
— Мы приехали поблагодарить вас лично и всех старейшин за предупреждение заставы.
— Оно оказалось не полезным.
— К сожалению — да. И все же…
— За пиалой чая разговор обретет покойность и деловитость. Как я понимаю, вам интересно узнать, откуда мы получили известие о нападении на заставу?
— И это тоже.
— Но об этом может сказать только улема. Если посчитает нужным. Он скрытен. Он не все говорит, что знает.
— Воля его. Думаю, все же, он поймет важность откровенного разговора.
Вроде бы никого не посылал хозяин за остальными аксакалами, но они начали дружно собираться. Причем без стука в калитку, без приветственного лая собак. Тихо. Вполне достойно. Снимали с ичигов галоши и рассаживались, скрестив ноги, за дастарханом на ковре, разостланном на деревянном настиле под сенью виноградника.
Вот и улема. Занял оставленное ему почетное место и принял пиалу с чаем, уважительно поданную самим хозяином. Наступило молчание. Пока почетный гость не сделает хотя бы несколько душистых глотков, разговор начинать грешно, еще лучше, если сам улема первым отверзет уста свои.
Улема, понимая, как важно время для пограничников, всего лишь дважды вдохнул чайный аромат, пригубив пиалу, и начал с вопроса:
— Вы, как я понимаю, хотите узнать, откуда мы получили весть о нападении?
— Не только. Мы приехали поклониться старейшинам села за заботу о пограничниках.
— Мы — мужчины. Лучшая благодарность — разгром банды. Но большая часть ее ушла, а застава погибла. Зачем теперь пустые слова? Вы не поверили нам, и это плохо. Откуда мы узнали? Слух прошел.
Аксакалы дружно закивали, одобряя сказанное самым авторитетным в селе старейшиной, и майор Костюков понял: ничего больше он не узнает. Во всяком случае, сегодня.
— Упрек принимаю. Я — новый начальник отряда. Даю слово не оставлять без внимания ни одного вашего сигнала. И еще я прошу вас не винить Латыпа Дадабаева. Да, он смалодушничал, не полез в драку с начальником заставы, хотя пытался убедить покойного принять нужные меры. Жизнь преподала ему жестокий урок.
Старейшинам легло на душу столь откровенное признание пограничного начальника, они закивали дружно, мнение же старейшин озвучил улема:
— Забудем обиду. Станем, как и прежде, жить в дружбе. Это — слово старейшин. Твердое слово. От себя же я скажу так: приглашаю тебя, Прохор-ага, завтра к себе в гости. В какое время удобно?
— Как скажете, уважаемый, — ответил Костюков, удивленный тем, что улема знает его имя.
«Восток — сплошная загадка».
— После вечерней молитвы.
— Хорошо. Но есть вопрос: вернулась ли в школу Гульсара Кокаскерова?
— Она вернулась.
— Тогда едем к ней, — и решил объяснить все откровенно. — Мы хотим с лейтенантом Михаилом Богусловским, который будет назначен заместителем начальника заставы, заместителем Дадабаева, узнать, не родственница ли она полковника Кокаскерова. С ним связана судьба моей семьи и семьи лейтенанта Богусловского.
— Она внучка знаменитого кокаскера, служившего на Алае, — вполне уверенно сказал улема. Вам будет с ней о многом чем поговорить. Уверен, она откроется вам. Со мной она скрытничает, хотя я знаю о ней все. У нас, Прохор-ага, и об этом пойдет разговор. Для вас он может стать интересным.
Офицеры поехали не в школу. Уроки или уже закончились или вот-вот должны закончиться, поэтому водителю велено было рулить к дому сельской администрации, на втором этаже которого жили в отдельных комнатах медсестра и учительницы, получившие сюда направления из Душанбе.
Действительно, ждать пришлось всего ничего. Вот и они — Гульсара со своими коллегами, столь же юными, но вполне солидными, как все учителя. Им нельзя вести себя бесшабашно, они на виду, а нравы исмаилитов сдержанные.
Но девчата — есть девчата. Разговоры меж собой далеки от солидности.
— О, Гульсара, твой жених. Смотрите, еще лейтенант. Красив! Может, кому из нас достанется?
— Да ну вас, подружки. Кроме замужества есть ли у вас что на уме?
— Есть. Но любимый муж — главнее главного.
— Затихли. Услышат. — Одернула подруг учительница арифметики. — Со стыда сгоришь.
— Ну и что? Пепел все же останется, фыркнула физичка, но подруги все же замолчали, придав лицам строгий вид.
Латып Дадабаев ринулся навстречу Гульсаре, хотел обнять ее, но она не ответила взаимным порывом, подставила только щеку.
— Сердце кровью обливалось, когда услышала я о гибели заставы. Думала и ты погиб. И радостно теперь, и печально. Сколько убитых.
— Не осуждай меня. Я не прятался за спины. Но давай не будем сейчас об этом. Вот, познакомься.
Официально Гульсара протянула руку майору Костюкову, столь же официально — лейтенанту Богусловскому, но вот их взгляды встретились и словно прожгло и Михаила, и Гульсару чем-то сладостно-тревожным, в то же время необоримым. Ей нужно было отнять свою руку, утонувшую в ладони лейтенанта, она понимала это, но не могла одолеть себя. Так и стояли они, не отводя друг от друга взоров.
Майор Костюков даже покачал головой:
«Вот это закавыка!»
Явная холодность при встрече с женихом и полная противоположность при рукопожатии ради знакомства. Кто и когда поймет вас, женщины.
«Не скажется ли на службе? Вопрос вопросов».
Латып Дадабаев вспыхнул от ревности, но усилием воли тут же обрел прежний вид возбужденного встречей с любимой, со своей невестой, хотя почва уходила у него из-под ног. Наконец он решил прервать затянувшееся рукопожатие.
— Приглашай, Гульсара, в гости. Для тебя они очень дорогие. Узнаешь, удивишься и обрадуешься.
Действительно, удивление полное: надо же — судьба вновь свела дружившие прежде семьи, чей путь шел в едином русле. Как не радоваться. Но радость радостью, а дело делом. Майора Костюкова и лейтенанта Богусловского сейчас более всего интересовало, как Гульсара, чьи корни в Киргизии, оказалась здесь.
— Да, на Алае и в Оше у меня остались родственники, но я с ними не поддерживала связь. Я исчезла. За мной начал охоту внук Абсеитбека. Он по праву наследства считает меня своей гаремной женой. — Вздохнула и спросила Прохора Костюкова, словно он мог приоткрыть тайну: — Прознал домогатель, что я здесь. Каким образом?
— Мне бы самому хотелось найти ответ. Он бы многое нам с тобой, Гульсара, объяснил. Нападение на заставу и вместе с тем стремление умыкнуть тебя о многом говорит.
— Мое мнение такое: нападение — главное, Гульсара — попутно, — вставил свое слово лейтенант Дадабаев. — Искал ли в ту ночь кто тебя?
— Да. Девчат перепугали насмерть. Человек пять ворвалось. Хмурые. Страшные. Обросшие. Обшарили все комнаты, не только мою. Девчата — в ночнушках. Сейчас, испугались, станут насиловать. Но обошлось. Им нужна была только я.
— Ты припомни, кто кроме сельских бывал в вашем общежитии? Кто посещал твою комнату?
— Даже из местных в моей комнате никто не бывал. Лишь Касим Касимович, сельский голова, как его все зовут. Но его я исключаю.
— Почему?
— Несколько лет я здесь, и все было спокойно. Месяца два назад меня предупредили об опасности. Так и сказали: «Тебя могут украсть». Я отшутилась. Если, говорю, кто влюбился, пусть объяснится. Если понравится, я соглашусь выйти за него замуж. Аксакалы не приняли шутки. Серьезно так убеждают, что за мной придут издалека. Улема их оповестил и велел аксакалам оберегать меня.
— А мне ты ничего не сказала, — с обидой упрекнул Гульсару Дадабаев.
— Извини. Я посчитала это какой-то нелепой шуткой.
И Костюкову, и Богусловскому ясна ложность ответа. Не могла Гульсара не воспринять серьезно предупреждение. Не могла. Прохор Авксентьевич, видя смущенность Гульсары, вернул разговор в прежнее русло:
— А все же, Гульсара, не пыталась ли понять, кто мог выдать Абдурашид-беку тебя?
— Откуда вам, Прохор Авксентьевич, известно это имя?
— Скажу. Но прежде ты ответь мне на мой вопрос.
— Боюсь ошибиться. Слишком необычное умозаключение. Невероятное даже.
— Смелей. Никто не осмеет тебя.
— Приезжает к нам на охоту регулярно депутат. Исмаил Исмаилович. Месяца три назад он впервые посетил нашу школу. Встреча, так сказать, с народом. Не скрыл удивления, услышав мою фамилию. Естественная реакция, как я посчитала. Киргизка и — Кокаскерова. Но он не спросил, откуда у меня столь необычная фамилия. А по логике должен был бы. Раз удивился — спроси. Так ведь? Для депутата, посетившего нашу школу для знакомства с учителями, это же не бестактно. Не единожды я думала о том факте, и каждый раз приходила к одному и тому же умозаключению: история появления в нашем селе фамилии Кокаскерова ему известна.
— Любопытный вывод. Если так, то ему известна и история рода Беков.
— Видимо. Через месяц он посетил нас еще. На сей раз с желанием познакомиться с бытом учителей. Но к местным, кто живет в своих домах, не ходил. Только в общежитие. На него я и грешу.
«Улема может свести концы с концами», — предположил майор Костюков, а вслух сказал:
— Очень важно для нас то, что мы услышали от тебя. Считаю, подозрения твои обоснованы. Будем разбираться. И вот что, опасность для тебя великая. Перебирайся жить на заставу. Как только отремонтируем офицерский дом, так — милости прошу.
Нет-нет, — вспыхнув ланитами, поспешно отказалась она. — Мы с Латыпом еще не решили вопрос о свадьбе.
И Дадабаев, и Богусловский, да и Костюков не могли отвести взоров от смущенного румянца на смуглом лице Гульсары, от ее греческого профиля, классическую ладность которого как бы подчеркивали черные волосы, удивительно мягко спадающие на плечи.
— Да я не о замужестве речь веду. Не сватаю тебя. Есть у нас отдельная квартира. Двухкомнатная. На работу — охрана, с работы — тоже. А замуж? Тут как сердце подскажет. Дело-то молодое.
Еще более смутил Костюков Гульсару последней фразой. У нее уже, хотя отвлекал волнующий разговор, схлестнулись ум и сердце. Она невольно, всячески стараясь оттолкнуть столь навязчивые мысли, все время решала, как отказаться от свадьбы с Латыпом, чтобы достойно было и не слишком для него обидно. Слова Прохора Авксентьевича подхлестнули борьба разума и чувств, она, скрывая свою смущенность, вновь с явной поспешностью повторила:
— Нет, Прохор Авксентьевич. Я останусь здесь. В общаге, как меж собой называем мы свои кельи.
— Что ж, воля вольному. Принуждать не стану. Пока не стану. Если что узнаю худого, тогда — силком. По праву старшего из потомков дружественных родов.
— Подчинюсь, — пообещала Гульсара. — Теперь пойдемте в нашу столовую пить чай. С пирожками. Мои подруги, думаю, успели все приготовить.
— Долго задерживаться мы не можем.
— Но без чая я вас не отпущу, — твердо возразила она. — Или забыли святое: работа не волк?
Лукавая улыбка озарила ее лицо. Постояв чуток в какой-то нерешительности, она взяла за руку Михаила Богусловского и, пропустив вперед Прохора Авксентьевича и Латыпа Дадабаева, повела его в общую столовую. Ладонь ее была горячей, пальцы вздрагивали, а Михаил, хотя и понимал, что это неудобно, не мог оторвать взгляда от ее лица.
За стол они сели рядом. Латыпа же догадливые подруги усадили меж собой.
«Да-а — проблемка. Скорее всего придется разводить лейтенантов, — сделал неутешительный для себя вывод майор Костюков. — Наверняка придется, хотя и не хочется. А вот кто здесь останется, кому перевод — слово за Гульсарой».
Потрачено непростительно много времени, теперь оно будет спрессовано до завтрашней встречи с улема. Нужно прежде основательно посидеть с начальником штаба, чтобы хотя бы поверхностно войти в обстановку на участке всего отряда. Московская комиссия не сделает скидку на то, что он прибыл в отряд после страшного ЧП — она потребует от него доклада. И не только о нападении на заставу и о выводах, сделанных из столь трагического происшествия, но и захочет послушать о делах во всех комендатурах, на всех заставах.
«Хорошо бы поговорить со всеми комендантами. Догадается ли начштаба вызвать их в отряд? Или дать команду? Нет, пусть покажет себя в деле».
На всех тех беседах лейтенантам не с руки присутствовать, да и улема их не пригласил. Вот только разговор с дежурившим по комендатуре в те злополучные сутки пусть послушают. Как назидание на будущее.
Когда они вышли из общежития и распрощались с провожавшими их учительницами, майор Костюков спросил совет у лейтенантов:
— Вызвать дежурившего по комендатуре на заставу для беседы с ним или ехать самим к нему?
— Конечно. В комендатуру, — первым ответил лейтенант Дадабаев. — И не с глазу на глаз разговор, а при офицерском собрании.
— Так верней. Ваша правда. Тогда — вперед.
— Но нам-то, лейтенантам, удобно ли?
— Я вас представлю. Вас, Латып Дадабаевич, как начальника заставы, тебя, Михаил, как его зама. На сто процентов уверен, что со мной согласятся в региональном управлении. А все руководители станут сопровождать московскую комиссию. Вот сразу и решим.
— А как с дежурным? Он во многом виноват.
— Поглядим. Если он подал коменданту рапорт чести — одно. Только я думаю, никакого рапорта об увольнении он не написал и не напишет. Мое предварительное мнение, какое я намерен доложить комиссии: понижение в должности и в звании.
— Два наказания за один проступок? — спросил Михаил Богусловский. — Не будет ли нарушен устав?
— Да его судить нужно, если по уму. Судить за преступное ротозейство. Впрочем, окончательный вывод после беседы с ним самим.
Как в воду глядел майор Костюков — никакого рапорта начальник отдела службы и боевой подготовки не написал и не собирался писать. Он ни в чем себя не винил. Он предлагал помощь, но от нее отказались. Сами же сведения довольно сомнительные и не проверенные. Не поднимать же ради этого панику?
— Но мне ты должен был доложить! И по уставу, и по нашей инструкции.
— Утром, отдавая рапорт, и доложил бы.
— Бы да кабы. Нет! Я такого службиста не имею права держать в своем штабе!
— Разделяю ваше мнение, — поддержал коменданта майор Костюков. — Начальник заставы проявил благодушие, кому же, как ни начальнику службы, поправить его, подсказать, насторожить, самому же поднять на ноги всех начальников. Цена безразличия к своим служебным обязанностям, цена ожирения души и мозга — гибель десятков молодых бойцов! Мнение коменданта и свое я буду докладывать московской комиссии, требуя серьезного наказания. Все свободны.
Не слышал майор Костюков реплики, прозвучавшей за дверью кабинета коменданта:
— Новый. Хочет показать себя. Командовал бы давно, иначе бы повел себя: искал бы героизм, а не прорехи.
Ничем не обоснованная реплика. Однако доля правды в ней есть: каждый командир в меру своих возможностей настроен приукрашивать положение дел в своем подразделении, в своей части, в своем соединении, чтобы без помех подниматься по служебной лестнице. Но не они в этом повинны. Так устоялось давно: не глубинная суть, не жесткая борьба, открытая и бескомпромиссная с малейшими нарушениями, а внешний лоск берется во внимание теми, кто решает судьбу нижестоящих офицеров.
Разговоры о порочности такой практики ведутся на всех уровнях, особенно на собраниях и совещаниях, но разговорами сыт не будешь. Ловкий показушник стремительно поднимается вверх, становясь заразительным примером для многих.
Когда комендант и начальник отряда остались одни, комендант доложил:
— Подполковник Кириллов вызывает к восемнадцати ноль-ноль в отряд.
— Ясно. Тогда не прощаемся. Встретимся там. Впрочем, вместе поедем. Я побуду на заставе с лейтенантами и заеду за вами.
Совещание в отряде, вернее, доклады комендантов, начальника тыла, начальников всех отделов прошли штатно. Пониманием обстановки и реакцией на случившуюся трагедию майор Костюков остался доволен. Теперь он мог смело, не путаясь, не увиливая по незнанию своему от ответов, вести разговор с членами комиссии. А напутствие всего пока одно:
— Службу и воспитание личного состава стройте на основе конкретной обстановки на участке нашего отряда, а не по речам, какие звучат на высших саммитах, как теперь на новый манер именуют совещания и съезды. Политика— политикам, нам же — обеспечение нерушимости границы с максимально возможным сохранением личного состава. И тут нужно не только вдумчиво и тактически обоснованно планировать охрану границы, но, и это, пожалуй, главнейшее из главных — учить солдат, сержантов, прапорщиков, учиться самим боевому мастерству не формально. Не цепляться упрямо за спускаемую сверху программу, а всеми силами добиваться настоящего профессионализма. Пограничник останется жив, если он станет ловчее и умелей боевиков разных мастей. А все ваши пожелания я, обобщив, доложу непосредственно председателю комиссии, которая должна прилететь к нам послезавтра. А то, что в наших с начальником штаба и начальником тыла силах, обещаю в ближайшее время решить. Совещание окончено. Действуйте каждый по своему плану.
Офицеры покинули комнату совещаний или, как ее уважительно называли — зал заседаний, и майор Костюков спросил:
— Где нам, Игорь Александрович, побеседовать по душам, выложив без обиняков наши мысли?
— Три места, Прохор Авксентьевич. Кабинет начальника отряда, кабинет начальника штаба, но самое лучшее у меня на квартире. Поужинаем, чем жена угостит, а уж после того, уединимся.
— Принимается.
— Удобно еще и потому, что ваша квартира рядом с моей. Начальник тыла все в ней приготовил. Можно семью вызывать.
— Спасибо. Проводим комиссию, и выкрою время встретить жену и сынка своего.
— Надеюсь, подружатся с моими. Тем более, что у меня невеста недавно родилась.
— Хорошо бы.
Ужин удался. Беседа тоже. Прохору Костюкову легли на душу полная откровенность, глубина взглядов на суть происходящего и такая же глубина понимания будущего. С его взглядом на сущность пограничной службы сходились и взгляды подполковника Кириллова. И это — очень важно для совместной работы. Остался один вопрос:
— Как, Игорь Александрович, относишься (они договорились перейти на ты) к депутату Исмаилу Исмаиловичу?
— Двойственное чувство. Высокомерен. Себе на уме. В то же время много нам помогает. Но мне кажется, не от любви к нам он это делает, а в каких-то своих интересах, тщательно от нас скрываемых.
— У лейтенанта Дадабаева более серьезные подозрения. Он считает, связан депутат с контрабандой наркотиков.
— Что же он не доложил? Начали бы раскручивать.
— Не хотел шагать через голову начальника заставы, а тот всерьез не воспринимал мнение зама.
— Дадабаев — толковый офицер. От сохи, как говорится. К тому же — многоязычен… Хотел я его в разведотдел взять.
— Идея верная, но пусть немного покомандует заставой. Ну, хотя бы с год. Но может, даже меньше, — вспомнив о зародившемся нежданно-негаданно пресловутом треугольнике, который вынудит развести лейтенантов, поправился майор. — А что касается Исмаила Исмаиловича, раскручивать его я начну уже завтра, встретившись с улемой. Время определено после вечернего намаза. По моему понятию, он знает много. Дай бог, чтобы раскрылся.
— Может, на первый раз не совсем, но коль согласился на встречу, стало быть, имеет что сказать и хочет сказать.
— Честный он, это — бесспорно. По его слову Гулистан Кокаскерову уберегли от похищения. Надеюсь разговорить и добиться душевности.
Никаких, однако, усилий Прохору Костюкову прилагать не пришлось. После ужина за обильным дастарханом, во время которого не принято вести деловые разговоры, улема провел гостя в уютную комнату с сандалом посредине и нишами в стенах со стопками одеял и подушек.
— Мы будем говорить долго. Ночевать, Прохор-ага, будешь здесь. Ковер на кошме из бараньей шерсти. Ни скорпион, ни змея не заползут сюда.
— Принимаю приглашение, — склонил почтительно голову Прохор Авксентьевич, хотя планы у него были иными. Он собирался ночевать на «Приостровной», вернее, скоротать ночь, проверяя службу бойцов мангруппы. Посчитал, однако, что отказом обидит хозяина.
Посидели молча. Прохор Костюков еще раз прокручивал в голове первую фразу, с которой намечал начать разговор с уважаемым аксакалом, однако, не спешил, ожидая первых слов самого хозяина.
Пауза затягивалась. Костюков решился, наконец, первым заговорить:
— У меня, уважаемый…
Улема поднял руку, и Костюков замолчал. Теперь он ждал терпеливо, когда заговорит улема. Гадал, каким будет его первое слово?
«Хоть бы не темнил, витиевато уходя от сути».
Откровенность улемы превзошла самые смелые надежды.
— Я вхожу в большой хурал сторонников халифата, вот почему мне известно почти все. Меня считают чистым правоверным, и я поддерживаю эту ложность. Я же — исмаилит. Мирный мусульманин, довольствующийся тем, что дал мне Аллах. У вас, христиан, были и есть нестяжатели. Вот такие и мы в исламе. Стремление создать халифат, не может обойтись без крови. Без большой крови. Она уже льется. Полноводной рекой. Я против этого.
В академии читали лекции представители ГРУ и ФСБ об антироссийской деятельности экстремистских мусульманских партий, цель которых создать великую мусульманскую державу с присоединением к ней многих земель России, но тогда он не мог даже представить, что ему привалит удача беседовать с глазу на глаз с противником авантюрных устремлений, который допущен к святая святых экстремистского объединения.
— Средняя Азия, — продолжал улема, — напичкана сторонниками так называемого угодного Аллаху деяния. Мне кажется, Россия не совсем поняла, какая грозит ей опасность. Чечня, Дагестан и иные горячие очаги Кавказа — это только малое начало в устремлениях вскружившихся голов, забывших шариат, наплевавших на Коран. Им нужна большая власть. Им нужна большая земля. Они хотят захватить все Поволжье. Они спят и видят в Сибири восстановленное Сибирское ханство, подвластное халифату. Я сказал не то слово — они не во сне все это видят, они действуют. Действуют нагло и очень хитро. Они насаждают своих агентов по Волге, которую именуют на свой манер — Итиль. В Калмыкии их уже не десятки, а сотни. Под видом чабанов и пастухов конных косяков. Они даже есть в Казани. Там, в медресе, готовят ярых сторонников халифата. Избранных для этой цели учат не столько азам веры, сколько диверсионному делу. Они готовятся взрывать души верующих, привлекая их на свою сторону, втягивая в кровавые дела.
Улема замолчал, посчитав, видимо, что в общих чертах о целях и деяниях сторонников халифата он сказал достаточно, майору же нужны факты, касаемые пограничников, важные сведения об обстановке на участке его отряда. Стало быть, лучше всего, если гость сам станет задавать вопросы. К этому его нужно подвести.
— Не думаю, что чекисты, как продолжают именовать себя тайные борцы с врагами России, не знают о том, что я сейчас, Прохор-ага, поведал. Думаю, в какой-то мере посвящены в это и вы, как большой начальник. Вам, должно быть, Прохор-ага, интересней узнать, что творится здесь, на вверенном вам участке границы.
— Да, уважаемый. У меня много вопросов. Ради ответов на них я и просил вас, уважаемый, принять меня. Однако скажу: услышанное сейчас от вас непременно передам чекистам. Для них важно все.
— Но я не хочу иметь дело с чекистами. Я соглашусь только на то, чтобы вы были посредником.
— Даю твердое слово.
— Условились. Задавай, Прохор-ага, свои вопросы.
— Что вы скажете об Исмаиле Исмаиловиче?
— Он считает себя беком, но он не бек. Он — боковая ветвь контрабандиста, знаменитого не только на Алае, но и у нас, в Таджикистане, Абсента. Он имел две контрабандистские тропы. Одну — из Афганистана через наш Горный Бадахшан, другую — по Китаю, вернее, по бывшей Джунгарии. Тоже через горы. Ходоки носили героин и керосин. И то, и другое в те времена ценились как золото. Еще он давал в долг под большие проценты. Когда разжирел, сам себя назвал беком, и все стали звать его по его воле Абсеитбеком. В кругу друзей и единомышленников. Исмаила тоже зовут Исмаилбек.
— Что, он тоже из тех, кто стремится к халифату?
— Точно не знаю. Если он за халифат, то в другой партии. Знаю одно. Он тесно связан со своими родственниками и в Китае, и в Афганистане.
— Стало быть, Абдурашидбек и Исмаил Исмаилович — родственники?
— Вы знаете об Абдурашиде? Тогда вы много знаете и разыщете конец в запутанном клубке.
— Сам собой напрашивается еще один вопрос: не его ли рук дело попытки похитить Гульсару? Для Абдурашидбека.
— Не называйте его беком. Рашид — одно из двухсот имен Аллаха. Абдурашид — раб Указывающего верный путь. Он раб Аллаха, как мы все.
— Принимаю упрек. Но я все же продолжу: нападение на заставу, можно смело предположить, тоже его рук дело?
— Скорее всего — да. Но как я считаю, не главная причина Гулистан. Она — попутно. Главная причина иная. Но я ее не знаю. А предположение не может иметь силу твердого слова.
Беседа Прохора Костюкова и улемы затянулась далеко за полночь, и даже когда майор устроился на ночлег, мысли его еще долго будоражились услышанным от улемы, но в эту сумятицу исподволь втискивалась еще одна:
«Как там мои лейтенанты? Не успели еще объясниться? С утра завтра — непременно к ним».
Лейтенанты объяснились. Начал Латып Дадабаев:
— Я заметил, тебе, Михаил, понравилась Гульсара.
— Она обворожительна. Есть в ней что-то притягивающее.
— Но она — моя невеста. В дни летних каникул — наша с ней свадьба.
— Разве ты не услышал ее слов: «Мы еще не договорились о свадьбе»?
— Договоримся.
— Не силой же.
— Ну ты, Михаил Иванович, даешь. Не средние же века на дворе.
Вот на этом и окончилось их объяснение. Осталось все в непроглядном тумане. Они оправдывали себя тем, что их ждут хлопоты, какие настоятельно требовала застава. Да и о своем ночлеге им нужно было позаботиться, привести в порядок хотя бы одну комнату.
А еще они ждали майора Костюкова, который обещал с ними провести ночь на заставе. Однако он, к их удивлению, так и не приехал. Утром к нему пришлось ехать лейтенанту Михаилу Богусловскому: позвонил подполковник Кириллов и сообщил, что прилет комиссии ожидается через четыре часа. И тогда лейтенант Дадабаев приказал:
— Бери, Михаил, машину и — к улеме. У него он остался ночевать. Не иначе. Во всю прыть, а то не успеет.
— Его машину возьму с собой. Чтобы к нам не заезжал, теряя время.
— Разумно.
Успел майор Костюков в отряд. Даже осталось немного времени отдышаться, как говорится, и еще раз мысленно повторить рапорт председателю комиссии, хотя неизвестно кто пожалует: сам директор или начальник штаба.
Нет, не тряслись коленки у майора Костюкова, но в Таких случаях естественному волнению он даже не пытался противиться — он готов был доложить комиссии все без каких либо приглаживаний не потому, что прибыл в отряд после ЧП — он готов был разделить ответственность с начальником штаба отряда за ротозейство подчиненных и шел на это вполне осознанно ради того, чтобы выводы комиссии, которые она с его помощью сделает, не стали бы фанфаронными, а вскрыли прорехи и наметили меры по их устранению. Меры для всех пограничных войск.
Именно так, как задумал, майор Костюков доложил председателю комиссии о трагическом происшествии, не умоляя в то же время героизма солдат и сержантов, умелые действия лейтенанта Дадабаева, но не скрыл и того, что тот проявил робость в споре с погибшим начальником заставы, одним из главных виновников трагедии.
— В региональном управлении несколько иначе оценивают события. — Усомнился генерал. — Неожиданность нападения, крупные силы и преимущество в местности — вот козыри напавших. Застава сражалась геройски.
— Я доложил, опираясь на факты, не беря во внимание желаемое. И прошу вас не брать во внимание, будто новая метла начнет мести по-новому… Нет. Я несу полную за случившееся ответственность. Не о личном моя забота, а о надежности в охране и обороне границы. Свои выводы, свои мысли я выскажу на подведении итогов. Навязывать же своего мнения членам комиссии не стану. Прикажу этого не делать и всем офицерам отряда.
— Что ж, позиция верная, — снизошел председатель комиссии. — Независимые выводы наиболее правдивые.
Однако нотки недовольства почувствовались в тоне генерала. Его уже успели убедить в полной невиновности офицеров заставы, комендатуры и отряда в страшном ЧП, и если имелись какие-то промахи, героизм покрывает их с лихвой.
И что греха таить, такая оценка вполне устраивала и самого председателя комиссии, да и большинство ее членов, отвечающих за организацию службы, — они считали, что и для них будет лучше, если наградят отличившихся, даже посмертно, чем посыплются взыскания. Они вполне могут повлиять и на их положение в штабе войск.
Полную неделю члены комиссии проверяли дела в отряде и на заставах, и вот — подведение итогов. В зале заседаний офицеры штаба отряда, коменданты, начальники штабов и заместители комендантов по воспитательной работе. Среди них — один лейтенант. Пока еще исполняющий обязанности начальника заставы Дадабаев.
Председатель комиссии объявляет порядок работы:
— Послушаем лейтенанта Дадабаева, подполковника Кириллова и начальника отряда, после чего мое заключение.
— Разрешите дополнение? — спросил Костюков и, увидев согласный кивок, предложил: — Не плохо бы послушать коменданта, в подчинении которого застава лейтенанта Дадабаева.
— Принимается… Если комендант готов доложить по сути вопроса.
— Готов, товарищ генерал.
— Хорошо.
Вроде бы зряшное дело — отчеты. Ничего нового не прозвучит с трибуны, обо всем сказано в личных беседах с членами комиссии, но раз положено подводить итоги гласно, стало быть — положено. Все ждали выступления начальника отряда с какими-то своими предложениями, и как не пытались члены комиссии узнать о них, сделать им это так и не удалось. Даже беседа с председателем, на которую напросился Костюков, ничего не дала. Он только сообщил генералу то, что услышал от улемы, для передачи в соответствующие органы, и доложил о подозрениях в отношении Исмаила Исмаиловича.
— Вот что, Прохор Авксентьевич, я вам вполне верю, верный у вас ход рассуждений, но официального разрешения на разработку депутата я дать не могу. Не по Сеньке шапка. Наши депутаты для нас неприкосновенны, а тут депутат другого государства.
— Я это знаю. Я просто информирую в личной беседе. Буду действовать самостоятельно, вместе с лейтенантами Дадабаевым и Богусловским накапливая факты. Чтобы взять за руку мертвой хваткой. Без возможности выкрутиться.
— Не сверните шею себе и не подставьте молодых офицеров. Прокол, и мы вынуждены будем вас перевести с понижением, это в лучшем случае, а в худшем — отправить в запас.
— И это мне вполне понятно.
— Тогда рискуйте. Не станем мешать. Риск — благородное дело. Об одном хочу предупредить: никакой огласки. Узкий круг людей, в которых уверен, что не случится огласки. Учти и еще вот что, если депутат пронюхает или просто заподозрит неладное, не миновать заставе нового нападения.
— Конечно. Тайна операции — важнейший фактор. У меня все. Разрешите идти?
— А о своих предложениях?
— На подведении итогов, если вы не настаиваете.
И вот майор Костюков на трибуне:
— Свою оценку чрезвычайному происшествию я уже доложил, отдавая рапорт при встрече комиссии. Повторяться не стану. Предложения о наградах и наказании переданы, ничего иного добавить не могу. А вот какие мысли возникли в связи с ЧП хочу сказать. Первое: пора бы нам, особенно на «горячих» участках границы, преобразовать маневренные группы, не вполне отвечающие требованиям сегодняшнего дня, в боеспособные, наподобие спецназов, подразделения. Чтобы можно было их десантировать в нужное время и в нужном месте. Эту мысль мне подсказал лейтенант Богусловский, исходя из личного опыта. Армейский вертолетный десант спас пограничников, которые не смогли бы удержать перевал, не остановили бы в десятки раз превосходящих их боевиков.
— Идея не нова, — бросил реплику один из членов комиссии. — Она уже прорабатывается.
— Не перебивайте, — одернул прыткого полковника генерал. — Дайте человеку выступить, не дергая его.
Майор Костюков постоял молча за трибуной больше, чем позволительно приличием в такой момент, затем не продолжил выступление, а резко ответил полковнику:
— Следует сегодня не прорабатывать такие вопросы, а их решать! Решать оперативно. Позволительно ли чесать затылки, когда гибнут люди? Считаю это по меньшей мере преступным.
— Ого, куда хватил. — Покачал головой председатель комиссии.
— Не хватил, товарищ генерал, а говорю сообразуясь с обстановкой. Мозг пограничных войск просто обязан работать не в полусонном режиме, не благодушествовать.
— Полностью поддерживаю последнюю фразу. Продолжайте.
— Вторая проблема не менее важна. Несколько слов из истории. Когда воевода вел державную рать, он имел, как правило, пять полков, как бы мы их сейчас назвали — строевых полков, и еще посоху. Смею назвать это тыловым обеспечением строевых частей. Посоха не только снабжала рать всем необходимым, но ставила при необходимости гуляй-города: рыла закопы, острила кольями переправы, раскидывала триболы и прочее, прочее. Ратники знали одно — рубиться с вражеской ратью, обретая в повседневных трудных упражнениях силу и ловкость. А что имеем мы? Провел в наряде пограничник шесть-семь часов, поспал положенное и — хозяйственные работы. Я не говорю о поддержании чистоты и порядка на заставах и в подразделениях, это вне всякого сомнения необходимо. Я говорю о различных строительных работах. Засучил рукава едва отдохнувший боец и — айда-пошел. А на занятия времени не остается. Их проводят хуже, чем формально. Мы все это знаем и плотно закрываем на это глаза. Я считаю недопустимым, когда по обстановке создаются новые отряды, новые заставы, создаются палаточные городки.
— Необходимость заставляет. Обстановка.
Легко, товарищ генерал, прикрываться столь вескими словами. Но известно, кто не хочет делать, тот ищет причину.
— Не увлекайтесь. Не переходите на обвинительный тон, прикрывая свои упущения.
— Не собираюсь прикрывать. Скажу прямо: ни одна застава на участке отряда не имеет отвечающим всем требованиям сегодняшней обстановки оборонительных сооружений. Полный разнобой. И все — силами личного состава застав. Мы с начальником штаба отряда определили так: на всех заставах создать круговую оборону. Дзоты с закрытыми ходами сообщений к ним. Прямо из казарм. Как было в свое время на границе с Ираном. Возглавят это дело начальник тыла и инженерной службы. Сформируем несколько бригад, сняв с каждой заставы по паре солдат, но в основном из личного состава отрядных подразделений. Это — первый шаг. Второе, доставание техники. Надеюсь, что-то выделит региональное управление, главное же — поеду лично в Душанбе с поклоном к властям. Надеюсь, они помогут. Но, повторяю, это тоже полная самодеятельность, только не заставского уровня, а отрядного. И разве плохо было бы иметь оснащенные современной техникой инженерно-саперные подразделения? Им работы — не початый край. Вот где могут альтернативно служить с великой пользой не желающие брать в руки оружие. Предвижу очень модное сегодня возражение: нет денег. Уверен, они есть. Они обязаны быть, ибо вопрос идет об охране и обороне святая святых — государственной границы страны. Позволю себе заявить, что причина не в отсутствии денег, а в отсутствии уважения к рядовому бойцу, к низовому звену офицерского состава. Молодые они — перекантуются год-другой в палатках и землянках… А жить захотят — выроют и окопы, построят блиндажи.
— Снова, товарищ майор, обобщения?!
— Продуманные, товарищ генерал, обобщения. К сожалению, не гротескные. Реальные.
Вздохнув, поднял вверх четверть страницы с несколькими пометками.
— Вот здесь одна из главных моих мыслей. Я назвал ее так: не туда гребем.
— Что, снова вселенская озабоченность?
— Именно — вселенская. Точнее, государственного масштаба. Еще в Москве, когда я сдавал сессию, увидел по телевидению парад выпускников военного института, запамятовал какого, ибо это не столь важно. Важно другое: идут по Красной площади стройными рядами молодые офицеры под маршевую музыку, а диктор захлебывается от восторга, сообщая, что все до одного выпускника продолжат службу в армии. Что, достижение вселенского масштаба или — позорище? Военные училища переиначить в институты, привлекая молодых парней дипломами инженеров, учителей, юристов. Идут охотно. Получив же твердое знание и институтский диплом, тут же пишут рапорта. Мой вывод категоричен: не приманивать нужно, а жестко отбирать тех, кто серьезно намерен посвятить свою жизнь воинской службе, особенно же делу охраны границ. Но отбирать лучших из лучших можно будет лишь в том случае, если не красивыми словами вещать о престиже офицерской службы, а красивыми делами поднимать престиж столь важной для страны профессии. Традиционно и в этом случае оправдание: нет денег. По одежке протягиваем ножки. Все так и есть. Но возникает вопрос — почему ветхая и кургузая одежонка только для бюджетников и, особенно, для армии и пограничных войск, для всей правоохранительной системы? Миллион с большим гаком живет в хороших квартирах, при хороших зарплатах. Почти в три раза стало их больше за перестроичный период, хотя Россия — не Советский Союз. Еще — необузданная роскошь властной элиты. Беспредел. А в результате мы получаем такие кадры, как старший лейтенант Чирков. То же чванство, только ростом пониже, то же самое безразличие к тем, кто на ступеньку-другую ниже. Он — пуп на клочке земли. У него юбилей, стало быть все остальное — побоку. Бороться с подобной страшной и очень заразной болезнью не так просто и, если говорить, положа руку на сердце — противоестественно. Выпускник военного училища должен за годы учебы буквально впитать в себя основы основ офицерской обязанности: не единовластелин ты, а командир. Требовательный, заботливый, в ответе за ратную умелость подчиненных, за жизнь каждого солдата и сержанта. У меня все.
В зале заседаний тишина. За живое взял майор Костюков. Их мысли высказал. Открыто, смело, не в застольных хмельных откровениях. Теперь все ждали, как отреагирует на высказанное начальником отряда председатель комиссии.
Он начал, к разочарованию многих, с подготовленного ему заключительного слова, и только когда привычно прочитал чужие мысли, перешел, теперь уже к удовлетворению большинства, к оценкам предложенного майором Костюковым.
— Мне понравились сжатость и четкость изложения мыслей, хотя он вроде бы и не открыл Америку. Каждый честный государственник видит все это, размышляет об этом, и главное не в том, что сказал майор Костюков, главное в его полной бескомпромиссности. Нам, высшим командирам, преподан урок: смелей и настойчивей ставить насущные для пограничных войск проблемы перед теми, кому их надлежит решать, оперативно внедрять то, что посильно нам самим. Даю в этом твердое слово.
Неуставные аплодисменты вспыхнули в зале заседаний.
Глава седьмая
Абдурашидбек получил точные установки, как поступить с Избранным Аллахом и его вооруженными людьми, и ломал голову над тем, чтобы и выполнить предписания, и самому не остаться в накладе. Чтобы и те, за кем последнее слово — слово Аллаха, сказали бы ему спасибо, и он сам смог бы поблагодарить себя за разумную хваткость. Обычно в таких случаях он полагался только на себя, не обращаясь к советникам — у него установилась практика: он повелевает, все остальные исполняют. Беспрекословно и точно. Кто хоть единожды ослушался или проявил нерадивость, отправлялся без всякого сожаления на самый грязный участок работы, но самую отдаленную плантацию даже не мака, а конопли, пусть тот даже обладал мудростью гюрзы и ее ядовитым жалом.
Абдурашидбек уже знал все о вооруженном отряде — знал сколько идейных сторонников халифата, сколько наемных телохранителей, сколько воров-разбойников, и теперь каждому из них определял, где их размещать после прибытия, а спустя какое-то время объявить о их месте в общей борьбе за торжество ислама. Вместе с тем не забыл и о своей персоне.
Когда Абдурашидбек основательно взвесил все на безмене, позвал так называемых советников. Разговор с ними очень короткий: дозволенная информация, затем четкие повеления кому и что делать. И каждый, кто получал задание, отвечал:
— Понял, бек. Будет исполнено, — и тут же покидал комнату.
Чем меньше оставалось приближенных, тем доверительней разговор, тем более тайные задания.
Остался один. Самый доверенный.
— Приготовь нескольких из тех, кто ловко приносит в жертву баранов в священный курбан-байрам.
— Будем приносить жертвы, — понимающе хмыкнул верный пес.
— Да. Резать как баранов, отступивших от святого дела.
— Понял, бек. Будет исполнено. Ножи наточим острее острого.
— Перекладины укрепите надежно. Чтобы никаких помех. Воля Аллаха.
— Да, мой господин. На скотном дворе приготовим все.
— Верно мыслишь. Именно — на скотном дворе.
Отправив последнего исполнителя, Абдурашидбек дважды хлопнул в ладоши, а это означало, что ему нужны пиала коньяка и долька лимона. Чтобы, как он говорил новым для себя словом, снять стресс.
Какое-то нелепое оправдание своей слабости. Не раньше чем через пару дней прибудет, если не помешает погода, первая партия из двадцати человек, и в общем-то бек был спокоен и уверен, что все пройдет нормально. Для их приема подготовлено будет все, как он повелел. Никто не станет докучать глупыми вопросами, каждый исполнит свое дело точно и споро, ему же остается одно — наслаждаться покоем да посещать гарем, теша к тому же себя мыслью о значительном богатстве, которое само идет в его руки. Он определил утаить не менее половины золота, какое непременно взял с собой именующий себя Избранным Аллахом, да еще половину того, которое наверняка спрятано где-то в Ферганской долине.
«Я сделаю так, что никто не будет знать, какую казну имел отступивший от священного дела. Не останется ни одного свидетеля. Отдам в казну партии то, что отдам».
Первая партия прошла по тропе без каких-либо особых происшествий. Самолично Абдурашидбек вышел ее встречать. Сам и проводил гостей желанных, как он выразился, в им отведенную комнату. Она просторна. В достатке в ней подушек и одеял. Есть где и расстелить не тесный дастархан. Но самое главное — у одной из стен устроена пирамида для оружия и для боеприпасов.
— Всем приготовлены вот такие комнаты, — тоном радушного хозяина пояснил Абдурашидбек, — станете в них жить, ожидая очереди на отправку в Афганистан. Туда пойдете вот такими же группами. Знайте, воины Аллаха для меня — почетные гости.
— Мой повелитель, — вставил свое слово проводник, — тот, кто привел на Алай отряд, просил, чтобы один из вот этих вернулся с сообщением, как приняли первых.
Предвидел такое желание Абдурашидбек поэтому и устроил такой вот показной прием. Продолжая игру, он даже выговорил проводнику:
— Нельзя так непочтительно именовать Избранного Аллахом и воинов Аллаха. Если услышу непочтительность еще раз, накажу! — И уже спокойно. — Пусть они решают, кто из них пойдет. С ним завтра же пойдешь и ты к Избранному.
— Понял, бек. Будет исполнено.
— Избранного Аллахом поведешь сам. Бережно. Смотри, не подведи.
— Понял, мой повелитель. Будет исполнено.
Легко дать слово, только как его выполнишь? С великой радостью, внешне не выказывая ее (не может же Избранный Аллахом соблазняться житейскими благами), воспринял доклад вернувшегося посланца первой партии. Только благосклонно кивнул, как бы говоря этим, что иначе и быть не могло. И только Азиз с Керимом начали выспрашивать подробности.
— Сам бек вышел встречать?
— Да.
— Для оружия, говоришь, пирамида?
— Удобная. При нужде быстро можно схватить. Каждый знает свое гнездо. Сам бек велел запомнить.
— Под боком бы автоматы — спокойней.
— Не волнуйтесь, все хорошо.
Ложное слово. Едва посланец с проводником покинули усадьбу бека, в комнату, где была размещена первая группа сепаратистов, вошло десятка два суровых на вид мужчин в камуфляжах. С автоматами в руках. Половина из них поспешно встала у пирамиды с оружием, остальные приблизились к возлежавшим на подушках в блаженстве.
— Встать! Выходи во двор по одному!
Связав всех одной веревкой в длинную цепочку, повели бедолаг в неизвестность.
— Куда нас? — спросил один из сепаратистов, в ответ же получил увесистую оплеуху и строгий приказ:
— Не разговаривать!
Хотя все случившееся с первой группой осталось тайной как для Избранного Аллахом, так и его апостолов, Избранный, по совету, конечно, своих соратников, твердо заявил:
— Я и мои сподвижники идем последними.
Не высказанная мысль такая: когда весь отряд соберется в единый кулак у Абдурашидбека, а это значительная сила, бек не сможет причинить ему, Избранному Аллахом, никакого вреда, если даже захочет.
Избранный Аллахом очень оберегал свой авторитет, но более всего — свою священную жизнь.
А что делать проводнику? Хозяин загонит его в тартарары за неисполнение его воли. Донельзя расстроился проводник, но поразмыслив, нашел верное по его пониманию, решение:
«Останусь здесь до конца. Поведу последнюю группу лично».
Выходило, что никакого нарушения воли бека не будет — он лично приведет всю верхушку узбекского отряда.
Группа уходила за группой, погода стояла благодатная — никаких трудностей, никаких происшествий. Ушла предпоследняя группа, и тут, как назло, небо подернулось перистыми облаками — предвестниками смены погоды.
— Хорошо бы переждать, — посоветовал проводник Азизу. — Совсем плохое небо. Если кучками облака, не страшно. Когда вот так, перо — жди пурги. Может, уже завтра.
— А может, послезавтра? Когда мы уже спустимся в долину.
— Все в руках Аллаха. Но я очень опасаюсь.
— Ладно, поговорю с решающим.
Однако Избранный Аллахом не внял предупреждению. Без всякого сомнения заявил:
— Идем завтра с рассветом. Впереди меня проводник и десять телохранителей. Сразу за мной мои министры. И ты, Азиз. Охраняют наш тыл тоже десять телохранителей. Все. Да благословит нас Аллах.
Рассвет выдался не то, чтобы хмурым, но и не веселым. Прозрачные облака покрыли небо причудливой кисеей, будто сотканной из разновеликих перьев. Но они не пугали, не настораживали. Даже проводник, привыкший в своих частых контрабандных походах к резкой смене погоды в горах, особенно на перевале, почти успокоился.
«Аллах милостив».
Далеко не для всех. Первую треть пути, не очень трудную, прошли спокойно. Ни дуновения ветерка. Небо все в тех же перьях. Тропа начала сужаться. Справа неподъемная крутизна с нависшими почти над головой пластами снега, похожими на задубевшие от мороза языки неведомых чудищ, слева — бездонная пропасть, ощетинившаяся клыкастым и крутым обрывом.
Километра три такой тропы, и только тогда — перевал. За ним уже любая пурга не так страшна — снежные обвалы, если случатся, пройдут за спиной.
Втянулись в узкость. Передовые уже миновали половину пути до перевала, и тут началось пугающее: перья начали стремительно липнуть друг к другу, превращаясь в черную тучу, резко хлестнул ветер, пока еще без снега, но это пока длилось всего несколько минут — пурга засвистела и завыла. Хлесткая, пронизывающая до самых костей.
— Прижимайся к скалам, — пошла по цепи команда проводника. — Плотней к скалам.
Перетерпеть холод можно. Не вечность же будет длиться снежный заряд. Страшно другое — снежные лавины. Страшны вот те, нависшие над головами языки чудищ. Ничто не спасет тех, кого лизнет такой язык.
К счастью, не сошла ни одна крупная лавина. Мелкие, хотя и хлесткие, вырывали из цепочки по одному, по паре несчастных и с их воплем уносили вниз, в бездонность. И когда один из таких сбросов пронесся почти рядом с Азизом, возле которого липла пара апостолов, он моментально сообразил: «Вот момент для мщения!» И швырнул апостолов в пропасть.
Вскоре послышался раздирающий душу вопль и оттуда, где жался к скалам Керим-Тульки, Лис Хитрый, хотя там никакого снежного сброса не было.
Менее получаса стегал путников заряд — небо враз совсем очистилось, ослепительно брызнуло лучами солнце и по цепочке покатилась команда:
— Вперед.
Дальнейший путь без каких-либо происшествий. Избранный Аллахом несколько раз изъявлял желание остановиться, чтобы выяснить, кто остался там, в бездонной пропасти перед перевалом, но проводник, вдруг ставший упрямым, не воспринимал его волю, передаваемую по цепочке. Он шел и шел без остановки, посылая по цепочке ответы:
— Останавливаться нельзя. Выясним о погибших на месте.
Перед самым заходом солнца группа вошла во двор усадьбы Абдурашидбека, но к удивлению всех и недовольству Избранного Аллахом бек не встретил их.
— Сейчас извещу, — оправдывая неучтивость хозяина, сказал проводник и направился к дому, и тогда Избранный Аллахом, чтобы как-то сгладить конфуз, принялся выяснять, кто погиб на злосчастной тропе.
— Нет четверых моих министров. Двое из них шли рядом с тобой, Азиз, двое других с тобой, Керим-Тульки. Вы живы, а их нет?! — он перекидывал пронзительный взгляд с Азиза на Керима, с Керима на Азиза, наливаясь гневом. — Я разберусь с этим! Сам разберусь!
— Зачем так строго, дорогой гость? — вопросил подошедший сзади Абдурашидбек. — Воля Аллаха. Он ведает кого карать. Горы не милуют грешников.
Избранный Аллахом опешил. С ним никто вот так нагло не разговаривал уже очень давно. Он резко обернулся, готовый остепенить наглеца — Абдурашидбек стоял с прислоненной ладонью к сердцу и благодушно улыбался.
— Прошу, дорогой гость, в мой дом. Ты и твои сподвижники. О телохранителях твоих позаботятся. Хорошо позаботятся.
Лису Хитрому очень не понравились последние слова Абдурашидбека, и он решил остаться с гвардией, как часто называл своих телохранителей Избранный Аллахом.
«Погляжу на хорошую заботу».
Азиз хорошо знал, что Керим ничего просто так не делает, поэтому не позвал его с собой, хотя сам зашагал вместе с министрами в дом хозяина.
«Что-то не так…»
Избранный Аллахом тоже, похоже, засомневался. Вполне настойчиво он предложил Абдурашидбеку:
— Я бы очень хотел, уважаемый бек, прежде того, как мы сядем за дружеский дастархан, повидаться со всеми своими сподвижниками. Сказать им свое ободряющее слово.
— Воля гостя — священная воля. Но разве убежит куда-то время? Разве по воле Аллаха не наступит завтрашний день? Вознесем же ему достойную славу.
Хозяин говорил, не останавливаясь, давая понять тем самым, что все пойдет по им намеченному плану. Он, а никто иной, здесь властелин.
Вел же он гостей в домашнюю мечеть, говоря при этом:
— Время вечернего намаза еще не подошло. Правоверные еще не позваны с минарета к вечерней молитве, но Аллах всемилостив, он простит нашу поспешность: гости утомились в дороге и проголодались.
Точно по счету вошедших — молитвенные коврики. Первым Абдурашид-бек снял галоши с ичигов и взял коврик, а что делать гостям? У них на ногах не ичиги, а сапоги. Пришлось их стаскивать, икая от натуги и кряхтя: апостолам очень мешали их округлые животы, похожие на наполненные кумысом или кислым молоком бурдюки. Азизу проще, он еще не успел отрастить живот, поэтому первым после Абдурашидбека взял молитвенный коврик и расстелил его рядом с ковриком бека. Тот, уже опустившийся на колени, посоветовал Азизу перед молчаливой молитвой:
— Возблагодари Аллаха, пусть благословит наш с тобой дружеский разговор, который предстоит.
Странно, почему с ним одним и почему именно с ним, а не с Избранным Аллахом? Не до молитвы Азизу, лихорадочно крутятся мысли вокруг весьма загадочного совета, хотя высказанного и вполголоса, но очень твердо.
Поклоны меж тем Азиз бил старательно, и лицо его ничего не выражало, кроме смирения. Он умел владеть собой.
Молились все. Благостная тишина мечети нарушалась только трудным сопением министров несостоявшегося правительства и самого главы этого правительства. Ох им и тяжко было бить поклоны — мешали животы, не было к тому же привычки. Невозможно было даже предположить, что вот эти, возомнившие о себе невесть что, свершали ежедневно пять молитв, положенных правоверному.
Долго длилось их мучение. Никто не смел подняться с молитвенного коврика прежде бека, а он, казалось, весь ушел в себя, даже не слыша громкого сопения. Он словно напрямую общался с Аллахом или, по крайней мере, с пророком Мухаммедом и наслаждался этим общением.
Вот, наконец, Абдурашидбек последний раз ткнулся лбом в коврик, провел молитвенно ладонями по щекам и бороде, как бы сметая все невольные грехи с лика своего, и встал. Кряхтя, поднялись и гости, ожидая, что скажет хозяин. Но кто-то направился к своим сапогам, тогда Абдурашидбек посоветовал:
— Не надевайте обуви. Мы не ступим на землю. Пройдем по коврам.
Пошли по другому коридору, более широкому, устланному персидскими коврами ручной работы, — мягкими, ласкающими уставшие ступни ног.
Просторная комната с множеством ниш, в которых уложены стопы одеял и горы подушек, что показывает великий достаток хозяина… В центре комнаты — дастархан, расстеленный, как и надлежит, на ковре. На дастархане — блюда с источающим головокружительный аромат пловом, столь же запашистые лепешки и пиалы, наполненные коньяком… И пиал, и по паре подушек точно в соответствии с количеством гостей. Все это как бы подчеркивает великую гостеприимность хозяина.
Впорхнули мальчики-бачагары с кумганами, тазиками и махровыми полотенцами, чтобы умыть руки хозяину и гостям перед трапезой.
Вот омовение окончено, Абдурашидбек поднял пиалу:
— Бисмилло Рахмон и Рахим!
Хором повторили гости здравицу Аллаху, осушили с жадностью греховный напиток и, подтянув рукава повыше, запустили пятерни в плов. Сам же хозяин, глотнув пару глотков коньяка, отправил в рот ломтик лимона и только после этого взял из поставленного перед ним отдельного блюда щепотку плова. Все это он делал бесстрастно, с постным лицом, которое полностью скрывало его мысли.
Азиз тоже придал своему лицу полное безразличие к тому, что происходит вокруг, мысли же его метались, как запертый в клетку дикий волк, изловленный ловкими охотниками… Он недоумевал: неужели вот эти, живоглотом отправляющие пригоршни плова в свои бездонные животы, не понимают игры хозяина в гостеприимство? Ни при встрече, ни теперь он не поинтересовался здоровьем одолевших трудный путь, не спросил, здоровы ли их дети, как это принято при встрече друзей. И приветственного тоста не произнес. Разве так должен вести себя хозяин, пусть покровитель, играющий в их сегодняшнем положении важную роль?
«Что-то не так. А слова о предстоящей беседе? Явный отказ от встречи с остальными. Вопросов много, ответа ясного нет. Похоже, влипли».
Очищены блюда с пловом. Впорхнули бачагары с кумганами и тазиками. Вымыты руки, и подан чай со сладостями в хрустальных вазах. Абдурашидбек продолжает молчать, вдыхая ароматный парок со струйками чая так увлеченно, будто ничего больше его не интересует в данный момент.
Еще добрых полчаса пили чай за молчаливым дастарханом, но вот Абдурашидбек приподнял ладонь, давая понять, что намерен говорить и призывает ко вниманию.
— Вы не можете сказать, будто я не исполнил обязанностей хозяина. Я не согрешил перед Аллахом. Теперь я вправе сказать то, что должен сказать, свершить то, что должен свершить по воле Аллаха.
Сперло дыхание у министров не состоявшегося правительства не состоявшегося свободного мусульманского государства: первые слова бека не предвещали ничего доброго.
— Вот ты, именующий себя Избранным Аллахом, разве не знал конечной цели нашей борьбы?!
— Халифат. Великое мусульманское государство. Более великое, чем держава Бабура, кому покровительствовал сам Сулейман-пророк.
— И ты во главе халифата. Ты? Так?!
Избранный Аллахом засопел гневно. Какой-то самозванный бек смеет с подобной грубостью разговаривать с ним!
— Не хочешь отвечать мне? Не нужно. Твою судьбу уже решили те, кого Аллах действительно благословил на великое дело. Они обвиняют тебя во многих смертных грехах, сказать же о них поручено мне.
— Я действовал во благо. По воле Аллаха.
— Не кощунствуй. Воля Аллаха не может быть во вред священному делу. Помолчи и послушай приговор, Именем Истинно Избранных, — маленькая пауза, и еще более грозный голос. — Ты знал, каких многолетних усилий и каких денег стоило создание партии Освобождение Ислама — партии борцов за халифат! Ты знаешь, что сегодня наша партия оплела паутиной Иран и Турцию, почти все Арабские страны, Узбекистан, Туркмению, Киргизию, Азербайджан, некоторые Восточные страны, но самое главное — Россию. Чечня одна чего стоит! Сотни наших людей в Москве, сотни в других крупных городах, особенно по берегам Итиля и в Сибири, где в прошлом процветало Сибирское ханство. Ты знал об этом, но это не помешало тебе разорвать единую цепь, сделать прореху в паутине! С непредсказуемыми последствиями!
— Не обоснованное обвинение. Все мои действия во имя халифата.
— Зачем лукавить? Разве ты испросил позволения у Истинно Избранных?! Разве действовал по согласованию с ними?! Ты намерился стать выше всех! Ты преступил порог дозволенного! Молчи и слушай!
— Подчиняюсь, хотя не согласен.
— Для чего тебе было велено пригласить, — вроде бы не слыша реплики отступника, продолжал Абдурашидбек, — к себе в гости процветающего предпринимателя Азиза. Уговорить его встать в наши ряды, так? Поистине так. Не с автоматом в руках. Его вклад — деньги. Как ты поступил с ним? Твои подручные, кого ты приманил должностями министров, унизили достойного уважения, называя его прежней воровской кличкой, ограбили его и заключили в зиндан. Для чего? Чтобы он собрал всех воров Ферганской долины под твои знамена отступника! Разве это угодно Аллаху?! Шариатское государство, завоеванное руками грабителей, убийц, воров-разбойников — смертельный грех. Разве ты не знал, что Азиз-ага нужен нам в Москве?! Отвечай!
— Знал, — упавшим голосом признался Избранный Аллахом.
— Это усугубляет твою вину. Ты очистишься от страшного греха так: все взятое с собой пусть твой казначей передаст мне лично в твоем присутствии. Я мог бы взять твою казну сам, но поступлю строго по закону — дам расписку, чтобы затем все деньги переслать в общую кассу борцов за халифат. И еще ты сейчас же напишешь письмо и отправишь его с казначеем тем, у кого ты оставил казну Азиза-аги. Посланцу твоему я дам адрес, кому он передаст деньги и драгоценности.
Абдурашидбек по поводу казны узбекских сепаратистов продумал все да мельчайших деталей. Из того, что он сейчас изымет у отступника от пути Аллаха, он возьмет только третью часть, ибо никто не поверит ему, что узбек, убегая в горы, с собой ничего не взял. Остальные две части передаст Истинно Избранным. Жалко, конечно, выпускать из рук миллионы долларов, но голова дороже. Да и оставленные деньги — очень хороший припек к его и без того не так уж малого капитала.
Письмо, которое напишет главарь отщепенцев, он не даст в руки казначею. Оно будет находиться у проводника. И там, за перевалом, на самом узком участке тропы, казначей ненароком поскользнется, и бездонная пропасть проглотит его, как глотала не один десяток неугодных беку людей. Проводник же, обождав еще двоих напарников, прошмыгнет с ними до Гульчи, оттуда, уже с надежными документами, путь его через Ош в Андижан. Из той казны он принесет не более четверти, остальное передаст по указанному адресу. После возвращения тут же он и его напарники, ни с кем не встретившись, исчезнут. Испарятся. И никаких следов. Кто сможет обвинить его, Абдурашидбека, в нечестности, а вот благодарность Истинно Избранных он получит за весомое пополнение партии борцов за великий халифат. С такой казной их партия значительно повысит свой авторитет среди других партий, тоже имеющих цель создания великого мусульманского царства.
— Мы уединимся в другой комнате, где ты, именующий себя Избранным Аллахом, получишь бумагу и ручку. Туда же приведут твоего казначея. Не вздумай утаить хотя бы малую малость. Я обязательно узнаю об этом, и ты проклянешь тот час, когда родился. Пошли.
Избранный Аллахом побитым псом побрел вслед за Абдурашидбеком. Куда делись его надменность, его вроде бы природная величавость.
Борода уткнулась в грудь, удерживая голову от падения. Даже живот, прежде тугой как рекордный арбуз, беспомощно обвис. Мокрая курица, а не вождь верных своих сподвижников.
Апостолы тоже скуксились. Только теперь они поняли, что ничего хорошего ждать им не приходится. То сытое житье, то гордое величие правителей будущего царства, какое они создадут своими руками, остались в прошлом чудесным сном. Впереди — жутковатое неведомое.
Чай в пиалах остывал, халва, миндаль в меде, подернутый инеем виноград, слегка подсушенный инжир и все остальные прелести дастархана оставались нетронутыми — все молча переваривали в своих оплывших жиром мозгах случившееся, пытаясь представить будущее. Апостолы боялись даже громко вздыхать. Но какими бы черными красками ни рисовался их завтрашний день, они даже подумать не могли, что ждет их всего через полчаса.
Да, им действительно пришлось ждать полчаса, взирая безразличными глазами на аппетитный дастархан, постепенно смелея. Они даже начали вздыхать, не слишком сдерживаясь.
Вот, наконец, вошел к ним звероподобный полван. С первого взгляда виделась его недюжинная сила.
— Вознесите благодарственную молитву Аллаху за сытный ужин перед жертвенной смертью. После молитвы вас проводят на скотный двор. Там уже ждут вас бек и ваш главарь. Буду ждать и я. Вот с этим ножом.
Только теперь апостолы увидели внушительный кривой нож на поясе силача. У многих подкашивались ноги, когда они вставали. Таких поволокли ворвавшиеся в комнату дюжие молодчики. Так волоком и втащили их на скотный двор, вид которого лишил сил даже тех, кто дошагал сюда на своих ногах. Только Азиз стоял со спокойной гордостью, взирая на сооружения, очень похожие на футбольные ворота, стоявшие в один ряд.
Одна лишь разница: не сетки закреплены на перекладинах, а с них свисали до самого пола парные петли и у каждой такой пары стоял крепкорукий мужик.
Азиз почему-то не чувствовал для себя никакой опасности. Ему виделась во всем происходившем какая-то коварная игра.
«Запугать хочет. Чтоб смирней овец стали».
— Азиз-ага, подойди ко мне, — позвал его Абдурашидбек. — Твое место вот здесь. Рядом со мной. Посмотришь на позорную смерть своих обидчиков.
Выходит — не игра. Значит, действительная казнь всех, кто возомнил себя способными стать во главе всего будущего исламского государства. И жалко Азизу зазнавшихся и тешила мысль об отмщении. Плохо, конечно, что не своими руками, но это не столь важно.
О том, что дальше будет с ним самим он в тот момент вообще не думал.
— Велик Аллах и Мухаммед его пророк! — возгласил громко Абдурашидбек, молитвенно проводя ладонями по щекам и по бороде, затем приказал: — Приступайте к исполнению воли Аллаха Всемилостивого, волю Истинно Избранных и Аллахом благословленных на священное дело борьбы с неверными!
Главу отступников, обмякшего окончательно, подволокли к первой паре петель, накинули их на босые ноги, и стоявший у этих петель подручный палача резко потянул продетые через кольцо веревки, не обратив даже внимания на то, как гулко стукнулся спиной и головой о землю обреченный.
Когда Избранный Аллахом повис головой вниз, подошел, явно красуясь, тот самый силач, который с издевкой предал апостолам волю властелина своего о предстоящей жертвенной казни. Он с явным удовольствием ощупал своими цепкими пальцами шею подвешенного на петлях как жертвенного барана, как бы определяя, где удобней полоснуть ножом, затем ловко выхватив из ножен бритвенно острый кривой нож и воскликнув: «Бисмилло Рахмон и Рахим», полоснул чуточку выше кадыка.
— Велик Аллах! — вздернув руки вверх, удовлетворенно провозгласил Абдурашидбек и уже гневно: — Следующего!
Небольшой двор, огороженный высоким дувалом, наполнился противной вонью, резко выделившейся из твердого запаха скотного двора, и Абдурашидбек прикрыл платком нос, недовольно проворчав:
— Пакостить горазды, а как отвечать — наложили полные штаны.
Один за другим подтаскивали апостолов к петлям, вздергивая безжалостно их за ноги, и палач, не забывая возглашать: «Бисмилло Рахмон и Рахим», ловко перерезал жертве горло… Руки его по самые локти были в крови, рукоять ножа стала липкой, но палач, похоже, наслаждался этим, как анашист наслаждается, вдыхая из кальяна душистую анашу.
«Может, помилует бек последних?»
Нет, ни одного не оставил он в живых, и дело не только в его жестокосердии, Даже не в том, какое распоряжение поступило от Истинно Избранных — дело все в той же казне. Вдруг кто-то из этих безвольных трусов знает, сколько денег взял с собой их глава, и при удобном случае подложит свинью. Трусливые — всегда пакостники. Ему же нужна полная тайна свершенных денежных изъятий.
Только когда последнего апостола принесли в жертву, Абдурашидбек повернул лик свой к Азизу.
— Пошли. Вознесем славу Аллаху, после чего побеседуем.
Нам с тобой, Азиз-ага, многое предстоит обсудить.
Домашняя мечеть. Долгие молчаливые поклоны и вот — устланный дорогими коврами кабинет. Ковры на стенах не сплошь, а пятнами. На них — кривые сабли басмаческих времен и клинки красноармейцев, кривые азиатские ножи с изящными серебряными рукоятками и трехгранные штыки от трехлинеек. Прикреплены к коврам даже штык-ножи от автоматов. В нишах же не подушки с одеялами, а хрусталь. По виду очень дорогая комната. В центре комнаты — сандал, покрытый не по обычаю одеялом, лишь кисеей с алыми цветами на зеленом поле.
— Садись, уважаемый гость. Если есть желание, нам сейчас же принесут плов.
— От чая не откажусь.
Абдурашидбек хлопнул в ладоши и повелел впорхнувшему бачагару:
— Быстро чаю, — затем к Азизу. — Зеленый ароматный чай придаст беседе доверительность.
С самых первых слов Абдурашидбека Азиз определил, что беседа приняла слишком доверительный характер.
— Ты и твой духовник Керим-Лиса могли бы разделить участь принесенных в жертву, но вас спасли ваши поступки. К тому же ни ты, ни Керим-Тульки не трусы. Уверенные в себе, знающие себе цену.
— Спасибо.
— Спасибо не мне. Спасибо себе. Мы знаем, кто дал весть Каримову о заговоре отщепенцев. Керим-Тульки не ради пользы священного движения за халифат сделал это. Как я понимаю, им руководила месть за попранное достоинство вожака, за нарушение уговора, но вода полилась на общий черполах. Наша партия избежала полного раскола. Осталась трещина. Она зарастет. Впрочем, если Каримов поделится материалами допроса с Москвой и другими бывшими республиками Союза, многим нашим людям придется коротать годы и годы за решеткой.
— Можно увести людей из-под удара.
— Конечно. Только такой шаг покажет тем, кто поддерживает нас долларами и фунтами, нашу слабость, а это — ущербно. А люди? Посадят одних, их заменят другие. Нас очень много.
«Не дорого же ценит он своих сподвижников, кто на самом острие» — с неприязнью подумал Азиз. Сам он всегда старался спасти каждого из своих бояр, даже пескарей, делающих свои первые воровские шаги, если не решено на совете бояр подвергнуть новичка испытанию колонией. Он дорожил всеми, и этим поддерживал свой авторитет.
Я слышал, как окрысился на тебя, Азиз-ага, самозванец, и я понял: ты и твой духовник столкнули в пропасть называвших себя министрами. Так?
— Так. Они унизили меня. Они не сдержали слова, какое дали мне. Они сами себе подписали смертный приговор. Мы его утвердили на совете бояр.
— Я облегчил тебе жизнь.
— Да. Я — отмщен.
— Голая месть — не спутник великого святого дела, хотя и не осудительна.
— Что будет со мной? Что ждет мою малину? Что станет со всеми остальными?
— Ты вернешься в Москву. К своей жене.
— У меня нет жены. Как мне сказали апостолы самозванца, она сошлась с казначеем общага московских авторитетов. Я отберу у нее сына и найду ему мать, а себе верную жену.
— Верное слово мужчины. Ты мог бы, вернее, обязан был свершить подобное, не свяжи тебя судьба с великим, угодным Аллаху делом. Ради будущего торжества мусульманства, ради могучей державы, более могучей, чем держава Великих Моголов Бабура под покровительством Сулеймана-пророка, который простер руку и над нами — ради всего этого ты честью мужчины поступишься.
— Но почему я должен сам топтать свою честь. Разве без этого я не смогу быть полезным? У меня в Москве раскручен крупный и очень доходный бизнес.
— Отвечу. Ты оказался близоруким и не видел, как твоя коварная прибрала к своим рукам все твое имущество. Когда ты вернешься, поставишь условие своей ханум, что четверть доходов ты отчисляешь нам, и постепенно начни возвращать в свои руки все твои прибыльные заведения. Когда добьешься этого, тогда — мсти. Со всей жесткостью. Тебе ли объяснять, как карается измена?
— Если я возвращаюсь в Москву, пусть вернутся обманом собранные малины в свои города. Они станут отстегивать в общаг вашей, поправился, нашей партии солидные суммы.
— Я думал об этом. Я советовался со штаб-квартирой. У нас иные намерения. Мы отпускаем всех твоих бояр вместе с Керимом-Тульки. Он действительно хитрый как лиса. Он имеет умную голову. Он сможет какое-то время, наверное, чуть больше полгода возглавлять малину.
— Но я не хочу оставлять ее без своего глаза.
— Пока ты вынужден будешь это сделать. Я объясню тебе, почему. Но прежде давай договорим об остальных. Всех паханов, как у вас принято называть главарей банд, мы отпустим. С частью бояр по их выбору. Пусть едут в свои города. Они станут пополнять казну нашей партии. Остальные бояре послужат великому делу, пополнив ряды ходоков с наркотиками. Российские кокаскеры для нас — кость в горле. Они неподкупны. Нам все время приходится заботиться о пополнении ходоков. Что касается так называемой гвардии самозванца, она будет использована по назначению. Все они встанут в ряды воинов Аллаха. После, конечно, должной подготовки. Кто не согласится, сделает себе хуже. Во всяком случае, в свой дом они не вернутся. Тем же, кто с верой в конечное торжество ислама примкнул к самозванцу, не сумев разобраться в его коварстве, мы откроем глаза. Наиболее смелых и смекалистых мы станем готовить для тайной заброски в Россию, Турцию, Иран, Азербайджан и иные страны, какие мы намерены собрать в единый халифат. Они понесут наше слово правоверным, готовя их к подвижничеству, когда наступит нужный момент… Ну, а те, кто не сгодится на такую роль, станут работать на плантациях мака и конопли, в цехах, где готовят чистый героин и добрую анашу. Так определена судьба тех, кто оказался волей Аллаха под моей властью.
Сразу же, как бек умолк, без всякого его приказа в комнату впорхнули, даже не постучавшись, бачагары. Они внесли блюдо с пловом, золотой кумган с теплой водой для омовения, и пару мягких махровых полотенец.
— Омоем руки, — предложил Азизу Абдурашидбек и подставил свои ладони под струйку воды. Руки он не стал вытирать, только промокнул пальцы мягким ворсом.
«Все по обычаю. Рядится или в самом деле правоверный всей душой?»
Пойди разберись. Одно ясно: ни одного слова не сказал он впустую, ни одного жеста не сделал без пользы для себя.
Азиз старался подражать хозяину. Даже в том, как тот молитвенно проводит ладонями по щекам и бороде, хотя у самого Азиза настоящей бороды не было, только густая щетина, до которой давно не касалась бритва, покрыла подбородок и скулы, до самых висков, что придавало лицу неряшливый вид. Но кому на это обращать внимание? Главное, проведи по щетине ладонями и восславь Аллаха, даровавшего такой запашистый плов.
После плова — не чай, а дыня. Сладкая, хрустящая. Давно Азиз не ел такой дыни. Даже в Москве, имея достаток и полную возможность побаловать себя. Лежалая дыня, пусть всего лишь сутки, теряет и вкус, и аромат.
Отдавшись вроде бы полностью наслаждению, Азиз вместе с тем нетерпеливо ждал, когда же Абдурашидбек скажет, что предопределено ему лично. Почему он сказал о полугодовом сроке? Неужели все то время он станет удерживать его здесь? Не может быть.
— Чай после дыни, — предложил бек. — И продолжим наш с тобой разговор.
«Давно пора!»
Разговор Абдурашидбек действительно начал сразу же, как унесли пиалы и фарфоровый чайник, почти наполовину опорожненный. Точнее будет, не разговор, а рассказ. Для Азиза не совсем понятный, но весьма занимательный. О брате своего деда, о сбежавшей из гарема строптивице, о ее сыне, ставшем начальником отряда на Алае и долго водившего его деда за нос. Вел племянник с дядей ловкую игру, раскрылась которая случайно.
Абдурашидбек осуждал своего деда за верхоглядство, вовсе не подозревая, что и с ним самим затевается крупная игра, которая позволит разоблачить большую тайную ячейку партии Освобождения Ислама. Но это еще грядет, он же рассказывал о прошлом, вводя в полное недоумение гостя.
, «К чему все это? Но не пустословие же. Какая цель?»
Проясняться начало, когда Абдурашидбек заговорил о нападении на заставу, которая как бельмо на глазу, как заноза в боку, стоит возле острова, где давным-давно оборудован в тугаях тайник для накапливания наркотиков.
— Чуть было не закрылся тот очень доходный канал, но Аллах соблаговолил благословить очень надежного правоверного, и канал тот продолжает действовать. Но ишак начал подозревать, будто офицеры заставы стали к нему приглядываться пристальней. Особенно лейтенант-узбек. Вот и решено было покончить с теми кокаскерами, пока дело не приняло крутого оборота.
Абдурашидбек вздохнул тяжело, словно необратимая тоска давит его сердце, хлопнув в ладоши, велел бачагару принести чай. Стало быть, долгий перерыв. Как в сериалах: на самом интересном заканчивается очередная серия. Чего ожидать дальше?
Дальше последовало только после второй неспешной пиалы: — Нападение готовил я с помощью наших сторонников в Душанбе. Ишак, уважаемый в Таджикистане депутат, знал только о дне нападения. Его задача была приехать на охоту через день-два после разгрома заставы и в горячке событий посоветовать перенести ее на новое место. То есть подальше от острова. Не все нам удалось. Один из офицеров остался живым, и это плохо. Одна надежда: он не станет молоть языком о своих подозрениях, не доложит о них начальству. Пока этого никто из них не сделал. Появись подобный доклад в органах Душанбе, нам стало бы сразу известно.
Наивное утверждение. Исмаила Исмаиловича уже начали раскручивать, но так тайно, так умело, что исключена самая малая утечка. Что же, пусть пока тешатся благодушными мыслями, тем значительней будет нанесен ответный удар.
— Вроде бы наш отряд воинов Аллаха внезапно напал на заставу, так во всяком случае считают Истинно Избранные. Они даже похвалили меня. Но я больше чем уверен: знали пограничники о нападении. Они приняли меры, но не те, какие нужно было бы принять. Я оказался дальновидней их. Главное, однако, не в этом. У себя в комнате не оказалась та, которую должны были схватить и привезти ко мне. Кто-то ее успел предупредить. Более того, кто-то успел ее спрятать. Кто? Очень хочу узнать, но не могу. Начни я поиск истины, буду вынужден признаться Истинно Избранным в своей неудаче с заставой, да еще и в самовольстве. Мне никто не давал права совмещать важное партийное дело с личным.
«Да, откровенность невероятная. Он дает мне козыри в руки. Неспроста».
И вот, наконец, главное:
— Но я не могу не выполнить завещанное дедом, завещанное отцом. Не могу не смыть позора с нашего славного рода. Гульсара должна быть в моем гареме. Я посещу ее всего один раз, потом оставлю без внимания на всю жизнь. Хороший урок для нее. Пусть терзается.
— Вы хотите поручить мне организацию похищения?
— Нет, Азиз-ага, не организацию, а само похищение.
«Еще не легче».
— Ты сразу же, как мы отправим твоих бояр и всех главарей других малин по своим домам, начнешь тренировки. К горам нужно привыкнуть. Они не любят неумех. Тебе же нельзя не быть с ними в дружбе. Тебе придется сходить по тому пути, каким предстоит пройти с Гульсарой. Проводник покажет тайную тропу, которая проходима для тренированных. Отпускаю тебе на подготовку полгода.
— Зачем так много?
Нахмурился Абдурашидбек. Недоволен. Он не выносил подобных уточнений, какие больше похожи на возражения. Азиз заметил это, но не втянул голову в плечи. Не уподобился черепахе.
«Ничего, проглотит» — решил он и уточнил:
— Мне достаточно месяца два, самое большое — три.
— Не уподобляйся младенцу, — подавляя гнев, ибо видел в Азизе единственного исполнителя столь ответственного и очень опасного задания, — проговорил сравнительно миролюбиво Абдурашидбек, — кокаскеры получили солидный удар, и нужно время, чтобы они успокоились. Время сглаживает остроту восприятия опасности, и если еще не так часто понесут через границу анашу и опий, а мы сможем повлиять на нескольких контрабандистов одиночек, тогда и вовсе кокаскеры начнут обрастать жирком.
Больше Азиз не возражал. Он понял: не переупрямить упрямца, тем более, что продумал бек, похоже, план до самых мелочей. Он раскусил замысел бека, и не стал ждать, когда о нем более подробно заговорит хозяин. Он хотел навязать свою волю:
— Если я пойду за девой, мне не нужно будет много людей. Я выберу самого ловкого и сильного из моих бояр.
— У меня другой расклад. Спутником тебе станет один из моих телохранителей. Лучшего тебе не найти. Что же касается людей, их будет много. Только их нельзя посвящать в то, что готовится. Пусть они знают только свою задачу, не более. Когда вы пойдете по предстоящему маршруту, определяйте места остановок для отдыха. Гульсара не натренирована. В гарем доставлена она должна быть живой и здоровой. Определите места, где можно ехать на ишаке. Они станут ждать вас в указанных вами местах. Но повторяю: погонщики ишаков ни в коем случае не должны знать, кого они станут встречать. На Гульсару наденьте обязательно паранджу. Не новую и дешевую. Серую. Пусть не бросается в глаза. Все. Время вечернего намаза. Время ночных утех. Для тебя приготовлена дева-огонь. Станешь благодарить меня и Аллаха. Завтра к полудню мы с тобой выезжаем туда, где все твои люди. Я больше года не посещал свои горные владения и горную базу. Погляжу, может, что исправлять нужно или добавлять?
Сказать, что увиденное в горах удивило Азиза, стало быть, ничего не сказать. Оно потрясло его. Его, видевшего виды, прошедшего крымы-рымы и медные трубы. Плотно пообедав, они выехали на внедорожнике и ехали на нем около часа по довольно сносной дороге, затем пересели на ишаков, ходких и выносливых, после чего еще добрых пару часов шли по узкой едва приметной тропе, петлявшей между острозубыми скалами, и вот долина. Не так, чтобы глубоко внизу, но все же за длинным спуском.
Долина как долина. Зеленотравная. Чем ниже, однако, они спускались, теперь уже не по петлястой тропе, а прямой, как натянутый аркан, тем яснее Азизу становилось, что вид сверху обманчив — она цвела маком, ряды которого шириной как раз по маскировочной сетке тянулись от края и до края долины, а в подошвах крутых склонов, замыкавших долину, — цепочка рукотворных гротов, даже пещер, сверху тоже не видных, так продуманно выбраны для них места.
Их встречали. Священнослужитель внушительных размеров в полосатом шелковом халате и зеленой чалме, что говорило об особом положении его в мусульманской иерархии. Справа и слева от него, с меньшей осанистостью, вышагивали довольно поджарые управляющие. Один из них отвечал за плантацию, другой — за изготовление высококачественного опия.
— Почему бездельничают люди?! — строго спросил бек. — Нет ни одного человека на плантации, а еще далеко не вечер!
— Мы специально загнали их в пещеры к вашему прибытию, бек. Зачем им видеть своего хозяина. Еще сглазят. Они хотя и послушны, если еще над их головой весит камча, но разве можно сказать, что мысли у них добрые. Позавчера пришлось пристрелить двоих, собравшихся бежать.
— Строгость — верный путь к обузданию строптивых.
— Не знаем, что им еще нужно? Едят сытно. В пещерах ни жарко, ни холодно. Работа посильная.
— Свобода! — патетически возгласил широкоскулый в зеленой чалме, огладив ладонями щеки и холеную бороду. — Свобода! Им нужна пещера-мечеть, где бы они могли свободно славить Аллаха.
— Верное слово, почтеннейший. Пришлю взрывчатку и подрывников. Остальное — своими силами. Через месяц меня известите, что мечеть готова. Я пришлю священнослужителя.
Их провели в просторную пещеру. Полумрак ее смягчали светлые ковры на стенах и такой же светлый ковер, сотканный по размеру комнаты в пещере. Возлегли на подушках.
— Есть ли присланные мною новые? — сразу же перешел к делу Абдурашидбек.
— Да, мой повелитель.
— Уяснено, кто такие?
— Да, мой повелитель. Все из воров Ферганской долины. Коканд, Наманган, Маргелан.
— Нет ли из Багдада? — спросил Азиз.
— Нет. Из Багдада нет.
— Вы оба, — повелел Абдурашидбек управляющим, — сейчас же приведите сюда главарей.
— Все понятно. Будет исполнено, — выпалили в один голос управляющие и удалились из комнаты.
Буквально через несколько минут в комнату дюжие молодцы впихнули четверых авторитетов, набычившихся, весьма недовольных грубым к ним обращением.
— Я сказал — приведите! А вы?! — осерчал не показно бек. — Мою волю нужно исполнять точно, если хотите иметь головы на плечах, а не самовольничать, — и к Азизу. — Говори нашу с тобой волю.
— Вы возвращаетесь в свои города. Вместе с собой берете по своему выбору по десять бояр.
— Остальные?
— Они тоже не останутся здесь. Их ждет более привычное для них дело.
— Мы совсем свободны?
— Как может быть свободным правоверный от воли Аллаха? — Вопросил мулла в зеленой чалме. — Вы станете помогать нашей партии. Партии Освобождения Ислама.
— Только деньгами, — уточнил Азиз. — Четверть от общага.
— Устраивает.
Снова вспыхнуло гневом лицо Абдурашидбека, но и на этот раз он сумел сдержать себя. Почти спокойно бек повелел управляющим:
— Завтра отправьте всех в мою усадьбу. Сразу после нашего ухода.
— Все понятно, бек. Будет исполнено.
— Мы здесь переночуем, а завтра утром пойдем обратно.
Абдурашидбек лукавил. На следующий день они не вернулись домой, даже не спустились на дорогу, где ждала их машина. Дошли только до ишаков, проехали на них немного по прежней тропе, затем круто свернули вправо, на столь же неприметную тропу, тоже извивающуюся между скал. Ехали сколько можно, затем спешились.
На сей раз пешком идти им пришлось еще дольше, причем по тропе, идущей круто вверх. Абдурашидбек обливался потом, сопел, иногда даже проклинал нечистую силу, которая назло Аллаху навалила на землю так много камней.
— Чем вы недовольны, уважаемый бек, — отреагировал на никчемную сердитость Абдурашидбека Азиз. — Вам нужно быть благодарным Аллаху. Здесь, вот в этих горах, сокрыто все ваше, бек, богатство. Ваше могущество.
— Ты много говоришь лишнего, Азиз-ага.
«И вправду, стоит быть осторожней. И хитрей».
Больше он не допускал вольностей, хотя ему иной раз очень хотелось осадить чванливую глупость Абдурашидбека, привыкшего ни в чем себя не сдерживать, если не решался какой-либо деловой вопрос. Только тогда он выверял каждое слово.
Еще одна плантация, подобная первой. Отсюда тоже отпущены паханы с отобранными ими боярами, а следующая, конопляная, без маскировочных сетей, ибо коноплю не так просто разглядеть сверху, а вершины, окружающие внушительную долину, не позволят вертолету пролететь низко. Народу на этой плантации, особенно в цехах первичной переработки конопли, тоже устроенных в каменной тверди, намного больше, чем на маковых. Азиз даже не выдержал:
— Как удается все это укрывать от властей?
— Любая власть не откажется от сладкого кушанья и от мягкой постели. А те, кто хотел найти тропы к плантациям, особенно к тренировочной базе, терялись в горах. Их так и не смогли найти. Горы, слава Аллаху, укроют все.
Переночевав в рукотворной пещере и похвалив управляющего за усердие в поставке сырья, Абдурашидбек с Азизом ушли еще глубже в горы, на ту самую базу, куда были отправлены наемные телохранители и бояре малины Багдадского вора.
Вот это размах. Есть все для продуктивных тренировок, для обучения боевому единоборству, особенно же стрельбе из всех видов оружия. Здесь же находилась лаборатория, где обучали готовить самостоятельно мины, фугасы, а для смертников — пояса шахидов.
По приказу Абдурашидбека быстро собрали всю малину Багдада, которую здесь уже назвали отрядом, поставив во главе его Керима-Лису и присвоив ему громкий титул. Вроде генеральского.
Азиз с Керимом обнялись, трижды прикоснувшись щеками. Керим в это время спросил почти беззвучно:
— Вызволять приехал или…
— Вызволять.
Азиз хотел первым сказать приятное своим боярам, однако Абдурашидбек опередил его:
— Вы вместе со мной и вашим вождем пойдете в мой дом. Оттуда — в свой Багдад. Через Гульчу и Ош, где вам в случае чего помогут. Продолжите свои воровские и разбойные дела, но более смело: вам станут покровительствовать люди нашей партии, уводя вас из-под ударов прытких правохранителей, верных президенту. Четверть дохода — в казну нашей партии на святое дело. Подробную инструкцию получит Керим-Тульки, который будет вашим вожаком до тех пор, пока не вернется вами почитаемый Азиз-ага..
Бояре не проявили особой радости. Выходит, полусвобода. А они уже испытали на себе, чем оборачивается связь с сильными мира сего… Хотя они, конечно же, были довольны, что их отпускают домой. И еще они поняли, что их пахан пренебрег своей свободой ради их освобождения. Когда он вернется? И вернется ли вообще. Впрочем, Лис Хитрый тоже ловок и умен. С ним наверняка не пропадешь. Крепко станет держать малину в руках.
Глава восьмая
Майор Костюков нервничал. Он каждое утро звонил по оперативной связи в Душанбе, задавая один и тот же вопрос:
— Решено?
Ответ обескураживал — застряло в каких-то инстанциях. Не выдержал однажды Костюков и выпали: не рук ли это дело халифатистов, какие проникли в самые верхи?
— Без обобщений, пожалуйста. Оставь подобные выводы для внутреннего пользования.
— Хорошо. И все же мне не очень понятна волокита.
— Нам — тоже, но мы не очень-то можем повлиять.
Дело в том, что министр обороны Таджикистана сразу же дал согласие на поход в горы спецназовцев — для ликвидации базы. Даже пообещал отобрать лучших бойцов и командиров. Сама же подготовка нежданно-негаданно пошла черепашьим шагом.
«Не иначе как, кто-то очень влиятельный тормозит», — все более убеждался майор Костюков, хотя вслух больше об этом не говорил. Действительно, фактов нет, а неосторожным словом можно обидеть честных таджиков.
Прохор Костюков, однако же, был прав в своих догадках. И в самом деле подготовку к походу волокитили. С восточной изобретательностью. Так что не вдруг подкопаешься. Причины всегда находились очень важные, препятствия такие, что их не вдруг одолеешь. На самом же деле время выигрывалось для того, чтобы определиться, как поступить с очень хорошо, на современном уровне оборудованной базой для подготовки воинов Аллаха. И, как справедливо считалось, достаточно засекреченной, а теперь вот раскрытой.
Факт этот всполошил всех. Руководство филиала партии Освобождения Ислама в Душанбе само не могло определить дальнейшую судьбу базы — запросило штаб-квартиру партии, и оттуда поступил жесткий ответ: база должна существовать. Если нет возможности сохранить старую, следует найти без промедления место для новой и передислоцировать туда все имущество и воинов Аллаха.
Партийные боссы пригласили на ковер Исмаила Исмаиловича, который предложил организовать нападение на заставу, ибо, как он чувствовал, офицеры заставы стали относиться к нему с подозрением, особенно лейтенант-узбек. Исмаил Исмаилович обещал привлечь к этой операции алайских и афганских родственников. Использовать тайную базу он просил только для того, чтобы разместить там сборный отряд и подготовить его для нападения на заставу.
Обещание его было весьма заманчивым: офицеры заставы погибнут вместе с кокаскерами своими; заставу, по его депутатскому предложению, перенесут на новое место, чуть подальше от острова, — и канал поставки наркотиков станет совершенно безопасным. Понадобятся только деньги на строительство новой заставы.
Ему обещали дать деньги хоть на пять застав, лишь бы сохранился устойчивый и очень доходный канал. Но, по мнению именно тех, кому обещал Исмаил Исмаилович, операция закончилась полным провалом. По вине инициатора и организатора. Лейтенант-узбек остался жив, и теперь его подозрения могут усилиться. Заставу, похоже, новый начальник отряда переносить не собирается, попавшие в плен исмаилиты не сумели сохранить и тайну базы, хотя им было велено: погибнуть — но о базе ни слова.
На прием Исмаил Исмаилович поехал в один из загородных домов такого же депутата, как и он сам, даже не из знатного рода, но волей Аллаха и своей пронырливостью занявшего более высокое место в так называемой оппозиционной партии. Поехал вроде бы на дружеский дастархан, хотя понимал, что ждет его там совсем не дружеское застолье.
Его уже ждали, восседая на высоком помосте под могучим ореховым деревом, густо оплетенным виноградными лозами с кистями коричневого изюма. Красиво и прохладно под густой тенью.
Все политбюро. Не жди доброго слова.
Ему оставили место по левую сторону от хозяина дома, место не по чину почетное, и это еще более насторожило Исмаила Исмаиловича, но не мог же он повернуться и уйти, как не мог и показать своей растерянности. С радостной улыбкой он возлег на подушки после приветственного полупоклона с приложенной к сердцу рукой и только затем произнес вроде оправдания:
— Я не опоздал. Я прибыл даже немножко раньше.
— Никто не упрекает вас, уважаемый бек, поспешили все остальные гости.
Собрались, чтобы обсудить отношение ко мне. Белыми нитками по цветному халату.
Тут же появились служки с кумганами, тазиками и мягкими полотенцами. Омыли руки перед пловом. Вот и он. Холмы ароматного и блестящего от жира риса. После плова — чай. Все чинно, все как обычно. Но вот, наконец, прозвучал вопрос, которого все время ждал Исмаил Исмаилович. Его задал лидер оппозиции:
— Как вы сами, уважаемый Исмаил-бек, оцениваете вами проведенную операцию?
— Двояко. Что-то удалось, что-то не очень. Главное, застава получила хорошую зуботычину, и теперь кокаскеры будут долго разбираться, кто виноват. Без этого они не могут. Комиссия поедет за комиссией. В это время мой канал заработает очень активно.
— Но вы, уважаемый бек, уже пропустили одну ходку. Ущерб — почти миллион долларов.
— Один срыв планировался. Я наверстаю.
— Хорошо. А что делать с лейтенантом-узбеком?
— В ближайшее время я уберу его. Но прежде уберу нового начальника отряда. Слишком несговорчивый.
— Это тоже хорошо. А что прикажете делать с горной базой? Ее велено сохранить при любых условиях.
— Ничего. Жила, живет и будет продолжать нужное Аллаху и его воинам священное дело.
— Разве вы не думали о плененных таджиках, которых кокаскеры, как нам стало известно, не передали властям в Душанбе, а оставили при себе? Считаете, что они не раскроют рта?
Исмаил Исмаилович больше всего боялся именно этого обвинения. Он уже корил бригадного генерала, который не выполнил уговор: ни одного пленного. Прежде чем увести своих воинов Аллаха, он просто обязан был покончить с балластом, привлеченным для численности. Разве мог убитый таджик сказать что-либо лишнее? Теперь вот его, ни в чем не виновного, корят, будто именно он не продумал до мелочей всю операцию, не предусмотрел возможность такого поворота событий. Но разве боссов интересует, кто действительно виновен. Они гнут свою линию. Им нужна лишь такая правда, которая им выгодна.
— Ни одному разумному человеку не придет в голову брать на боевую операцию исмаилитов. Но, если не хватило ума понять это, следовало потом распорядиться так, чтобы исмаилиты умолкли на веки вечные.
— Бригадный генерал разжалован до рядового боевика. Он достоин более серьезного наказания, но учтено его боевое прошлое. До этого он не проиграл ни одного сражения.
— Наказанием, даже расстрелом делу не поможешь. Власти готовят большой отряд из спецназовцев и пограничников для похода на нашу базу. Предотвратить его мы оказались не в силах. Новый начальник отряда, присланный из Москвы, упрямей козла. Мы смогли только оттянуть время выхода отряда. Пусть спецназовцы и кокаскеры придут на пустое место.
— Не спешите ликвидировать базу. Я сделаю так, что отряд не вернется. Исчезнет в горах. А предавших нас таджиков ждет лютая смерть. Пусть те, кто поддерживает Имомали, боятся гор. Боятся нас!..
— Сумеешь сделать так, бек, авторитет твой, повысится. Но учти: выход спецотряда мы сможем задержать не больше, чем на неделю.
— Успею. Мой алайский родственник пошлет большой отряд. Ему до нашей базы ближе, чем отсюда.
— Да благословит тебя Аллах!
Отлегло от сердца у Исмаила Исмаиловича. Сегодня же он позвонит по спутниковой связи и передаст известным только их роду шифром просьбу Абдурашидбеку. У того достаточно сил для засады. Он на своей базе готовит воинов Аллаха.
Увы, успокоенность длилась всего ничего: лидер партийной группы снова плеснул Исмаилу Исмаиловичу в лицо кису ледяной воды.
— Штаб-квартира недовольна, что груз, уже давно доставленный на остров, все еще остается в тайнике. Разве такое допустимо?
— У кокаскеров — траур. Это сдерживает меня. И еще… Они первое время очень насторожены, как они сами говорят, шутя над собой, сверхбдительны. Думаю, станут высылать на остров наряды. Могут даже устраивать там засады.
— На острове охота — ваш каприз. Если вы потеряли прежний авторитет, мы можем посадить на ваше депутатское место другого человека. Более авторитетного.
Тут уж сердце Исмаила Исмаиловича и впрямь екнуло. Он знал, как происходит подобная замена: дорожная авария или иная какая случайная смерть, а то и так называемое заказное убийство, после чего недели на две-три поднимется шумиха, будто совершено политическое злодейство, затем — новые частичные выборы. Подобный исход его вовсе не устраивал. Что станет с его несколькими женами? Какая жизнь ждет сыновей? Нет и нет!.. Нужно рисковать, а не трусить. Робких никто не уважает. Над трусами только смеются или понукают ими.
— Я доставлю весь груз в Душанбе через три-четыре дня. В дальнейшем, как и прежде, стану ездить на охоту каждый месяц.
Да будет так! — поставил точку в разговоре лидер партийной группы, и все гости, с ними вместе Исмаил Исмаилович, молитвенно провели ладонями по щекам и по аккуратным бородам: — Велик Аллах и Мухаммед, его пророк!
В этот же вечер Исмаил Исмаилович позвонил в Москву Юрию Трофимовичу и известил о желании своем выехать через пару дней на охоту.
— Вы, наверное, хотите попросить, чтобы я отпустил моего помощника, а вашего друга Иосифа Сильвестровича? Что ж, уважу вашу просьбу. Завтра к вечеру он будет у вас, Исмаил Исмаилович. С удовольствием полакомлюсь фазанами, которые он, надеюсь, привезет. Удачи вам, дорогой. Ни пуха ни пера.
Положив трубку, Юрий Трофимович велел секретарше срочно разыскать Лодочникова и передать тому, чтобы ехал на дачу непременно на своей машине.
— И мне — машину к подъезду.
Лодочникова не очень-то удивило поспешное приглашение шефа к нему на дачу: после поездки в Душанбе, а затем на заставу и особенно в разговоре по возвращении в Душанбе он с ужасающей ясностью понял, что увяз по самую макушку и больше не принадлежит себе. Закончилась его размеренная, уютная жизнь с вполне приличным достатком. Сразу после звонка секретарши он догадался: предстоит поездка в Душанбе.
И поспешил на зов, но вел машину аккуратно, не делая опасных обгонов, ибо думал, что все равно придется ждать шефа, сидя в одиночестве у камина. Но ошибся. Когда Лодочников подрулил к воротам и условленно просигналил — один гудок длинный и два коротких, — калитка открылась сразу, и страж ворот довольно сердито известил:
— Они уже четверть часа ждут тебя. Погоди здесь, не въезжай.
В отличие от стража ворот, Юрий Трофимович — само благодушие. Дружеским тоном предложил:
— Прогуляемся до Истры. Правда, без шашлыка и удочек. Пикник устроим после твоего возвращения. Завтра утренним рейсом тебе лететь в Душанбе. На фазанью охоту с Исмаилом Исмаиловичем. Билет я уже заказал.
— Но он говорил мне, о двух — или трехмесячном перерыве.
— Выходит, перерешил. Все мы под Богом ходим.
«Это — точно. Точнее быть не может».
— Но тебе, считаю, не стоит волноваться. Им там, на месте, виднее, как поступать… Ты же — друг депутата. И этим все сказано. Смелей!..
Минут десять они гуляли вдоль берега Истры, обговаривая, кто и как будет встречать Иосифа Лодочникова по возвращении и как ловчее везти груз. Лучшим вариантом, Юрий Трофимович считал использование втемную стюардессы: попросить ее пристроить фазанов в морозильную камеру или, на худой конец, в холодильник.
— А вдруг глазастая попадется?
— А ты их в полупрозрачные пакеты заверни. Десятка два будет, не больше. В три пакета уложишь. В каждый пакет — по паре непотрошенных сверху. На всякий случай. С выходом не спеши. Вероятнее всего, я сам подъеду к трапу.
— Все ясно.
— А теперь — по домам. Не обессудь, что без угощения. Вернешься — сочтемся.
… В тот самый день, когда встретились Юрий Трофимович и Иосиф Лодочников, в пограничный отряд позвонил самолично Исмаил Исмаилович. Он известил майора Костюкова о своем намерении приехать поохотиться. Но это еще не все. Почти сразу же последовал официальный звонок с извещением, что через неделю два взвода спецназа поступят в полное распоряжение начальника пограничного отряда. Майор Костюков откликнулся: — Поздновато, но и за это спасибо. — И тут же поднял трубку внутреннего телефона: — Игорь Александрович, загляни.
Кабинеты рядом. Минутное дело — перейти из одного в другой. И все же почему-то не решился говорить об этом по телефону.
«Стало быть, нештатное что-то», — догадался начальник штаба, у него на кончике языка уже был готов вопрос, но Прохор Авксентьевич его опередил:
— Сразу пара вводных. Первая: спецназ через неделю. Стало быть, снимать нужно лейтенантов с заставы. Пусть приступают к тренировкам своих временных подчиненных. Поближе сойдутся с личным составом. Но им нужна подмена.
— Я уже наметил офицера из отдела службы.
— Хорошо. Вторая вводная: Исмаил Исмаилович пожалует собственной персоной на охоту. Мы же начали, считая, что он не скоро приедет, строить круговую оборону. Предлагаю срочно прекратить работы и все сделанное замаскировать. Да и спецбригаде спешно переместиться на соседнюю заставу.
— Думаю, передислокация — излишняя суета. Лучше начать рыть котлован для дзота на плато. Применяя взрывчатку. И еще лестницу сооружать. Да так, чтобы видна была.
— Разумно, хотя очень уж нагло. Впрочем, чем наглей ложь, тем больше ей веры. Часа через четыре я выезжаю на «Приостровную». Готов взять с собой и офицера службы, для подмены.
— Он соберется к сроку.
— Но это еще не все. Я хотел посоветоваться с тобой вот по какому вопросу. Исмаил Исмаилович обещал нам помощь. Она, понятное дело, не в дугу, но, если мы откажемся, он может насторожиться. Если же согласимся, ему станет известна вся система обороны. С бригадой, к нам присланной, будет его человек. Однозначно.
— От помощи, считаю, отказываться никак нельзя. Более того, при первой же встрече первыми мы сами должны заговорить о ней. Что касается системы обороны, тут осторожность нужна основательная. Не стоит ему все показывать, тут двух мнений быть не может, но и скрыть совсем наличие дзотов не удастся. А помощью его следует не только воспользоваться, но и сделать так, чтобы вышло нам на пользу. Пусть поможет выйти на тех, кто вправе выделять технику. — Подполковник задумался на минутку-другую и воспрял духом: — Верно. Так и нужно будет сделать! Одни огневые точки без маскировки, а еще одну систему обороны — полностью законспирированную. С ходами сообщения, замаскированными, прямо из заставских помещений, о чем ты говорил на подведении итогов. Держать вторую систему в полной тайне. Ходы сообщения и скрытые огневые точки нужно закончить за месяц, между приездами депутата на охоту. Выйдет так: сделанное с его помощью продемонстрировать, пусть чертит схему для боевиков, а если до боя дойдет — они пустые. Мины на них посыплются без всякого для нас ущерба.
— Можно еще поднять заставу по сигналу «к бою», когда он будет в гостях. Вот, дескать, как истрачена ваша финансовая поддержка. По отделениям, через калитку, бегом в дзоты под заставским дувалом. Пусть потешится, воспринимая нас как неумех или ротозеев, которых ничему не научило прошлое нападение.
— На всех заставах, как я считаю, закрытые ходы сообщения устроить так, чтобы никто из шефов и даже из местных о них не знал.
— Тут нам поработать придется и со спецбригадами, и даже с самими заставами.
— Строго укажу начальнику тыла и инженеру. Проведу со всеми комендантами, начальниками их штабов и тыловиками инструктажи. Под личную их ответственность.
— Но и нам с тобой не придется стоять в стороне. Дело-то очень серьезное.
— Конечно. Никаких вопросов.
— Теперь вроде бы все. Иди готовь службиста на подмену. Предупреди сразу: не меньше, чем на пару недель.
Никакие новые вводные не задержали выезд, и майор Костюков с капитаном Каргаполовым прибыли на «Приостровную» за полчаса до боевого расчета. Как и рассчитывали, чтобы успеть изучить план охраны границы и, если что упущено молодым начальником заставы, — поправить.
Внимательно перечитали план охраны, затем — распорядок дня, сделали вывод: все по уму. Ни добавить, ни прибавить. Одно упущение:
— Время выхода в наряд, в дозор или на проверку нас с капитаном.
— Нет, — возразил лейтенант Дадабаев, — вас двоих вместе не выпущу. Разве вы знаете участок заставы?
— Я знаю, — твердо заявил Каргаполов. — Не однажды бывал здесь. Ходил в наряды.
— Верю, но запланирую так: я и — начальник отряда. С вами, товарищ капитан, — ефрейтор Алдошин, исполняющий обязанности старшины заставы. Других вариантов не будет.
Капитан Каргаполов хотел было возразить, предложив что-то свое, но майор Костюков остановил его:
— Право начальника заставы. Так, если я не ошибаюсь, гласит инструкция?
— Не ошибаетесь, — сдался капитан Каргаполов.
За оставшееся до боевого расчета время определили, кому и чем в вечерние часы заниматься. С учетом, конечно, плана начальника отряда. А у него много дел: следовало поговорить с солдатами и сержантами об их новых обязанностях в связи с переходом из маневренной группы на заставу; чтобы половчее привыкать к новым условиям, их командир временно останется с ними. Все вроде бы просто, но нужно учесть и вопросы, какие непременно возникнут. До ужина не удастся провести совещание со всеми прикомандированными на заставу офицерами. Стало быть, после ужина. Однако лейтенант Дадабаев проявил нетерпение — слишком беспокоила его задержка с выходом в поход.
— Не очень ли затянулось решение? Пустым может оказаться наш поход. Неужели не ясно ответственным людям?
— Не гони лошадей. Об этом поговорим вечером. Пока же действуйте по распорядку дня. Деловой разговор — после ужина.
Однако он начался раньше. Во время ужина. Все офицеры уселись за один стол; и разве в такой ситуации удержишься от вопросов начальнику отряда? Особенно много их оказалось у командира сводной бригады — его удивило и обескуражило срочное распоряжение штаба отряда приостановить работы до приезда майора Костюкова.
— Что-то изменилось в планах? Столько сделано!
— Да. Большие изменения. Подробный инструктаж — завтра утром. Посмотрим, что уже сделано и что придется основательно маскировать.
— От кого прятать?
— От гостей, которых мы ждем послезавтра.
Дадабаеву с Богусловским ясно, каких гостей имеет в виду Прохор Авксентьевич, а вот остальные офицеры находились неведении. Капитан Каргаполов проявил такт (командир объяснит, если найдет нужным), а инженеру — вынь да положь причины такой предосторожности. Но майор Костюков не имел права рассказывать правду, потому пытался отделаться шуткой — мол, лучше перебдеть, чем недобдеть. Когда же назойливость инженера стала чрезмерной, Костюков вынужден был его одернуть:
— Завтра вы получите четкие указания о порядке работ, и я попрошу вас четко исполнять мои указания. Попутно вспомните: приказ начальника — закон для подчиненного. И вот еще одна вещь, в уставе, правда, не записанная: если командир о чем-то умалчивает, стало быть, так нужно в интересах дела, и докучать командиру не стоит. Это — не назидания, а рекомендация на будущее. В данном же случае вовсе не какой-то каприз или чья-то прихоть вынуждают командование отряда вносить изменения в первоначальный план, а забота о безопасности заставы, стремление сохранить жизнь подчиненным. Все!..
Разговор после ужина тоже принял поначалу довольно неожиданное направление. Капитан Каргаполов высказал мнение, которое отстаивал давно, но безуспешно, — споря не только со своим начальником, но даже с бывшим начальником отряда и начальником штаба подполковником Кирилловым. Капитан был уверен, что остров не может оставаться без охраны, что высылать туда наряды необходимо, ибо, как он утверждал, через него вполне могут переходить контрабандисты. Схема такая: ночью в гидрокостюмах они переправляются на остров, затаиваются в тугаях. Потом проскальзывают в прибрежные тугаи — и ищи-свищи…
Майор Костюков не мог сказать капитану Каргаполову, что он не прав, но и поддержать в общем-то толковую позицию офицера службы не мог. Он лишь определил для себя присмотреться к этому офицеру и, если первое впечатление не окажется обманчивым, повысить его в должности. Ответил же вопросом:
— Какие резоны выдвигали командиры, не соглашаясь с вами?
— Чужая страна. Нельзя обижать депутата. Пустые слова. Кого мы обидим? Пусть себе охотятся. Мы же не сети для фазанов станем выставлять, а секреты.
— Все так. Могу даже сказать, что в принципе вы правы, но ответ мой остается тем же самым: остров неприкосновенен. Ни охотиться там нельзя, ни наряды туда высылать. Приказ свыше, и не стоит его обсуждать. Давайте лучше обговорим порядок завтрашней работы.
Велика ли проблема? Каждый займется своим делом: Дадабаеву передавать заставу Каргаполову, майор Костюков сразу же после завтрака определит фронт работ сводной бригаде, потом пройдет по участку (днем — не ночью, видно все) с лейтенантом Богусловским и в сопровождении одного из «старичков», оставшихся в живых после боя. Возвращение — к началу занятий, которые будет проводить лейтенант Богусловский. В общем, обычный заставский день, и, будь длиной в тридцать шесть часов, все равно показался бы коротким. С одним только добавлением: к утру лейтенанты Дадабаев и Богусловский должны быть готовы к отъезду в штаб отряда. Вместе с начальником.
На совещании ни Михаил Богусловский, ни Латып Дадабаев не стали спрашивать майора Костюкова, как выкроить время, чтобы повидаться с Гульсарой и сообщить ей о командировке. Задан был этот вопрос уже после того, как совещание окончилось и прикомандированные офицеры покинули канцелярию. Михаил попросил Костюкова сразу за двоих. Прохор Авксентьевич ухмыльнулся:
— Ну, Латыпа Дадабаевича я понять могу, а тебе-то чего ради?
Смутился Михаил Богусловский, не сразу найдя подходящее объяснение, но майор Костюков не стал испытывать юного друга, ответил с деланым неудовольствием:
— Неужели считаете меня этаким сухарем? Я подумал об этом. Решение для вас совсем не утешительное: вам в село лучше не ехать. После обеда я сам поеду к Гульсаре. Без утайки все ей расскажу.
— Но она станет волноваться!
— Верно. Но, если она намерена связать свою жизнь с офицером-пограничником, пусть привыкает волноваться.
Для нее — первое испытание. Может, и улетучится после этого ее любовь? Тогда и жалеть будет не о чем.
— Ну и логика, Прохор Авксентьевич…
— Железная, Михаил. Железная. Жена пограничника в полном смысле — пограничница. Или не пример для тебя твоя бабушка Лариса Карловна? Мне с женой тоже повезло. Запилила, что я ее не вызываю.
— Поднимаю руки.
— То-то. Поднимай руки ты тоже, Латып Дадабаевич.
— Ничего не остается.
Но сердце не подвластно разуму. Оно несогласно с решением командира, рвется к любимой. Но разум побеждает: командир всегда прав. Не в самоволку же бежать.
Выезд после обеда тоже неслучаен: лучше оказаться в учительском общежитии, когда уроки закончатся. Майору не хотелось попусту тратить время в ожидании. Подгадал он точно — Гульсара встретила его радостно, даже положила голову на плечо. Спросила:
— На Приостровной были?
— Я — оттуда.
— Как там Миша?
Вроде бы ожидаемо, но все же — чрезмерно. Худо-бедно, а Латып пока еще считается женихом. О нем бы в первую очередь спросить. Гульсара поняла свою оплошность, тут же исправилась:
— Латып как?
Прохор Авксентьевич по-отцовски, хотя по возрасту никак не тянул на отца, посоветовал:
— Не мечись, Гульсара, меж двух огней. Опалишь крылья. Определись. Посоветуйся с сердцем — и реши. Твердо. Раз и навсегда.
— Я много об этом думала, Прохор Авксентьевич. Латып — хороший. Он мне нравился, но я, видать, не знала, что такое любовь. Как они придут, я объяснюсь. Если, конечно, я тоже понравилась Мише.
— Почувствуешь сердцем девичьим. Только я приехал сказать, что не раньше, чем через полмесяца, вряд ли увидишь своих лейтенантов. На задание уходят.
— Опасное? — вырвалось у Гульсары, и она смутилась.
— Очень. Более опасное, чем на заставе. Даже на такой, как «Приостровная».
— Боже мой!
— Ничего, привыкнешь, став пограничницей.
— Я, Прохор Авксентьевич, большущая трусиха и страшно переживаю даже по пустякам, а тут — такое! Ой, — спохватилась она, — главное-то я чуть не забыла. Аксакал через внука своего передал, будто на вас готовится покушение. Улема весть послал. Он вначале хотел встретиться с вами, потом почему-то передумал. Он сказал: лучше будет, если вы повремените со встречами. Я стану меж вами связной.
— Ишь ты, связная. Подробностей, как можно предположить, никаких?
— Нет. Одно улеме ясно — скоро. Время тянуть не станут.
Почаевничали с полчасика, забыв о повседневных делах и заботах, отрешившись от тревог, больше говорили о приятном. Гульсару больше всего интересовало, когда приедет жена Костюкова с сыном, просила сразу же познакомить с ними. Гульсара была уверена, что они подружатся. Еще она расспрашивала о здоровье бабушки Михаила, о его отце, который служил вместе с ее дедом, но почему-то не прикипел душой к границе, — беседа безмятежная, словно на мирной и покойной земле они живут, а не на вулкане. И только проводив гостя, Гульсара упала на подушку и зарыдала. Она молила, не понимая, кого — Бога, Аллаха или Высший разум, — чтобы не случилось беды с ее новыми друзьями, с ее самыми близкими людьми. Судьба свела их, но ведь может и разлучить. Нет, не должно такого случится.
Майор Костюков, сев в машину, достал из кобуры пистолет и, положив его на колени, предупредил водителя:
— На нас с тобой готовится покушение. Главная мишень — я, но водитель, как правило, тоже на мушке. Отныне — в бронежилетах… Автомат для себя так поставь, чтобы в один миг мог открыть ответный огонь. На предохранителе его держи, но с патроном в патроннике. А мне вот здесь сообрази полочку для пистолета и стойку для автомата. И тоже с патроном в патроннике. Усек?
— Так точно. Все как следует оборудую. Но, может, пару хороших стрелков возить на заднем сиденье?
— Лишнее. Разве мы с тобой не стрелки? Одно советую тебе — считай это даже приказом — ежедневно тренируйся в стрельбе. Когда на заставе или в комендатуре — вместе будем, а в отряде — самостоятельно. Начальнику стрельбища я дам команду.
«Круто, — определил водитель. — Что это, трусость или просто перестраховка?»
Трусости не было и в помине. Трусливый и стрелков бы в машину посадил, и сопровождение бы взял. Может, даже БТР. Да и перестраховки не имелось. Следует встретить опасность во всеоружии, быть готовым к ней — вот какими соображениями руководствуется майор и надеется только на собственные силы. И разве можно не одобрить это и не поддержать?
— … Каски бы не помешали.
— Верная мысль. На самых опасных участках станем их надевать.
Больше они о грозившей им опасности не говорили. До самого покушения.
На заставе майору Костюкову доложили, что прием и передача завершены и что в обязанности начальника вступил капитан Каргаполов.
— Что ж, с Богом, как говорится. А вы, товарищи лейтенанты, готовьтесь к отъезду. После завтрака.
Несколько часов отдыха, и вновь их подхватила привычная заставская жизнь, утомительная своей суетой и однообразностью: план охраны, боевой расчет, выход на границу. Ни один офицер и не подумал увильнуть от наряда, хотя Каргаполов не хотел их включать. Уступил, однако, настоянием. Так и получилось, что всего несколько часов осталось для сна. А подъем — как обычно. Все вместе, как по команде, проснулись (спали они в одной комнате, остальные еще ремонтировались), поздравили друг друга с добрым утром. О том, что оно впрямь доброе, известил майор Костюков:
— Вот что, Миша и Латып Дадабаевич, кроме собранного на дорогу возьмите с собой автоматы и двойной боезапас к ним. Вчера Гульсара передала мне сообщение улемы, что на меня готовится покушение. Когда? Он не осведомлен. Какими силами? Тоже не знает. Может, одиночка, может, отряд. И к тому, и к другому нужно быть готовым. Так что, друзья мои, бронежилеты тоже не станут обузой.
Изменило состояние духа лейтенантов это сообщение майора? Можно сказать, нет. Каждый выход на границу, особенно ночной, опасен. Контрабандисты не поднимают руки на оклик. Автоматные очереди раздаются в ответ. Можно пулю смертельную получить, а в лучшем случае — ранение. Но и к такому привыкают. На то они и воины…
Водитель сделал все, о чем просил его начальник отряда, и тот даже удивился:
— Когда успел?
— Умельцев в инженерной бригаде много. Они даже дверцы немного укрепили. Все не каждая пуля достанет.
Положив пистолет на полочку, приваренную под бардачком, майор Костюков велел лейтенантам:
— Автоматы — на колени. С патронами в патронниках.
Ничего не произошло по дороге. Доехали спокойно. Последнее напутственное слово майора лейтенантам:
— До седьмого пота тренируйтесь. И помните: гибель в бою — не геройство. Геройство — победить и остаться живым. Но только ловкий побеждает в бою. И еще помните: вас ждет, за вас переживает Гульсара.
Он специально сделал нажим на слове «вас». Не ему, а самой Гульсаре определять, кто ей ближе.
Не семь потов сошло с лейтенантов, а семь раз по семь. Ежедневные марш-броски не по гладкой равнине, а по кручам. И стрельба, стрельба, стрельба… Из всех видов оружия, особенно из подствольников, — в горах они незаменимы. И все это с тяжелыми вещмешками за плечами, в бронежилетах, в касках, а они пограничникам особенно непривычны. К концу недели они уже с нетерпением ждали спецназовцев, с прибытием которых должны были получить короткий отдых перед походом.
Михаил Богусловский скрывал даже от Латыпа Дадабаева, как ноет ночами его раненая нога, — боялся, что появятся опять судороги в неподходящий момент, и тогда его наверняка не возьмут в горы. Но пока все обходилось. Ну а ночная боль — она не в счет.
Хотя бы сутки отоспаться.
Удалось. Даже больше суток: затянулись на лишний день поиски вьючных ишаков. Им везти продукты и боеприпасы, хотя у каждого спецназовца и пограничника битком набитые вещмешки. Спецназовцы — как на подбор: рослые, крепкие, тренированные, с твердой поступью. Русских не более трети, остальные таджики. Конечно, не исмаилиты.
Сошлись быстро. День — и одна боевая семья. Очень это важно в предстоящем многодневном, трудном и очень опасном походе. Офицеры тоже нашли общий язык. За командиром роты спецназа капитаном Нуралло Байгуловым сразу же признали лидерство. Не только в соответствии с приказом, но и по существу. Покорила лейтенантов его рассудительность и то, как он взвешивает каждое слово, прежде чем произнести его.
Начали, к примеру, обсуждать, как поступить с пленными таджиками: брать ли всех с собой или только несколько проводников, отпустив остальных? И те вроде бы правы, и другие. Нуралло слушает внимательно, но до времени молчит. И только когда спорщики стали повторяться, отстаивая свои позиции, он высказался решительно:
— Рекомендую поступить так: берем с собой не более трех проводников, остальных пока придержим здесь. Я не думаю, что кто-то может предать нас, только все же не помешает разумная осторожность, к тому же убережем самих исмаилитов от возможной опасности. А она есть, пока база не разбита.
Всем понравилось такое предложение. И так — каждый раз, когда возникали какие-либо разногласия. Послушает их, послушает и предложит такой вариант, который всех устроит.
Проводников Нуралло отбирал сам. Их было трое, молодых, жилистых, известных в этих местах охотников. Для таких — горы, как дом родной. Знакомы им многие архарьи тропы, которые неизвестны даже контрабандистам, не то что боевикам, особенно наемникам из Афганистана и Узбекистана.
Перед выходом командир роты спецназовцев провел общий смотр сборного спецотряда. Особое внимание пограничникам. Что ни говори, а им привычней иная служба. Остался доволен, однако счел нужным предупредить:
— Полторы недели в пути. Кто чувствует, что не осилит, лучше сказать об этом сейчас. Для чести солдата ущербно, конечно, но куда лучше, чем стать обузой в пути.
Холодный пот прошиб Михаила Богусловского. Будто к нему обращено слово капитана. Неужели прознал про раненую ногу? И то верно, вполне может подвести нога. Михаил представил, как трудно ему придется, но все же твердо решил:
«Нет, не отступлюсь! Осилю. Чего бы это ни стоило».
Первые дни, когда они шли по притоку Пянджа, тому самому, над которым летел их вертолет, нога ни разу не подвела. Шагала, как и здоровая. Правда, когда объявляли привал — обычно посредине между кишлаками, и горцы выносили своим аскерам курагу, изюм, свежие лепешки, желали доброго пути, хотя не знали, куда держат путь аскеры, — нога все же ныла. Это, конечно, беспокоило Михаила Богусловского, и он даже уговаривал больную ногу: «Не подведи».
И странное дело — чем выше поднимались они в горы, тем уверенней он чувствовал себя. Во время тренировок в отряде он, бывало, долго массировал ногу, прежде чем уснуть, на первых порах делал это и в походе, с тревогой ожидая худшего, однако, к его радости, все было хорошо, и он лелеял ногу перед сном только по привычке.
Через неделю пути проводники предложили свой план дальнейшего движения: посоветовали разделиться на две колонны. Объяснение звучало так: боевики ходят одной тропой и не могут ее не охранять, а если подойти к базе справа и слева по козьим тропам, то получится — как снежный обвал. К обсуждению их предложений Нуралло привлек не только офицеров, но всех командиров отделений и даже нескольких рядовых, из горнобадахшанских.
Более часа прикидывали, как лучше поступить, наконец, командир спецотряда объявил решение:
— Не на две группы разобьемся, а на три. Две в обход пойдут, одна — по основной тропе. Основная — более опасная, поэтому предлагаю добровольный выбор.
Добровольцев оказалось больше, чем нужно. Выбор пал на взвод Дадабаева и на первый взвод спецназовской роты. Нуралло объяснил, что центральная группа должна выглядеть впечетляюще, чтобы боевики, а они наверняка уже знают о походе на них, не заподозрили, что к ним заходят с тыла. Вроде как шел отряд, так и продолжает идти. Вместе с ишаками. А вот дозоры придется высылать двойные и даже тройные. Лучше из взвода пограничников. У них глаз более натренирован. Да и зорче они, что ни говори.
Обходные пути займут более суток, поэтому отряду Латыпа Дадабаева спешить не нужно. Дозоры буквально прощупывают метр за метром тропу, и только когда они докладывают об отсутствии опасности, основное ядро продвигается вперед. Более того, у Дадабаева возник план засады. Когда по боевикам неожиданно ударят спецназовцы и пограничный взвод Богусловского, отступать воины Аллаха станут по знакомой им тропе, вот тут их — в упор…
Хороший замысел, но, увы, не осуществившийся. Когда до базы оставалось совсем ничего, последний стремительный бросок, Дадабаеву доложил передовой дозор:
— Следы от тропы уходят в расщелину. Много следов.
Взяв с собой проводника, лейтенант Дадабаев выдвинулся к дозору сам. Следы действительно, словно напоказ. Долго он изучал в бинокль каждую щель в горах, но ничего не обнаружил. Спросил проводника, что он думает об этих следах.
— День им. Или два. Больше нет. Ушли душманы. Так я думаю. Может, спрятались, может, на обратном пути вас встретят. База пустая, вы успокойтесь.
— Вполне может быть. Но не здесь же они сделают засаду?
— Наверное, не здесь. Наверное, ниже. Там, наверное, где мы разошлись по разным тропам. Там удобно. Отсюда туда есть тропа. Тэки на водопой ходят. По ней спустятся. А база, наверное, пустая.
База и в самом деле оказалась пустой. И что удивительно, даже не заминированной. В пещерах, похоже, ничего не тронуто, будто жильцы ушли на прогулку.
— Расчет на простаков, — заключил Нуралло Байгулов. — Будто ушли в тренировочный поход на день-другой. Вроде бы ничего о нас не слышали и так уверены, что базу нельзя обнаружить, что даже охрану не оставили и не заминировали подходы.
В правильности своего вывода Нуралло убедился, выслушав доклад Дадабаева и мнение проводника. Приказал:
— От каждого взвода по отделению — в засады на все тропы. Мы же подумаем денек-другой, что предпринять.
— Базу нужно бы разгромить, — предложил не совсем уверенно Богусловский, и Нуралло упрекнул его:
— Зачем несмело говоришь? Верное слово нужно говорить уверенно. Если есть сомнение, лучше помолчи. Послушай, ты верное слово сказал. Взорвем все пещеры. Но не сразу, по очереди. Нам не нужны обвалы.
— И еще есть предложение: вызвать вертолет-разведчик. Он определит, где «духи». От него не спрячешься.
— Тоже верное слово. Но если подумать — лишнее. Вертолет покажет боевикам, что их ищут, у них же расчет на наше благодушие. Довольные успехом, мы тронемся домой — и угодим в засаду. А мы примем их игру. Подыграем им. Дадим им пару дней на организацию засады. А то и больше.
Вроде бы мягкий ответ, но упрек очевиден. Сколько раз говорил Прохор Авксентьевич, что успеха можно добиться, если научишься думать не только за себя, но и за противника. Вроде бы все ясно было, а как до дела дошло, все разумное — вон из головы. Нуралло понял состояние молодого лейтенанта и приободрил его:
— Пока станешь кумганных дел мастером, сколько глины испортишь, сколько раз разогреешь печь для обжига зря… С годами приходит опыт. Только с годами.
— Не ценой же своей жизни его обретать? Не ценой жизни подчиненных?
— Не такой ценой — лучше. Но и погибший тоже становится учителем.
— Плохим учителем.
— Может быть, может быть… А чтобы не стать плохим учителем, не вдруг принимай решение. Думай. Еще и спроси мнение многих. Лучшее выбирай.
Нуралло не только советовал юному офицеру, он и сам ни разу не отступил от своего правила. Вот и сейчас приказал срочно собраться всем взводным и проводникам в пещере, которую облюбовал. Проблема одна: что делать?
— Нам предстоит взорвать волчьи логова, как предложил лейтенант Михаил. Два дня. А дальше?
Разумней всех слово проводников: разведать, где засада душманов, только тогда и принимать окончательное решение.
— Вы сможете это сделать?
— Конечно. Тэк или архар очень чуткий, только каждый из нас не возвращался домой без добычи. Это знают во всех горных аулах. Мы подберемся к засаде тихо-тихо. Как к архару.
— А вы знаете, где она может быть устроена?
— Не знаем точно. Мы только думаем, где. Мы уже говорили об этом с кокаскером. Мы пойдем разными путями. Как простые охотники. Вам ждать нашего возвращения.
— Пусть будет так. Но заслоны на всех тропах следует оставить — на случай, если душманы вдруг захотят напасть на нас здесь, в лагере.
— Мы узнаем об этом и оповестим вас, — заверил один из проводников, но вы, уважаемый начальник, поступаете верно: пусть нукеры не теряют зоркости.
Конечно, отправлять одних проводников в разведку в какой-то мере рискованно, но более подходящего выхода не нашлось. Лобовая атака засады очень кровопролитна, да и принесет ли она успех? Душманы — бойцы хоть куда. Их, как куропаток, не постреляешь.
В общем-то, начались будничные дни, хотя все скрывали душевную тревогу, надеясь на благополучный исход. И еще — на себя. Вертолеты на помощь не вызовешь. Не смогут они в этих громоздящихся друг на друге скалах чем-либо помочь. Остается одно: бдить на тропах в засадах да планомерно взрывать пещеры, не особенно торопясь. Вот вернутся проводники, тогда плевое дело — разрушить остальные, пока оставленные для жилья.
Целых двое суток не возвращались проводники. Но вот, наконец, первый из них. Докладывает, что так и есть: боевики устроили хорошую ловушку. Их много. Сотни две. Оседлали тропу на полкилометра в длину. Чтоб сразу ударить по всей колонне, даже по ишакам. Со спины, с боков и спереди.
Удивляться особенно нечему. Любой разумный ратник именно так бы и поступил, окажись он на месте боевиков. Нужно теперь искать лучший вариант атаки, но выбрать его можно только тогда, когда вернутся остальные разведчики.
— Они будут скоро.
Скоро, да не очень. Особенно третий. Зато он вернулся не только с данными о заслоне, но и с предложением, где разместить снайперов и аскеров с подствольниками. Пообещал самолично провести их на место, совсем близкое от засады, но зато совершенно незаметное.
— Мы не забудем твоего старания!
— Мне ничего не нужно. Вы сдержите слово: отпустите нас домой и тех, кто остался у кокаскеров.
— А разве у вас есть сомнение?
— Лишнее напоминание разве помешает?
Полдня миновало, как ушли снайперы и минометчики, а следом двинулись остальные спецназовцы — пора оглашать начавшие уже привыкать к стрельбе и взрывам тысячелетия наслаждавшиеся тишиной горы. Мощным прощальным салютом — взрывом оставшихся двух пещер. Заложены уже фугасы, но проводник, приставленный к пограничникам, запротестовал:
— Нельзя сразу вместе. Снег может сдвинуться. Камни полетят.
Вроде бы далековато толстые белые чалмы вершин, насупленно взирающие на муравьиную возню людей, да и камни вряд ли долетят до долины. Умно она выбрана — ей обвалы, можно сказать уверенно, не грозят. Но проводник не о себе беспокоится — об ушедших по тропам. Если камни или снег сдвинутся, где пройдут обвалы, нельзя точно сказать. Они могут играючи смести идущих по тропам, но могут и перекрыть основную тропу — по которой выходить. Тогда они окажутся в капкане. В нужный момент не поможешь спецназовцам, если даже они останутся невредимыми. Бой может быть проигран, а он так хорошо продуман.
— Перестарались, — выслушав проводника, признался Латып Дадабаев. — Давайте ополовиним взрывчатку, да и взорвем поочередно. Спокойней будет.
Осторожные взрывы не пошевелили, как и прежние, горы, пронеслись эхом, напарываясь на клыки, рассыпаясь и смолкая. Проводник философски заключил:
— Вот теперь моджахеды ждут нас. Они умные, они считали взрывы. Сколько пещер, столько взрывов. Последние пещеры. Теперь нам нужно идти, чтобы об обходе не подумали. — Он обратился к офицерам — Я пойду первым. Со мной— самый меткий с подствольным минометом.
— Пойду я, — поспешно сказал Михаил Богусловский. — Я ни разу не стрелял ниже пятерки.
Латып Дадабаев тоже хотел идти с проводником и мог внести поправку, но посчитал, коли Михаил его опередил, не слишком ловко будет отстранять его. Не в шахматы же игра, где можно выхлюздить обратный ход, если не отпустил руку от фигуры. Так вот и получилось, что впереди двух взводов шагал плечом к плечу с проводником Михаил Богусловский — тропа позволяла идти по ней только вдвоем. Замыкали длинную двувзводную цепь вьючные ишаки. Шли медленным шагом, но без остановок с полкилометра. По совету проводника всем было велено надеть бронежилеты и каски — дальше опасно. Сам проводник, правда, уперся было, но и его принудили облачиться в бронежилет и каску. А камуфляжку ему сменили еще на базе, выдав пограничную. Теперь проводник ничем не выделялся среди пограничников.
Еще более двух километров шли без особой осторожности, полностью доверяясь проводнику. Вот он сбавил шаг. Напрягся, словно барс перед прыжком, а метров через пятьдесят остановился.
— Видишь, лейтенант, слева за скалой ствол? Не мешкай.
Всего миг понадобился Богусловскому, чтобы пустить мину в цель, но и этого мига оказалось достаточно пулеметчику — он понял что обнаружен, и нажал на спусковой крючок. Выстрел из подствольника и пулеметная очередь слились в один звук: две или три пули угодили Богусловскому в грудь, едва не сбив его с ног, еще одна распорола на плече камуфляжку, оторвала погон и отхватила шматок кожи. Проводнику тоже досталась пуля в грудь. Пулемет — не снайперская винтовка, он не выцелит незащищенное место, а вот мина — она точнее, если к тому же пущена меткой рукой. Больше одной очереди пулемет дать не смог.
На счастье Михаила Богусловского и проводника, следующая огневая точка была не очень близко, да и замешкались боевики, ибо не по продуманному прежде сценарию началась перестрелка. И другие огневые точки боевиков были обстреляны из подствольников, ударили автоматные очереди других бойцов — лейтенанта Богусловского и проводника буквально оттеснили, загородив их спинами.
— В рубашке родился, — с явной радостью встретил Михаила Богусловского Дадабаев. Разрывая индивидуальный пакет, торопил сам себя: — Сейчас перевяжу.
— Не в рубашке — в бронежилете. И там, на перевале, и здесь он спас мне жизнь. А рана пустяковая. До свадьбы заживет.
На какое-то мгновение тень набежала на лицо Дадабаева, и Михаил понял, что ляпнул про свадьбу, не подумавши. Слово, однако же, не воробей. Осуждай себя или нет — оно вылетело.
Латып Дадабаев быстро справился со вспышкой ревности и заговорил тоном командира, не терпящего пререканий:
— Теперь я поведу передовых. Ты возглавь ядро. Готовься к возможной атаке основной засады. Как тропа расширится, ядро перестрой в рассыпной.
— Все так и сделаю, как наметили прежде.
Они действительно продумали план своих действий с расчетом на атаку боевиков в том месте, где тропа расширяется настолько, что можно развернуть в цепь человек пятнадцать. Они продумали все действия и противника.
В общем-то, их тактический план пока что приносил успех. Шаг за шагом отряд продвигался вперед, подавляя огневые точки засады. Пока без боевых потерь, но раненых, правда, уже с полдюжины, не считая лейтенанта Богусловского. Их отправляли в тыл, где санинструктор перевязывал их, делая профилактические уколы.
Все вроде бы верно, но у Михаила Богусловского появилась тревога: а что, если боевики не пойдут на прорыв в лоб, а частью сил зайдут с тыла? Раненые тогда погибнут в первую очередь. Решение созрело сразу же, и он подозвал одного из отделенных.
— Бери свое отделение и — к ишакам. Прикрой тыл. Не жди в бездействии. Высылай дозоры. Усек?
— Так точно, — ответил сержант и добавил:
— А я, грешным делом, подумал, не слишком ли увлеклись наши лейтенанты, забыв о спине?
— А кто мешал тебе подсказать молодым лейтенантам?
— Так вы же — офицеры. Вас учили.
— Каша у тебя в голове. Но не время расхлебывать ее. Действуй. Если что— сразу связного.
— Есть.
Вот теперь на душе спокойнее. И все же — что предпримут боевики? Они же поняли, что внезапной засады у них не вышло, что вообще их замысел провалился.
Они, можно сказать, раскорячились. Так хорошо продуманная и в полной тайне устроенная засада раскрыта преждевременно и совершенно непонятно, почему. Как спецназовцы и кокаскеры могли узнать о ней? Вертолеты не пролетали, стало быть, не с воздуха обнаружена засада. А чтобы разведать без вертолетов, сколько нужно направить разведгрупп… Какая-нибудь наверняка обнаружила бы себя. Но не было никаких разведгрупп! Самые зоркие со всех троп глаз не спускали.
Гадать, однако, можно до бесконечности, важно в новой обстановке принять верное решение. И мнения разделились. Одни командиры предлагали не демаскировать ядро засады, ибо вряд ли спецназовцы и кокаскеры прознали все, а путь у них один — вниз по тропе. Обязательно упрутся в засаду и вынуждены будут атаковать. Огонь в упор прорежет и без того не такой уж крупный отряд. Конечно, не обойдется без потерь и среди воинов Аллаха, но победа обеспечена. Ни одного в живых не останется. Ни одного пленного. Всех в жертву. Даже раненых и добровольно поднявших руки.
Более разумное предложение иное: оставить половину сил в засаде, остальным вернуться к базе, какую наверняка все гяуры покинули, и нанести им удар в спину. Эта идея понравилась командиру боевиков бригадному генералу, и он ее поддержал:
— Пойдем двумя группами. С двух сторон.
Две цепочки, попарно, потянулись вправо и влево, и тут хлестко нарушили тишину винтовочные выстрелы. Один, второй, третий. Тыкались головами в жесткий гранит командиры левой цепочки. Замешательство. И уже летят мины, сея смерть, но не панику — моджахеды, укрывшись за скалами, открыли ответный огонь. Началась почти бесполезная перестрелка.
А правая цепочка поспешно удалялась по тропе в горы. Но недолог оказался и ее спокойный ход — она напоролась на засаду. Да такую ловкую, что едва ли половине удалось уцелеть и отступить к основному ядру боевиков.
Медленно, но упрямо приближалась стрельба и по основной тропе. Очередной взрыв мины извещал о подавлении еще одной огневой точки — бригадный генерал понял, что его хитрый замысел не только треснул по швам, но расползается, как ветхий халат нищего дехканина. Оставив заслон сдерживать наступление гяуров, бригадный генерал повел основные силы (сотни полторы) вниз. Увы, тоже не очень далеко они ушли…
Ротный Нуралло просчитал верно: зажатые с трех сторон и понявшие свой проигрыш, куда кинутся боевики, чтобы спасти себя? Верно, по свободной тропе. И Нуралло, взяв с собой два отделения, спустился вниз (проводник повел тропой архаров) примерно километра на полтора. Такое расстояние Нуралло определил тоже не случайно. Первые полкилометра, а то и больше боевики будут двигаться осторожно, а потом, естественно, наступит расслабление — решат боевики, что путь дальше свободен, теперь только поспешай.
Правда, бригадный генерал позаботился о передовом дозоре, но его пропустят. Пусть идет. Услышав за спиной стрельбу, вряд ли он кинется на помощь основному ядру. А если все же повернет назад, два автоматчика, которых Нуралло выделил специально, встретят дозорных кинжальным огнем. Мало им не покажется.
События развивались точно по намеченному плану командира роты спецназа. Дозор, не особенно внимательно приглядываясь к местности, не прощупывая биноклями густые оспины арчи, которая еще редко, но уже лепилась к крутым склонам, торопливо прошагал вниз.
«Давай-давай! — мысленно подстегивал передовой дозор боевиков Нуралло, который лежал у ствола арчи за валуном, прикрытым для маскировки ветками. — Не останавливайся».
Пронесло.
Несколько минут — и вот ядро моджахедов. Миновало первых пулеметчиков, ловко спрятавшихся в расщелинах скал. По первому выстрелу командира они в один миг установят ручники и начнут поливать смертоносным огнем спины воинов Аллаха, вернее — наемников-убийц, забывших или не знавших аяты миролюбивого Корана.
Первая автоматная очередь по потерявшим бдительность боевикам вызвала среди них замешательство, а когда пули засвистели со всех сторон, поняли они, что оказались в мешке.
Разумно, конечно, побросав оружие, поднять руки, но боевики они и есть боевики. Рассыпавшись на местности, залегли и с ожесточением принялись отстреливаться. Будто не поняли, что обречены. Не может такого быть. Поняли. Но бой продолжали. Предпочли рай, которым наградит их Аллах за смерть в борьбе с неверными, жизни за решеткой.
Четверть часа беспрерывной перестрелки — и бой стих. Огрызнулся короткой очередью последний боевик, но и его автомат захлебнулся. Спешить, однако, нельзя: вдруг кто-то прикинулся убитым? Вскинет автомат, когда кто-нибудь приблизится. Но и лежать в укрытиях до бесконечности тоже нельзя. Там, наверху, бой продолжается, стало быть, очень важно ударить с тыла.
Нуралло первым показывает пример. Поднялся, держа палец на спусковом крючке. Чуть кто из боевиков пошевельнется — огонь в упор.
Все тихо. Оставив одно отделение осматривать трупы и собирать оружие, Нуралло повел остальных вверх. Но, пока они поднимались, там стрельба закончилась. Некоторые боевики начали было самовольно покидать поле боя, устремляясь по тропе вниз, но обнаружив спецназовцев, бросили оружие. Тогда Нуралло решился на хитрость:
— В воздух, дружно — огонь! И гранаты!
Разумный поступок. Стрельба и взрывы гранат на основной тропе, совсем рядом, отрезвили боевиков, отчаянно сопротивлявшихся, и они сдались. Кучка. Десятая часть от крупного отряда. Но даже эта кучка вызывала не ненависть, не жалость, а уважение: поистине мощные мужи, крепкие телом, суровые лицами, готовые без содрогания принять смерть, если их не пощадят кокаскеры и спецназовцы. Нет, не трусы они, а разумно поступившие воины.
Услышав, что бой утих, Михаил Богусловский оставил за себя сержанта, наказав ему не расслабляться, а беречь тыл, и поспешил к месту смолкшей стрельбы. Он оправдывал свой поступок необходимостью доложить ротному о состоянии раненых, на самом же деле горел желанием увидеть Латыпа Дадабаева. С ранением он не обращался к санинструктору, стало быть, или жив, или…
Не хотелось Михаилу Богусловскому даже мысленно произносить роковое слово. Пусть они соперники, но не смерть одного из них должна определить судьбу другого — за Гульсарой слово. Им же плечом к плечу охранять и оборонять границу. А Дадабаев, по всему видно, честный и преданный делу офицер. Главное, очень симпатичен он Михаилу. За короткое время прикипел к нему душой. Особенно покорил тем, что свою ревность сумел отделить от служебных отношений.
Спешил Михаил, даже не замечая своего быстрого шага, когда же увидел Латыпа, высокого, стройного, с внушительной командирской осанкой, отдающего какое-то распоряжение подчиненным, еще прибавил шагу.
Дадабаев тоже увидел Богусловского. Прервав на полуслове распоряжение сержанту, бросив ему лишь: «По своему усмотрению действуй», — кинулся навстречу своему заму.
Они обнялись по-братски. Латып так крепко прижал к себе Михаила, что тот даже ойкнул: гематома на груди под бронежилетом дала о себе знать.
— О, шайтан! — обругал себя Латып Дадабаев. — Совсем без головы. Ты же ранен.
— А ты?
— Цел и невредим.
— Действительно, в рубашке родился. Там, на плато, бой кровавый, здесь — не меньший. Рад за тебя! Очень рад!..
— Тебе тоже судьба благоволит. Два боя, два легких ранения, хотя ты шел на явную смерть, опередив со своим словом меня. Герой!
— Слушай, не женщинам ли мы уподобляемся? Пошли докладывать капитану Байгулову. Получим от него указания. Не сидеть же нам, сложив геройские ручки?
Они подошли к ротному как раз в тот момент, когда к нему подвели бригадного генерала и еще двух хитрозадых, как обозвали их спецназовцы, командиров. Притворились убитыми, хотя ни у одного нет даже царапины.
— Знатные птицы, — удовлетворенно потер руки Нуралло. — С собой в вертолет возьмем. Теперь же следует не спускать с них глаз, связав не только руки, но и ноги.
Выслушав доклады лейтенантов, спросил:
— Убитые есть?
— Пять человек.
— Раненые?
— Двенадцать. Без лейтенанта Богусловского.
— У меня и тех, и других немного больше. Жестокий был бой. Для нас все же удачный. С малыми потерями.
На этом вздохи закончились. Они все понимали и воспринимали потери как суровую данность. Начались обсуждения дальнейших действий.
— Ниже, километрах в пяти, есть площадка, на которую могут сесть сразу два вертолета. Я вызвал их. Снесем в первую очередь туда раненых. С крепким боевым охранением. Под нашим присмотром боевики похоронят своих — пусть найдут подходящую расщелину. После чего спустим их под конвоем.
Сами тоже спускаемся, унося убитых.
— Ишаков бы приспособить для отправки раненых, а затем и для тел убитых…
— Само собой. Но главное — проводникам объявите, что они свободны. Каждый сообщит это своему проводнику. Не забудьте снабдить их продуктами на дорогу. Если захотят, пусть берут автоматы, а еще лучше для них — снайперские винтовки. У кого сколько денег, товарищи офицеры, — на кон! Отдадим все.
Они очень много сделали для нашей победы. Мы можем, не приукрашивая, сказать: они — наши спасители.
Никто даже не подумал возразить против такой оценки.
Двое суток ушло на послебоевые дела, и еще сутки ожидали очереди на вертолет. Наконец — воздух. Но не на заставу, как хотелось, а в отряд. Значит, пышная встреча, которую тоже придется терпеливо перенести.
Во время полета Михаил Богусловский попросил Латыпа Дадабаева не оставлять его даже в отрядной санчасти.
— Если вдвоем упремся рогами, Прохор Авксентьевич нас поддержит.
— Упремся. Обещаю. Только, как я понимаю, майор и без меня пойдет тебе навстречу. Другом тебя считает.
— Не считает, Латып. Не считает. Так оно и есть. От дедов наших эта дружба. Очень давняя. Только у нас уговор жесткий: не нянька он мне, не поводырь, а старший брат. Я сам должен пройти свой путь. Иначе разве послал бы он своего подопечного на столь опасное дело?
— Я это понял и скажу: ты славно начал свой путь. А добрая поддержка, наставничество — разве это плохо? Я бы тоже хотел иметь такого наставника.
— Ты говоришь, будто не чувствуешь, как заботится о тебе Прохор Авксентьевич. Но его забота — по делам твоим. Как и моим. Тебя он не отстранил от похода, хотя шел на нарушение. Ты же — начальник заставы. Проверил, как и меня, на прочность. Мы с тобой доказали, что он не ошибается в нас.
Вполне согласился Латып Дадабаев с Михаилом Богусловским. Он чувствовал особое отношение к себе майора Костюкова, но не слишком придавал этому значение. Считал: по поступкам в бою и честь. И то, что его определили в поход, посчитал логичным: новый начальник отряда не знает всех офицеров, не может безошибочно отобрать кандидатов на поход, а тут, под рукой, он — Дадабаев, уже проверенный в бою. Насчет Богусловского Дадабаев сомневался, пошлет ли его майор. Скорее всего, как ему думалось, оставит на заставе. Но, к немалому своему удивлению, ошибся. И еще раз ошибся, увидев в отношениях майора Костюкова и лейтенанта Богусловского привычное: старший по положению тянет за уши молодого, ибо к этому обязывает их старинная семейная дружба.
«Хорошо, что это не так. Очень хорошо».
А вот в том, что при решении вопроса о санчасти или заставе начальник отряда сразу же возьмет сторону Михаила, Латып Дадабаев не ошибся. Прохор Авксентьевич, честно говоря, с недоумением воспринял настойчивую просьбу Дадабаева, которому вроде выгодней было отсутствие соперника при встрече с Гульсарой после длительной и очень опасной отлучки. Но, по достоинству оценив поступок Латыпа, не приказал капитану медицинской службы, а принялся его уговаривать:
— Право врача принимать решение никем не может быть попрано, но и врач должен учитывать обстановку. На заставе предстоит обживать новую систему обороны. Офицерам нужно будет принять участие в ремонте, точнее, в реконструкции помещений, а граница не обходится без ежедневных сюрпризов. Разве может молодой, полный сил офицер всего лишь с гематомой и царапиной на плече прохлаждаться в санчасти? Тем более что сам от нее отказывается? Не может…
Как тут устоишь? И права твои не ущемлены, и мнение командира высказано открыто и честно. Можно, даже затылка не почесав, согласиться. Поставить только условие: отпускается под присмотром медсестры из санчасти.
На этом и была поставлена точка. И никто не мог предвидеть, как изменит жизнь лейтенантов решение, принятое начальником медслужбы отряда.
Глава девятая
Наконец-то все позади. Парадное построение гарнизона отряда с выносом знамени, зачтение приказа начальника регионального управления о присвоении звания старшего лейтенанта Латыпу Дадабаевичу Дадабаеву, сообщение о представлении его и лейтенанта Богусловского к медалям «За отвагу», вручение знаков «Отличник пограничной службы» доброй половине бойцов, участвовавших в походе, затем встреча в клубе части, где Дадабаеву с Богусловским пришлось рассказывать, стараясь не повторять друг друга, о проведенной совместно с таджикским спецназом операции, после чего — концерт художественной самодеятельности в честь, как объявил ведущий, победителей. Все, конечно, хорошо, все может быть, даже верно, но и Латып Дадабаев, и Михаил Богусловский весьма тяготились чрезмерной пышностью встречи и, как они считали, пустопорожней тратой времени. Им хотелось поскорее вернуться на заставу — не столько потому, чтобы взяться за дело, за которое они в ответе, хотя и это имело место, а скорее потому, что оба горели желанием поскорее встретиться с Гульсарой. И каждый из них предвкушал эту встречу по-своему. Михаил терзался мыслью, не случайно ли, не мимолетно ли расположение к нему Гульсары, не исчезло ли оно за время разлуки? Вдруг вернется она к своему прежнему решению — выйти замуж за Латыпа Дадабаева? А сам жених готовился к решительному разговору с невестой, еще и еще раз прокручивая его, находя все новые убедительные слова. Он жил надеждой услышать от Гульсары прежнее «да». Он очень на это надеялся.
Всему свое время. Закончилась в общем-то, если не быть слишком привередливым, приятное чествование — Прохор Авксентьевич за холостяцким ужином в его квартире объявил, что пора безделья окончена, завтра поутру — в путь.
— Приставим к тебе, Михаил, медсестру, и станет она тебя мучить примочками. Ладно, если молодая и сговорчивая, а если в летах, привыкшая к тому, что медицина всевластна, вот тогда придется тебе ходить по струнке. А гематома твоя во всю грудь — надолго. Пока сама не рассосется, не помогут никакие примочки.
— Все равно лучше, чем в санчасти.
И вот они в машине. Автоматы — у лейтенантов на коленях. Пистолет майора Костюкова — на полочке. Автоматы его и водителя — в пирамидках, ловко вмонтированных в дверцах. Все в бронежилетах. Еще у каждого каска под боком. Уже миновало время, назначенное для выезда, а медсестры нет. Минут десять лишних прошло. Неужели перепутали, передавая ей время выезда? Все может быть, хотя вряд ли. В пору самого больного посылать в санчасть за этой копушей.
У Михаила иные мысли: цену себе набивает. С первого шага утверждает свое верховенство. Объяснит, что медикаменты готовила — и весь спрос.
На дорожке показалась молоденькая девушка, можно даже сказать, девочка, если бы не форма прапорщика на ней. В руках — две сумки. Одна — медицинская. Руки заняты, и без головного убора, и шалунишка ветерок играл ее прядями. Она явно спешила, и это выглядело забавно — слишком короткий и частый был у нее шажок.
— Кажется, по твою, Михаил, душу?
Девочка-прапорщик подсеменила к машине, поставила сумки и, как бы прошмыгнув голубоглазым удивлением по сиденьям, ойкнула:
— Как на войну? — Затем, спохватившись, доложила майору Костюкову — Процедурная медсестра прапорщик Угрова Марина.
— Опаздываете, прапорщик Марина, — с напускной строгостью, едва сдерживая улыбку, упрекнул ее Костюков. Он вспомнил, что начальник тыла подполковник Угров говорил ему при первом знакомстве, что его дочь служит в медсанчасти.
— Я, товарищ майор, не виновата. Мама вот, — кивнула на объемистую сумку, — задержалась с пирожками: духовка очень плохо печет.
— Ну, если духовка, тогда простительно.
— И мама то же самое говорила: мужчины поймут.
Водитель, не ожидая команды «хозяина», уложил сумки в багажник, а Латып Дадабаев вылез, чтобы пропустить Марину в центр. Она без оружия, значит, в случае чего, окажется под защитой с двух сторон.
— Спасибо, товарищ старший лейтенант, — озорно брызнув голубизной глаз, с легким поклоном поблагодарила Марина и, слегка поддернув форменную юбочку, и без того вовсе не длинную, ловко шмыгнула на сиденье.
Непонятное волнение почувствовал Латып Дадабаев, какое-то вовсе незнакомое, но не обратил на это внимания. Он все эти дни, все часы и минуты жил ожиданием встречи со своей невестой Гульсарой, и она неотступно стояла перед его взором, уверенная в себе, понимающая цену своей восточной красоте, — не мог он в данный момент глазеть на девушку, хотя и ладно скроенную, голубоглазую прелестницу, более похожую на девочку-шалунью, чем на уверенную в себе взрослую девушку. И все же, сидя рядом с Мариной, время от времени посматривал на ее взбалмошные локоны, на ее мягкие овалы коленей, на аккуратные ножки не в форменных ботинках, а в модных туфлях. Ему даже захотелось окунуться в озорную голубизну ее глаз, однако он останавливал себя, упрекая в неверности Гульсаре: он любит ее, и ему не нужны никакие другие девы. Не следует раскисать при виде короткой юбки.
А Марина тем временем щебетала, повернув вначале лицо к Дадабаеву:
— Мне папа сказал, что вас зовут Латыпом, что вы — герой. И в самом деле: серьезный, насупленный, как римский легионер… — Голос ее звучал вроде бы иронично и в то же время совсем не обидно. — А вы, Латып, можете улыбаться? Ой, можете. Вот-вот… Еще веселей. Вам это очень к лицу.
Улыбка смягчила лица не только офицеров, но и водителя — он даже обернулся, чтобы посмотреть на старшего лейтенанта, которого тормошит медсестра. Водитель хорошо знал Марину. В нее все, кто попадал в санчасть, влюблялись. Она со всеми была ласкова, добра, но сохраняла дистанцию.
— А вы — Миша. — Марина повернулась к лейтенанту Богусловскому. — Михаил Иванович Богусловский, отпрыск знаменитого пограничного рода. Только не задирайте нос. Я — тоже коренная пограничница, как мама говорит. Родилась в санчасти комендатуры, где папа интендантствовал. И всю сознательную жизнь — на границе.
Майор Костюков не удержался и засмеялся в голос. Марина, однако, не обиделась.
— Я правду говорю. Честное слово.
— Да кто ж не верит тебе, милая Марина! Но ты так серьезно говорила о своей сознательной жизни, которая еще, как я понимаю, даже не началась.
— Это не я, это мама так говорит. А папа ей не перечит.
— Ну, если мама, то и мы не станем перечить. Будем считать, что так и есть.
Всю дорогу Марина держала в своих нежных ручках нить разговора, не ведая, что отвлекает Михаила и Латыпа от мыслей о Гульсаре, о предстоящем разговоре, который только одного из них сделает счастливым. А может, Марина почувствовала состояние попутчиков и всячески старалась отвлечь их от тревожных мыслей.
Возможно, и так. Женщин, даже таких юных, как Марина, трудно понять, — А тем более логически объяснить их поступки. Только одно было бесспорным: Марина больше внимания уделяла Латыпу.
Когда они подъехали к селу, то Латып Дадабаев спросил майора Костюкова: а не заехать ли им сразу по пути к Гульсаре?
— Не стоит спешить. Занятия еще не закончились, и, как я понимаю, Михаилу нужны хотя бы небольшой отдых и перевязка. Так, Марина?
— Что перевязка нужна — бесспорно. Насчет того, сейчас ли заезжать к кому-то, — ваше мужское дело.
И сразу будто ушла в себя. Замкнулась. Вот так. Благо, до заставы ехать оставалось всего ничего.
Застава, вопреки всем инструкциям, встретила своих начальников парадным строем. Никто из солдат фактически не знал ни Дадабаева, ни Богусловского. Но они были благодарны, Дадабаеву за то, что остались живы, благодаря его твердости и умению. Они столько рассказывали о нем в курилке, что новички, еще не съев со своим начальником ни грамма соли, зауважали его. Что касается лейтенанта Богусловского, он тоже в глазах солдат был достоин уважения: орден Мужества так просто не дают. Тем более — курсанту.
— Ну зачем же так? — с укоризной спросил майор Костюков капитана Каргаполова, выслушав его рапорт. — Разве отдых можно прерывать?
— Я и не прерывал. Они сами не спали. Чистились. Гладились. У знали, что Дадабаеву присвоили старлея, и радовались несказанно. Как дети.
Строй рассыпался, вернее, образовал подкову перед начальником и его замом. Пожимали руки, словно близкие друзья или даже родные. Хвастались солдаты и сержанты успехами: пятерых ходоков задержали. У одного — килограммов десять опия. Не подвели, в общем, своих командиров за время их отсутствия. Очередные стрельбы — на отлично. Ночные. Без приборов ночного видения и без подсветки кострами. Только по вспышкам холостых выстрелов. Капитан Каргаполов так приказал. Думал, не подготовлена застава для таких стрельб.
Марина стояла какое-то время одна, пока не спохватился старший лейтенант Дадабаев. Выяснив, что офицерский дом уже приведен в порядок, сам повел медсестру в так называемую резервную квартиру. Пять квартир в доме. Три — для начальника и двух замов (на заставе пока один), одна для старшины и одна вроде гостиницы для приезжих. Ее так и называли: приезжая. Марине Латып показал двухкомнатную квартиру, пустовавшую из-за отсутствия второго зама. Тоном гостеприимного хозяина сказал:
— Ваша, Марина, резиденция. Устраивайтесь. Я пришлю каптера. Он поможет, чем сможет.
— Спасибо… — Марина окатила Латыпа веселой голубизной.
У офицеров свои заботы, у нее — свои. Каптером Сеней она умело руководила, и он послушно принес ей нужное количество простыней, только новых, и наволочек. Вдвоем они сумели превратить одну из комнат в белоснежную, почти госпитальную палату и одновременно в процедурный кабинет. Затем, с помощью того же Сени, Марина перенесла часть посуды из приезжей на кухню своей квартиры, ловко ее расставила по полочкам, разместила в шкафчиках. Стол накрыла тоже новой простыней, но ей не понравились складки.
— Утюг не испорчен в бытовке?
— Нет. Мы с ним аккуратные.
— На полчаса беру в аренду.
Арендную плату она приготовила, пока ефрейтор ходил за утюгом: сварила кофе и вынула из сумки полдюжины пирожков. Она бы достала больше, но ей хотелось еще попотчевать майора и лейтенантов. И тут ее осенило — не одними пирожками угощать, а накормить настоящим сытным ужином. Готовить она умела — мама давно приучила ее к кухне, повторяя известное утверждение: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ей нравилось, как устраивала семейный быт мама, и она всему у нее охотно училась. В общем, после чашки крепкого кофе ефрейтор Сеня сделал несколько ходок за пайковыми продуктами, что положены офицерам.
А офицеры в это время осматривали уже оборонительные сооружения. Причем капитан Каргаполов хитрил, а майор Костюков поддерживал его игру, и водили они начальника заставы с его заместителем по так называемым бутафорским огневым точкам, расхваливая их самым бессовестным образом. Однако ни Михаил Богусловский не был от сотворенного в восторге, ни Латып Дадабаев. Их недовольства ни Костюков, ни Каргаполов вроде бы не замечали. Капитан Каргаполов особенно расхваливал опорный пункт на плато, торчавший там пупком.
— По сигналу «к бою» вот по этой лестнице — наверх. Целое отделение переместится к тем, кто станет нести службу круглосуточно.
Вот тут старший лейтенант сорвался. Спросил гневно:
— И вы вот такую дурость, извините за грубое слово, приняли от инженера?! А вы, товарищ майор, не возразили?!
— А что? — удивленно спросил Каргаполов. — Ведь минутное дело — по лестнице вверх. Очень удобно. Не бежать на ту дорогу, где может быть засада.
— У меня просто в голове не укладывается ваша, товарищ капитан, близорукость. Вон оттуда, из тугаев, пара снайперов легко пощелкает солдат, как фазанов, не допустив их до укрытия. — Повернулся к майору — Не вы ли, Прохор Авксентьевич, учили беречь жизни своих подчиненных? Не мусор они! Не мусор! — И к Богусловскому — Как, Михаил, будем все это ломать к чертовой матери? А потом своими силами сделаем то, что нам нужно?
— Конечно. Не эту же ловушку оставлять.
А майор Костюков молча улыбался. Он был рад, что Дадабаев с Богусловским недовольны показанной им системой обороны, и в то же время был благодарен строителям за умелую маскировку той системы, которая на самом деле являлась оборонительной. Именно по его совету Каргаполов представил начальнику и его заму схему, предназначенную для Исмаила Исмаиловича. Идея такая: заметят молодые офицеры хотя бы малейшую фальшь, придется исправлять недоработки. Время еще есть. Исмаил Исмаилович приедет только через неделю. Но, похоже, все устроено ловко, и майор Костюков довольно улыбался.
Дадабаев и Богусловский недоумевали: чему так радуется Прохор Авксентьевич? И, если уж говорить откровенно, улыбка эта раздражала их, вызывая массу вопросов, не особо приятных для Костюкова.
Майор Костюков, видя обиду и недоумение своих молодых друзей, намерился было прекратить игру и, перейдя в канцелярию, показать тайный ход, застланный ковровой дорожкой, но в это время увидел топающую каблучками Марину уже в белом халатике. Майор повременил с приглашением в канцелярию, решив подождать медсестру, а когда она подошла и уверенно велела: — «Лейтенант Богусловский — на перевязку», — он даже осерчал:
— Вы бы могли спросить: свободен ли он? Отпущу ли я его?
— Не могла. Прошло время перевязки и обработки. А если я здесь лишняя, выделите машину, пусть меня отвезут обратно в санчасть. Михаил… — И поправилась сразу же — Лейтенант Богусловский в полном моем распоряжении. Иного не может быть. Просто не может быть — и все.
Вдруг показалось, что она сейчас топнет ножкой, как властная боярыня на своих дворовых, и офицеры заулыбались. Она же, сердито, насколько позволяла веселая голубизна ее глаз, поглядывая на них, повторила решительно:
— Больной будет строить свой распорядок дня в полном соответствии с предписанным курсом лечения.
— Хорошо, Марина. Сдаюсь, — склонил голову Костюков. — Прошу извинения, если ненароком обидел. Берите больного. — И повернулся к Богусловскому — Мы подождем тебя в канцелярии и приготовил сюрприз.
Минут через двадцать пришел в канцелярию Михаил Богусловский — и сразу:
— Ловкая она. И рука у нее легкая. Не то что у спецназовского эскулапа.
Не понял Латып Дадабаев, отчего эта искренняя похвала его задела. И приятно, и досадно, что Михаил в восторге от Марины. Впрочем, он не успел разобраться в своих ощущениях — капитан Каргаполов попросил Михаила Богусловского сойти с дорожки и откинул ее.
Ну и что? Пол как пол. Правда, виден квадратный шов, какого прежде здесь не было. Будто крышка лаза в подпол. Но вряд ли. Нет ни кольца, ни петли, чтобы приподнимать крышку. А капитан Каргаполов доволен. Это его идея — отказаться от кольца, чтобы не нащупать ногой. Он предложил педаль. В стороне. У самой стены. Теперь он наступил на нее — крышка с одного боку поднялась, и открылся удобный захват. Капитан сам откинул крышку люка и торжественно указал на идущие вниз бетонные ступени:
— Прошу вас, господа офицеры.
Вот это да! Вот это оборона! Со следовым фонарем они прошли по ходам сообщения ко всем огневым точкам. Майор Костюков сам показывал рычаги, с помощью которых поднимались маскировочные козырьки амбразур, затем произнес непререкаемым тоном:
— Ваша задача — научить солдат действовать уверенно в темноте. Мы собирались установить автономный движок, но потом отказались от столь заманчивой идеи: свет в амбразуре — хорошая мишень. Особенно для снайпера.
— Научим… — пообещал Дадабаев. — Это не проблема. На мой взгляд, она в другом: хотя бы на пулеметах установить приборы ночного видения. А если бы на каждый автомат…
— Ишь, аппетитец. Что касается пулеметов, наш оружейник договорится с оружейниками региональными, а вот на автоматы — вряд ли. Разве только твоя застава нуждается в них? Здесь все заставы — как на пороховых бочках. А в Чечне? Сколько их нужно?
— Сколько нужно, столько и нужно. Один только особняк не построить.
— Ну-ну, Латып, не нужно обобщать. Не все так просто. И не здесь об этом говорить. Не здесь, среди понимающих друг друга с полуслова. Ты попроси Исмаила Исмаиловича. Пусть долларов подбросит. Мотив только иной: для усиления борьбы с ходоками наркобаронов. О тайной нашей обороне— ни-ни.
— А что? И попрошу.
— Я тоже могу замолвить слово другу депутата Лодочникову. Пусть в Москве эту идею толкает. На уровне Думы.
Попытка не пытка. Благословляю. А теперь — обедаем. Я после обеда — в отряд, а вы, как я понимаю, уже сидите, как на иголках. Недолго только. Нужно принимать заставу у Каргаполова. Он наверняка по семье соскучился. Или я неправ?
— Еще как!..
Они уже направились в столовую, но тут в канцелярию вошла Марина. На сей раз она даже постучала, но тон ее не изменился до просительного:
— На вас повар обеда не готовил. Я сегодня беру вас на свое довольствие. Прошу, господа, на обед. — И добавила мягче — На десерт — мамины пирожки. С кофе.
Да, явная диктатура. Вот тебе и девочка-подросток в форме прапорщика! Когда же майор Костюков выразил сомнение, удобно ли офицерам эксплуатировать столь нежную девушку, она с удивительной для нее твердостью ответила вопросом:
— Может быть, и мне, товарищ майор, прикажете питаться в солдатской столовой? Или я такая бессовестная, что могу сесть на шею повару?
Видимо, майор Костюков лишь для порядка возражал Марине. На ее вопрос он не ответил, а сразу же обратился к офицерам:
— Что, пошагали? — И прозвучало это как приказ.
Перед обедом — экскурсия. Первый ее этап — комната-палата, или процедурный кабинет. Марина называла ее приемным покоем, не придавая значения ошибочности такого названия, ибо сама же начала рассказывать, что она намерена обихаживать не только своего больного, но всех солдат и сержантов, если у кого что-либо заболит. Спросила Дадабаева в который раз:
— Вы, Латып Дадабаевич, не станете противодействовать?
— Конечно, не стану. Но с одним условием: заставского санинструктора возьмете под свое крыло.
Понравилась майору Костюкову и расторопность медсестры, и ее настойчивость в отстаивании своих прав. И он пообещал сообщить о ее старании начальнику медслужбы и даже отцу. Рассчитывал услышать слова благодарности, но услышал иное:
— Папе — ни слова. Мы с ним условились так: что касается службы, он — сам по себе, я — сама по себе. Без поводыря. Ну все — знакомство с приемным покоем окончено, в свою комнату я вас не пущу. Мойте руки и — на кухню.
Обед домашний. Будто приготовленный опытной семейной женщиной. Марина успевала все: и ела вместе со всеми, и подавала на стол второе, затем десерт — мамины пирожки с кофе — но все заметили, с каким вниманием она относилась к Латыпу. Даже села рядом с ним. По правую руку.
— А маме твоей, Марина, смогу я передать общее наше спасибо за румяные пирожки и еще за то, что вырастила такую дочь?
— Маме можно, — вполне серьезно ответила Марина, вспыхнув румянцем; и только теперь Латып Дадабаев увидел у нее на лице едва приметные веснушки. Нежные, притягивающие взгляд. Она перехватила взгляд Латыпа и еще больше зарделась. Не вдруг справившись с собой, она все же объявила властно:
— Ужин — по распорядку. Я узнала у дежурного время. А вы, Миша, простите, лейтенант Богусловский, — на двадцать минут раньше. Осмотр и, если нужно, — примочки и смена повязки. Без всяких опозданий, — заранее надула губки, — иначе осерчаю.
Перейдя в канцелярию, офицеры детально обсудили план тренировок личного состава по сигналу «К бою» — как липового, по их классификации, так и основного. Теперь можно было ехать к Гульсаре. Майор Костюков, поначалу не предполагавший ехать вместе с Латыпом и Михаилом, передумал: все равно ему по пути. Узнать же, чем окончится встреча, ему интересно. Не ради обывательского любопытства — оттого, как развяжется этот узел, зависит судьба офицеров и их служба. А может, и не развяжется, тогда придется самому заняться этим. И Костюков определил для себя такой план: он выезжает минут на десять раньше, попутно заглянет к Гульсаре и предупредит ее, чтобы встречала своих любимых лейтенантов. Пусть для них это станет сюрпризом.
Так оно и вышло. Когда заставский «уазик» выехал на площадь перед административным зданием, Латып с Михаилом увидели машину начальника отряда. Они переглянулись, но ничего не сказали: о чем подумал каждый из них осталось неизвестно.
Заставский водитель подрулил к машине начальника отряда, и тут распахнулись двери, и Гульсара устремилась навстречу дорогим гостям. Майор Костюков остановился неподалеку, ожидая развязки. И Гульсара тоже остановилась в нерешительности, потом кинулась к Михаилу, прижалась к нему, не зная, что причиняет ему сильную боль. Но Михаил вовсе не чувствовал боли — он обнял девушку, вдыхая запах ее черных, очень мягких на ощупь волос.
Майор Костюков подошел к Дадабаеву, неприкаянно стоявшему у машины, положил руку ему на плечо:
— Сердцу не прикажешь…
Латып Дадабаевич промолчал. Он глубоко переживал свой, как он считал, позор. Ему было бы легче пережить ее отказ, случись это не так. Он пытался унять свой гнев, но это ему удавалось с трудом. Еще немного — и могло бы произойти непоправимое. Но Гульсара вдруг отстранилась от Богусловского, попросив умоляюще: «Подожди, Миша» и сделала шаг к Дадабаеву:
— Не обижайся, Латып, на меня. Я не обманывала тебя, я не играла в любовь. Ты мне нравился. Надежный. Сильный. Очень честный. И я была бы тебе хорошей женой. Но я не знала, что такое любовь. Настоящая любовь. Извини, я бессильна противиться ей. Пойми меня. И, если поймешь, мы останемся друзьями.
Не сразу он осознал, отчего спадает его гнев, его возмущение: то ли из-за откровенности Гульсары, то ли из-за сияния озорного взгляда голубых глаз Марины, ее нежных веснушек, просвечивающих сквозь смущенный румянец. В этом ему еще предстояло разобраться.
— Пойдемте ко мне. Выпьем хотя бы по пиалушке чая. Расскажете о своих боевых делах. Я предложила бы вам вина, но разве можно, когда вы на работе?
Можно, Гульсара, можно, — согласился Костюков. — По пиале доброго виноградного. Если есть.
— К счастью, есть, Прохор Авксентьевич. — Гульсара подхватила под руку Михаила и повела его вверх по лестнице, гладя его ладонь своей. А Латып Дадабаев продолжал стоять у машины в нерешительности. И тогда Костюков посоветовал:
— Пересиль себя. Никого ни в чем не вини. Никто не виноват.
— Я понимаю. Но сердце… Душа…
— А разум для чего? — Помолчав немного, все же спросил: — Быть может, перевести тебя на другую заставу? Или в отряд, в разведотдел?
— Ни в коем случае, Прохор Авксентьевич. Ни в коем случае. Не стоит путать одно с другим. Если даже я буду завидовать Михаилу, мы все равно останемся друзьями. — И эти слова были продиктованы не столько офицерским долгом, сколько неосознанным еще влиянием ласковой голубизны.
— Тогда пошли. Выпьем по пиалушке сухого вина.
На обратном пути в машине, при водителе, офицеры не сочли возможным выяснять между собой отношения, да и весь остаток дня тоже было не до личного — они еще раз прошли по темным лабиринтам ходов сообщения, проверили связь из командного пункта со всеми огневыми точками. Когда же поднялись в канцелярию, то определились: прежде чем регулярно тренировать личный состав, самим нужно обжить систему как следует, чтобы в темноте ориентироваться так же, как вот в этой канцелярии днем.
— Раза два в сутки станем спускаться. Пересчитаем, сколько шагов нормальных и сколько бегом до КП и до каждой огневой точки. После этого начнем тренировку личного состава. Пока же проведем несколько подъемов «К бою» по липовой схеме… Первая тревога — сегодня ночью.
Как часто, однако, бывает, человек предполагает, но обстоятельства диктуют иное. Не до тренировок оказалось этой ночью.
Когда старший лейтенант Дадабаев сел за составление плана охраны, то недоуменно заметил: отчего ходоки не появляются на участке заставы? Да и у соседей справа и слева тоже непонятное затишье. После нападения на Приостровную довольно солидная полоса тугаев будто заснула. Что через остров не пойдут ишаки, начальник заставы был уверен: через него с тех пор, как облюбовал его для охоты Исмаил Исмаилович, не ходил ни один ишак. В свое время именно этот факт дал толчок Дадабаеву к подозрению. И вот теперь, составляя план охраны, он только на всякий случай по берегу напротив острова выставил один дозор.
После боевого расчета, когда к строго установленному Мариной времени офицеры отправились на ужин, произошло их объяснение. Короткое и ясное.
— Латып, ты ведешь себя со мной так, будто я перехватил у тебя невесту. А что в душе?
— Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло, — попытался было Дадабаев уйти от откровенного разговора, но Михаил продолжил настойчиво:
— Давай начистоту. По-мужски давай. Мы же не в оловянные солдатики играем. С камнем за пазухой нам жить нельзя.
— Если настаиваешь — давай. Я оскорблен тем, что Гульсара отвергла меня. Это — есть. Но не за пазухой камень, а в сердце. Ты, конечно, виноват, но больше — она. Но, поверь, не дам камню шевельнуться, а со временем он исчезнет. И знаешь, почему? Понял я, что не любил Гульсару. Нравилась она мне, вот и внушил себе, будто по самые уши влюбился. Она открыла мне глаза, сказав, что не знала прежде настоящей любви. Я ее тоже не знал. Так что, Михаил, нет у меня камня за пазухой и, надеюсь, не будет. А гнев и обида— наносное все это. С ними можно побороться и одолеть их, что я и сделаю.
— Благородно, — намерился было продолжить разговор Михаил Богусловский, но в это время на крыльцо выпорхнула Марина. Не в форме, а в легком платьице, отчего еще больше походила на девочку-подростка. И сердито так:
— Не наговорились на работе. Побыстрей. Стынет у меня все.
А голубые глаза нисколько не соответствовали сердитому тону хозяйки — они лучились радостью, особенно, когда глядели на Латыпа Дадабаева. А он только успел поспешно бросить:
— Больше ни слова о Гульсаре. Никогда. И не терзайся. Будь счастлив.
— Ишь, говоруны, — снова сердитым голосом упрекнула Марина. — Я тут семь потов пролила, стараясь вкусно угостить, а они на меня даже не смотрят.
— Посмотрим, Марина, — заверил Дадабаев. — Даже поцелуем.
Он и в самом деле поцеловал ее в зардевшуюся щеку, прямо в нежные веснушки.
И как бы в благодарность за поцелуй Марина подкладывала в тарелку Латыпа Дадабаева самые лучшие кусочки мяса, самые зарумяненные ломтики картошки. Первую чашку чая — тоже ему. Когда же уютный семейный ужин закончился, Марина вновь обрела тон медсестры:
— Скажи мне, начальник заставы, почему прапорщик Угрова не приглашается на боевой расчет? Нет-нет, не отмахивайся. Вот так прямо и скажи.
— Исправлюсь. А чтобы искупить оплошность, я предлагаю вам, товарищ прапорщик, провести с личным составом беседу на медицинскую тему.
— Ой, как здорово! Посуду только помою, переоденусь в форму — и готова. Перевязку, Миша, тебе сделаю после беседы. — Затем оглядела себя и спросила с наивной простодушностью — А может, вот так, в платье?
— Лучше в форме, — высказал свое мнение Дадабаев и даже пояснил, почему — Глазами съедят тебя солдатики.
— Фу, как пошло. Ладно, не так и не эдак. Я — в белом халате. Я же медсестра. — Марина окатила нежной голубизной Латыпа и зарделась.
После беседы, где Марина объявила, что в любое время будет принимать захворавших, она увела на перевязку Михаила Богусловского. Осталась очень недовольна тем, как заживает рана на плече, но особенно ей не понравилась гематома. Строго потребовала больше лежать, меньше ходить. Михаил обещал ей и во исполнение обещанного отправился к себе на квартиру: ему после полуночи предстоял выход на левый фланг для проверки службы нарядов. Километров пять пути, потом снова отдых часа два-три. Если, конечно, не появятся вводные.
Вводные не появились, но отдыхать все же не пришлось. Произошло нечто непредвиденное. Когда лейтенант Богусловский, проверив по пути службу нескольких нарядов и выяснив, что все тихо, подошел по тропе к острову, старший пограничного дозора доложил, стараясь говорить как можно тише:
— На острове кто-то есть…
— По каким признакам?
— Фазана кто-то спугнул. Всего один раз, но…
— А не лиса?
— У нас нет лис.
— Может, змея?
— От змеи фазан убегает. Зачем от змеи улетать? Да еще с криком. Всего один раз ошибся. Обычно ишаки очень тихие.
— Вам сменяться через час. Придется повременить. Придет смена, и я останусь. Три секрета. Переходи на верхний край острова — и в секрет. Дождавшись смены, оставлю ее здесь, а сам перейду в центр. Будем нести службу до самого рассвета. Действуй.
До рассвета еще часа четыре. Зябких во второй половине ночи. С озверевшими комарами, которым только накомарник мешает вонзить тонюсенькие хоботки в лицо — они зло пищат, мешая слушать. Первый раз пришлось лежать Михаилу Богусловскому недвижно в комарином царстве, и он был несказанно благодарен Латыпу, что тот дал ему на всякий случай перчатки.
Постепенно Михаил начал привыкать к звонкому хору этой своеобразной художественной самодеятельности, для которого важнее всего громкость, а не ритм и мотив, и он сумел расслышать сквозь комариный писк всплеск воды — младший наряда, из старичков, толкнул лейтенанта в бок и указал рукой в сторону реки. Шепнул:
— На нас выйдет. Сюда его сносит.
В протоке, правда, течение не столь стремительное, но пловец не станет упираться. Он, наоборот, поплывет по течению, используя его силу.
Вроде бы исчезли комары. Совсем не слышно их только что раздражавшего писка: слух напряжен, он старается уловить новый всплеск. Но тихо. Может, щука спросонья неловко кинулась за судаком? Все может быть, но расслабляться нельзя, хотя тишина полнейшая. И вдруг почти под самым носом взлетел с тревожным криком фазан — Богусловский даже вздрогнул.
«Давай поближе! Давай, давай!..»
И в самом деле — силуэт. Огромный в ночной черноте.
«Давай еще шагов пяток!»
Ох и рисковал Богусловский: разве можно подпускать к себе так близко «ишака», как правило, вооруженного. Младший наряда, более опытный, понял ошибку лейтенанта и, взяв на мушку силуэт, крикнул:
— Стой, кто идет?!
Пистолетный выстрел и автоматная очередь хлестнули по ночной тишине одновременно. Нарушитель упал, но продолжил стрелять. Пистолет его не умолкал, а младший наряда считал выстрелы.
— Все, — выдохнул он и, пока нарушитель менял обойму, ударом приклада по плечу отбил ему всякое желание продолжать отстреливаться. Он швырнул пистолет в кусты.
Запоздало подскочил лейтенант Богусловский. В горячке столь стремительного задержания ему было не до оценки своего поведения — он взял на мушку голову «ишака», пока младший наряда защелкивал наручники на задержанном. Он все делал ловко и в то же время осмотрительно, и, едва контрабандист попытался пошевелиться, тут же над головой его навис приклад и прозвучала строгая команда:
— Лежать!
Знал контрабандист русский язык или нет, но подчинился сразу, поняв по тону серьезность угрозы, которая к тому же подкреплялась занесенным над головой прикладом.
— Вот что я скажу, товарищ лейтенант. Пока не подоспели соседние наряды, останемся здесь. Именно здесь. Может, этот — подсадная утка.
— Верный совет.
Наконец с полной очевидностью Богусловский осознал свою неуклюжесть и во время задержания, и вот теперь. Отчего он сам не мог сказать эти же слова? Разве на занятиях по службе не говорили курсантам о подобной тактике контрабандистов, рассчитанной на простаков?
Задержали первого, отконвоировали на заставу, оставив дырку, — смело иди по ней следующий.
— Спасибо тебе. Хороший урок ты мне преподал.
— Не казнитесь, товарищ лейтенант. Не вы первый, не вы последний. Граница доучит. У нас сколько уже было наглядных агитаций. Почти все «ишаки» по звуку стреляют в лоб. От бедра. Один раз увидишь дырку во лбу, на всю жизнь запомнишь.
— Рано мне дырку в лоб получать, поэтому надеюсь, вы, старички, не отмахнетесь, передадите свой опыт. Отныне не на проверку я стану ходить, а во все виды нарядов.
Он даже не предполагал, насколько поднимется в глазах солдат и сержантов авторитет молодого офицера, — они даже не стали потешаться в курилке, как это обычно бывает, над неуклюжестью лейтенанта, твердо решив всячески ему помогать. Но так, чтобы не обижать его нравоучительностью.
Два человека повели задержанного на заставу. Привычно для контрабандистов, что службу несут пограничники парно, и, если на острове кто-то еще остался, он увидит вышедший из тугаев конвой и клюнет на удочку.
Так и вышло. Рассчитывавший на простаков сам обманулся. Решив, что путь свободен, второй контрабандист буквально через несколько минут осторожно переплыл протоку и кошачьей поступью пошагал по следу первого, пущенного как приманку. Ни вправо, ни влево не отклонялся, опасаясь вспугнуть раннего фазана, который вылез из своего закутка на утреннюю кормежку.
На этот раз Михаил Богусловский действовал более рационально, да и второй наряд он положил не вблизи от своего. Каждому указал место — по правую и левую сторону, чтобы охватить площадь пошире. Наказал, чтобы не стреляли на поражение, пояснив, что допрос позволит узнать, почему они пошли через остров, который прежде не использовался ходоками. Он вовремя окликнул нарушителя, пустив над его головой длинную очередь, — контрабандист успел ответить лишь одним выстрелом. Пуля срезала ветку боярышника над головой Михаила, но три автоматные очереди (две с боков) образумили «ишака». Бросив к ногам пистолет, он поднял руки.
— Вот теперь можно сниматься? — Голос Богусловского звучал более вопросительно, чем повелительно. Однако старший второго наряда ответил с сомнением:
— Лучше бы одному наряду остаться. Неровен час — еще один «ишак», а то и несколько появятся на острове. Пойдут.
— Не думаю, — твердо заключил лейтенант Богусловский. — Четыре выстрела, а поведут на заставу задержанного двое. Не стыкуется. Если кто есть, затаится. На день, во всяком случае. А на ночь выставим секреты почаще.
— Все верно, товарищ лейтенант, и все же подозорить по нашей тропе не помешает. Если пройдет контрабандист, мокрый след оставит.
— Хорошо. Несите службу до рассвета. До полного. Пока с поста наблюдения не станут видны остров и протока.
— Есть.
Богусловский мог бы остаться сам, но ему очень хотелось послушать допрос, который начнет Латып Дадабаев, а продолжит майор Костюков, — он наверняка заинтересуется неожиданным поворотом событий: что это, игра Исмаила Исмаиловича или самовольство несунов-одиночек?
К тому времени, как приконвоировали на заставу второго задержанного, на которого большие надежды возлагал Михаил Богусловский при допросах, Марина уже успела обработать рану первого контрабандиста, и тот, покоренный человеческим к нему обращением, сообщил то, о чем не имел права говорить:
— Нам через остров ходить строго запрещалось. Теперь же сказали: идите. Мы пошли. Но мы не поверили, что тропа чистая. Я пошел первым — на проверку. У меня нет ни опия, ни анаши. Мой хурджум пустой, как высохший бурдюк.
Похоже, он кое-что знал сверх того, о чем вроде бы говорил с полной откровенностью, и мог бы приоткрыть хоть завесу тайны, не сделай Михаил Богусловский опрометчивого шага. Войдя в комнату, где Дадабаев начал допрос, он с гордостью доложил:
— Взяли второго. Живого и невредимого.
Вроде бы ничего не понял раненый контрабандист, но его словно подменили. На все последующие вопросы отвечал однозначно:
— Я — маленький человек. Я — «ишак». Я ничего не знаю. Мне сказали: иди, я пошел. Нужда заставляет. Я шел один. Со мной никого не было.
По всему видно, что контрабандист знает русский язык, и Богусловский сделал грубейшую ошибку, известив при нем Дадабаева о втором задержании.
Понял ли это Дадабаев, Михаил Богусловский пока что не мог определить, но он решил, что обязательно признает откровенно свою оплошность. Дадабаев же задает вопрос контрабандисту:
— Но вы только что сказали, что напарник или напарники вас послали на проверку?
— Какие напарники? Какой напарник? Я пошел сам. Один пошел. Жена и дети совсем без еды. Я хотел иметь свою тропу.
И дальше все в таком же духе. А при очной ставке задержанные так ловко изобразили, будто впервые видят друг друга, что вполне можно было поверить. Однако именно столь искусная игра особенно озаботила Дадабаева и Богусловского, и они в первую очередь доложили майору Костюкову именно об этом:
— Артисты. Совсем вроде бы прежде не встречались. Стало быть, есть что скрывать.
Долго Прохор. Авксентьевич выстукивал по краю стола пальцами что-то наподобие «чижика-пыжика», затем изрек:
— Заканчиваем допрос, еще не начав его как следует. Больше ни одного лишнего вопроса. Сделать вид, что всему поверили. Поступать как с обычными контрабандистами. Обычный опрос — и передача в руки властей. Чин чином. О моем приезде они не должны знать. Сделаем все, как при рядовом задержании. Усекли?
— Вроде бы. Однако…
— Об «однако» поговорим позже, когда отправите несунов по назначению.
Процедура передачи отработана. Наркотики, которые нес в заплечном мешке второй контрабандист, уничтожены, о чем составлен акт, и теперь без всякой опаски майор Костюков с лейтенантом Богусловским могли пройти к месту задержания. И выяснилось весьма любопытное: «ишаки» шли не напролом сквозь тугаи, а точно по хоженой тропе Исмаила Исмаиловича.
— Прошагать бы по этой тропе через весь остров…
— Пройдем, Михаил Иванович. Обязательно пройдем. И я уверен— не бесполезно. Найдем кое-что важное. Пока же вынуждены подождать. Могу только похвалить тебя: ты молодцом действовал. Не как новичок.
— Нет, Прохор Авксентьевич, обмишулился я. Многое не так сделал, — возразил Михаил Богусловский и рассказал все откровенно, как на духу. Без всякой жалости к себе.
— Да… — протянул майор Костюков. — Как солдат по первому году службы. — Затем спросил — Ты хотя бы признался в своих просчетах?
— Признался. Заверил: похожу во все наряды младшим. Не подорвется, думаю, мой авторитет.
— Верно мыслишь. Учись и учись у старичков. У Дадабаева учись. У Алдошина учись. Он скоро вернется на заставу прапорщиком. Не гнушайся опыта сержантов и даже рядовых. В общем, пройди курс молодого бойца. Очень полезно, уверяю тебя, Миша. Ну а теперь — на заставу. Поднимем ее по боевой тревоге. По липовому варианту.
— Что, скоро приедут?
Через неделю. Как обычно. А как осваиваете систему действительную?
— Пока считаем шаги. Мы с начальником заставы, командиры отделений со своими подчиненными. В ближайшие дни перейдем к тренировкам на скорость.
— Советую начать сразу после визита дорогих гостей.
Латып Дадабаев, когда майор Костюков определил и ему время для серьезных тренировок, согласился тотчас. Он сам намеревался поступить точно так же, но не счел нужным говорить об этом начальнику отряда. Все это особенно пригодится для доклада коменданту, который торопит с освоением системы обороны до полного автоматизма, экономя минуты и даже секунды. Дадабаев отговаривался, как мог, теперь же у него есть все основания так действовать — по рекомендации начальника отряда.
Потянулись напряженные заставские сутки. Возобновились задержания контрабандистов с опием — все вроде бы входило в ту привычную колею. Жизнь заставы была почти той же, что и до нападения, с одной существенной поправкой: все более чувствовалась твердая рука медсестры. Она теперь активно влияла на распорядок дня. Особенно нарушал привычность ежедневный медицинский осмотр поочередно всех отделений. Вот и строй план охраны так, чтобы намеченное для осмотра отделение к шестнадцати ноль-ноль отоспало и отучилось. Михаилу Богусловскому это не очень нравилось, а Латып Дадабаев с удовольствием потакал Марине. Только к одному, как замечал Михаил, Дадабаев относился настороженно: приемам Мариной тех солдат, которые жаловались на недомогание. Он явно ревновал. А к нему, Богусловскому, особенно. Пару раз он даже под предлогом, что сам хочет взглянуть на гематому, присутствовал на перевязках. И Михаил, поняв причину его поступка, решил объясниться с ним:
— Похоже, Латып, ты сильно переживаешь, когда я остаюсь наедине с Мариной. Не влюбился ли ты в нее?
Вопрос, что называется, в лоб, но Дадабаев не обратил на это внимания. И ответил вполне искренне:
— Пока не пойму. Не пойму, отчего напрягаюсь, когда она осматривает пришедшего с жалобой на нездоровье. Как быки, они — тут слов нет, и посмотри, как липнут к ней, находя всяческие предлоги.
— Но она, Латып, медсестра. Она клятву Гиппократа давала, и как мне представляется, вполне понимает свою миссию и честнейшим образом ее исполняет.
— Не спорю, Михаил. И все же она — женщина.
— Ты вот что, Латып Дадабаевич, поскорее разберись в своих чувствах, а разобравшись, не робей, как мальчик, не носи в себе то, о чем должна узнать в первую очередь Марина. Она всячески выказывает свою к тебе привязанность, а может, любовь. И делает это своеобразно, по примеру своей мамочки: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Сделай ответное движение, а не напускай на себя равнодушие. Она, заметь, на тебя смотрит не как на меня. Разве ты не замечаешь?
— Замечаю. С того самого момента, как села она к нам в машину.
— Так что же ты, друже, дурью маешься? Иди сейчас же к ней.
— Ну, это ты подзагнул. Но в принципе прав. Объяснюсь в ближайшие день-два.
То, что он осуществил свое намерение, Михаил сразу же определил: Латып и Марина стали совсем другими. И без того энергичный Дадабаев будто обрел второе дыхание. Даже походка изменилась — стала легкой, стремительной, словно крылья у него появились. Марина же начала готовить еще старательней и не скрывала радости, наблюдая, как Латып опустошает тарелки. Благодарная ему за это, она целовала его в щеку, поначалу краснея при этом и одновременно сияя радостной голубизной, но уже через несколько дней не стеснялась Михаила, не заливалась румянцем смущения.
— Чувствуешь, к чему привел твой встречный шаг? Здорово! От всей души поздравляю тебя и желаю счастья на всю жизнь, — пожелал другу Михаил, радуясь сближению любящих сердец. — Любящая жена, как говаривала моя бабушка, — крепкий тыл ратника.
— Не мне одному. Пожелаем счастья друг другу. Тешу себя надеждой, что Марина с Гульсарой подружатся, как и мы с тобой.
Разговор этот произошел по пути в канцелярию после ужина и закончился тем, что Михаил Богусловский предложил подежурить до половины ночи, хотя очередь коротать ночь в канцелярии была Латыпа. Он запротестовал, но Михаил продолжал настаивать, и они нашли приемлемый вариант.
— Поворкую с Мариной и приду, — согласился Латып. — По времени? Как сложится. Потом, как и планировали, поочередно сходим на границу. Днем выкроим несколько часов для сна.
Выкроить им удалось всего ничего, с воробьиный нос. На ноги поднял их звонок начальника отряда. Майор Костюков сообщил о приезде на заставу через пару дней Исмаила Исмаиловича и велел раза два или три поднять личный состав по липовой, как они ее называли, тревоге.
— Я понимаю, лишняя нагрузка, но вряд ли нужно объяснять, насколько необходимо сейчас пустить пыль в глаза, чтобы комар носа не подточил.
— Понятно, товарищ майор. Не подведем.
Нет, они не сразу бросились исполнять приказ начальника отряда. Сначала определили порядок действий — следовало так провести учебную тревогу, чтобы большинство солдат отоспали положенное, а сразу после тревоги начать плановые занятия согласно расписанию. А им самим разве теперь до сна?
— Кофейку выпьем — и вперед.
Постучавши робко, вошла в комнату Марина и, не сказав «доброе утро», начала с упрека:
— Всю ночь не спали, а теперь опять на ногах. Вы что, себя совсем не жалеете? А с тобой, Латып, я больше не стану так долго миловаться. Лучше покараулю твой сон.
— Привыкай, Марина, — тоном опытного в житейских делах человека посоветовал Михаил Богусловский. — Так будет до тех пор, пока твой Латып не перешагнет заставский порог. А это, думаю, свершится не вдруг.
— Не обижайся, кыз-бала, — вставил слово Латып Дадабаев. — Приготовь нам кофейку.
— Вот на это, Латып, я могу обидеться. У меня все готово. Не только кофе, но и завтрак. И потом: что это за кыз-бала?
— Девочка-ребенок, если дословно. А смысл: нежная, милая девушка.
— Принимаю. Умывайтесь — и ко мне.
Кроме двух тренировок по тревоге «пыль в глаза», как ее окрестили рядовые пограничники заставы (хотя им никто ничего толком не объяснял, от солдат правду не скроешь), ничего особенного не произошло. Даже задержание в ночь перед приездом гостей прошло буднично — всего лишь с несколькими выстрелами. Да и ноша мизерная: килограммов пять анаши.
— Игра-игрушки, — оценил переход «ишака» Латып Дадабаев.
Он не стал передавать контрабандиста по отработанной схеме, решив оставить его до приезда Исмаила Исмаиловича, — в качестве доказательства того, что депутат не зря вложил деньги в ремонт и благоустройство заставы. Приехавший встречать депутата начальник отряда одобрил решение Дадабаева:
— Ему и отдадим ходока. Пусть увозит в Душанбе.
— Не отпустит по дороге? — усомнился Богусловский, но сам же ответил: — На подобное не осмелится. Не глупый же он. А если отпустит — для нас же козырь.
Не взял с собой контрабандиста Исмаил Исмаилович — объяснил, что не имеет права без конвоя везти нарушителя, а вот побеседовать с ним согласился. Вдруг удастся узнать сам источник наркотовара и сделать соответствующие выводы? А потом в депутатском послании известить соответствующие органы. Более того, он попросил оставить его с контрабандистом наедине.
Пошли офицеры депутату на уступки — пусть его… Они верно рассудили, что переход контрабандистов через остров и переправа через Пяндж «ишака» с анашой — звенья одной цепи. И, если бы даже они успели передать контрабандиста местным властям, Исмаил Исмаилович всегда изыскал бы возможность встретиться с ним, если ему необходимо. Похоже, ему нужно непременно выступить с думской трибуны по возвращении в Душанбе, что называется, пустить пыль в глаза.
В своих умозаключениях офицеры приблизились к истине почти вплотную. Но это — день завтрашний. Пока же они ждали доклада с поста наблюдения о приближении внедорожника и, когда он поступил, вышли встречать уважаемых гостей. Майор Костюков доложил Исмаилу Исмаиловичу по форме, тот снисходительно принял рапорт, добавив:
— Более подробно проинформируете позже. Когда мы с другом моим передохнем с дороги.
Иосиф Лодочников, подражая депутату, тоже кивнул снисходительно.
— Хорошо, — принял предложение депутата майор Костюков, добавив — Лейтенант Богусловский проводит вас в специально приготовленную приезжую, пристроенную к дому. Надеюсь, одобрите наше старание. У нас же по плану — боевая тревога. После подведения итогов я — в вашем распоряжении.
— Боевая тревога? Тогда отдых откладывается. Я желанию посмотреть на действия пограничников и об увиденном сообщить с депутатской трибуны своим коллегам. Надеюсь, последует достойное поощрение, если застава будет достойна этого.
С позиции не только военного, но и простого обывателя то, как устроена система обороны заставы, вполне может вызвать не один вопрос: слишком много уязвимых элементов, а самый бросающийся в глаза — подъем пограничного отделения на плато по открытой лестнице, которая видна с берега Пянджа. Пара снайперов перестреляет все отделение, как куропаток.
Майор Костюков ждал замечания Исмаила Исмаиловича именно по поводу этой лестницы, и у него был готов ответ: благодарность за мудрую подсказку и заверения, что недостатки, допущенные по недосмотру бригады строителей, будут устранены немедленно. Увы, Исмаил Исмаилович только, восхищался, и никаких замечаний не последовало. Он заверил:
— Я добьюсь положительного решения Думы о поощрении командования заставы и лично вас, Прохор Авксентьевич. Вы, как я понимаю, сами занимались оборудованием системы обороны.
— Не без того, — скромно признался майор Костюков.
И как бы продолжением этого диалога стал разговор Богусловского с Лодочниковым. Передав кучу приветов и поведав о жизни родных и друзей Михаила, Иосиф в конце посоветовал:
— Иметь друзей в Москве — очень важно. Только почти все они — бывшие. Бэ-у, так сказать. Пора обзаводиться новыми, кто в нынешней действительности на плаву. И не только в Москве. Ты служишь здесь, и здесь они тебе В даже нужнее. Влиятельные. Сильные. Предложи свою дружбу Исмаилу Исмаиловичу, и ты не пожалеешь. Если не против, через меня предложи.
Резкое слово готово было сорваться с языка Михаила, но он себя обуздал и ответил почти спокойно:
— Богусловские отличались тем, что право на карьеру завоевывали своими делами.
— Но дела, даже героические, могут остаться незамеченными. А могут быть даже осуждаемыми. С какой стороны глядеть на дела. Против лома нет приема. Банально, но очень верно сказано.
— Но лом может выпасть из рук.
— Не спеши с окончательным решением. Прикинь. Взвесь.
Кивнул согласно Михаил Богусловский, хотя ему очень хотелось плюнуть в лицо Иосифу Лодочникову.
Обсуждение этого диалога состоялось в канцелярии заставы, после отъезда Исмаила Исмаиловича с битком набитым фазанами багажником внедорожника.
Иосиф Лодочников тоже слово в слово пересказал Исмаилу Исмаиловичу свой разговор с Богусловским, не забыв о согласном кивке лейтенанта, чем возбудил надежду Исмаила Исмаиловича приручить молодого офицера (судьба Костюкова и Дадабаева решена: они приговорены), который станет начальником заставы. Об этом позаботится он, Исмаилбек, лично. Тогда Приостровная станет его заставой.
— Начнем с поощрения за нелепую оборону. Ему — самая высокая правительственная награда, а также приличная премия в валюте. Твоя, Иосиф, задача, дать понять, откуда такая благосклонность.
— Понимаю, Исмаилбек.
В канцелярии же более детально разбирали каждую фразу, каждое слово Лодочникова. Майор Костюков особенно одобрил согласный кивок Михаила:
— Молодец. Дал надежду…
— Если честно, Прохор Авксентьевич, набрал бы я полный рот слюны, да смачно плюнул в продажную морду!
— Ты слюни свои, Миша, прибереги до лучших времен, а пока — поиграй. Держись линии: ни да ни нет. Усек?
— Конечно, усек, но трудно наступать себе на горло.
— Постарайся, Михаил. Не сфальшивь. Для пользы дела…
Глава десятая
С радостной вестью вошел в кабинет Костюкова подполковник Кириллов: И через пару дней вертолетом доставят три стационарных прибора ночного видения и двадцать пять прицелов ночного видения на автоматы.
— Сказали — первая ласточка. В скором времени, как обещали, на каждую заставу по стационару и по пятку, а то и больше автоматных. Это уже что-то. Можно думать о внесении поправок в систему охраны границы. По докладам начальников застав и комендантов.
— В первую очередь установить на Приостровной. Срок — всего полторы недели. До того как пожалует наш горячо любимый гость — народный избранник.
Вопрос, где установить прибор ночного видения, вроде бы уже решили после долгих дискуссий, но, когда дошло до дела, он возник вновь: вышка или плато? Заговорил об этом начальник штаба:
— Как ни крути, а из амбразуры не охватить весь остров, уж я не говорю обо всем участке. Нам очень важно — держать весь остров под контролем, а не его часть. Не менее важно держать максимальную площадь участка заставы под наблюдением.
— Зовем инженера, — предложил Костюков. — Послушаем еще раз его мнение. Не делая упор на остров, поведем речь о круговом обзоре.
У начальника инженерной службы отряда уже выработан план установки приборов на первых трех заставах. Среди них и Приостровная. Более того, она стоит первой в списке. И, когда его пригласил майор Костюков, он догадался, о чем пойдет речь. И сразу же, войдя в кабинет начальника отряда, расстелил на столе чертежи предполагаемой установки трех постов наблюдения. Костюков взял чертеж поста на Приостровной: бетонные стены толщиной пятьдесят сантиметров, чтобы мина не смогла причинить вреда, узкая щель по всему кругу с жесткими перемычками.
— Ты что, бочку предлагаешь?
— Да, круглый НП удобней. Не нужно над квадратом городить купол для кругового наблюдения. В куполе стесненность неизбежная, а по нашей задумке — более просторно. Сам же прибор — на тележке. Катай по кругу, куда тебе потребуется. А стол и азимутный крут — в центре.
— А где эту бочку ставить?
— Над дзотом. Из него подниматься на пересменку.
— Разумно. Принимается. За полторы недели управитесь? Людей выделим столько, сколько нужно. Заставу от службы не станем отрывать.
— Мы все просчитаем, и через час я доложу.
Когда инженер вышел, подполковник Кириллов высказал сомнение:
— Не насторожим ли мы Исмаила Исмаиловича?
— Вполне. Пыль придется пускать. Хотели, мол, вышку, но решили пойти по более рациональному пути. Обзор, конечно, куда хуже — половины участка не видно, да и остров не весь просматривается, зато огневая точка на плато замаскирована. Пусть считает нас олухами царя небесного: имея открытую лестницу, о какой маскировке можно говорить? А вот о приборе ночного видения — ни гугу. Пост наблюдения — только дневной. Чтобы на берег Пянджа днем меньше нарядов высылать. И вот еще что: я до приезда «народного» на заставу не поеду. Тебе держать строительство НП под контролем. Главное — прикинь, как он будет выглядеть не на чертеже, а на местности. Разок начальника тыла пошлем. Пусть он попутно свою дочь проведает. Глядишь, откроется она ему, расскажет о своем выборе. Да он и сам не без глаз. Разглядит и, возможно, поторопит со свадьбой.
Уже на следующий день инженерно-строительная бригада, которую возглавил сам начальник службы, выехала из отряда на Приостровную. Впереди колонны — машина начальника штаба. На две другие заставы, где тоже предстояло возводить посты для ночного наблюдения, выехал майор Костюков с офицерами службы, чтобы привязать чертежи к местности. Для них сроки были определены не такие короткие, но довольно жесткие, на долгострой не рассчитанные.
Хотя инженерно-строительной бригаде на Приостровной было ясно, как важно выполнить задание не только в срок, но даже раньше, штаб отряда продолжал следить за ходом строительства НП. Через день, как только покинул заставу начальник штаба, сюда приехал заместитель начальника отряда по воспитательной работе. С ансамблем из отрядной самодеятельности и сменной библиотечкой. Как он выразился — вдохновлять с помощью культуры. И по этому поводу у него с инженером начался философский спор. Вернее, не спор, а возмущенный монолог одного и робкая попытка возразить — другого.
— На мой взгляд, вы несете пургу, — назидательно заговорил инженер, и ваш лозунг «Культура спасет мир» верен при одном условии: культура — это не песни и пляски. Даже не кино, не литература и не живопись… Вот ты, воспитатель, изначально являешься носителем ложной идеи. Обратись к философам древности, к философам средних веков, эпохи Возрождения, да и к трудам наших, отечественных мыслителей как к дореволюционным, так и к тем, чьи книги издавались в первые десятилетия советской власти. Как они трактовали культуру? В первую голову — культура правления и распределения материальных благ. Не менее важна культура производства. Все ее виды: промышленность, земледелие, торговля и средства обороны. И только часть общей культуры — живопись, поэзия, зрелища…
— Ты не строй из себя ниспровергателя основ. У нас есть Министерство культуры и учреждения культуры. А в войсках — отделы культуры.
— Меня, и не только, думаю, меня, возмущает такое положение в культуре. Было бы верным, если бы министр так называемой культуры, вступив в должность, счел бы себя обязанным изучить хотя бы «Очерки русской культуры», — их подготовили профессора МГУ лет этак двадцать назад. Там речь идет о культуре промышленной, агрокультуре, культуре военного строительства и так далее. И лишь в заключение — искусство и литература.
— Считаешь, там, в Кремле, люди глупее тебя?
— Не считаю. А вот о том, что идет целенаправленное оболванивание народа, причем, вполне осознанное и глубоко продуманное, могу говорить… Более того я возмущаюсь. Выходит, я, инженер, творец реальных материальных благ, — быдло. А певица с телесами прелестными, но без голоса и умения достойно вести себя на сцене, без пошлости, или юмористы, которые из кожи лезут, чтобы убедить наш народ, что он глуп и неотесан, — они носители так называемой великой культуры, которая должна спасти мир? А то бери выше. Они — деятели культуры. Они — звезды!
— Не против ли ветра?
— Против. Только не ветра, а суховея. Очень уж удобная позиция: звезды телеэкранов, деятели культуры с одной стороны, серая масса — с другой. Она бескультурна, поэтому без должного восторга воспринимает разные шоу, оттого у нее все идет наперекосяк: заводы и фабрики простаивают, земли заброшены, и приходится везти зерно с окорочками из Америки, где шоу в почете. А быдло, мол, не понимает настоящей культуры, потому мало выделяется денег из бюджета. А нужно ли, скажи мне, финансировать и поддерживать тех, кто культивирует пошлость, сексуальную распущенность и насилие? Тех, у кого образец искусства — бегать по сцене в полосатых трусах или демонстрировать интимные части тела?..
— Как я понял, мне самодеятельность следует отправить назад?
— Ничего ты, воспитатель, деятель культуры, не понял. Хотя бы вспомни давний лозунг — хлеба и зрелищ.
— Это только в Риме бузили. Им хлеб давали бесплатно, за зрелища тоже не брали деньги.
— Признаю глубину твоих познаний, но что ты скажешь, например, о скоморохах? Даже в семнадцатом веке, когда церковь, казалось бы, была всесильна, попы жаловались, что прихожане не ходят в церковь, ссылаясь на занятость, а когда приезжают скоморохи, бегут гурьбой на площадь. Их запрещали и проклинали, их заключали в тюрьмы, но они жили и веселили народ. Но об этом довольно. Нет смысла вести полемику с человеком, чьи взгляды на культуру столь примитивны.
— Что ты твердишь: культура, культура… Не деятель я этой самой культуры, я — воспитатель.
На этом и окончился их диспут. Заместитель начальника отряда по воспитательной работе пробыл на заставе пару дней, но не смог скрыть обиды на инженера. Он, по сути, был согласен с инженером, но не признаваться же в этом лейтенантам. Да и вообще, уместно ли так унижать его при молодых, при подчиненных? Это подрывает авторитет. Вот и поставил он себя в позу недоступного, к кому нельзя обращаться без почтительного чинопочитания.
Натянутая обстановка сложилась на заставе, хотя концерты самодеятельного ансамбля были весьма хороши.
Но вот будто повеяло свежим ветром: пожаловал начальник тыла. Да не один. Привез с собой прапорщика Михаила Алдошина. Старшину заставы. Перво-наперво сделал внушение Латыпу Дадабаеву, который после рапорта продолжал обращаться к нему по званию:
— Латып Дадабаевич, ведь тебе известно мое имя-отчество… Мы же офицеры. Я и Михаилу Алдошину то же самое сказал. И не о панибратстве речь, просто так теплее.
Старшему лейтенанту Дадабаеву привычны манера поведения начальника тыла и его стиль работы, а вот лейтенанту Богусловскому все в новинку: подполковник, совершая обход заставы, замечал то, что для них, хозяев, стало привычным, примелькавшимся, но за недостатки он не распекал. Он их делил, и очень справедливо, на две части: в одной — вина командования заставы, во второй — вина работников тыла комендатуры или отряда. По первой части сразу же определял срок устранения, по второй — сделал распоряжения, позвонил своему заместителю и под диктовку перечислил все, что необходимо доставить на заставу. Не забыл и о сроках исполнения приказа.
«Вот это — стиль! — восхищался Богусловский. — Учись. Впитывай».
И только когда все служебные вопросы были разрешены, подполковник Угров задал Дадабаеву давно ожидаемый им вопрос:
— Потерлись носами с Мариной?
— Да. У нас твердое намерение создать семью.
— Какую? Свою или нашу?
— Одну. Общую, Степан Николаевич.
— Тогда с этого и следовало начинать: просить у нас с женой руки дочери. А вы… — Он махнул рукой. — Да что с сегодняшней молодежью поделаешь! Распустились донельзя. Марину я тоже против шерстки поглажу.
Когда же пришло то самое время, когда Степан Николаевич должен был исполнить свое родительское обещание, Латып Дадабаев и Михаил Богусловский с улыбкой наблюдали, как гладит отец против шерстки свою дочь. Она прильнула к нему, нежная, беспомощная, и шептала, захлебываясь:
— Ой, папка, я влюбилась. Очень сильно…
— Знаю, дочка. Слух дошел. Могла бы и сама позвонить.
— Когда, папка? Михаила, вот, лечу. А солдат сколько…
— Ладно-ладно, не оправдывайся. Винись, коль так случилось. Ты лучше зови к столу. Небось, успела напечь, наварить и нажарить, чтоб загладить свою вину?
— А то, папка… Все готово.
Уютно за столом. Очень уютно. Марина просто сияет, а Степан Николаевич добродушен. Дадабаев с Богусловским уже не чувствуют себя подчиненными, беседа течет спокойно. И как-то само собой определилось, хотя с этим был не вполне согласен Латып Дадабаев, — свадьба в отряде. В городском ресторане. Помолвка — в их квартире, как только Марина излечит своего больного. Долго ждать, но что поделаешь?..
Не все устроилось по уговору. Что касается свадьбы, ее в самом деле отпразднуют в самом лучшем ресторане города, хотя это свершится не вдруг, а вот с помолвкой дело иначе повернется. И с полным на то согласием родителей Марины.
Вскоре после того как майору Костюкову доложили о завершении строительства НП и установке на нем прибора ночного видения — прибор уже был испытан, и круговое наблюдение обеспечено на все сто, — ему позвонил Исмаил Исмаилович:
—: Две приятные новости, Прохор Авксентьевич. Завтра вы получите приказ о присвоении вам звания подполковника, а через три дня я буду на заставе, чтобы вручить вам лично новые погоны. Вторая новость: мне поручено вручить офицерам заставы и вам лично правительственные награды и денежные премии. Рассчитываю подъехать часам к пяти вечера. Надеюсь, не откажетесь подъехать на заставу к этому времени?
— Не откажусь, уважаемый Исмаил Исмаилович. Обязательно буду. Часа за два до вашего приезда. С благодарностью приму погоны, награду, да и от премии не откажусь.
Положив трубку, принялся анализировать услышанное. Со званием все ясно. Еще в Москве кадровики, сообщая о назначении его начальником отряда, обещали не задерживать с присвоением очередного звания, не затягивать полугодичный испытательный срок. Значит, сдержали слово. Стало быть, все по уму. Но отчего Исмаил Исмаилович примазывается к этому, в общем-то обычному событию? Вряд ли только для демонстрации своего могущества. Для этого достаточно награды и денежного поощрения. Иное тут что-то. Но что? Скорее всего, желает показать свою заботу, чтобы ни тени подозрения на него не пало после покушения.
«Именно — так. Стелет соломку».
Очень существенно и то, что он определил время приезда. Стало быть, где-то поблизости от заставы произойдет нападение. Нужно предупредить Приостровную и соседнюю заставу справа, чтобы взяли под усиленное наблюдение. не только береговую линию, но и подходы к тугаям с тыла. Особенно в том месте, где дорога километра за четыре до села почти соприкасается с тугаями.
Еще один вопрос: нужна ли охрана? Если о своей безопасности думать, то не помешает. Но что касается дела — нет, никак нельзя ее брать даже в этот критический момент. Он мог бы пристегнуть к себе охрану сразу же, как получил весть от улемы, но не сделал этого. Рассудил так: появление охраны, особенно на бронетранспортере, наведет организаторов покушения на мысль о вероятном предупреждении. И тут же — другой вопрос: кто мог предупредить? Не глупые люди рулят партией Освобождения Ислама или какой-то другой, желающей создать халифат, — они вполне могут докопаться до истины, и тогда улеме несдобровать. Жалко честного человека, жаль терять и ценного информатора. Именно ради этого он рисковал собой, ради этого готов был подставить себя под пулю.
И тут у майора Костюкова родилась, так сказать, игривая мыслишка: рисковать — так с музыкой. Надо убедить Исмаила Исмаиловича, что ничегошеньки он не знал о том, что на него готовилось покушение. Возбужденный, он кинулся в кабинет начальника штаба.
— Что-то необычное? — встретил его вопросом подполковник Кириллов.
— И да, и нет. Мне представляется, что нужно все обставить предельно буднично и в то же время без особой огласки. Вот я и пришел к тебе.
— Выкладывай. Все, что в моих силах, исполню.
— На Приостровную нужно съездить. Там молодежь носами трется, а решительного шага никак не делает. Поедешь сватом. Подскажешь Дадабаеву с Богусловским: пусть на день приезда Исмаила Исмаиловича назначат помолвку. Он везет какие-то правительственные награды офицерам заставы и мне. А еще премиальные. А мы его своим порадуем.
— Но он предполагает, что ты не доедешь до заставы, — сразу же раскусил коварство депутата подполковник Кириллов. — И ради чего антураж?
— Ради улемы. Если со мной что-либо случится, с ним тебе продолжать контакты. Лично. Ни слова даже нашим отрядным разведчикам. Данные, которые выходят за нашу компетенцию, — только в Москву. Адресат я передам тебе в день отъезда на заставу.
— Возьми сопровождение, а не оставляй прощальную записку.
— В том-то и закавыка, что не могу взять с собой охрану, не поставив под угрозу жизнь улемы. Только на свои силы придется рассчитывать.
— Погоди, Прохор Авксентьевич, не спеши. Прикинь, может ли быть помолвка без родителей невесты? Смертельно их обидишь. Но не повезешь же ты их в своей машине! И вообще, со Степаном Николаевичем стоит переговорить.
— В самом деле, недодумал.
— Пусть он с тобой поедет на своей машине и возьмет кроме жены еще пару добрых стрелков. Никаких вопросов не возникнет, никаких подозрений.
— Так и поступим.
Однако до отъезда на Приостровную майор Костюков передумал ехать двумя машинами: не захотел подвергать опасности начальника тыла и его жену. Он так и приказал, не слушая возражений:
— Поедете с женой, Степан Николаевич, через полчаса после меня, но не догоняйте.
— Отчего не вместе?
— Так требует обстановка. Все. Больше никаких вопросов.
Утром того же дня, на какой наметил свой приезд Исмаил Исмаилович, Костюкову позвонил начальник Душанбинского управления. Поздравил с присвоением звания подполковник и попросил пока не прикреплять вторую звездочку, а дождаться гостя, который вручит ему новые погоны. По словам командующего, депутат сам захотел это сделать, и ему пошли навстречу, ибо он много сделал и для заставы, и для отряда, а еще больше сделает, если к нему относиться с уважением.
— Спасибо за поздравление. С удовольствием приму из рук народного депутата новые погоны.
— Хорошо. Но ты ответь мне на один вопрос: когда семью вызовешь? Не временщик же ты. Или я ошибаюсь?
— Не временщик. В ближайшее время вызову семью, — заверил Костюков, про себя же подумал: «Если останусь жив после покушения».
И еще он подумал, сколь расчетливо ведет свою линию так называемый народный депутат, просчитывает каждый шаг, и бороться с ним без серьезной подготовки нельзя — сядешь в лужу.
В урочный час машина начальника отряда миновала КПП, и Костюков сразу же предупредил водителя, что именно сегодня на них будет совершено покушение.
— Где дорога к тугаям липнет? — сразу же определил водитель, но свою догадку высказал в виде вопроса.
— Скорее всего — да. Но на всякий случай километров через десять переходим на сорок. Тебе смотреть не только на дорогу, но и влево. Я беру под наблюдение правую сторону.
— Но, чем быстрей газовать, тем трудней выделить…
— Ишь ты — трудней. А тренировки для чего? Считаешь, что неумеху или неумех пошлют? В такой обстановке важно другое — нам первым и увидеть, и принять упреждающие меры. Навязать им свою тактику. Чтоб на выстрел — очередь.
Все ближе предполагаемое роковое место. Надеты каски. Скорость — меньше сорока. Левый борт чистый. Местность вокруг ровная. Пожухлая трава, и лишь местами обработанные полоски земли. Маш, жугара, кукуруза. В жугаре и кукурузе вполне можно затаиться, но вряд ли там будет устроена засада. Далековато все же от дороги, да и отступать после покушения трудней, чем в тугаях. Скорее всего, засада будет именно в тугаях. И малочисленная. Заставы докладывали, что никаких следов на береговой кромке не обнаружено, а днем наблюдение за Пянджем велось непрерывное. С тыла подхода больших групп людей тоже не зафиксировано. Только несколько дехкан вышли на свои делянки. Но из кукурузного поля в тугаи прошмыгнуть незаметно вполне можно, оттого внимателен взгляд Костюкова — он замечает малейшие изменения на знакомом уже пути.
Вроде бы признаков засады не видно, а место роковое все ближе и ближе. Может, обойдется и сегодня? Нет… Вон, впереди, пригнута ветка молодого боярышника. Не сломана, а именно пригнута.
— Останови машину метров через тридцать. Вот так. Открой капот, но у мотора не задерживайся. Обходи машину, будто за инструментом идешь к багажнику. Но автомат не поднимай — держи как можно ниже. У багажника копайся, сам вон тот куст держи под наблюдением.
Остановка «уазика» обескуражила боевика-снайпера. Случайность? Или он обнаружен? Но растерянность минутная. Решение принято: выстрел в голову офицера, потом бегом в тугаи, а то и в Пяндж. Не сразу поднимут тревогу, можно успеть отплыть подальше от берега.
Осторожно приподнял маскировочную ветку, подвел перекрестие прицела чуть ниже ободка каски, начал спокойно, чтобы не дрогнул ствол, нажимать на спусковой крючок… Но голова вдруг исчезла. Укрылась за дверцей. Не смог сдержать пальца снайпер. Выстрел грохнул. Затем второй, третий… Уже по дверце. Она — не препятствие для пуль. Достанут. Еще пара выстрелов, затем — уходить.
Автоматная очередь в ответ, и несколько пуль попали в цель. Снайпер успел только обругать себя, что не надел бронежилет под халат, и потерял сознание.
Тишина. Минута… Вторая… Третья… Прохор Костюков выбрался из машины.
— Спасибо тебе, что придумал бронировать дверцу. Спасло это меня. А ты хорошо его утихомирил.
— Может, притворяется. Проверю, высунувшись. Или дам еще пару очередей.
— Ни в коем случае. Держи цель на мушке, а я — в обход.
Согнувшись, Костюков прошел к переднему бамперу, затем, изготовившись, стремительным броском пересек дорогу перед машиной и скрылся в тугаях. Выстрела не последовало. Осторожно — палец на спусковом крючке автомата, — шаг за шагом приближался Костюков к месту, откуда стрелял боевик, предвидя, что тот может сменить позицию и обстрелять его откуда-нибудь сбоку. Он внимательно, иной раз даже приседая, просматривал тугаи, готовый ответить очередью на выстрел.
Донесся стон. Тихий. Не то чтобы сдерживаемый, скорее слабый. Теперь можно двигаться смелее сохраняя особую осторожность только при подходе к боевику. Ведь раненый боевик может вскинуть винтовку, чувствуя неминуемый конец. Он даже подумать не может, что его станут лечить. У моджахедов закон один: только мертвый враг — безопасный враг.
Поглядев на Прохора Костюкова со стороны, кто-либо мог подумать, что он вроде той пуганой вороны — каждого куста боится. Но он не был трусом, просто умел рассчитывать каждый свой шаг, имея опыт Афгана. Сколько боевых друзей осталось там только потому, что действовали как бездумные храбрецы. Именно там он понял главное — побеждает тот, кто осторожен и расчетлив. Героизм — не в отчаянной гибели, а в убедительной победе. Как «Отче наш» твердил он это себе и своим подчиненным.
Шаг, другой… Осторожно раздвинул ветки колючего боярышника, и вот он — во всей красе. В халате простого дехканина. Бездвижен. Снайперская винтовка выпала из рук. Решительно шагнул, пинком откинул винтовку в сторону. Теперь можно не торопиться. Вдруг на нем пояс шахида? Начнешь раненого поворачивать на спину — взрыв…
Однако не стоит задерживаться над потерявшим сознание раненым — надо что-то предпринимать. Костюков начал с халата.
Осторожно откинул полу — пояса шахида нет. Уверены были хозяева боевика, что никаких осложнений у него не возникнет. Впрочем, какое им дело до жизни наемного раба? Выполнит волю Аллаха — получит награду. Погибнет — так, значит, угодно Аллаху. Неудачника можно заменить другим. Или провести более масштабную акцию. Чтобы наверняка.
Что делать дальше? Выносить раненого на дорогу или ждать, когда подъедет начальник тыла с солдатами?
«Подождем», — определился в конце концов Костюков и вышел на дорогу. Сказал водителю:
— Вроде обошлось.
— А не может быть, товарищ майор, еще одной засады впереди?
— Отчего же не может. Вполне.
— А начальник тыла с женой?
Вот тебе раз! Ничего от солдат не скроешь. Все видят, все понимают. И рассуждают верно.
— Женщину отправим назад. Вместе с раненым и охраной.
— Если согласится.
— Выходит, и о помолвке осведомлен водитель? Ну и бестия… Но, что важно, надежный парень. Смелый. Уверенный в себе. И осторожный. Металлом из бронежилетов усилить дверцы — его идея. И все же Костюков нашел нужным предупредить водителя:
— Не обо всем, что знаешь, можно говорить.
— Так я только с вами, — явно обиделся водитель. — У меня язык на замке.
— Не сердись. Серьезное дело мы делаем. Очень даже. Не хочется, чтобы оно забуксовало из-за случайно брошенного слова. Потому и предупреждаю.
Подрулил «козлик» начальника тыла. Подполковник Угров взволнован донельзя: неужели что-то произошло с мотором машины начальника отряда? Разве такое допустимо?! Похоже так и есть — капот открыт.
— Нет. Мотор в порядке, — успокоил подполковника Угрова Костюков. — Вон оттуда стреляли. Не исключаю возможности второй засады, поэтому поступим так: раненого под охраной солдат — в медсанчасть. Начальник штаба допросит, когда боевик придет в сознание. Жену вашу тоже отправим обратно. Зачем подвергать женщину риску?
— Вы думаете, это легко сделать? Попробуйте. Я лично не берусь. Она мягкая, как пух, только тверже стала.
Действительно, узнав о решении отправить ее домой, она заявила, что, если ее не возьмут в машину, пойдет пешком и дочь свою на брак благословит.
— Решайте: или я пойду, или вы повезете меня!
— Ладно уж, повезем, — уступил Костюков. — Только не трусить, если начнется стрельба.
— Дайте мне автомат, и вы узнаете, как метко стреляет жена пограничника. — Все заулыбались, и она сурова повторила: — Я не шучу!
Раненого устроили на заднем сиденье так, чтобы могли сесть справа и слева охранники. И майор Костюков попросил водителя ехать на предельной скорости, чтобы довезти боевика живым. Когда же машина скрылась за поворотом, сказал:
— Пора и нам.
До самого села ехали очень осторожно, готовые ответить огнем на огонь, но все прошло благополучно. Дальше — проще. Дорога от села до заставы — под наблюдением, тут ни засады не могло быть, ни фугаса.
— Товарищ майор, — начал было официальный доклад Латып Дадабаев, но Костюков остановил его: — Погоди. Во-первых, мне нужно спешно позвонить подполковнику Кириллову, а во-вторых — я уже подполковник.
Не слушая поздравлений Дадабаева с Богусловским: «Потом, потом», — торопливо направился в канцелярию.
Кириллов ждал звонка. Сразу же схватил трубку и с облегчением вздохнул, услышав голос начальника отряда. Спросил:
— Ошибочное предположение?
— Нет. Свершилось. Вот-вот раненый будет у тебя. Организуй надежную охрану. Настоятельно попроси медиков, чтоб привели в сознание. Допроси лично. Без единого свидетеля. Все запиши на магнитофон. Наверняка раненый знает русский. Он не из-за реки. В Душанбе позвони после своего допроса. Передай только представителю нашего пограничного управления или сотруднику госбезопасности. Действуй. А мы приготовим встречу депутату.
Еще полдня до приезда Исмаила Исмаиловича. Можно многое успеть. И главное — оглоушить его в первые минуты. Отправив подполковника Угрова на помощь женщинам, а с ним и прапорщика Алдошина, Костюков, Дадабаев и Богусловский принялись обсуждать детали предстоящей встречи Исмаила Исмаиловича и свои действия во время его присутствия на заставе.
— Мою машину поставьте так, чтобы она сразу бросилась ему в глаза. Погляжу я на выражение лица всенародно избранного, когда стану рапортовать. О покушении — ни слова. Своих невест предупредите, а чету Угровых я возьму на себя. Поведем себя так, будто ничего из ряда вон выходящего не произошло.
— А о задержанных контрабандистах с острова?
— Во время рапорта я доложу об этом. Подробности — за тобой, Михаил. В так называемой откровенной беседе. Особенно с Лодочниковым. Но без своих оценок и выводов. Вроде обыденный для нас факт. Он нас не удивляет.
— Когда они уедут на охоту, я лично поднимусь на НП. Пронаблюдаю их маршрут. Посчитаю выстрелы. Потом можно будет пройти по их пути. Наверняка тайник найдем.
— Ни в коем случае на остров не соваться. Ни в коем случае. Уверен, за ним непрерывно наблюдают с сопредельной стороны. Днем и ночью. А выстрелы посчитать и маршрут засечь — верное решение.
— По тревоге будем поднимать?
— Спросим, не желает ли поглядеть, как застава ловко действует по тревоге? Если изъявит желание, тогда поднимем. Так будет лучше.
Еще с полчаса поговорили они, после чего направились в офицерский дом: поглядеть, все ли готово к торжеству, и предупредить, чтобы никто не проговорился о покушении. В полном неведении должны остаться гости. Почему? Так нужно в интересах службы. Лишний шум никому не нужен. Еще на газетные полосы вылезет информация от журналистов отбою не будет.
Такого объяснения вполне достаточно для непосвященных. Костюков запретил женихам даже невестам рассказать правду. Только им троим она известна, и такое положение нужно сохранить.
Приход женихов чуть было не расстроил слаженный ход подготовки к застолью — женихи с невестами сразу же забыли обо всем на свете, но тут вмешалась мама Марины. Очень решительно:
— После свадьбы лизаться будете. А теперь — помолвка. Где ваша скромность? Где целомудрие?
Подполковники Костюков и Угров не смогли сдержать улыбок, видя, с какой неохотой отпускали руки своих невест Дадабаев с Богусловским и как скромно подчинились девушки власти старшей женщины. А она подошла к Прохору Авксентьевичу:
— Моя дочь, прапорщик, будет в форме. Гульсара — тоже не в подвенечном платье. В обычном, в каком ходит на уроки. Так мы определили. Мой муж согласен. За вами последнее слово.
— Не возражаю. Но давайте приостановим хлопоты и обсудим все вместе последовательность нашего торжественного мероприятия.
— Фу, мероприятие?
— В какой-то мере — да. Не только помолвка предстоит, но еще и награждение.
И вновь, не открывая истинного смысла действий, а делая упор на уважении к Исмаилу Исмаиловичу как бескорыстному спонсору, Прохор Костюков постарался определить роль каждого в предстоящем торжестве, хотя вполне понимал, что все может пойти иначе. Но для него главным было одно — сохранить в тайне факт покушения. Дважды он об этом предупредил, и, кажется, все поняли: нужно молчать.
Еще не покинул Прохор Авксентьевич офицерский дом, как дежурный доложил:
— Внедорожник миновал село.
— Поспешим, — пригласил офицеров Костюков. — Встретим во дворе. С почтением.
Как Прохор Авксентьевич и предполагал, Исмаил Исмаилович открыл рот, увидев машину Костюкова, а потом и его самого — впереди офицеров заставы и начальника тыла отряда. Было заметно, что он опешил. Вся, казалось, продуманная до мелочей акция провалилась. На что он рассчитывал? Щедро одарив Дадабаева с Богусловским, дать им понять, что и они могут оказаться на месте слишком принципиального майора, который не дал согласия перенести заставу на новое место. Теперь же награды и большие деньги теряли всякий смысл. Награждать врагов — что может быть более неприятным?
Исмаил Исмаилович, когда он как депутат выслушал короткий рапорт начальника отряда, едва удержался от вопроса, не случилось ли чего за время его отсутствия, но он вовремя спохватился.
— В первую очередь поздравляю вас, Прохор Авксентьевич, с присвоением высокого воинского звания, к чему и я приложил руку.
— Век буду помнить. Пока же прошу, уважаемые гости, в приезжую. Умоетесь с дороги — и милости просим на наше торжество.
— Какое? — вырвалось у Исмаила Исмаиловича. Он вдруг обрел надежду: торжество по случаю того, что Костюков остался жив после покушения. Если так, то замысел можно претворить в жизнь, лишь несколько видоизменив его. Самому подполковнику можно намекнуть, что неудача одного может окончиться удачей другого, что на все воля Аллаха или Бога. Увы, и эта надежда рухнула.
— У нас сразу две помолвки. Молодые рады будут услышать ваши, уважаемый Исмаил Исмаилович, поздравления как народного депутата.
— Конечно-конечно, — с артистичной вальяжностью снизошел Исмаил Исмаилович. — Вот только подарки? Выход один: я пообещаю и выполню свое обещание.
Он не спросил, кто женихи и невесты, он уже догадался, и его душа наполнилась гневом: с ним, знатным беком, ведут игру какие-то офицеришки! Подобное прощать нельзя! Он пообещает им одно, сделает же совсем другое. Они еще узнают его жесткую руку — руку рода беков. Все сородичи объединятся. Еще плотней. Плевок в лицо верблюжий: не он, привезший награды и деньги, главный герой, а заставские офицеры с их избранницами.
Исмаил Исмаилович гневался, еще не ведая, что одна из невест — Гульсара. Это добьет его окончательно.
А Прохор Костюков, Латып Дадабаев и Михаил Богусловский торжествовали. Первый ловкий удар нанесен, хотя с виду совсем невинный, но они добились своего: Исмаил Исмаилович, будучи оскорблен, начнет мстить, и тогда ошибок ему не миновать. А значит, будет больше поводов для его ареста властями Душанбе. Они бросили перчатку, вполне понимая, что донельзя усложнили себе жизнь. Осознанно шли на это ради торжества правого дела.
Враги сидят за одним столом, и главный из них — на самом почетном месте. Тамада (а им избран Степан Николаевич Угров), ни во что конкретно не посвященный, но имеющий четкие указания, поднимает фужер с красным виноградным вином и торжественно возглашает:
— Предлагаю на правах тамады внести поправку в наше торжество и выпить первый бокал не за будущее счастье женихов и невест, а за здоровье нашего гостя Исмаила Исмаиловича, народного депутата, и дать после этого ему слово. Как мне известно, он приехал с добрыми намерениями.
Выпили стоя. Никто не сел и когда заговорил Исмаил Исмаилович. Даже женщины.
— Да, у меня приятная миссия… — Он протянул руку к Лодочникову, сидевшему слева, и тот вложил в нее новые погоны с двумя звездочками. — От имени командования регионального управления и от своего имени я поздравляю Прохора Авксентьевича Костюкова с высоким воинским званием и вручаю ему погоны.
Все захлопали с искренней радостью, выпили ради этого до дна, сменили Костюкову погоны, тогда только Исмаил Исмаилович продолжил:
— Теперь — награды. Первые — от Российской Федерации. Медали «За отвагу» — начальнику заставы и его заместителю. — Похлопали, выпили, прикрепили к тужуркам медали. — Теперь — ордена правительства моей республики. Нашим героям.
Еще громче похлопали.
С не меньшим восторгом встретили собравшиеся и щедрый жест Исмаила Исмаиловича, вручившего пухлые конверты с долларами подполковнику Костюкову, старшему лейтенанту Дадабаеву и лейтенанту Богусловскому, а также обещание в следующий приезд привезти подарки помолвленным.
— Возможно, я смогу переслать подарки даже раньше, с оказией, а сейчас примите мои поздравления, Гульсара и Михаил Иванович, Марина и Латып Дадабаевич. Счастья вам на всю вашу жизнь.
Ну как не выпьешь за это до дна, хотя последние слова покоробили посвященных.
Еще несколько часов длилось застолье. Офицеры не спешили — заставу оставили на прапорщика Алдошина, будучи уверены в его разумной умелости и ответственности.
Он должен был в случае осложнения обстановки немедленно доложить. Но доклада не было, стало быть, жизнь заставы шла обычным порядком.
Ночь тоже прошла спокойно. Утром, ни свет ни заря, увез внедорожник Исмаила Исмаиловича с Иосифом Лодочниковым к острову, где уже ждала их надувная лодка. А еще раньше поднялся на пост наблюдения Латып Дадабаев. Обходным путем, не по лестнице. Усиленный наряд, который находился на огневой точке под НП, он отправил отдыхать: днем никто на заставу нападать не станет.
Как только внедорожник запылил по дороге к острову, старший лейтенант встал к стереотрубе и не отошел от нее, пока надувная лодка не переправила охотников обратно через протоку. Бросив наряду: «Продолжайте нести службу», заторопился на заставу. Ему нужно было успеть вернуться, пока не приедут с охоты гости, хотя охотничьи трофеи просмотреть поручено было Михаилу Богусловскому. Подполковник Костюков должен встать только к завтраку. Не раньше, во всяком случае, к тому времени, как приведут себя в порядок охотники.
Старший лейтенант Дадабаев успел. Он вроде бы не отлучался с заставы. Только поспал чуть дольше своего зама, который провожал гостей на охоту. Теперь вот встречает.
— Это вам. То есть нам всем на обед, — подавая рюкзак с фазанами Михаилу Богусловскому, сказал Лодочников. — Все вместе, надеюсь, пообедаем. Как всегда.
— Конечно, если обстановка позволит, — кивнул Богусловский, принимая рюкзак. — Сколько здесь?
— Дюжина.
— Добрая добыча. Еще и с собой увезете?
— А как же иначе. Не меньше этого. Фазанов на острове полно — хоть палкой бей.
Михаил Богусловский понес рюкзак в офицерский дом, Иосиф Лодочников шел рядом. Как-будто прилип.
— Вчера нам не удалось поговорить. Я тебе приветы привез от твоих. Все у вас дома ладно. Все здоровы.
— Спасибо. Вернешься, передай от меня всем привет. Расскажи о помолвке. Свадьба, скажи, будет в Москве. Я не отгулял положенного отпуска. Как наладится служба, — сразу в отпуск.
Дал Михаил повод Иосифу зацепиться, и тот повернул разговор в нужном ему направлении. Точнее, не ему — Исмаилу Исмаиловичу. Смысл многословных речей, как уловил Богусловский, таков: на заставе будет все спокойно, если держаться Исмаила Исмаиловича, очень влиятельного депутата, да и щедрого к тому же. Его щедрость, особенно к друзьям, не имеет границ. А потом вроде бы попутно поинтересовался, не было ли покушения на начальника отряда?
— Не знаю. Ничего он не говорил.
— Но вы же друзья. Один клан. Мы все три семьи едины. Разве мы можем скрывать что-либо друг от друга?
— Не можем. Думаю, если было покушение, он расскажет. Но пока нам не удалось остаться наедине. В следующий приезд доложу.
Поздновато. Лучше бы сейчас узнать, но само обещание дорого стоит. Получается, понял Михаил, что от него требуется. Посопротивляется недолго и поддастся.
Хотел Михаил Богусловский, пользуясь удобным моментом, поговорить о прицелах ночного видения для автоматов, о надежной связи заставы с пограничными нарядами, но не решился, поняв окончательно, на какой стороне баррикад Иосиф Лодочников.
Обед по внешней дружественности походил на вчерашнее застолье, на сей раз, само собой понятно, без вина и водки, но Костюков и офицеры заставы и без тостов нашли возможность высказать слова благодарности Исмаилу Исмаиловичу, а тот, в свою очередь, пообещал еще больше уделять внимания заставе, а также сельской школе, где теперь Гульсара станет работать, став женой пограничника. Поэтому ей особый почет и особое внимание.
Прохору Костюкову и Михаилу Богусловскому очень не понравились такие заверения Исмаила Исмаиловича, ибо уловили они коварный подтекст. Но разве скажешь об этом вслух, тем более за таким дружеским с виду столом. Напротив, его поблагодарили за обещание щедрой помощи и за то, что он уже сделал для заставы. А он сидел с гордо вздернутой головой, принимая благодарственные слова как должное, как заслуженное, хотя мысли его были злобными. Держать себя Исмаил Исмаилович умел. Лучше любого артиста. Никто не заметил фальши.
Лапша из фазанов и фазаны, запеченные в духовке с картошкой, съедены, выпиты пиалы чая с печеньем — пора в дорогу. Исмаил Исмаилович поднялся и, поблагодарив женщин за умелые руки, добавил:
— Как в России говорят: потехе час, а работе — время. Меня ждут государственные дела.
Внедорожник провожали все офицеры. Даже начальник тыла. С почтением провожали. А когда ворота за ним закрылись, все с облегчением вздохнули. Теперь подполковнику Костюкову предстояло решить деликатную проблему: не обидев начальника тыла, остаться с Дадабаевым и Богусловским наедине, но решение этой задачи облегчил сам Угров:
— С вашего позволения, Прохор Авксентьевич, я займусь с прапорщиком Алдошиным. Молодой еще старшина. Помогу ему освоить отчетность, погляжу, в порядке ли складские помещения. Сколько мне на это времени?
— Выезд через два часа. Чтобы засветло проскочить все опасные места.
— Мы с женой будем готовы.
— Автомат с двойным боекомплектом не помешает.
В канцелярии разговор начался с рассказа старшего лейтенанта Дадабаева о результатах наблюдения. Он показал на схеме, каким маршрутом шли охотники на фазанов и в какой точке остановились на довольно длительное время. Трудно было разглядеть сквозь тугаи, но, похоже, у них рюкзаки сразу значительно потяжелели. Обратно они шли той же тропой, не сделав ни одного выстрела. Всего же ими было сделано двенадцать одиночных выстрелов и пять дуплетов.
— Стало быть, не более семнадцати фазанов, если без единого промаха. Можно, конечно, допустить, что «народный» бьет наверняка, а вот друг его разве имеет навык? А фазана бить довольно трудно. Навскидку. Секунды решают успех.
— Лодочников сказал мне, что с собой они увезли больше того, чем выделили нам на обед…
— Выходит, около тридцати. Что? Заранее припасены? А не контейнеры ли эти самые, заранее припасенные фазаны?
Дадабаеву вопросы подполковника показались донельзя наивными. Разве не понятно было с самого начала, что именно в фазанах перевозится героин? Скорее всего, шкурка фазана на твердой основе, а внутри — наркотик. Он не считал нужным об этом даже говорить, полагая, что все понятно без слов. Даже в споре с погибшим начальником заставы он не говорил о своих выводах.
Теперь понял: поделился бы своими мыслями, быть может, старший лейтенант Чирков не стоял бы упрямо на своей позиции. Решил не умничать с начальником отряда:
— Я вижу такую схему: умельцы готовят из тушек фазанов контейнеры, чтоб внешне ничем не отличались от настоящих, и складируют их на острове в схроне. А народный депутат — послушный «ишак». Неприкосновенный «ишак». Умные головы это придумали.
— Прибор ночного видения, о котором ты так радел, позволит убедиться, прав ты или нет.
— Конечно. Как ни осторожничай, а фазана ночью спугнешь обязательно. Хоть одного. Засечем. Убедимся. И только после этого сделаем решительный шаг.
— А не проще ли, пригласив, как обычно, на обед, прощупать фазанов?
— Ни в коем случае. — Отбарабанив пальцами по столу «чижика-пыжика», подполковник Костюков решительно заявил: — Да, так и сделаем. Я поеду встречать жену в Душанбе и там переговорю с представителем ФСБ. Пусть найдет способ в самолете проверить Лодочникова. Он же может без досмотра проходить в самолет как помощник депутата. На ровном месте — шишка. Сколько их таких?!
После этого главного вопроса перешли к мелочам. Каждый поделился своим впечатлением о наградах и помолвке, затем Дадабаев пересказал разговор с Исмаилом Исмаиловичем по поводу прицелов ночного видения для автоматов, а Михаил Богусловский признался, что не стал говорить о них с Иосифом Лодочниковым, ибо раскусил его окончательно: продался тот с потрохами сам и подбивал его, Богусловского, пойти под руку Исмаила Исмаиловича.
— Он еще спрашивал меня, не было ли покушения на вас, Прохор Авксентьевич. Депутат липовый сам не решился спросить, подослал подручного. Я ответил, что не знаю, но пообещал, что к следующему приезду исподволь разузнаю и обязательно сообщу.
— Верный ход. Подумаем, что сообщить. Главное же вот в чем: мы сделали шаг навстречу опасности, теперь поединок — кто кого. Чтобы победить, нам придется продумывать каждый шаг. И давайте определим так: ни один из вас ничего не предпринимает, не посоветовавшись друг с другом и со мной. Я тоже без совета с вами не сделаю ничего серьезного. Предельная осторожность — вот что отныне руководит нашими действиями.
Зазвонил телефон. Начальник штаба на проводе. Он не стал пересказывать все, о чем узнал на допросе (допрос записан на магнитофон, и его лучше внимательно прослушать), но об одном доложил: готовится покушение и на Дадабаева. Он на очереди второй.
— Вот подтверждение моих слов, — положив трубку, со вздохом произнес подполковник Костюков. — Задача раненого боевика была такая: уничтожить меня, а затем — тебя, Латып Дадабаевич… Вот так. Думаю, и Гульсара не в безопасности. Пусть переезжает жить на заставу.
— Я говорил с ней об этом. Ни в какую. Только после свадьбы. Чтобы не обидеть аксакалов, которые оберегают ее. Она ведь уверена, что они при необходимости укроют ее надежно.
— А вот я не уверен. Исмаил Исмаилович и его родичи могут поступить совершенно неожиданным образом. Я поговорю с ней сам.
Разговор тот не принес желаемого результата — Гульсара соглашалась, что от Исмаила Исмаиловича, родственника Абдурашидбека, можно ждать чего угодно, но переезжать на заставу отказалась:
— Не поймут меня ни аксакалы, ни ученики и их родители. Безнравственно — до свадьбы соединяться с мужчиной. Я потеряю авторитет. Нет-нет. Никто не поверит, что мы с Мишей станем жить раздельно. Не настаивайте, Прохор Авксентьевич. И потом, я вполне надеюсь на аксакалов.
Очень глупо она поступила, отказавшись принять совет подполковника Костюкова. Судьба ее, можно сказать, была предрешена. И не только там, в имении Абдурашидбека, но и в салоне внедорожника.
Исмаил Исмаилович и Иосиф Сильвестрович полчаса ехали молча. Лодочников ждал вопроса о том, что удалось узнать насчет покушения на начальника отряда, но Исмаил Исмаилович все не задавал его. Он мысленно прокручивал назад ленту событий — все, что произошло на заставе, от встречи до проводов. На первый взгляд, ничего настораживающего, но это только на первый взгляд. Покушения на Костюкова не могло не быть. Пусть неудачное, но оно было. Почему же подполковник промолчал? Никто не обмолвился ни словом, хотя о покушении могли многие знать. Особенно начальник тыла. Да и офицеры заставы тоже.
«Нет прежнего ко мне доверия? Но тогда нужно закрывать на какое-то время наркоканал».
Логично. Только как это сделать? Ему недвусмысленно пригрозили, что если он не в состоянии обеспечить транспорт героина, его заменят. А это означает смерть… Нет и нет! Он лучше свернет шею этим твердолобым русским пограничникам, не знающим как жить спокойно и богато. И даже то, что он везет весь товар, выполнив обещание исправить упущения, что заслужит одобрение тех, кто благодаря пронырливости занял место повыше, не грело душу. Он ясно видел опасность и понимал — предстоит схватка, в которой возьмут верх либо он, либо кокаскеры.
Внедорожник подъехал к спуску в долину — заканчивались хмурые скалы, к которым нельзя привыкнуть и которые в то же время завораживают, впереди — буйное зеленое море, сквозь которое островками видятся плоские крыши, устланные камышом или циновками, а на них — урюк, кишмиш, инжир, они вялятся на солнце, продолжая набирать ароматную сладость. Каждый раз, когда Исмаил Исмаилович, возвращаясь с охоты, подъезжал к этому месту, он облегченно вздыхал, ибо считал, что очередная его поездка закончилась благополучно, что настырные российские пограничники больше ему не угрожают, что скоро он окажется в своем доме, полном юных дев-красавиц. Сегодня же почему-то облегчения не было — мысли его были заняты тем, как он расправится с офицерами-пограничниками. Лодочников, утомившись его молчанием, решился первым начать разговор:
— Лейтенанту Богусловскому неизвестно, было или нет покушение на Костюкова. Он обещал узнать к следующему нашему приезду. Похоже, он начинает понимать, что к чему.
— Твое слово — слово близорукого. Они все трое в одном клубке, как гюрзы в зимней спячке. Тронь одного — жало выпустят остальные. Моя задача либо запихать этот клубок в свой хурджум, либо покончить с ним. Ты поможешь мне в этом деле. Тот останется жить, кто поймет: на моем пути вставать нельзя. На пути бека из древнего знатного рода! Наш род не прощал и не прощает обид.
— Михаил Богусловский, как я думаю, станет ручным, если разлучить его на какое-то время с невестой Гульсарой. Он, похоже, безумно в нее влюблен. Умыкнуть ее и поставить условие: если он с нами, то невеста возвращается жива и здорова, если не с нами — больше никогда ее не увидит.
— Так грубо действовать нельзя. Мы живем не в средние века.
Исмаила Исмаиловича задело, что какой-то безродный «ишак» (а он иначе и не воспринимал Лодочникова) вроде бы проник в его глубинные мысли. Его план был предельно четким: Костюкова с Дадабаевым убрать с дороги, Гульсару (позор рода) выкрасть в самое ближайшее время и переправить к Абдурашидбеку. Богусловскому действительно следует пообещать, что его возлюбленная вернется, но на определенных условиях. Когда же он войдет в сговор, обещание можно забыть. Никуда он не денется, если не захочет оказаться на нарах в колонии строгого режима. Исмаил Исмаилович уже продумал свой разговор с Абдурашидбеком — тот должен помочь в исполнении задуманного.
Он не знал, что Абдурашидбек уже готовит похищение Гульсары и звонок родича не застанет его врасплох. Они распределят роли так: Абдурашидбек месяца через три-четыре увезет Гульсару в свой гарем, а Исмаилбек станет шантажировать лейтенанта Богусловского, пока не согнет его в бараний рог.
Тяжелую ношу снял Абдурашидбек с плеч Исмаила Исмаиловича. Очень тяжелую.
Глава одиннадцатая
Выходной на сутки. Михаил Богусловский сразу же после обеда поехал к Гульсаре. Он чуточку поспешил и вынужден был ждать в ее комнате. Маленькая она. Диван, кровать, тумбочка почти вплотную, платяной шкаф и небольшой самодельный стол, наподобие письменного, со стопками тетрадей учеников. Еще стул и кресло — вот и вся обстановка. Но даже в этом аскетизме чувствовался уют. Книги на самодельных стеллажах расставлены по темам, очень аккуратно. Даже ученические тетради на столе лежат ровными стопками. Если бы он вошел сюда впервые, то мог бы подумать, что она прибралась в ожидании любимого, но он уже хорошо знал, что порядок и уют в этой комнатке — неизменны. Впервые оказались здесь, да и потом, когда заходил к Гульсаре с Дадабаевым и Костюковым, Михаил всегда отмечал чистоту и опрятность. Но тогда иное его заботило — теперь все переживания в прошлом, они официально помолвлены, остается только дождаться отпуска и ехать в Москву, чтобы справить там свадьбу. Занятия в школе заканчиваются через несколько дней. Прохор Авксентьевич дал добро на отпуск и даже предложил выехать в Душанбе вместе. Он — встречать жену с сыном, они — в Москву.
Гульсара, радостная, влетела, словно на крыльях, в комнату, прильнула к Михаилу и прошептала:
— Знал бы ты, как я соскучилась.
Знал бы он? Несколько дней обстановка на заставе (шли «ишак» за «ишаком») не позволяла ему вырваться в село, и он очень страдал. И вот наконец они вместе. Он поспешил сообщить ей радостную весть:
— Прохор Авксентьевич разрешил отпуск. Поедем вместе с ним. Он семью встречает.
— Как хорошо. Познакомимся с его женой и сыном.
До позднего вечера они миловались и строили планы на будущее. Он даже остаться хотел на ночь, но Гульсара решительно запротестовала. Конечно, она тоже была бы рада побыть еще и ночь с ним вместе, но как воспримут в селе такую вольность? Нравы исмаилитов строги, а ей, учительнице, не к лицу слава гулящей женщины.
Так они и расстались, пересилив себя и лелея надежду, что это всего на день-другой. И ни у Гульсары, ни у Михаила не екнуло сердце, не возникло предчувствия, что этот «день-другой» будет тянуться очень долго.
В прекрасном настроении вернулся домой Михаил, и Марина первым делом затащила его в приемный покой — на перевязку.
— От тебя пахнет ее духами и ее счастьем, — как бы радуясь за Михаила, прокомментировала Марина, но тут же тон ее резко изменился: — Разве так можно, больной?! Повязка вон как сбилась!
— Извини, Марина. Так вышло.
— Извини, извини. Ты, наверное, такой же, как Латып. Вот я ему пожалуюсь, он приструнит своего зама. И Гульсару отчитаю. Куда она смотрит?
— Или мы не друзья? Зачем жаловаться. И потом, Марина, чем дольше моя гематома не рассосется, тем дольше ты будешь оставаться здесь. Разве я не прав?
— Обманщик. Сам уже об отпуске договорился, обо мне не подумав. Ладно, поезжайте. Мы с Латыпом желаем вам счастья. Когда вернетесь — сыграем свадьбы. Помните об этом и не слишком задерживайтесь.
Вот так закончился вечер. Впереди — спокойная ночь, а утром — куча работы. Кроме повседневных дел нужно еще составить несколько планов-конспектов по плановым занятиям, чтобы избавить Латыпа от лишней нагрузки. Что поделаешь, такова доля заставского офицера. Уйдет Дадабаев в отпуск, ему тоже одному придется вертеться. Не знал он, засыпая, что утром все его отпускные планы и радужные мечты о скорой свадьбе улетучатся как дым.
Проснувшись довольно рано, он побрился, насвистывая «Марш энтузиастов», вроде бы давным-давно забытый, а теперь так созвучный настроению. Так же, в приподнятом настроении, умывался и одевался, Когда уже был готов идти на заставу, в дверь квартиры постучал дежурный.
— Товарищ лейтенант, вас к телефону просят. Из сельской администрации.
«Что там стряслось? В такую рань?» Хотел спросить дежурного, но тот, видно, и сам не знал.
Вопрос по телефону обескуражил:
— Нет ли у вас на заставе Гульсары?
— Нет. А что?!
— Она исчезла. Приезжайте.
Латып Дадабаев, увидев Михаила, спросил без особой тревоги:
— Какие-то важные новости? От аксакалов?
— Гульсара пропала… — упавшим голосом ответил Михаил, и Латып встревожился. Приказным тоном произнес:
— Садись в машину — и туда. Я сам доложу подполковнику Костюкову.
— Не спеши. Подожди моего звонка из села. Думаю, и коменданту придется докладывать.
— Как скажет Прохор Авксентьевич.
Михаила Богусловского встречали не только коллеги Гульсары, но и глава администрации вместе с несколькими аксакалами. Его ответ, что Гульсары на заставе нет, всполошил все село. Площадь заполнилась учениками и их родителями. Один из аксакалов, приложив руку к сердцу, произнес:
— Мы ничего не знаем. Нас подвело чутье. Улема обещал обязательно узнать, кто похитил Гульсару, любимую учительницу наших внуков.
— Спасибо, уважаемые. Пограничники тоже не станут сидеть сложа руки.
Он поднялся в комнату Гульсары, где еще вчера вечером был так счастлив.
И его невеста. Они мечтали. Они жили устроенным завтрашним днем, а он, этот день, обернулся бедой. Та же самая комната, но ее не узнать: постель не убрана в ящик диван-кровати, поверх цветастого атласного одеяла брошена скомканная ночнушка.
«Выходит, ей позволили переодеться, торопя ее при этом, но не применяя силу. Во что же она переоделась? Шкаф закрыт. В нем нет ни одной свободной вешалки, да и подруги учительницы утверждают, что ничего в комнате не тронуто. Так что же здесь произошло? Кто знает эту страшную тайну?»
Спохватился, вспомнив о своем обещании немедленно позвонить Латыпу Дадабаеву. Он там тоже как на иголках. Еще он должен сообщить Прохору Авксентьевичу о случившемся. Нет, нельзя раскисать, нельзя опускать руки — надо действовать. Но как? Пока он не знал. Как ни пытался он взять себя в руки, никак не получалось.
— Возвращайся на заставу, — приказал старший лейтенант Дадабаев. — Ничего сам не предпринимай. Дождемся Прохора Авксентьевича.
Марина встретила его слезами. Всхлипывала судорожно, едва сдерживая истерику. Ей жаль новую свою подругу, жаль Михаила Богусловского. Дадабаев, обняв ее, успокаивал, советуя идти домой.
— Не терзай, кыз-бала, душу Михаилу. Ему и так тошно. Верь, все образуется.
— Ты прав, милый, — соглашалась Марина, продолжая всхлипывать. — Главное сейчас — спокойствие, надо действовать взвешенно, обдуманно.
Очень верные слова, только вовсе не понятно, что взвешивать и что обдумывать, если неизвестно ничего, кроме того, что Гульсары нет. Пока можно с определенной долей уверенности предположить, что она покинула свою комнату без насилия.
…Так оно и было. На дверях общежития не имелось никаких запоров, никаких задвижек. Постучался — и входи. От кого и что прятать? От кого запираться? Осведомлены были об этом Азиз и его напарник. Они точно знали, где комната Гульсары, а стучаться в дверь им незачем. Тихо вошли, плотно прикрыв за собой дверь, и, нащупав выключатель, зажгли свет.
— Кто вы?! — вскрикнула перепугано Гульсара. Сердце ее екнуло. Она поняла: похитители. Посланцы Абдурашидбека.
— Я — Азиз, но более известен под кликухой Багдадский Вор. А это мой напарник. Его так и будешь звать — Напарник. Нас послал за тобой, Гульсара, твой законный муж Абдурашидбек. Признаюсь, я переступил воровской закон, но не по доброй воле. Своим согласием я спас мою «малину» от рабства. Но я не в накладе. Исполнив поручение, вернусь в Москву — к своему сыну. Если бы я отказался, то вместе со своей «малиной» горбатил бы до конца жизни на какой-нибудь маковой плантации. А может, меня бы еще опустили. Не знаешь, что это такое? Страшнее смерти. Так вот, мы должны доставить тебя живой и невредимой в дом твоего мужа и мы это сделаем. Лучше, если ты обойдешься без капризов и истерик. Если закричишь, перестреляем всех твоих подруг. У нас бесшумные пистолеты. Вот одежда… — Азиз, взяв у напарника довольно внушительный сверток, положил его на диван-кровать. — Одевайся. Мы отвернемся.
Узнав страшную правду, Гульсара не лишилась чувств, более того — она даже успокоилась, сама не понимая, почему. Она даже спросила с иронией:
— Нас ждет самолет?
— Нет. Тебя ждет ишак. Мы пойдем пешком.
Еще большее спокойствие, теперь уже осознанное: путь через Горный Бадахшан долог, за это время Миша и Прохор Авксентьевич обязательно что-то предпримут и вызволят ее. Возникшая в первые минуты похищения уверенность в скором спасении всю долгую дорогу давала ей силы, откалываясь лишь по малым кусочкам с каждым долгим днем, с каждой тревожной ночью.
Подполковник Костюков прилетел на заставу на вертолете. Даже не на своем, а на армейском с таджикским экипажем. Он взял с собой начальника разведотдела отряда. Вертолет, высадив подполковника Костюкова на плато, почти не снижая оборотов, опять поднялся в воздух и взял курс в горы. Прощупать все горные дороги и тропы. Похитители далеко уйти не могли. Дороги же на Душанбе, на Хорог и особенно тракт на Ош перекрыты совместными патрулями таджикской дорожной службы и пограничников. Хотя это, как выразился Костюков, грубые заплатки на дыры. Если похитители на машине, то укатили уже далеко. Правда, стационарные посты сообщили, что ни одна машина, в салоне которой находилась бы женщина, не проезжала.
— Не станем зря сотрясать воздух, — заявил подполковник Костюков встретившим его Дадабаеву и Богусловскому. — Версий множество, но, чтобы выявить главную, нужно время, нужны данные. Будем ждать…
Вначале ждать пришлось возвращения вертолета. Не менее двух часов. Застава, однако, не дает сидеть сложа руки, с постными лицами. Доклад с правого фланга: задержан контрабандист. Через четверть часа такой же доклад с левого фланга. И что характерно, ни тот, ни другой не отстреливались. Еще более странно, что они переправились через Пяндж, судя по подсохшей уже одежде, ночью, а из тугаев отчего-то вышли днем.
— На что-то нам хотят намекнуть. Стало быть, похищение Гульсары имеет иной подтекст — дело не в стихийных поступках самозваных беков.
Это предположение высказал старший лейтенант Дадабаев, и подполковник Костюков с ним согласился. Он для себя сразу же определил главную версию: похищение организовал Исмаил Исмаилович, чтобы подмять под себя Богусловского, но не решался пока говорить об этом вслух. Он надеялся, что до этого додумается сам Михаил, вспомнив разговор с Иосифом Лодочником. Одно было не ясно Костюкову: уведут Гульсару к Абдурашидбеку или на какое-то время спрячут поблизости и вернут, когда Богусловский сломается.
А в общем, нужно набраться терпения и ждать, как развернутся события.
Вертолет вернулся довольно скоро. Доклад хотя интересный, но далек от конкретики: на одной из горных троп обнаружена группа путников из трех человек. Женщина в парандже верхом на ишаке в сопровождении двух мужчин. Оружия у них не замечено. Большой поклажи тоже нет, мужчины даже без заплечных мешков. Один идет впереди, второй — чуть ли не за хвост держится.
Первым покачал головой Латып Дадабаев и рассказал анекдотец: едет по дороге здоровенный мужчина, каких в Узбекистане называют полванами, на ишаке, у которого даже спина прогнулась под тяжестью седока, а следом семенит женщина в парандже и с внушительным свертком на голове. Встречный спрашивает полвана, куда тот путь держит, полван в ответ:
— Вот, жену в роддом отвожу.
Невольно все заулыбались, представив столь нелепую картину, а Дадабаев вполне серьезно пояснил:
— Раз паранджа, значит — узбечка. Ни таджички, ни киргизки паранджи не носят. А раз узбечка, она не может ехать, когда мужчины идут пешком. Нелепица какая-то. Нужно засаду выставлять на их пути.
Вроде бы стоящее предложение, но выполнимо ли? В горах вертолет не посадишь. Если только десантироваться с парашютами. Но на какую тропу? Их очень много. Все не перекроешь. Десантироваться же непосредственно на путников очень рискованно: бойцы могут не долететь до земли живыми. А с вертолета поддержки им не окажешь, пуля может угодить в женщину. А если это в самом деле Гульсара, а не мужчина в парандже, тогда как?
— К Абдурашидбеку повезли Гульсару, — решился все же поделиться своей догадкой Михаил Богусловский, — или укроют ее в горах, а меня станут шантажировать.
— Пожалуй, реальная версия, — поддержал Богусловского Прохор Авксентьевич. — Но пока только версия. Не будем зацикливаться на ней. И давайте отпустим вертолет.
К счастью, сделать это они не успели. Позвонил подполковник Кириллов и сообщил: друг Исмаила Исмаиловича Лодочников звонил из Москвы и просил связаться с ним Михаила Ивановича. Оставил телефон и сказал, что будет терпеливо ждать звонка, понимая, как долго ехать с заставы в отряд.
Подполковник Костюков, оставив разведчика прояснять обстановку по своей линии, полетел в отряд с Михаилом Богусловским.
Разговор с Иосифом Сильвестровичем вполне ожидаем: сочувствие, почти искреннее, и совет — как поправить дело. Самый надежный ход — связаться с Исмаилом Исмаиловичем.
— Передаю тебе его телефон, по которому ты в любой момент сможешь связаться с ним.
Долго офицеры сидели молча. Не готовы они оказались к такой откровенности. Не знал разве Исмаил Исмаилович, что этот ход станет известен начальнику отряда? Стало быть, свою помощь он хочет обставить так, чтобы это выглядело заботой об офицере заставы, им опекаемой. Но это — для окружающих. С Михаилом Богусловским вполне может состояться совсем иной разговор.
— Не стану я звонить этому подонку. Не стану! Да ему и верить-то нельзя. Скажет одно, сделает совершенно другое.
— Ты вот что, Михаил, не горячись. Успокойся. Посиди, подумай, а потом позвонишь. Обязательно. Разговор запишем на пленку. На сладостные речи не поддавайся, но и не перечь. Как с Лодочниковым: ни да ни нет. Жизнь твоей невесты в его руках. Об этом нужно помнить.
Разве он может об этом забыть хоть на минутку, но он почти уверен, что пользы от Исмаила Исмаиловича никакой. Они же с Абдурашидбеком из одного рода, значит, он должен помогать своему родичу смыть позор. Поиграет с ним, Михаилом, как кошка с мышкой, и слопает с потрохами.
Костюков уловил направление мыслей Богусловского. Сказал свое слово: не только ради Гульсары — чтобы прояснились намерения похитителей, но и ради разоблачения оборотня необходим этот разговор.
— Долг пограничника и долг мужа… — заключил он.
— Хорошо, — неохотно согласился Михаил Богусловский. Но Прохор Авксентьевич не разрешил ему снять трубку, пока тот не прочувствует важность предстоящего разговора. Даже упрекнул привычно своей присказкой: не в оловянные солдатики играем.
Обретя уверенность, Михаил Богусловский начал набирать номер телефона, данный ему Иосифом Лодочниковым. Он полагал, что ответит ему либо секретарша, либо кто-то из помощников, но услышал голос самого депутата. Видимо, это был особый телефон, только для избранных.
Долгие витиеватые сочувствия, будто бы искренний гнев по поводу возвращающихся средневековых обычаев — пока ничего определенного, и Михаилу Богусловскому оставалось только поддерживать разговор поддакиванием. Но вот, наконец, и главное:
— Я в состоянии помочь тебе, чтобы с полным основанием называть тебя юным другом. Мне нужен твой твердый ответ.
— Я готов, уважаемый Исмаил Исмаилович, принять руку дружбы ради спасения своей невесты.
— Она вернется к тебе. Она станет твоей. Детали мы с тобой обсудим, когда я приеду на охоту. Мы с Лодочниковым позовем тебя на остров..
— Согласен, Исмаил Исмаилович.
— Можешь называть меня Исмаилбеком. Как называют мои друзья.
— Согласен, Исмаилбек. Я готов на все, чтобы только вернуть Гульсару.
— Но дружбу нужно подтвердить делом.
— Я готов это сделать, Исмаилбек. Как только вернется моя Гульсара, я приму все ваши предложения, пойду с вами не только на охоту, но и туда, куда еще понадобится.
— Я буду думать. Потом дам знать. И все же руку дружбы следует протянуть раньше.
Вот так, несколько неопределенно, был закончен разговор. Его записали на магнитофон. Вроде бы ничего особенного, но определенного просматривается шантаж, который, как ни старался Исмаил Исмаилович, завуалировать не смог. Это стало особенно ясно, когда Костюков, Кириллов и Богусловский прослушали запись вторично. И хотя они понимали, что этот компромат будет иметь вес лишь как одно из звеньев обвинения, все же были довольны. Одно только тревожило: оборотень так и не сказал, где Гульсара. Какая судьба ждет ее? Неясно. Поэтому Прохор Авксентьевич все еще не знал, на какой версии остановиться, но Михаил Богусловский стоял на своем: похищение устроил Абдурашидбек по наводке Исмаила Исмаиловича.
— Может быть, может быть… — выбарабанивая по краю стола «чижика-пыжика», задумчиво ответил Костюков. Сейчас его больше волновало другое: начинать ли игру, получив разрешение от соответствующих органов, с Исмаилбеком? Он был уверен, что Михаил Богусловский справится с очень сложным и опасным заданием, но дело было не только в нем. Если бы Исмаил Исмаилович первым сделал ход в этой игре, вернув Гульсару, можно было бы идти на риск. На оправданный риск, но тот явно, судя по разговору, не намерен возвращать Гульсару, так ради чего подвергать риску Михаила? Взять с поличным депутата, несмотря на его неприкосновенность, вполне можно. С сотрудниками госбезопасности есть договоренность — они проверят фазанов у Лодочникова так, что тот ничего не заметит. И, если они в самом деле являются контейнерами, при очередном возвращении с острова после так называемой охоты парочка будет разоблачена.
Стало быть, решение остается прежним: ждать. До тех пор, пока не появится совершенная ясность. Хотя сил ждать почти не осталось. Невозможно смотреть, как Михаил мается в бездействии. И все же ради его самого, ради Гульсары нужно ждать. Терпеливо.
Прошли сутки. Дважды докладывал разведчик — ничего обнадеживающего. Доклады с трасс тоже пустые: ни днем, ни ночью машины с женщиной в салоне не проезжали. Ишака на проселках тоже не видели. Предположение, что она спрятана в самом селе или где-то поблизости, тоже не подтвердилось. Аксакалы об этом обязательно узнали бы.
Подполковник Кириллов советовал вновь послать в горы вертолет, чтобы еще раз увидеть женщину в парандже, едущую на ишаке, и точно определить, в каком направлении движется группа. Может, все же попробовать устроить засаду на их пути? Он говорил почти уверенно, что на ишаке может быть Гульсара, убеждая тем, что из гардероба Гульсары ничего не взято, стало быть, похитители приготовили для нее свою одежду, удобную для гор и для маскировки. Подполковнику Костюкову не хотелось посылать вертолет в горы — он не видел в этом смысла, но Кириллов его поддержал и Богусловский уверял его:
— Определим направление движения и подумаем, как перерезать им путь. Считаю, спецназ в Душанбе не откажет нам в помощи.
— Хорошо. Пошлем свой вертолет. Дай команду, Дмитрий Александрович, готовиться к вылету. Лейтенант Богусловский полетит с ними.
И вот, когда все уже было готово к вылету, в кабинет начальника отряда вошел шифровальщик с только что полученной ориентировкой. Шифровальщик покосился на Михаила Богусловского, как бы давая понять, что лейтенант в кабинете лишний, но подполковник приказал:
— Перескажите коротко.
В нескольких словах доклад звучал так: в район Чордарьи Абдурашидбек послал двух человек с каким-то заданием. На пути их возвращения подготовлены хорошо замаскированные промежуточные стоянки для отдыха.
— Ого! — вырвалось у Костюкова. — Давай, распишусь за шифровку. Это, похоже, то, что нам позарез нужно.
Костюкову с Богусловским, как только Прохор Авксентьевич начал читать ориентировку, стало ясно — данные получены от того самого контрабандиста, которого удалось завербовать и включить в игру с Абдурашидбеком. А дальше — сплошные вопросы. Посланы боевики через Горный Бадахшан в сторону границы с Афганистаном — но для какой цели? Источник об этом не знал. Он сообщил только, что разговор велся о селении у Чордарьи. По руслу Чордарьи спускаться в долину, по ней и возвращаться в горы.
— Не припомню, чтобы на участке нашего отряда была такая речка, — пожал плечами Кириллов. — И потом… Дарья. Это что-то из далекого прошлого. В аппендиксе, каким всунулся Афганистан в Пакистан, протекает Вахандарья. От места ее слияния с Памиром берет начало Пяндж. В Узбекистане тоже две Дарьи — Аму и Сыр.
— Давай-ка поглядим крупномасштабную карту.
Гляди — не гляди, нет такой речки. Даже за пределами участка отряда. Онсу, Муксу, Мургаб, Гунт — и все в таком же роде. Не вписывается необычное для Памира название, хотя «чор» (четвертая, значит) — слово таджикское. Шарада.
— Сходи-ка, Михаил, в краеведческий музей. Поговори с директором, а если не найдется у него ответа — со старейшим экскурсоводом. Они, как правило, знают больше директоров.
Директор музея настороженно воспринял просьбу Богусловского: никогда еще пограничники не проявляли интереса к древнейшей истории земли, где несут службу, хотя вроде бы на экскурсии в музей приходили часто. Но, по всему видно, интерес формальный. Так сказать, экскурсия для галочки.
— Вы, молодой человек… простите, товарищ лейтенант, в интересах службы или личной любознательности ради?
— Одно от другого отделить невозможно.
— Мудро. Весьма мудро. Сейчас я позову к вам самого знающего человека.
Таджичка средних лет с добродушным лицом с гордостью сообщила, что она выпускница МГУ. Когда же выслушала его, спросила:
— Если не секрет, вы с какой заставы?
— Приостровной.
— Я так и догадалась. Именно на вашем участке текла в древности река — дар богини Апи, матери всех рек и родников, то есть всей бегущей воды. Так ее, во всяком случае, называли киммерийцы. Как Чордарья называлась первоначально — неизвестно. Таджикская приставка «чор» — позднейшее наслоение.
Она увлеченно принялась рассказывать о великой культуре великого народа, отпочковавшегося от индоариев, о том, как их, вознесшихся выше богов, наказал Всевышний. По его воле супруга его повернула Сырдарью и Амударью в сторону от плодородных киммерийских земель, и возникли на их месте Каракумы и Кызылкумы, а в безводной пустыне, которая нынче принадлежит Казахстану, появилась вода и даже море — Арал. Божеский плуг прокладывал и новые русла рек, и новое море.
Вроде бы с большим вниманием слушал Богусловский рассказ экскурсовода, но мысли его были очень далеки от музея: он воспроизводил в памяти весь участок заставы и никак не мог определить, где же находится пересохшее русло Чордарьи. Ему хотелось бежать скорее к подполковнику, Костюкову со столь важным известием, но он не мог обидеть рассказчицу, прервать ее вдохновенный монолог.
Наконец вопрос:
— Все понятно, товарищ лейтенант?
Михаил порывисто поцеловал ей руку, горячо поблагодарил и добавил, что непременно еще побывает в музее.
— Теперь же, извините, мне нужно спешить. Служба.
Он уже представлял, как полетит на вертолете искать русло реки, пересохшее по воле Всевышнего, который лишил живительной влаги зазнавшийся народ. По этому руслу он с группой пограничников, а возможно, и спецназовцев кинется в погоню за теми, кто похитил его любимую. Он догонит их и отобьет ее, и после этого уже никогда не отпустит ее от себя. Ни на шаг. Когда же он, захлебываясь, пересказал подполковникам Костюкову и Кириллову услышанное от экскурсовода, Прохор Авксентьевич остудил его пыл вопросом:
— Тебе-то в селе что делать?
— Искать и найти.
— Там отрядный разведчик. Разве ему это не по силам? А тебе — ждать.
Быстро подтвердилось, что существует легенда о Чордарье. Один из аксакалов вспомнил ее. Стекала речка с гор. Он даже показал разведчику сухой лог — русло древней реки. Лог и в самом деле уходил в горы, и, что особенно важно, разведчик с аксакалом разглядели даже следы. Ближе к горам. На песчаном участке. Они не очень четкие, но вполне видно: один след — от маленькой ножки, два других — большие.
— Ну вот, теперь ясней ясного.
— Меня обязательно возьмите в погоню.
— Вот что, Михаил, ты потерял голову, и я не рискну послать тебя на рискованное дело, если не возьмешь себя в руки. Какая погоня? Ты что? Быстрей их пойдешь по горам?
Вопрос вопросов. Да и предупреждение серьезное. Он, если сказал, в слове тверд. Не пустит. Нужно взять себя в руки и начать рассуждать трезво. Увы, не так это просто. И если бы ни сам Прохор Авксентьевич, он так и не смог взять себя в руки. Костюков напомнил ему о заставе «Ик-кизяк», и тут же мысли Михаила сделались четкими, конкретными, что и определило его дальнейшие действия:
— Надо ждать на тропе контрабандистов. Укрывшись за лазом. И не нужно много людей. Самое большое — пятеро крепких ребят. Лучше — самбистов.
— Много, Михаил Иванович. Двоих я пошлю с тобой. А с киргизскими коллегами свяжусь — они тебе помогут людьми. Еще возьмут Алай под свое наблюдение, чтобы своевременно обнаружить похитителей и не дать им уйти за кордон в другом месте.
— Стало быть, лечу?!
— Нет, не летишь, а едешь по дороге Хорог — Ош. По той самой, которая трудна от Оша до Хорога, а от Хорога до Оша — хороша. Успеешь. Несколько дней еще придется потомиться, ожидая похитителей. Поедешь на моей машине. Надежней в отряде нет. Сегодня ее подготовим, а завтра — в путь.
Еще целых полдня маялся Михаил, провел еще одну бессонную ночь. Но ничего не поделаешь. Терпи. И попытайся скрыть свое истинное состояние, дабы Прохор Авксентьевич не изменил своего решения. Впрочем, верно бы поступил, как выяснилось в последствии Михаил едва не погиб сам и не погубил Гульсару, по безрассудности своей, забыв обо всем на свете, когда увидел любовь свою. И Гульсара не отличилась выдержкой. Правда, подполковник Костюков предвидел подобное поведение влюбленных, и предупредил посланных на Алай самбистов, что в критический момент не стоит ждать от лейтенанта помощи или разумной команды, — следует действовать решительно, исходя из обстановки.
— Вы в ответе за его жизнь. И за жизнь похищенной девушки. Помните — она внучка заслуженного человека, начальника отряда полковника Кокаскерова. Для пограничников спасти ее, вырвать из вражеских рук живой и здоровой — дело чести.
Дорога до Оша действительно хороша. Она вроде бы все время идет на спуск, хотя высота перевалов запредельная. В ушах неприятный шум, тошнота подступает к горлу, кровь стучит в висках. А как же иначе, сердце Памира — не Пянджская долина, хотя и высокогорная. Здесь же, на перевалах, высота более шести тысяч над уровнем моря. Правда, подъемы на них ловкие, не как на Талдык перед Алаем. Спуски тоже по прямой. И не слишком крутые. В общем, не опасная дорога. Любуйся далекими белоголовыми шапками пиков, грозными оскалами клыков, подступающих к этим пикам: они словно оберегают небесную чистоту головных уборов великанов — глядя на все это, восхищайся могуществом матери-природы, сотворившей на земле такое чудо. Но Михаил Богусловский, погрузившись в свои переживания, равнодушно скользил взглядом по этому великолепию, мысленно торопя водителя. Он даже не заметил, что скалистые пики постепенно сглаживаются, и уже не пики обочь дороги, а округлые мисюрки серо-зеленого цвета — перевалы становились все доступней, все ниже.
Вот еще перевал — Каракольский, знаменитый тем, что неподалеку от него — насквозь промерзшее озеро, и только в середине лета вытаивает на нем тонкий слой воды, отчего-то с виду совершенно черной. Оттого и название такое: Черное озеро. Каракуль.
— Остановиться? — спросил водитель. — Легенд много слышал, а видеть это озеро не приходилось.
— Можно, — согласился лейтенант Богусловский, — только ненадолго. Нам бы не припоздниться.
— Не опоздаем. До Алая теперь — рукой подать.
Водитель говорил уверенно, потому что подполковник лично инструктировал его перед поездкой. Особенно наказывал не спешить, не запороть мотор. Он так и сказал: похитители не разбегутся — у них в руках женщина, да транспорт на четырех ногах. Ишак он и есть ишак. Галопом не поскачет. Тем более в горах.
…Так оно и было на самом деле. В конце каждого дневного перехода их ждало приготовленное ложе, как правило, в пещерах или в гротах. Иногда, правда, в палатках. Но очень редко. Особенно заботились о Гульсаре. На земле — паласы в три слоя, поверх которых положены толстые ковры. Для сна — пуховая китайская перина и такое же пуховое одеяло, чтобы, не дай Аллах, ей простудиться. Случись такое, не погладит по головке Абдурашидбек. Им же, рабам его, известен крутой нрав властелина. Велено оберегать — они из кожи лезут, исполняя волю хозяина, несмотря на разные трудности.
Заботливость рабов Абдурашидбека забавляла Гульсару. Она знала, что не любимой женой она станет у него, а гонимой, но, вопреки всему, чувствовала себя спокойно. Твердо верила, что избежит похотливых объятий этого изверга, что ее обязательно вызволят из плена. И сделают это Прохор Авксентьевич и Михаил, безмерно любимый и любящий. Настроение ее не изменилось даже после откровенного разговора с Азизом, который относился к ней необычно бережно. Не в пример его напарнику, насупленному, готовому наброситься на нее: и если бы не опасался расправы за содеянное, то давно бы изнасиловал ее.
Совсем другое — Азиз. Гульсара видела, что нравится ему. Он, похоже, даже влюбился. И ей стало жалко его, по всему видно, дорожившему честью и выполнявшему столь грязное дело подневольно. И женское чутье ее не подводило. На третьей же остановке, где объявлена была еще и дневка, у них произошел весьма примечательный разговор. Цербер, как она уже окрестила напарника Азиза, кувыркался с девицей, которых заботливый Абдурашидбек посылал для мужчин на каждую стоянку, Азиз подошел к ней, когда она вышла из своего грота в парандже, как ей и было велено.
— Мне жаль тебя, Гульсара. Ты ведешь себя так, будто впереди тебя ждет райская жизнь. Тебя ждет позор. Всего один раз посетит тебя Абдурашидбек и забудет о тебе. Ты станешь предметом насмешек и издевательств для остальных жен. На моем воровском жаргоне — опустят тебя.
— Но разве я могу что-то изменить? Ты же сам поставил условие: без капризов. Иначе — смерть. Не только моя, но и вас двоих. Видишь, выбора у меня нет.
— Есть. Один. Как только спустимся на Алай я прикончу своего напарника, а мы с тобой сразу в Ош. Оттуда уйдем в мою Ферганскую долину. Я не только пахан крупной воровской «малины», но и очень богатый предприниматель.
Азиз откровенно рассказал Гульсаре о себе, даже о жене-изменщице, о своем сыне, который может стать и ее, Гульсары, сыном. Они будут жить в Москве припеваючи, и счастье не покинет их никогда.
— Заманчиво, Азиз. Но есть одно «но». Я влюблена. Я люблю горячо и верно. Подневольно уводят меня — одно, но по доброй воле изменить своему возлюбленному я не могу. Ты не обижайся, но я плачу откровенностью за откровенность.
— Неужели ты предпочтешь жизнь в гареме жизни любимой жены? Не гаремной, а единственной?
— Да, Азиз. Я останусь честной перед собой, и совесть не будет мучить меня всю жизнь.
Она хотела добавить, что еще не известно, как дальше развернутся события, что ее друзья действуют, но прикусила язык: зачем вызывать недоверие и настороженность? Чем благодушней будут ее похитители, тем лучше. Она еще раз напомнила себе: — следует вести себя послушно, показав, что смирилась со своей судьбой, тем более что внутреннее спокойствие позволяло ей легко играть такую роль. Хотя, чем дальше они уходили от дома, тем тревожней становилось Гульсаре, она стала терзаться сомнениями: что, если они не узнают, куда ее увезли? Тогда — конец. Когда прошла неделя, она уже с трудом изображала беспечность.
Через высокие горы состояние ее души долетало до Михаила Богусловского, и он, глядя на тонкий, отливающий чернотой слой воды, стоял совершенно неподвижно, словно мертвый, ничего не воспринимающий, даже не задумывался, отчего природа сотворила такой уникум — его душа ныла, его мысли были от всего отрешенными. Он видел перед глазами мучающуюся в тоске Гульсару.
«Два перевала впереди, — определил Михаил». — Ак-байтал. В переводе — Поседевшая лошадь. Она не бросила смертельно раненного хозяина, а умерла возле него, поседев. Красивая легенда. Но легенда ли? Верности не бывает наполовину. Или она есть, или ее нет. Время испытывает их с Гульсарой верность. За себя Михаил ручался, верил, что и Гульсара верна, что перенесет любые испытания судьбы, сохранит любовь, как и ее прабабушка. Та сумела сбежать от ненавистного Абсеитбека и вернуться к своему Кулу. Любимому, единственному.
Водитель притормозил у шеста с привязанным к нему пучком седой лошадиной гривы, просигналил длинным гудком, как здесь принято было, но не остановился — покатил вниз к последнему перед Алаем перевалу — Кызылташскому. Вроде бы странное название — Красный камень, ведь нет же на самом перевале или обочь его никакого красного камня. Лишь посеревшая от безводья и жгучего солнца трава. И только когда они спустились в долину и повернули вправо, к границе, странность прояснилась: издали перевал отливал какой-то неестественной краснотой. Чем это объяснить? Вот еще одна загадка Памира.
На заставе «Ик-кизяк» их ждал подполковник Саркисов, бывший пристав. Обнялись по-братски, и Саркисов сказал уверенно:
— Станем работать вместе. Перехватим обязательно. Всю границу по Алаю мы перекрыли не только усиленной службой застав, но и крупным резервом. Для непосредственного захвата — два отделения спецназа. Отборные бойцы. Отдохнете с дороги, обсудим детали операции. Мы ее, конечно, уже продумали, но свежий взгляд, вполне возможно, заметит изъян.
Михаилу Богусловскому не хотелось откладывать в долгий ящик обсуждение, но он сдержался: во-первых, не стоит показывать свое нетерпение — у азиатских народов это считается дурным тоном. К таким людям у них нет доверия. Вдумчивая неторопливость — вот что располагает. Мудрый, значит, человек. Во-вторых, со своим уставом в чужой дом не ходят. Наверняка Саркисов все продумал, и если он вмешается, то может обидеть его. Нет, обиды он не покажет, но все равно шершавинка образуется.
Двое суток подполковник Саркисов не начинал разговор о предстоящей операции. Он только устроил совместный обед Михаила Богусловского и его спутников со спецназовцами, ибо где, как ни за общим столом, можно поговорить откровенно. Михаил Богусловский горел желанием рассказать о том, какой они разработали с Прохором Авксентьевичем план захвата или уничтожения похитителей, такой, чтобы не пострадала Гульсара. Михаил несколько раз намеревался даже заговорить об этом с Саркисовым, но тот словно забыл, ради чего на заставе он, его русские коллеги и два отделения спецназа. Вот и крепился лейтенант Богусловский, ждал, перемогая себя, первого слова Саркисова. И только на третье утро во время завтрака Саркисов снизошел:
— Совещание назначено на двенадцать ноль-ноль. Съедутся все начальники застав Алая и командиры приданных сил. Но прежде поговорим меж собой. Определимся и выступим перед начальниками и командирами с единым мнением. Нет возражений?
— Согласен. Но, если возникнут дельные предложения, не станем отмахиваться.
— Конечно. Для того и совещание. Не только ради указаний.
План Саркисова почти полностью совпал с тем, который они с подполковником Костюковым наметили. Разница только в деталях, хотя и существенных. Общее в том, что захват похитителей и освобождение Гульсары намечено было провести сразу же, как только похитители минуют лаз и расслабятся, почувствовав себя в безопасности. Но Саркисов предлагал не двух или трех человек укрыть за лазом, а целое отделение. С этим никак нельзя было согласиться.
Но все же смогли договориться, пойдя друг другу на уступки: Михаил Богусловский согласился взять с собой кроме своих спутников еще двоих спецназовцев. Саркисов пообещал выделить самых метких, у которых на автоматах есть прицелы для ночной стрельбы.
Еще одно различие. Михаил с подполковником Костюковым мыслили расположить резерв за перевалом на Гульчу. Бросок — и они плотно запирают лаз, как только Гульсару выведут из грота. Саркисов же предлагал иной вариант: метрах в пятидесяти от входа в грот, на левом берегу выбегавшей из грота речушки, есть глубокая расщелина, в которой можно надежно укрыться пяти или даже шести бойцам. С автоматами и пулеметом. Им намного ближе к лазу, легче подать и сигнал. Световой, допустим. Всех остальных спецназовцев, согласился Саркисов, действительно можно сосредоточить за перевалом.
Едва успели Саркисов с Богусловским закончить согласование, как подъехала первая машина. Через четверть часа — вторая. Тоже битком набитая. До двенадцати еще далеко, а все в сборе. Отчего такая поспешность? Большое чувство ответственности? Должно быть, так. Но еще и надежда на то, что начальник заставы приготовил для гостей бесбармак, зарезав ради такого случая барашка. Угостит до совещания. А возможно, за дружеским столом с кумысом обсуждение плана усиления охраны границы пойдет более продуктивно.
Хозяин не стал испытывать терпение гостей. Почти сразу же, как закончились приветствия и знакомства, он позвал всех на бесбармак. Не в столовую, а в юрту, за несколько часов до этого установленную чуть поодаль от заставского дувала.
Подполковник Саркисов пояснил Михаилу Богусловскому:
— В юрте уютней. И нет лишних ушей.
— Не доверяете аскерам?
— Доверять можно всем, но осторожность — не враг успеха.
Вполне логично, но, скорее всего, это лишь предлог попить вволю кумыса не под взглядом рядовых пограничников. Можно, конечно, понять поведение киргизских офицеров, но стоит ли высказывать вслух свои мысли, свои оценки? У кого как принято строить отношения, так и ведется.
К радости Михаила Богусловского, кумыс и бесбармак не помешали обсуждению вопроса. Главный вопрос: как перекрыть границу, чтобы похитители не прошмыгнули по какой-либо иной тропе. Маловероятно, но предвидеть такое необходимо. А контрабандистские тропы начальники застав знали как свои пять пальцев. Они бы их держали постоянно на замке, но разве хватит для этого личного состава застав? Теперь, когда заставы усилены, такая возможность появилась. Окончательное решение такое: на все тропы — секретную засаду во главе с офицером, прапорщиком или, в крайнем случае, — с надежным сержантом. План захвата на каждой тропе разработать лично начальникам застав, исходя из особенностей местности. Главное — чтобы не пострадала похищенная девушка.
И хотя план действий основной засады за бесбармаком не обсуждался, одно предложение все же поступило:
— Разве плохо выслать по тропе дальше в горы крупный заслон? Так далеко, чтобы не было слышно в долине выстрелов, если там начнется бой. Абдурашидбек может направить людей, чтобы встретить похитителей. Если их не перехватить на тропе…
Очень смелое предложение: углубиться на три-четыре километра в сопредельную страну — возможно ли? Ради благородного дела можно допустить маленькое нарушение, тем более что тропа эта не мертвая, она живет, по ней ходят контрабандисты, и не единого пограничного наряда сопредельного государства на ней не бывает. И все же — нарушение. Позволительно ли?
Пререкания прекратил подполковник Саркисов:
— Я беру ответственность на себя. Пошлю по тропе отделение спецназа. Проводника выделит начальник заставы «Ик-кизяк». На этом совещание заканчиваем.
Вот теперь можно доедать пахучую баранину, обвернув жирные куски мяса тонкими пластинами теста и запивая эту вкуснятину ядреным кумысом. Без спешки. Основательно. Чтоб не обидеть хозяина, оставив на подносе пищу.
День миновал. Солнце скатилось за дальние округлые вершины холмов, за которыми прятались скалистые пики, и Саркисов предложил:
— Выходим на рекогносцировку. Станем ходить каждую ночь, чтобы отработать все до автоматизма.
Явно из лексикона преподавателей Алма-Атинского пограничного училища, которое Саркисов окончил, когда еще был жив Советский Союз.
Более чем разумный шаг. Отработка взаимодействия, понятного на словах, оказалась не так уж и простым делом, но уже на вторую ночь все пошло ладом, однако ни Богусловский, ни Саркисов не прекратили ночные выходы. До того времени, когда поступила весть о спустившейся в долину группе похитителей (женщина — верхом на ишаке и двое мужчин, ее сопровождавшие), которая тут же укрылась в камышах речки Коксуйки. За ночь они не дойдут до своей тропы и вынуждены будут весь следующий день укрываться. Скорее всего, все в тех же камышах горной речки.
— Ночь спим, — заключил Саркисов, — а с рассветом отправляем отделение спецназа в горы. Главная засада выходит на свое место, когда совсем стемнеет. После нее, через час — поддержка. Полная скрытность операции.
Действительно, очень важно сосредоточиться без шума, в полной темноте. Хотя вроде бы кому за засадой наблюдать? Но, как говорится, береженого бог бережет.
Михаилу Богусловскому предстояла ночь не отдыха, а ночь терзаний. Он не уснул ни на час, хотя знал, как нужны ему силы для следующей ночи. Но что он мог поделать с собой? В голове теснились тревожные, пугающие мысли: вдруг операция сорвется? И он представлял, что ждет его любимую Гульсару, если перехват не удастся. Сердце замирало от боли.
Не было покоя в ту ночь и Гульсаре. Хотя последние дни надежда на благополучный исход все более и более таяла она все же держала себя в руках — в глубине души все же продолжала надеяться, что ее вот-вот спасут, и взор ее был устремлен на Алай. Лучшего места для засады не найдешь. Но вот уже спустились в долину, и ничего не произошло. Дальше-то что? Кто их теперь найдет в этих камышах?
Всю следующую ночь она ехала на ишаке, охраняемая с двух сторон церберами. Тишина такая, словно вокруг ни души. Уже в который раз она вспоминала разговор с Прохором Авксентьевичем при первой их встрече: он знал историю их многострадальной семьи, знал все об Абдурашидбеке, и, наверное, он, мудрый не по летам, как ей казалось, мог догадаться, кто ее на этот раз похитил.
Неужели она ошиблась?
А Миша? Разве он может бездействовать, когда его невеста оказалась в чужих руках и ее ждет позор? Что? И в нем тоже ошиблась?
На рассвете они снова укрылись в камышах. Азиз, статный, полный сил и уверенности, помог ей слезть с ишака и заговорил о прежнем:
— Последний твой день — не на приготовленной загодя перине. До самого дворца Абдурашидбека — никаких шатров. После заката солнца двинемся, после полуночи пересечем границу. Вот тогда — все, жизнь твоя станет адом. Еще раз предлагаю соединить со мной свою судьбу. Я прикончу соглядатая, выйдем с тобой на Ошскую дорогу, и наш путь на мою родину — в Багдад. Переждем бурю — и в Москву.
— Нет, Азиз. Я не могу пересилить себя.
— Но где твой возлюбленный? Почему он не кинулся по нашему следу?
Что она могла ответить Азизу?
Когда стемнело, ишака они оставили в камышах, привязав на всякий случай, чтобы не вышел оттуда раньше времени. Их путь по кромке тощих тугаев, которые худо-бедно, но укроют при необходимости от пограничных нарядов. Азиз, правда, заикнулся было об ишаке, но цербер решительно отверг:
— Молодая. Дойдет. Выбьется из сил — понесем. В долине перед горами передохнем. Там уже безопасно.
Всю эту злосчастную ночь метрономом стучал в сердце Гульсары вопрос: «Где мой возлюбленный?! Почему не кинулся вслед за мной?!» И не столько физические силы покидали Гульсару, сколько душевные. Она с усилием тащилась между церберами, чувствуя, что Азиз жалеет ее, а соглядатай готов подгонять кулаками, будь на то его воля.
Вот они у грота. Тихо-тихо. Только монотонное журчание воды. Долго вострил уши соглядатай, наконец, успокоившись, махнул рукой, даже шепнув:
— Пошли…
Нырнули они в грот и по бережку речушки пошагали к лазу, замаскированному камнем. Цербер безошибочно подвел к лазу, ощупал чуткими пальцами камень, закрывающий лаз со стороны гор, — все на месте. Абдурашидбек предупреждал, что недели две ходоки не пойдут с контрабандой, а лаз будет закрыт плоским камнем со стороны долины. Так и есть.
— Давай, — прошептал цербер Азизу. Они уперлись руками в камень и отодвинули его.
По предварительному уговору Азиз первым протиснулся в лаз, за ним — Гульсара, а замыкающим он — проводник, как он себя именовал.
Азиз с трудом протиснулся внутрь. Прислушался — все тихо, спокойно. Протянул руку Гульсаре. Той легче — она намного тоньше Азиза.
Все. Никто ее теперь не спасет. Неволя!
И тут родной голос: «Гульсара!» Она ойкнула тоненько и рухнула без памяти на каменистую твердь. Такое не входило в предварительные расчеты. «Сейчас верзила выхватит пистолет и пустит в нее пулю», — испугался Михаил, и он, обо всем забыв, рванулся из своего укрытия и закрыл своим телом любимую.
Азиз действительно вскинул пистолет, но два выстрела почти в упор свалили его. Еще один выстрел во-второго похитителя, но чуточку запоздалый — цербер успел скользнуть назад и бросился прочь из грота. Услышав приближающийся топот, перескочил речушку и затаился в дальнем углу.
На что он рассчитывал? Кто знает. Скорее всего им руководил инстинкт самосохранения. Но и спецназовцы не желали помирать. Они не полезли в грот, а начали поливать все его уголки автоматными очередями, веря, что достанут вражину. Тем более что тот начал отстреливаться, тем самым обнаружив себя. Смолкла перестрелка так же мгновенно, как и возникла.
Перво-наперво — доклад на заставу об успехе. Оттуда последует команда заслону, оставленному на тропе контрабандистов. Затем должна прийти машина за Гульсарой и за отделением спецназовцев. План дальнейший такой: Гульсару с русскими пограничниками без остановок везти в Ош, чтобы они оказались в безопасности, ибо Абдурашидбек вполне может, узнав о срыве его замысла, послать отряд своих головорезов для нападения на заставу. Она готова к этому, она отстоит себя, но, как говорится, чем не шутит джинн, пока Аллах спит.
Гульсара не приходила в сознание, хотя Михаил пытался вдохнуть в нее жизнь поцелуями. Тогда решили вынести наружу, оставив лишь паранджу для Абдурашидбека, как выразился один из спецназовцев. Трупы убрать, пусть бек терзается, думая, что его посланцы в плену, ведь они наверняка знали много. И пока все это исполнялось, брызнули первые лучи солнца, хрустально заискрившись на дальних снежных вершинах. В горах нет зорь. Ни вечерних, ни утренних. Темноту стремительно сменяет свет. И машина с Гульсарой, Михаилом и двумя его напарниками, сопровождаемая двумя автомобилями спецназа, тронулась в путь уже при дневном свете.
Гульсара долго не приходила в сознание, хотя «козлик» Костюкова несся стремительно по долине, и пассажиров довольно изрядно потряхивало на неровностях проселочной дороги. Михаил прижал к себе Гульсару, положив ее голову себе на грудь. Он гладил волосы Гульсары и был почти счастлив, однако тревога не покидала его.
Почти на полпути до Талдыка (образное название: выдохся — и все), откуда начинался опасный спуск в Ошскую долину, Гульсара открыла глаза, выдохнула нежно: «Миша, любимый» — и снова ушла в небытие.
— Все, отойдет, — с уверенностью заявил спутник Михаила. — Еще немного — и отойдет. Пока доедем до Оша, расскажет о своих мытарствах.
Гульсара и в самом деле пришла в себя, когда все машины остановились перед спуском с перевала — водители принялись простукивать носками ботинок скаты, проверять тормозную жидкость, — и вновь произнесла нежно: «Миша, милый», — но сознания больше не теряла. Выходит, не сон, не видение — она и впрямь спасена. Ее спас любимый…И как она могла усомниться в его верности, в его мужестве?! Она откроется ему, но не теперь, позже, после нескольких лет совместной жизни, пока же — молчок.
Когда «уазик» начал спуск, перед ее взором открылось множество очень крутых серпантинов, слева — скала, а справа — обрыв, и Гульсара не сдержалась:
— Ой! мамочка!
Очень похоже на то, как ойкала Марина, всплескивая руками.
Глава двенадцатая
До самой Гульчи Михаил Богусловский не мог успокоиться — он знал, что Абдурашидбек имеет связь с одним из так называемых оппозиционеров. И если самозваный бек успел уже узнать о происшедшем, то вполне может попросить хлеботорговца устроить засаду или заложить фугас на дороге. Потом он сам станет подтрунивать над собой, рассказывая Гульсаре о своих опасениях, но сейчас он испытывал настоящий страх.
Гульчу миновали без малейших происшествий, а дальше нападения можно было не опасаться — чем ближе дорога к городу, тем оживленней. Километров за пять от Оша их встретили пограничники Ошского погранотряда на «Волге». Все! Теперь они под охраной. В полной безопасности. Их не поселили в городской гостинице и даже не в офицерской приезжей, а в отдельном домике, который в быту называли генеральским. Здесь были кухня, столовая и даже ванная комната — можно жить, не выходя из дома, пока за ними пришлют вертолет. А может, придется ехать назад по Хорогской дороге.
Михаил Богусловский надеялся, что Прохор Авксентьевич расщедрится и пришлет вертолет, что было бы значительно надежней, но и машину пока не отпускал. В отряд уже было доложено об успешном завершении операции, и теперь оставалось только ждать приказа.
— Сутки или двое проведем в этом уюте, — высказал свое предположение Михаил, и Гульсара согласилась, хотя ей очень хотелось побывать у своих двоюродных сестер, две из них жили в Оше, но она ни словом не обмолвилась о своем желании. Страх еще не покинул ее.
Миновали вторые сутки, а никакой команды от начальника отряда или из Душанбе не поступало, и Михаил с Гульсарой воспринимали это с недоумением. Что? Нет горючего для вертолета? Тогда поедем на машине. И вот, наконец, команда: ехать в отпуск. С проездными вопрос решен. По линии Объединенного командования пограничных войск Содружества. Гульсару словно подменили:
— Миша, милый, давай погостим несколько дней у моих родственников! У нас гость как святой. Хозяева оберегают его надежней, чем себя. После этого давай съездим в Самарканд и Бухару. Не больше недели потратим. А дальше — через Ташкент в Москву. Успеем со свадьбой, если заранее предупредим бабушку и отца с матерью.
Не сразу ответил Михаил Гульсаре. Ему очень хотелось исполнить ее желание, ибо он понимал, как важно для нее восстановить родственные отношения, показаться своим сестрам, которые потеряли с ней связь, но он не мог самостоятельно решить этот вопрос. Нужно посоветоваться с командованием погранотряда, так как, пока они с Гульсарой здесь, об их безопасности заботятся киргизские пограничники.
Начальник отряда, начальник штаба и начальник разведотдела согласились, что Гульсаре Кокаскеровой грешно не повидаться с родными, только попросили адреса домов, в которых они намерены погостить, и дали мобильный телефон, попросив звонить днем через каждые два часа, а ночью его не выключать. По городу, особенно на базар, не ходить.
— Хочется хоть одним глазком глянуть на восточный базар, но ладно — подожду более подходящего времени. Только поднимусь с Гульсарой на легендарную Сулейман-гору.
— Не женившись, испытать на верность? — с доброй улыбкой спросил начальник отряда, и все остальные весело заулыбались.
Не понял Михаил вопроса, хотя видел, что мужчины шутят. Может спросить? Нет, там, на Сулейман-горе, все узнается.
— Когда соберетесь туда, обязательно позвоните. Мы пошлем наряд в штатском.
Гульсара расцеловала Михаила за радостную весть, но тут же погрустнела:
— Без подарка как? А у меня — ни копейки. С кровати подняли, ироды. У тебя тоже, наверное, пусто?
— Есть, Гульсара. Много. Предусмотрительный Прохор Авксентьевич велел взять все премиальные деньги. Вот конверт.
— Вот что значит уверенность в успехе дела! — восприняла на свой лад признание Михаила Гульсара, но тут же брезгливо фыркнула: — Деньги подонка — грязные деньги.
— Они были бы грязными, если бы он нас подкупил. Сейчас они чистые. Я не могу тебе, Гульсара, до времени открыться, но верь: ни я, ни Прохор Авксентьевич, ни Латып Дадабаевич не продались за доллары. — И тут же перевел все в шутку: — Знаешь поговорку: дают — бери, бьют — беги?
— Ладно. Давай собираться.
— Вначале я передам приказ подполковника Костюкова его водителю и спутникам моим, тебя спасавшим. Пусть возвращаются домой.
— Я с тобой. Поблагодарю своих спасителей.
Через час, отказавшись от «Волги», они вышли через проходную и оказались на пыльной улице, хотя целиком заасфальтированной. Даже пирамидальные тополя, росшие стройно между дорогой и тротуарами, казались изрядно запыленными, изнывающими от машинной гари и палящего солнца.
— Минутах в пятнадцати отсюда дом сестры Лайлы. Она самая старшая. К ней первой. Магазины по пути будут. Что-нибудь выберем.
Вот и массивные ворота с калиткой в высоком глинобитном дувале, через который во многих местах свисают виноградные лозы с янтарными гроздями. Как и во всех дворах, калитка снабжена медным кольцом с медной же пластиной под ним.
— Твое право стучать, Гульсара. Екает, наверное, сердечко?
— Не говори. Давно не виделись. Переполох сейчас начнется.
Перво-наперво забрехали собаки. Судя по басовитости — волкодавы. Затем шлепанье ног и вопрос:
— Кого Аллах послал? — Это был голос Абдаллы, хозяина дома и главы семейства.
— Это я, Абдалла. Гульсара. Со своим нареченным.
— О! Аллах! — Возглас, полный радости, следом строгое: «Турдеса», — на собак. Щелкнула задвижка. — Заходи, родная, нами потерянная. Заходите, гости дорогие. — И громко: — Лайла, встречай дорогих гостей. Гульсара пришла!
Лайла в шелковом легком платье выпорхнула было из двери, но, увидев чужого мужчину, юркнула обратно. Абдалла же, весьма довольный, пояснил:
— Она верна шариату. Истинная мусульманка.
— Извини, Миша, нас с тобой разлучат. Ты — на мужской, я на женской половине. Пока еще ты мне не муж, а соврать я не смогу.
Гульсара чуть не бегом кинулась к дому, Абдалла хмыкнул:
— О, женщины.
Говорил он по-русски чисто, почти без акцента. Как потом узнал Михаил, Абдалла преподавал в сельскохозяйственном техникуме русский язык, но потому, как ухожен был двор и сад, Михаил решил было, что тот занимается лишь садом и огородом. Этому впечатлению способствовал сам хозяин, который с великим удовольствием знакомил русского гостя с великолепием среднеазиатской природы.
Дорожка к террасе с резными колоннами огибает довольно большой хауз с камышовым островком посредине, где было устроено уютное гнездовье для супружеской пары лебедей, а сами они в дремотной расслабленности наслаждались тенью от векового орехового великана. Дорожка до самого хауза и за ним, до террасы — в живой изгороди из пионов и роз. За этой живой изгородью, справа и слева, деревья — персик, урюк, груша, айва, миндаль, гранат и инжир. — Все это отягощено плодами, манящими своей спелостью. Виноград же, росший по всему периметру дувала, манил крупными, будто подернутыми инеем гроздями самых разных цветов и оттенков — от янтарных до кроваво-красных..
— Я предлагаю попробовать дар каждого дерева. Нет ничего вкуснее, чем плод с ветки.
— Смогу ли я осилить? Такое разнообразие.
— Сколько душа позволит…
Душе, может быть, угодно вкусить все, но под силу ли желудку? Персик, пушистый, как утенок, и такой же крупный — слаще мармелада. Как удержаться, чтобы не съесть хотя бы пару? От инжира тоже не оторвешься. А гранаты, солнцем налитые? На выбор. Хочешь — сладкие, хочешь — кислые или кисло-сладкие, особенно хорошие.
— Нет. Все. Пасую.
— Не расстраивайтесь. Не один же день у нас поживете.
— Как скажет Гульсара.
— Неверное слово. Женщину нужно любить, но оставаться главой семьи. Ее еще у вас нет, но будет. Диктатура в семье — очень плохо. Особенно диктатура женщины. Демократия — еще хуже. Демократия — это хаос. Как в государстве, так и в семье. Разумное сочетание диктата и демократии — вот та золотая середина. Извините за назидание. Но я по праву старшего, создавшего семью более десяти лет назад, могу себе это позволить.
Абдалла явно не спешил вести гостя в дом. У хауза он стал рассказывать о себе, о жене, о сыне и дочери, о том, как Кокаскеров, большой пограничный начальник, помогал своим сородичам встать на ноги. Он явно рассчитывал на ответную исповедь, и Михаил охотно отозвался. Начал с Кокаскерова.
— Мой дед студеным утром принял на руки дитя, которого Кул назвал Рашидом. Рашидом Кокаскеровым. Мой отец служил на одной из застав в отряде Рашида Куловича и только благодаря его внимательности остался жив. Случайно мы встретились с Гульсарой, но корни наши переплелись давно.
Не скрыл Михаил от Абдаллы, которого уже считал своим родственником, и то, что пережила Гульсара, рассказал о ее спасении и о возможном преследовании Абдурашидбеком в дальнейшем.
— О! Аллах! — воскликнул Абдалла. — Что нужно шакалам?! Они добыли себе богатства на крови и страданиях народа, жиреют и по сей день. Распоясались, нет на них управы! Но в нашем доме вы с Гульсарой в безопасности. Мои собаки разорвут любого, кто попытается проникнуть во двор. Есть у меня и ружье.
— А у меня — пистолет.
И оба заулыбались, поняв, что их храбрость — не спасение от невзгод. Если Абдурашидбек пошлет за Гульсарой погоню, то пошлет не глупцов. Смелых и коварных пошлет. Нанесут они удар неожиданно. А значит, нужно быть готовыми противостоять коварству.
Легко, как ветерок, подпорхнула к хаузу семилетняя дочка Абдаллы в ярком шелковом платьице, на которое ниспадали сорок смоляных косичек. Стрельнула игривыми глазками на Михаила:
— Здравствуйте… — Затем к отцу — Мама велела передать, что дастархан расстелен.
Михаил предполагал увидеть вполне европейское жилище, но в просторной комнате с сандалом посредине все было не так, как, по его представлению, должно быть в доме преподавателя техникума, образованного человека, познавшего преимущества цивилизованного быта во время учебы во Фрунзенском педагогическом институте. Здесь все устроено на восточный лад: ковры на полу, ковры на стенах, в нишах подушки и одеяла громоздятся. Лишь столик над сандалом чуть повыше принятых в азиатских домах, и нет большого квадратного одеяла, каким обычно принято покрывать сандал.
Спокойно опускай ноги на бетонные ступени углубления, куда в прохладные зимние ночи ставится жаровня с углями для обогрева комнаты. А если сандал накрыт одеялом, спать под ним очень тепло.
Десятилетний сын Абдаллы, названный в честь знаменитого сородича Рашидом, ждал отца с гостем уже за столом и даже начал пробовать закуски…
— Здравствуйте, — поприветствовал он Михаила, почтительно склонив голову.
— Ты поступил неправильно, сев за стол раньше старших. В своей семье такое не осудительно, но у нас гость. На будущее учти.
— Хорошо, отец.
Застолье затянулось до самого вечера. Прогулка по двору при закате солнца, потом Михаила отвели в отведенную ему комнату. Как не удивительно, с кроватью. С единственной, наверное, во всем многокомнатном доме, который имел две отдельные входные двери. Одна — на женскую половину, вторая — на мужскую.
Следующий день не принес ничего нового. Продолжение дегустации плодов в саду, долгие трапезы за столиком над сандалом — скучное однообразие. Тягуче ползет время. Вместе с женщинами было бы куда приятней и веселей.
Единственная лишь отдушина — беседы с Абдаллой. Он хорошо знает историю не только края, но всей Средней Азии. Его интересно слушать, интересно познавать новое, особенно о вековых традициях Востока. Но разве помешало бы рассказам присутствие Гульсары и ее двоюродной сестры Лайлы?
На следующее утро Абдалла ушел в техникум на уроки, и Гульсара, воспользовавшись этим, позвала Михаила на террасу. Не прильнула, как обычно, обозначив свои чувства лишь воздушным поцелуем.
— Извини, не могу познакомить тебя с сестрой. Она настоящая мусульманка. Не хочет выходить к тебе в парандже, а без паранджи — не может. Великий грех. Если нам еще раз доведется побывать здесь, когда станем мужем и женой, будет гораздо проще. Ты уже будешь им родней. Я понимаю, тебе скучно, но потерпи, милый. После обеда мы пойдем к другой семье. Согласен?
— Конечно. Но у меня есть встречное предложение — давай отправимся на Сулейман-гору. Ведь это по пути?
— Хочешь проверить мою верность еще до свадьбы? — с мягкой улыбкой спросила Гульсара. — Наслушался Абдаллы.
— Не совсем так. Подобный вопрос задали мне еще в отряде. Там я не хотел показаться незнайкой, а у Абдаллы все расспросил. И теперь я понимаю твое желание побывать в Самарканде и Бухаре…
— Там мои родственники.
— Верно. Но те города — цитадели мусульманской культуры Средней Азии.
— Обратил тебя в свою веру Абдалла. Что ж, интересы наши совпадают, и мы посетим Самарканд с Бухарой. Но я изменила свое намерение. Поразмыслив, поняла, что беспечность для нас сейчас — непозволительная роскошь. Мы побываем в этих городах. Обязательно. Только не сейчас. Пусть пройдут годы. Я боюсь Абдурашидбека.
— Скорее всего, ты права.
Они долго гуляли по саду, теперь уже вместе выбирая самые спелые плоды, и они Михаилу казались еще вкуснее, чем вчера. Потом они любовались парой лебедей, и Гульсара философски изрекла:
— Вот пример верности супружеской. Если бы и люди так…
— О человечестве не скажу, а в нашем с тобой счастье вполне уверен.
— Я тоже. Пока же скучай. Абдалла вот-вот вернется. Я иду на женскую половину.
Разговор этот у них продолжился на Сулейман-горе. Разные мысли были у них, когда поднимались на священную для мусульман гору, вернее, возвышенность, более похожую на насыпной курган, если бы не пещеры у подножия. Михаил пытался понять, в каких из этих пещер, вовсе неглубоких, смог укрыться Бобур со своими телохранителями. Скорее всего, преследователи не могли даже подумать, что беглец укрылся в пещерах, загнав себя таким образом в ловушку, — они просто-напросто проскакали мимо. А уже значительно позже, спустя века, появилась легенда о длани Сулеймана-пророка. Но вполне возможно, что ее сочинил сам Бобур, дабы поднять свой авторитет в глазах правоверных.
У Гульсары же совсем иные мысли. Она подвела Михаила к углублениям в камне, которые за тысячелетия образовали дожди и ветры.
— Когда жена, как я полагаю, надоедала мужу, он вел ее сюда и толкал головой в такую ямку. Если голова не совпадала с вымоиной, сбрасывал жену с обрыва вниз — как изменницу. Знай, если я тебе надоем, только скажи — и я сама брошусь вон с того обрыва.
— Гульсара?!
— Я сказала то, что сказала. Слова мои — на всю жизнь.
Очень грустные мысли у Гульсары, а он не почувствовал ее душевной отрешенности, поглощенный мыслями о далеком прошлом и потерявший нить сегодняшнего. Она же своим нежным сердцем это почувствовала — он хотел покаяться, но она заговорила тоже не о них самих, а о далеком прошлом, и мысли ее не удивили Михаила. Она не единожды упоминала об обычаях далеких предков хоронить вместе с покойником коня и его жену — любящая женщина, как и преданный воину боевой конь должны были сопровождать его в царство мертвых.
«Долго еще мы с Гульсарой будем узнавать друг друга», — подумал Михаил.
Очередной звонок по мобильнику в отряд — доложить, что все в порядке, но в ответ он услышал совет как можно быстрее покинуть Ош. Усиленный наряд выслан к Сулейману — для охраны и сопровождения их до гарнизона отряда. Получены тревожные сведения, о которых нельзя говорить по телефону.
Разговор в отряде состоялся основательный. Не хотели киргизские коллеги тревожить Гульсару. Им очень хотелось содействовать ее желанию — посетить всех родственников, и они согласились на это с условием: днем можно находиться у родных, а на ночь — в отряд. Михаил Богусловский принял условие безоговорочно, но Гульсара, когда Михаил пересказал ей часть разговора с начальником отряда и начальником разведки отряда, предложила иное: сходить еще к одной сестре на часок-другой, сказать ей, чтобы извинилась перед остальными родственниками, и вернуться за высокий забор пограничного городка. Улететь из Оша надо с первой оказией.
Михаил предположил, что киргизские пограничники немного перестраховываются. И в самом деле, чего ради им головная боль? Остались они с Гульсарой в городе, в котором, как известно, довольно много активных исламистов, вот и хотят отрядные руководители поскорее отправить гостей в Москву, сняв с себя всякую заботу. Но как он был благодарен киргизским коллегам, когда позже, уже по возвращении из отпуска, его познакомили с ориентировкой на того же Игрока. На этот раз, не зная, конечно, о двойной игре одного из своих доверенных лиц, послал бек этого завербованного агента с заданием — организовать захват Гульсары и ее лейтенанта, выйдя на связь с так называемой оппозицией. А если лейтенант станет сопротивляться, покончить с ним. У двойника были все адреса ошских родственников Гульсары.
И вновь человек, которого Богусловский видел всего один раз, когда главу задержанной контрабандистской группы вербовали для игры с Абдурашид-беком, подал руку помощи. Вряд ли агент помнил о встрече с Михаилом Богусловским, ибо он не играл никакой роли при его вербовке, — он просто честно исполнял взятую на себя роль информатора. Попутно он извещал обо всем, что ему удавалось узнавать, а не только адреса и явки активных членов партии Освобождения Ислама.
— Улетаем в любой момент, когда вы решите… — Передав совместное с Гульсарой решение начальнику отряда и поблагодарив его за неоценимую помощь в освобождении Гульсары, Михаил добавил: — Навестить родственников Гульсары мы обязательно приедем. В более подходящее время. Надеюсь, мы еще встретимся.
— Вертолетом до Фрунзе, — по привычке начальник отряда назвал столицу Киргизии прежним именем. — Билеты вам будут обеспечены на первый же рейс.
Несколько минут на сборы — и в воздух. Вроде бы можно спокойно вздохнуть — позади опасность, но Михаил видел, что Гульсара напугана известием, и, быть может, не столько за себя и их двоих, сколько за родственников, как бы те не пострадали из-за них. Успокоилась она только в Москве, когда позвонила Абдалле и услышала его спокойный отчет: да, люди Абдурашидбека навестили всех родственников, но никого не обидели.
Она вздохнула с облегчением и все же проговорила с явной грустью:
— В Москве тоже есть ярые сторонники халифата, как вы с Прохором Авксентьевичем говорили. Могут, Миша, найти нас с тобой и здесь.
— Вполне. Но не так скоро. А нам что: пару недель поживем — и к себе на заставу. В самую гущу борьбы, но там враг виден.
— Успокоил, — улыбнулась уже не так грустно Гульсара.
— Это мною избранный путь, осознанный. Думаю, и ты поняла, что не будет у нас с тобой спокойной, безмятежной жизни.
В ответ Гульсара поцеловала его. Нежно. Преданно. И в этот самый момент в гостиную вошла Анна Павлантьевна. Она добродушно упрекнула Гульсару:
— Избалуешь, внучка, Мишу ласками. Привыкнет к ним.
— Не привыкну, бабушка. Не привыкну.
— Все мужчины одинаковые… — Поерошила ласковой рукой волосы Михаила и добавила: — Но я не нравоучения пришла читать. Поехали, внучка, примерять подвенечное платье. Первая примерка. Нам нельзя срывать примерки, дабы швея не припозднилась с исполнением заказа. День венчания нельзя переносить — жизненного пути не будет, какой задуман.
Бабушка предложила венчаться в церкви, чтобы, как она сказала, до гробовой доски Бог соединил их. Она твердо верила, что Бог прибрал ее мужа так рано оттого, что они не венчались, а регистрировали свой брак, да и то не сразу, а когда позволили обстоятельства. Слово казенное ее коробило всегда — одно дело обвенчаться, а совсем иное — зарегистрировать брак. Какой брак? И почему — брак? Может быть, семья самая образцовая, но все равно — брак.
Отец и мать Михаила сразу же согласились с ее доводами. Не возражал и Михаил. Вопрос задала Гульсара. Да, она вполне разделяет взгляды бабушки на супружество, но как быть, если она, Гульсара, не крещеная?
— Я постараюсь преодолеть это препятствие. Сегодня же переговорю с настоятелем храма Всех Святых, которого я прихожанка.
И уже вечером она — не пересказывая всего разговора с настоятелем храма, а он наверняка был не так уж легким — известила:
— Слава Богу, настоятель сдался. Обвенчает по всем канонам православия. День назначен. Все зависит от нас. Мы с фатой и платьем не должны припоздниться.
— Мне оплачивать заказ на венчание или это сделает Гульсара? Как по укладу?
— По укладу не нужно обижать ни бабушку, ни отца с матерью. Все расходы на свадьбу мы берем на себя. Нет-нет, никаких возражений. Пир не в нынешних ресторанах, где полно всякого безобразия, а в Культурном центре пограничных войск. Ты, Миша, там бывал не единожды, своди до свадьбы невесту свою туда в музей. Пусть поглядит и на трапезную. Если вам по душе, на том и остановимся. Думаю, поздравить приедут из Главного управления.
Анна Павлантьевна никак не воспринимала новые названия в пограничных войсках, твердо придерживалась прежних, и Михаил к этому привык еще в курсантские годы. Что же касается генеральских поздравлений, он сомневался, есть ли в этом необходимость. Лейтенант женится. Велика ли шишка?
— Не скромничай, внук. Лейтенант — да. Но какой? Ты — продолжатель знатной пограничной династии. Ты, по сути, восстанавливаешь старые благородные традиции, и это очень важно.
— Не приукрашивай, бабуля. На заставах и в отрядах служат много сыновей и внуков известных ветеранов пограничных войск. Я — один из многих.
— Не скажи. Твой род — древнейший пограничный род. Нельзя этим не гордиться!
Все. Больше бабушке перечить не стоит. В молодости она, вернее всего, так не думала, не полнила себя чрезмерной гордостью. Просто она была верной и надежной женой пограничника. Старость много меняет в человеке. Особенно, если ему во многом потакают. Но, с другой стороны, старость — время мудрое, и в восприятии действительности мудрого человека много рационального.
День венчания приближался стремительно. Все шло ладом, и только с посаженым отцом чуть было не случилась осечка. По мысли Анны Павлантьевны, венец над головой Гульсары следовало держать Вике Владимировне, дочери Оккеров, жене генерала Заварова, а над головой Михаила — самому генералу Заварову. И еще она настаивала, чтобы все пограничники были одеты по форме и при орденах. Нельзя, по ее утверждению, под гражданское платье прятать то, чем нужно гордиться. Она позвонила Ларисе Карловне, и та вполне согласилась с подругой, однако Игнат Семенович встал на дыбы:
— Играть на старости лет шута?! Избавьте.
Он не признавал церкви как таковой. Попов называл шарлатанами и пиявками, высасывающими кровь народную. По его мнению, они извратили учение Иисуса Христа, который проповедовал молитву тайную, разговор с Всевышним — наедине. Никак он не соглашался идти в церковь, тем более в форме и при орденах.
— Свадебный генерал! — фыркал он. — Шут гороховый.
Начали вести разговоры о другом посаженом отце, перебирая всех друзей, но Лариса Карловна твердо заверила, что переупрямит упрямца. И надо же, добилась своего. Смогла внушить, что не шутом гороховым он пойдет в церковь, а прославленным генералом, благословляющим лейтенанта на ратную службу Отечеству. Вот так и получилось, что все задуманное Анной Павлантьевной исполнилось, и она с удовлетворением заключила:
— Слава Богу. Вас, внуки мои, ожидает счастливая жизнь. Долгая и дружная. Я загадала, и все сошлось в моем гадании.
Вот и час венчания. Служки храма встречают кортеж у самого входа и ведут к алтарю. Он освещен только восковыми свечами. Так захотела Анна Павлантьевна; каприз ее стоил дорого. Зато очень впечатляет.
На венчании присутствовало не так уж много людей, лишь самые близкие друзья, и Лодочниковы были здесь. Только ради приличия Анна Павлантьевна позвонила Акулине Ерофеевне, и та сразу же приняла приглашение:
— Сыновей с их женами возьму.
— Прекрасно. В храме Всех Святых. В три пополудни.
Все шло чинно. Обручальные кольца на алой бархатной подушечке, кадило в руках настоятеля (он самолично вел обряд венчания), церковный хор в полном составе — все по самому высшему классу. Над головами Гульсары и Михаила — венцы. Вика Владимировна держит венец с гордостью, немного раскрасневшись от волнения, а Игнат Семенович явно смущен, хотя и бодрится. Благо, что обряд не слишком долог: вот затянул здравицу хор, настоятель окропил обвенчанных святой водой и, отгоняя злых духов (а разве им место в храме Божьем), подымил кадилом — все. Пора на выход. Другие ждут своей очереди. И только молодожены переступили порог храма, как зазвонили колокола. Торжественно.
Звон, как выяснилось позже, не был заказан. Просто совпадение. Звон по иному поводу. Но, как заключила Анна Павлантьевна, — это глас Божий возвещал о счастье.
Анна Павлантьевна была возбуждена донельзя, вроде бы вся на пружинах, и Михаил с отцом даже поделились опасением: не заболеет ли она после такого возбуждения? Но ничего стоящего ни тот, ни другой придумать не могли, чтобы снять у бабушки чрезмерную возбужденность. Не отправлять же ее домой?
Поздравления за праздничным столом одно другого душевней, хотя все традиционно стародавние: любви, счастья, кучу детей, на радость прабабушке и дедушке с бабушкой, но вот поднял фужер с шампанским Иосиф Сильвестрович. Переждал, пока перестанут жужжать изрядно уже охмелевшие гости, давая тем самым сразу почувствовать важность тоста. Уверенная в себе поза, даже можно сказать — горделивая. Взгляд поверх голов, — так смотрят обычно сильные мира сего, — и смолкли постепенно голоса, а Лодочников отверз уста:
— Я присоединяюсь, как и вся наша семья Лодочниковых, к тем поздравлениям, какие здесь были высказаны, но хочу сказать о более существенном.
Наш президент призывает нас к единению и согласию. К единению всех сословий ради будущего России. К единению народа и власти. К единению народа и армии. Да, армия, особенно пограничные войска, была в загоне, авторитет ее в народе упал. И это сказалось даже на отношениях наших семей, наших давних единых кланов. Призыв президента к единению и согласию касается каждого гражданина нашей страны, касается и нас с вами. Вот я и предлагаю выпить за единение и согласие наших семей, как малой частицы великой страны.
Кто-то, хотя и с недоумением, поднял фужер или рюмку, но многие насупились. Тамада нашел выход из положения:
— Объявляется перекур.
Атмосфера дружбы и согласия за праздничным столом враз исчезла. И восстановить ее, хотя после перерыва все старались быть веселыми, не удалось. Зато во время перерыва и оставшиеся в зале, и перешедшие в холл горячо обменивались мнениями по поводу весьма нелепого тоста за свадебным столом.
Анна Павлантьевна — Вике Владимировне:
— Ткачи-Буберы — Лодочниковы всегда были с выкрутасами. Бог не дал им твердой линии.
Не совсем так. Держались они линии. Твердой. Своей. Далекой от линии чести и неизменной — от предков до нынешних их потомков. Только Анна Павлантьевна не хотела этого понимать. Вика же была далека от Лодочниковых, они мало ее занимали, поэтому она не возразила Анне Павлантьевне.
Гульсара — Михаилу:
— Я в недоумении: зачем на нашей свадьбе этот коварный индюк? Он вроде бы друг или, скорее, слуга оборотня-депутата, а тот наверняка приложил руку к моему похищению. Ты же сам, Миша, мне об этом говорил.
— Верно, милая Гульсара. Очень даже верно. Одно скажу в оправдание: так нужно. Больше пока не могу сказать даже тебе. Я дал слово Прохору Авксентьевичу. Ты извини меня за скрытность. Придет время — ты все узнаешь. Пока же, прошу, не выказывай своего недовольства. Будь с Лодочниковыми, как со всеми, ровной.
— Магическое: так нужно. Принимаю. С условием, что впредь у тебя не будет ни одной тайны, как и у меня от тебя. Это твоя последняя тайна.
— Слово чести.
А вот у генерала Заварова произошел разговор с самим Иосифом Лодочниковым. Он, взяв того за локоток, отвел в сторонку от гостей.
— Ты, Иосиф, предложил выпить за согласие и примирение, но с кем? Не призывать бы свой народ пустыми лозунгами, а покаяться бы перед ним, и не только на словах, а еще и делом доказать раскаяние. Как я могу примириться с теми, кто в одну ночь сделал меня нищим? Я всю жизнь служил Отечеству верой и правдой, рискуя жизнью каждый день, каждый час. Граница есть граница. Еще и война. Что с того, что образовались у меня небольшие сбережения? Все прахом. Обворован. Ограблен. И не только я. У меня хоть пенсия такая, что на сносное питание хватает, а миллионы превратились в нищих и продолжают нищать, хотя все, кто у власти, взяли моду вещать безответственно, что они в долгу у ветеранов. Так отдайте долг, а уж после говорите об единении. А что сейчас получается? Те, кто без стыда и совести ограбил страну — оборотные капиталы заводов и фабрик, колхозов и совхозов и прочее, — нас поучают с думской и правительственной трибун, наставляют, как нам жить, как строить светлое будущее, обливают помоями Компартию, которую они же и возглавляли. Перевертыши. До переворота, так называемого демократического, они построили себе коммунизм, запудривая мозги народа идеей о светлом будущем, сегодня они же построили себе капиталистический рай, клятвенно заверяя, что годов этак через пятьдесят, а то и чуток позже пустят в этот рай и нас. Смогу ли я примириться с ними? Не примирюсь никогда! А таких, как я, даже не тысячи, а миллионы. Не примирюсь я и с новой идеологией, которая пропихивается через церковь, — радуйся тому, что имеешь, ибо каждому от Бога. Не ропщи, раб божий. Почитай власть, ибо она от Бога. А я не хочу быть рабом. Я не хочу почитать полубандитскую власть, елейно вещающую и в то же время набивающую свою мошну, прикрывшись дырявым зонтом реформ! Не нравится, господин Лодочников? Что же делать? Против фактов не попрешь. А что касается единения наших семей, тут тоже все зависит от вас, дорогой мой. Основа нашей жизни — честь и совесть. Если это устраивает вас — милости просим. А если слова разнятся с делом — просим пардону. Вот тебе, Иосиф, правда-матка. Доволен или нет, твоя проблема. Проблема Лодочникова. Твоих возражений я слушать не стану. Не авторитетно для меня твое слово.
Под локоток провел Иосифа Лодочникова в зал, где гости рассаживались за столом, чтобы продолжить торжественную трапезу.
Один только Михаил Богусловский, когда наступило время прощаться с гостями, похвалил Иосифа Лодочникова, хотя и вполголоса. Тот удивился и обрадовался.
— Толковый тост ты сказал, — кивнул ему Михаил. — Нам нужно единение.
Михаилу удалось скрыть желание плюнуть в эту наглую рожу.
Следующий день — день отдыха и обсуждения планов на медовый месяц. Коротким он у них будет. Когда Михаил сказал Гульсаре о просьбе Марины поспешить с возвращением, так как они с Латыпом не станут без них справлять свадьбу, Гульсара сразу же согласилась через неделю, в крайнем случае, через полторы покинуть Москву. Походят по музеям — и в отряд. От отпуска еще останется немного времени, можно будет помочь друзьям. Не менее важно поближе познакомиться с женой Прохора Авксентьевича и даже подружиться.
— Значит, выделяем на все неделю…
— Да. Третьяковка, Кремль, Гостиный двор, Китай-город, переулки старой Москвы, Останкинская башня и ВДНХ. Все остальное — в следующие приезды.
Однако не удалось им реализовать даже эту программу. Первый поход — в Кремль. Гульсару покорила красота увиденного. Храмы, поражающие своим величием и вместе с тем легкостью, ажурностью. А Кремлевские стены? Могучие, построенные века назад, они сохранили на себе ветер времен. Или Царь-колокол и Царь-пушка? Гульсара долго стояла возле них, осматривала с восхищением. Нет, эти творения великих русских мастеров не были для нее внове, она много о них читала, много раз видела фотоснимки и рисунки, но потрогать могла впервые.
— Знаешь, Миша, какие кощунственные мысли появились у меня? Трудились в поте лица гениальные творцы, а для чего? Колокол не смог даже подняться на звонницу, пушка ни разу не выстрелила по врагам. Пустой труд.
— Удивительно, но и меня, Гульсара, посещали подобные мысли. Но в связи с сегодняшним днем. Вот послушай только один факт. Пограничники и таможенники на пунктах пропуска мучаются, проверяя транзит на наркотики и взрывчатку, а в Ленинграде, то бишь Петербурге, изобретен понимающими наши нужды людьми прибор, который может буквально просвечивать фуры и контейнеры. Приглядывайся только, есть ли героин или пластид. А в итоге что? Пшик. Не нашлось людей, чтобы поддержать хорошее дело. Любое безделье или даже явное вредительство объясняют тем, что нет денег, как не нашлось прежде крепких канатов, чтобы поднять колокол. Я вижу здесь некую закономерность. Колокол расколот, изобретение продано за границу, и там приборы эти запущены в серийное производство. Но нужда в конце концов заставит нас внедрять их. Станем покупать. За валюту. С ярлыком фирмы европейской. Обыватель же, не зная подоплеки, зацокает языком: могут же делать в Европе. А разве подобный факт единичен? Тысячи их. Сотни тысяч! И выходит, будто Россия — лапотная неумеха.
Вроде бы не тема для разговора в медовый месяц, но как подобный обмен мыслями открывает души, как их сближает, показывая единое восприятие мира.
Еще раз столь же серьезный разговор произошел у картины Александра Иванова «Явление Иисуса Христа народу». Гульсара говорила так горячо и проникновенно, что Михаила даже оторопь взяла. Сам он с детства любил книги, к тому же имел прекраснейшую возможность читать и современные, и старинные произведения не только русских классиков, но немецких, французских, древнегреческих, знал прекрасные переводы Веда и даже Зенд Авесту. Весьма начитанный Михаил новыми глазами посмотрел на свою жену. До этого они переходили из зала в зал прекрасно отреставрированной картинной галереи, несколько дольше останавливаясь у некоторых картин. И вот — почти во всю стену великолепное творение русского живописца. Гульсара замерла и долго стояла молча, затем заговорила вполголоса, будто боясь спугнуть тишину:
— Ты знаешь, я засматривалась на репродукции этой картины в альбомах, они всякий раз вызывали трепет, но сейчас я не пойму, что со мной происходит. Я потрясена. Я сломлена. Тот вопрос, который будоражил мою душу, вновь остается без ответа: что хотел сказать художник, создавая это монументальное полотно? Присмотрись, Миша, сколь разные лица, но, если еще внимательней вглядеться — какая сила духа! Идеи духовного возрождения человечества, владевшие художником, так актуальны сегодня… Видимо, современники Иисуса знали о нем куда больше, чем мы.
— Не сельской учительнице русского языка и литературы тебе быть, а ученым историком. В библиотеке отца, которую он унаследовал от наших предков, более сотни книг по истории религий мира, книг о жизни Иисуса. Добрая половина из них — не канонические. Для начала тебе этого вполне хватит.
— Мечты… Ведь мы скоро уезжаем.
— А ты начинай. Дерзай. Я — твой первый помощник. Я, моя дорогая, немало религиозной литературы читал и смогу тебе для начала подсказать, помочь выбрать.
— На заставе?
— Да, на заставе. Она же не тюрьма. Для начала возьми сочинения декабристов. Почитай их философские трактаты, написанные в годы каторги, размышления о религии, об истории. Они почти все публиковались в периодической печати того времени, но и сейчас представляют большой интерес. И потом, мы же не век будем на заставе. Я еще раз советую тебе настоятельно — дерзай. Мы возьмем с собой десяток хороших книг. Хватит до следующего отпуска. Наладишь связь с Центральной библиотекой в Душанбе. Многое можно делать на заставе, было бы желание.
Гульсара, хотя в зале были люди, порывисто поцеловала Михаила:
— Спасибо!
Домой они возвращались в приподнятом настроении и даже не сразу обратили внимание на стоявшую у подъезда «скорую».
Первый тревожный вопрос задала Гульсара:
— Не к бабушке ли нашей вызвана? Ей после свадьбы явно нездоровится. Переволновалась. А это для ее лет опасно.
Тревога Гульсары передалась и Михаилу. Он ускорил шаг. И тут дверцы лифта раздвинулись: двое мужчин в белых халатах вывели, бережно поддерживая под руки, бабушку. Вернее сказать, они несли ее.
— Бабуля! — кинулась было к ней Гульсара, но врач остановил ее.
— Осторожно. Ее нельзя волновать.
— В какую больницу? — спросил Михаил.
— В Кардиологический центр. Сегодня к ней никого не пустят. Поместим ее в реанимацию.
— Я могу быть сиделкой.
— У нас достаточно квалифицированных сиделок.
Через час квартира Богусловских заполнилась друзьями. Атмосфера была гнетущая. Все предчувствовали недоброе. Не сдюжит сердце, знавшее столько горя. Но не горе, подкосило Анну Павлантьевну, видно, не по силам ей оказались свадебные хлопоты. Это особенно угнетало.
Обнадеживающий звонок первого заместителя начальника Главного управления пограничных войск:
— Мы связались с руководством Центра и попросили проявить максимум внимания к Анне Павлантьевне. Обещали. Последняя информация такая: жизнь ее вне опасности. Завтра можно будет ее навестить. После шестнадцати. Я тоже подъеду…
Увы, надежда эта рухнула на исходе ночи. Друзья к этому времени разъехались, успокоенные сведениями из Кардиоцентра. Но ни Иван Владленович, ни Ксения Владимировна, ни Михаил с Гульсарой спать не могли. Коротали ночь за чаем, вспоминая все самое хорошее из жизни Анны Павлантьевны и обсуждая, что завтра отнесите ей. Решили:
— Позвоним утром в Центр, выясним, что ей нужно и что можно.
Увы, все случилось иначе. Тревожный звонок ворвался в ночной дом. К телефону бросился Иван Владленович, все остальные — за ним.
— Слушаю.
— Крепитесь. Мы оказались бессильны…
Ксения Владимировна всхлипнула, Гульсара зашлась в рыданиях. Она не знала своей бабушки — так получилось, что та покинула бренный мир, когда Гульсаре не исполнилось еще и годика. Она впервые узнала ласку, познакомившись с бабушкой Михаила, и всем сердцем прикипела к ней. И надо же такому случиться: радуясь за них, она надорвала старческое сердце.
Михаил, едва сдерживая слезы, успокаивал Гульсару, но ничего не помогало, и тогда ее увела в спальню Ксения Владимировна, чтобы вместе выплакаться и взять себя в руки, ибо слезами горю не поможешь, и коли Бог призвал ее к себе, что ж тут поделаешь?
Утром Михаил поехал в Управление, чтобы позвонить по ВЧ Прохору Авксентьевичу. Услышал в ответ горестный вздох и совет:
— Не спешите. Помяните на девятый день, тогда и возвращайтесь. Изменения тебя ждут большие. Дадабаева я забираю в отряд.
Хотелось спросить, кого планируете в начальники, но посчитал вопрос нескромным. Так и остался в неведении. И даже утрата любимой бабушки не смогла заслонить тревогу: с кем предстоит дальше служить? О том, что ему могут доверить такой ответственный пост, он даже подумать не мог. Куда ему — всего год проходил в замах, еще и в разъездах много бывал.
Михаил с Гульсарой не участвовали в организации похорон. Все взяли на себя отец с матерью и два полковника, которых выделило Управление пограничный войск. Добились места на Троекуровском кладбище, где в последние годы хоронили только избранных. Оркестр — из Бабушкинского пограничного института, автобус для кортежа — тоже оттуда и еще два — из Голицыно. Народу было много. Все друзья, иные, даже перемогая недуги свои, пришли проститься, еще семья Лодочниковых, генералы и офицеры, курсанты и даже отделение для салюта — как для заслуженного ветерана войск. Торжественные, полные скорби речи, плач женщин, когда пришло время бросить в могилу горсть земли.
Анну Павлантьевну провожали со слезами, не так, как ее покойного мужа.
Горе поселилось в квартире Богусловских. Дом осиротел, хотя в нем оставались четыре человека. А Михаилу с Гульсарой особенно тоскливо днем, когда Иван Владленович и Ксения Владимировна уходили на службу. Пытаясь себя занять, они выбирали книги, которые Гульсаре нужно взять с собой, да бродили по переулкам старой Москвы. Так время проходило немного быстрей…
Честно говоря, они бы давно сели в самолет и отправились на заставу, но разве допустимо такое? Раньше девятого дня никак нельзя. Да и не поймут их родные и друзья.
Глава тринадцатая
Они не стали брать такси, подошли к стоявшему на краешке автостоянки «Москвичу» и попросили довезти их до центра. Адрес решили назвать только при въезде в город. Хозяин «Москвича» несказанно обрадовался. Ему ждать самолета не менее четырех-пяти часов (он опаздывал по погодным, как объяснили, условиям), а тут как с неба свалился заработок. Он помог уложить в багажник вещи и жестом радушного хозяина пригласил:
— Прошу в мой лимузин.
Вроде бы все они сделали правильно, но Богусловский получил выговор от дежурного по Управлению.
— Как можно так рисковать?! Вы же не в Москве. Не в России? Тут исламистов — пруд пруди. Или вам неизвестно о покушениях? Неужели трудно было позвонить?!
Что ответишь? Осталось только извиниться. По глупости, мол, по молодости. — И в самом деле, молодо — зелено. Помощник мой проводит в нашу гостиницу, точнее — приезжую, — смягчившись, объявил дежурный и добавил: — Вам повезло. Завтра в ваш отряд летит начальник штаба. Почти без сопровождающих офицеров. Места, стало быть, будут. Готовность — к девяти ноль-ноль. Действительно, в девять утра в дверь номера постучал посыльный.
— Вас, товарищ лейтенант, вызывает командующий.
Вот это — да! Лейтенант, заместитель начальника заставы — и на прием к генералу. Что за причина? Михаил Богусловский не сразу сообразил, о чем может пойти разговор. Прояснил посыльный:
— Он просил прийти с женой.
Теперь вроде бы прояснилось. О похищении, должно быть, пойдет разговор. Генерал вышел из-за стола, когда Гульсара с Михаилом шагнули в его кабинет. Указав на диван, сам сел рядом с молодоженами и сразу же заговорил: — Не знаю с чего начать. Или сочувствовать вам в связи с потерей бабушки, или восхищаться вашим мужеством? Все же, горечь потери велика. Примите мои искренние соболезнования. Для тебя, Гульсара, внучки знатного пограничника, жизнь Анны Павлантьевны должна стать примером. Ведь ты сама теперь — пограничница.
Гульсара промокнула платочком невольные слезы, стараясь сдержаться, и генерал спохватился:
— Все. Не стану больше бередить вашу рану. Давайте так, расскажите о похищении и освобождении. Начните вы, Гульсара.
Она, смутившись, не вдруг начала свой горький рассказ. Потом ее словно прорвало. О прабабушке вспомнила, особенно о том, как коварно ее и прадедушку убили, как раз вблизи того самого грота, через который уводили ее в неволю. О первой попытке похищения вспомнила, когда спасли ее сельские аксакалы, — генерал вроде бы слушал внимательно, но Михаилу Богусловскому казалось, что все это ему давно известно и не представляет для него особого интереса. И он был прав: генерал буквально преобразился, когда Гульсара начала рассказывать о своих чувствах, о своих переживаниях на горных тропах, о бережном к ней отношении похитителей и о том, какая судьба ждала ее впереди. О предложении Азиза она промолчала. От мужа она не скрыла этого факта, но нужно ли знать об этом всем? Важно другое: она своим обмороком в самый ответственный момент едва не испортила все.
— Да и я не лучше вел себя, — поддержал Михаил жену. — Не нашел ничего лучше, как загородить ее от пули своим телом. Забыл все, что отработано было до автоматизма, чего добивался киргизский коллега подполковник Саркисов.
— Больше никому об этом не рассказывай, — посоветовал Богусловскому генерал. — Зачем напраслину на себя возводить. Освобождение, хорошо продуманное и хорошо спланированное, состоялось. И прошла операция без потерь со стороны пограничников, разве этого мало? — Он поднялся с дивана и, пройдя к столу, нажал кнопку вызова дежурного: — Пусть входят.
Кабинет командующего заполнился генералами и полковниками. Начальник отдела кадров Управления зачитал указ о награждении лейтенанта Богусловского Михаила Ивановича медалью «За отличие в охране границы» — за умелые действия при задержании контрабандистов с крупной партией героина и за блестяще проведенную операцию по освобождению похищенной учительницы сельской школы. Богусловский хотел было признаться, что не достоин столь высокой награды, что и в первом, и во втором случае лично он действовал не блестяще, но его держали слова только что сказанные генералом: «Зачем напраслину на себя возводить…»
Прикрепил на тужурку медаль лично командующий, затем каждый из собравшихся поздравил Богусловского, пожал ему руку, а начальник штаба спросил: успели ли они позавтракать?
— Да.
— Тогда через полчаса к приезжей подойдет за вами машина.
Ни командующий, ни начальник штаба ни словом не обмолвились о том, какой сюрприз ждет его в отряде. Посчитали, многовато будет, если все сразу обрушится на голову молодого офицера. Пусть уляжется радость от полученной награды, тогда можно и вновь порадовать.
Но они и не подозревали, что радость его после награждения заслонили тревожные мысли о том, кто же будет у него начальником. И еще: не совсем была ясна цель поездки начальника штаба Управления в отряд. Если с проверкой, вез бы с собой большую группу офицеров, а с ним — только инженеры. Не догадывался Богусловский, что генерал хочет своими глазами посмотреть на то, как выполняет подполковник Костюков обещание, данное-на совещании по подведению итогов проверки служебно-боевой деятельности отряда в связи с гибелью заставы. Да, Костюков сумел добыть в Душанбе нужную технику, когда встречал свою семью, но, кроме механиков, никого больше не взял, хотя ему предлагали две бригады строителей. Он твердо заявил, что людей у него хватает. В Управлении правильно поняли отказ начальника отряда от такой щедрой помощи: он не желает привлекать к сооружению оборонительных систем на заставах много народа, ибо в строительные бригады вполне могут проникнуть сторонники халифата, каких в Душанбе достаточно. Они за деньги продадут даже мать родную. У них одно на уме — деньги и личная власть, ради этого они пойдут на все.
Верно действовал начальник отряда, но справится ли он, взяв на себя добровольно поистине непомерную ношу? Вот и прихватил начальник штаба с собой только инженеров, чтобы они сделали толковое заключение. Сам же намеревался побывать на Приостровной, где, как ему докладывал подполковник Костюков, уже построена двойная система обороны: липовая и скрытная.
Прилета вертолета в отряде ждали. На аэродром приехало встречать все командование, и, едва генерал ступил на землю, Костюков чеканным шагом подошел с рапортом. После чего, не скрывая дружеских чувств, обнял Михаила, затем Гульсару, к нему прижавшуюся. Она знала по рассказам мужа, какую роль сыграл в ее освобождении Прохор Авксентьевич, и корила себя за недобрые мысли о нем.
— Простите меня, Прохор Авксентьевич, за мои дурные мысли. Особенно когда мы спустились в Алай. Простите.
— Не стоит, Гульсара, казнить себя. Ты — молодчина… — А потом уже громко, вновь не скрывая ничего от гостей, сказал: — Помянем Анну Павлантьевну сегодня вечером у меня. Пока же отдыхайте.
— Не до отдыха лейтенанту Богусловскому. Ему работать нужно. Пройтись по всем службам, осмотреть все, что числится за заставой. Вы объявили ему наше решение?
— Извините, вылетело из головы. — И к Богусловскому: — Вы, товарищ лейтенант, назначаетесь начальником заставы Приостровная.
И вот тут Михаил Богусловский не смог сдержать себя. То награда, показавшаяся ему чрезмерной, то назначение неожиданное — ошарашивающая новость.
— Не рановато ли?
— Приказ подписан и не может обсуждаться, — сердито одернул Богусловского Костюков. — И заруби себе на носу, Михаил Иванович: рано не бывает. Бывает поздно. Не скрою, я ходатайствовал за тебя, но имей в виду: если не справишься, настою о переводе тебя на взводного. — И, смягчив тон, добавил: — Четыре года тебя учили лучшие преподаватели, а здесь ты прошел курс молодого бойца.
— Что-то новое. Курс молодого бойца? — удивленно произнес генерал.
— Ходил младшим во все виды наряда, перенимая опыт у старослужащих. Целый месяц ходил. По собственной инициативе.
— Ну, дела-а… Впрочем, толковая мысль. Особенно для тех, кто до института, тьфу ты, училища не служил на границе. Стажировки стажировками, а на конкретном участке, в конкретной обстановке — худо ли? Этот вопрос мы обмозгуем в Управлении.
— Но лучше, если не по приказу, а по доброй воле. Чувствуя ответственность…
Последнее слово осталось за подполковником Костюковым. Разве разумному слову можно что-либо возразить? Начальник штаба Управления перевел разговор на другую тему: ради чего, собственно, и приехал в отряд. Предложил свой план работы: наметить заставы, куда поедут инженеры, и определить время вылета его самого на Приостровную. Лучше всего — на следующее утро.
— Со мной начальник штаба отряда. Он и объявит старшему лейтенанту Дадабаеву о его новом назначении. Пусть со мной отправляются и лейтенант Богусловский с женой.
Подполковник Костюков хотел сам лететь на Приостровную с генералом, но перечить начальству не стал.
Ладно, и без него Дадабаев подскажет Михаилу, как продолжить игру с Исмаилом Исмаиловичем. Сейчас, когда она переходит в завершающую стадию, нужно действовать очень осторожно. Фазаны, действительно, являются контейнерами, как показала скрытая проверка охотничьих трофеев Лодочникова. Впрочем, вечером можно улучить момент и рассказать об этом Михаилу.
В городке Гульсару встретила жена Прохора Авксентьевича.
— Я — Зинаида Федоровна Костюкова. Для вас — а давайте-ка сразу на «ты», — для тебя — Зина. Ни в какую приезжую. К нам домой. У нас есть свободная комната. Помянем нашу любимую Анну Павлантьевну, земля ей пухом. Ко мне она относилась по-доброму, хотя мы встречались довольно редко. Мы с Прохором все больше на границе. Застава, комендатура и вот — отряд. Ну, что это я соловьиными баснями вас кормлю? Будет у нас время узнать друг о друге все. Пойдем-пойдем… Отдохнешь с дороги, потом пособишь поминальный стол накрыть и мужчин ждать. Наша доля такая — ждать. Мужья заняты делом, а мы ждем и держим горячими обеды. Разве это легче? Но, если любишь, все нипочем.
Михаила Богусловского, как и следовало ожидать, никто не позвал с собой, и он остался один, как неприкаянный. Им было сейчас не до нового начальника заставы. Костюков Повел генерала в свой кабинет, все начальники отделов поспешили в свои: генерал в любой момент может пригласить, и к этому нужно быть готовым. Начальство разыскивать и ждать не любит. А ему что делать?
«Нужно идти по службам тыла. До него сейчас или нет — неважно».
Зря он сомневался. Оказалось — и до него есть дело. Начальник тыла подполковник Угров слышал приказ генерала и тут же велел всем службам срочно подготовить справки о том, что числится за заставой. Более того, попросил своего зама лично принять участие в приеме и передаче заставы, сверяя отчетность и фактическое наличие. Все шло как по маслу, и к шести часам Михаил Богусловский освободился. Он сразу же пошел на квартиру Костюковых, чтобы вместе с женщинами ждать Прохора Авксентьевича. Он считал, что не вдруг отпустит Костюкова генерал, но — ошибся. Прохор Авксентьевич был уже дома. Генерал буквально выпроводил его на поминки, сказав, что все вопросы вполне может решить с подполковником Кирилловым и подполковником Угровым. Сам же от приглашения отказался:
— У вас — давняя дружба, а я — сбоку припека. Не стоит.
Стол был уже накрыт. Холодные закуски и салаты на столе. Осталось только достать из холодильника «Стольную» и «Кагор», подать блины с медом, лапшу поминальную — и за трапезу.
Помянули, не чокаясь. Много добрых слов было сказано, и вполне оправданных, — покойная Анна Павлантьевна заслужила добрую о себе память. Не единожды пожелали, чтобы земля ей была пухом, и когда грусть чуточку унялась, Зинаида спросила:
— Не весел ваш медовый месяц. И все же ты, Михаил, хоть немного показал Гульсаре Москву?
— Разве ее разглядишь за короткое время? Годы в ней проживешь и то вряд ли узнаешь. Столько мыслей, столько вопросов, — ответила за Михаила Гульсара. — Даниил, князь московский, положил начало росту Московского княжества. На удобном торговом пути Москва стояла, а это много значило…
— Помнишь, Гульсара, как восьмисотлетие города отмечали? У нас всю историю, не только Московскую, одели в короткие штанишки. Будто до Петра лапти праотцы наши носили, не ведая о другой обуви, и будто до крещения силком письменности даже не имели, — решительно вмешался Михаил. — Теперь вот Санкт-Петербургу славу пропели и продолжают петь. Но разве в Вольской пятине Великого Новгорода до Петра ничего не было? Да, земля эта девяносто лет была под шведами, но многие века еще в древности там строили торговые суда и боевые корабли, шла бойкая торговля со многими западными странами, которую охраняли городовые дружины двух городов-крепостей — Орешек и Усть-Нево. А еще — дружины варяжские.
— Вот-вот, варяжские все же, — торжествующе поднял руку Костюков.
— Прохор Авксентьевич, не разочаровывайте меня. Варяги при Екатерине Второй отчего-то стали нацией, до этого они были наемниками, охранявшими порты и караваны торговых судов. Во всех странах, которые вели торговлю морем, имелись свои варяги. Это — факт истории. Его признали даже ярые сторонники норвежско-варяжской теории, которые, если мне не изменяет память, году в семьдесят пятом прошлого века на своем научном сборе пришли к выводу, что нормандская теория не является научно обоснованной. Европа знает об этом, наши же соотечественники, чью историю Екатерина изнасиловала, даже не слышали о соборе норманистов и их окончательном выводе. В Германии проходил собор, поэтому можно было умолчать о нем. Так вот я и говорю: если уж так сильно хотелось переименовать Ленинград ради, как объяснялось, торжества истории, то стоило бы поглубже заглянуть в нашу богатую историю и петь осанну Петру. Не на дыбы поднял он Россию, а на дыбу вздернул! Не окно он открыл в Европу, в котором Россия не нуждалась, ибо имела распахнутые ворота на Белом море, в Коле, в той же Водьской пятине, на Черном море, которое — не следует забывать — именовалось Русским, — не окно он открыл, а щель, и полезла через нее всякая нечисть. На днях слышу: Петр привез из Голландии технологию изготовления сусального золота. Так уверенно лопочет ведущая, будто иначе и не могло быть. Мне же стало ее поистине жаль. Слепая, как котенок. Безграмотная… Заглянула бы в энциклопедию или полистала бы популярную брошюру по истории строительства Исаакиевского собора — именно тогда впервые применили сусальное золото — изобретение русского мастера. Заметьте, крепостного. Может, ведущая все это знает, но продалась с потрохами. И с Китаем-то мы впервые снеслись только при Петре. Он якобы первым из первых снарядил в Поднебесную посольство во главе со Спафарием, придворным переводчиком с латыни. Но я считаю так: прежде чем говорить об истории дипломатии с Китаем, не лишне бы заглянуть в многотомную «Историю дипломатии» или, на худой конец, почитать поистине научные записки Венюкова, они изданы в Хабаровске.
— Максимализм…
— Да! Но как, Прохор Авксентьевич, не возмущаться, когда пигалица в телерепортаже из какого-то подразделения Северного флота объявляет на весь мир о трехсотлетии русского флота вообще и о семидесятилетии самого Северного флота. Перед тем как вести репортаж, заглянула бы в музей этого флота или полистала бы воениздатовскую книгу истории этого флота. И в музее, и в книге есть точные даты победоносных морских сражений с норвежским флотом за двести, за триста лет до Петра. Не сгинули во времени имена флотоводцев. И вообще, как можно тысячелетнюю, а то и более древнюю историю русского флота урезать до трехсот лет?! Я вполне понимаю, отчего наши императоры и их идеологические клевреты унижали Россию. Им нужно было оправдать захват нашего трона, узурпацию его Романовыми, но почему с приходом к власти народолюбцев ничего не изменилось? Не меняют ничего и так называемые демократы. Заметьте, в Великом Новгороде случайно обнаружили обломки фресок при реставрации церкви — взахлеб об этом и радио, и телевидение, но почти молчат о берестяных грамотах, которые подтверждают, что в России письменность была за много веков до крещения. Заметьте, на бытовом уровне. На бытовом! А вот наши демократы за десять лет успели так поставить дело, что уже в армию призываются юноши почти безграмотные. Читать-писать не умеют. А лет этак через пятьдесят, вполне оправданно станут именовать Россию лапотной: не по карману станет простолюдинам обувь итальянско-французско-германского производства. Или еще один пример: раскопки великого города на юге Урала почему-то засекретили. Давайте спросим не только солдат, но и офицеров: кто слышал об этом крупном торговом центре, стоявшем на шелковом пути?
— Все верно, Миша. Совершенно верно. Но вы не сказали, что все же вам удалось посмотреть в Москве? — решил поменять тему Прохор Авксентьевич, хотя вполне разделял взгляды Михаила на прошлое и настоящее России, возмущался, как и он, многим, но считал излишними столь горячие речи в кругу единомышленников. — Где побывали?
Перечислять принялась Гульсара, загибая пальцы.
— А в Мавзолее Ленина?
— Миша наотрез отказался.
— Отчего, Миша, вождь революции попал у тебя в немилость?
— А меня в милости только факты. Вот один из них: кто загнал Россию в кабалу должников? Первым нахапал долгов Петр Первый. Потомки рассчитывались. Следом — Екатерина Вторая. Тоже хомут на шею потомков. Николай Второй, не сумев извлечь выгоды от изобретенного Менделеевым бездымного пороха, тоже залез в долги. А сейчас — демократы наши хапают.
— При чем же Ленин?
— Он не задолжал, верно. Но он расфукал царский золотой запас, который не успели вывезти из России. Он — еще хуже, чем Петр, еще хуже, чем нынешние демократы, поскольку оборвал естественный ход развития страны, разрушив все до основания и не построив достойного нового мира. Мне отец пересказывал долгие беседы с ссыльным графом Антоном, когда на освоении Нижневартовской нефти и газа работал. Открыл тот граф моему отцу глаза на многое. Образ драги крепко засел в моем сознании: ползет она, загребая под себя все, оставляя после себя горы отбросов, а сама теряет свои рабочие части — вот так выглядела расхваленная ленинско-сталинская образцовая экономическая структура. Она не могла не рухнуть, но…
— Это — долгий разговор. Оставим его экономистам, хотя ты и в этом вопросе прав: менять нужно было, но не так, разрушив все до основания, а затем… По-ленински… Сознательно это сделано, ради личного обогащения кучки бывшей партийной элиты или по экономической безграмотности — не столь важно, важно лишь то, что современная Россия поставлена на колени. Народ ее в основном обнищал, хотя и при Советской власти не был обеспечен достойно. Давай на этом поставим точку — и баиньки. Завтра утром — в воздух. Но прежде давай выпьем за твое повышение. Большой груз отныне на твоих плечах, и от того, как ты справишься с делом, зависит твое будущее.
— Я это вполне осознаю. Но еще один вопрос, об утре завтрашнем, можно? Успеем ли мы забежать в санчасть к Марине?
— Успеете. Вылет в десять часов. А на сборы вам — минуты. Вещи все уже в вертолете. Книгами, похоже, основательно запаслись. Кандидатскую, что ли, писать?
— Как получится… — скромно ответила Гульсара.
Вертолет взлетел с отрядной посадочной площадки ровно в десять. Все знали, сколь пунктуален начальник штаба Управления, поэтому действовали четко. Зашлось сердце Гульсары, взвинтились мысли. Не так уж много времени отсутствовала она в селе, а как соскучилась по школе, по подругам, по послушным и пытливым ученикам, по аксакалам, так уважающим ее, но уместно ли будет возвращаться в школу, создавая головную боль Мише: он же не станет отпускать ее в село без охраны, хотя, она это понимала, перечить ее желанию не будет. Вот и нужно ей самой решать, как поступить. Но как? И мужа не хочется обременять, и школу жаль бросать.
Она не могла предположить, что за нее все уже решили. Латып Дадабаев известил и аксакалов, и администрацию села об успешном освобождении Гульсары, а также о ее замужестве, предупредив при этом, что теперь она станет жить на заставе и, возможно, оставит школу. Ничего сельчане не ответили Дадабаеву, но как только он уехал, собрали сход. Решение приняли единогласно: Гульсару не отпускать, дав полную гарантию безопасности в дневное время. На уроки пусть ее привозит заставская машина, после уроков отвозит машина администрации под охраной вооруженных мужчин. Но не это главное — важно то, что аксакалы во главе с улемой дали клятву больше не допустить оплошности.
Большая делегация сельчан прибудет на заставу, когда еще генерал не улетит. Долго станут решать, как лучше поступить, в конце концов, уважат сельчан. Начальник штаба Управления твердо пообещает выделить заставе дополнительно один «уазик» с водителем и двумя спецназовцами. На все время. Даже на период школьных каникул.
Вот так разрешится ее мучительный поиск компромисса между семьей и школой. Но это ей еще предстояло узнать, пока же она пыталась отодвинуть решение проблем разноречивые мысли на более позднее время, ибо до начала школьных занятий еще оставалось время. Она даже не заметила, что вертолет начал снижаться, делая круг над плато. Вот он мягко прилип к тверди — на плато уже стояла заставская машина, а возле нее — старший лейтенант Дадабаев и прапорщик Алдошин.
Старший лейтенант Дадабаев отрапортовал по форме, когда же, как и положено, назвал звание и должность, генерал возразил:
— Вы уже не начальник заставы. Вас по ходатайству подполковника Костюкова мы повысили в должности. Приказ подписан.
Латып Дадабаев был в недоумении. Обычно о предстоящем повышении становится известно загодя, да и никто с ним еще не беседовал. Как же так? Какое повышение? Но приказ подписан, обсуждать нечего.
— Кому передавать заставу?
— Как кому? Своему заму. Или он не достоин?
— Я этого не сказал. Я двумя руками «за» и ручаюсь за него головой.
— Стоящая рекомендация. Но придется помогать ему, чтобы остаться с головой.
— Так точно.
Хотелось узнать, что за должность ждет его. Прохор Авксентьевич говорил прежде о разведотделе. Неплохое повышение. Но всему свое время. Скажет начальство, когда сочтет нужным.
Оно соизволило сделать это в конце боевого расчета. Дадабаев провел его по всей форме, но строй распускать не стал, а прошел в канцелярию, чтобы доложить об этом генералу. Вдруг ему захочется сказать солдатам мудрое слово? И в самом деле, генерал поднялся.
— Пойдемте к строю.
Он самолично объявил о том, что старший лейтенант Латып Дадабаевич Дадабаев назначен командиром десантно-штурмовой группы отряда, а заставу примет лейтенант Михаил Иванович Богусловский. Тишина в ответ такая, вроде бы строй перестал дышать. И вдруг — аплодисменты. Как в концертном зале, когда покоренные выступлением артиста зрители не вдруг приходят в себя и только после паузы взрываются овацией. Начальник штаба Управления насупился (вопиющее нарушение, тем более без команды «вольно»), но затем махнул рукой: что, мол, с вами поделаешь. И лишь в канцелярии упрекнул Дадабаева с Богусловским:
— Распустили заставу. Панибратствуете… — Но в голосе сердитости не было. Так, для порядка выговор. Он — бывалый солдат и хорошо знал: не порадуются подчиненные за своих командиров, если не уважают их искренне.
Вечер прошел в назидательных беседах, особенно много времени уделено было Дадабаеву. Дело новое, нужно взять с первых шагов верное направление; но не остался без внимания большого начальства и лейтенант Богусловский. Да и понять генерала можно: не так уж велик стаж его в должности заместителя, не подвел бы. Сутки закончились тоже штатно — тревогой «К бою». Генерал самолично считал минуты от сигнала до докладов огневых точек о готовности вести бой. Остался доволен. Так и сказал:
— Теперь я спокоен за эту заставу. Если даже в пять раз большими силами попрут, а нападения вряд ли миновать, встречу получат достойную.
Начальник штаба Управления не забыл своего разговора с тогда еще майором Костюковым, не забыл, и что в общем-то одобрил рискованный план, и теперь был уверен: как только задержат с поличным депутата, месть последует тут же. Он потому и прилетел на заставу, чтобы лично убедиться, что застава сумеет дать отпор. Лейтенанту Богусловскому так и наказал:
— Вот в таком духе и продолжай поддерживать боевую готовность. До автоматизма отрабатывайте действия по сигналу «К бою».
Автоматизм. Десятки раз он слышал это слово, поначалу воспринимая его как должное, но уже после первой стажировки на заставе, особенно же после второй, когда был ранен в бою на перевале, стал с большой осторожностью относиться к пресловутому автоматизму. Не заводной паровозик, даже не компьютер, только осмысленно действующий боец будет торжествовать победу, оставшись живым. Хотелось Михаилу Богусловскому возразить генералу, высказать свое понимание направленности тренировок, но вспомнил мудрые слова Прохора Авксентьевича, что не ершиться нужно, о себе заявляя, а делами доказывать правоту свою. И чем выше должность, тем дела масштабней, тем больше возможности не только словом, а в первую очередь делом проводить свои идеи в жизнь.
Должность начальника заставы — первая ступенька, где уже можно испытывать на практике разумные новшества.
Когда генерала проводили в приезжую, остались на часок Кириллов, Дадабаев и Богусловский. Начальник штаба отряда сообщил, что через неделю на заставу прибудет новый замнач.
Должно быть, опытный. Три года на заставе. Хотя граница с Эстонией — не граница с Афганистаном. Многому придется переучиваться.
— Лучше бы тебе в замы кого-нибудь из наших, но решение командующего не стоит оспаривать. Мы с Прохором Авксентьевичем надеемся, что ты сможешь ему помочь.
— Конечно. Даже если бы я не хотел, все равно вынужден был бы переучивать. Прямая моя обязанность.
Дальше разговор об Исмаиле Исмаиловиче. Его уже можно брать с поличным. Скрытая проверка Лодочникова подтвердила догадку, что фазаны — контейнеры, и Михаил Богусловский загорелся:
— В первый же его приезд выпотрошу!
— Не стоит горячиться. Горячность может испортить все, нами сделанное, — одернул Богусловского подполковник Кириллов. В спешке можно наломать дров. Нужно дать время успокоиться самому Исмаилу Исмаиловичу. Вот тогда — уже без осечки. Тогда — наверняка.
— За островом круглосуточное наблюдение продолжать, — посоветовал Латып Дадабаев Михаилу. — Главное — засечь, вспугивались ли фазаны. Особенно ночью. Если не засекли появление на острове человека, ни в коем случае нельзя переходить к решающей фазе. Исмаил Исмаилович вполне может брать товар через раз, а то и через два. Он же не простак.
— Повременить стоит вот еще почему, — продолжил свою мысль подполковник Кириллов. — Как минимум, нужно пару месяцев, чтобы подготовить поистине боеспособные десантные группы. Нужно помнить: как только мы схватим за руку Исмаила Исмаиловича, депутата-оборотня, месть последует незамедлительно. Не забывайте еще и о личном. Пусть Латып Дадабаевич тихо-мирно справит свадьбу. Думаю, через пару недель она состоится. Сразу же после очередного приезда на охоту Исмаила Исмаиловича.
— Да, пару недель нужно, чтобы оглядеться, войти в новую должность и подготовиться к свадьбе.
— Не думай о подготовке. Твое дело, как я понимаю, не забыть об обручальных кольцах и о заявке в загс, все остальное возьмет на себя отец Марины. Если не так, то я плохо знаю своих коллег.
Все устраивало Михаила Богусловского в предложенном раскладе, кроме одного: ему очень хотелось поквитаться как можно скорее с Исмаилом Исмаиловичем. Но выше головы не прыгнешь, и он подчинился, хотя и подневольно. Знай он, как распланировал свои действия Исмаил Исмаилович, мыслил бы совершенно иначе и горячо бы благодарил Кириллова, а заодно и Дадабаева за добрый совет и прозорливость.
Исмаил Исмаилович сам напросился на встречу с лидером их партийной группы и даже предложил собрать совет. Тот даже не спросил, о чем пойдет речь на совете, из чего Исмаил Исмаилович сделал вывод, что босс знает о похищении и о провале вроде бы хорошо продуманной операции. Он подготовил ответ, и чутье не подвело его. Первый вопрос грубым тоном:
— Великое дело мы свершаем или ублажаем свою похоть?! Зачем нужно было воровать учительницу?
— Я лично не имел к этому самовольству никакого отношения, хотя учительница по имени Гульсара — позор рода нашего, — уверенно начал оправдательное слово Исмаил Исмаилович. Не жалел он ни времени, ни красок, повествуя о прошлом. Он даже пошел на явное предательство, раскрыв тайну Абдурашид-бека, пытавшегося одновременно с боем против заставы похитить Гульсару. Тогда не вышло. Но это его не успокоило. На этот раз не очень продуманными действиями его родич поставил столь надежный наркоканал в довольно трудное положение. Так сложились обстоятельства: покушение Гульсары совпало с тем, что начались налаживаться поистине теплые отношения (Исмаил Исмаилович явно лукавил, но кто сможет проверить его ложь?) с заставой. Еще шаг — и лейтенант полностью оказался бы в их руках. А это очень и очень важно.
— И что ты просишь? — дослушав до конца рассказ Исмаила Исмаиловича, задал вопрос босс партийной группы. — Наказания твоего родича? На это вряд ли пойдут Истинно Избранные Аллахом. Абдурашид-бек — не пешка. Его плантации мака и конопли основательно пополняют казну партии, а наследников, кто бы мог заменить его, — нет. Не забывай, что он на своей базе готовит воинов Аллаха, умеющих не только убивать неверных, но и готовых принять смерть во имя Единого, Указывающего Праведный Путь правоверным, во имя великого будущего мусульманского мира, объединенного в халифат.
— Я не могу желать смерти своему родственнику. Я прошу о другом: несколько раз съездить на охоту без доставки товара. — И поспешно добавил: — Я наверстаю упущенное. В долгу не останусь.
— Я подумаю. Подумают и мои заместители. Мы скажем тебе наше слово.
Надутый индюк. Не ему решать такие важные проблемы. Он лишь повторит ответ штаб-квартиры, а представляет себя чуть ли не равным Истинно Избранным. Ну, ничего, придет время, он с ним поквитается.
Мечтать, как известно, не возбраняется. Стремиться к более высокой власти — тоже. Во властолюбии слабость каждого человека, слабость всего человечества. Еще — в яром эгоизме. Что, впрочем, мало чем отличается от властолюбия.
Через несколько дней Исмаил Исмаилович получил согласие и облегченно вздохнул. Если кокаскеры задумают вдруг проверить его, то опозорятся и вынуждены будут оставить свои должности, а на их места придут пусть тоже несговорчивые, но менее проницательные и более благодушные. Легче станет водить пальцами вокруг их носа.
Михаил же все это время лично встречал спускавшиеся с поста наблюдения наряды и упрямо задавал один и тот же вопрос: не поднимались ли на острове вспугнутые фазаны? Ответ был неизменным: нет. А уже через несколько дней солдаты поняли, чем озабочен их начальник, хотя никак не могли взять в толк, чего ради такой интерес, но уже сами стали докладывать об итогах наблюдения за островом и о поведении на нем фазанов.
Чем ближе день приезда Исмаила Исмаиловича на охоту, тем ужаснее Михаил Богусловский наставлял не только пост наблюдения, но и высылаемые перед островом дозоры: быть предельно внимательными. В конце концов, солдаты и сержанты поняли, что требования лейтенанта имеют какой-то скрытый смысл, и прониклись важностью его заботы и действительно стали обращать на остров особое внимание.
Но до самого приезда охотников остров будто заснул: ни днем, ни ночью не поднялся вспугнутый фазан. Ни один. Тем не менее Богусловский поспешил на пост наблюдения, когда Исмаил Исмаилович с Лодочниковым поехали к острову. Но до этого еще была встреча гостей, весьма позабавившая Михаила Богусловского. Вышли их встречать только он сам и старшина заставы. Докладывая депутату, Богусловский сознательно не назвал своей должности.
— А где начальник отряда? — капризно спросил Исмаил Исмаилович. — Почему не встречает он?
— Сложная обстановка в отряде.
— Но тогда должен встречать старший лейтенант Дадабаев как начальник заставы.
— Латып Дадабаевич больше не начальник заставы. Принять ее приказано мне, — буднично ответил Богусловский, наблюдая за реакцией почетного гостя. Да, мелькнуло что-то зловещее в карих глазах Исмаила Исмаиловича, но тут же в них появилось нечто похожее на радость — он протянул Богусловскому руку и поздравил его с повышением, затем вновь капризно вопросил:
— Разве не мог встретить меня начальник штаба отряда?
— Он тоже по обстановке.
— Я вынужден буду сделать соответствующее заявление руководству Пограничного управления о невнимании ко мне, народному депутату. Не только что назначенному начальнику заставы встречать избранника таджикского народа.
Дальше все пошло по проторенной дорожке. Вел себя Исмаил Исмаилович так, словно ничего особенного в жизни лейтенанта Богусловского не произошло. Съездил человек в отпуск, теперь вот вернулся. Но разве мог он забыть о том разговоре по телефону? Почему не делает попытки напомнить о нем? Нет, такое поведение не случайно. Михаил Богусловский ждал, что Исмаил Исмаилович все же заговорит о давнем телефонном разговоре, но вот уже ужин подошел к концу, а тот все молчал.
Еще одно обстоятельство настораживало: ужин подавал повар, Гульсара наотрез отказалась от встречи с коварным человеком, как она теперь называла Исмаила Исмаиловича. А тот вел себя так, словно не знал, что Гульсара стала женой Михаила. Хотелось Богусловскому самому продолжить недоговоренный телефонный разговор, но он колебался, а потом и вовсе махнул рукой:
«Да ну его. Пусть играет в игрушки».
Удивляла Богусловского и позиция Лодочникова. Тот был и на свадьбе, был и на похоронах Анны Павлантьевны. Мог бы рассказать о переживаниях отца с матерью или, по меньшей мере, поинтересоваться началом их семейной жизни: все ли у них ладно, здорова ли Гульсара. Прикинув, Богусловский определил, что Лодочников явно скрывает от Исмаила Исмаиловича свои московские встречи и даже боится вспомнить о них наедине, — Лодочников всячески уклонялся от встречи с Михаилом наедине.
Утром гости отправились на охоту, Богусловский, проводив их, быстро поднялся по дороге на плато и прилип к окулярам стереотрубы.
Странно, но охотники не пошли по тому направлению, о каком докладывал Дадабаев. Они вообще не углублялись далеко в тугаи — фазанов много везде. А вот стреляли на этот раз много. Богусловский даже со счету сбился. Он не стал дожидаться, когда охотники сядут в лодку, — поспешил на заставу, встретить Исмаила Исмаиловича и Лодочникова.
На этот раз добыча охотников скромная. На общий стол всего пяток фазанов, с собой, в Душанбе и Москву, — тоже штук по пять. По грубым подсчетам на одного фазана по три патрона.
Вполне реально, если учитывать неумелость Лодочникова.
«Еще один щелчок по носу. Если не прозорливость подполковника Кириллова и Латыпа, действительно можно было наломать дров».
На прощание Исмаил Исмаилович пожелал успехов в службе новоиспеченному начальнику заставы и выразил надежду, что его прежняя дружба с заставой со временем еще окрепнет.
Лодочников почти слово в слово повторил высказывание Исмаила Исмаиловича.
«Попугай! — обозвал Лодочникова Михаил Богусловский. — Не решился даже передать приветы от отца с матерью. Наделал в штаны!»
Едва рассеялась пыль от внедорожника, к Михаилу подошла Гульсара и со вздохом облегчения молвила:
— Уехали коварные. Трудно тебе, Миша, быть с ними гостеприимным хозяином, подавляя желание плюнуть в лица их бесстыжие.
— Не очень трудно, Гульсара, когда делаешь это по долгу службы. Я бы тебя попросил в следующий их приезд хотя бы показаться им на глаза, а еще лучше — приготовить ужин и обед.
— Это сверх моих сил.
— Но это нужно. Для дела.
— Ну, если ради очень важного дела, о котором я не знаю…
— Все узнаешь со временем. Пока же я связан словом.
— Ладно. Пересилю себя. Целый месяц стану настраиваться.
Через два дня у них появилась новая забота. Позвонил кадровик из отряда и сообщил, что новый заместитель уже прибыл. Пару дней беседы в отделах и службах, встреча с командованием — и к месту службы.
— Опытный. Не с институтской скамьи.
Похоже, тот еще подарок. Хорошо иметь заместителем одногодка или хотя бы выдвинутого из взводных. Его можно учить, его можно подстраивать под себя, то есть внушать то, что внушил ему самому Прохор Авксентьевич. Михаил Богусловский еще не знал схемы кадровой политики в частях войск, а она сложилась давно и устойчиво: если сокращение, то отправляют в запас или отставку всех без разбору, лишь бы тем, кто занимается сокращением, самим усидеть как можно дольше. Чаще всего под сокращение попадают самые лучшие, имеющие свое мнение и громко его отстаивающие. А вот когда поступает команда послать для усиления на наиболее ответственные участки границы самых лучших, избавляются, как правило, от балласта.
Не зная всех этих тонкостей, Михаил Богусловский все же чувствовал, что новый заместитель не будет медовым пряником. И его опасения подтвердил Костюков:
— Я беседовал с твоим новым замом. Обижен, похоже, на всех и вся. Не друга и соратника ты получаешь, а головную боль. Очередное для тебя испытание. Но, я уверен, ты и с этим справишься. Как строить взаимоотношения, я не могу тебе подсказать, смотри сам, по обстоятельствам, но приобщить его к нашей вере ты просто обязан.
— Как с депутатом?
— Присмотрись, потом выскажешь свое мнение. Обсудим. Одно ясно: скрывать от него вряд ли рационально.
Вот с таким настроением и с внутренней настороженностью готовился встретить лейтенант Богусловский заместителя. Но Гульсаре он, однако, не сказал ничего о своей настороженности, только объявил о пополнении. Она сразу же встрепенулась:
— Я подготовлю для них квартиру. Не знаю только, бывшую Латыпа или ту, свободную.
— Ни ту, ни другую. В квартиру начальника заставы нам перемещаться. В нашу квартиру — заму. Третья — для второго зама. Иначе мы не можем.
— А будет ли еще один зам?
— Не знаю. Но квартиры распределены, и не мне менять установленные квартирной службой правила. Начнем переезд. Передислокацию, так сказать. Позовем Михаила Алдошина, вместе обсудим, что и как перемещать. В общем, разберемся.
Обед по предложению Михаила Алдошина решили устроить в квартире зама. Посчитали, так будет лучше, и как показало время, решение это не было ошибочным.
Дежурный по отряду, сообщив о времени выезда зама на заставу, посоветовал с офицерской заботливостью:
— Имейте в виду — у них из вещей только два чемодана. Все остальное идет контейнером. Отнеситесь внимательно. Пусть старшина выделит необходимое.
— Уже все сделано. Встретим, как положено.
Рассчитали время, Гульсара с Михаилом Алдошиным накрыли стол и вышли встречать нового сослуживца. Гульсара особенно довольна: теперь будет у нее подруга, будет с кем делиться женскими секретами. Вот и «козлик». Дверца отворилась, и высокий, стройный красавец типично азиатской внешности пружинисто подошел к Богусловскому и лихо вскинул руку к козырьку:
— Старший лейтенант Сахидов прибыл для дальнейшего прохождения службы.
— Имя и отчество?
— Додо Сахидович. Там, на прибалтийской границе, меня звали Дмитрием. Дмитрий Сахидович.
— Меня — Михаил Иванович. Предлагаю сразу же на «ты» и по имени-отчеству. Думаю, так будет ловчее, доверительней.
— Принимается, — вроде бы охотно согласился Сахидов, но по его смуглому лицу скользнула тень недовольства, что не ускользнуло от Михаила Богусловского и вызвало недоумение. Отчего недовольство? А ларчик открывался просто: Додо Сахидов хотел, чтобы начальник заставы обращался к нему официально, дабы каждый раз обозначалось его, Сахидова, старшинство в воинском звании.
Узнал об этом потаенном желании Сахидова Богусловский очень скоро. Когда у них состоялся откровенный мужской разговор. А пока — обед. Гульсара уже увела молоденькую жену Сахидова Зухру в дом, чтобы, как она сказала, вместе довести до ума дастархан… Они, похоже, сразу нашли общий язык.
Обед показал, что это именно так. Зухре понравилось, что не в чужой квартире приготовлен дастархан, а в их собственной — она сразу же почувствовала себя хозяйкой, и Гульсара оказалась в роли ее помощницы. Это Гульсару вполне устраивало. Она именно этого желала, согласившись с предложением Алдошина. Но вот эту весьма торжественную обстановку чуть не разрушил Додо Сахидович недовольным вопросом:
— Что, без бутылки?
— Нам с Алдошиным идти на заставу, — пояснил Богусловский, пожав плечами. Он счел свой ответ исчерпывающем, однако услышал:
— Ну и что? По рюмке-другой? С приездом. Разве не поймут солдаты? Мы с Зухрой даже шампанское прихватили.
— Вот с женщинами и выпейте. А мы с Михаилом — квасок. Очень полезная штука.
Похоже, Сахидов ничего не понял. Отказ начальника со старшиной обмыть с ним приезд он воспринял с явным неудовольствием. Поднять фужеры за благополучный приезд и добрую службу — значит уважить хозяина. Отказ же говорит или о пренебрежении, или о нежелании сближения с ним как с новым человеком. Они — своя семья, и чужой им не нужен. И все же Сахидов постарался не выказать обиды, бодрился, но фальшь в его веселости проглядывалась — это угнетало всех, кроме его молоденькой жены, — она смотрела на своего Додо влюбленными глазами, вовсе не замечая неестественности его поведения.
Обед, в конце концов, подошел к финалу. По пиале чая с ватрушками, которые напекла Гульсара, — и Михаил Богусловский поднялся.
— Ты, Додо Сахидович, отдыхай с дороги, а мы с Михаилом — на заставу. Завтра с утра вступай в должность.
— А на боевой?
— Но ты же выпил.
Сахидов недоуменно пожал плечами, но Богусловский не видел этого — он уже переступил порог квартиры. Заметил это лишь Алдошин, и, когда они вышли во двор, хмыкнул:
— Ну и фрукт…
Он явно желал высказать свое мнение о новом заместителе начальника заставы, но Михаил Богусловский не поддержал старшину и перевел разговор на деловой: о предстоящих на сегодняшний день делах.
Утром старший лейтенант Сахидов вошел в канцелярию что тебе нежинский огурчик, внеся с собой еще и аромат одеколона после бритья. Стройный, в ловко сидевшей на нем форменной тужурке. Загляденье. Но, поразительно, взгляд его — тусклый, ко всему безразличный — никак не соответствовал внешней привлекательности.
— Вот твой стол, Додо Сахидович. Вот ключ от сейфа, где планы занятий, инструкции, наставления, ряд других документов для служебного пользования и секретных. Проверь, все ли на месте, согласно описи. Если возникнут вопросы, задавай. Я пока над планом-конспектом помозгую. Занятия проведу сам. Ты пока присмотрись. Прапорщик Алдошин покажет наше хозяйство, а затем я познакомлю с системой круговой обороны.
Когда старший лейтенант Сахидов закончил сверять наличие документов с описью и доложил, что все в полном порядке, добавив, что ничего нового для него здесь нет, все то же, как и на эстонской границе, Михаил Богусловский заметил:
— К сожалению, так и есть. Кроме, конечно, директив нашего Регионального управления, все остальное зависит от нашего чувства ответственности, от подготовки личного состава к умелым действиям при внезапных стычках с контрабандистами или с боевиками и от умения вести длительный оборонительный бой при нападении на заставу. От тебя, должно быть, не скрыли историю нашей Приостровной?
— Да. Напугали основательно.
Не такого ответа ждал Михаил Богусловский, но пока не стал заострять на этом внимание. Психологически перестроиться с одного ритма охраны границы на другой — не так-то просто, нужно время, чтобы Сахидов почувствовал всю серьезность обстановки и ежедневную опасность. Гнуть свою линию надо осторожно, чтобы не случилось надлома. Предложил:
— Раз с документами разобрался, давай я тебя познакомлю с участком заставы по схеме. — Михаил Богусловский откинул шторку, прикрывавшую схему. — Вот, смотри. Весь берег в тугайных зарослях. Ширина на правом фланге до двухсот метров, а вот здесь, на левом, за островом, чуть меньше полкилометра. Тут батальон можно спрятать. Этим вот и пользуются контрабандисты.
— Что такое тугаи, мне не нужно рассказывать. Я родом из Горма. Стоит этот городишко на Сухобе. Меньше она Пянджа, но тугаи по берегам тоже непролазные.
— Для службы эти твои знания очень важны. Со временем, надеюсь, сможешь предложить, как лучше взять тугаи под более внимательное наблюдение и более рационально построить систему охраны границы, дабы по-умному противостоять «ишакам». Скажу откровенно: ни один начальник заставы на Пяндже не может твердо сказать, что контрабандисты не просачиваются на его участке.
— Покумекаем, если будет нужда.
— Нужда величайшая. Ты поймешь, когда втянешься в службу, связанную со многими особенностями. Но продолжим. Наша головная боль — остров.
— А что ей болеть? Выставить два-три секрета — и дело с концом. Переправиться через Пяндж без всплеска вряд ли кто сможет. Нарушитель на берег, ему: «Руки вверх!»
— Верная мысль. Но нам запрещено высылать наряды на остров. Почему? Ответить на этот вопрос не так просто. Ты, быть может, узнаешь об этом в полной мере со временем, но это будет зависеть только от тебя.
— Я — офицер-пограничник, принявший присягу. Что еще нужно? — Явный вызов зазвучал в голосе, звучали в нем также обида и недоумение. Но Михаил Богусловский сделал вид, будто не слышал возмущенных слов Сахидова, и продолжал знакомить своего зама с участком заставы, давая краткие характеристики местным жителям, делая особенный упор на дружбе с аксакалами и с руководством сельской администрации. Когда же закончил свои пояснения, откинул ковровую дорожку.
— А теперь — вниз. Со следовым фонарем. Но учти, фонарь — в первый и последний раз.
Не понял Михаил Богусловский, как оценил Сахидов скрытую систему круговой обороны, ибо не высказал тот своего мнения вслух. Ходил теленком за лейтенантом, слушал его пояснения и помалкивал. Словно рыба, снятая с крючка. Не очень уютная обстановка. Думает, небось, игра в солдатики. Михаил Богусловский, однако, крепился. Только когда по ступеням поднялись в канцелярию и закрыли за собой люк, сказал твердо:
— Мы с Латыпом Дадабаевичем изучали лабиринт так: в темноте просчитали, сколько шагов до командного пункта, потом до каждого поворота к огневым точкам. Мы изучили систему, как принято говорить, для действий вслепую. Освоил это и прапорщик Алдошин. Освоили солдаты — не только ходы к своим огневым точкам, но ко всем. На всякий случай. Тебе, Додо Сахидович, тоже необходимо изучить систему обороны как свои пять пальцев. Думаю, пару недель тебе хватит?
— Не знаю.
— Стало быть, условились. Через две недели ты руководишь действиями заставы по сигналу «К бою». Ни я, ни Алдошин не будем вмешиваться. Усек?
Колючими стали карие глаза Сахидова. Ответ же его прозвучал смиренно:
— Так точно.
И снова Михаил Богусловский вроде бы не заметил ерничанья. Кивнул — и все. Только дома открылся Гульсаре, верный слову ничего от нее не скрывать.
Гульсара, как обычно, встретила его после боевого расчета поцелуем и нежно пригладила волосы, примятые фуражкой. Но Михаил заметил, что она была слегка возбуждена, даже румянец на щеках более яркий. Михаил хотел спросить, что взволновало ее, но Гульсара опередила:
— Ты знаешь, Миша, как мила Зухра? Она — само совершенство. А как любит мужа, даже завидно.
— Не нам с тобой завидовать.
— Нет, правда. Она намного моложе Сахидова. И вся в нем. Души не чает.
— Похоже, не повезло ей. Мне кажется, он не может дать ей полного счастья. Не нравится он мне. Двойной какой-то.
— Не спеши, дорогой, с выводами. Додо Сахидович, можно сказать, засиделся в старших лейтенантах. Зухра мне обмолвилась: капитана ему пора, а его под твое начало, под лейтенанта. Подумай, каково ему?
— Я думал об этом. Прохор Авксентьевич тоже говорил. Но, считаю, никто, кроме его самого, в этом неповинен. Перевод сюда, на равнозначную должность, о многом говорит. И одна из главных причин — его неравнодушие к спиртному. Мне кажется, он допил все, что начал при нас.
— Может быть. И все же послушайся моего совета как педагога: вникни в первопричину, познай ее, а познав, начни лечить. Я тебе постараюсь помочь. Через Зухру. С ней он, по моему первому впечатлению, очень нежен, и это тоже говорит о многом.
— Ладно, поживем — увидим. Давай ужинать. Вечер и часть ночи — мы с тобой. Выхожу на границу в три ноль-ноль.
— Здорово! Сколько у нас с тобой времени! Целый час я смогу пытать тебя. У меня несколько вопросов относительно того, что прочитала. Да и наброски мои просмотришь.
— Отвечу. Почитаю внимательно, академик ты мой.
Полторы недели оставалось до дня свадьбы Латыпа с Мариной — на два, а то и на три дня предстоит оставить заставу на старшего лейтенанта Сахидова, поэтому Богусловский старался втянуть своего зама в службу по полной программе. И тот вроде бы ни от чего не отлынивал. Лишь иногда бросал как бы мимоходом реплики, что все это ему хорошо знакомо, а значит, не стоит тратить время на повторение известного. Богусловский же, не отступая от принятой линии взаимоотношений с замом, каждый раз делал вид, что не замечает иронии. Можно сказать, действовал упрямо. Напролом. И все же с Алдошиным они пару раз поговорили откровенно о заме.
И что характерно, мнения их совпали полностью: Сахидов работает по поговорке «Колоти пень, проводи день», особенно когда оказывается вне контроля, без постоянного понукания и без вышестоящего указания. Не дело. Покинуть заставу на два-три дня не так уж страшно, а если отпуск? Вернувшись, можешь не узнать заставы.
Особенно Михаил Богусловский расстроился, когда узнал случайно от командира первого отделения, как проводит старший лейтенант занятия. Богусловский пока еще не считал нужным проверять, как у него проходят занятия, — офицер он опытный, учить его нет нужды, тем более пока что наиболее ответственные занятия Богусловский брал на себя. Сержант сказал об этом, когда они возвращались с проверки службы нарядов, и его слова весьма расстроили Богусловского:
— Ваш замбой вроде бы проводит с нами занятия, но будто и не проводит. Пусто как-то на них. Безразлично.
Вот это — оценка. И что скажешь в ответ? Нельзя обсуждать действия офицера, а тем более кляузничать, но отчитать сержанта — значит порвать нить доверительности. Его реакция станет известна всему личному составу, а тем более сержантам. Тогда его требование — все мы, командиры, отвечаем за положение дел на заставе — потеряет смысл. Нашел подходящее:
— У каждого офицера свой метод. Но я буду иметь в виду сказанное тобой. Помогу понять старшему лейтенанту, что наша граница — не граница с Эстонией. Не вдруг, не по мановению волшебной палочки изменит Сахидов свою методику, но, надеюсь, обязательно изменит.
В общем, когда позвонил Латып Дадабаев — напомнить о дне свадьбы, Михаил Богусловский еще колебался, опасаясь оставить заставу на своего зама. Однако отказаться от приглашения невозможно — смертельно обидишь друга. К тому же «добро» получено и от коменданта, и от начальника отряда. Комендант даже на эти дни предложил послать на заставу кого-либо из офицеров штаба, но Михаил Богусловский в связи с этим высказался откровенно:
— Я не вполне разобрался, каков мой заместитель, но одно мне ясно: Сахидов был кем-то очень обижен. Думаю, еще сильней обидит его такая подстраховка на время моего отсутствия. Да и Михаил Алдошин на месте. Если что, возьмет все в свои руки.
— Разумность в этом есть. Но меня беспокоит вот что: свадьба в отряде — весьма удобный момент для нового налета на заставу.
— Вполне. Только, как я оцениваю обстановку, пока что никаких нападений не будет.
— Мед бы твоими устами пить. И все же я попрошу начальника отряда выслать на заставы справа и слева хотя бы по одному отделению — на усиление.
Вот так и осталась застава под руководством старшего лейтенанта Сахидова и прапорщика Алдошина. Но обстановка диктовала заметные поправки: на соседние с Приостровной заставы были высланы не отделения, а полные взвода. А вынудило так поступить вот что. Утром Михаил Богусловский с Гульсарой собрались выезжать в отряд, все уже приготовили к поездке, и они позволили себе скоротать вечер у телевизора. Но тут позвонил дежурный по заставе:
— Товарищ лейтенант, к вашей жене из села мальчик. Он говорит, что очень важное сообщение. Пропустить или…
— Впустите, а Гульсара встретит.
Внук аксакала. По поручению старейшин с очень важным известием. Гульсара не стала слушать его во дворе, пригласила в дом и усадила за стол. И только когда ее ученик, уплетая за обе щеки конфеты и печенье, выпил пару пиал чая, Гульсара спросила:
— Что за важные вести?
— Во время свадьбы будет большой взрыв. Если не примете меры, все погибните. Больше аксакалы ничего не знают.
— Спасибо. Тебя сейчас отвезут домой. А вот это — дедушке. — Гульсара положила в пакет металлическую коробку с чаем. Несколько таких коробок с зеленым чаем она специально купила в Москве для подарков.
— Нет, я пойду пешком. На машине нельзя. Никто не должен знать, что я приходил к вам.
— Ну пусть хотя бы проводят до села?
— Нет. Я не боюсь… — И столько наивной гордости было в его позе, что они невольно улыбнулись.
Михаил Богусловский все же проводил мальчика до половины пути и, вернувшись, сразу же позвонил Прохору Авксентьевичу. Рассказал о предупреждении аксакалов.
— Улему и аксакалов мы найдем способ отблагодарить, а сейчас станем решать, как быть со свадьбой.
— А нам выезжать?
— Обязательно. Свадьба состоится в любом случае. Нельзя давать повода подозревать, что нас предупредили. И потом, разве можно жить под диктовку экстремистов?
Подполковник Костюков тут же позвонил дежурному и велел вызвать начальников штаба, разведотдела, тыла и командира десантно-штурмового отряда, а сам, быстро сменив пижаму на форменную одежду, поспешил к себе в кабинет.
Приглашенные собрались быстро, и Костюков объявил о цели срочного совещания:
— Только что поступили данные: готовится диверсия в день свадьбы Латыпа Дадабаевича и Марины. Более точно — готовится взрыв. Но где — неизвестно: в ресторане, в загсе, на пути ли следования. На первый взгляд, дело, будто бы личное, но, если вдуматься, акция имеет огромный политический смысл. Перво-наперво свершить запланированное уничтожение меня и Дадабаева, ибо мы с ним заказаны. Во-вторых — запугать нас, чтобы пограничники не высовывали носу из своих городков. А еще… Политическая трескотня после взрыва — вот так народ Таджикистана относится к пограничникам, считая их оккупантами. Мое мнение: свадьбы не отменять и даже не переносить, только принять необходимые меры, чтобы сорвать диверсию. Но я не могу принимать это решение только командирской волей. Слово — за Латыпом Дадабаевичем и Мариной Степановной, а также за Степаном Николаевичем и его супругой.
— Проводить! — твердо заявил подполковник Угров.
— Не посоветовавшись с женой?
— Я делаю заявление от своего имени и от имени моей жены.
— Мое мнение такое же: свадьбу не отменять, — сказал Дадабаев. — За Марину я не могу ручаться, мы еще не семья, но уверен, она не отступится.
— Я беру на себя разговор с дочерью.
— Стало быть, решено. Теперь о мерах противодействия. Этим займутся начальник разведотдела и командир десантно-штурмового отряда. Подчеркиваю: не как жених, а как командир. Будем считать предстоящую операцию боевой.
— Мне кажется, — вставил слово начальник разведотдела подполковник Бободжанов, — стоит подключить товарищей из местных правоохранительных органов.
— Если есть уверенность, что не будет утечки.
— Потребуется пара кинологов с собаками. И еще: специалисты по разминированию. А для начала мы с Латыпом Дадабаевичем, переодевшись в штатское, погуляем у ресторана. Засечем, какие машины припаркованы. А утром поглядим, какие остались. В обед — тоже.
— Дело. У загса тоже прогуляйтесь. И еще мой совет: продумайте охрану загса, объединив усилия разведотдела и десантно-штурмового отряда. Но так, чтобы не бросалось в глаза. Или наоборот: принадлежность к пограничным войскам — напоказ. Но самое главное, о чем я прошу вас: все наши действия, все наши разговоры сохранить в полугласной обстановке. Об операции должны знать только те, кто в ней участвует. Не менее важно — докладывать мне обо всем подозрительном, чтобы можно было быстро вносить нужные изменения. Все. Время действовать.
Уже через полчаса Бободжанов с Дадабаевым были около ресторана. До полуночи немало машин стояли по обочинам дороги. В основном иномарки. После полуночи их осталось всего пять. Должно быть, работников ресторана. А утром, чуть свет, — они вновь у ресторана. Машина всего одна. Серая иномарка. Как стояла вчера вплотную к тротуару, в нескольких метрах от входа в ресторан, так и стоит.
— Вот что, если до вечера не уберется, ночью с кинологом проверим. Обнаружим взрывчатку, за час до начала свадебного пиршества разминируем. Уже не скрываясь.
— У меня большое сомнение, что здесь главное. Слишком на приманку смахивает. Стоит — будто напоказ, — заметил Латып Дадабаев. — Придется, наверное, пройтись с собачкой по всему ресторану.
Машина никуда не делась до ночи, а во второй половине ночи кинолог подтвердил, что и в багажнике, и даже в салоне — взрывчатка. Под сиденьями, похоже. Разнесет все вокруг, хотя взрыв должен быть целенаправленным. От ресторана, во всяком случае, останутся развалины.
Вроде бы все ясно: накрывай противосигнальным зонтом смертоносную легковушку, извлекай взрыватель или взрыватели, каких может быть два, а то и три, и гуляй без всякой опаски. Но Костюков принял сторону Дадабаева: слишком все просто. Так не готовится крупная провокация. Он настоял, чтобы и загс был проверен с собакой, и ресторан. Охрану загса тоже не отменил.
По его мнению, готовится несколько взрывов, хотя бы один из них обязательно состоится. Подполковник Бободжанов не разделял мнения Дадабаева и Костюкова, считая, что они чересчур осторожничают, но настаивать не стал. Сам принял участие в проверке загса и в организации охраны свадебного поезда.
Регистрация намечена на пять часов вечера, а за час до этого по улице прошли патрули и кинологи с собаками. Особо внимательно они проверяли скверы и траву вокруг стволов пирамидальных тополей — не повреждена ли она? Но, слава Богу, все в порядке. Теперь — сам загс. Кинолог с собакой вошел в зал, где проводятся торжества бракосочетания. Заведующая — она изъявила сама желание провести обряд бракосочетания жениха и невесты из пограничного гарнизона, что в ее работе случилось впервые, — замахала руками:
— Разве можно?! Сюда в торжественный зал втащить псину?!
— Можно. Даже нужно. Уверяю вас, проверка займет немного времени.
— Какая проверка? Мину, что ли, искать? Откуда ей здесь взяться?
Кинолог отмолчался, а собака привычно принялась обнюхивать все предметы. У музыкального центра, долженствующего исполнить марш Мендельсона, овчарка уверенно тявкнула.
— Ну вот, а вы: откуда взяться? Быстро выводите всех сотрудников на улицу.
У заведующей загсом отвалилась челюсть.
Возле ресторана шла своя работа. Серую иномарку накрыли зонтом помех для радиосигнала и принялись разминировать машину, а в это время пара кинологов с овчарками вошли в здание. Проверили все закоулки — чисто. Остался только кабинет хозяина.
— Он обещал лично встретить свадьбу, где же он? — спросил Бободжанов.
Менеджер — заведующий залом называл себя этим модным словом — пожал плечами с явным недоумением.:
— Если сказал буду — будет. Если заболел, значит, мне встречать свадьбу.
— Где ключи от кабинета хозяина?
— Только у него. От всех кабинетов есть запасные, а от его — нету. Так он пожелал.
— Что ж, придется вскрывать.
— Там документы. Там деньги. Вы не можете!
— Верно. Мы не можем, да и не станем вскрывать. Вскроют ваши работники. При вас собака отработает, мы же ни до чего не дотронемся. Возьмите с собой еще двух свидетелей.
Едва удалось убедить так называемого менеджера, но когда он сдался, оказалось, что запасной ключ есть у охранника, который тоже присутствовал как свидетель.
Собака тут же тявкнула, подойдя к внушительному баулу, стоявшему у стены, за которой как раз и был тот зал, где должно было проходить свадебное торжество.
— С размахом задумано, — хмыкнул Бободжанов. — Вы все — по воле вашего хозяина — жертвенные бараны и должны умереть во имя великого халифата.
— Шайтан! — скрипнул зубами охранник. — Заболел?! Я убью его!..
Завзалом и официанты, которые уже начали сервировку столов для свадьбы и с демонстративным недовольством прервали важную, как они считали, работу, побледнели. Долго стояли истуканами, потом дружно закричали:
— Нужно немедленно уходить!..
— Только на полчаса. Или даже меньше. Заряд будет обезврежен, и свадьба состоится. Она ведь оплачена.
Когда иномарку, обезвредив, увезли на спецмашине за город, когда разрядили и вложили баул с пластидом в контейнер и тоже увезли, Бободжанов позвонил начальнику отряда:
— Все в порядке. Ресторан готов принять свадьбу. Детали позже.
Бободжанов мог доложить только детали обнаружения взрывчатки, а кто заказал диверсию, кто дергал ниточки, еще предстоит выяснить. Но это уже не забота пограничников. Они могут только помочь следствию своими наблюдениями и выводами. Оперативный работник, сопровождавший кинолога с собакой, заявил уверенно:
— Доберемся до организаторов. Обязательно. Растрясем.
— Скорее всего, ниточка тянется в Душанбе. Зацепиться бы за нее.
— Зацепимся. Уверен. Надеюсь, вы тоже нам поможете.
— А как же иначе…
Бободжанов обещал помощь, не думая, что она не будет столь уж весомой, но получилось так, что объект сам попал им в руки.
Почти в самом начале застолья, когда гости, взбодрившиеся лишь шампанским, произносили длинные тосты, хотя и очень схожие, в пирующий зал вошел Исмаил Исмаилович с двумя букетами пионов — символом счастливой любви.
— Я прошу извинения за небольшое опоздание. Мне сказали о свадьбе только сегодня утром. Немного не рассчитал время. Но я постараюсь загладить свою вину, — он подал Марине букет пионов, а Латыпу — конверт и попросил: — Открой конверт. Не скрывай мой подарок от друзей.
В конверте находилось свидетельство о регистрации, то есть техпаспорт на полноприводной БМВ. Латып Дадабаевич показал его, и зал грохнул аплодисментами.
— Еще я должник перед молодоженами — Гульсарой и Михаилом Ивановичем. — Он с поклоном подал Гульсаре букет, а Михаилу вручил такой же, как и Латыпу, конверт. — Чтоб не обидно было друзьям.
Зал хлопал, а Гульсара с великим трудом сдерживалась, чтобы не швырнуть шикарный букет в лицо подлецу. Помнила в этот момент о просьбе Михаила — вести себя с Исмаилом Исмаиловичем, как и с Лодочниковым, ровно.
Прохор Авксентьевич Костюков хлопал вместе со всеми, а в голове возник вопрос: откуда стало известно Исмаилу Исмаиловичу о дне и часе свадьбы? Руководству Пограничной группы о свадьбе вообще не докладывалось, и там, само собой, не могли ему сказать. Врет, чтобы скрыть истину? Да и выглядит он не так, как после длинной дороги. Костюм — с иголочки. Даже галстук не сбился. Такое исключено, если добирался издалека. А техпаспорта? Не душанбинские. Регистрация здешняя, и вчерашним числом.
«Вот козырь для оперативников и следователя. Дадим мы им в руки звено цепочки. Перестарался уважаемый Исмаил Исмаилович, подстилая себе соломку».
Глава четырнадцатая
Часовой по заставе не сразу отворил ворота. Длинный и два коротких гудка — вроде все верно, но что за иномарка? Кто в ней? Стекла тонированы. У депутата, что приезжает на охоту, точно такая же машина, только цвет другой. Когда приезжает тот депутат, все на ушах стоят. Нет, что-то не то. Он позвонил дежурному по заставе, тот — к прапорщику Алдошину.
— Сейчас. Схожу, разберусь, — ответил он.
Отложив отчет, который готовил, Алдошин вышел во двор. Спросил часового: — В чем сомнение?
Выслушав часового, похвалил его за бдительность и отворил калитку. Ему навстречу — лейтенант Богусловский. С довольной улыбкой (молодец, часовой) и вроде бы с упреком:
— Начальнику въезд закрыт?
— А чья это, Михаил Иванович? Шикарная вещица.
— Моя, тезка. Личная собственность.
— Ого!
Он не спросил, откуда внедорожник, потому что сразу догадался, что это подарок Исмаила Исмаиловича. Прапорщик Алдошин не был допущен к тайнам операции, но ведь он не слепой, видит, как депутат задабривает офицеров и заставу, даже начальника отряда. Делает это вроде от души, но, судя по всему, — с дальним прицелом. И если Алдошин был совершенно уверен в Дадабаеве, то в отношении Богусловского мог и сомневаться. Москвич, а они все себе на уме.
«Неужели купился?»
Михаил Богусловский заметил, как потускнело лицо старшины заставы, верного помощника, честного и надежного товарища, и мысленно поблагодарил Прохора Авксентьевича, разрешившего поведать Алдошину о тайной игре. Что касается Сахидова, решили так: в зависимости от обстоятельств.
А вот и сам Сахидов. Идет, будто подневольный, из своей квартиры. Странно: время занятий, а он не на тактическом поле? Доложил:
— За время вашего отсутствия происшествий не случилось. Застава действует по распорядку дня. — И тут же принялся разглядывать иномарку, даже погладил сверкающий на солнце капот: — Чья?
— Моя.
— Взятка?
— Похоже, что так, — спокойно ответил Михаил Богусловский, ничуть не удивившись. Вопрос не случаен. Полное, выходит, недоверие. Ладно, расставятся все точки и запятые по своим местам. Пока же вопрос в лоб: — Почему не проводишь занятия согласно распорядку дня?
— Какие занятия? Тактика? Кому она нужна? Я сержантов проинструктировал. Достаточно и этого.
И тут на Богусловского пахнуло винищем. До этого Сахидов так держался, чтобы не дышать в сторону начальника, а тут потерял над собой контроль.
— Такты поддатый?! И в таком состоянии проводил инструктаж сержантов?! Высылал наряды?! А ну, марш домой! Дома поговорим. Из дома — ни шагу. Это мой приказ!
Гульсара не слышала этого приказа — она уже уходила в обнимку с Зухрой, которая радостно что-то говорила. Михаилу вспомнились слова Гульсары о безумной любви юной женщины к своему мужу, и тут же решил: беседу с Додо Сахидовичем провести при женщинах. В семейном, так сказать, кругу, призвав в помощники Гульсару и, главное, Зухру. Любящая женщина поймет и бросится спасать своего возлюбленного. Пока же упрек Алдошину:
— Взял бы на себя все. И высылку нарядов, и занятия.
— Я предложил, но… Он — старший лейтенант, а я — всего-навсего старшина.
— Его слова?
Прапорщик Алдошин промолчал, и Богусловский твердо определил: надо поставить Сахидова на место. Как он это сделает, пока не ясно. Обстоятельства покажут, сейчас же нужно сходить на тактическое поле.
До стрельбища (там же и тактическое поле) — рукой подать. Богусловский был почти уверен, что ничего похожего на хорошо устроенные занятия на тему «Отделение в обороне» он не увидит. Предполагал: вразнобой проводят занятия отделенные — каждый на свой лад, но то, что увидел, совсем расстроило его. Бойцы, собравшись тесным кружком, курили. Кто-то полулежал на траве, кто-то сидел, поджав под себя ноги, как это делают местные жители, а командир первого отделения им что-то рассказывал. Судя по взрывам хохота — очень веселое.
Увидели начальника не сразу, но вот встревоженное: «Идет начальник». Командир отделения прервал свою речь на полуслове и поспешил навстречу лейтенанту. Доложил без тени смущения:
— Тема занятий «Отделение в обороне». Теоретическая подготовка перед практической тренировкой.
— Хорошо ли обманывать? Прежде я за вами подобного не замечал. Неужели ошибался? Скорее всего, рассказывал солдатам, как вас старший лейтенант инструктировал?
— Виноват, товарищ лейтенант. Только не об этом я рассказывал. Старший лейтенант не инструктировал. Просто он сказал: проводите занятия. Какие, мы толком не знаем.
— Что? Нельзя было прочитать расписание? Оно висит на видном месте. Не лукавь. Об этом мы поговорим позже, а сейчас каждый со своим отделением начинайте практическую, как вы выразились, тренировку. — Подождал, пока подойдут все командиры отделений, и продолжил: — Предлагаю такой вариант: решать тему в соответствии с особенностями нашей службы. На усмотрение каждого отделенного. Итоги подведу сам.
Рассыпались отделения. Сейчас, согласно Боевому уставу пехоты, солдаты должны окапываться, вытащив из чехлов малые саперные лопатки, но ни одно отделение этого не сделало. Командиры отделений засекали время, определяя, кто из бойцов ловчее изготовится к стрельбе, укрывшись за какой-либо преградой, каких здесь вполне достаточно. И отделенные одних хвалили, других упрекали за то, что в спешке не увидели вблизи более удобную позицию, более надежное укрытие. И пошло: оценки каждому, новый бросок — и новая линия обороны. Раз за разом — целый час.
Вроде бы полнейшее пренебрежение к Боевому уставу пехоты, где четко расписаны действия бойцов при переходе к вынужденной обороне: ячейки для стрельбы лежа, дальше, если позволит время, — для стрельбы с колена, стоя, потом — траншея. Интересно, что скажут по этому поводу отделенные?
Ответ весьма интересный. И почти у всех одинаковый, хотя спрашивал командиров отделений порознь.
— Станет душман ждать, пока мы норку себе отроем? И зачем лыко плесть, когда есть валуны. Нужно упреждать встречным огнем. Вот тогда — оборона.
Одним только ответы разнились: не по сути, а по образности. Вполне, мол, могут попасться сознательные боевики и подождут, пока мы себе могилку выкопаем.
Мыслят командиры отделения. Еще как мыслят.
— Стройте заставу, — приказал Богусловский командиру первого отделения, — и домой. Можно с песней. После чистки оружия все сержанты — ко мне в канцелярию.
Да, он решил основательно поговорить с сержантами, уже не в качестве заместителя начальника заставы, — он это делал довольно регулярно прежде, а в качестве начальника, четко определив их линию поведения, их долю ответственности за службу, учебу и уставный порядок на заставе. Но до этого следовало побеседовать по душам с Михаилом Алдошиным. Начал с вопросов: почему он не говорит правду, почему таится, какая размолвка произошла у них с Сахидовым и имеет ли он, прапорщик, право равнодушно взирать на явные отступления от сложившегося на заставе отношения солдат, сержантов, офицеров к учебе и службе?
— Я понимаю, доверительность, чувство локтя приказом не формируются, но разве у нас ничего этого прежде не было? Что случилось всего за пару дней? Возможно, тебе, тезка, как и старшему лейтенанту, не нравится, что меня назначили начальником заставы? Если честно, то и мне это не очень-то нравится. Я даже пытался отнекиваться, но тут же получил по загривку. Придется и вам со старшим лейтенантом смириться с фактом. Но мне бы не хотелось дружную совместную работу переиначивать, переходить, на формальные, уставные отношения.
— Зря вы, Михаил Иванович, так. По моему понятию, более подходящей кандидатуры найти начальник отряда не мог. Я всей душой с вами. В вашем назначении есть и нечто очень важное, но мне не совсем ясное, вернее, от меня скрываемое.
Нисколько не удивила Михаила Богусловского высказанная Михаилом Алдошиным обида — прапорщик умен и проницателен. Эта оценка не только его, Богусловского, но и Костюкова с Дадабаевым. Прохор Авксентьевич сам предложил привлечь к игре с Исмаилом Исмаиловичем Алдошина, понимая, что одному будет сложно не допустить промашки. Что же касается Сахидова, о нем было сказано так: смотри по обстоятельствам и по его поведению.
— Ты верно заметил: тайное присутствует. До сего дня об операции, которую мы окрестили «Фазан», знали всего четыре человека в отряде. Начальник штаба Управления пограничной группы еще был посвящен. Вот и все. Даже из органов госбезопасности Таджикистана привлечены единицы. Принято решение отныне вовлечь и тебя в эту операцию, если ты согласен. Дело-то рискованное. Очень. Перспектива такова: или грудь в крестах, или голова в кустах.
— Не обижайте, Михаил Иванович. Я — не из трусливых.
— На этом и ставим точку. Но ты не ответил мне: какая кошка пробежала меж тобой и Сахидовым? Его бы тоже нужно привлечь к операции, но можно ли ему довериться? Вот в чем загвоздка.
— Не могу ничего сказать. Мужик башковитый, тут нет сомнения, но, мне кажется, чем-то он сильно обижен. Не тем только, что прислан под начало младшего по званию, а чем-то более существенным. Хорошо бы, вызвать его на откровенный разговор. Я хотел это сделать, но не получилось. Я ему говорю, что у нас отделенные ни разу еще после трагической гибели заставы занятий не проводили. Научил горький опыт. Если, говорю, он тяжеловат, я готов его заменить. А он мне в ответ грубо: не суй свой нос не в свои дела… Я ему: как на заставе разделить дела на свои и чужие? Все дела — наши. И тут ему словно вожжа под хвост попала…
— Ясно. Будет у меня с ним разговор. Или перейдет он в нашу пограничную веру, либо, как говорила моя матушка: из родни вон. Ребром поставлю вопрос. Теперь же слушай.
Михаил Богусловский начал без особых подробностей, а только об основном: нападение на заставу, покушение на начальника отряда, похищение Гульсары, награды и премии, наконец, крупная взятка, которая, по замыслу дарителя, должна послужить ему вроде алиби, будто ничего он не знал о готовящихся взрывах в загсе и ресторане.
— Во всем видна рука Исмаила Исмаиловича. Вот его мы и намерены прищучить. Оттого и награды приняли, и денежные премии, оттого и от так называемых свадебных подарков не отказались. К тому же машина такого класса — не лишняя на заставе. Но он-то, готовя столь дорогие подарки и даже регистрируя их, предполагал, что дарить их будет некому, — погибнут все. А вышло иначе. Обвели террористов вокруг пальца Костюков с Дадабаевым. Но пока — все. Сейчас должны войти сержанты. Тебе, Михаил, не только присутствовать, но и сказать свое слово. Откровенно. Ничего не скрывая, скажи о том, к чему привела беспечность и распущенность, а самое главное — пренебрежение основными правилами. Напомни еще раз: победит только умелый боец, и нам нужно превзойти уровень подготовки боевиков и тут на одних приказах далеко не уедешь, если каждый не осознает необходимость тренироваться не только на плановых занятиях, но и при любой возможности. И еще о роли командира. На примерах Чиркова и Дадабаева.
Разговор получился основательный. Суть его такова — все командиры, от сержантов до начальника заставы, несут ответственность — каждый на своем уровне — за службу, боевую учебу и самое, пожалуй, важное, за воспитание у подчиненных пограничной бдительности, высокой нравственности и чести. Они должны гордиться своей принадлежностью к стражам границы своей страны, своей России. И еще не менее важное: каждый командир должен стать образцом отношения к службе, проявлять требовательность к нерадивым и вместе с тем помнить об ответственности за жизнь подчиненных, а это значит воспитывать умелых бойцов, обладающих более высокой выучкой, чем боевики.
…Особенно внимательно слушали сержанты старшину заставы. Знали, что он один из немногих, кто не просто остался жив в ту трагическую ночь, но храбро бился с боевиками под руководством лейтенанта Дадабаева, нанеся им значительный урон.
О боевых делах лейтенанта Богусловского сержанты тоже были наслышаны, поэтому его слово для них тоже являлось авторитетным.
Когда же официальный разговор окончился твердым заверением сержантов сделать все, чтобы коллектив заставы стал единой семьей, Михаил Богусловский задал вопрос:
— Откройтесь теперь: над чем так дружно смеялись пограничники во время так называемых теоретических занятий? Над старшим лейтенантом?
— Да. Шел на проверку, а ни одного наряда не увидел. Ему младший наряда показывает на них, а он вместо «спасибо», вдруг осерчал.
— Я так и предполагал, что над ним. Хочу по этому поводу дать вам совет. Поскольку не могу запретить зубоскальство, ибо это — извечно, рекомендую все же не объединяться в этом с подчиненными… Запомните, как вы будете относиться к старшим по званию, так и к вам станут относиться подчиненные. Еще одна настоятельная просьба: помогите новому на нашей границе офицеру освоиться. Как мне помогли.
— Вы-то сами признали необходимость помощи, а он…
— Давайте вместе подумаем, как его в нашу веру обратить. Я готов поддержать любую разумную рекомендацию. Это же я повторю на совещании старших пограннарядов. Прошу присутствовать и вас. И не отмалчиваться. Повторюсь: мы все, вы, старшина, мой зам и я, несем полную ответственность за дела заставские. Из этого и исходите.
До боевого расчета оставалось лишь пара часов, когда завершился разговор со старшими пограничных нарядов. Михаил Богусловский услышал много такого, о чем предстояло основательно подумать. Один из важных советов — коренным образом изменить систему службы в тугаях. А вот как это сделать, толково никто не посоветовал. Оставалось одно: думать самому и просить, чтобы думали все, и если возникнет что-либо стоящее, обсудить.
Когда в канцелярии остались Богусловский и Алдошин, Михаил Богусловский попросил старшину:
— Пожалуйста, составь план охраны и распорядок дня. Я не думаю, что разговор с замом слишком затянется. Минут за пятнадцать до боевого я приду с ним. Если он протрезвеет.
— Хорошо.
Михаил Богусловский решительно направился в дом, собираясь серьезно объясниться с Сахидовым, хотя, если признаться, он пока еще не представлял, с чего начать разговор, дабы не привел он к окончательному разрыву, после которого уже не будет нормальной совместной работы. И только когда подошел к офицерскому дому, определился точно: разговор при женах. Пусть знают и Гульсара, и Зухра о его, начальника заставы, требованиях и со своей стороны влияют на Додо Сахидовича.
Как и ожидал Богусловский, реакция Сахидова была резкой. Он просто взвился:
— Разве женщины могут обсуждать дела мужчин?!
— Давай, Додо Сахидович, не станем уподобляться трусам, которые придумали сотни отговорок, чтобы вознести себя. У вас — шариат и много других ограничительных моментов, у нас — тоже. Чего стоит только такая сентенция: у женщины волос длинный, а ум короткий. Но наши жены — боевые подруги и, как мне видится, просто обязаны знать максимум допустимого о наших делах, помогая нам по силе возможности. Твоя Зухра, это видно, безумно тебя любит, потому не откажется помочь тебе обрести уверенность, отбросить зряшние обиды.
— Я уверен в себе. Мне няньки не нужны.
— Это ты так думаешь, а не те, кто рядом с тобой. Впрочем, давай ближе к делу. У тебя или у меня? Давай поговорим по душам за ужином.
Явно не понравилась Сахидову настойчивость начальника заставы. Несколько минут он насуплено молчал, потом через силу согласился поужинать в его квартире. Нет, он не боялся откровенного разговора, считая, что у него есть довольно веский козырь (лейтенанта ведет на поводу начальник отряда, а возможно, и более высокие чины), себя же он считал незаслуженно оскорбленным, поэтому правда на его стороне. Его лишь смущало то, как Зухра, которую он любил и любовью которой очень дорожил, воспримет упреки начальства в его адрес. Не поняв всего, вдруг она изменит к нему отношение, а это станет для него еще одним тяжелым ударом, вынести который будет очень трудно.
Гульсара сразу же поняла, ради чего совместный ужин, и шепнула Зухре, что мужья их любимые станут выяснять отношения.
— Мой совет тебе, слушай внимательно, не вмешиваясь. Мы с тобой потом сами обсудим возникшую проблему.
— Разве гюрза успела проползти между ними?
— Давно проползла. Когда они еще не знали друг друга. Просто они пока не знают об этом.
— Разве так бывает?
— Бывает, милая Зухра. Очень часто бывает.
Женщины, объединившись, споро собрали стол и несколько минут они беседовали вроде как ни о чем. Первой завела серьезный разговор, начав с момента встречи их, вернувшихся со свадьбы, Гульсара:
— Как мне видится, именно в тот момент стало ясно: мужчинам следует честно объясниться друг с другом, но они никак не решатся приступить…
Михаил Богусловский с благодарностью принял от Гульсары кончик нити предстоящего разговора. Его оскорбили слова Додо Сахидовича, явно заподозрившего начальника во взяточничестве. Но это, как говорится, дело второе. События каждый воспринимает в меру своей испорченности. Главное в ином: заместитель начальника заставы по боевой подготовке, вместо того чтобы проводить занятия, пьянствовал. Более того, он солгал, будто проводил инструктаж с командирами отделений, а на самом деле передоверил им свои обязанности. Никакого инструктажа он не проводил, а когда прапорщик Алдошин предложил ему помощь, ответил ему грубостью.
Высказав все это, Богусловский заговорил еще тверже:
— Что касается крупной взятки, это в самом деле так. Хоть и замаскированная, но все же взятка. Ты обо всем узнаешь, если я и все допущенные к тайной операции убедимся, что тебе, Додо Сахидович, можно доверять. А пока — не обессудь. Что же касается отношения к службе, к обучению, к воспитанию личного состава, здесь надо действовать личным примером. Я объявляю условие, выполнение которого обязательно: никогда, ни в какой ситуации не перекладывать свои дела на плечи солдат и сержантов. Не уподобляйся, Додо Сахидович, нерадивому солдату, который, получив приказ, всякий раз упирается: «А почему я?» Твои обязанности тебе известны, и напоминать о них я не стану. Если есть какие сомнения, прочитай еще разок Инструкцию. Там все черным по белому написано. Второе, не менее важное: не считай себя элитой, а солдат — мусором. Мы все из одного теста и делаем одно дело. Солдат нужно не только учить, но и учиться у них. Искренне. Тем более что здесь граница не такая спокойная, как в Прибалтике. Извини, но я вынужден сказать, хоть это и удар по твоему самолюбию: личный состав заставы на занятиях, которые ты должен был проводить, смеялся над тем, как ты проверял службу пограничных нарядов. Я тоже обмишулился во время задержания контрабандистов, но, услышав упрек, не обиделся, а попросил сержантов и других «старичков» поучить меня. Довольно приличное время я ходил младшим наряда. Пострадал ли мой командирский авторитет от этого? Уверен — нет. Во всяком случае, в курилке не смеялись по поводу моих промахов.
— Мне не нужна помощь. Я вырос в тугаях.
— Однако мимо нарядов проходил, не замечая их. Младший наряда тебе пальцем тыкал. Разве не так?
Сахидов налился багровостью, но ничего не ответил. Ему обидно было выслушивать все это, но еще обиднее, что лейтенант не стесняется унижать его при женщинах, при любимой жене. Однако он еще не совсем потерял совесть и не спорил, если говорили правду-матку.
— Еще одно условие, — продолжил Михаил Богусловский, не дождавшись ответа на свой вопрос: — Считать прапорщика Алдошина ответственным за дела на заставе наравне с нами. Если мы будем едины, тогда застава будет единой с нами. Со своей стороны я обещаю, что не стану больше делать вот таких нотаций — только советовать, если что-либо будет не так. Но подчеркиваю: при условии четкого исполнения своих обязанностей и инициативности.
— Я уже по горло сыт инициативностью! — Сахидов полоснул ребром ладони по горлу. — Преподан мне очень хороший урок.
— Надеюсь, расскажешь? Может, не так страшен черт?
— Страшен, Михаил Иванович. Очень. Но я хочу дослушать до конца все твои условия и тогда решу, стоит ли выворачивать душу наизнанку.
— Хорошо. Мое последнее условие. Пожалуй, самое важное. Ни в коем случае не отправляться на службу под хмельком и даже с запахом перегара. Нам не следует забывать, как важен для личного состава заставы нравственный облик командира. У нас практически нет строя и повседневного контроля за подчиненными, они на многие часы представлены сами себе, и вполне понятно, если офицер показывает пример отрицательный, это действует разлагающе. И потом, достаточно одного трагического случая для Приостровной. Скажу прямо: если еще хоть раз повторится сегодняшнее, поставлю вопрос об откомандировании тебя с заставы. Такой заместитель мне не нужен. Не поддержит меня начальник отряда, достучусь до Пограничной группы, не найду понимания в Управлении — дотянусь до Москвы. Еще раз подчеркиваю: почти вся застава погибла по вине начальника заставы и старшины, которые за рюмкой водки не увидели страшного. Один лейтенант Дадабаев действовал трезво и не только спас часть бойцов, но сумел повернуть дело так, что нами была уничтожена горная база подготовки воинов Аллаха. Застава и водка — несовместимые вещи. Вот почему я тебе заявляю: будешь пить — расстанемся. Повторяю, до Москвы дойду, а своего добьюсь.
— Зачем так далеко, Михаил Иванович? — с неумело скрытой иронией спросил Сахидов. Вот и его час настал. Сейчас утрет нос выскочке, которого тянут вверх друзья-приятели, имеющие власть в пограничных войсках. — Подполковник Костюков, твой опекун, любую просьбу поддержит.
Неожиданные для Михаила Богусловского слова. Не ими ли объясняется поведение Сахидова? Он вполне искренне считает, что его специально унизили, послав заместителем к младшему по званию, да еще с таким малым стажем службы на заставе. Он сам должен командовать, он должен поучать, а не выслушивать условия лейтенанта. Стало быть, перво-наперво нужно убедить Сахидова, что Костюков — не поводырь, только требовательный друг, искренне желающий видеть его, Михаила Богусловского, толковым офицером, карьера которого зависит только от дел. Что ж, придется не прямо рассказать ему обо всем. Его откровенность, вполне возможно, вызовет ответную откровенность.
Есть в твоих словах, Додо Сахидович, правда, но есть и домыслы, вызванные либо завистью, либо обидой на кого-то или на что-то, о чем мне пока не известно. Мы с Прохором Авксентьевичем — не просто друзья, нас связывает дружба наших отцов, дружба наших дедов, имена которых известны почти всем пограничникам. Вот и Гульсара, она не только моя жена, между нашими семьями давние связи, крепкая дружба. Но в дружбе наших родов была одна особенность — они честной службой, боевыми делами пробивались в верхние эшелоны пограничных войск. Они помогали друг другу, но к себе оставались более требовательными, чем ко всем окружающим. Но не стану ворошить прошлое — вы с Зухрой его узнаете, если мы подружимся, я об отношении ко мне Прохора Авксентьевича, подполковника Костюкова.
Минут двадцать Михаил Богусловский рассказывал об учебе в пограничном институте, об ордене Мужества, полученном за успешный бой с воинами Аллаха, о своем первоначальном выборе участка границы, о предложении Костюкова ехать на более важное направление — рассказал о тех операциях, на которые посылал его Прохор Авксентьевич явно понимая, что не к теще на блины. Закончил монолог вопросом:
— Разве так поступают поводыри со своими ведомыми? Разве посылают на смертельно опасные операции? Если честно, от назначения я попытался отказаться, и какой услышал ответ в присутствии начальника штаба Пограничной группы? Приказ не обсуждается, а если я не справлюсь, буду переведен на должность командира взвода. И еще раз о нашей дружбе. На примере старшего лейтенанта Дадабаева. Подполковник Костюков впервые увидел его здесь, на Приостровной, но понял, что он — солдат. Теперь и они друзья. Теперь Костюкова вполне можно называть поводырем Дадабаева. Старший лейтенант — а уже на должности подполковника. Так вот, хочешь стать ведомым у подполковника, проявляй инициативу. Покажи, что ты думающий, имеющий свою позицию офицер, к тому же умеющий биться за правое дело.
— Я бился. И чего добился?
— А ты можешь не темнить, не носить обиду в себе? Глядишь, одолеем твои невзгоды сообща.
— Не знаю. Все люди одинаковые. Мягко стелют, только спать жестко.
— Я предлагаю дружбу, а она не может быть без искреннего доверия. Скрытность, камень за пазухой, недоверие — помехи для дружбы. Определись. Взвесь. Найдешь нужным, поговорим откровенно. Если нет, станем служить, строя отношения только в рамках Устава и Инструкции. Доужинаем давай — и на заставу. Посмотрим план охраны, составленный старшиной прапорщиком Алдошиным, и — боевой расчет.
Сахидов глянул на часы. Более часа до боевого расчета. Если быть предельно кратким, если только о главном, то вполне успеется. Ответил:
— Договорим сейчас. Уложусь за полчаса.
Горестно вздохнув, Сахидов начал рассказ о своих мытарствах. Нет, не сразу они начались. Не вдруг. Лейтенантом прибыл на заставу и, конечно же, как и все, — с амбициями. Ему виделась быстрая карьера: не пьет вообще, Аллах разумом не обидел, трудиться без устали привык с самого детства все качества для высокого авторитета налицо. Месяца три прошло, и он пытливым умом распознал, что на границе с бывшей союзной республикой много дырок, и вина во всем российских пограничников. Никак многие из них не могут понять, что не друзья-товарищи на сопредельной стороне, а вполне хитроумный соперник. А пограничники оценивали соседей с позиций послевоенных лет, когда, как казалось, они смирились, что вновь вошли в состав СССР. Но куда там? Особенно Эстония. Никак она не может забыть своего позора: русский император купил ее у шведского. А купленный — значит, раб. Им же не хотелось считать себя рабами. Однако недостаток силы и малочисленности не позволило им восстать открыто, с оружием в руках, вот они и избрали своей тактикой хитрость и вероломство. В начале развала Союза они первыми провозгласили свою независимость. Ну и утихомирься. Радуйся свалившейся манне небесной, ан нет. Как только возник так называемый чеченский конфликт, они не только начали злорадствовать, но и оказали поддержку этим самым бандитам.
Вроде бы далековато они друг от друга, а сотрудничество наладили тесное. Чеченские эмиссары, опасаясь легального транзита, приспособились переходить границу тайно. Лейтенант Сахидов, поняв это, нашел что противопоставить нарушителям на заставском участке границы. Одного задержал, второго, третьего. О нем заговорили. Ему вручили медаль «За отличие в охране государственной границы». Его хвалили на всех сборах и совещаниях офицерского состава.
Первая обида, возникла на втором году службы. В отряд пришла телеграмма: откомандировать троих лучших молодых офицеров для службы на КПП. В Сочи и в Москве. Друзья загодя начали поздравлять Сахидова. И в самом деле, вроде бы все верно: лучший из лучших заместителей начальника заставы — ему и честь. Увы, уехали другие. Бездельники. Любители пображничать. Поразмыслив, Сахидов понял, что, если нет волосатой руки там, на самом верху, очень медленно пойдет продвижение по службе, если пойдет вообще, будь хоть семи пядей во лбу. Вспомнили тогда расхожую присказку: служи, пока не уволят тебя за приобретенную тупость. Грубо, но есть в ней какой-никакой смысл.
Личные выводы и подсказки сердобольных друзей, однако, не изменили его отношения к службе. Рос счет задержанных нарушителей, и все было бы хорошо, не осмелей он. Его весьма возмутили слова президента о ненужности столь серьезной охраны границы со странами Прибалтики. Даже не сами слова, хотя и они весьма вредны, а реакция офицеров старшего звена, которые увидели возможность оправдать свое благодушие высоким мнением. Вот и выступил Сахидов на одном из больших совещаний со своим пониманием обстановки. А оказалось, будто взрывпакет бросил. Тут же, на совещании, понесли его, что называется по кочкам: политически близорук, но главное — очень уж зазнался.
Он попытался было объяснить свою позицию, утверждая, что большая политика — не так уж важный ориентир для пограничников, для них самое главное — реальная обстановка на участке заставы, на участке отряда, на участке Регионального управления. Но опять будто подлил масла в огонь. Его принялись обвинять во всех смертных грехах.
Ну, и ладно бы, покритиковали — и делу конец. Он бы продолжил честно исполнять свой долг и делами доказывать свою правоту, так нет — кто-то, в угоду начальству, сподличал. В бане выпил бокал пива — а кроме пива, да и то редко, он ничего не пил — и ни с того, ни с сего захмелел. Основательно. Вот тут и понеслось: тайный алкоголик. Выговоры посыпались из-за разных пустяков. А закончилось все вообще оскорбительно, насмешливым предложением: хочешь тревожной границы — поезжай.
Обидно конечно, но можно перетерпеть ради важного дела. Таджикистан— его родина, и помочь ей — долг каждого таджика. Но такого он не ожидал, чтобы под начало лейтенанта. Еще одно оскорбление. Под начало выскочки, которого тянет за узду начальник отряда и, конечно, кто-либо еще повыше. Скажешь лишнее слово, предложишь свое — тут тоже посыплются выговоры. Так и засохнешь в звании старшего лейтенанта. Пока не выгонят за приобретенную тупость.
Обидно было Михаилу Богусловскому слушать подобное, тем более после его исповеди, но сам наставил на откровенности — получай. Но обида, так сказать, сиюминутная, а если серьезно оценить рассказ Сахидова, виден волевой, мыслящий офицер, только до глубины души оскорбленный. Избавить его от обиды, проявить к нему доверие — вот путь к успеху, и он решился на то, что позволил ему сделал Прохор Авксентьевич в зависимости от обстоятельств.
— Твои взгляды на нашу службу на все сто процентов сходны со взглядами моего опекуна, как ты называешь подполковника Костюкова. Но я уверен, подполковник протянет руку дружбы и тебе, если будешь служить честно, инициативно. Мне кажется, для тебя это не составит большого труда, не потребует ломки характера. А чтобы на деле убедить тебя в том, что доверяю, я открою тебе тайну о нашей операции. Мне разрешено это сделать, если буду убежден, что в полной мере смогу привлечь тебя к очень опасному делу. Я это сделаю. Но уже не при женщинах. Я обещал Гульсаре, что не будет от нее тайн, что эта — последняя, поэтому разговор мы продолжим после боевого расчета. Ты, Алдошин и я.
Очень верное решение принял Михаил Богусловский. Сахидов, слушая Богусловского, который рассказывал ему и Алдошину во всех подробностях план операции, не скрывая даже, что возможны трагические последствия, понял — он среди своих, среди смелых и хорошо понимающих обстановку. Его решение было однозначным: помогать всеми силами, несмотря на угрозу жизни.
— Можно с предложением? — спросил Сахидов Богусловского и, услышав в ответ, что не только можно, но и нужно, сказал: — Неделю планируйте меня в дозор — с рассвета до обеда и начала занятий. Тугаи изучу. После чего — ночные дозоры по тугаям. Вот тогда я смогу придумать, как надежнее их перекрывать нарядами. Взять под полный контроль.
— Хорошо. Младшими — старичков.
— Молодых тоже. Мне не проводники нужны. Я сам буду и проводник, и учитель.
— Условились. Но есть одна поправка: за неделю до приезда на охоту Исмаила Исмаиловича с подручным надо взять под личное наблюдение остров. Мы не можем брать депутата с поличным, если не будем уверены, что контейнеры с героином ему поданы на остров. Может быть, придется на это время прервать изучение тугаев.
— Прервусь. Смена системы охраны тугаев — не однодневное мероприятие. Несколько месяцев потребуется.
На глазах менялся Сахидов, казалось даже — двужильный он. Трудно было определить, когда он спал. Богусловский даже начал притормаживать его — отправлял хотя бы часа на три-четыре домой, беря на себя высылку нарядов даже во время дежурства Сахидова. Все, о чем они договорились, тот успевал делать основательно. Радовало и отношение к нему Зухры. К ее безоглядной любви добавилось еще и уважение. Она радовалась, что ее Додо вновь забыл о вине и водке, что проводит много времени на заставе и стал уверенней в себе, — Зухра со слезами радости делилась своими чувствами с Гульсарой, а та, в свою очередь, пересказывала ее откровения Михаилу. И, когда на заставу приехал подполковник Костюков, чтобы встретить Исмаила Исмаиловича, Михаил Богусловский доложил ему без всяких сомнений:
— Не ошиблись мы, поверив Сахидову. Крепкий мужик. Работящий и честный. Ума тоже не занимать.
— Давай вдвоем побеседуем с ним. А то и Алдошина позовем.
— С Алдошиным лучше бы.
Устроили что-то вроде отчета о делах заставских. Первое слово — прапорщику Алдошину, потом — старшему лейтенанту Сахидову, итог подводит начальник заставы Михаил Богусловский. У старшины заставы все в полном ажуре. Учет и отчетность налажены хорошо, недостач нет, добавка к пайку приличная — за счет охоты и рыбной ловли, а порядок на заставе такой, что ни один проверяющий не придерется. Иные речи у Сахидова, он тоже не тушуется, говорит откровенно:
— Я еще не совсем готов докладывать результаты изучения тугаев. Пока есть предварительные наметки. Основной вывод такой: растопыренными пальцами тычем мы в тугаи. Стараемся перекрыть нарядами всю линию тугаев, а это неверно. Контрабандисты не ходят напролом, у каждого свой маршрут. На участке нашей заставы я определил шесть троп. Думаю, есть еще две или три. Когда их найду, тогда предложу более надежную систему контроля тугаев. Пока же боюсь ошибиться.
— Не нужно ничего бояться. Предлагайте смело сейчас. Уверен, соображения уже есть. Если что-то упущено, сообща обмозгуем.
Сахидов подошел к схеме участка заставы и снял указку, висевшую рядом.
— Вот они — тропы. Не прямо проложены — от берега до выхода. Вот у этой — два зигзага. Вот у этой — один угол. «Ишаки» знают, где не поднимут фазана ни ночью, ни днем. Повадки фазанов мне тоже известны, еще по детским играм в красноармейцев и басмачей. Мы изучали места ночевок фазанов для ночных вылазок, места кормежки — для дневных маневров. У меня мысль такая: наряды, в основном секреты, высылать на тропы, а для маскировки не отказываться и от дозоров, но редких, по кромке тугаев. Они на всякий случай страховать будут секреты.
Хорошо бы на каждой тропе установить сигнальное устройство. Световое. Зуммер не годится. Уши у «ишаков» чуткие. Лучше, чем у архаров.
— Дам задание связистам. Пусть химичат. И вот еще что… Пришлю на заставу начальника службы. Он изучит ваши, Додо Сахидович, предложения, чтобы распространить на все заставы. Обобщенные данные отправим докладной запиской в Управление пограничной группы.
Вспыхнули радостью карие глаза старшего лейтенанта. Доволен он, что не зря трудился. Попросил только об одном: чтобы из отряда приехали только через неделю.
— Хорошо, — согласился Костюков. — Теперь вы скажите свое мнение: доставлен ли товар на остров?
— Нет, не доставлен, — твердо ответил Сахидов. — В этом я почти уверен.
— Стало быть, готовиться к завершающей фазе операции не стоит?
— Рискованно.
— Будем тогда встречать и провожать, как обычно. А тебе, Михаил, следует обнадежить Лодочникова. Ты же после свадьбы сказал ему, что вам нужно крепить дружбу, вот и продолжай курс на сближение. Вырази удовлетворение подарком. Намекни, что готов за подобные подарки оказывать определенные услуги. Теперь, мол, станет по легче. Дадабаева перевели, а новый зам — таджик. С ним, мол, сам Исмаил Исмаилович сможет разговаривать. А вам, Додо Сахидович, случись такое, нужно так повести себя, что вроде бы и согласны, но страшновато, поэтому нужно подумать и все взвесить основательно, прежде чем сделать столь ответственный шаг.
— Я ненавижу исламистов. Смогу ли я скрыть ненависть мою?
— Нужно себя пересилить. Тем более, я в этом совершенно уверен, первый разговор Исмаил Исмаилович поведет вокруг да около. О долге правоверного, о величии будущего мусульманского мира. В ответ тоже — вокруг да около. Если знакомы с Кораном, на него ссылайтесь, но не увлекаясь и не слишком переча, высказывайте только малые сомнения. А дальше — видно будет. Помните знаменитое: нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться. Если вы оба сможете в какой-то мере усыпить бдительность преступников, мы возьмем их через пару месяцев. Осмелев, они прихватят товар.
Практически так и получилось. За исключением мелочей. Подполковник Костюков, встретив гостей, сразу же попросил извинения — ему необходимо покинуть заставу из-за обстановки на правом фланге отряда, там, на одной из застав, случилось якобы чрезвычайное происшествие. На вопрос: «Какое?» — ответил не задумываясь:
— Наше, внутреннее. Еду разбираться.
Развязаны руки у гостей. Предприняли они первые пробные шаги и получили вполне обнадеживающие ответы. Увезли, однако, охотники совсем малую добычу. Явно без товара уехали. А через неделю на заставу пожаловал грузовик, полный дынь, арбузов, персиков, винограда. Сахидову же на новоселье персональный подарок — японский телевизор и холодильник, тоже японский. Вручая подарки, экспедитор, как он себя назвал, шепнул Сахидову:
— Это малый задаток.
Каких трудов стоило Сахидову сдержаться, одному ему известно.
К следующему приезду охотников остров тоже не проснулся. И днем, и ночью — будто мертвый. Вот и решено было вновь встречать депутата-оборотня и его подручного внешне гостеприимно — торжественным застольем. Подполковник Костюков на этот раз не покинул заставы, не дав возможности гостям много времени для индивидуальных бесед с офицерами заставы. Они прошли накоротке и еще более успокоили Исмаила Исмаиловича и Иосифа Сильвестровича. А когда их проводили, Прохор Авксентьевич посоветовал:
— Усильте наблюдение за островом. Все внимание на него.
— По моему мнению, полезут «ишаки»-одиночки через тугаи, — предположил Михаил Богусловский, — чтобы отвлечь нас. Придется напрячься.
— Освободите Додо Сахидовича от повседневных дел. Ему — только остров. Вам с Алдошиным — все остальное. Не отступайте ни на шаг от схемы Сахидова. Хорошее для нее испытание.
Дней пятнадцать на границе было удивительно тихо. На соседних заставах почти каждую ночь стычки с ходоками, а на Приостровной — хоть вовсе не высылай наряды. Но вот затишье кончилось. Вышел «ишак» прямо на секрет, залегший на самой дальней от заставы тропе. Не успел оглядеться, как лежал на земле со связанными руками. Похоже, не подсадная утка. Заплечный водонепроницаемый мешок тугой, стало быть, второго ходока не жди. Секрет, однако, не покинул своего места до самого рассвета.
На следующую ночь — еще один контрабандист. Тоже на тропе самой дальней, только на правом фланге. И пошло поочередно: то правый фланг, то левый. Подальше от острова. Секреты брали ходоков без единого выстрела. Очень это хорошо в обыденной службе, но вряд ли такая тишина нужна в данной обстановке. Просто необходима стрельба, нужен великий шум. Пришлось, не отказываясь от сахидовской схемы, внести поправки, к удивлению солдат и сержантов, в действия всех секретов. Можно и нужно брать ходоков без выстрела, если удастся, но после этого следует, сменив место, а еще лучше — выйдя из тугаев, дать осветительную ракету и произвести не менее пары очередей и несколько одиночных выстрелов из изъятого у контрабандиста пистолета.
Подействовало. Едва взлетела ракета и вспыхнула ложная перестрелка, на острове взлетел вспугнутый фазан. Разгадана тактика врага — игра началась серьезная.
За несколько дней до приезда Исмаила Исмаиловича и его подручного на охоту Михаил Богусловский позвонил Костюкову:
— Можно, Прохор Авксентьевич, брать.
— Прекрасно. Подключаюсь.
Еще прежде у подполковника Костюкова возникала мысль, что брать с поличным депутата надо на глазах у местных жителей. И сразу вопрос: а что, если никто из сельчан не согласится быть понятым? Испугаются мести. Такое вполне может быть. На главу сельской администрации можно, конечно, надавить, его одного недостаточно.
«Придется для начала встретиться с улемой, а затем и с аксакалами», — решил Костюков.
Для предварительного разговора со старейшинами на встречу с начальником отряда пригласили Гульсару. Она через своих учеников сможет повлиять.
Гульсара блестяще справилась с не очень понятным для нее заданием: аксакалы согласились на встречу в любое время, когда будет в том необходимость большому начальнику кокаскеров, но подполковник не стал спешить. Он твердо решил ехать в село только после того, как встретит Исмаила Исмаиловича на заставе. Так ему откровенно и скажет: у него беседа со старейшинами села. Просьба о помощи в борьбе с браконьерством. Возможно, они подскажут: кто из сельчан принимает контрабандный героин и переправляет его дальше? Очень, дескать, важны такие сведения. Костюков предполагал, что Исмаил Исмаилович сам напросится на совместную поездку в село, поэтому готовил убедительный отказ. Этим ходом он убивал двух зайцев: депутат будет изолирован, его не смогут предупредить, даже если кто-то из аксакалов захочет это сделать. Он верил аксакалам, но, как всегда, осторожничал. Зачем рисковать?
К удивлению подполковника Костюкова, Исмаил Исмаилович не захотел участвовать в беседе со старейшинами. Он даже похвалил Костюкова:
— Мы теперь в разных странах, но это не мешает вам опираться на местное население. Оно прекрасно понимает благородную миссию русских пограничников.
Дальнейшему разговору помешала Гульсара. Она подошла в элегантном брючном костюме, так ладно на ней сидевшем, что Исмаил Исмаилович расплылся в слащавой улыбке. Гульсара, склонив голову, пригласила:
— Дастархан, уважаемые гости, расстелен.
Эта сцена тоже заранее была обговорена и прошла весьма удачно — Исмаил Исмаилович взял под руку Гульсару и пошагал с ней к офицерскому дому. Костюков с Богусловским переглянулись: неужели не понимает этот сластолюбивый индюк, каково сейчас Гульсаре, как ненавистно ей его коварство… Не сорвалась бы…
Нет, Гульсара держалась молодцом, и ее поведение настраивало депутата и его подручного на благодушный лад. В них росла уверенность, что души офицеров заставы в их руках. Чтобы поставить Богусловского и Сахидова в полную зависимость Исмаил Исмаилович готовил им сюрприз. Дорогой.
И впрямь — сюрприз. Еще продолжался обед, а к заставе подъехала фура с дорогой мебелью на три квартиры: начальнику, заместителю и старшине. Но не в качестве личного подарка — просто знак внимания депутатского корпуса, который чувствует и свою вину за трагические события, происшедшие на заставе. Но обед даже по этому случаю не стали прерывать — спешить водителю и экспедитору нет нужды.
Гульсара превзошла себя, угощая дорогих гостей, услужливо вела себя и Зухра, подготовленная Гульсарой. Обед проходил в теплой, дружественной обстановке, но у всех пирующих, кроме Зухры, — за пазухой увесистый булыжник.
А в селе шла действительно дружеская беседа, вполне доверительная. Подполковник Костюков, ничего не скрывая, рассказал о подозрениях в отношении Исмаила Исмаиловича и спросил, кто из аксакалов готов поехать к острову в качестве понятых. Но тут же предупредил:
— Дело добровольное, так как возможна месть. Вернее, месть будет обязательно.
Аксакалы согласно закивали, вполне разделяя опасения большого пограничного начальника о мести, но вместо того, чтобы увиливать, опасаясь той самой мести, заговорили наперебой, будто забыв о степенности и неторопливости.
Аксакалов остановил улема, подняв ладонь.
— Сколько нужно, Прохор-ага, столько сельчан пойдет с вами. Глава сельской управы тоже поедет. Он возьмет печать, чтобы заверить обвинительные документы. Когда нужно?
— Завтра. Часов в одиннадцать я приеду за понятыми. Три человека и глава управы.
— Они будут готовы. Мы понимаем — мести не избежать, но мы не жертвенные бараны. Создадим отряд самообороны.
— Пограничники помогут вам оружием и патронами. В нужный момент, по вашему сигналу, сразу подоспеет помощь. Детали мы обсудим с тем, кого вы поставите начальником отряда, и с главой управы.
Еще полчаса чаепития, и Костюков, донельзя довольный, сел в свою машину.
— На заставу.
Он даже успел присоединиться к обедающим, рассказал о беседе с аксакалами — в виде доклада депутату, а затем поведал и о своих планах:
— Провожу вас на охоту завтра утром и съезжу на соседнюю справа заставу. Надеюсь, уважаемый гость не против? Лейтенант Богусловский и старший лейтенант Сахидов вас без внимания не оставят. К обеду постараюсь вернуться, чтобы проводить вас.
— Не возражаю против вашего плана, — самодовольно изрек Исмаил Исмаилович, посчитав, что начальник отряда получил выговор от вышестоящих командиров за прошлое небрежение к его депутатской персоне и теперь согласовывает с ним, народным избранником, каждый шаг. Затем, приняв еще более горделивую позу, высокий гость заговорил о сюрпризе:
— Вы, должно быть, обратили внимание на фуру, и вам доложили, что в машине мебель. Она для офицеров заставы и прапорщика. Самая современная мебель. Не мой подарок, а нашего парламента.
Гульсара и офицеры захлопали, демонстрируя удовлетворение и благодарность, а подполковник Костюков склонив голову, прочувственно произнес:
— Великое спасибо за заботу. Избалуете вы моих подчиненных. Ох, избалуете…
— Благодарность таджикского народа, — с пафосом ответствовал Исмаил Исмаилович, и добавил — Особенно он благоволит к тем, кто понимает его душу, кто готов к искренней дружбе.
— Застава Приостровная к ней готова, — возбужденно заверил Богусловский. — Мы высоко ценим вашу заботу.
Утром, как только гости поехали к острову, все пришло в движение: Сахидов — на НП, Костюков — в село, Богусловский — за телефон, Алдошин — к бойцам, которые были выделены, согласно плану охраны границы — в дозор к острову. До выхода — никаких объяснений: отчего наряд усиленный, да еще во главе со старшиной заставы, и почему не определено точное время заступления на службу? Теперь на все эти вопросы предстояло ответить Алдошину, объяснив им задачу, и отработать с ними взаимодействие при задержании депутата.
Первый звонок Сахидова:
— Углубляются в тугаи. По тому самому маршруту, который проследил Дадабаев. Стреляют редко.
Все. Ошибки нет. «Ишаки» идут за товаром. Сиди теперь и жди их возвращения.
Вот последний доклад Сахидова:
— Сели в лодку.
Значит, пора. Но спешить не следует. Пусть перегребут протоку, пусть даже перегрузят товар во внедорожник, вот тогда: добро пожаловать…
В то самое время, когда лодка ткнулась в берег, из ворот заставы выехали внедорожник Богусловского и «уазик». Расчет такой: подъехать к охотникам-«ишакам» только тогда, когда они уже не смогут избавиться от товара, сбросив его в Пяндж, но еще не тронутся с места.
Успели. Исмаил Исмаилович открыл дверцу, чтобы сесть на свое место, но увидев появившийся из-за поворота красавец внедорожник, свой подарок Богусловскому, и заставский «уазик», решил их подождать. Сказать, что у него не екнуло сердце, было бы ошибкой, но он и не испугался. Он — депутат, лицо неприкосновенное. Кто может применить к нему меры противоправные?
Богусловский тормознул перед самым бампером машины Исмаила Исмаиловича, выскочившие пограничники отсекли охотников от берега. Из заставского «козлика» выскочила еще одна пятерка бойцов и завершила окружение. Алдошин — к ружьям. Проверил, не заряжены ли. Убедившись, что не заряжены, оставил их на месте. Из патронташей патроны вытащил.
Исмаил Исмаилович задохнулся от злости. Лодочников же съежился, а лицо его стало белее раннего зимнего снега.
— Что вы себе позволяете?! — взорвался народный избранник. — Я — депутат парламента независимой страны! Вы понимаете, какие возможны последствия? Вы нарушаете наши законы! Действуете как оккупанты!
— Мы прекрасно знаем ваши законы и отдаем отчет в своих действиях, спокойно ответил Михаил Богусловский.
— Неужели ты не дорожишь своей жизнью?! Не дорожишь жизнью любящей тебя жены?!
— Очень дорожу. И все же откройте багажник.
Два битком набитых баула. Стало быть, можно звать из села Прохора Авксентьевича с понятыми. Трогать ничего до их приезда не стоит, несмотря на сильное желание распотрошить хотя бы одного фазана.
Почти полчаса ожидания. Исмаил Исмаилович всем видом выказывал, как он глубоко оскорблен, но вслух больше не возмущался. Стоял, сложив руки на пухлом животе и гневно глядел то на Богусловского, то на Алдошина.
Подъехал, наконец, Костюков с понятыми. Аксакалы взялись было вытаскивать баул, но тяжелым он для них оказался — Алдошин едва осилил. Распороли одного фазана, с трудом найдя сетку — пакетики с чистейшим героином, уложенные один к одному. Натуральную же форму фазана создавал каркас, мастерски сработанный из пластика. Не металлический — чтобы не среагировал металлоискатель при проходе в аэропорт. Все предусмотрели поставщики.
— Шайтан! — скрипнул зубами глава администрации, и аксакалы согласно закивали.
Пересчитав фазанов, занесли данные в протокол осмотра. Исмаил Исмаилович с Лодочниковым наотрез отказались подписывать его. Ну и Аллах с ними. Приложили пальцы аксакалы, размашисто подписал протокол глава администрации и, подышав на печать, пришлепнул ее на положенное место.
Расписались также Костюков, Богусловский и Алдошин. Все. Подполковник Костюков, попросив героин не уничтожать, а хранить до особого распоряжения под замком и даже под охраной в управе, поспешил на заставу. Ему нужно было связаться с представителем госбезопасности в Душанбе, которого Костюков держал в курсе всего хода операции.
— Отпускаем без сопровождения. Иначе — скандал.
— Верно поступаете. Перехватим.
Подполковник Костюков положил трубку, и тут на него буквально налетел старший лейтенант Сахидов:
— Как это — без конвоя?! Уйдет в горы, разве найдешь его?!
— Что делать? Он — депутат. Не по зубам нам. Он же не нарушитель границы, которого мы имели бы законное право задержать. Он — нарушитель законов своей страны; и ему держать ответ перед своим судом.
— Тогда надо выслать к схрону на остров секреты. Пожалует «ишак» — наручники на него.
— Мысль верная. Этим мы бы наглухо запечатали канал наркотранзита, но через командующего группой представитель правительства просил нас не высылать наряды на остров. Это — приказ.
— Но нужно настаивать на отмене приказа. Доказывать!..
— Буду, Додо Сахидович. Но не уверен в успехе, пока их, что называется, жареный петух в зад не клюнет. А он — клюнет.
— Месть?
Да. Вам к этому нужно быть готовым. Предусмотреть все возможные варианты. И тут я надеюсь на вас, До до Сахидович.
Очень надеюсь.
Давно старший лейтенант не слышал таких слов, а как они приятны, как воодушевляют, как мобилизуют…
Глава пятнадцатая
Они ехали молча. Ехали налегке. Им оставили только их охотничий трофей — четырех фазанов. По паре, выходило, на брата. Гнетущая тишина в салоне, только едва уловимое шуршание встречного ветра, да привычное ворчание мощного мотора, напрягающегося до предела. Время от времени Исмаил Исмаилович восклицал:
— Они узнают мою руку!
Эти гневные восклицания вызывали у Лодочникова усмешку. Провалился народный депутат. Канал доставки наркотиков закрыт наглухо, и теперь его, Лодочникова, Юрий Трофимович перестанет гонять в Душанбе. Лодочников страшно перепугался, даже ноги задрожали, когда увидел Михаила Богусловского с группой пограничников, а еще больше — когда подъехал Костюков с аксакалами. Он, юрист, сразу определил: обыск с понятыми. Тот противный страх не отступал все то время, пока составляли протокол досмотра. Но его настроение сразу же изменилось, даже страх улетучился, когда ему дали на подпись протокол. В нем он, Лодочников, по юридической безграмотности значился как попутчик Исмаила Исмаиловича. Он вполне мог бы подписаться под протоколом, но не сделал этого из солидарности с Исмаил-беком. Лодочников взбодрился, понимая, что с хорошим адвокатом вполне можно увернуться от ответственности. Он даже повеселел и после этого мог спокойно наблюдать за высокомерным зазнайкой как сторонний наблюдатель. Этот самодовольный осел, с наглым пренебрежением относившийся к нему, Лодочникову, и называвший его другом на людях, явно сдрейфил, хотя и бодрится, прикрывая свою трусость демонстративным гневом:
— Они еще почувствуют мою руку!..
Постепенно, однако, изворотливый ум Исмаила Исмаиловича начал перестраиваться: появилась сосредоточенность, он стал просчитывать последовательность спасительных шагов. Конечно, могут кокаскеры не остановиться на содеянном, поднять шум, но тогда можно будет обвинить их в нарушении законов свободной Республики. Вместо охраны границы, согласно договору, вместо борьбы с истинными контрабандистами они хватают народного депутата! Безвинного! Приехавшего на охоту, чтобы хоть немного отвлечься от важной законодательной деятельности. Пока доставят протокол, можно будет поднять такую шумиху, что никто не станет даже смотреть в эти бумаги, — Исмаил Исмаилович начал думать, кого из журналистов позовет на пресс-конференцию, и составлять обвинительную речь. Каждое слово — камень, точно брошенный в цель.
— Они узнают мою руку!
К удивлению Иосифа Лодочникова, гневные заявления Исмаила Исмаиловича с каждым разом звучали все уверенней.
«Ну и жук… Похоже, определил, как выкрутиться».
Ближе и ближе Душанбе. Время внести ясность в их дальнейшие действия, и Лодочников спросил:
— Мне сразу лететь? Как обычно?
— Как же иначе? Я отвезу тебя в аэропорт. Никакой паники. Они узнают мою руку! И подполковник, и твой друг лейтенант. А что делать дальше в Москве, тебе скажет Юрий Трофимович.
Проехали первый пост. Как обычно, увидев элитный номер и мигалку, постовой козырнул. Стало быть, не грянул еще гром, есть время расправить плечи. Исмаил Исмаилович все более обретал прежнюю надменность. Лодочников тоже взбодрился окончательно. Всего один пост впереди, а там — аэропорт. Под крыло Юрия Трофимовича, который не даст в обиду. Можно даже сказать, ликовал в душе Иосиф Лодочников. Бог даст, кончится эта подневольная дружба с неотесанным азиатом, который ведет себя как шахиншах.
Но что это?! Поперек дороги два самосвала. Мощных. Похоже, специально поставленных. Хочешь или нет, а остановишь бег стремительного внедорожника, хотя можно включить сирену и мигалку.
Не подействовало. Самосвалы стоят как вкопанные. Исмаил Исмаилович резко открыл дверцу, готовый кинуться с руганью на шоферов самосвалов: не видят разве мигалку, не слышат сирену?! И тут, словно из-под земли, возникла пара крепких мужчин. Они подхватили Исмаила Исмаиловича под белы ручки и увели за самосвалы, где стояли (Лодочников только сейчас увидел их) две «Волги». В одну из них усадили Исмаила Исмаиловича, и она уехала.
Очередь за Иосифом Лодочниковым. Ему очень уж вежливо предложили:
— Переходите, Иосиф Сильвестрович, в нашу машину. Не забудьте свои вещи и даже охотничьи трофеи. Мы доставим вас в аэропорт и посадим в самолет.
Скачет от радости душа Лодочникова. Видно, поняли таджики, что он тут ни при чем — всего лишь сбоку припека. Он укроется под крылом своего босса — и это прекрасно. А вот Исмаилу Исмаиловичу не позавидуешь. Жестоко карают в Таджикистане наркокурьеров. Впрочем, он, как депутат, вполне может выкрутиться. Даже с пользой для себя. Шум вокруг этой истории создаст ему хорошую рекламу — как невинно пострадавшему.
Предположения Иосифа Лодочникова вполне могли бы сбыться, не прими оперативники такие крутые меры. Без предварительного согласования. Взяв на себя всю ответственность. Они, конечно, рисковали очень сильно, но у них было достаточно оснований, чтобы оправдать свои действия. Рассчитывали они и на то, что удастся при первом же допросе выявить всю цепочку транзита героина, а если выпадет удача, то и главное — на нужды какой партии идут вырученные деньги.
Получив такие данные, можно даже отпустить депутата. Если же поднимется шум, они согласны будут публично признать свою ошибку, одновременно начав раскрутку полученных сведений, чтобы через какое-то время частым бреднем пройтись по экстремистскому омуту.
Но то, что случилось, превзошло их ожидания и самые смелые прогнозы.
Первые слова Исмаила Исмаиловича, когда его ввели в кабинет следователя, прогремели громом небесным:
— Как вы посмели?! Я — народом избранный депутат! Вы нарушаете закон!
— Садитесь, народный депутат. Будем считать так: это не арест, а приглашение на беседу. Отсюда вывод: не допрос, а беседа, что никакими законами не возбраняется. Выходит, закон мы не нарушаем, в отличие от вас.
Исмаил Исмаилович хотел что-то ответить, вернее, гневно возразить, но следователь попросил его, именно попросил:
— Давайте начнем с того, что вы выслушаете меня, после чего я выслушаю ваши претензии. Так, считаю, беседа наша пойдет по более спокойному руслу. Оставим на какое-то время героин в фазанах.
— Мне их подсунули в машину, пока я со своим другом на острове охотился.
— Допустим. Хотя пограничники подъехали как раз в тот момент, когда вы перегружали из лодки в кузов машины товар, как вы называли героин в своих телефонных разговорах с вашим боссом. Пограничники так подгадали, чтобы вы не смогли выбросить контрабанду в Пяндж. Отрицать явный факт не стоит, тем более он зафиксирован в протоколе. И еще один факт: в присутствии одной из стюардесс и командира авиалайнера был проведен осмотр вашей совместной с Лодочниковым Иосифом Сильвестровичем охотничьей добычи, отправляемой в Москву. Обнаружен героин в специально оборудованных фазаньих тушках.
Следователь подал Исмаилу Исмаиловичу протокол досмотра для ознакомления. Тот прочитал и небрежно отбросил его, буркнув:
— Провокация.
— Допустим, хотя документ юридически совершенно чист. Теперь послушайте разговор по телефону с Абдурашидом. Ваш голос?
— Да. Мы — родственники. Разве не имеем права на разговоры?
— Имеете. Но мы расшифровали ваши разговоры. Вот эти расшифровки. Почитайте.
И от этого не отказался Исмаил Исмаилович, уже осознавший свое шаткое положение. Прочитав, не отшвырнул, а положил на стол скромно, но все же продолжал пререкаться:
— Прослушивание личных разговоров — прямое нарушение прав человека, тем более депутата.
— С санкции прокурора. В интересах государственной безопасности нашей Республики. На этом поставим точку и пойдем дальше. Первое неудачное покушение на начальника отряда Пограничной группы России — тоже дело ваших рук, господин депутат. Вот протокол допроса исполнителя. Его вы при всем желании не уберете, оставив нас без свидетеля. А вот протокол допроса хозяина ресторана, где готовился взрыв. Вот протокол допроса владельца машины со взрывчаткой. Вот еще один протокол допроса — той женщины, которая закладывала взрывчатку в загсе. Вы лично руководили подготовкой террористического акта. Дать почитать?
— Нет.
— Тянет все это, как вы, господин депутат, понимаете, на высшую меру. Но мы с вами можем избрать иной путь — путь сотрудничества. Только честного. С нами играть не стоит. Очень опасно.
Мучительно долго молчал Исмаил Исмаилович, но вот, горько вздохнув, спросил упавшим голосом:
— Что вас интересует?
— Имена и фамилии всей верхушки вашей партии в Душанбе. Какая связь с теми, кого вы меж собой именуете Истинно Избранными? Кроме того, расскажите обо всех, кто принимал товар в Москве. И если вам известны имена сторонников халифата — их тоже.
— Подписать себе смертный приговор?
— Кто будет знать о нашей беседе? Обратите внимание: долгое наблюдение за вами не имело огласки в ваших кругах; если же мы начнем сотрудничать, то позаботимся о секретности. А после нашей беседы, которую мы запишем на диск, поступим по вашему желанию: либо задержим на двое-трое суток, либо сразу же отпустим домой.
— Домой…
— Условились. Включаю запись.
Исмаил Исмаилович честно рассказал все, что знал, а знал он очень много. И его отпустили. Следователь же со своим начальником до самого утра готовил вначале докладную записку президенту Республики о готовящемся захвате власти в Душанбе группой сторонников халифата, в которой назвали все фамилии заговорщиков, затем приступили к ориентировке для Москвы — о секретной сети партии Освобождение Ислама. Спешили, чтобы утром эти документы передать лично в руки своему шефу.
Они были очень довольны умело проведенной операцией, но более всего довольны тем, что удалось завербовать ярого сторонника халифата. Теперь появилась возможным получать сведения о подрывной деятельности врагов Республики из самого гнезда экстремистов. Они надеялись на солидное поощрение.
Мечты-мечты, где ваша сладость? Когда начальник оперативного отдела и следователь встретили шефа в приемной, коротая время с дежурным порученцем, сразу же поняли, что шеф не в духе. Сухо ответив на приветствие, тот бросил порученцу:
— Всех замов — ко мне! — Затем к ожидавшим его: — А вас я прошу ко мне сейчас.
Пригласив сесть за приставной столик, спросил: слышали ли они экстренный выпуск известий по радио? Не было времени? Плохо. Вот и все. Не стал больше ничего говорить, а приняв бумаги, углубился в их изучение. Лицо его постепенно светлело. Однако, это еще не предвещало полного одобрения проведенной операции. В чем же дело? Вроде бы нет никакого прокола.
Заместители вошли все разом, скучившись, видимо, в приемной. Расселись по привычным местам в готовности внимательно слушать шефа, но тот не оправдал их ожидания:
— Нам сейчас доложат о проведенной операции по пресечению крупного канала контрабанды наркотиков и важных сведениях, полученных в ходе операции.
Доклад наш занял более четверти часа, хотя был предельно кратким — только факты. Когда же он окончился, шеф заявил со вздохом:
— Концовка смазана. В утреннем экстренном выпуске сообщили, что народный депутат Исмаил Исмаилович покончил с собой, не вынеся позора, нанесенного ему российскими пограничниками. Ловкий ход: прикончить проколовшегося дельца и поднять шумиху, явно направленную против нашей дружной работы с пограничниками России. Цель яснее ясного — очернить благородную помощь наших старших братьев. Все это понятно, непонятно другое: откуда утечка? Об операции даже у нас знал очень узкий круг людей.
Заместители помалкивали, и тогда следователь попросил слова:
— Предположение одно — кто-то из постовых. Но, возможно, и кто-либо из спецназовцев.
— Или — или? Постовых — раз-два и обчелся, а если спецназовец какой, тут голову поломать придется, поработать как следует. Вдруг командир, который получил приказ готовить группу захвата? Может, кто ниже? Всю цепочку, по которой шел приказ, с верху донизу придется прощупать. Не менее важно узнать: выбили палачи у Исмаила Исмаиловича признание, прежде чем засунуть его голову в петлю?
— А если он сам это сделал, поняв, что попал в капкан? — спросил один из замов. — Я поручу своим сотрудникам выяснить все о смерти депутата.
— Действуйте, — одобрил шеф, затем сказал как бы подводя итог разговору. — Подготовленные для Москвы сведения, изучив и поправив, если это нужно, перешлем фельдъегерской связью. Я позвоню в Москву сейчас же, чтоб там не опоздали.
… Опоздали. И пришлось крутиться, чтобы вообще не остаться с носом.
Сразу же, как получили сигнал, отправили две группы оперативных сотрудников на квартиры Юрия Трофимовича и Иосифа Сильвестровича. Увы, ни того, ни другого дома не оказалось. Жена Юрия Трофимовича совершенно спокойна. Пожала плечами.
— Скорее всего — на даче он. Поехал встречать кого-то из гостей, вот и повез его на дачу. Не сюда же гостя тащить?
Жена Лодочникова, наоборот, вся на нервах:
— Сегодня он должен был прилететь. Еще утром. Я звонила, рейс прибыл без задержки. Иосиф в списках пассажиров числится. Ума не приложу.
Оперативники наметили дальнейший план действий, сопоставив эти информации. Одна машина устремилась к даче Юрия Трофимовича. Спешила. Жена его может сообщить мужу об их визите и тот успеет скрыться. Потом искать всегда сложнее…
Жена не удосужилась позвонить, поэтому на даче все шло по заранее обговоренному плану. Встретил Лодочникова Юрий Трофимович, как всегда, у трапа, чем весьма того успокоил. Лодочников весь полет сидел в кресле, как неживой, думая лишь о том, чем все закончится. Щелкнут наручники — и Матросская тишина. Он мучительно решал для себя трудную задачу: говорить ли со следователем откровенно, либо все отрицать, тем более что в протоколе досмотра у острова он обозначен как попутчик. Тогда он ликовал, но со временем мысли его приняли совершенно иное направление. Если бы одна, случайная, так сказать, поездка — тогда иное дело, а что помешает следователям выяснить, сколько раз он ездил на злополучную охоту? К тому же стюардессы охотно дадут показания о его грузе. Вот тебе еще одна статья — попытка повести следствие по ложному пути.
Вот самолет, пробежав по посадочной полосе, уже зарулил на стоянку, подали уже трап, и первые пассажиры столпились у выхода, а Лодочников еще не определил линию поведения. Но выходить нужно. Там, внизу, арест будет менее заметным и, значит, менее позорным.
Ступив же на трап, Лодочников увидел Юрия Трофимовича:
«Слава Богу!»
По трапу Лодочников сбегал так, словно кто-то мог его остановить и вернуть обратно в самолет. И тут же прытко устремился к шефу. У того на лице обычное надменное выражение. Но вроде не сердится.
— С приездом, милейший! — И вопрос: — Что-то багажа маловато?
Екнуло было сердце у Лодочникова, но тут же успокоилось. Вопрос естественный, шеф же не знает, что произошло там, у острова.
Все знал Юрий Трофимович. Совершенно все. Но ему хотелось послушать самого Лодочникова и уже после этого определить линию поведения. Когда они сели в машину, спросил еще раз, настойчиво:
— Стало быть, без товара? Вроде бы поездка не должна быть пустой?
Иосиф Сильвестрович, вздохнув, принялся подробно рассказывать, как все произошло. Совершенно неожиданно. Начальника заставы вроде бы начали приручать, он охотно взял несколько взяток — и вдруг такое!.. Закончил Лодочников рассказ успокаивающе:
— Я в протоколе прохожу не как соучастник, а как попутчик. Даже не подписывал протокола.
— Это прекрасно, мой друг. Это прекрасно. И все же предлагаю некоторое время пожить у меня на даче. От греха подальше. Приглядимся. Принюхаемся.
Вроде бы ему только-только пришла в голову эта мысль, а не была заранее обговоренной, заранее предусмотренной до самых мелочей. Лодочников не сразу это понял. Он с удовольствием согласился на предложение шефа, вполне справедливо считая, что осторожность не помешает. И только когда Юрий Трофимович не посигналил условно, почти вплотную подъехав к воротам и остановив машину чуть левее, на густой траве, червячок сомнения шевельнулся в груди. Когда же Юрий Трофимович произнес не совсем понятное: «Все, милейший, приехали», — Лодочникова взяла оторопь, сердце его тоскливо заныло. Правда, он еще не совсем осознал, какая неприятность ждет его, но интуитивно почувствовал опасность по необычному поведению шефа.
— На дачу повременим. Побалую тебя с дороги шашлычком. Он, должно быть, уже поспел.
Вот это да! Получается, Юрий Трофимович все знал и не случайно повез его на дачу. Не вдруг появилась у него идея. Но чего ради затеяна эта игра? Вопрос вопросов. Но он сейчас ничего не мог изменить — некуда ему отсюда бежать. Остается одно: покориться судьбе, изображая бодрость и непонятливость.
— С превеликим удовольствием. Давно мы столь приятно не отдыхали. Действительно, что нам может помешать расслабиться? Исмаил Исмаилович пусть отдувается. Не думаю, чтобы он предал нас.
— Я тоже так считаю.
Оба лукавили. Один, чтобы показаться спокойным, будто не подозревает ничего, другой — чтобы до времени не раскрыть план действий, ему жестко навязанный. Юрий Трофимович уже знал, что Исмаил Исмаилович мертв, видно все же проговорился… Остается лишь ликвидировать еще одно звено в длинной цепи — и тогда следствие, пусть его ведут опытнейшие из опытных, зайдет в тупик. Так ему сказали. Более того, ему же и поручили лично провести акцию по ликвидации, дабы, как было заявлено, самому остаться в живых и вне подозрения.
Когда они подходили к берегу Истры, запах жареной баранины, смешанный с винно-лимонным, донесся до них, на какой-то миг оттеснив все тревожные мысли, все сомнения.
Те же бритоголовые качки, которые в первый раз им с Юрием Трофимовичем прислуживали, встретили докладом:
— Шашлык почти готов. А пока по рюмочке с закуской. Наслаждайтесь.
На сей раз коньяк не французский. Бутылка молдавского, еще по бутылке азербайджанского и армянского. Все три откупорены. Юрий Трофимович советуется:
— С какого начнем? Один другого лучше. Мое мнение — с «Золотого аиста» Он помягче других.
— Принимаю. «Арарат» — во вторую очередь.
— Если хватит сил, то и до «Багратиона» доберемся.
Как и в тот первый раз, вот на этом самом месте, близ омута, в котором, по легенде, водится сом-людоед, Иосиф Лодочников не хмелел. Он только притворялся захмелевшим и начал даже рассуждать о близорукости Исмаила Исмаиловича и его хозяев, но Юрий Трофимович притормозил:
— Очень интересные наблюдения, милейший, но об этом поговорим на лодке. Вот еще по паре рюмок — и поплывем.
Хотя и ждал этого приглашения Лодочников, но прозвучало оно совершенно неожиданно. У него надежда даже появилась, что прогулка на лодке не состоится, но, увы — вот он, решающий миг. Сам, видно, напросился. Распустил язык!..
Плеснуть в лицо шефа армянским и броситься вон в тот лес. Подальше от опасности. Лучше отдать себя в руки оперативников, чем дрожать за свою жизнь.
Мысль дерзкая, но трудно ее реализовать. Послушно осушил рюмку Лодочников, зажевал горячим шашлычком вовсе не ощутив вкуса, и послушно поплелся, демонстративно пошатываясь, будто совсем захмелел, за шефом к лодке.
Обреченность, однако, вновь развязала язык Лодочникова, и он, как только Юрий Трофимович отгреб чуток от омута, заговорил страстно, обвиняя Исмаила Исмаиловича во всех смертных грехах. И заигрывал-то он, награждая офицеров, и подарки им возил зря, возбуждая тем самым подозрение. Он, Лодочников, даже спорил с депутатом, доказывая, что его действия ошибочны, но самодовольный индюк поступал по своему разумению.
— Я предупреждал: с ним играют. Я видел опасность, но он отмахивался и явно лез в ловушку.
— А может, он не имел права не исполнить ему порученное? — вроде бы мимоходом, раздумчиво произнес Юрий Трофимович, но Лодочникова будто ушатом холодной воды окатило. Особенно последовавшим сравнением: — Тебе тоже, милейший, вряд ли приходило в голову отказаться от дружбы с Исмаилом Исмаиловичем? Все мы под одним Богом ходим.
Уравнял он себя со своим помощником, стало быть, все, что он делает, — все подневольно, и зря он, Лодочников, мечет бисер перед шефом — тот не вправе что-либо менять. Ему велено — он исполнит. Если велено избавиться, пойдет тогда среди его помощников опасливый разговор о соме-людоеде: и уже кто-то другой будет ездить в Душанбе — к какому-нибудь новому другу. Найдется другое место для так называемой охоты, будет придуман другой способ маскировки героина. Который, в конце концов, тоже раскроют — так до бесконечности. Если вдуматься — это ужасно! Но ему-то, Лодочникову, что до этого? Он уже обречен…
Обречен ли? А может, приберегут для новых дружеских поездок в Душанбе, а то и в другую какую-либо бывшую республику Союза? Ведь не только из Таджикистана поступает героин, через другие границы тоже просачивается. Еще как просачивается. Особенно там, где они охраняются слабо или вообще не охраняются.
Вновь возбудился Иосиф Сильвестрович, стал превозносить себя, свое предвидение, убеждая шефа взглянуть на него иными глазами, — не как на покорного исполнителя его воли, а как на мыслящего, инициативного сотоварища.
Юрий Трофимович слушал его молча, перестав даже грести. Когда же ему надоела эта трескотня, он погреб обратно — к омуту. Что творилось в его душе, Лодочникову не дано было узнать, ибо шеф держался безупречно. Да, у него тоже дрожали коленки и замирало сердце от страха — он тоже ожидал расправы, когда его пригласили те, кому он сдавал товар, на беседу. Но уехал от них вполне успокоенным. Однако прошло малое время — и страх вновь вернулся к нему и уже не покидал больше. У него даже возникала мысль: а не махнуть ли вместе с Лодочниковым за границу на какое-то время? Денег на счету вполне достаточно, не так уж мало их и у самого Лодочникова; но решительности на такой поступок у него не хватило, вот и подхватили его, безвольного, события, закрутили в водовороте.
Ему все же жаль было Иосифа Лодочникова. Послушный. Исполнительный. Очень уважительный, но главное: он ведь ему родня. От Трофима Юрьевича пошли Лодочниковы. От Трофима Юрьевича забеременела красавица Акулина. Но что делать, своя рубашка ближе к телу.
Лодка едва поднималась встреч течению, хотя и тихому. Не нажимал на весла Юрий Трофимович и не просил помощи у Лодочникова, и все же омут приближался неотвратимо. Вот лодка, словно вырвавшись из цепких рук, пошла шустрей по озерно спокойной воде омута, оставляя зловещий черный след. Носом уткнулась в берег, и Юрий Трофимович предложил добродушно:
— Выходим, милейший.
Иосиф Сильвестрович встал, и тут лодку тряхнуло, словно кто-то рывком качнул ее. Потеряв равновесие, Лодочников плюхнулся в воду, острые зубы сома-людоеда вцепились ему в ногу, и какая-то страшная сила потащила его вниз. Несчастный даже не успел крикнуть.
Юрий Трофимович вздохнул — не то горестно, не то с облегчением — и аккуратно, придерживаясь за борта лодки, чтобы тоже ненароком не вывалиться, выкарабкался на берег. Только почувствовав под ногами твердь, распрямился… Ему тут же поднесли полный фужер коньяку и шампур с шашлыком, источающий сладостный аромат.
Только через несколько минут из омута вылез аквалангист и матерно выругался, проклиная ледяную воду и отчаянное сопротивление жертвы. Качки, оставив на время своего хозяина, поднесли посиневшему от холода аквалангисту бутылку водки. Тот с жадностью припал к горлышку, задрав голову, кадык его забулькал, и тут словно сломалась сухая ветка под неосторожной ногой в лущине на противоположном берегу — Юрий Трофимович, даже не ойкнув, плюхнулся на траву.
Качкам рвануть бы в лес, может, кому-то удалось бы добежать до него, они же кинулись к хозяину.
Три щелчка — и все трое с дырками в голове улеглись возле своего хозяина.
Машина с сотрудниками ФСБ в это время миновала мост. До дачи не так уж и далеко, и они начали обсуждать, как удобней брать депутата и его помощника, если те станут сопротивляться: вызывать спецназ, взяв дачу под круговое наблюдение, или действовать самостоятельно? И тут им навстречу из-за поворота выскочил темно-коричневый внедорожник. Он ехал с разумной скоростью; и вроде бы обычная машина, но у опытных оперативников сразу возникла догадка: не от дачи ли она едет?
— Запоминаем номера. Передний и задний.
На всякий случай, конечно. По привычке. Обычная, присущая им чекистская бдительность. А вышло удачно.
Вот и дача. Высокий плотный забор, а что за ним — пойди разберись. Посигналили. Молчок. Еще серия сигналов, и вновь тишина. Решили стучать в ворота. Калитка приоткрылась, высунулась грозная рожа с грубым вопросом:
— Чего это гвалт подняли!?
— К хозяину мы. Срочно. К Юрию Трофимовичу. Из Думы.
— Эка, из Думы. Что это многовато вас, посланцев… На берегу они. Шашлыком забавляются.
— Спасибо.
Их устраивало, что не придется брать штурмом дачу, теперь все обойдется без лишнего шума, ибо, как они предполагали, там не может быть большой охраны. Но то, что они увидели, их всерьез расстроило.
Перво-наперво — звонок оперативному дежурному, чтобы оповестил все посты дорожно-патрульной службы о темно-коричневом внедорожнике. Пусть задержат всех, кто в машине и строго охраняют до приезда сотрудников ФСБ. Еще нужно оповестить гаишников не только на въезде в Москву, но и на пересечении с «бетонкой» и дальше. Вполне возможно, внедорожник, повстречавшись с незнакомой машиной близко от дачи, понесется на предельной скорости подальше от Москвы.
Первые меры приняты, теперь надо разобраться, что же здесь произошло, и, сделав предварительные выводы, вызвать экспертов и водолаза, чтобы поднять утопленника.
— Один из нас останется ждать экспертов и следователя, остальным спешно выехать на трассу и ждать сигнала о задержании внедорожника.
Из всего случившегося вывод такой: нет худа без добра. Теперь всех «партийцев» можно задерживать по предварительному подозрению в организации заказного убийства. А дальше раскручивать по полной программе. Так даже лучше.
Эксперты полностью восстановили картину убийства самого депутата и его помощника. В зарослях лущины нашли две снайперские винтовки с глушителями и всего четыре патрона — по одному выстрелу на жертву. Высокого класса профессионалы. Они, однако, очень небрежно действовали — оставили немало отпечатков пальцев, даже на гильзах. Отсюда вывод: наемные убийцы еще не имели дела с правоохранительными органами, потому не опасались оставить «пальчики». И еще об одном это говорит: они считали, что трупы не скоро будут обнаружены, что они успеют залечь на дно.
Убийцы не поехали сразу в Москву, а свернули на «бетонку», решив доехать по ней до Горьковской дороги, а уже с нее, более загруженной, въехать в город. Встреча с незнакомой машиной в самом деле подстегнула их, и они из внедорожника выжали все, на что тот способен. Только утихомирили дикий бег перед «бетонкой». Пристроившись между двух фур, проскочили, как им казалось, незамеченными. Но осторожность сыграла с ними злую шутку. Постовые обратили на нее внимание и, как только получили приказ задержать темно-коричневую машину, сообщили: внедорожник миновал пост, свернув налево по «бетонке».
Подняли в воздух вертолет, пустили по «бетонке» от каждого поста патрульную машину и, быстро обнаружив внедорожник, повели его, решив задержать у того поста, где подозреваемые в заказном убийстве попытаются выехать с «бетонки» на трассу. Так и вели машину до самого Горьковского шоссе. Но и на этом перекрестке не стали брать — пропустили дальше, до следующего поста, где подготовили встречу, сосредоточив побольше сил.
Зря такие усилия. Внедорожник послушно подчинился жезлу постового. Когда же пассажирам предложили выйти, даже не проверив документы, не попросив водительские права у того, кто сидел за рулем, они заподозрили неладное, но подумали: в чем их могут обвинить? Машина чистая, не угнанная. Нет в ней ни оружия, ни наркотиков, а ехать они имеют право куда угодно. Послушно пошли за гаишником в помещение поста. Стоило им, однако, переступить порог, как дюжие милиционеры скрутили их и защелкнули на запястьях наручники.
Но даже и это не слишком испугало — никто из них в этот момент не вспомнил о своей небрежности, об оставленных отпечатках пальцев на оружии. И только когда при них, ничего не скрывая, майор милиции доложил о задержании подозреваемых в убийстве депутата, как он выразился, дошло до них, что влипли.
Знай они свою дальнейшую судьбу, радовались бы, что попали в руки милиции. Они — новички. В первый раз выполняли заказ и — по замыслу заказчиков — в последний.
Майора, видимо, похвалили за тихое задержание и дали какое-то распоряжение, судя по его ответу:
— Спасибо. Постарались, это уж точно. Хорошо. Все исполним в точности. И к задержанным: — Придется подождать, пока за вами приедут сотрудники ФСБ.
Один из задержанных даже присвистнул, а водитель заключил обреченно:
— Влипли, братаны…
Ему-то что: он к убийству непричастен. Он — водила. Ему велели рулить, он рулил. Ему сказали свернуть с дороги, он свернул, найдя место за ерником, и ждал пассажиров, как ему и было велено. А вот эти салаги загремят под фанфары. Мять им бока на нарах по десятку лет, а то и дольше. Зависит оттого, как поведут на следствии. Он, сочувствуя братанам, даже посоветовал:
— Не упирайтесь рогами себе во вред.
— Не разговаривать! — прикрикнул майор, но шофер хмыкнул:
— Я же, о вас радея, даю совет.
— Не положено.
— Значит, не буду, чтоб по морде не схлопотать.
Вскоре за ними приехали три машины. Для каждого — своя, персональная. Чтобы еще по дороге к Матросской тишине попытаться узнать имя заказчика. Расчет точный. Водитель, который ехал на своем внедорожнике, придурялся: мол, моя хата с краю, исполнители же заказа назвали одно и то же имя. Оно было в списке, полученном от коллег из Душанбе.
Звонки прямо из машин — и несколько групп спецназовцев поспешно выехали по всем адресам, чтобы одним махом всех задержать, никого из списка не упустив. Пусть гадают, кто кого предал. Они же будут изолированы друг от друга и не сразу узнают, кого и в какое время арестовали. А на допросах их вполне можно «ловить на куклу», уверенно ссылаясь на показания других, тоже арестованных.
Крупнейший за последние годы улов. Более сотни — только в Москве, а в результате допросов удалось дотянуться до подполья в других крупных городах. Особенно там, где население в большинстве своем мусульманское. Важность успеха еще и в решении триединой проблемы: разгромлена в основном подпольная агентура экстремистов, живущих идеями халифата; в значительной степени очищен бизнес от черноты, ибо почти все задержанные были хозяевами ресторанов, игорных домов, прочих злачных мест; нанесен удар по наркобизнесу, доход от которого тоже шел в общаг партии Освобождения Ислама.
Для подведения итогов операции и для выработки плана дальнейших действий, направленных на борьбу с экстремизмом, собралось в ФСБ совещание самого высокого уровня. Руководители операции докладывали об умелых и самоотверженных действиях своих сотрудников, об их ловких ходах, вовсе забыв о первоисточнике, ставшем основой успеха. Когда же доклады о сделанном и предложения о делах предстоящих закончились, председательствующий спросил с недоумением:
— Почему ни слова о пограничниках? От них все пошло. От небольшой группы людей, рисковавших не только карьерой, но и жизнью. Они в первую очередь должны быть по заслугам награждены. Мое решение такое: всем участникам операции по задержанию депутата-наркокурьера присвоить внеочередные звания и представить к награждению орденом «За заслуги перед Отечеством».
…Иные решения приняли на своем совете Истинно Избранные в их штаб-квартире далеко от Москвы. Такой крупной потери никто из главарей партии Освобождения Ислама не мог предвидеть. Им казалось, что тайная организация в России, с центром в Москве, так хорошо устроена и так умно действует, что вполне можно, опираясь на нее, в ближайшие годы перекинуть джихад из Чечни в глубинные регионы России, для начала захватив власть в Поволжье. Там, как они считали, многое уже готово для торжества ислама — и вот неожиданный удар.
Вопроса два: кто виноват и что делать дальше? В первую очередь обвинили во всем Исмаил-бека, но он уже получил свое. Но его вина, что называется, на поверхности, а если глубже изучить проблему, тогда что обнаружится?
Нет, они вовсе не думали о том что все мало-мальски мыслящие люди, даже мусульмане, настроены против экстремистских устремлений, они даже не пытались всерьез осмыслить причины провала, будучи уверены в праве сильного и богатого править миром. Истинно Избранные обсуждали лишь конкретный факт потери большой партии наркотиков и искали виновных. Рассуждали долго, бодря свои мысли крепким зеленым чаем. Постепенно сложилось общее мнение: российские кокаскеры — как кость в горле. Отсюда и план действий: всеми силами влиять на окружение президента Таджикистана, чтобы тот постепенно отказывался от их помощи, вернув национальным силам охрану — для начала наиболее спокойных участков — границы. Первый шаг — пункты пропуска на таджикско-китайской границе. Если это провести в жизнь, заставы почти утратят свое значение. Вот так, шаг за шагом вытеснять русских, а в отряды и на заставы направлять только преданных делу ислама людей.
План не на один год — а на десятилетия рассчитан, но важны не сроки, важен окончательный результат. Возглавить этот участок борьбы за халифат должен самый настойчивый и смелый в руководстве партии. Утвердить кандидатуру решили в самое ближайшее время.
Но влиять на республиканскую власть легче, если российские пограничники станут подвергаться нападениям местных жителей, протестующих против чужеземцев и борющихся за статус приграничных жителей, имеющих родственников в Афганистане. Нападения на заставы нужно совершать регулярно. Что же касается той, что возле острова, ее во что бы то ни стало следует сровнять с землей. Нельзя оставлять без возмездия и тех, кто вместе с кокаскерами обыскивал Исмаилбека. Пусть умрут они страшной смертью. После пыток. Возможно, откроют, кто вдохновлял их на дружбу с кокаскерами.
Ответственного назначили тут же. Определили также, какими силами нападать. Основные подготовит Абдурашидбек. Он тоже виновен в провале, пусть искупит свою вину. Условие одно: или уничтожит заставу, или все его владения перейдут к более предусмотрительному и решительному беку, который не станет под лозунгом борьбы с неверными заниматься похотливыми делишками.
Срок подготовки — шесть месяцев.
Но на этом Истинно Избранные не успокоились. Они считали виновным во всем главу душанбинской партийной группы, его помощников и советников. Они доверили близорукому такое важное дело, прощали ему все неудачи, лишь стращали карой, он же, боясь смерти во имя Аллаха, святой смерти, множил ошибки.
— Какое решение? — обратился к присутствующим глава Истинно Избранных. — Пусть каждый скажет свое слово.
— Смерть!
— Смерть!
— Смерть во имя святого дела.
— Пусть они все умрут, как шакалы!
— Зачем все? Хватит одной жертвы. Остальных переправить к Абдурашидбеку, на маковые плантации. Пусть труд поможет им вернуться на начертанный Аллахом путь.
Главе Истинно Избранных понравилось именно это предложение, и он твердо заявил:
— Так будет. Очистив свои ряды от ленивых и разжиревших, начнем восстанавливать упущенное в России.
Ему можно было, не опасаясь ошибиться, назвать и ряд других стран, ибо в ходе следствия в Москве были выявлены связи с подпольными группами в соседних с Россией государствах, и эта ценная информация тут же дошла до них.
Глава шестнадцатая
В отряд десантировалась довольно внушительная группа из Москвы в сопровождении только второразрядных лиц из управления пограничной группы — обиделись, видите ли, что из управления никого не отметили — ни наградами, ни повышением воинского звания. Запамятовали они, что палец о палец не ударили, чтобы помочь разоблачить депутата. Не препятствовали — это верно, но разве можно считать пригляд со стороны заслугой? Тем не менее — обида серьезная.
Прилетевшие собрались в кабинете начальника отряда и принялись решать, где сподручней вручать награды и погоны с новыми звездочками. Первое предложение такое: вызвать награжденных в отряд и, собрав весь личный состав гарнизона в клубе части, провести торжественное мероприятие. Да, выглядит заманчиво, и в воспитательном отношении тоже, но вряд ли выполнимо. Заставу не оголишь. Нашли компромисс: в клубе части, с выносом знамени, объявить о награждении и присвоении внеочередных званий, зачитав полностью список. Непременно подчеркнуть, как важна сделанная ими опасная работа. После вручить ордена и полковничьи погоны Прохору Авксентьевичу Костюкову и Игорю Александровичу Кириллову. Всем остальным, в том числе и Латыпу Дадабаеву, вручить ордена и погоны непосредственно на Приостровной.
После этих торжеств — в село. Всем, кто согласился стать понятыми, вручить ценные подарки и довольно приличные денежные вознаграждения. Поздравить аксакалов должны полковник Костюков и кто-либо из представителей Москвы. Для большей солидности.
Сразу же после того, как окончательно выработали порядок проведения торжеств, полковник Костюков позвонил Михаилу Богусловскому, чтобы готовился тот к встрече высоких гостей. Посоветовал:
— Угости лапшой из фазанов. На второе — жареные фазаны. Пусть у них останутся хорошие впечатления.
— Я бы им устроил обед на уровне положенного пайка. Может, почесали бы затылки.
— В личной беседе выскажем пожелания, но надо быть гостеприимными. Да и не от них зависит снабжение продовольствием.
— Знаю. Но на каком-то уровне замолвили бы слово. А так получится, будто застава изобильно живет — фазанов кушает.
— Не бухти…
— Не беспокойтесь, Прохор Авксентьевич, встречу обеспечу. Гульсару с Зухрой подключу.
— Вот и ладно.
Вопрос с обедом решился просто. Обычно Михаил Алдошин, взяв с собой напарника, уходил на пару часиков на охоту в тугаи, теперь же поступило предложение от Сахидова:
— Я ловко охотился еще в детстве. Вместе с Михаилом мы быстро обернемся.
— А мы все приготовим, гости пальчики оближут, — заверила Гульсара. Зухра согласно кивнула.
Гульсара, еще предложила офицерам прикрепить на камуфляжки все награды, даже знаки «Отличный пограничник», но Михаил Богусловский возразил:
— Иконостас на груди? Нескромно.
Его поддержали Сахидов с Алдошиным. Женщины пытались переубедить мужчин, но те твердо стояли на своем, тогда Гульсара махнула рукой.
— Ладно, мы только погладим камуфляжки, в которых вам встречать гостей.
На этом вроде бы сошлись, но, когда из отряда позвонили, что вертолет поднялся в воздух, Богусловский, Сахидов и Алдошин пришли переодеться, то увидели на тужурках все награды.
— Молодцы, любимые наши жены. На своем стоите. А мы по вашей милости выпялимся — вот, глядите, какие мы орлы…
— Не ворчи, Миша. Не для начальства ордена, медали и знаки отличия, хотя и оно пусть полюбуется, а для наших бойцов. Пусть увидят ваши награды. Не зря погоны носите. А то вы все скромничаете…
Еще одна проблема для командования заставы: строить личный состав для встречи или не ломать распорядок дня? Тут вполне могло возникнуть разномыслие, но оказалось, что все трое против чрезмерной старательности. Только после обеда либо общее построение, либо сбор в комнате отдыха, как теперь начали именовать бывшую ленинскую. Встречать же надо только офицерам, и не во дворе заставы, а на плацу. Если гости пожелают, показать им пост наблюдения и огневую точку.
Переодевшись в выглаженные камуфляжки со всеми наградами (у Богусловского их больше, чем у Сахидова и Алдошина вместе), поспешили на плато. Во внедорожнике и на «козлике». И то верно: лучше подождать, чем опоздать.
Не очень долго ждали. Прерывистый гул услышали почти сразу, а вскоре вертолет уже делал круг, заходя на посадку. Вот мотор заглушен, лопасти обвисли безвольно, словно ветки арчи, обезвоженные засухой, и тогда только московские гости начали чинно спускаться по ступеням на каменную твердь.
Лейтенант Богусловский — с докладом: признаков нарушения границы не обнаружено, происшествий нет, застава спит, согласно распорядку дня.
— Ради такого события можно было бы прервать сон, — сердито выговорил один из гостей, но руководитель группы с явным осуждением попенял ему:
— Нарушать ритм заставской жизни не станем. Застава — не пехотная рота.
Понимал, стало быть, руководитель группы особенности пограничной службы, что бывает нечасто. Мало у кого из высших чинов есть понимание специфики службы по охране и обороне границы.
— Веди нас, товарищ старший лейтенант, в свою обитель.
Оговорился? Похоже, нет. Что, внеочередное звание? Почему бы нет? Вон и Прохор Авксентьевич в полковничьих погонах. Но почему он ничего не сказал по телефону, даже не намекнул, мол, встречай и готовься принимать награду. А тут, видно, не только награда. Впрочем, это даже к лучшему. Орден — всего только честь, не более, а звание — оно весомей. Даже в плане финансовом. К ордену же — никакого приклада, как велось испокон веков.
— Ну что, товарищ старший лейтенант, веди.
— Я предлагаю познакомиться со службой поста наблюдения. Отсюда мы вели наблюдение за депутатом-контрабандистом.
— Поглядим. Выслушаем просьбы.
Полковник ФСБ — опытный кадровик. Знает наперед, о чем может пойти речь на отдаленном участке границы. Прежде, когда пограничные войска входили в состав КГБ, он, тогда еще майор, бывал несколько раз в отрядах и даже на заставах; вот и теперь, когда пограничники вернулись в родное ведомство, он уже второй раз на границе и убедился уже, что за многие годы серьезных изменений почти не произошло. Не на современном уровне оснащение.
— Ого! Прибор ночного видения. Это же прекрасно.
— К сожалению, их единицы, — вздохнув, проговорил полковник Костюков. — На каждую бы заставу.
— Бесспорно, прибор этот хорош, но он не оперативен, — заговорил Михаил Богусловский. — Все, что наблюдатель видит, он докладывает дежурному по заставе, а дальше? Если замечена подготовка к переправе или сама переправа, как оперативно переместить ближайшие наряды в нужное место? У контрабандистов, тем более у боевиков, — очень надежная связь. Похоже, спутниковая, а мы вроде бы застыли в семидесятых годах прошлого столетия.
— Вполне согласен. Перестройка нанесла удар по плановому усовершенствованию всей системы обороны. Не только пограничные войска отстают в оснащении. Но, похоже, положение начало выправляться.
Хотелось Михаилу Богусловскому бросить резкое: «Пока на словах!» — но воздержался. Нетактично перебивать гостя, тем более кадровика. Гость же уверенно продолжал:
— Вот именно — выправляется. Я запишу все ваши просьбы и предложения как на заставе, так и в отряде. По возвращении доложу руководству ФСБ. Возможно, даже на коллегии. Но всему свое время. Сейчас давайте определим порядок нашей работы. Главное: когда мы сможем вручить ордена и объявить приказ о присвоении внеочередных званий? Нам желательно, чтобы в присутствии всего личного состава. — И только тут решил показать, что он заметил ордена и медали на камуфляжках молодых офицеров и прапорщика:
— Геройские вы ратники. Привыкли получать награды и все же надеюсь: сегодня будет торжественная обстановка.
— В шестнадцать ноль-ноль. Либо на плацу, либо в комнате отдыха. На ваше усмотрение. Мы, офицеры заставы, считаем: в помещении уютней. Вроде как по-семейному.
— Согласен. Но чем займемся до шестнадцати ноль-ноль?
— Поблагодарим аксакалов, — предложил полковник Костюков.
— Но не всем же в село ехать. Нас двоих достаточно.
— Остальные могут пока ознакомиться с системой обороны заставы, а то и на охоту сходить в тугаи.
— Систему осмотрим после возвращения из села. Мне тоже интересно. А вот на охоту — дельное предложение. Фазанчика привезти в Москву — какое событие! Жаль, мне не удастся.
— Прапорщика Алдошина добыча — для вас лично.
— Спасибо заранее. Поехали.
— Садясь в заставский «козлик», кадровик покосился на внедорожник. Костюков, перехватив взгляд гостя, пояснил:
— Для села заставская машина привычнее. Как аксакалы воспримут иномарку, трудно сказать. Щепетильны. Честь для них превыше всего. А на какие шиши куплена офицером такая дорогая машина? Им же не объяснишь, что мы не могли отказаться от подарка, не вызвав подозрения. Они могут и не признать такие действия достойными честного человека. Еще вот о чем я подумал: нужно обязательно взять с собой начальника заставы. Аксакалы могут не понять, отчего обошли его вниманием. Охоту организует Алдошин. А на заставе пока покомандует теперь уже капитан Сахидов.
— Не возражаю. Садись, старший лейтенант.
В селе гостей ждали. Додо Сахидович догадался позвонить главе администрации и сообщить о выехавшей к ним машине с московским гостем. Тот поднял всех на ноги, слух о большом госте разнесся от дома к дому стремительно, и главная площадь села быстро заполнилась людьми. Все старались занять место поближе к столу, который уже вынесли и накрыли красной скатертью. Только аксакалы вели себя степенно. Им, старейшинам, не к лицу торопливость. Но и они почти все успели на площадь к приезду гостей и заняли оставленные им почетные места.
Площадь захлопала в ладоши, едва машина приблизилась. Вначале не очень дружно, но постепенно аплодисменты набрали силу и долго не смолкали. Пока московский гость не поднял руку.
Дождавшись, когда площадь немного успокоится, он с поясным поклоном поприветствовал сельчан на их родном языке, что вызвало бурю восторга. Его предупреждали, что в селе почти все знают русский, но он специально выучил таджикское приветствие во время полета из отряда до заставы и теперь очень гордился своей предусмотрительностью.
Дальше он уже говорил по-русски, видя, что его слушают очень внимательно и вполне понимают. А речь его была целенаправленной. Разоблачен депутат-наркокурьер с помощью сельчан — вроде бы частный случай, но за ним видится весьма значимое. Значит, не хотят мириться честные памирцы с тем, что их втягивают в кровопролитную междоусобицу, не принимают они идеи о мировом господстве халифата. На Памире, где убийство человека, как и в княжеской России, считалось грехом поистине смертным, ныне нередко совершаются такие преступления. И очень важно, что все мирные и честные труженики не поддаются на призы и посулы экстремистов, а противостоят им, да еще с помощью российских пограничников. Теперь до полной победы над бандитами, именующими себя воинами Аллаха, необходима именно такая взаимовыручка, какую показали сельчане и пограничники.
Переждав новый всплеск аплодисментов, кадровик вновь продолжил речь, теперь уже торжественно:
— Коллегия Федеральной службы безопасности России приняла решение отметить тех, кто проявил особое усердие и мужество при проведении операции вроде бы местного значения, но которая в результате привела к разоблачению тайного заговора не только в Душанбе, но и в Москве.
В это время водитель и Михаил Богусловский ставили на стол коробки с приемниками, а кадровик, придав голосу еще большую торжественность, начал читать решение коллегии, называя имена тех, кто удостоен наград.
Первый аксакал, приложив к сердцу руку, поблагодарил московского гостя, внуки его унесли приемник, сам же он, бережно приняв Почетную грамоту, пухлый конверт с деньгами положил на стол:
— На нужды школы.
Ни один аксакал не взял себе конверт, все они передали деньги на ремонт школы и на приобретение нужного ей инвентаря и учебных пособий. Отличился только глава сельской администрации. Подняв над головой врученный ему конверт с деньгами, объявил:
— На ремонт общежития, где проживают учителя и медицинская сестра.
Площадь захлопала еще дружней.
Естественно, гостей не отпустили без чаепития, и на нем улема шепнул Костюкову, что хочет с ним встретиться:
— У вас сейчас гости, поэтому приезжайте, Прохор-ага, через неделю. Слово не спешное, но очень важное.
— Хорошо. Буду в пятницу.
Забегая вперед, можно раскрыть содержание разговора улемы с Костюковым. Тот поведал Прохору Авксентьевичу все, что знал о решении совета Истинно Избранных, добавив, что оно уже реализуется. Попал в аварию глава партийной группы исламистов в Душанбе, а его подручные исчезли бесследно, скорее всего, из них станут готовить воинов Аллаха. Но особый упор улема сделал на планах, касающихся заставы и дискриминации русских пограничников вообще.
— Начнется более сильное давление на руководство моей республики, чтобы оно отказалось от вашей братской помощи.
— Очень ценные сведения, уважаемый. Великое спасибо. Но можно вопрос? Когда планируется нападение на заставу? И еще: нападут ли на село?
— Наверное, полгода пройдет. Если я узнаю время, вы, Прохор-ага, или застава будете извещены и успеете приготовиться к отпору. Не как в прошлый раз.
— Такого, как в прошлый раз, не будет. Клянусь. Но вы, уважаемый, не сказали, останется ли в стороне село?
— На село тоже нападут. Никого не тронут. Только уведут с собой тех, кто ездил с вами, Прохор-ага, к острову. Всех, кто подписал протокол.
— Но этого допустить нельзя!
— Мы уже создали отряд самообороны. Собрали все ружья и охотничьи карабины.
— Но этого мало. Пусть глава управы приготовит тайник для хранения оружия и боеприпасов. Недели через две мы доставим необходимое количество автоматов, пулеметов и патронов к ним. Но и этого мало. Латып Дадабаев встретится с главой отряда самообороны, договорится с ним о связи и о помощи. Плохо только то, что нельзя заранее в селе разместить наших бойцов. Если об этом узнают бандиты, вся подготовка потеряет смысл.
— Да, лучше — когда начнется перестрелка. Думаю, придут они по сухому руслу Чордарьи, как приходили за Гульсарой. Там мы расположим основные силы отряда самообороны. За помощь заранее благодарю вас от всех наших сельчан.
Однако встреча эта состоится ровно через неделю, сразу после пятничного намаза. Пока же кадровик, Костюков и Богусловский, тепло попрощавшись с хозяевами, вернулись на заставу. Им нужно было спешить, чтобы успеть до торжества осмотреть круговую систему обороны заставы.
Кадровик сразу понял, чего ради показная и тайная системы, и восхитился:
— Крепкая у вас, Прохор Авксентьевич, хватка. Разумность видна во всем. Я доложу по команде. Непременно.
— Имейте только в виду, что один в поле не воин. Крепкие у меня помощники, деятельные и инициативные, полковник Кириллов, Дадабаев, Богусловский и даже недавно прибывший с кучей взысканий Сахидов. Он уже предложил нам новые подходы к организации службы нарядов в тугаях. Если будет желание, побеседуйте с ним. Нельзя держать в загоне таких офицеров.
— Побеседую. Пока же обещаю одно: всячески поддерживать ваши кадровые предложения. Если встретите непонимание, то обращайтесь ко мне. Напрямую.
Вдохновляющее обещание. Теперь можно смело решать судьбы офицеров — по их делам, по их заслугам. И образуется в отряде мощный коллектив единомышленников. Умелых и ответственных, а это очень важно.
О себе полковник Костюков даже не подумал, оценивая столь высокое доверие кадровика.
Вернулись из тугаев охотники. Все с добычей. У Алдошина, естественно, больше всех. Как и было обещано, он вручил фазанов руководителю группы. Но тот запротестовал:
— Нет-нет, самое большое мне — штук пять. Остальное — в заставский котел. Суп с лапшой.
Спорить никто не стал, сочли неуместным, а вот на лапшу гостей самое время пригласить. Это право Михаила Богусловского как начальника заставы.
— В столовой моя жена и жена Додо Сахидовича накрыли стол. Прошу гостей обедать. Времени у нас — более часа.
Кто же откажется? Особенно те, кто протряс животы свои в тугаях. А Гульсара с Зухрой расстарались, приготовили все так вкусно, что и в самом деле пальчики оближешь.
Похвалам кулинарному мастерству юных жен не было конца. Гульсара принимала их как должное, а Зухра алела миловидным личиком, но не терялась, зорко следя, чтобы тарелки гостей не оставались пустыми.
— Ну а теперь самое главное, — объявил руководитель группы. — Награды и звания. Прошу и вас, боевые подруги героев, разделить радость торжественного момента со своими мужьями и со всем личным составом.
Женщины, если говорить языком протокола, предложение приняли с благодарностью.
Личный состав заставы не знал, ради чего вместо плановых занятий их собрали в комнате отдыха, велев прикрепить к камуфляжкам все знаки отличия. Слух, конечно, прошел, будто станут награждать офицеров за разоблачение депутата-наркокурьера, но слух есть слух. А вдруг что-то иное?
Кадровик пропустил вперед Гульсару с Зухрой и лишь после этого сам переступил порог. Солдаты поначалу растерялись, вставать или нет, но потом, спохватившись, вскочили — и так получилось, словно они приветствовали жен офицеров, но на это никто не обратил внимания. Стояли, пока столичный гость не произнес:
— Садитесь, товарищи бойцы. И давайте торжественное наше собрание проведем по-дружески, по-семейному… — Переждал, пока все сели, затем продолжил: — Мне поручено извиниться перед вами, рядовые герои, исполнителями задуманной операции по задержанию депутата-наркокурьера, но не знавшими ничего об этой операции. Так было необходимо. Чекисты придерживаются известного правила: знают двое — знают многие, знают все. А речь шла о депутате дружественной республики, но все же — суверенной. И, случись осечка, не миновать громкого международного скандала. Секретность операции обеспечила успех. Не только пресечен крупный канал транзита героина в Россию, но и разоблачена большая подпольная подрывная группа активных проводников идеи всемирного халифата. Сейчас это уже не секрет. Об этом успехе рассказывалось и по первому каналу Российского телевидения. Начало столь важного успеха положено здесь — офицерами вашей заставы, в первую очередь Латыпом Дадабаевичем, которого горячо поддержал начальник вашего отряда. Смело пошли на риск Михаил Иванович Богусловский, прапорщик Михаил Алдошин и совсем недавно прибывший на вашу заставу Додо Сахидович Сахидов…
И вдруг, совершенно неожиданно для кадровика, его речь прервали аплодисменты. Дружные.
«Истинная семья», — заключил кадровик и тоже захлопал.
Несколько минут пограничники не переставали хлопать в ладоши с азартом, и казалось, аплодисментам не будет конца. Тогда кадровик, подняв руку, попросил:
— Поберегите ладошки. Много раз еще придется хлопать.
Веселость озарила лица солдат и сержантов.
Кадровик раскрыл «дипломат» и выложил на стол прозрачные коробочки с орденами. На каждой из них — фамилия. Затем он, с подчеркнутой аккуратностью, разложил «корочки», а отдельной стопкой — погоны.
— Готовьте ладошки, — обратился он к личному составу, — ваш начальник заставы лейтенант Михаил Иванович Богусловский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» и ему присвоено воинское звание старшего лейтенанта.
Под радостные аплодисменты кадровик прикрепил к куртке Михаила Богусловского орден, так же самолично прицепил новые погоны Богусловскому, затем поднял руку, прося тишины:
— Старший лейтенант Сахидов Додо Сахидович, заместитель начальника заставы, удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством», ему присвоено звание капитана.
Громче прежнего захлопали солдаты. Зауважали они Сахидова за его неутомимость и трудолюбие, хотя поначалу подтрунивали над ним в курилке.
Столь же бурно приветствовали высокого гостя из Москвы, объявившего о награждении старшины заставы Михаила Алдошина орденом «За заслуги перед Отечеством» и о присвоении ему звания старшего прапорщика. Когда же кадровик сообщил, что их бывший начальник заставы Латып Дадабаевич Дадабаев уже капитан и тоже орденоносец, кто-то даже крикнул «ура». Солдаты не забыли, особенно те, кто был обязан ему жизнью, великий его подвиг.
На прощание кадровик, как и водится, для острастки задачи пожелал заставе не почивать на лаврах.
— Награды, внеочередные звания — не повод для зазнайства, напротив, они требуют большей ответственности, требуют нести службу, настойчивей совершенствовать боевое мастерство.
Какое зазнайство? Через неделю на заставу снова приехал полковник Костюков. Сразу же после встречи с улемой. То, что предполагалось (возможная месть), стало реальным фактом, теперь уже не было надежды на то, что «авось пронесет». Предстояло серьезно готовиться к нападению, а оно, похоже, будет еще более наглым и мощным.
Все это понимали. Возникло только одно сомнение: стоит ли начальнику отряда сообщать всему личному составу о полученных сведениях? Мнения разделились. Богусловский с Алдошиным считали, что тревожное известие еще более сплотит личный состав, заставит работать над повышением боевого мастерства. Полковник Костюков всё же сомневался, капитан же Сахидов помалкивал, пока Прохор Авксентьевич не спросил его:
— Ваше слово, Додо Сахидович?
— Заманчиво, конечно, подхлестнуть энергию личного состава, но впереди целых полгода. Перегорят солдаты. Нужно действовать, как в спорте: пик высшей готовности к ответственным стартам. Может, и нам с таким расчетом поступать?
— Очень разумно, — похвалил Сахидова полковник Костюков. — Я тоже об этом думал. Давайте прислушаемся к совету Додо Сахидовича. С улемой мы условились встречаться дважды в месяц, и каждый раз я буду вас информировать о результатах тех встреч. Но мы сами, для подстраховки, примем свои меры: месяца через четыре начнем периодический облет гор. Особое внимание обратим на тот маршрут, по которому увозили Гульсару. Уверен, без Абдурашидбека не обойдется. Я еще на Алае, когда мы выпроваживали из крепости бандитов, предвидел, что придется с ними встретиться. Теперь уверен: так и будет. По словам улемы, Абдурашидбек имеет базу для подготовки воинов Аллаха. Крупней той, которая была уничтожена после нападения на вашу заставу.
Потянулись колготные заставские сутки, прерываемые раз в неделю то ночными командами «К бою», то дневными, и всякий раз возникали какие-то новые вопросы, которые нужно было решать в срочном порядке. Их в основном выявляли солдаты из старичков. Для чего, например, таскать по тревоге пулеметы? Не лучше ли устроить для них закрытые пирамиды на огневых точках? В них сухо, ржа не тронет металл, но можно еще и добротно смазать. Можно хранить там и ленты. И вообще, следует иметь на огневых точках солидный запас патронов и гранат. Можно там держать и подствольники.
Естественно, предложение было принято. Оборудование огневых точек — под ответственность командиров отделений.
Второе, более важное, о чем офицеры и раньше думали, но решили повременить с исполнением: действия тех, кто в то время, когда застава изготовится к бою, находится в наряде.
Капитан Сахидов взял на себя решение этой проблемы. И не только сам один корпел над схемой оповещения нарядов и определял их дальнейшие действия, но раза три провел совещания со старшими пограннарядов и сержантами. Сообщил им, что за крупные аресты в Душанбе и Москве, за перекрытый наркоканал мстить будут непременно. Сторонники халифата не оставят заставу в покое.
Для солдат, правда, это не стало откровением — они давно об этом догадывались и в курилке довольно часто заводили разговоры на эту тему. Потому и советовали офицерам то, что на их взгляд, те упустили.
И в эти напряженные, трудные дни произошло радостное событие: Гульсара призналась Михаилу, что носит под сердцем сына. Именно сын — в этом она была совершенно уверена. Михаил обрадовался еще и потому, что теперь появился повод отправить Гульсару в Москву. Само собой, полковник Костюков и остальные заставские офицеры предполагали при появлении реальной опасности увезти жен в отряд, но у Михаила Богусловского было сомнение: не откажется ли Гульсара? Теперь точно не откажется…
Гульсара знала, к чему готовится застава, но у нее и в мыслях не было оставлять любимого в час опасности. Она даже колебалась, говорить ли мужу о своей беременности, чтобы он не вознамерился отправить ее в отряд. О Москве она вовсе не помышляла. Когда же радостный муж объявил восторженно, что месяца через три-четыре она полетит в Москву, Гульсара твердо возразила:
— С заставы я никуда не уеду. Не оставлю тебя одного!
— Но ты помни своем положении. Подумай о нашем сыне.
— Думала. И пришла к выводу: не переживу я, если с тобой что-либо случится, а меня не будет рядом, чтобы помочь. Это решение, дорогой мой Миша, окончательное и обжалованию не подлежит. Я даже Прохора Авксентьевича не послушаюсь, если ты к нему обратишься за содействием. Для меня пример — покойная наша бабушка Анна Павлантьевна и ее подруга Лариса Карловна. Они прошли свой жизненный путь рядом с мужьями, деля горе и радость, не уклоняясь от опасности. Я тоже не отступлю. Вы, мужчины, сами называете нас боевыми подругами, пограничниками, но, выходит, — пустые ваши слова, которые произносите за праздничным столом.
Осталась после того разговора у Михаила Богусловского маленькая надежда повлиять на Гульсару через Зухру, и он попросил Сахидова поговорить со своей женой. Увы, и здесь провал. Зухра, прежде послушная каждому слову любимого, каждому его желанию, вдруг тоже проявила завидную твердость. Только слова произносила иные, не столь жесткие:
— Не гони меня, Додо, от себя. Неужели я тебе надоела?
Что на это ответишь? Он не хотел ее обидеть настойчивостью своей. Нет, это выше его сил. Не стесняясь, признался Михаилу Богусловскому, что не станет настаивать на отъезде жены в отряд.
Думали-гадали, что делать дальше, и хотя не сразу, но нашли решение. Дело в том, что офицерский дом был выключен из системы обороны. Почему? Никто толком не задумывался над этим. Из канцелярии есть спуск в подземные ходы сообщения, и достаточно. Только отказ женщин покинуть заставу в час опасности заставил задуматься над промахом инженеров. Да и сами просмотрели. Разве обязательно все офицеры в момент нападения будут в канцелярии? А перебегая двор, чтобы нырнуть под землю, можно угодить под пулю снайпера.
— Позвоним Прохору Авксентьевичу, попросим прислать хотя бы отделение саперов. Если откажет, сделаем ход сообщения из нашего дома своими силами, — предложил Михаил Иванович, но Додо Сахидович, поддержав начальника, спросил:
— А где пережидать бой женщинам? Не на огневых же точках? Не на командном же пункте? Зухра, признаюсь тебе, тоже беременна. Нишу им придется отрывать и хотя бы кресла туда поставить, из депутатской мебели.
Прохор Авксентьевич на следующий же день прислал два отделения из инженерно-саперной роты. Они не только отрыли ходы сообщения и нишу для женщин, но соорудили целую комнату квадратов на шесть с лишним, обили ее тесом, устроили топчаны — стели на них мягкие матрасы и отдыхай с комфортом. А Сахидов к тому же не отказался от мысли поставить туда кресла не все же время лежать.
Полковник Костюков прислал несколько мощных батарей, проводку и даже пару лампочек. Вдруг одна перегорит?
Надо было видеть, как целовали своих мужей Гульсара и Зухра, довольные такой о них заботой, но меж собой уговорились, что не станут рассиживаться в креслах, если бой все же случится, а возьмут на себя обязанности сестер милосердия. Их комната станет перевязочным пунктом. Ради этого Гульсара даже позвонила Костюкову:
— Прохор Авксентьевич, могу ли я попросить вас купить в городской аптеке как можно больше бинтов, пластыря, йода и перекиси водорода?
— Можешь, Гульсара. Но зачем аптека? Санчасть выделит.
— Нет, Прохор Авксентьевич, мы с Зухрой хотим иметь свое.
— Ладно, уважу.
Он сразу понял намерения заставских женщин и всей душой поддержал.
А время летело. Мелькали хлопотные дни, шли недели одна за другой — повседневные заботы в какой-то мере отвлекали от мыслей о неизбежном нападении на заставу, к этой угрозе, можно сказать, привыкли, с ней смирились и уже не так тревожились, как поначалу, когда впервые услышали об этом от улемы. Прав был Додо Сахидович, когда посоветовал не сообщать прежде времени о планах экстремистов личному составу. И офицеры, похоже, перегорели. Даже проверки боеготовности заставы, которые пару раз в месяц устраивались по приказу начальника отряда то службистами, то боевиками, то тыловиками, не меняли настроения офицеров заставы. К опасности, как и к прочим вещам, привыкают люди, и ничего тут не изменишь. Такова человеческая натура…
Оживились Богусловский, Сахидов и Алдошин, когда приехал на заставу начальник отряда после очередной встречи с улемой. Полковник сообщил:
— В этом месяце нападение. Точный день неизвестен, но мы готовы должны быть постоянно. С завтрашнего дня — ежедневные полеты вертолетов над горами. Завтра же поступят в ваше распоряжение два отделения из комендатуры. Под командой офицера штаба. На службу их не высылать ни в коем случае. И чтобы как можно меньше слонялись по двору. Их место в ходе боя — огневая точка на плато. Как только засечем движение в горах, сосредоточьте их там. Предельно скрытно. Думаю, боевики не предвидят серьезного сопротивления со стороны НП. Пока, по их расчетам, наши бойцы станут подниматься по лестнице — да и много ли их поднимется под снайперским огнем? — пост наблюдения будет захвачен. Застава — как на ладони. Успех, они уверены, как и в прошлый раз, обеспечен.
Полковник Костюков говорил уверенно, будто сам побывал на совете главарей бандформирования, которое готовится мстить заставе, и он не ошибался, как выяснится в ходе боя. Почти так и станут развиваться события на плато. С очень маленьким уточнением: блиндаж встретит нападающих кинжальным огнем, особенно убийственным из верхней надстройки, которую не могли разрушить подствольные мины, ибо инженеры расчетливо соорудили там крепкие бетонные стены.
Второе вероятное направление удара — со стороны Пянджа. Тут у бандитов два пути. Через остров, заранее на нем сосредоточившись. Или напрямую — переправившись через Пяндж под покровом ночи, чтобы ударить внезапно перед рассветом. Исходя из этого, полковник Костюков предложил такую схему: нарядам ни в коем случае в бой не вступать, а спешно, но очень скрытно прибыть на заставу и занять свои места согласно расчету в огневых точках. А после нападения сразу же высадить десант на береговую линию, дабы встретить воинов Аллаха, когда они смажут пятки. Второй десант — непосредственно в тыл атакующим.
— Дадабаев с командирами десантно-штурмовых групп завтра-послезавтра проведет рекогносцировку местности. Он же встретится с начальником сельского отряда самообороны и обговорит вопросы взаимодействия и помощи.
— У меня есть добавление. Можно? — спросил Сахидов.
— Нужно.
— Понял. Предлагаю укрыть в тугаях до полусотни бойцов из десантно-штурмового отряда. Метрах в трехстах за островом. Я, если будет доверено, возьму этот отряд на себя. Мы шаг в шаг пойдем по пятам душманов. Они — огонь, мы им — в спину. А десант с вертолетов — тут же. При нашей огневой поддержке.
— Но тогда исключена огневая поддержка с воздуха.
— Ну и что? Душманы и без того окажутся в огневых клещах.
— Очень заманчивый ход, но и очень рискованный.
— В чем риск?
— Если душманы вас обнаружат преждевременно?
— Примем бой. Но я надеюсь — такого не случится.
— Тогда, может быть, те наряды, которые ближе к вам, не на заставу снимутся? А к вам?
— Ни в коем случае. Бандиты, если даже засекут какой наряд, стрелять по нему не будут. Пусть убегают. Все равно застава, даже им предупрежденная, по их мнению, ничего серьезного предпринять не успеет. А если наряды не на заставу станут уходить, а от нее, будет над чем задуматься. А духи — не дураки. Они очень опытные вояки.
— Да, не поспоришь.
Довольно долго обсуждали самые неожиданные варианты боя, готовясь к любым случайностям. За этим разговором застали их комендант и начальник штаба комендатуры, которые прежде не были допущены к тайной операции, — не оттого, что им не доверяли, а из принципа: меньше людей — меньше сутолоки, больше секретности. Комендант предложил всю группу, которая будет выделена Сахидову, разместить на соседней слева заставе. Оттуда можно более скрытно выдвинуться на исходный рубеж.
— Толково, — согласился Костюков, мысленно упрекнув себя за то, что такая мысль не пришла в голову ему самому. — Но что капитан Сахидов скажет?
— Верное слово. Только мне нужно будет пару суток, чтобы наметить маршрут выдвижения на исходную позицию. Если позволите, я сегодня же выеду к соседу. А как прибудет десантно-штурмовая группа, поочередно проведу командиров отделений по маршруту, если духи дадут на это время, а начальник заставы меня отпустит так надолго.
— Не только отпущу, взяв с Алдошиным на себя все твои обязанности, — пообещал старший лейтенант Богусловский, — но и всячески поддержу.
За пару дней застава увеличилась вдвое. Койки не пустовали, когда наряды уходили в дозоры и секреты, но и это не спасало положение — все комнаты, даже комната отдыха, были превращены в спальни. Хорошо, что часть людей, прибывших на усиление, расположилась на соседней заставе.
Офицерская приезжая тоже не пустовала. Вернее, была битком набита, так что полковника Костюкова взяли к себе Богусловские, Дадабаева — Сахидовы, комендатурское начальство — Алдошин. Он холостяк, у него места свободного достаточно.
А через неделю на заставу прибыл начальник санчасти с медсестрой прапорщиком Мариной Угровой. Ее сразу же увела к себе Зухра, а полковник Костюков упрекнул врача:
— Что, у тебя перевелись мужчины?
— Не перевелись. Но эта девочка своего добивается так упрямо, что не одолеешь ее. Вы сами попробуйте отправить ее обратно.
Прохор Авксентьевич улыбнулся, затем обреченно махнул рукой.
— То-то… Она слушается только своего Латыпа Дадабаевича, а он отмолчался, когда я попросил его повлиять на жену. Вот и весь сказ.
Марина же, поворковав с Гульсарой и Зухрой, перешла к делу:
— Слух до меня дошел такой: вы определили себя в сестры милосердия и даже закупили кое-что для обработки ран и перевязок. Давайте объединимся?
— А как же иначе?
— Тогда — под землю. В ваши владения.
И пошла работа. Кресла — вон. Старшего прапорщика попросили срочно сколотить стол (операционный, как назвала его Марина) и принести хотя бы пару дюжин новых простыней. Женщины их прогладили и обили ими стены, застелили «операционный» стол и лежанки. Зухра предложила закрепить их гвоздиками, но Марина не согласилась:
— Их менять придется. Окровинятся.
Но если у Марины с Гульсарой и Зухрой на все это ушло не так уж и много времени, то капитану Дадабаеву первые дни дыхнуть было некогда. С командирами взводов и отделений, которым предстояло десантироваться, он буквально облазил все тугаи, определяя им маршруты движения и приучая их передвигаться по этим маршрутам днем и ночью. Чтобы, как у себя дома, ориентировались. Он сетовал на то, что за малое время своего командования десантно-штурмовой группой не успел приступить к изучению всех участков застав отряда, и в то же время был доволен: начало положено именно на Приостровной, участок которой он хорошо знает. Еще его успокаивало, что есть пока время для подготовки.
Прошла еще одна неделя. Вертолеты, патрулирующие горы, докладывали одно и то же: никаких передвижений не замечено. Тропы пустынны. Застава уже чувствовала усталость от многолюдья. Застава — особый организм, с определенным ритмом. Привычным. Отработанным. А тут — такое. Богусловский уже мысленно подгонял воинов Аллаха: «Ну что они кота за хвост тянут?!»
Но все имеет конец (и начало). Долго ожидаемый доклад патрульного вертолета прозвучал тревожно:
— Вооруженные группы с вьючными ишаками появились на трех тропах. Двигаются к сухому руслу Чордарьи.
Возвратился на заставу полковник Костюков, уезжавший в штаб отряда, а Дадабаев, поцеловав свою Марину, уехал в отряд. Он решил лично возглавить десант. Сахидов — к соседу слева, Алдошин же с двумя отделениями десантников — в село. По договоренности с командиром отряда самообороны, с главой администрации, учительницами и медсестрой, ратники разместятся в служебных комнатах администрации и в общежитии, ни в коем случае не появляясь на улицах. Они должны были усилить отряд самообороны, а вертолетный десант будет высажен за спиной нападающих на село — чтобы отсечь боевиков от гор и вынудить их сдаться.
Провожая Михаила Алдошина, Богусловский, полную будто бы с завистью, напутствовал его:
— В малиннике окажешься. Благодать. Не теряй времени, выбирай самую красивую и самую ласковую.
— До этого ли?
— До этого. Иначе никогда не женишься.
Вертолеты в горы больше не высылались. Теперь все внимание на Пяндж. Как только начнется через него переправа, жди одновременно удара по руслу Чордарьи. Скорее всего, по двум направлениям они двинутся на село и на НП. На пост наблюдения, вероятней всего, бросят большую часть сил. Пусть. Дзот готов к обороне. С наступлением ночи туда уходят все, кому предстоит держать в нем оборону. На плато запланирован и десант двух вертолетов. На плато можно будет организовать и огневую проческу с воздуха, пока десантники не приблизятся к боевикам с тыла.
Одно беспокоит — связь. И хотя начальник связи отряда выделил все свои резервы, тревога за возможные сбои все же осталась. Слишком устаревшая аппаратура, слишком уязвимая. Позавидуешь боевикам. У них связь надежная, и те, кто подходит со стороны гор, с теми, кто станет переправляться через Пяндж, взаимодействовать будут четко.
— Может, и у нас все ладно сложится, — убеждал себя и всех офицеров полковник Костюков, надеясь на авось. — Хорошо бы каждому пограничнику, уходящему в наряд, дать индивидуальную связь. Легкую. Устойчивую. Как у американцев. Конечно, всю армию обеспечить такой связью дорого, пока не по карману, но о пограничниках можно бы позаботиться. Они все время, как сейчас принято называть, в горячих точках. Только признавать этого никто не желает.
И умолк. Выплеснул наболевшее, понимая вполне, что не ко времени и не к месту. Зачем говорить о невозможном, особенно в тот момент, когда необходима мобилизация всех душевных сил.
Еще одна ночь прошла тихо-мирно. А вот следующей ночью, часа в три, с поста наблюдения поступил не очень понятный доклад: через прибор ночного видения не разглядишь точно, но, похоже, через Пяндж, под прикрытием острова, началась переправа. Ни лодок, ни плотов не видно, но время от времени Пяндж бугрится вроде бы топляками. Странно то, что топляки эти не проплывают дальше острова. Двигаются на нижний его угол. Наблюдатель сбился со счета — так много топляков. И еще он засек несколько вспугнутых фазанов.
— Какое-то новое плавсредство применяют? — задал вроде бы сам себе вопрос Михаил Богусловский. — Или действительно с верховий коряги тянет к острову?
После боя увидит старший лейтенант эти плавсредства: гидрокомбинезон со спасательным кругом на уровне груди. Внизу — ласты, в руках весла-лопаточки. От спасательного круга идет водонепроницаемый фартук, но не вниз, а до шеи. Он спасает от брызг оружие и боеприпасы. На острове и на берегу Пянджа будут брошены эти гидрокомбинезоны.
Не новое изобретение. Их наши бойцы применяли в годы Отечественной войны, особенно при десантировании на Курильские острова и для переправы через Амур и Аргунь.
У хватких и рачительных заставских старшин долго работали эти индивидуальные плавсредства на благо личного состава. Особенно когда начинался ход сазана на нерест. Заведет боец в гидрокостюме перемет метров на тридцать-сорок, затем снимает с крючков пойманную рыбу, не вытаскивая всякий раз перемет на берег. Уловисто получается. Пирует застава более недели, пока не кончится нерестовый ход. Изворотлив русский человек, особенно когда, как говорил Белинский, нужда заставляет его есть калачи.
Боевики же применили давно испытанные средства по назначению.
Пока же офицеры-пограничники лишь догадывались, что началась переправа первой партии, которая, если прикинуть, не тугаями пойдет, а правее дороги, чтобы ударить с левого фланга, объединив свой огонь с огнем тех, кто по плато начнет наступать.
Одно совершенно ясно Костюкову с Богусловским: в эту ночь нападения не жди. Не полусотней же полезут на заставу, это уж точно.
Первая половина следующей ночи тоже прошла в ожидании. Но вот — доклад с НП:
— Не пересчитать коряг. К нашему берегу их подносит. Не менее двух сотен.
— Спасибо. Наблюдай момент высадки. Не топляки это, а духи. Докладывать каждые пять минут, — приказал полковник Костюков наблюдателю — и к связисту: — Передай Сахидову о начале переправы. Дадабаеву — тоже. Пусть прогревает моторы вертолетов. Всём нарядам приказ, с кем есть связь: срочно сниматься — и на заставу.
— Поднимать заставу к бою? — спросил Богусловский.
— Погодим, Михаил. Горячку пороть не станем. Понаблюдаем. За полчасика до штурма поднимем. Тогда же Дадабаеву сам позвоню, пусть поднимает вертолеты в воздух. В самый раз подоспеет, когда все духи втянутся в бой.
Очередной доклад с НП:
— Высаживаются на берег. Метрах в трехстах вверх от заставы. С острова тоже началась переправа.
— Хорошо. Продолжайте наблюдение. За каждым маневром боевиков следите. Докладывайте немедленно. — И Михаилу Богусловскому: — Вот теперь, друг мой, пора. Поднимай заставу. Сам сбегай в дом. Проводи женщин под землю, а потом — на КП.
Особое распоряжение дежурному. Для него весьма опасное задание. Ему как бы прикрывать тыл заставы. Оставив свет в дежурной комнате, самому находиться у рубильника и, как только первая мина влетит в окно или, если стрельнет мазила — ударит в стену, включить свет. Лишь после этого — вниз.
— Свет в окнах — хорошая приманка для воинов Аллаха. Они обязательно поведут по ним огонь.
Так и вышло. Вдохновились боевики, когда вспыхнули окна во всех комнатах заставы. Значит, не ждали их, смогли, значит, подобраться скрытно. Открыли огонь по окнам из автоматов и подствольников, но не обратили внимания, что не прозвучало ни одного ответного выстрела. Духи смело двинулись вперед, стреляя на ходу.
Застава же сдерживает себя. Велено отделенным встречать атакующих огнем не раньше, чем те приблизятся метров на пятьдесят. А руки чешутся. Жалко и саму заставу, которую перепахали мины, и дома, еще недавно такие красивые, уютные.
Первым заговорил крупнокалиберный пулемет из дзота у ворот, куда особенно перли боевики. Лиха беда начало. Ожили все огневые точки, отрезвив в один миг нападавших. Даже клич «Аллах аки бар!» не подействовал. Залегли боевики, будто растерялись на какой-то миг, но, придя в себя, поползли гюрзами вперед, ловко укрываясь за всякими препятствиями.
Можно было подобные действия предугадать и выутюжить пространство метров на сто перед каждой огневой точкой. Теперь — кусай локти. Подползут поближе наиболее смелые и ловкие, полетят в амбразуры гранаты — тяжело придется.
Прицельней стали стрелять пограничники. Пулеметы аж захлебывались, автоматы же в основном — одиночно. Выцеливая передовых. И все же змеиная волна постепенно накатывалась. Прицелы бы для ночной стрельбы, куда лучше дело бы пошло. А до полного рассвета еще добрых четверть часа. Устоять бы!
Где капитан Сахидов?
Где вертолеты?
На плато тоже жарко. Там тоже идет горячий бой. Боевикам на плато еще удобней — валунов там много. Духи даже не ползут, а перебегают от одного валуна к другому, поливая пост наблюдения очередями. Работают здесь и подствольники. Летят мины в круглую надстройку, из которой бьют пулеметы и автоматы. Нижние амбразуры тоже активны, но огонь оттуда менее результативный, чем из верхней щели. Хотя и защитникам верхней надстройки тяжелее, чем нижней. Мины, правда, не смогли разрушить крепкий бетонный круг, но их осколки влетали в щель (она довольно широкая), и несколько бойцов уже получили ранения.
Боевики на плато тоже неумолимо приближались к дзоту, несмотря на заметные потери. Их задача, судя по всему, — захватить оборонительное сооружение кокасеров. Командир отряда боевиков доложил, что быстрый захват не получился, и получил строгий приказ:
— Взять! Именем Аллаха!
И поперли вперед духи… Обстановка становилась все более критической. Вот-вот приблизятся боевики на бросок гранаты. Еще трудней станет.
Намного проще сложилась обстановка в сухом русле Чордарьи. Около двадцати боевиков, не таясь, двигались по нему к селу, вовсе не ожидая здесь сопротивления. По накалу перестрелки они поняли, что заставу не застали спящей, что там были готовы к отражению атаки. Но они вовсе не ожидали, что и здесь им подготовлена горячая встреча. Сельский отряд самообороны и пограничники во главе с Алдошиным, занявшие окопы, договорились действовать так: первые выстрелы из ружей картечью, а дальше — видно будет.
Идут боевики кучно, хотя и молча. Тихо окрест. И вдруг:
— Огонь!
Дуплеты из двустволок. Меткие. В незащищенные головы. Несколько боевиков упали, но остальные, вопреки ожиданиям, не рванулись вперед (тогда заработают автоматы пограничников и самооборонцев, чтобы в один миг покосить беспечных, на что и делался расчет), а залегли и принялись вяло отстреливаться. Им куда спешить? Падет застава, пленных и раненых кокаскеров принесут в жертву Аллаху, как баранов, тогда — в село.
Нет, его не сожгут, не порушат. Не тронут даже жен и дев. Просто тех, кто приложил пальцы к протоколу, кто его подписал и заверил печатью, а еще вот этих, кто устроил засаду, подвесят за ноги на площади и перережут им глотки. Все село пусть смотрит, как карает Аллах переметнувшихся к неверным. Страх вразумит остальных заблудших.
Не предполагали боевики, что вместе с сельчанами встали против бандитов пограничники, что старший прапорщик Алдошин предусмотрел такой поворот событий: боевики, вынужденные отступить с плато, постараются взять всех жителей в заложники, расправиться с защитниками села и с теми, кого наметили в жертву, а затем под прикрытием живого щита уйти в горы. Часть своих сил Михаил Алдошин поэтому расположил в засаде, для защиты села со стороны плато.
Усилит засаду еще и десант с вертолета. Один — чтобы отсечь боевиков от гор, второй — чтобы не подпустить к селу тех, кто попятится с плато.
Но где вертолеты? Пора бы им…
Несколько минут до их прилета. Вот уже донесся едва слышный напряженным ухом рокот моторов. Он все нарастал и нарастал, и если для пограничников он являлся поддержкой и надеждой, то боевиков словно подстегнул: они усилили нажим и на заставу, и на пост наблюдения. Полезли дуром, видя победный исход боя только в захвате огневых точек кокаскеров. Кинулись в атаку и боевики по сухому руслу. Они не могли предположить, что не ружейные выстрелы встретят их, а густые автоматные очереди. Оттого оказались они в клещах — атака захлебнулась, а к этому моменту вертолет, даже не коснувшись земли колесами, выбросил десант и взмыл вверх. Десантники, однако, не кинулись на помощь отряду самообороны и группе пограничников, а заняли, выбрав половчее укрытия, узкий проход в горы, полностью его заперев. Такой ход подсказала обстановка. С вертолета увидели, что боевиков мало, что они явно не одолеют обороняющихся. А вот выпускать их в горы нежелательно.
Лучше, если они полягут здесь, а оставшиеся в живых предстанут перед судом. Полный разгром банды наверняка остудит воинственный пыл экстремистов.
Второй вертолет десантировал подмогу заслону перед селом со стороны плато, третий — в тыл штурмующим НП, четвертый — на берег Пянджа. Когда он зарокотал над головами боевиков, уже приблизившихся к огневым точкам, те с криком «Аллах аки бар!» кинулись в атаку, и тут им в спину ударили пограничники капитана Сахидова. Не сразу, но одна часть боевиков начала огрызаться, повернув огонь на сахидовскую группу. Однако более разумные из них кинулись в тугаи, стремясь через них добежать до Пянджа и броситься в воду, но наткнулись на автоматные очереди. Почти все подняли руки, а кто не сделал этого, был изрешечен пулями.
Те же, кто остался у заставы, отстреливались отчаянно. Ни один из них не сдался.
Не поднял руки и никто из нападавших на плато. Только оставшиеся в живых после неудачной атаки на самооборонцев и пограничников сдались на милость победителей.
Сельчане ликовали, хотя среди защитников были потери: один человек погиб, шестеро были ранены, двое из которых тяжело. Знатно проучили бандитов. Все, теперь можно поспешить на помощь кокаскерам заставы, где еще не утихла стрельба.
Алдошин, однако, отговорил их:
— Зачем рисковать жизнью без необходимости? Я поведу своих к заставе, а на всякий случай оставлю заслон на Чордарье.
— А нам что делать?
— Пока не расходитесь по домам. Оставайтесь в готовности, ждите моей команды.
Группа старшего прапорщика не успела принять участие в боевых действиях на заставе. Пока пограничники добежали туда, все уже было кончено. Им осталось только присоединиться к отряду Сахидова, чтобы собрать оружие боевиков и проверить, не притворился ли кто из них убитым, рассчитывая на потерю бдительности у победителей. Алдошин, как и капитан Сахидов, держал палец на спусковом крючке.
Утреннее солнце осветило землю ласковыми, еще не палящими лучами, защебетали пташки в тугаях, и так стало вокруг покойно, будто и не гремел здесь недавно страшный бой. О кровавой схватке напоминали только трупы, во множестве обнаруженные на подходах к огневым точкам оборонительной системы заставы.
— Аллах справедлив, — убежденно произнес Сахидов, подставляя лицо солнцу, но тут же спохватился: — Нужно прочесать тугаи. Я пойду со своими вверх, ты, Михаил, вниз. Будь осторожен.
Но не та, ни другая группы не успели уйти, как к ним подбежали Гульсара с Зухрой. Марина оставалась под землей в оборудованной под лазарет комнатке, куда после боя потянулись раненые. В основном ранения — легкие. Марина ловко бинтовала раны, обрабатывала их. Гульсара с Зухрой ей только мешали, поэтому она отослала их наверх — узнать, нет ли у капитана Сахидова и старшего прапорщика Алдошина нуждающихся в медицинской помощи.
— Раненые есть?
— К сожалению, — ответил Сахидов, — пятеро. Один убитый.
— У меня — нет, — кивнул Алдошин.
Гульсара с Зухрой поспешили к раненым, с которыми уже занимался врач.
Их помощь оказалась весьма своевременной. Втроем они споро обработали раны, и врачу осталось только определить очередность транспортировки раненых в медсанчасть. Некоторые и вовсе остались в строю.
Полковник Костюков, поднявшись в канцелярию, сильно пострадавшую, но с сохранившимся телефоном, сразу же доложил командующему Пограничной группой в Душанбе, что крупная банда боевиков разбита. Потому позвал Богусловского:
— Пойдем, Миша, глянем на поле боя.
Сперва они поднялись на плато, чтобы поблагодарить защитников поста наблюдения. Они уже знали, что здесь никто не убит. Есть, правда, раненые — задело осколками мин. Им требовалась помощь, поэтому велели поторопиться врачу, прихватив с собой помощниц. Но, оказывается, сразу же после боя бойцы перебинтовали раны индивидуальными пакетами и теперь просили начальника отряда не отсылать их в госпиталь.
— В санчасти комендатуры подлечат — и в строй. Людей и так мало.
— Во-первых, я не могу приказывать врачу. Его слово и для меня — закон. Во-вторых, мужество и бравада, как говорят в Одессе, — две большие разницы. Мужественно отбиваться от врагов, несмотря на ранение, — подвиг, скончаться от заражения крови или от гангрены — великая глупость. Я советую вам поскорее отправиться к врачу.
— Ладно уж. Подчинимся.
Посоветовав убитых не трогать, собрать только все оружие с боеприпасами и ждать прилета вертолетов из Душанбе с представителями Управления и властей Таджикистана, Костюков и Богусловский спустились вниз. Здесь полковник тоже распорядился не трогать убитых, дабы перед руководством Таджикистана предстала истинная картина боя. Но, как только Сахидов, прочесавший тугаи до острова, вернулся, сразу возник вопрос о похоронах.
— По шариату мусульманин, умерший или убитый, должен быть похоронен до заката солнца. Если мы не сделаем этого, станем врагами даже для жителей села.
— Выходит, убили — ничего страшного. Не похоронили, как положено, — враги?
— Да. Мы убивали, защищаясь. Но должны уважать обычаи — ведь мы не бандиты.
— Поступим тогда так: пленных и добровольцев из села попросим вырыть общую могилу. Выберем место километрах в двух от заставы. Как только приедут высокие гости — часа через четыре они будут здесь, — начнем хоронить. Поручим похороны старшине заставы. Поступим по-людски.
— Я тоже могу подключиться. Мобилизую сельчан.
— Хорошо. Одновременно снимите заслон с Чордарьи.
К приезду высоких гостей общая могила была готова, даже с боковой нишей, как и предписывает шариат. Сельчане и пленные ждали только команды, чтобы начать похороны. Но тут подоспел обед — его приготовили заставский повар и женщины.
После обеда даже пленные повеселели. А тут и начальство появилось. Руководители, особенно республиканские, от увиденного и услышанного от полковника Костюкова просто опешили. И было похоже, что представители республиканской власти с трудом скрывали недовольство, но трудно было понять, чем именно они недовольны. Собой, что не смогли своевременно узнать о готовящемся нападении (уже вторично) на заставу и его предотвратить? Или же тем, что теперь придется вести трудные дипломатические переговоры с соседями, с территории которых пришли боевики? Или, возможно, тем, что так много убито правоверных и так мало плененных (не расправились ли с ними после боя?)? Но разве им, в прошлом партийным функционерам, неведом программный лозунг, возникший еще в годы становления большевизма: если враг не сдается, его уничтожают?
Впрочем, когда высоким гостям показали подготовленную общую могилу и даже испросили у них согласия на похороны, лица их чуточку подобрели.
Иное настроение у командующего.
— Молодцы! — повторял он, пожимая руки Костюкову, Дадабаеву, Богусловскому, Сахидову и Алдошину. — Готовьтесь к получению высоких наград и готовьте списки отличившихся солдат и сержантов. Не обойдите вниманием ни одного человека.
— Так точно.
— Не затягивайте. И еще: так держать и впредь!
Высокие представители отказались от обеда, улетел с ними и командующий. Комендант уехал с бойцами усиления, вертолеты один за другим поднимались в воздух, увозя десантников, но Дадабаев и Марина по просьбе полковника Костюкова остались на торжественный обед — хотелось отпраздновать победу.
Пленных, еще раз покормив, отконвоировали в село и передали под охрану отряду самообороны. За ними должны были прислать крытые грузовики из Душанбе — там с ними станут разбираться соответствующие органы. На этих же машинах увезут и трофеи.
Алдошин, однако, рассудил иначе. Он, даже ни с кем не согласовав, убрал в каптерку десяток комбинезонов и еще несколько снайперских винтовок с прицелами ночного видения, а также почти все патроны к ним. Как он решил, даже для охоты на теков и архаров вполне сгодятся. А если еще одно нападение будет — любо-дорого снайперить.
Для старшины заставы теперь главная забота — привести хотя бы в маломальский порядок помещения заставы, очистить от осколков и штукатурки комнаты, затем организовать баню для личного состава. Он уже начал заниматься этим, но Костюков посоветовал ему:
— Распредели фронт работ командирам отделений, а мы все вместе пообедаем. У меня есть к вам предложение: пока женщины собирают на стол, обсудим план охраны границы.
Гульсара с Зухрой — Марина им тоже помогала — справились со своими обязанностями споро. Едва Михаил Богусловский составил план охраны, а Сахидов, после общего одобрения, распорядок дня, как в канцелярию вошла Гульсара:
— Кушать, господа офицеры, подано. А за беспорядок не обессудьте: несколько мин попало в помещение. Наша квартира меньше пострадала, у нас и накрыт стол.
— Завтра же прибудет бригада специалистов, для ремонта заставы, — пообещал Прохор Авксентьевич. — Теперь же — вперед.
Он взял Гульсару под руку.
На столе — две бутылки шампанского. Михаил было запротестовал, но Гульсара, поцеловав его, попросила:
— За победу. За то, что мы все живы и здоровы, еще за то, что уберегли вы сыновей для матерей, а для их будущих жен — мужей. Разве нельзя за такое по бокалу шампанского?
— Можно, — поддержал Гульсару Прохор Авксентьевич. — А на боевом расчете признаемся, что выпили мы за победу по бокалу шампанского. Не охмелеем же…
Первый тост полковника Костюкова:
— За тех, кто пролил кровь в бою. За раненых, не выпустивших из рук автоматов. За мужество солдатское.
И дальше в том же духе. Ни слова о себе. Только о рядовых и сержантах, об их умелых действиях. И только один вопрос к капитану Сахидову:
— Отчего, Додо Сахидович, задержался ты с огнем?
— Не задержался. Я у духов за спиной не шевелился. Ждал вертолетов. Под их шум открыли мы огонь. Сбил я их с толку. Они не могли понять, откуда огонь. Пока соображали, я немало их скосил. Еще две причины сдерживали. Мой огонь отвлек боевиков, и они даже не сделали попытки сбить вертолеты. Второе: открой я огонь раньше, скольких бы мы упустили? Кинулись бы через тугаи в Пяндж, а там никого.
— Я так и подумал, что хитрил ты, а не опоздал. Молодец.
Женщины принесли кофе, и тогда Костюков заговорил деловым тоном:
— Бой, который пришлось нам принять, еще раз показал, что родилась дружная семья. Я надеюсь, наша дружба не исчезнет с годами, а будет крепнуть, опираясь на главные ценности: честь, взаимопомощь, самоотверженность. Пусть станет для нас примером дружба наших дедов, наших отцов. Я предлагаю поклясться.
Клятва прозвучала как единый выдох.
— Мои планы на дальнейшее такие: Михаил Алдошин, очно или заочно, оканчивает курсы офицерского состава и возвращается на Приостровную замом. Додо Сахидович идет заместителем к Латыпу Дадабаевичу. А вам, Михаил Иванович, и Латып Дадабаевич, готовиться в академию и одновременно готовить себе замену, имея в виду, что место начальника заставы займет Михаил Алдошин, Додо Сахидов — место Латыпа Дадабаева. До приема в академию — год. Все нужно успеть. Следующая очередь в академию ваша, Михаил и Додо. При одном условии: никакой халтуры в работе. Замечу благодушие или зазнайство, тут же — понижение по службе.
Не знал еще полковник Костюков, что ему не так долго осталось командовать отрядом, что пойдет он круто вверх, но, к его чести, не выпустит из поля зрения своих боевых друзей и исполнит все обещанное. Сделать это ему будет не трудно: друзья его делами своими доказали, что достойны высокого звания офицера-пограничника, и продвижение их по службе вполне заслуженное.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

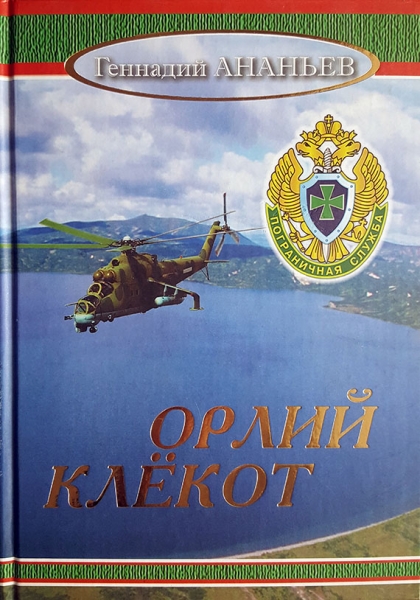

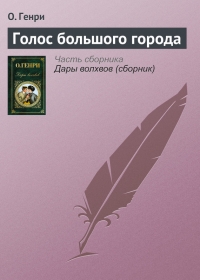
Комментарии к книге «Орлий клёкот: Роман в двух томах. Том второй», Геннадий Андреевич Ананьев
Всего 0 комментариев