Синклер Льюис
КИНГСБЛАД, ПОТОМОК КОРОЛЕЙ (роман)
1
Мистер Блингхем, чтоб ему жариться на вечном огне, был помощником казначея в компании «Деликатес». Он ехал из Нью-Йорка в Уиннепег в сопровождении своей жены и препротивной дочки. Разумеется, истых нью-йоркцев только деловые надобности могли заманить в такую глушь, и все, что лежит западнее штата Пенсильвания, вызывало у них презрительное фырканье. Они потешались над тем, что Чикаго посмел завести у себя небоскребы и что Мэдисон претендует на звание университетского города, а при въезде в Миннесоту, увидя плакат, рекламирующий «Десять Тысяч Озер», даже остановили машину и завопили от восторга.
Мисс Блингхем, которую называли «Детка», заметила:
— Нужно обладать настоящим нью-йоркским чувством юмора, чтобы оценить, до чего смехотворна эта афиша.
Когда показался первый степной поселок Миннесоты — шесть домиков, гараж, магазин и высокий краснокирпичный элеватор, миссис Блингхем хихикнула:
— Смотрите-ка, да у них тут свой Эмпайр Стэйт билдинг!
— И все Свенсоны, Бенсоны и Хенсоны каждый вечер отправляются в ресторан «Радуга», — отозвалась Детка.
Им хватило веселья на сотню миль, пока не пришло время завтрака. Миссис Блингхем склонилась над картой:
— Гранд-Рипаблик, Миннесота. Миль сорок отсюда. Большой город, не шутите — восемьдесят пять тысяч жителей.
— Там и остановимся. Найдется же у них отель, где можно перекусить, — протянул мистер Блингхем, зевая.
— Цвет местного общества питается в убежище Армии Спасения, — объявила миссис Блингхем.
— Ой, не могу! — пискнула Детка.
Когда с крутого берега Соршей-ривер перед ними открылся вид на белую башню Национального Банка «Блю Окс» и на корпуса Деревообделочного Комбината Уоргейта, выросшие после 1941 года — сплошная сталь и стекло, — мистер Блингхем сказал:
— А приличный у них тут военный заводик.
За годы второй мировой войны население Гранд-Рипаблик увеличилось с 85.000 до 90.000. Для девяноста тысяч бессмертных душ здесь находился центр вселенной, и все расстояния измерялись отсюда; Москва была городом за 6100 миль от Гранд-Рипаблик, Саудовская Аравия — рынком сбыта для уоргейтовской сухой штукатурки, пропеллеров и стандартных домов. Блингхемы, твердо знавшие, что центром солнечной системы является угол Пятой авеню и Пятьдесят седьмой улицы, пришли бы в негодование, услышав, сколько в этой долине простаков, которые воображают, что весь Нью-Йорк состоит из отелей, мюзик-холлов, гетто и Уолл-стрита.
Миссис Блингхем торопила:
— Едем. Не стоять же нам тут целый день, любоваться на эту свалку! В путеводителе сказано, что лучшая кухня в отеле «Пайнленд». Поехали в «Пайнленд».
На пути к «Пайнленду» им наверняка попалось несколько вилл затейливой архитектуры восьмидесятых годов, итальянская католическая церковь, ломбард, где лесоруб-литовец только что заложил револьвер, из которого он застрелил кашевара-сиамца, ателье дамских нарядов, лучшее на всем протяжении от Форт-Уильямса до Далласа, летчик с орденом Креста Виктории и негритянский священник со степенью доктора философии, — но ничего этого они не заметили.
Тормозя перед девятиэтажным мозаичным фасадом отеля «Пайнленд» (архитекторы Лефлер, О'Флаэрти и Мюллер из Миннеаполиса), мистер Блингхем сказал с сомнением в голосе:
— Н-ну, надеюсь, что-нибудь съедобное здесь найдется.
Их очень насмешило претенциозное название более фешенебельного из двух ресторанов «Пайнленда» — «Фьезоле», но им вовсе не показалось бы смешным, если б они узнали, что местные жители произносят это слово «Физоли», — они сами произносили его точно так же.
Дух Ренессанса в «Фьезоле» долженствовали создавать стены, раскрашенные под помпейские фрески, майоликовая посуда, две испанские винные фляги у входа и фриз, изображающий древнегреческих бегунов, работы местного художника-портретиста.
— Однако и задаются же в этом самом — фу, опять забыла, как его? — воскликнула Детка.
— Гранд-Рапидс, — сказал мистер Блингхем.
— Ничего подобного, Гранд-Рапидс — это откуда тетя Элла. А это местечко, — авторитетно объявила миссис Блингхем, справившись по карте, — называется Гранд-Рипаблик.
— Идиотское название! — изрекла Детка. — Хорошо еще, что не «День Независимости». Ох уж эта провинция!
Метрдотель, высокий, степенный негр, голова которого напоминала коричневый бильярдный шар, церемонно повел их к столику. Они не знали, что это Дрексель Гриншо, лидер консервативного крыла негритянской общины. Он был похож на епископа, на генерала, на сенатора — на любого из тех, кем он мог бы стать, если бы избрал себе другую профессию — и другой цвет кожи.
Мистер Блингхем заказал гуляш по-венгерски. Миссис Блингхем отважилась на жаркое из молодого барашка. Детка выбрала куриный салат и прикрикнула на чернокожего официанта:
— Да нельзя ли, чтоб туда попал хоть кусочек курицы!
Их ужасно развеселило, что официант поклонился и сказал:
— Слушаю, мисс.
Что тут было смешного, они затруднились бы объяснить. Но как они сами говорили: «Надо родиться в Нью-Йорке, чтобы оценить нью-йоркское чувство юмора. Черномазый лакей в какой-то захолустной обжорке, а фасону — точно служит у Ритца!»
Правду сказать, в Нью-Йорке, решив покутить, они отправлялись не к Ритцу, а в один из ресторанчиков. Шрафта.
Небрежно ковыряя вилкой свой салат — который она, однако, съела дочиста и даже хлеба не оставила, — Детка свысока оглядывала зал:
— М-м, м-м! Почтенные предки, поглядите-ка направо. Видите за соседним столиком мальчика? Я хочу, чтоб вы мне его купили.
Объектом ее лестного внимания был молодой человек лет тридцати, весьма приятный на вид — широкие плечи, сильные руки в веснушках и та особенная белизна кожи, которая часто встречается у рыжих. Сразу приходила мысль о футболе, позднее сменившемся более изысканным теннисом. Но больше всего в нем привлекал удивительно ясный взгляд голубых глаз и ясная, душевная улыбка.
— Похож на офицера шотландского полка, — одобрила Детка. — Только юбочки не хватает.
— Ну что ты, Детка! А по-моему, он похож на продавца из обувного магазина, — процедила миссис Блингхем.
И они тут же забыли об этом молодом человеке, который не был ни продавцом из обувного магазина, ни шотландцем — разве что на одну четверть. Его звали Нийл Кингсблад, он служил в банке и недавно демобилизовался из армии в чине капитана.
Продолжая после завтрака свой путь на север, Блингхемы сбились с дороги. Они считали ниже своего достоинства расспрашивать диких туземцев и долго кружили по застроенному нарядными виллами кварталу Оттава-хайтс, а потом среди гонтовых кровель, разноцветных фасадов, бетонных террас и зеркальных окон нового жилого района, носившего название Сильван-парка. Сворачивая с Липовой аллеи на Бальзаминовую тропу, они не приметили новенький, чистенький, свежеоштукатуренный коттедж, в «колониальном» стиле, с голубыми жалюзи и белыми дощатыми панелями, стоявший на северо-западном углу, и не взглянули на высокую красивую молодую женщину и четырехлетнюю, всю золотисто-розовую девчурку, спускавшихся в это время с крыльца. А между тем именно в этом доме жил капитан Нийл Кингсблад, и это были его жена Вестл и дочь, резвушка Бидди.
— Придется все-таки спросить дорогу. Интересно, тут по-английски понимают? — раздраженно сказала миссис Блингхем.
Вечером, подъезжая к Крукстону, пункту, намеченному для ночлега, мистер Блингхем задумчиво произнес:
— Как называется этот городишко, где мы завтракали сегодня, ну вот, где мы еще заплутались, когда выезжали на шоссе?
— Вот забавно, никак не припомню, — сказала миссис Блингхем. — Биг-ривер, что ли.
— Где был тот симпатичный молодой человек, — сказала Детка.
2
У Нийла и Вестл Кингсблад, на редкость покладистых хозяев, были неприятности с прислугой, и это не следует понимать как обычную комедию домашних неурядиц. Даже колониальным виллам молодых финансистов не чужды свои трагедии, хотя бы и в миниатюре.
Казалось, Нийл Кингсблад не был создан ни для трагедий, ни для особо выдающихся удач. Рыжий, кудрявый, голубоглазый, рослый, веселый, в равной мере далекий от книжной премудрости и житейского коварства, Нийл в ноябре 1944 года занимал должность помощника главного бухгалтера во Втором Национальном Банке Гранд-Рипаблик, где директором был мистер Джон Уильям Пратт.
Он любил свою семью, своих друзей, свою работу, рыбную ловлю, охоту и гольф, любил удочки, ружья, лодки и другие простые и замечательные вещи, с которыми связаны эти виды спорта. Но теперь он уже не мог странствовать по лесам и озерам Северной Миннесоты. Год назад, когда его пехотная часть занимала одну итальянскую деревушку, он был ранен в правую ногу.
Эта нога навсегда осталась на полдюйма короче, но хромота уже почти не мешала ему передвигаться, и он твердо рассчитывал, что к весне 1945 года, хоть и вприпрыжку, а выйдет на теннисный корт. Его репутация одного из самых красивых мужчин в городе не пострадала; хромота даже придавала что-то забавно-милое его походке, а плечи и грудь у него были такие же могучие, как и раньше.
Прошлое рождество он промучился в военном госпитале в Англии; зато в этом году он встретит рождественские праздники дома, со своей любимой Вестл, высокой, жизнерадостной, ласковой, но вполне рассудительной молодой женщиной, и с дочуркой Элизабет, все четыре года своей жизни известной под именем Бидди, — прелестной умницей Бидди, у которой кожа точно клубника со сливками, а волосы цвета шампанского.
Нийл родился в 1914 году, когда мир лихорадило предвестиями первой мировой войны; он верил в священный характер второй мировой войны; а теперь, за коктейлем в Теннисном клубе Сильван-парка, он смело утверждал — да и сам готов был поверить, — что третьей мировой войны не будет и можно спокойно растить сына, если милостью богов (его бог был баптистский, а бог Вестл — епископальный) у них родится сын.
Его отец был известный зубной врач доктор Кеннет М.Кингсблад, еще благополучно здравствующий и практикующий (прием в Доме Специалистов, угол Чиппева-авеню и Вест-Рэмси-стрит), а его дед с материнской стороны — Эдгар Саксинар, в прошлом агент телефонной компании, теперь живший на покое в Миннеаполисе. Таким образом, он происходил из весьма почтенных ученых и деловых кругов, но что касается имущественного и общественного положения, то в этом, нужно признаться, его семья далеко уступала семье Вестл, отцом которой был Мортон Бихаус, президент Акц. О-ва Энергосвет Прерий, брат Оливера Бихауса, главного юрисконсульта уоргейтовских предприятий. Когда в Гранд-Рипаблик говорят «Бихаус» — это звучит, как «Адаме», «Сесиль» или «Пиньятелли».
Вестл в свое время была президентом Лиги Образованных Молодых Женщин, чемпионкой по гольфу загородного клуба «Вереск», лучшим в округе добровольным агентом по распространению военного займа, секретарем Гильдии св. Ансельма, председателем Программного Комитета Дамского клуба и победительницей турнира по бриджу в Космополли (приз — кофейный сервиз на шесть персон). При всем том она сохранила человеческие черты.
Она окончила Свит-Брайер-колледж в Виргинии, и считалось, что у нее более утонченный вкус, чем у Нийла, который в бытность свою студентом Миннесотского университета не поднимался выше дешевых пансионов и пивнушек. Но она говорила о себе: «Я не претендую на интеллектуальность. В душе я домашняя хозяйка».
У нее было узкое, продолговатое лицо, освещенное веселыми серыми глазами, и волосы заурядного каштанового оттенка, но удивительно густые и пышные. Руки у нее были шире, чем у Нийла, у которого сильная кисть оканчивалась длинными тонкими пальцами. Вестл смеялась легко, но не слишком много. К Нийлу она чувствовала любовь, уважение, нежность; в кино, во время сеанса, часто держала его руку в своей, и супружеские отношения не стали для нее простой привычкой. До его ранения она любила странствовать с ним на лодке по пустынным северным озерам; она разделяла его Здравые Консервативно-Республиканские Взгляды на банковское дело, налоги и вероломство профсоюзов. Это было в полном смысле Счастливое Американское Супружество.
Хотя Вестл выросла в сером каменном Бихаусовском особняке на аристократической Белтрами-авеню, ей сразу пришлась по душе замысловатая простота Сильван-парка. Там «лесные кущи, древние, как мир, смыкались вокруг солнечных прогалин», которые мистер Уильям Стопл, Продажа и Управление Недвижимостью, не щадя затрат, распланировал в виде участков прихотливой формы.
Вестл питала нежность к своему беленькому домику, к его нарядному полукруглому крыльцу со стройными колоннами. Гостиная в домике была обставлена скромно, но все в ней радовало глаз — низкие стулья с темно-синей обивкой, терракотовые занавеси, часы с боем, ярко пылающий камин (электрический, со стеклянными углями), а на каминной полке — немецкая каска, считавшаяся боевым трофеем Нийла. Но еще более выразительно говорила о благоденствии хозяев стеклянная веранда, где пол был выложен красными плитками и стояла зеленая плетеная мебель и холодильник для бутылок и откуда для вящего аристократизма открывался вид на холм, на вершине которого высился Хилл-хауз; сказочная вилла Бертольда Эйзенгерца.
Подобное великолепие было явно не по средствам обыкновенному банковскому кассиру, а Нийл до недавнего времени был всего лишь кассиром. Это тесть помог ему устроиться на столь широкую ногу и даже завести прислугу — самая большая роскошь американской цивилизации, в условиях которой вы можете иметь «кадиллак», но обувь должны себе чистить сами. К слову сказать, не такая уж это плохая форма цивилизации, раз она позволяет вам помыкать только механическими слугами.
В Сильван-парке не встретишь ни садов с кирпичной оградой, ни шоферов с кирпичными физиономиями, которые украшают собой Оттава-хайтс. Соседи Нийла наслаждаются жизнью в стандартных коттеджах, семикомнатных шале и каркасных домах. Вдоль серповидных Аллей и Троп красуются веселые фонтанчики, а центральная площадь, именуемая «Пьяцца», окружена квазииспанскими аркадами, где расположены нарядные магазины. Но по этой бутафорской Гренаде неистово носятся ребятишки, матери возят колясочки с младенцами и отцы сгребают опавшие листья.
Мистер Уильям Стопл (не забывайте, что недавно он был мэром Гранд-Рипаблик) конфиденциально обращает ваше внимание на то, что в Сильван-парке вы избавлены от евреев, итальянцев, негров и назойливых нищих, равно как и от шума, комаров и скучной прямолинейности улиц. Официально же он возвещает:
«КУДА исчезли юношеские грезы и видения девичьих снов? ГДЕ романтика минувших лет, ГДЕ лилейно-белая дева у зеркальной глади пруда, под сенью зубчатой башни с гордо реющим флагом? В ВАШЕЙ власти воскресить сегодня эту мечту. Сильван-парк — вот место, где сбываются сны, где гармоничный быт, живописный ландшафт, новейший комфорт, все блага Американского Образа Жизни к Вашим услугам по исключительно недорогой цене и на самых льготных условиях, справки письменно и по телефону, по средам контора открыта до 10 ч. веч.».
Нийл и Вестл смеялись над этим образцом поэзии нашего времени, но Сильван-парк они и сами считали раем, в высшей степени разумно организованным раем — и деньги за их домик были уже почти полностью выплачены.
Рядом с супружеской спальней (при ней была изразцовая ванная с лотосами и морскими коньками по стенам) находилась детская Бидди — кролики и Микки Маусы, — а дальше шла тесная комнатушка, вся в углах и выступах, заставленная и заваленная всяким ненужным хламом, которая именовалась «кабинетом» Нийла и в случае надобности служила комнатой для гостей. Сюда Нийл приходил созерцать свои удочки и клюшки, кубок «За меткую стрельбу», который он выиграл в 1941 году, и свою любимую коллекцию огнестрельного оружия. У него было охотничье ружье компании Гудзонова залива, пистолет 45-го калибра, из каких стреляла Канадская конная полиция, и полдюжины современных винтовок. Он всегда мечтал о жизни фронтирсмена, какого-нибудь агента пограничной фактории Астора в Миннесоте 1820 года и любил календари с заметками о байдарочном спорте и о повадках лосей.
И тут же была его личная, не слишком обширная библиотека. Сочинения Киплинга, сочинения О'Генри, похождения Шерлока Холмса, история банковского дела, переплетенные комплекты «Национального географического журнала» и руководства Бизли по теннису и Морисона по гольфу. Среди этой солидной продукции затерялся где-то в углу томик стихов Эмили Дикинсон, подаренный ему еще в колледже девушкой, имя и наружность которой он позабыл, и Нийл иногда доставал этот томик, листал его и удивлялся.
В конце узкого коридора находилось помещение, которое они устраивали с особенной заботой — спальня и отдельная ванная их прислуги, мисс Белфриды Грэй, молодой особы негритянского происхождения.
Помня о том, как трудно в это тяжелое военное время удержать прислугу, они не жалели средств, чтобы получше обставить помещение Белфриды. В комнате было радио, вышитое покрывало на кровати, несколько выпусков «Спутника домашней хозяйки», а однажды Вестл, в припадке безумия, купила Белфриде настоящую английскую люфу. Белфрида приняла ее за какую-то высохшую нечисть и чуть не потребовала расчета, когда Вестл преподнесла ей этот подарок.
От розового банного мыла в виде утки, предложенного Вестл, Белфрида тоже отказалась, объяснив, что ее кожа не переносит другого мыла, кроме «Gout de Rose», доллар кусок. «Gout de Rose» было немедленно доставлено, и все же Белфрида подумывала об уходе. При желании она могла быть отличной кухаркой, но как раз в данное время у нее этого желания не было.
Белфриде шел двадцать второй год, и в ее упругой гибкости была своя, особая красота. Она упорно не признавала чулок, даже когда подавала на стол, и ее великолепные ноги, точно из теплой атласистой бронзы, едва прикрытые развевающейся юбкой, постоянно смущали Нийла и его гостей, хотя дальше смущения дело не шло.
Знакомство с Белфридой, убедившее Нийла и Вестл в том, что держать прислугу стоит больше нервов, чем самим заниматься хозяйством, могло, конечно, породить в них определенное предубеждение против негров — впрочем, они также не отличались особым юдофильством и не питали горячей симпатии к индейцам, яванцам или финнам.
3
— Нет, — сказал Нийл своей жене, — я всегда говорил, что мистер Пратт чересчур уж консервативен. Он считает людьми только таких, как мы, ведущих свой род от англичан, французов или немцев. А скандинавов, ирландцев, венгров, поляков ни во что не ставит. Он не хочет понять, что мы живем в новой Америке. Я лично враг всяких предрассудков, однако это не мешает мне видеть, что есть вещи, в которых негры не могут и никогда не смогут сравниться с нами. Я это понял в Италии, когда видел, как они спокойненько занимались разгрузкой судов, в то время как мы, белые солдаты, принимали на себя огонь противника. Или вот Белфрида — желает, чтобы ей платили, как голливудской звезде, а в двенадцать часов ночи ее еще дома нет!
Они пили коктейли в своей уютной кухне с белой эмалированной электрической плитой, холодильником, посудомойкой и мусоропроводом, с красными металлическими стульями и синим металлическим столом — образцовая кухня, новая эмблема Америки, пришедшая на смену бизону и бревенчатой хижине.
У Вестл сегодня был день прогрессивных, гуманистических настроений.
— Я с тобой не согласна, Нийл. Не нахожу, чтобы Белфрида была требовательней какой-нибудь белой девчонки, которая в пятнадцать лет каждый вечер желает иметь в своем распоряжении хозяйскую машину. И не так уж весело целый день возиться в чужой кухне, в чаду и капустной вони. Я бы не хотела. А ты хотел бы, ты, финансовый туз?
— Да, пожалуй, тоже нет. Но все-таки своя ванная и отдельная комната не то, что в негритянском квартале, на Майо-стрит, где, я слышал, живут по шесть человек в одной каморке; спи спокойно, одна, никто не мешает. То есть я надеюсь, что Белфрида спит одна, хотя этот черный ход всегда внушает мне подозрения. И свободное время с двух до половины пятого, как раз когда у нас в банке голова пухнет от цифр. И на всем готовом, при восемнадцати долларах в неделю.
— Ты восемьдесят получаешь!
— Но ведь я должен содержать тебя — и Белфриду!
— А она мне говорила, что помогает деду — знаешь старика Уоша, чистильщика обуви в «Пайнленде»?
— Я понимаю, конечно. — Нийл был в меру сердоболен. — Наверно, это тяжело — всю жизнь нянчить чужих детей. Чарли Сэйворд уверяет, что придет такое время, когда на домашнюю работу будут наниматься только на условиях квалифицированных специалистов — пятьдесят долларов в неделю и после работы домой, как банковский кассир или водопроводчик. Но мне это не нравится! Мне нравилось, когда прислуга получала восемь долларов в неделю и все делала — и стряпала, и стирала, и еще пекла пирожки для маленького господина, то есть для меня. В хорошем положении окажутся вернувшиеся герои, если все угнетенные нации, за свободу которых мы дрались, в самом деле освободятся и захотят сесть на наши места! Ох, Вестл, жизнь становится слишком сложной для бедного солдата!
Вестл рылась в кухонном шкафу. Вдруг она жалобно воскликнула:
— Эта негодяйка, чтобы не возиться, опять испекла два пирога сразу, и второй нам придется есть черствым! Нет, честное слово, я ее выгоню и буду хозяйничать сама!
— Тебе не кажется, что ты не очень последовательна в своей защите угнетенных?
— Р-р! Давай заглянем к ней в комнату, пока ее нет.
С нечистой совестью шпионов они на цыпочках поднялись по лестнице и вошли в будуар Белфриды. На неубранной постели — эта постель никогда не бывала убрана — валялись туфли, белье с розовыми ленточками и киножурналы; подушка была совсем черная от помады для волос. На ночном столике, поверх библии, лежала книжка, озаглавленная: «Магический справочник Джона Завоевателя: Магниты, Амулеты для наведения порчи, Приворотные Духи, Колдовские Соли, Корешки Адама и Евы, Древняя Печать Ноевых Сыновей». В комнате стоял сильный запах духов и курительных палочек.
— Такая была хорошенькая комнатка! — огорчалась Вестл.
— Пойдем скорей отсюда. Мне кажется, будто мы попали в притон и сейчас кто-нибудь вылезет из-под кровати и бросится на нас с ножом.
На площадке они столкнулись с Белфридой, поднимавшейся по черной лестнице. Она остановилась и недружелюбно взглянула на них.
— Э-э… хм… добрый вечер! — сказал Нийл с виновато-идиотским видом.
У Белфриды было очень черное лицо с круглыми щечками и всегда готовыми к улыбке губами, но сейчас оно казалось каменным, и супруги с позором ретировались в свою спальню.
Нийл пробормотал:
— Она здорово рассердилась, что мы шпионим за ней. По-твоему, что она теперь сделает? Вылепит из воска наши изображения и бросит в огонь? Нам, белым людям, не понять этих ниггеров, чем они живут, о чем думают.
— Нийл, негры не любят, когда их называют «ниггеры».
— Ах ты, господи! Что за дурацкая обидчивость! Не все ли равно, как их называют. Я же говорю: мы понятия не имеем, куда Белфрида ходит и чем она занимается — знахарствует, или колдует, или, может быть, она состоит в какой-нибудь негритянской левой организации, которая замышляет отнять у нас этот дом. Одно только ясно: весь биологический и психологический склад у этих негров не такой, как у белых людей, особенно у нас, англосаксов (во мне, правда, есть и французская кровь). Очень грустно, но это так, и ты не будешь отрицать, что ниггеры… ладно, ладно, негры — не такие же люди, как я, или ты, или Бидди. Я сам смеялся над солдатами из южан, которые это утверждали, но, пожалуй, они все-таки правы. Видела, какие у Белфриды были сейчас глаза — ну точно как у загнанного зверя! Впрочем, я доволен, что у нас, на Севере, не существует дискриминации, — и негры и белые ребятишки ходят в школу вместе. Скоро и наша Бидди тоже сядет за парту рядом с каким-нибудь черномазым карапузом.
— Думаю, что нашей маленькой задаваке ничего от этого не сделается, — фыркнула Вестл.
— Конечно, конечно, в школе это все так, а вот согласилась бы ты, чтобы твоя дочь вышла замуж за негра?
— Должна сказать, что пока, несмотря на ее опасный возраст, я что-то не примечала за ней хвоста чернокожих поклонников!
— Ну да, ну да — но понимаешь — ты понимаешь…
Честному и наивному Нийлу было тем труднее сформулировать свою точку зрения на расовый вопрос, что он сам не знал, в чем эта точка зрения заключается.
— Я хочу сказать, что мы тут, на Севере, исходим из представления, что негр — такой же человек, как и мы, ничем не хуже, и имеет такие же шансы стать президентом Соединенных Штатов. Но, может быть, это — неверное представление. В армии я познакомился с одним врачом из Джорджии, и он меня уверял — а кому и знать, как не ему, он ведь всю свою жизнь прожил среди негров, и потом сам врач, ученый, — вот он мне и говорил, будто доказано, что у негров объем мозга меньше, чем у нас, и черепные швы у них облитерируются раньше, так что даже если в школе они сначала учатся хорошо, то очень скоро отстают и потом уже лодырничают всю жизнь. Так ведь это же и значит низшая раса… Черт, ты понимаешь, не в моем характере кого-нибудь ненавидеть. Я никогда не чувствовал ненависти к итальянцам или к фрицам, а вот Белфриду я ненавижу. Чертова девка, она постоянно смеется надо мной, у меня же в доме! Только и думает, как бы поменьше работать и побольше выжать из нас, и еще над нами же издевается — за то, что мы ей платим; нет чтобы постараться приготовить что-нибудь повкуснее, одна забота — как бы выговорить себе лишний выходной вечер, и всегда подсматривает за нами, и высмеивает нас, и копит против нас злобу, и ненавидит нас!
Вестл уже спала, а он все лежал и думал:
«А вот тот парнишка негр, с которым я проучился вместе с первого до последнего класса, — как его звали, Эмерсон Вулкейп, что ли? — ведь всегда держал себя тихо, прилично, а мне все-таки неприятно было видеть его черную физиономию среди наших белых девочек.
Собственно говоря, физиономия у него даже не была черная. Он был не смуглее меня; мы и не знали бы, что в нем есть негритянская кровь, если бы нам не рассказали. А все-таки когда уж знаешь, так о человеке привыкаешь думать, как о негре, и я помню, как я, бывало, злился, когда он вылезал вперед и отвечал на вопросы, на которые Джад или Элиот не могли ответить.
Или эти черные солдаты-грузчики в Италии — я ни одному из них слова не сказал, но всегда в них чувствовалось что-то не то, — и как они смотрели на нас! Да я ни одному заслуженному генералу не позволил бы смотреть на меня так, как эти черномазые! Да, если мы хотим отстоять достижения нашей цивилизации, нужна твердость и выдержка, так, чтобы ниггеры знали свое место. Хотя, боюсь, мне не всегда удается проявлять твердость с этой мартышкой Белфридой!»
Славный молодой финансист-воин, законный наследник шпагоглотателей Дюма, философствующих аристократов Толстого, доблестных джентльменов Киплинга, ворочался в постели, не чувствуя душевного покоя.
4
Вновь они изведали предрождественский праздничный подъем, почти позабытый за эти годы войны. Их друзья и сверстники еще воевали в Европе или на Тихом океане, и Нийл и Вестл думали о них не меньше, чем о Бидди, когда носились по городу в поисках елки чуть не за месяц до рождества.
Они рассчитывали, что Белфрида, как добрый и преданный член семьи, разделит их святочные утехи, и Вестл с трепетом подступила к ней:
— Мы с мистером Кингсбладом выбрали чудесную елку, сегодня рассыльный ее принесет. Пока спрячем ее в гараже. Вы нам поможете в устройстве этого маленького праздника, хорошо? Елка ведь так же для вас, как и для нас.
— У нас дома своя елка будет.
— О, у вас на Майо-стрит тоже бывают елки?
— Да, у нас на Майо-стрит бывают елки! И семьи у нас на Майо-стрит тоже бывают!
Вестл больше рассердилась на себя, чем на девушку. В самом деле, она говорила с ней так, будто праздник рождества изобрели Отцы Пилигримы в Плимуте, вместе с Санта-Клаусом и елкой, а заодно и зимним солнцестоянием, и для лиц африканского происхождения все это должно быть приятной новинкой. Она промямлила:
— Да, конечно… Я хотела — то есть я не хотела — я просто думала, что вам будет приятно…
Белфрида беспечно возразила:
— Нет, спасибо. Я сегодня иду гулять с моим молодым человеком, — и тут же удалилась, оставив Вестл и Нийла в полной растерянности посреди кухни, которую они так любили раньше, пока Белфрида не превратила ее в чужое, вражеское логово.
— Скорей уйдем отсюда! Тут все пропахло ею! — вскипел Нийл.
— Да, мне тоже неприятно стало входить сюда. Она так держится, как будто я — вторгшийся враг, как будто вот сейчас я загляну в холодильник и проверю, чисто ли у нее там.
— Ты в самом деле туда заглядываешь. И там в самом деле грязно.
— Чего я не выношу, это выражения ее глаз, когда попросишь ее сделать что-нибудь экстренное. Она все сделает, но каждый раз почему-то ждешь, что она откажется, и как тогда быть — выгнать ее или извиниться? Ах ты, господи!
Нийл похвастал:
— Ну, на меня эти взгляды больше не действуют, но чего я не выношу, так это ее манеры никогда не вытряхивать все пепельницы. Кажется, она под страхом смерти и то хоть в одной оставила бы окурки. Честное слово, она, наверно, записывает это себе, чтоб не забыть.
— Нет, все ничего по сравнению с этим мрачным взглядом — точно вот сейчас она выхватит бритву.
— Кажется, лучшие черные специалисты отдают теперь предпочтение лому, — сказал Нийл. — Ох, прости, пожалуйста. Это грубые шутки. Бедняжка Белфрида — с утра до ночи над грязной посудой. У нас просто развивается негрофобия.
Но на следующий день, после обеда. Нийл снова забушевал:
— Нужно все-таки что-нибудь сделать с нашей Топси. Может быть, действительно пора ее уволить. Такой гадостью она еще нас никогда не кормила. Мясо как подметка, и потом я всегда считал, что негры — мастера готовить бататы, но Белфрида ухитряется придать им вкус пареной тыквы. А пудинг, по-моему, у нас уже четвертый раз на этой неделе.
— Второй. Но я все-таки надеюсь, что завтра уговорю ее приготовить что-нибудь другое — ведь у нас обедают Хавоки. Так как я терпеть не могу Кертиса, то тем более обязана угостить его на славу.
Назавтра Белфрида действительно приготовила кое-что другое. Она просто не появилась.
Кертис, сын дюжего подрядчика Буна Хавока, был недоразумением с самого младенчества. Видимо, шумная веселость отца и крикливость матери еще в колыбели сбили его с толку. Это был здоровенный малый, недурной собой, хоть и сумрачного вида, и у него постоянно водились деньги, но он никогда не имел успеха — ни у девушек, чью любовь пытался купить, ни у юношей, которых старался залучить в собутыльники.
В январе 1942 года состоялась свадьба Кертиса с Нэнси Пзорт, дочерью простого огородника, и в том же месяце у них родилась дочка Пегги, а сам Кертис сбежал в морскую пехоту. Хавок-отец весьма бурно негодовал по поводу женитьбы сына, его сына, на какой-то нищей славянке, но когда Кертис после ранения вернулся из армии в чине капрала, он устроил ему номинальную должность в Национальном банке «Блю Окс» и купил молодым супругам хорошенькую белую виллу, крытую зеленой черепицей, рядом с домом Нийла.
Бидди, в солидности своих четырех лет, считала трехлетнюю Пегги Хавок маленькой, но это не мешало им целые дни играть вместе. Кертис был уверен, что Нийл, как собрат по профессии и бывший однокашник, должен его любить и с удовольствием выслушивать его сальные рассказы об интрижках с банковскими стенографистками. Спастись от Кертиса было трудно.
Он вваливался в дом в самые неожиданные часы, от рассвета до глубокой ночи, твердо рассчитывая на чашку кофе, коктейль и благодарную аудиторию, и до того надоел Нийлу и Вестл, что они особенно старались быть с ним любезными. Кроме того, они от души жалели бедную Нэнси Пзорт Хавок, беспечное дитя природы, затесавшееся в семью банкиров-разбойников.
В декабрьский вечер, о котором идет речь, Кингсблады ждали Хавоков к обеду.
Вестл относилась к этой перспективе со спокойной решимостью. Она съездила на рынок за голубями, каштанами и грибами и в утро испытания обратилась к Белфриде тоном, каким новоиспеченный капитан обращается к бывалому старику сержанту:
— Белфрида, голубушка, я ко второму завтраку дома не буду, так вы сварите Бидди овсянку. И постарайтесь закатить для Хавоков такой обед, чтобы у них глаза на лоб полезли. Времени у вас хватит — целый день. Стол накройте вышитой скатертью и возьмите парадное серебро.
Белфрида молча кивнула, и Вестл уехала в наилучшем расположении духа. Нийл должен был вернуться автобусом; сегодня была ее очередь пользоваться машиной, и она являла собой прелестное зрелище, когда катила в Дамский клуб на завтрак с бриджем.
Партию в бридж она выиграла.
Из клуба она поехала с Джинни Тимберлейн в Загородный район, где находился элегантный особняк судьи Тимберлейна. Джинни купила новый кротовый жакет, ради которого стоило специально проехаться в такую даль, и Вестл просидела у нее до шести часов. Она надеялась, что стол у Белфриды накрыт, а голуби выпотрошены и что Бидди отнесется к загулявшей маме снисходительно.
Она торопливо вбежала в дом, который казался непонятно пустым и тихим. Никто не отозвался на ее «Ау-у!»; внизу, наверху, в кухне никого не было. Голуби в своем натуральном виде лежали в холодильнике, а на кухонном столе валялась записка, писанная рукой Белфриды — аккуратным, стандартным почерком:
«Мой дедушка заболел, я ушла к нему. Бидди отвела к бабушке Кингсблад, постараюсь вернуться вечером. Белфрида».
Вестл произнесла одно краткое, но весьма необычное в устах дамы слово и сразу же принялась действовать. Она позвонила сестре Нийла, Джоан, чтобы та привела ребенка, затем накинула рабочий халат и стала потрошить голубей и готовить подливку. Когда явился Нийл, она сказала только:
— Эта черная потаскушка все бросила и ушла до ночи. Я всегда знала, что она дрянь. Накрывай на стол. Вышитую скатерть и вообще весь реквизит.
Его длинные веснушчатые пальцы орудовали проворно и ловко, он отлично справился со своим делом и крикнул Вестл:
— Когда я останусь без работы, мы сможем вдвоем наниматься в богатые дома, кухаркой и лакеем.
— Этим и кончится, вероятно, если демократы и коммунисты не перестанут взвинчивать подоходный налог.
Кертис и Нэнси Хавок прибыли с шумом и криками без пяти семь. Они опаздывали всюду, но к выпивке всегда являлись раньше времени. Добродушная Нэнси занялась бататами во фритюре, а Кертис вызвался сбивать коктейли, что было чревато последствиями, так как его излюбленный рецепт включал 90 процентов джина, 5 процентов вермута и 5 процентов виски. Когда сели за стол — не позже чем в двадцать пять минут восьмого, — Кертис уже был в самом развеселом и боевом настроении.
— Сегодня же увольте эту черномазую гадину. Я ведь вам всегда говорил: все ниггеры сволочи. Без кнута от них уважения не ждите. Черт, до чего же я не выношу это черное племя. Есть у меня в Вашингтоне один знакомый тип, который все насквозь знает, так он говорит, что конгресс собирается восстановить рабство. И правильно сделает. Эх, хотел бы я посмотреть, как какого-нибудь черномазого профессора погонят опять в поле собирать хлопок, а станет фордыбачиться, так разложат на бочке и всыплют пятьдесят горячих!
— И все ты путаешь, — добродушно вступилась его жена. — Совсем не то он говорил, а просто, что наши заправилы в конгрессе надумали выслать всех черных в Африку. Вот это разумно, по-моему.
Кертис уже был в достаточных градусах, чтобы закричать на жену:
— Ах ты, полячка паршивая, так я, значит, вру?
Нийл расправил свои широкие плечи и уже собирался сказать: «Хавок, замолчи-ка ты лучше и ступай домой», — но Нэнси, польщенная столь пылким вниманием, заворковала:
— Ну что ты, миленький, что ты, разве красиво так говорить! — И тут же заулыбалась Вестл: — Правда, вышвырните вы эту мразь (что на нормальном человеческом языке означало: увольте эту негритянку). Я вам порекомендую девушку — мою двоюродную сестру, Шерли Пзорт. Она работала на заводе Уоргейта, ее уволили за то, что она самую малость покрутила с мастером.
Но это уязвило аристократическую чувствительность Кертиса, и он возразил:
— Довольно с меня твоего папаши-навозника, не хватало еще, чтоб потаскуха-сестрица пошла в кухарки к соседям, да еще каким — к зубодерову сыну!
Нийл раскрыл было рот, но Вестл уже торопила всех на кухню мыть посуду, и добрососедские отношения были спасены, хотя бы и ценой тарелки, которую тут же разбил Кертис.
Не иначе как магия или дар ясновидения помогли Белфриде так рассчитать время, чтобы влететь в кухню в ту самую минуту, когда Нийл вытирал последнюю кастрюльку.
— Добрый вечер, — прощебетала она, и Нийлу показалось, что при этом она подмигнула Кертису. — Дедушка у меня заболел. Так некстати. Ну, спокойной ночи всей компании!
Если от нее и пахло джином — наверно, пахло! — этого никто из них не мог бы разобрать. Она юркнула к себе, не потрудившись даже достать кубики льда из холодильника, хотя было совершенно ясно, что лед понадобится, если Кертиса захотят удержать в состоянии полного обалдения, как того требовали хавоковские представления о гостеприимстве — своем и чужом. Нийл проводил ее выразительным взглядом, но Вестл предостерегла его:
— Шш, шш! Все-таки кой в чем она мне помогает.
— Да ведь она хочет, чтоб мы ее уволили! Она сама добивается этого! Если б я сказал слово, у нее уже было заготовлено сто в ответ. Зря мы лишили ее такого удовольствия. А этот наглый взгляд — да я просто разорвать ее готов.
— Ну ладно, ты уж ее не трогай до рождественских праздников, а потом я займусь этим и подыщу другую, — пообещала Вестл.
5
У Нийла постоянно было такое чувство, будто Белфрида где-то рядом, и от близости этой ехидной маленькой тени его бело-розовое арийское величие казалось искусственно раздутым. Когда он брился, ему мерещилось, что она стоит у него за спиной и ухмыляется. Когда он авторитетно отвечал Бидди на ее вопросы или объяснял, что боженька велел нам посещать воскресную школу (до восемнадцати лет включительно), в ушах у него стоял лукавый смешок Белфриды.
И как раз теперь, когда он, здоровенный сенбернар, спасовал перед ее комариным ничтожеством, Белфрида вздумала выступить в качестве поборницы расового равноправия.
В доме уже несколько лет жил черный кокер-спаниель, которому дали кличку «Ниггер» — просто потому, что так обычно называют черных собак. Это был ласковый пес с большими печальными глазами, лучший друг Бидди — если не считать Белфриды.
Незадолго до рождества, снежным декабрьским вечером, Нийл в самом лучшем настроении вернулся из банка домой. Вестл отворила ему дверь, а потом вышла на крыльцо и принялась звать:
— Ниггер, Ниггер, сюда, Ниг, сюда!
Собака примчалась и восторженно заплясала вокруг Бидди, в избытке чувств едва не сбив ее с ног, а молодые родители любовались на эту сцену. Это была настоящая семейная идиллия, длившаяся, пока Белфрида, черная роза, непозволительно красивая в своем непозволительно коротком черном платье, не нарушила ее замечанием:
— До чего же вы, видно, презираете нас, негров!
Ни разу до сих пор им не приходилось слышать, чтобы негр в разговоре коснулся расового вопроса; и голос Вестл звучал растерянно и почти жалобно, когда она откликнулась:
— Как, почему?
— Стоите и кричите на всю улицу: «Ниггер, ниггер, ниггер!»
— Голубушка, да ведь так же зовут собаку! Обыкновенная собачья кличка!
— Вот и плохо, что вы так собак зовете. Мы, негры, не любим слова «ниггер», и тем хуже, если для вас что негр, что собака — все равно…
Нийл разозлился:
— Отлично, пожалуйста, мы переменим кличку! Для вас мы на все готовы! Будем звать пса «Принц»!
Но его сарказм не дошел; упоенная миссионерским пылом, Белфрида милостиво бросила: «Вот и прекрасно!» — и удалилась, а Бидди, беспечный беленький мотылек, запрыгала и закричала:
— Не хочу, чтоб меняли кличку! Ниггер, Ниггер, Ниггер!
Ее звонкий голосок придавал этому слову такую прелесть, что корректные родители не могли удержаться от улыбки, и этого было достаточно: маленькая примадонна почувствовала, что ее номер имеет успех.
Не слушая ничего, она понеслась по всем комнатам с громкими криками: «Ниггер, Ниггер!» — а спаниель влюбленно следовал за ней, несколько озадаченный этим неожиданным интересом к его имени, но в общем очень довольный.
Рассыльного, который явился с рождественскими покупками, безупречного арийца, Билли поспешила приветствовать (к немалой его досаде) дружеским: «Хелло, мистер Ниггер!»
— Так не нужно говорить, деточка! — сказала Вестл.
У Бидди был довольно покладистый характер, но это требование она сочла бессмысленным.
— А почему ты и папа так говорите? Почему вы Ниггера назвали Ниггером? — резонно спросила она.
— Мы тоже больше не будем. Мы решили, что, пожалуй, это в самом деле нехорошее слово. — Голос Вестл звучал уж очень ласково.
— Нет, это хорошее слово! — сказала Бидди убежденно.
Заглянул Роберт Кингсблад, старший брат Нийла, в чаянии даровой выпивки, и Бидди встретила его возгласом: «Дядя Ниггер пришел!»
— Это еще что? — изумился дядя Роберт.
А Вестл прикрикнула:
— Бидди! Сию же минуту перестань!
Но Бидди, взбудораженная общим вниманием, расходилась почти до истерики, как это бывает — и всегда некстати — даже с самыми хорошими и здоровыми детьми; она помчалась в кухню, и через минуту они в ужасе услыхали, как она окликнула Белфриду:
— Хелло, мисс Ниггер!
В довершение несчастья они услыхали, что Белфрида захохотала в ответ.
Пришлось объяснить все братцу Роберту, который был любопытен, как кошка, и примерно так же умен.
Он тут же высказал свое авторитетное мнение Коммерческого Директора Хлебопекарной Компании Остеруд, Производство Хлеба Витавим, Несравненный Вкус и Аромат, Залог Здоровья и Наслаждения:
— Вас интересует, как поступать с неграми, чтобы обходиться без неприятностей? Могу сказать вам, как поступать с неграми, чтобы обходиться без неприятностей. Наша фирма не знает никаких неприятностей с неграми, и нам никогда не приходится увольнять их, — по той простой причине, что мы никогда их не нанимаем. Вот вам самый лучший способ обходиться без неприятностей. Понятно? А между прочим, знаете ли, немудрено, что Белфрида разобиделась, когда вы прямо в глаза обозвали ее «ниггером».
— Да мы и не думали обзывать ее, Боб. Это мы собаку звали Ниггер, — объяснила Вестл.
— Ну, от этого не легче. Факт тот, что девчонка разобиделась. А не нанимали бы вы ее, не пришлось бы ей обижаться. Вот и видно разницу в так называемых врожденных умственных способностях у белой и черной расы. Я, например, и не подумал бы обижаться, если бы кто меня назвал «ниггер». Понятно? Ваша беда в том, что оба вы теряли время в колледжах вместо того, чтобы сразу заняться делом, как я, например. Первое правило — никогда не нанимайте негра. Ну, а дадут мне все-таки чего-нибудь выпить?
Таков был братец и дядя Роберт Кингсблад, коммерческий директор.
Хоть Белфрида и посмеялась, когда Бидди назвала ее «мисс Ниггер», за обедом выражение у нее снова было мученическое и оскорбленное; но во время десерта из кухни вдруг донесся оживленный шум: хихикала Белфрида, и ей вторил глуховатый мужской голос.
— Господи, что там еще такое! Пойду, налью себе воды, — решила Вестл, хотя прямо перед ее прибором стоял полный стакан.
Она осторожно пробралась в кухню. Там у яркого металлического столика стоял в небрежной позе высокий негр лет тридцати пяти. Кожа у него была темная, волосы курчавые, губы довольно толстые, но зато нос тонкий, как клинок. При взгляде на него приходили на ум не хлопковые поля, но оперетта, ипподром, веселый стук игральных костей. Его костюм составляли ярко-синие брюки, спортивная куртка в крупную клетку и нежно-розовый галстук бабочкой. У него были хорошие руки и крепкие плечи боксера в среднем весе; он был красив животной красотой, чуть даже страшноватой, должно быть, от того взгляда, которым он смотрел на Вестл, — дерзкого и насмешливого взгляда, как у человека, знавшего всех женщин от Сафо до королевы Марии и видевшего их насквозь. Его глаза не только раздевали Вестл; они намекали, что втайне и против воли ей это должно нравиться.
Она мысленно говорила себе: «Надо же так вырядиться, точно клоун в цирке!» — и в то же время смутно жалела, что ее положительный Нийл не способен надеть такой костюм и остаться романтически привлекательным.
Белфрида по-приятельски улыбнулась ей и заворковала:
— Ах, миссис Кингсблад, это мистер Борус Багдолл. Он владелец ночного клуба «Буги-Вуги» — чудное местечко. Мы с ним большие друзья. Он заехал проведать меня.
Речь Боруса лишь чуть-чуть отдавала сладковатым южнонегритянским акцентом:
— Я много слышал о миссис Кингсблад. Большая честь для меня. Могу я рассчитывать, что это не в последний раз?
«Он в глаза смеется надо мной!» — ужаснулась Вестл и, промямлив какие-то слова, которые едва ли могли служить доказательством ее интеллектуального превосходства, опрометью ринулась из кухни — без воды. В столовой она, смеясь, посмотрела на Нийла и сказала негромко и почти добродушно:
— Кажется, меня только что обхамили, и, кажется, герою это сошло с рук.
— Кто? Кертис?
— Нет, цветной джентльмен по имени Борус или Вирус Багдолл, мистер Багдолл, да, да, мистер, и прошу этого не забывать. Борус и Белфрида! Нет, все-таки комедия с этими неграми! Хотя, впрочем, почему комедия? Ты не поверишь, но я, кажется, только что удостоилась чести познакомиться с самым обаятельным и опасным прохвостом, какого когда-либо встречала.
— Да в чем там дело? Гость какой-нибудь в кухне? — терпеливо спросил Нийл.
— Ох, только, пожалуйста, не уподобляйся своему братцу Роберту!
— Но кто же этот нахал? Пойду посмотрю сам.
Он отправился в кухню, а Вестл шла сзади, гадая, кто — Нийл или Борус — останется на поле битвы. Но Борус исчез, исчезла и Белфрида, исчез и ярко-красный двухместный автомобиль, стоявший у заднего крыльца; только из раковины уныло выглядывала немытая посуда.
Добродушная Китти, сестра Нийла, на три года его старше, всегда была ему ближе всех в семье. Она была замужем за Чарльзом Сэйвордом, весьма симпатичным молодым юристом, который один срок занимал должность прокурора в городском суде. В этот вечер Китти и Чарльз пришли к Кингсбладам, чтобы заняться основным делом своей жизни — игрой в бридж.
Позабыв в священнодействии игры об ужасах домашнего мятежа, Вестл очень удивилась, когда случайно подняла голову и вдруг увидела Белфриду, делавшую ей знаки из полутемного коридора. Позади виднелся сардонический Борус Багдолл.
— Вернулись? В чем дело? — сердито спросила Вестл.
— Ах, миссис Кингсблад, мне очень жаль, но я должна уйти от вас. Совсем уйти. У меня дома заболели.
Суровая воительница вспыхнула:
— То есть как — уйти совсем, в такой час, не вымыв даже посуду?
Борус вставил небрежно:
— Вы можете вычесть с нее полдоллара за невымытую посуду.
Не только Вестл, но и все остальные с неловкостью почувствовали, что Борус смеется над ними.
— Да я вымою, — буркнула Белфрида.
— Нет, вы не вымоете! Я вас прошу уйти отсюда немедленно, чем скорее, тем лучше. Сейчас я расплачусь с вами. — Вестл прошествовала к своему белому письменному столику и нетерпеливо раскрыла аккуратненькую расходную книжку. — За вычетом того, что вы взяли в этом месяце вперед, вам причитается шестьдесят три доллара шестьдесят пять центов. Ой! У меня не хватит. — К игрокам: — Есть у кого-нибудь деньги?
С помощью Нийла и Чарльза Сэйворда она наскребла шестьдесят четыре доллара, но у Белфриды не нашлось сдачи.
— Для ровного счета пусть уж будет шестьдесят четыре, — промурлыкал Борус.
Нийл вскочил, воодушевленный романтическим побуждением выставить бандита за дверь, но, встретив непринужденно веселый взгляд Боруса, понял, что именно этого Борус и добивается — для собственного развлечения.
— Правильно. Пусть, для ровного счета, — сказал Нийл. — Всего хорошего, Белфрида. До свидания, мистер — э-э — Багдолл.
Он решительно шагнул вперед и протянул Борусу руку, словно от имени немногочисленного, но избранного общества. Последовало короткое состязание в силе, — стальная хватка Боруса против кулака Нийла, — потом Борус улыбнулся. Эта улыбка так понравилась Нийлу, что прошло полминуты, прежде чем он вспомнил о своем превосходстве белого человека и произнес с подчеркнутой любезностью, которая сама по себе есть оскорбление:
— Вы, может быть, посидите в кухне, мистер Багдолл, пока Белфрида уложит свои вещи.
— Да, благодарю вас, мистер Кингсблад. Да, я посижу в кухне, пока… пока мисс Грэй уложит свои вещи. — И исчез.
Вестл, наблюдавшая за сборами Белфриды, смеясь, вернулась в столовую.
— Вот черти, все-таки они нас посрамили!
— Как так? — спросили все.
— Я была просто в восторге, что с Белфридой покончено и она уезжает. С меня словно цепи свалились. И я решила подавить их своим великодушием — милостивая белая госпожа простила и не гневается. Я думала, они сядут в машину тихие, пристыженные (между прочим, какая у него машина! Мы даже и мечтать не можем о такой). Ничего подобного! Они укатили, крича во все горло: «Прощайте, дорогая!» Потому что, пока Белфрида наверху укладывала вещи, Борус перемыл всю посуду и самым аккуратным образом убрал ее в шкаф да еще оставил нам в кухне на столе подарок — четвертную бутыль шампанского! Господи, я до сих пор и не видала шампанского в четвертных бутылях, разве только на рекламных объявлениях.
— А какой мужчина! — восхищенно сказала Китти Сэйворд. — Как сложен, никогда не видела ничего подобного!
— Да, это мужчина, — рассеянно пробормотала Вестл.
Но Чарльз Сэйворд, добродушнейший из мужей, запротестовал:
— Вы что, забыли, что вы белые женщины? Увидели какого-то кабатчика, шарманщика, сводника, гангстера черномазого и растаяли обе. Честное слово, половина Америки сошла с ума — женская половина!
6
Теперь, когда Вестл сама готовила завтраки, они стали гораздо вкуснее, и всегда на столе была пепельница и утренний выпуск «Знамени фронтира». Время от времени Нийл пускался в пляс посреди кухни, напевая: «Опять все это наше!»
Только Бидди и Принц с упрямством, свойственным детям и животным, скучали по Белфриде, искали ее по всему дому, укоризненно смотрели на Нийла и Вестл, спрашивали, хотя и без слов: «Что вы сделали с нашим другом?»
Неделю спустя Вестл взяла новую прислугу — Шерли Пзорт, двоюродную сестру Нэнси Хавок.
Шерли с энтузиазмом готовилась разделить все радости наступающего рождества; она относилась к хозяевам даже теплее, чем им хотелось бы, и всегда звала Вестл «золотко». Это была типичная для того времени «финтифлюшка»: почти добродетельная молодая особа, ласковая и грациозная, как котенок, больше всего на свете любившая жевательную резинку и танцы.
С наступлением декабрьских холодов у Нийла начала побаливать раненая нога, и он все чаще думал о войне, о погибших товарищах, о прошлогоднем невеселом рождестве на госпитальной койке. Англичанки были заботливы и добры, но он тосковал о голосах Среднего Запада, о своей матери, Вестл и Бидди, о сестрах Китти и Джоан. Теперь они все снова вместе; это будет первое за три года рождество в кругу семьи.
Он думал о том, как повлияла на него война. Повлияла ли вообще?
Когда он лежал в госпитале, он был твердо уверен, что, вернувшись домой, все молодые солдаты объединятся, раз навсегда забьют вертящуюся дверь, на которой с одной стороны написано «республиканская партия», а с другой — «демократическая партия», и подадут свой голос за справедливость и процветание и за то, чтобы больше не было войн. Но, просидев шесть недель в банке и ничего за это время не услышав от банкиров, адвокатов и коммерсантов, кроме предсказаний, что этот субъект Рузвельт в 1950 году станет диктатором, он постепенно скатился к своей прежней вере в незыблемость многозначных цифр.
Но в последние дни его начали раздражать издевательские разговоры о «жидах», которые он часто слышал в теннисных клубах, Федеральном и Сильван-парк. Он думал:
«Вероятно, евреям так же неприятна кличка «жид», как моим франко-канадским предкам неприятно было прозвище «лягушатники». Мне нравился молодой лейтенант Розен, который подорвался на мине. Есть много евреев, которые ничем не отличаются от нас, — наверно, есть. Нужно мне усвоить либеральные взгляды, пока я еще молод, и потом уж держаться их всю жизнь, чтобы не попасть в подлецы, когда будешь уже пожилым и толстым и сделаешься директором этого банка — а может быть, и Первого Национального в Сент-Поле».
Размышлениям этим он предавался за своим столом, под мраморными сводами операционного зала Второго Национального Банка. Все утро ушло у него на дела по мелким ссудам; хлопотали о них преимущественно демобилизованные, желавшие открыть какую-нибудь торговлю, и Нийл старался сочетать благожелательность с осторожностью. Неверно, будто всякий банкир только и думает, как бы разорить все мелкие предприятия, принадлежащие отчаявшимся маленьким человечкам с больными дочерьми на руках. Не так уж легко заниматься банковским делом, когда вокруг тебя господствует нужда.
Перед ним лежала стопка тоненьких папок со сложнейшими финансовыми отчетами, но рядом с воспоминаниями о мечтах военных дней эти отчеты казались удивительно скучными. Он вздохнул, отложил сигарету и угрюмо покосился на изящную бронзовую табличку с надписью «Н.Кинсблад, Пом. Гл. Бухгалтера».
Когда в 1935 году он окончил Миннесотский университет, он думал заняться изучением медицины. Но летом он временно поступил рассыльным во Второй Национальный, а потом так и застрял под сводами этого уютного мавзолея; появилась Вестл, потом Бидди, и дверь захлопнулась, и он, в сущности, не жалел об этом. Он стал читать книги по банковскому делу; его повысили — сделали кассиром; он нравился клиенткам, любовавшимся его улыбкой и рыжей шевелюрой сквозь решетку, которой он не замечал. Директор Джон Уильямс Пратт отличал его за усердие, добродушие и честность, и в этом году, по возвращении из армии, он был произведен в помощники главного бухгалтера.
Мистер Пратт считал, что его молодым служащим полезно практиковаться во всех отраслях банковского дела, и Нийлу даже теперь приходилось отрываться от «привлечения вкладов» и деликатных переговоров со старыми клиентами, превысившими свой кредит, и проверять книги, подписывать кассовые чеки, учитывать фонды, а чтобы он не терял контакта с вкладчиками, Пратт каждый день заставлял его час-два просиживать у окошка кассы.
Главный бухгалтер, С.Эшиел Денвер, сосед по Сильван-парку, благоволил к нему не менее мистера Пратта.
В Гранд-Рипаблик насчитывалось восемь банков, из которых самым крупным был Национальный Банк «Блю Окс»: Нортон Трок — директор, Бун Хавок — председатель правления, Кертис Хавок — пустое место. Но мистер Пратт считал это учреждение, как и двенадцатиэтажную башню, в которой оно помещалось, грубо утилитарным. Зато во Втором Национальном (Первого не существовало) он видел воплощение истинных моргановских или тельсоновских традиций. Его двухэтажный мраморный храм с массивной бронзовой дверью, на углу Чиппева-авеню и Сибли-стрит, не имел помещений для сдачи внаем, и там не ютились разноплеменные массажисты и агенты по продаже сельскохозяйственных машин.
В операционном зале, под церковно-торжественными сводами, опиравшимися на мощные колонны зеленого итальянского мрамора, на безбрежной глади черного мраморного пола с вкрапленными в него квадратами и ромбиками гранита и розового кварца, в этой храмине, где не хватало только песнопений бухгалтерского клира, чтобы довершить атмосферу благолепия и платежеспособности, Нийл чувствовал себя лишь скромным служкою.
В сущности, он был просто школьником за партой в ряду других таких же парт.
Несмотря на бронзовую табличку с именем и ониксовые комбинированные часы-чернильницу-календарь-барометр-термометр, стол, за которым он сидел, был самый обыкновенный, маленький, слишком низкий по его росту, и в качестве единственных личных сокровищ Нийла на нем приютились фотография Вестл и Бидди в серебряной рамке, трубка и кисет с табаком, томик «Избранных детективных рассказов» и письмо от секретаря Ассоциации Бывших Однокурсников с просьбой об уплате очередного взноса.
Если были у Нийла особые достоинства, то на первом месте среди них стояла верность друзьям.
Его не покидала мысль, что большинство из тех десяти или двенадцати молодых людей, которых он называл своими «близкими друзьями», в том числе Элиот, Джад и Род, его «закадычные», проведут рождественские праздники по-прежнему в чужих краях, подвергаясь смертельной опасности.
Элиот Хансен, щеголь, страстный танцор, душа всех вечеринок, унаследовал от своего скромного норвежского папаши фирму «Свежесть» — Мороженое и Молочные Продукты; вдоль всех дорог, ведущих в Гранд-Рипаблик, можно было видеть на огромных щитах ее эмблему, горшок меда и монет в один цент.
Джад Браулер, коренастый, осмотрительный, сын Дункана Браулера, первого вице-директора предприятий Уоргейта, до войны вел оптовую торговлю черносливом и дешевым печеньем.
Украшением этой галереи являлся Родней Олдвик.
На пять лет старше Нийла, питомец Принстона и юридического факультета в Гарварде, а ныне заслуженный воин в чине майора танковых войск, Род Олдвик всегда был Настоящим Джентльменом, отважным Искателем Приключений. Он играл в поло, он великолепно ходил на лыжах, он обладал феноменальной зрительной памятью, позволявшей ему с одного взгляда запоминать целые печатные страницы. Он полностью соответствовал англо-прусскому стандарту идеального героя: густые волосы, широкие плечи, тонкая талия и шесть футов два дюйма росту. Майор Олдвик ни за что не вступил бы в связь с женщиной по положению ниже графини или же выше горничной, а живи он во времена рабства, он, вероятно, засекал бы своих рабов насмерть, но никогда не изводил бы их придирками. Можно было предположить, что в один прекрасный день его найдут мертвым в постели, своей или чужой, с кинжалом в груди или со съехавшим набок лавровым венком на высоком белом челе.
Нийл думал: будь его закадычные друзья здесь, можно бы поговорить с ними о том, чего он не мог понять в самом себе, например, о том, почему ему приятно ненавидеть Белфриду. Но тут же он должен был себе признаться, что все трое обычно уклонялись от беседы о более возвышенных предметах, чем ножки их стенографисток, от обсуждения более затруднительных тем, чем политика республиканской партии. Один только раз в жизни у Нийла был друг, с которым он мог говорить о страхе, о любви, о боге, но эта дружба длилась всего две недели.
Это был молодой капитан Эллертон, с которым Нийл познакомился на транспорте, везшем их в Италию. Они говорили весь день, всю ночь. Эллертон был конструктор-механик, любивший Моцарта, Юджина О'Нила, Тулуз-Лотрека и Веблена, и Нийлу совсем не казалось бестактным, когда он спрашивал: «Вы когда-нибудь думаете о личном бессмертии?» или: «А свою Вестл вы любите, потому что любите, или из чувства долга?»
Эллертон погиб от снайперской пули, спустя сорок две минуты после высадки в Италии.
Нийл никак не мог вспомнить, что он ответил, когда под сицилийскими звездами Тони Эллертон задумчиво спросил его: «А если вы знаете, что вам дана одна только жизнь, не жаль вам большую ее часть отдавать службе в банке?»
7
— У нас будет настоящее рождество, по всем правилам, — и гимны, и расстройство желудка назавтра, и все, все. Будем праздновать как следует, потому что война в будущем году кончится, и все наши мальчики вернутся домой… и масла станет больше, — ликовала Вестл.
Их елка была высокая красавица с дальних северных болот, но когда дело дошло до украшения, Вестл заявила, что война в самом деле ужасная вещь, потому что ни в Стандартных Ценах, ни у Тарра в «Эмпориуме» ничего нельзя найти, кроме серебряных шариков и сосулек из цветного стекла.
Она мужественно обследовала чердак в доме свекра и в ветхой, изломанной картонке, совсем как клад капитана Кидда в коробке из-под башмаков, обнаружила игрушки, сохранившиеся с добрых старых времен 1940 года: большую серебряную звезду, серебряно-золотого ангела, стеклянные вишни, апельсины и виноград, моток мишурного «дождя» и веселого маленького гипсового Санта-Клауса в красной шубе, с красным носом и курящейся трубкой во рту.
Она явилась домой точно ходячая рождественская витрина, и в тот же вечер елка на широкой спине Нийла перекочевала из гаража в гостиную, и Вестл, Нийл, Бидди, Принц и Шерли устроили вокруг нее шумный пляс.
В этом году была очередь Нийла угощать все племя Кингсбладов рождественским обедом. Поэтому Вестл, в пылу разбушевавшейся женской энергии, рыскала по магазину Тарра, составив себе строгую смету — семь подарков на каждые десять долларов, и совершила просто чудо, откопав у Бозарда для матери Нийла тройную нитку почти настоящего жемчуга, всего за одиннадцать долларов. И к ней еще даже не почти настоящий бриллиантовый кулон.
У Тарра Вестл «отхватила» и подарки для Бидди: прелестную старомодную куклу с льняными волосами и глазами, как звезды, похожую на Бидди, только потолще, и прелестный, вполне новомодный пулеметик, который в сороковых годах двадцатого века стал самым подходящим даром Христа-младенца для хорошей маленькой девочки. И тут же, у Тарра, она купила Принцу новый ошейник и резиновую кость, Шерли — вязаный шарф, а отцу Нийла — трубку розового дерева, которую добрый старик потом неустанно расхваливал и никогда не употреблял.
В качестве подарка самим себе Нийл и Вестл в сочельник уложили Бидди пораньше и поехали в «Пайнленд» танцевать.
— Просто ужасно, что тебе завтра придется кормить все мое голодное племя, — сказал Нийл.
— Солнышко, всякий, кто ухитрился попасть в число твоих родственников, — мой друг до гробовой доски. Даже тот твой троюродный брат, у которого заправочная станция в Гайавате, в Висконсине.
— А я зато очень тебя люблю и буду просить бога, чтоб нам еще пятьдесят раз встречать рождество вместе.
— Пью за это! — вскричала Вестл, поднимая свою рюмку с белым Creme de Menthe, который в Гранд-Рипаблик считается самым изысканным напитком.
Дрексель Гриншо, импозантный темнокожий метрдотель «Фьезоле», с подстриженными седыми усами, делавшими его похожим на гаитянского генерала французской выучки, улыбался, глядя на молодых господ, которые все еще так нежно любят друг друга. Его феодальная душа расцветала от близости к капитану Кингсбладу, будущему директору Второго Национального, и его молодой жене, истинной леди, родной дочери Энергосвета Прерий.
Дрексель думал: «Говорил ведь я этой дурочке Белфриде: не могла ужиться с такими благородными господами, значит, твоя вина. Если люди принадлежат к хорошему обществу, с ними у нас, негров, никогда неприятностей не будет. И разным агитаторам из цветных, вроде Клема Брэзенстара, я тоже всегда говорю, что от них нам, неграм, больше вреда, чем от самого злого белого хозяина, — а они смеются надо мной, называют меня «дядя Том»! Нищий сброд эти радикалы — и ничего не понимают в аристократическом обществе. У меня сердце радуется, когда я услуживаю такому джентльмену, как капитан Кингсблад, потому что уж это джентльмен так джентльмен».
Подобными мыслями тешил себя почтенный старый консерватор, хотя казалось, что внимание его целиком поглощено салфетками. Когда Нийл и Вест встали, Дрексель смиренно проводил их до дверей, приговаривая:
— Для нас всегда большая честь видеть вас, капитан, и вас, мэм, в «Физоли», надеюсь, вы нам скоро опять доставите удовольствие служить вам.
Дрексель был даже оскорблен, когда Нийл ответил на его восторги долларовой бумажкой, но сдержался и не показал виду.
В полночь уже из дому Нийл позвонил родителям и поздравил их с наступающим рождеством, а потом они занялись подарками. Вестл разыскала где-то измятую оберточную бумагу, оставшуюся еще от довоенных праздников, — красную, серебряную, лимонно-желтую; она разгладила ее утюгом, и теперь куча разнокалиберных свертков под елкой выглядела очень нарядно.
— Как красиво! — ликовала она. — Милый мой, дорогой, вот уже семнадцать минут, как наступило рождество, и ты дома, а не на войне, целый и невредимый, и все нас любят, и мы будем счастливы всю жизнь.
Они молча прижались друг к другу.
Наутро, в первый день рождества, они еще до завтрака спустились в гостиную разбирать подарки — красивая, спокойная, дружная пара, оба в фланелевых халатах с красными кушаками; и Бидди, сияющая кубышка в белом с голубым халатике, и Шерли, смуглая эскимоска, и Принц, который лаял и вертелся волчком от восторга, вместе с ними принялись ворошить груду пакетов под елкой. Вестл осталась очень довольна главным своим подарком — меховой пелериной, потому что она была красивее, чем у Нэнси Хавок. На завтрак ели вафли всем домом, включая даже Принца, что уж было совершенно лишнее; слушали по радио рождественские гимны, а потом все бросились одеваться и заканчивать приготовления к семейному торжеству, назначенному на два часа дня.
Главою семьи был отец Нийла, доктор Кеннет М.Кингсблад, заслуживший всеобщее уважение в городе отличным качеством своих зубопротезных работ, своими чтениями из библии (для взрослых) при баптистской церкви, меткой стрельбой по тарелочкам и головоломками, которые он искусно выпиливал лобзиком из фанеры. Он был рыжеватый блондин, высокий, худой, добрый и нерешительный.
Мать Нийла, Фэйт, маленькая, хрупкая, темноволосая женщина, производила всегда такое впечатление, будто она побаивается жизни, будто недоумевает, неужели эти четверо рослых здоровых людей в самом деле ее дети. Но темные ее глаза горели таким же огнем, как у ее матери, Жюли Саксинар, разбитной, пикантной француженки, которой только бубна да красного платка не хватало для полного сходства с цыганкой. Глаза Фэйт словно жили своей жизнью, отдельно от этого тихого неопределенного существа, которое никогда не откликалось на то, что творится кругом.
Следующим по старшинству шел брат Роберт, коммерческий директор Хлеба Витавим, со своей женой Элис и тремя детьми, из которых меньшая, Руби, была подружкой Бидди. Но Элис была не только женой Роберта Кингсблада. Она приходилась родной сестрой Харолду В.Уиттику, чемпиону-тяжеловесу рекламной поэзии.
За ними следовали сестра Нийла, Китти Сэйворд и ее Чарльз. А самым младшим представителем этого поколения Кингсбладов являлась Джоан, которая еще жила в родительском доме. Джоан была десятью годами моложе Нийла, довольно хорошенькая, довольно умная, довольно неинтересная. Она думала, что хочет уехать в Чикаго изучать искусство моделирования одежды, но в то же время знала, что хочет остаться здесь и выйти замуж, предпочтительно за своего жениха, приятного молодого человека, в данное время лейтенанта военного флота.
Итак, все племя было в сборе — девять взрослых и шестеро детей, не считая Шерли и Принца, — и хотя разговор шел о России, а также о химиотерапии, в доме царила атмосфера фермерской кухни не столь уже далеких предков. Младшие женщины хлопотали у плиты и накрывали на стол (почетное место было предоставлено хрустальной вазе с крюшоном), Нийл заботливо угощал мужчин коктейлями, а у камина в глубоком синем кресле восседала Фэйт Кингсблад и неопределенно улыбалась всем.
Доктор Кеннет занял хозяйское место во главе стола, за которым разместились все пятнадцать человек. (Пришлось подставить два ломберных столика, но под накрахмаленной скатертью это было незаметно.) Он любовно оглядел два ряда здоровых, цветущих людей, радуясь тому, какие они все красивые и веселые. Потом он склонил голову и высоким задушевным голосом прочитал молитву:
— Отец наш небесный, в эти полные опасностей дни ты уберег нас и сохранил, и вот мы вновь собрались вместе, чтобы отпраздновать великий праздник рождества сына твоего. Сохрани же нас всех, господи, и в наступающем году и не оставь своим благословением детей моих, благослови их, господи, благослови их.
Нийлу вспомнилось прошлогоднее рождество в госпитальной палате. Взгляд его скользнул по всем этим дорогим лицам, задержался на морщинистом лице отца, и у него вдруг перехватило дыхание.
— Ух ты, целых две индейки! — с уважением прошептала Руби.
После обеда дети, собаки и тетушки разбрелись по комнатам спать. Под вечер дом почтили своим посещением отец Вестл, Мортон Бихаус, и его брат Оливер. Они принесли подарки, ненужные вещицы из кожи и из пластмассы под слоновую кость. Доктору Кеннету приятно было видеть, как его сын просто и непринужденно держит себя с легендарными Бихаусами.
«Молодец мальчик, — радовался доктор Кеннет. — Он далеко пойдет. Пожалуй, пора посвятить его в Тайну».
Во время мирного семейного ужина и потом, когда играли в джин-рамми и шарады, он не спускал глаз с младшего сына и, наконец, улучив минуту, ласково сказал ему:
— Молодой человек, вы, видимо, очень хорошо чувствуете себя, развлекаясь в семейном кругу, но все же позвольте старику отцу увести вас в кабинет, поговорить о жизни.
Доктору Кеннету свойственно было иногда увлекаться неожиданными фантазиями, и потому Нийл поднимался за ним по лестнице с легким чувством недоуменного беспокойства.
8
Доктор Кеннет М.Кингсблад («М» была первая буква фамилии его матери, шотландки Дженни Маккейл) свой жизненный путь протрусил мелкой благодушной рысцой. Он гордился тем, что однажды ехал в поезде вместе с бывшим президентом Гербертом Гувером, и тем, что завел у себя в кабинете новый рентгеновский аппарат, а каждый из его четверых детей был для него все равно, что золотая пломба. Он быстро утомлялся, чересчур быстро для своих шестидесяти лет, и в сердце у него бывали перебои, и он думал, что, пожалуй, в будущем году надо бы им с мамашей уехать во Флориду на март месяц, когда в Миннесоте начнутся метели.
Его радовала мысль, что Нийл, баловень судьбы, станет финансистом и муниципальным деятелем и осуществит великие реформы — постройку новых школьных зданий, сооружение запасного водохранилища, все то, что сам доктор Кеннет мечтал совершить, но не мог, так как зубоврачебная практика, сад и головоломки не оставляли ему для этого времени.
Когда они уселись в «кабинете» Нийла, коленями касаясь друг друга, и закурили высшего качества сигары, уместные лишь в рождественские дни или на обеде в честь губернатора, доктор Кеннет, пуская клубы дыма, начал:
— Чудно, что тебе пришло в голову назвать свою собаку Принцем, мой мальчик; ведь у нашей семьи есть особые основания интересоваться принцами.
— Это почему же, папа?
— Видишь ли, может быть, это все глупости. Я привык про себя называть это Тайной — тебе, наверно, кажется, что я говорю загадками, но, понимаешь, я сам в это не очень верю, и из всей семьи я только тебе одному решился рассказать, потому что ты один — человек с воображением и не станешь смеяться надо мной. Но все-таки есть один шанс на десять тысяч, что вся история может оказаться правдой, а если так, то, пожалуй, Бихаусам придется гордиться родством с Кингсбладами, а не наоборот.
— Папа, но в чем же состоит эта великая тайна?
— Видишь ли, мой отец, а еще раньше отец моего отца верили, что в наших жилах течет самая подлинная королевская кровь.
— То есть как?
— А вот так. Очень возможно, что мы короли. Кроме шуток. И не из каких-нибудь там французских или немецких правителишек — разных Людовиков, Фердинандов и тому подобное, а настоящие высокородные английские короли. Тебе никогда не казалось, что Кингсблад — необычная фамилия? Многим это кажется, и не зря. По теории моего отца (верил он сам в нее или нет, честное слово, не знаю), прозвище «Кингсблад»[1] было когда-то дано нашим предкам в знак того, что в жилах у них течет королевская кровь, — а значит, и у нас с тобой тоже! Ну, что ты на это скажешь?
— Я, пожалуй, не так уж этому рад, папа. Мне больше нравится жить в Гранд-Рипаблик, чем в каком-нибудь старом дворце со сквозняками.
— О, в этом я с тобой вполне согласен. Там у них, наверно, даже парового отопления нет. Но мне кажется, было бы приятно по-прежнему жить здесь и заниматься своим делом и в то же время знать, что по праву мы, возможно, законные английские короли. Твоей матери это польстило бы, и Джоан, и Вестл тоже, а когда-нибудь и Бидди. Да и твое положение в банке не стало бы хуже, если б мистер Пратт вдруг узнал, какая высокая особа служит у него помощником главного бухгалтера. Если только это правда!
Согласно этой теории, выходит, что я, по праву прямого наследования, — король Англии, а ты — принц Уэльский. То есть, конечно, законный претендент на корону после меня твой брат, но думаю (если бы все это оказалось правдой), то я просил бы Роберта отречься в твою пользу. Ну, куда ему в самом деле — человек, совершенно лишенный воображения, никак я не могу добиться, чтобы он не называл мою великолепную коллекцию флоридских раковин «хламом»!
Так вот, история, значит, такова. То есть так мне ее рассказывал мой отец Уильям, из которого, возможно, не бог весть какой вышел бы король, но фермер и барышник он был знаменитый на весь округ Блю-Эрс. Он об этом слышал от своего отца, Дэниела Кингсблада, того, что воевал в Гражданскую войну, а Дэниелу рассказывал его отец, Генри Арагон Кингсблад, который родился в Англии в графстве Кент в 1797 году и эмигрировал в Нью-Джерси, отсидев в тюрьме за то, что на какой-то ярмарке (или что у них там бывало в Англии в те времена?) во всеуслышание объявил себя законным государем Великобритании и Ирландии и всех Заморских Королевств — так, кажется? Он будто бы должен был царствовать под именем короля Генриха Девятого. Что ж, он ведь родился в Англии, может, он и в самом деле знал — может, это правда! Как ты думаешь?
— Да, это вообще интересно, но мы ведь все равно ничего не могли бы доказать, даже если это правда.
— Вот, вот, в том-то и дело. Я заметил, что ты теперь гораздо больше читаешь, поскольку нога не дает тебе заниматься спортом. И я решил: может, для тебя будет развлечением проверить это. Мне бы все-таки хотелось узнать правду, прежде чем я закрою глаза.
Конечно, письменных доказательств у нас нет никаких. Я собирался сам заняться проверкой, да все некогда — тут и дела, и домашние заботы, и прочее, ведь у нас, у дантистов, минуты свободной нет, особенно сейчас, когда столько врачей ушло в армию, а люди совершенно не желают считаться с твоими приемными часами и требуют, чтобы их принимали, когда им вздумается, особенно все эти молодые лоботрясы, которые приезжают домой на каникулы. Дай им только волю, они тебя замучают до смерти, а как по счетам платить, так в кусты, и в общем, так я и не собрался. Но, насколько мне известно, дело обстоит примерно следующим образом.
Этот самый Генри Арагон Кингсблад утверждал, что он происходит от сына Генриха Восьмого и Екатерины Арагонской, который, стало быть, являлся законным наследником престола. Но когда Генрих рассердился на Екатерину и порешил выгнать ее вон, он скрыл существование этого сына — его имя как будто было Джулиан, принц Джулиан, а добрые крестьяне, которые его вырастили и воспитали, звали его Джулиан Кингсблад, то есть Джулиан Королевской Крови. Отсюда и наша фамилия.
Конечно, если он был сыном Екатерины Арагонской, значит, в нас есть и испанская кровь, а это мне не очень-то нравится — я всегда гордился, что мы чистой англо-шотландской породы: моя мать, имей в виду, приходилась дальней родней Брюсу и Уоллесу и еще разным знаменитым шотландским полководцам — тут уж без всяких сомнений! Но все-таки, если пораздумать, так у этой Екатерины родители были Фердинанд и Изабелла, те самые, которые приказали Колумбу поехать и открыть Америку, и, значит, она по своему происхождению не хуже англичанки, ну а наши рыжие волосы, мои и твои, показывают, что в конце концов испанская кровь нам не повредила.
Вот и вся история. Может быть, в ней нет ни слова правды, — но все-таки ты не попытаешься ли выяснить, мой мальчик?
У него был такой умоляющий взгляд. Нийл очень любил своего кроткого отца; он пообещал:
— Сделаю, что могу, папа.
— Буду очень благодарен тебе. Главное, помни, что здесь нет ничего невозможного. Был один такой человек на Западе, в Альберте, что ли, или в Уайоминге, — говорили, он мормон, но я не верю, хотя кто его знает, — и вдруг оказалось, что он самый настоящий граф из какого-то владетельного рода, — а ведь был простой скотовод! Вот видишь.
— Во всяком случае, занятно будет узнать, — согласился Нийл. — И знаешь, шутки шутками, но когда Бидди стояла под елкой в золоченой короне, она, правда, была похожа на маленькую королеву. Ладно, возьмемся за это дело.
И в январе нового года он за него взялся.
9
Ему не раз приходилось читать о претендентах на титулы и земли, и он не сомневался, что домыслы его отца — чистейшая блажь. Но они забавляли его своей дерзкой наивностью, и, кроме того, ему нужно было новое занятие.
Из-за ноги он не мог ни ходить на лыжах, ни пробираться по сугробам, охотясь на кроликов, так что единственным доступным ему видом спорта оставалось плавание в бассейне Федерального клуба. Ему до смерти надоело играть в бридж, решать кроссворды, читать без разбора путешествия, биографии и духовную плесень войны — романы, в которых распутницы времен Елизаветы приводят в восхищение миллионы почтенных читателей, совершая поступки, заведомо предосудительные для молодой девушки из города Элизабет, штат Нью-Джерси.
Его радовало, что он будет именно английским королем. В Англии он почти ничего не видел, кроме пристаней, поездов и старинного замка, где помещался госпиталь, но к заботливым, усталым англичанкам, которые за ним ухаживали, привязался, как к родным. Выздоравливая, он целыми днями смотрел из окна своей палаты на каменную церковь с зубчатой башней, всю в перевитых струнах заиндевелого плюща, и видел, как через ее стрельчатые двери входят и выходят Тэсс и Джуд, маленькая Нелл и Лорна Дун, а также Дж. Г.Ридер и сэр Генри Баскервиль. Ни одно здание в Гранд-Рипаблик — даже остатки бревенчатого форта времен Гражданской войны, который теперь был перестроен в гараж для такси, — не внушало ему такого восхищения непреходящим мужеством человека.
Он гораздо яснее, чем отец, представлял себе, что произойдет, если до лондонских газет дойдут сведения, будто какой-то американец, банковский служащий, решил стать королем Англии. Но все же, если есть хоть один шанс на миллион, что это правда…
Почему не порыться в книгах по истории и не выяснить, является ли Тайна его отца нелепостью на сто или только на девяносто девять процентов? Бидди понравилось бы рассказывать всем, что она королевская дочка. Судя по властным замашкам этой девицы, с нее станется собрать вокруг себя соседских ребятишек и пропищать: «Разрешаю вам приблизиться к нашей королевской особе». Ему вспомнилась бумажная корона, которую она носила так гордо, хоть и немного криво.
В кухне, потягивая коктейль, он рассказал всю историю Вестл. Воскресный зимний день клонился к вечеру. Они наелись за обедом индейки, вздремнули, послушали по радио филармонический оркестр, проштудировали странички спорта и мод в воскресном номере «Знамени фронтира». На веранде Бидди, ее двоюродная сестра Руби и Пегги Хавок с увлечением доламывали рождественские подарки. Как истинные питомицы англосаксонской цивилизации на ее последнем этапе, они расстреливали из пулемета рыжего плюшевого щенка с печальными глазами и куклу с отбитым носом и в стеклянном ожерелье.
— Так вот какие бывают короли! — фыркнула Вестл. — Твой отец — дуся, второго такого сумасбродного мечтателя во всем городе не найти. Нет, какая прелесть! Подумай, если мы когда-нибудь скопим денег, — что при нынешних ценах на мясо маловероятно, — можно будет съездить на старую родину и посмотреть на наш дворец, а потом скорей домой, где люди говорят на человеческом языке. Но разрешите сказать вам, капитан, что я бы вас не стала любить больше, будь вы не то что английским королем, а самим верховным магистром ордена Лосей. А в общем, пари держу, что никакая королева в мире не играет в джин-рамми лучше меня. Пойдем к ребятам.
На веранде она отыскала в груде святочного хлама корону Бидди и, торжественно возложив ее на голову Нийлу, поправила на нем, как новую шляпу, а потом обратилась к сияющим малышкам:
— Ну, мелюзга, говорите, кто это?
— Король! — завизжали они хором.
Вестл сделала ему низкий реверанс.
— Вы очень глупые, — сказала Бидди.
В объятом войной мире, где столько жен стали вдовами и столько детей никогда не видели своих отцов, Бидди гордилась тем, что у нее есть бесспорный и осязаемый папа.
— А хотела бы ты, чтобы я был взаправдашним королем? — спросил ее Нийл.
Бидди пришла в восторг.
— Ты, наверно, был бы очень хороший король, и тебя взяли бы сниматься в кино!
У Шерли был выходной вечер. Готовя с помощью Нийла ужин, Вестл размышляла вслух:
— Я все стараюсь вообразить тебя королем, но ничего не выходит. Слишком уж ясно, что ты — это именно ты: стопроцентный нормальный белый шотландско-английский американец со Среднего Запада — добрый протестант, деловой, преуспевающий, обожающий гольф и собственную жену. Ни за что не поверю, чтобы ты мог быть чем-то другим, хоть ты мне принеси свидетельство за подписью генерала Эйзенхауэра. Мальчик хочет быть королем и жить в роскошном дворце? Так вот, будешь королем в моем сердце.
— Может, и, кроме тебя, найдутся охотницы иметь меня королем в своем сердце?
— Ах так? Ну что ж, прекрасно. Будьте добры, ваше величество, нарежьте картошку ломтиками как можно тоньше!
Он так и не взялся бы за генеалогические изыскания, если бы отец два раза не напомнил ему: «Ну что, занимаешься нашими предками?» И как-то в субботу, когда Вестл после обеда забрала машину и укатила играть в бридж, он вдруг решил: «А почему не попробовать? Гольф и теннис больше не стяжают мне лавров, так хоть прослыву хорошим историком. Почему не попробовать?»
Он прошел в свой «кабинет» и уселся за стол — ученый муж, безраздельно посвятивший себя одной идее; цель его жизни ясна ему, и начало великим трудам положено, а за спиной у него в благоговейном молчании стоят Вестл, и Род Олдвик, и мистер Пратт, и тот профессор, что читал у них в университете историю Европы.
Одно только его смущало: вот он приступил к своему исследованию, а как, собственно, к этому приступают?
Медленно и задумчиво он обвел глазами комнату. Из всех его книг могли пригодиться разве что «История Англии для детей» Диккенса, «Всемирный альманах» да четырехтомная «Универсальная энциклопедия янки».
Он храбро раскрыл энциклопедию на статье «Екатерина Арагонская». Сведения о ней сводились к тому, что она была женою Генриха VIII, что у нее была дочь и не было сына и что пришлось пожертвовать Истинной Церковью, чтобы от нее отделаться.
«Ну, раз у нее не было сына, значит, ее сын не мог быть нашим предком. Нет, что-то не то».
«История Англии для детей» тоже не помогла ему.
Как же, черт возьми, берутся за эти самые исследования?
Вероятно, нужно для начала обратиться к какому-нибудь знающему человеку. Но к кому? В университете профессор истории никогда не выражал желания переписываться с теннисистами. Может, есть такой правительственный чиновник, который дает справки о том, как устанавливать исторические факты? И как фамилия этого автора, что так здорово знает историю и пишет большущие толстые книги — по пять долларов за том?
Как эти ученые докалываются до всяких подробностей о людях, которых уже давным-давно на свете нет? В университете он не питал особого уважения к преподавателям, он их побаивался и считал, что они только и думают о том, как бы поймать студентов, которые накануне пили пиво вместо того, чтобы заниматься.
«А пожалуй, работа у них не такая уж легкая. Ну как, например, они узнают, что хотел сказать Шекспир в такой-то строке, когда он, может быть, и писал-то ее вдребезги пьяный и сам бы не мог объяснить? Наверно, я, пока был студентом, много чего упустил. Придется теперь наверстывать».
К чести Нийла Кингсблада нужно сказать, что трудность задачи никогда не отпугивала его. Убедившись, что розыски его царственных предков потребуют усилий, он взялся за дело всерьез.
Он, прихрамывая, добежал до автобусной остановки, сошел у книжной лавки Риты Камбер и купил «Историю Англии» Тревельяна. В букинистическом отделе он увидел два сокровища, перед которыми не устоял, хоть и не думал, что они могут особенно ему пригодиться: мемуары леди Монтрессор «При дворе, в походах и в родовых усадьбах нашего прекрасного острова» — два тома в белых коленкоровых переплетах с геральдическим тиснением, богато иллюстрированные и почти даром — цена снижена с 22.50 до 4.67; и «Обзор документальных материалов о пожаловании ленными поместьями при Генрихе VIII» — диссертация д-ра философии Дж. Гумбольдта Спэра, цена при издании два с половиной доллара, теперь — пятнадцать центов.
Книги порядком оттянули ему руку, пока он тащил их к автобусу, и он растерянно думал: «Неужели я их когда-нибудь одолею?» Он переживал первые скорбные сомнения на своем академическом пути.
Еще он купил «Хоккей как искусство» Сэнди Гофа и эту книжку действительно прочел сначала до конца.
Узнав, что исследования начались, отец порылся в старых сундуках и дал Нийлу собственноручное письмо Дэниела Кингсблада, фермера и плотника, участника Гражданской войны, сына того самого Генри Арагона, которому пришлось уехать из Англии. Нийл так и впился в письмо.
«Августа 7-го дня, 1864 года.
Дорогая моя жена!
Берусь за перо, чтобы сообщить тебе, что я пока здоров, чего и вам с сыном желаю. Мы стоим где-то в Виргинии или в Каролине, верно не знаю, а сержант не говорит. Довольствие очень дурное, но жаловаться не приходится, кому-то надо воевать, только в сорок лет человеку не место на этой войне, будь она проклята. Офицеры — один хуже другого, очень нос задирают, а чуть сыро, ревматизм разыгрывается. Не нравятся мне эти горы, знай лазай вверх и вниз, то ли дело наша ферма в Мичигане, хоть там и Дикий Запад. Новостей пока никаких нет, вчера на лагерь была атака, но не очень злая, скорее всего серопузым война так же не по душе, как и нам. Остаюсь в добром здоровье, чего и вам желаю. Больше писать некогда, любящий тебя муж
Дэниел Р.Кингсблад».Доктор Кеннет, нервно шевеля в воздухе пальцами, убеждал сына:
— Удивительное письмо, а? Так и видишь старого солдата, честное слово! Были же патриоты в то время! Никогда не роптали — все готовы были вытерпеть для спасения родины. Удивительное письмо! Какой-нибудь историк, наверно, дорого бы заплатил, чтобы посмотреть на это письмо, но я его даже издали никому не покажу, и ты смотри не показывай, если кто-нибудь пронюхает и будет просить. Ну, это тебя воодушевит, правда?
— Д-да, папа, конечно.
— Вот, а теперь у меня есть для тебя сюрприз. Я, кажется, знаю место, где имеется многое множество писем, и не только моего отца и старика Дэниела, а может, и самого Генри Арагона! Интересно, а? Моя кузина Эбби Кайферс, та, что в Милуоки замужем за торговцем скобяными изделиями, она всегда любила собирать и хранить старые бумаги, и я уже ей написал. Ведь это для тебя просто клад, верно?
— Да, это замечательно, — промямлил Нийл. — Первоисточники. Они, кажется, нужнее всего для научных изысканий.
Кузина Эбби прислала письма Уильяма, Дэниела и Генри Арагона Кингсбладов, и Нийл набросился на них, как кот на валерьянку.
Он много чего узнал о ценах на пшеницу в 1852 году, о прожорливости свиней в 1876 году и о здоровье целой галереи Эмм, Абигайлей и Люси, но все это бросало удивительно мало света на вопрос о королевском происхождении. Даже в письмах Генри Арагона, написанных из Нью-Джерси между 1826 и 1857 годами, встретилась всего одна фраза, за которую можно было ухватиться: «Здешние жители все не могут решить, какой губернатор им больше подходит — дурак или мерзавец, и будь я королем этой скудоумной страны, я бы их всех велел повесить».
Нийл с грустью заключил, что предки его отца были люди работящие, трезвые и скучные и что, если ему суждено докопаться до гипотетического сына Екатерины Арагонской, наверно, окажется, что тот на старости лет стал благочестивым могильщиком. Он вздохнул. «Я и не ожидал, что мне удастся произвести нас в короли. Просто обещал папе, — ну, и поработал. Лучше, пожалуй, бросить это дело и думать о Бидди и о будущем, а не о каких-то высочествах и величествах. Ну их к черту».
Но в нем уже проснулся интерес к семейной истории, и теперь он решил покопаться в родне с материнской стороны — вдруг там найдется что-нибудь повеселее?
Он почти ничего не знал об этой ветви семьи, хотя в студенческие годы часто навещал свою бабушку Жюли Саксинар, которая и теперь еще была жива. Его мать и бабушка Жюли никогда особенно не ладили, и Нийл уже пять лет не видел бабку, но он помнил ее — маленькая, сердитая старая француженка с горящими глазами, чье детство прошло на беспокойной границе в штате Висконсин. Как-то вечером, зайдя навестить родителей, он закинул удочку:
— Я тут читал о папиной семье, мама, а твои предки кто были?
Они сидели в темноватой, серо-коричневой гостиной обветшалого отцовского дома, где воздух казался спертым и было тесно от допотопного бюро и стульев под черное дерево с резными драконами на спинках. Фэйт Кингсблад была маленького роста, хрупкая и необыкновенно тихая. Она почти всегда молчала и, казалось, все ждала и опасалась чего-то. Глаза у нее были совсем черные, а лицо бледное, с выцветшими розовыми губами. В Нийла она верила и ценила его, никогда не давала ему советов и чувства свои выражала разве тем, что легонько похлопывала его по руке.
Она задумалась, словно вспоминая что-то приятное, но потускневшее от времени.
— Я сама очень мало знаю о своей семье. Мои предки со стороны отца, Саксинары, были примерно такие же, как и у твоего отца: выходцы из Англии и Шотландии, труженики-фермеры и мелкие торговцы. А о матери знаю только, что ее предки были французами и в старину как будто торговали мехами в Канаде. Но едва ли эти пионеры вели какие-нибудь записи о своей жизни. В детстве я как-то спросила о них маму, но она только рассмеялась и сказала: «У, это были страшные люди — они все ездили на лодках да пьянствовали. Хороший девочке о них и слушать неинтересно». Ты ведь знаешь, мама — странная женщина. Мне кажется, ее всегда раздражало, что во мне так много от Саксинаров, что я опрятная и люблю порядок. Чудно, правда?
Она умолкла, снова застыв в ожидании, и Нийл подумал, что эта охота за предками — порядочная глупость.
В такой большой вселенной, как Гранд-Рипаблик, где живет около ста тысяч человек, умещается много неведомых друг другу миров. Среди них одним из самых чуждых для Нийла был бредовый мир музыки — учителя, дающие уроки скрипки в парадных гостиных однообразных краснокирпичных домов; девочки, обучающиеся игре на саксофоне; Общество любителей симфонической музыки, которому раз в год удавалось залучить в город Дулутский оркестр.
В том году оркестр вместе с финской хоровой капеллой выступал в Уоргрейв-холле в конце января. Наряду с такими заурядными гражданами, как Нийл и Вестл, на концерте присутствовали столпы города: Уэбб и Луиза Уоргейт, доктор Генри Спаррок, Мэдж Дедрик с дочерью, Ив Чамперис, Оливер и Мортон Бихаусы, Грэг и Дайанта Марл, судья Кэсс Тимберлейн с супругой, хрупкой, нервной женщиной. Пришли даже Бун и Куини Хавоки — оба навеселе, потому что только в таком состоянии у них хватало сил наслаждаться музыкой.
(Присутствовали также, хотя и не были отмечены репортером светской хроники «Знамени фронтира», кое-какие люди, действительно любившие музыку.)
Нийл забавлялся мыслью, как все они отвернулись бы от эстрады и снисходительно величавого Ханникайнена и воззрились бы на него, Нийла, если бы узнали, что он августейшая особа… Забавно было бы влезать в автобус в короне и горностаях и устраивать во Втором Национальном королевские приемы.
Он позабыл об этой мишуре, когда оркестр и хор слились в мощном финале Девятой симфонии Бетховена. Он унесся в никогда им не виданный край. Затейливые пруды и лужайки, осененные дубами, уводили взгляд к колоннаде огромного дома с окнами, увитыми каменными гирляндами. Позади вставала поросшая вереском гора, а на вершине ее — башня, старинная, полуразрушенная. И будто все это принадлежало ему.
«Что это, прапамять? — гадал он. — Может быть, когда-то всем этим владел мой пра-пра-кто-то, который теперь живет во мне? Может, я действительно мог бы быть королем?
Или герцогом?
Ладно, помиримся на бароне!»
10
Он очень гордился тем, что его нововведение в банковской практике заслужило одобрение мистера Пратта и главного бухгалтера С.Эшиела Денвера.
Он предложил организовать Консультацию для ветеранов, куда его бывшие товарищи по оружию, демобилизовавшись из армии, могли бы прийти за советом насчет подыскания работы и найма квартиры, насчет пенсий или стипендий, а заодно могли бы открыть счет во Втором Национальном или взять надежную закладную.
Заведовать Консультацией было поручено Нийлу, ему повысили жалованье до 350 долларов в месяц и обещали, если дело пойдет, дать помощника. Уже наступил северный апрель — не весна, а та же зима, только пожиже, — и Нийл, убежденный, что война в Германии кончится через несколько месяцев, торопился с подготовкой помещения для Консультации, сильно напоминавшего конюшню красного дерева; туда уже был водворен стол самого Нийла, а также два мягких кресла и значительно менее мягкий диван для приема героев.
Весь день он возился, а весь вечер тараторил о своих делах. Вестл радовалась его успеху и повышению, а Бидди основала собственный банк, в первый же день принявший вклады в виде шести булавок от Руби, дочки дяди Роберта, и надкусанного сухаря от Принца. Впрочем, этот банк просуществовал недолго, потому что Руби, которой было далеко до финансовых принципов мистера Пратта, вместо своих шести булавок выпросила обратно одиннадцать, и Бидди, посовещавшись с дядей Оливером Бихаусом, объявила себя банкротом.
Мистер Пратт говорил о перспективах Консультации с осторожностью, Нийлу же возможности ее представлялись неограниченными, и в конце апреля он выехал в Сент-Пол и Миннеаполис для переговоров с банкирами, правительственными чиновниками штата и руководителями Американского легиона и других организаций, объединяющих ветеранов.
На правах финансового эксперта он ехал в пульмановском вагоне «Борап».
Завзятым путешественникам из Дулута и Гранд-Рипаблик «Борап» уже много лет служил домом на колесах. Он был так стар, что завсегдатаи утверждали, будто он построен не из стали, а из дерева, затвердевшего от зимних метелей и июльского зноя прерии, где жара достигает пятидесяти градусов. Внутри стены его были отделаны деревянной мозаикой оливково-зеленого, розового и серого тонов. План его отличался приятной асимметрией, так что даже после долголетнего знакомства с ним можно было вдруг открыть дверь и обнаружить еще одно, не виданное дотоле купе с ломберным столиком и четырьмя допотопными креслами, обитыми колючим зеленым кретоном.
В вагоне «Борап» старший мистер Спаррок — Хайрем Спаррок, отец доктора Генри, — который в девяносто четыре года еще не умер, хотя отчасти и удалился от дел, — держит свой запасной комплект из пяти сортов пилюль, трех сортов возбуждающих капель и двух вставных челюстей, а также гребешок и палочку бриллиантина. Этот добродушный старый бандит, близко знавший Джона Д.Рокфеллера-старшего и Сесиля Родса, хоть и передал большую часть своей собственности сыну, до сих пор имеет чуть ли не полмиллиона гектаров земли в Соединенных Штатах, а его владения в Мексике измеряются не милями, а летными часами. В Гранд-Рипаблик считают, что Хайрем богаче и Уоргейтов и Эйзенгерцев, но сам он вечно толкует о своей бедности и никогда не дает негру Маку — проводнику «Борапа» — больше двадцати пяти центов на чай.
Его сын доктор Генри Спаррок хранит в вагоне «Борап» брошюру Карла Маркса в издании «Современной библиотеки», которую он уже пять лет как собирается прочесть в тайной надежде понять, «чего хотят все эти левые конгрессмены и красные рабочие лидеры», но приглашение на партию в бридж отвлекает его каждый раз, как он дойдет до второй страницы.
И в том же «Борапе» Мэдж Дедрик держит колоду пасьянсных карт со своей монограммой, Оливер Бихаус — сборник кроссвордов, а Дайанта Марл — книгу по психоанализу, книгу о правилах этикета и бутылку коньяку.
Проводник Мак — очень толстый, очень черный, приветливый по долгу службы: ему скоро стукнет семьдесят, и он знает их всех. Под его присмотром уезжают в колледж девушки, чьим родителям он прислуживал во время их свадебного путешествия, и он называет их «мисс», хотя помнит маленькими Тутс и Кэй. Он находит им потерянные сумочки и коробки конфет и старается уберечь их от слишком быстрого знакомства с красивыми попутчиками. Ему известно, чьи мужья прощаются с чьими женами на одном конце перегона и чьи мужья встречают и целуют этих жен на другом.
Мак — это Готский альманах, горничная-лакей, облаченная в брюки дуэнья всей молодежи Дулута, Гранд-Рипаблик и других городов на линии Дулут — Сент-Пол; если Мак не узнает вас, это куда опаснее для вашего положения в обществе, чем если доктор Спаррок не пожмет вам руку или миссис Дедрик сделает вид, что незнакома с вами; назвать его «Джорджем» вместо «Мака» значит выставить себя полнейшим варваром; фамилии у него нет, по крайней мере Нийл и люди его круга в этом уверены.
При виде Нийла он расплылся в улыбке:
— Милости просим к нам, капитан Кингсблад, сэр. Позволю себе надеяться, что ваше ранение уже не так вас беспокоит, сэр?
— Да, спасибо, Мак, нога гораздо лучше.
«Все-таки лестно, что Мак меня помнит. Не забыть дать ему двадцать пять центов на чай».
— Желаете просмотреть миннеаполисскую газету, капитан?
— Давайте, Мак, спасибо.
«Нет, двадцать пять мало. Вот старый негр, который знает свое место. Почему какая-нибудь девчонка вроде Белфриды не может держать себя так же прилично? Просто стыдно дать ему пятьдесят или даже семьдесят пять центов!
К тому же это все равно включается в дорожные расходы».
В конце пути, когда Мак счистил с него последнюю воображаемую пылинку и напутствовал ласковым: «Надеюсь, вы окажете нам честь и обратно ехать с нами, капитан?» — Нийл величественно протянул ему доллар.
Показался вокзал. В своем отделении старый Хайрем Спаррок ворчал на Мака:
— Ну, ты, потомок Макиавелли, а меня ты не просишь оказать тебе честь ехать обратно в твоем вагоне?
— Нет, сэр. С вами слишком много хлопот, генерал, да еще эти ваши пилюли!
— Ах ты, дядя Том несчастный! Ах ты, старая черная кокотка, все деньги вынюхиваешь? Вот тебе четвертак, и скажи спасибо.
— Как же не спасибо, генерал. Деньги немалые, а за что? Я всего только и делал, что смотрел на вас. Обычно вы больше пятнадцати центов не даете. Опять удачная спекуляция на бирже, генерал?
— Не твое собачье дело. Ты для скольких газет шпионишь, а?
— Для всех, сколько есть, генерал. До скорого свиданья.
Оба умолчали о том, что каждый год на рождество старый Хайрем давал старому Маку пятьдесят долларов. Два реликта эпохи земельно-железно-лесного феодализма 900-х годов обменялись улыбками, а молодой Нийл Кингсблад с одобрением взирал на этот знакомый, заигранный спектакль.
11
Нийл полагал, что причиной охлаждения между его матерью и ее родителями была привычка бабушки Жюли Саксинар командовать всеми, кто оказывался достаточно близко, чтобы услышать ее бодрое кудахтанье. Открытой ссоры между ними не было, но установившиеся в семье прохладные отношения мешали Нийлу ближе познакомиться с дедом и бабкой.
Однако во время своей четырехдневной деловой поездки в Миннеаполис он выбрал свободный вечер и отправился на озеро Миннетонка навестить стариков. В шестьдесят пять лет (сейчас ему было восемьдесят пять), удалившись на покой после долгой службы в телефонной компании, Эдгар Саксинар купил себе очень неплохой одноэтажный домик. Он превосходно описал его в одном из своих писем:
«Мы поселились в каменном бунгало на берегу романтичных вод озера Миннетонка, с прекрасным видом. Ни один такой большой город, как Миннеаполис, не расположен так близко от такого большого и красивого озера, как Миннетонка. Мы с миссис Саксинар часто беседуем о романтичных индейцах, которые некогда плавали в своих челнах по этим романтичным водам».
Дом, в сущности, был построен не из камня, а из бетонных плит под камень, и вид из окон открывался не на прославленное своей красотой огромное озеро, от которого его отделяло три квартала, а всего лишь на стандартный восьмиквартирный дом, часовню Адвентистов седьмого дня да кучку тополей. Но для двух стариков, с утра до ночи развлекающихся ссорами, это было удобное и уютное жилище, и Нийл с удовольствием уселся в желтое плюшевое кресло в маленькой гостиной, оклеенной желтыми обоями с рисунком из камышей и водяных лилий.
Он сытно пообедал в отеле «Суонсон-Гранд», но бабушка Жюли насильно увела его в кухню и до отвала накормила шоколадным печеньем с орехами. Ее кухня отнюдь не была стеклянно-эмалевым чудом из тех, какие рекламируются в журналах. Она стряпала на заслуженной, не слишком усердно начищенной плите, которую топила углем, свои запасы хранила в синих треснутых чайниках и жестянках от печенья, а тарелки и чашки покупала в магазинах подержанных вещей, где для них было самое подходящее место. Нийл вспомнил, что его мать и дедушка Эдгар всегда гордились своей аккуратностью, в то время как веселая пичуга Жюли была безалаберна, как цыганка.
Но он заметил, что в этом хаосе битой посуды бабушка Жюли с легкостью находит все, что ей нужно, тогда как мать и дед, считавшие своим долгом ставить каждый стул на заранее определенное ему место и методично раскладывать по ящичкам адреса, письма, счета из прачечной и старые, но еще годные к употреблению шнурки для ботинок, постоянно забывали, где что лежит.
Они вернулись в гостиную, и Нийл, как почтительный внук, вступил в беседу с коренастым, лысым, веселым, ворчливым янки — дедушкой Эдгаром.
Он добросовестно расспросил, какого мнения Эдгар о подоходном налоге, о бейсбольной команде, игравшей за Миннеаполис в истекшем сезоне, и о телефонных аппаратах нового образца. (Обо всем этом Эдгар был невысокого мнения.) А потом Нийл коснулся той единственной темы, которая действительно занимала его.
— Бабушка Жюли, я тут после одного разговора с папой заинтересовался своими предками. Расскажите мне о вашей семье и о дедушкиной.
Маленькая, смешная старушка — восемьдесят три года, если верить календарю, сорок три, если судить по ее гладкой, стройной шее и живым глазам, не требующим очков, — смесь цыганки и ирландской феи, настоянная на пуританстве Новой Англии, — примостясь со своим вязаньем в ветхой камышовой качалке, всегда выводившей из терпения ее мужа, который сидел тут же, круглолицый и краснощекий, в старомодном пенсне с полукруглыми стеклами, курил длинную сигару и вторил ей недоверчивым сопеньем, — бабушка Жюли клохтала, как курица, снесшая яйцо:
— Твой дедушка Саксинар — вот этот чурбан, что дымит нам в нос, — родился в Висконсине, работал бухгалтером на лесопилке, потом служил в Милуоки счетоводом и телеграфистом Чикагской компании, а уже потом поступил на телефон. И родичи его — те, которых он знал, — были люди как люди, сыровары да мелочные торговцы, все славный, глупый народ.
Эдгар брызнул слюной, как миниатюрный кит:
— Уж будет тебе! Саксинары — крепкая порода, и с отцовской стороны у Нийла такая же родня. Мои предки, благодарение богу, почти все до единого были добрыми просвитерианами и членами республиканской партии.
Жюли хихикнула:
— Вот и я говорю. Славный, глупый народ. А мои предки — те были французы. Женщины ходили все в бантиках, а мужчины их развязывали.
Нийл попробовал подольститься к ней:
— А знаете, бабушка, в армии я слышал, что французы совсем не такие легкомысленные, какими их изображают юмористические журналы. Это самые трудолюбивые крестьяне во всей Европе и самые прижимистые торговцы.
— Может, есть и такие французы. Но мои-то предки были непоседы, они ускакали из Европы, потому что Европа была уж больно смирная, и поселились в Квебеке, а потом и оттуда ускакали, потому что там все были больно набожные, а они любили крепкие вина и со смирными людьми вовсе не водились, — им подавай волков, да рысей, да индейцев!
Вперив мысленный взор в свою бурную юность, она вспоминала вслух:
— Я тоже родилась в Висконсине, в Гайавате, — ох и бойкое это было место, — и плясала с лесорубами да с плотовщиками, очень я была легка на ногу, а они ходили в красных шапках.
Эдгар буркнул:
— Ну и мешанина, а?
— Что ж, и была мешанина, да такая, в какой тебе век не разобраться. Вы, Саксинары, читали свои «Воскресные тексты для маленьких христиан», еще когда в Америке леса вырубали и жили в картонных хибарках. А мои предки… Мой отец, Александр Пезо, умер, когда мне было десять лет, и мама тоже, — тогда была эпидемия оспы.
Нийл подумал, как бы отнеслась к такому колоритному лесному прошлому Вестл, потомок первых эмигрантов из Дорсетшира, а Жюли все кудахтала, постукивая спицами:
— Да, Александр Пезо. Я его не очень хорошо помню, только помню, что он был высокий, статный, с большущей черной бородой — всегда щекотно было, когда он поцелует, — и песни любил петь. Он возил почту, и в лесу одно время работал, и был кучером на первом дилижансе; хоть по-английски он говорил хорошо, это я помню, но на лошадей всегда орал по-французски. Когда он и мама умерли, мне было всего десять лет, и меня взял к себе мамин брат, дядя Эмиль Обэр. Он торговал мехами. Об отцовской семье, о Пезо, он говорил мало.
Но я знаю, что папин отец, Луи Пезо, был и фермером и охотником и работал в медных рудниках на Верхнем озере, а женился он на девушке, которую звали Сидони Пик, а ее отцом был Ксавье Пик, — вот и считай: Ксавье, значит, был твой пра-пра-прадед.
О Ксавье дядя Эмиль кое-что слышал, потому что Ксавье был замечательный человек и знал каждую пядь земли на границе. В истории про него, наверно, ничего нет, — богачом он не стал, а в такой глуши газет, понятно, не издавали и записей никаких не вели. Помнится, дядя Эмиль говорил мне — о господи, ведь семьдесят лет прошло с тех пор! — что Ксавье был одним из лучших французских voyageurs[2]. Может, про него и что плохое было известно, да не стал бы дядя Эмиль рассказывать об этом маленькой девочке.
— Брось ты говорить про Ксавье, — вмешался дедушка Эдгар.
— А я буду! Я им горжусь. Так вот, Ксавье Пик родился, должно быть, году в тысяча семьсот девяностом. Дядя Эмиль рассказывал, что иные уверяли, будто он родился на острове Макинак, а другие — что на озере Пепин, или в Новом Орлеане, или даже на старой родине, во Франции, но все сходились на том, что Ксавье был не очень высок ростом, но страшно сильный и храбрый, и пел на удивление, и пил больше меры, а сколько языков знал! Он, говорят, знал все языки, какие только есть, — и французский, и английский, и испанский, и чиппева, и сиу, и кри, на всех языках говорил, мне дядя Эмиль рассказывал, а дядя Эмиль никогда не обманывал, кроме как в торговле. Вот Эдгар, тот возненавидел бы Ксавье Пика!
— Я и так его ненавижу, если только ты его не выдумала, — подтвердил дедушка Эдгар.
— Вот-вот. Да, так, значит, Ксавье — сначала он был voyageur на службе Компании Гудзонова залива, а потом стал coureur de bois[3] вольным купцом, скупщиком пушнины. Мастер был проводить лодки через пороги. В молодости он, наверно, носил шелковый кушак, как все voyageurs, и пел…
Постой-ка, Нийл, да я тебе, наверно, рассказывала про Ксавье, когда ты еще под стол пешком ходил. Теперь-то ты, должно быть, забыл, а помнишь, — я тебя учила петь песенку про voyageurs — «Dans mon chemin»?[4]
— И верно, бабушка, что-то припоминаю.
Из школьных учебников истории Миннесоты, из полузабытых рассказов матери и бабушки Жюли перед Нийлом возник его предок Ксавье Пик.
Бабушка Жюли молчала, задумчиво покачивая головой, а Нийл мысленно дорисовывал портрет этого французского авантюриста, крепкого и жизнерадостного.
Ксавье не ходил за плугом по бурым английским полям, как почтенные предки доктора Кеннета, которые, хоть и мнили себя королями, вернее всего были землепашцами. Ксавье вызывал в сознании не туманный вечер и мирное стадо с колокольчиками, а свежее утро на пенистых порогах неведомых рек. Нийл представлял себе, как весенним утром он выступает из Монреаля, чтобы доставить караван челнов в далекий форт, затерявшийся среди соснового бора в устье реки Каминистиквиа.
Ксавье Пик. Был он, наверно, сквернослов и гуляка, румяный, с кудрявой золотистой бородкой, и носил толстый голубой плащ с откинутым на спину капюшоном, а на алом кушаке висел кисет и узкий нож. Мокасины и гетры у него были из оленьей шкуры, а свой вязаный колпак он носил с удалью бывалого матроса.
Бодро пускаясь в путь навстречу порогам и ночному волчьему вою в бескрайней пустыне северных лесов, готовый к схватке с грозными бурями Верхнего озера, не страшась ни холода, ни голода, ни коварных индейцев, Ксавье распевал со своими товарищами:
Dans mon chenain j'ai rencontre Trois cavaliers bien montes — Lon, lon, laridondaine.[5]Так, не в словах, а в образах, сильных и ярких, Нийлу вспоминался далекий герой, от которого он вел свое существование.
Все это, конечно, относилось к молодым годам Ксавье. Когда бабушка Жюли, вздремнув, заговорила снова, ловя обрывки слышанных в юности преданий, выяснилось, что Ксавье стал самостоятельным купцом. Она знала, что он дожил до 1850 года, никогда не оставался подолгу на одном месте и, по ее твердому убеждению, первым из белых людей обследовал огромные пространства необитаемой земли, где теперь благодаря его ловкости и отваге выросли фермы и деревни.
Наперекор сердитому сопению мужа она крикливо утверждала, что этот француз-пионер был одним из основателей и первых военных царьков новых американских и английских провинций — Миннесоты и Висконсина, Онтарио и Манитобы.
Однако, фантазировал Нийл, англиканским пьянчугам Ксавье, наверно, служил не по своей воле. В сердце он носил не английский флаг цвета говядины и не полосатую, как дешевая конфета, тряпицу янки, а золотые лилии. Может, именно этот доблестный галл, а вовсе не какой-то хлипкий английский аристократишка и был тем предком, который дал ему право претендовать на королевскую кровь?
Это не понравится доктору Кеннету, в чьих слабых жилах нет и капли огненной крови Ксавье, зато Бидди, такая же отчаянная и предприимчивая, когда-нибудь оценит такое родство.
Почему бы и нет? Как знать? Может, этот диковинный Ксавье Пик приходился сродни королю и был изгнан из Франции как потомок какого-нибудь герцога Пикардийского?
Но герцогское знамя было тут же вырвано у Нийла из рук.
— Ты, конечно, понимаешь, — сказала бабушка Жюли, — что Ксавье, возможно, был не чистокровным французом. Вполне вероятно, что в нем была и индейская кровь. И мы с тобой, возможно, немножко чиппева.
— Чиппева? — переспросил Нийл упавшим голосом.
— А что? Ты разве предубежден против индейской крови? — сказала старуха, бросив хитрый взгляд на мужа.
— Нет, разумеется, нет! — заявил Нийл не слишком уверенно. — У меня нет никаких расовых предрассудков. Я как-никак участвовал в Войне против Предрассудков!
Дедушка Эдгар заныл:
— Не в том суть, что мальчику неохота быть индейцем, из тех, что ходят голыми да с малых детей скальпы снимают. Главное, ты не все выбалтывай, что знаешь!
Жюли смерила его взглядом:
— Чего ты дурачком прикидываешься? Я-то не боюсь говорить о своей родне. Мои предки не торговали деревянными часами как некоторые другие. Пусть кто меня спросит: «Это верно, что ты индианка, из тех, что томагавком дерутся?» Я скажу: «Верно», — и как дам ему этим томагавком!
Пока старики препирались между собой с мастерством, выработанным шестидесятилетней практикой, Нийл пытался собраться с мыслями. Вообще-то он считал, что индейцы — прекрасный народ: они так хорошо управляют лодками и дубят оленьи кожи. Но нелегко было перескочить из замка герцога Пикардийского в закопченный вигвам.
А Жюли, бодро обозвав предков Эдгара ханжами и скаредами-янки, продолжала:
— Когда Ксавье женился, а он, насколько я знаю, только раз и допустил такую оплошность, то женился он на скво из племени чиппева, так что в нас все равно есть индейская кровь. И по мне — лучше иметь предков, которые ели ягоды и свежую щуку, чем вот у него в семье только и питались что сушеной треской, потому и сами все вышли такие сухари.
— У нас в роду хоть вареную собачину не ели, как твои чиппева, — сказал Эдгар. — А что до Нийла, так треска треской, а мои родственники ему, надо думать, такая же родня, как и твои.
— Это ты так считаешь! А ты, Нийл, — хоть ты дикий индеец, хоть нет, а произошел ты от Ксавье Пика, самого бедового человека на границе, и это неплохо, а?
— Конечно, бабушка, это очень хорошо!
Но неожиданно объявившаяся в нем индейская кровь занимала его мысли больше, чем «бедовость» мсье Пика.
Он вспомнил, что мальчиком после каких-то слов, мимоходом брошенных бабушкой Жюли, он одно время считал себя потомком краснокожего вождя. Он похвастался этим Экли Уоргейту, и сей бледнолицый юнец ему завидовал. Да, наследие королей, отвага индейцев чиппева — племени, которое не боялось ни голых скал, ни ночной темноты, ни притаившегося в чаще врага.
А все же…
Это могло порадовать кого угодно, но не достойного супруга Вестл Бихаус. Его очень расстроило, что бабками его несравненной Бидди — этого серебристо-розового создания — были не английские принцессы и знатные француженки в пышных нарядах, расшитых золотыми лилиями, а немытые скво в рубашках из клейменой мешковины.
«Интересно, сколько вшивых ребятишек в резервациях могут претендовать на родство с Бидди?
А, пусть себе претендуют! Может, нам с ней и пошла на пользу кровь первобытных американцев. «Мистер и миссис Нийл Индианблад сообщают о помолвке своей дочери Элизабет Быстроногой Куницы с Джоном Пирпонтом Морганом Уоргейтом…» И счастлив будет этот щенок, если она ему достанется!»
Он вспомнил календарь бакалейной лавки с картинкой, изображавшей юную индианку, в которую он мальчиком был влюблен: стройная девица со всеми северными атрибутами — ленты, оленья доха, расшитая бисером, челн, водопад, сосновый лес и лунный свет, — и ему подумалось, что как символическая фигура она не менее убедительна, чем прекрасная, но глупенькая Элейн, жеманно тоскующая под ивами Камелота.
Наконец он заговорил с деланной веселостью:
— Хорошо, бабушка, считаем, что я — индеец. А выпить индейцу можно?
Дедушка Эдгар ответил:
— Нельзя. Они после огненной воды на людей бросаются, им дают только жареные бобровые хвосты. А вот внуку Эда Саксинара выпить можно. Это — сколько угодно.
12
Дома он ничего не сказал об индейцах чиппева. То, что у бабушки Жюли казалось интересной темой разговора, никак не отвечало духу Лиги Образованных Молодых Женщин. Он попробовал выведать что-нибудь у родителей, но убедился, что они ничего не знают о родословной его матери. Все, что сама Фэйт когда-нибудь и могла услышать, она, мирно разойдясь с бабушкой Жюли, сочла за благо забыть.
А Жюли, собственно, ничем не доказала, что Ксавье Пик или его жена были индейцами, убеждал себя Нийл, убеждал слишком часто и слишком прилежно.
Он все старался представить себе свою драгоценную Бидди как существо, в чьих тоненьких жилах течет индейская кровь. По-новому, тревожно смотрел он на это англосаксонское дитя и сравнивал ее с подругами. Он решил, что Бидди более энергична и самостоятельна, чем другие дети, а в сумерках, при свете настольной лампы, ему мерещилось, что ее бело-розовые щечки отливают медью.
Бидди, как никто, умела превращать диван в лодку и грести теннисной ракеткой — отчего ракетка не становилась новее; она любила бесшумно красться на цыпочках и вдруг испускать воинственные крики; когда же они в конце апреля разводили костер в честь первой оттепели, он заметил, что оба они отлично управляются с топориком и растопкой.
«Может быть, это не просто игра. Я, право же, начинаю подмечать и в себе и в ней индейские черточки».
А однажды, когда Вестл нашивала бисер на крошечные мокасины для Бидди, он сказал, не подумав:
— Только индианке мог бы прийти в голову такой узор.
И тут же сообразил, что ведь это не в Вестл Бихаус ему нужно выискивать сходство с индианкой, и сразу понял, как надуманны и глупы были все его умозаключения. И назло всякой логике возликовал, — значит, ни в нем, ни в Бидди нет «индейской крови»!
Но даже если есть… да, да, теперь он вспомнил, кто-то говорил, что среди предков всеми уважаемого судьи Кэсса Тимберлейна были сиу и что расовые признаки передаются не с кровью, а с какими-то «генами».
Научные выводы Нийла свелись к тому, что 1) по всей вероятности, в нем нет ни индейской крови, ни индейских генов, или как оно там называется, а 2) если и есть, это не важно, но 3) Вестл об этом говорить не стоит, и 4) когда вспомнишь смуглую грацию бабушки Жюли, то ясно, как день, что и он и Бидди — прямые потомки Соколиного Глаза, а 5) в общем, все это совершенно перестало его интересовать и 6) он при первой же возможности окончательно выяснит, есть ли в нем индейская кровь и (или) эти самые гены.
Его вторая командировка в Миннеаполис пришлась на понедельник 7 мая, когда всю страну облетело преждевременное, но подтвердившееся через день известие о капитуляции Германии. Во всех деревнях вдоль железной дороги орали клаксоны и гудели церковные колокола, и в вагоне «Борап» громко торжествовали победу. Незнакомые люди жали друг другу руки, вместе пили из карманных фляжек, хлопали по плечу проводника Мака и стоя пели нестройным хором «За счастье прежних дней».
Теперь вернутся домой и Джад, и Элиот, и Род Олдвик, радостно думал Нийл. Будет с кем поговорить, посоветоваться. Он уже уверил себя, что только потому и принял всерьез «эту индейскую чепуху», что заскучал без друзей.
А Джейми Уоргейт не вернется домой. Он навсегда остался где-то в Германии, погребенный под мотором своего самолета, красивые его руки раздроблены и перемешались с обломками стали.
И не вернется домой капитан Эллертон, с которым Нийл подружился на пути в Италию. Капитан Эллертон, самый нестандартный из людей, лежит в стандартной позе под стандартным крестом на кладбище, скучном, как городской палисадник.
Закончив переговоры с миннеаполисскими банкирами и политиками, Нийл в среду утром отправился в Сент-Пол к доктору Вервейсу, научному сотруднику Исторического общества Миннесоты, здание которого высилось рядом с круглой шапкой Капитолия штата.
Доктор Вервейс оказался у себя в кабинете; это был любезный, профессорского вида человек; и Нийл заговорил с ним легко и естественно, не вполне сознавая, что приготовился лгать:
— Я командовал ротой в Италии, а сейчас вернулся с фронта один мой солдат, раненый, и просит меня разузнать здесь что-нибудь о его предке-пионере Ксавье Пике; жил в этих краях лет сто назад, торговал с индейцами.
— Что-то не припоминаю. Как пишется, с двумя «к»?
— Нет, кажется, просто П-И-К. Может, это имеет отношение к Пикардии? — спросил Нийл с надеждой.
— Д-да, возможно.
— Так вот, этот мой солдат очень интересуется, нет ли в ваших архивах достоверных записей об этом самом Ксавье. Родился он, по-видимому, около тысяча семьсот девяностого года, может быть, во Франции. Насколько я понимаю, моему солдату особенно интересно узнать, был ли Ксавье чистокровным французом или с примесью индейской крови, иначе говоря — кем ему считать себя.
— А как вам показалось, мистер Кингсблад, ваш солдат был бы доволен, если бы выяснилось, что в нем есть индейская кровь, или он принадлежит к числу узколобых расистов типа «Огненных крестов»?
— К числу кого? Ах да, он… Что? Право, не знаю. Мы с ним, сколько помнится, этого не обсуждали, во всяком случае, не вдавались в подробности.
— Можете вы немного подождать, мистер Кингсблад?
Доктор Вервейс вернулся, неся в руках старинную рукописную книгу:
— Кажется, я напал на след мсье Пика.
— Да? — Так подсудимый ждет приговора.
Доктор Вервейс не торопился.
— Я разыскал его в дневниках Талиаферро. Да. Ксавье Пик. Возможно, что этот самый, вот видите — помог арестовать непокорного индейца. Но майор Талиаферро не упоминает о том, был ли сам Пик метисом. Конечно, если он родился во Франции, это маловероятно, разве что его отец вывез из Канады жену-индианку. Такие случаи бывали, но редко.
Нийл почувствовал облегчение, и устыдился этого, и снова вздохнул свободно при мысли, что Бидди и отец Бидди — чистокровные арийцы.
— Впрочем, — продолжал доктор Вервейс, — кем бы ни был этот Пик, женился он на индианке чиппева.
«О черт! Я и позабыл о краснокожей прапрапрабабушке, будь она неладна. Ну что бы этому Ксавье сидеть дома, во Франции или в Новом Орлеане, так нет же, понадобилось ему странствовать! Что я ему сделал сто двадцать лет назад, что он вздумал мне так отомстить?»
И тут благожелательный доктор Вервейс, сам того не подозревая, ударил его обухом по голове.
— Нет, едва ли в жилах Ксавье Пика текла индейская кровь, потому что… вот не знаю, сочтете ли вы нужным говорить это вашему любознательному ветерану; в расовых вопросах столько еще всякой косности и предрассудков; но так или иначе, майор Талиаферро пишет, что предок вашего знакомого, Ксавье Пик, был чистокровный негр.
Очевидно, Нийл не изменился в лице, потому что доктор Вервейс продолжал бодрым тоном:
— Вы, конечно, знаете, что в большинстве Южных штатов и в некоторых Северных негром по закону считается всякий, в ком есть хоть «одна капля негритянской крови», и по этой варварской логике выходит, что ваш приятель-ветеран и его дети, если они у него есть, как бы они ни были белокожи, являются в глазах закона стопроцентными неграми.
Нийл думал не столько о себе, сколько о своей золотистой Бидди.
13
Каким-то образом он очутился в закусочной — он сидел и внимательно разглядывал плохо вытертый столик, банку кетчупа, узорный металлический стаканчик с бумажными салфетками. В голове у него стоял туман, но все же он помнил, что доктор Вервейс обещал поискать для него еще материалов, что нужно зайти к нему в два часа и что он ничем себя не выдал.
Ничто уже не могло его удивить: он был во власти безмолвного ужаса, как лунатик, узнавший, что накануне вечером он во сне убил человека и что его ищет полиция.
В руке у него был надкусанный сандвич. Он с удивлением посмотрел на него. Зачем он заказал эту гадость — кусок лежалой ветчины между двумя грязными ломтями хлеба? И закусочная премерзкая — какая-то насмешка над богом и ясным майским днем.
«Как я сюда попал? А впрочем, надо привыкать. Теперь это для меня самое подходящее место. Да нет, наверно, здесь считают, что и это заведение слишком хорошо для нас — ниггеров».
Впервые он дал название тому, чем он теперь стал, и ему было так тошно, что даже не пришла на ум более мягкая форма «негры», да и что значило слово по сравнению с фактом? Все в нем возмущалось при мысли, что его можно назвать черным, желтым, или зеленым, или еще каким-нибудь, когда он, Нийл Кингсблад, всегда был и всегда будет самым обыкновенным, разноцветным человеком.
Но они скажут, что он черный человек, негр.
Негры, думал Нийл, это Белфрида Грэй и Борус Багдолл; это проводник Мак, лебезящий перед белыми ростовщиками; это потный черный грузчик в неапольском порту, он носит американский мундир, но ему запрещено носить оружие, ему разрешается только таскать огромные ящики, от которых дрожат колени и ноет спина; это батрак под палящим солнцем Луизианы и в свете факелов на молитвенных оргиях; это животное, но не свободное, как другие животные, от чувства стыда; это убийца с Бил-стрит или шут, за гроши танцующий в кабаке на потеху людям.
Негры — это те, что живут в дырявых лачугах или в полусгнивших бараках, тесных, как ящик для яиц, и носят разбитые, стоптанные башмаки или остроносые штиблеты сводника; они спят на вонючих простынях, которых никогда не меняют, а духовным пастырем имеют распутного горлодера и жулика.
Других негров не бывает. Разве не так говорил ему военный врач из Джорджии?
Негры, если светлая кожа не спасла их от разоблачения, работают в кухнях — в чужих, неприветливых кухнях, — или в душных прачечных, или в раскаленном воздухе литейных, или чистят на улицах обувь, готовые к тому, что белый господин презрительно сплюнет им на голову.
Негры не способны — биологически, органически, непоправимо не способны постичь какую-либо науку, кроме сложения и вычитания, немудреной стряпни и управления автомобилем, а вся их философия укладывается в сонник. По каким-то таинственным причинам они также не способны мыться и поэтому — противнее животных, ведь те как-никак вылизывают свою шкуру.
У всех без исключения негров такие скверные манеры, что их никогда не приглашают ни в приличные дома, ни на собрания большинства рабочих союзов, ибо даже в этих организациях, к которым Нийл, как добропорядочный банковский деятель, относился с неодобрением, и то каждому ясно, что негры — это сплошь бездельники, штрейкбрехеры и шпионы.
Негры — это животные в физическом смысле. И в культурном смысле — для них все равно, что Бетховен, что св. Августин. И в нравственном смысле — они не могут удержаться от воровства и насилия, от лжи и предательства. Да, это самые настоящие животные — нечто среднее между человеком и обезьяной.
Если ты негр, ты знаешь, что и твои дети — как бы ты их ни любил и ни заботился о них, как бы ни были они белокуры и светлокожи — обречены стать такими же уродами и обманщиками, тупицами и кретинами, как и ты, и их дети тоже, и дети их детей — до скончания века, по проклятию Иезекииля.
«Но я же не такой, и мама не такая, и Бидди, и бабушка Жюли. Мы обыкновенные порядочные люди. Значит, это ошибка. Мы вовсе не негры, просто было два разных Ксавье Пика.
Не валяй дурака, Кингсблад. В глубине души ты отлично знаешь, что он был твоим предком. А, будь он проклят за его черную кожу! Бедная маленькая Бидди!
Пусть так. Но если Бидди — негритянка, значит, все, что я слышал о неграх, ну да, и о евреях, о японцах, о русских, о религии и политике, — все это тоже, может быть, ложь?
Раз уж ты негр, так и будь негром и борись, как негр. Проверь себя и, если можешь, — борись.
Но я должен узнать, что такое негр; я должен досконально узнать, что я такое!»
Его попытки додумать что бы то ни было разбивались о видение задорного и наивного личика Бидди — маленькой герцогини Пикардийской, наследницы королевы Екатерины Арагонской — и глумящихся над нею соседей; да она, оказывается, негритянка, отвратительная карикатура на ребенка, с плоским черепом, с непристойными ужимками, — гнать таких надо, а туда же, лезут с парадного крыльца!
«Она не такая. Мы не такие. Негры не такие. Или я ошибаюсь?»
Доктор Вервейс рассказал, что нашлось письмо Ксавье Пика генералу Генри Сибли, и тут же передал письмо Нийлу.
Бумага сильно пожелтела, но чернила не выцвели, и почерк был ровный и изящный — почерк образованного человека. Нийл подумал, что, если не считать доктора Вервейса с его помощником и генерала Сибли, он, может быть, первым прикоснулся к этому письму с тех пор, как сто лет назад Ксавье писал его при свете свечи или северного солнца на грубом дощатом столе или на борту челна.
«Когда Вы были здесь, высокоуважаемый генерал, и оказали мне честь откушать у меня рыбы и чая, поскольку в нашей глуши я не имел возможности предложить Вам более достойное угощение, я рассказывал Вам, что я чистокровный негр и родился на Мартинике и что если во мне есть примесь французской, или испанской, или португальской крови, то очень незначительная.
Жена моя была индианкой из племени оджибвеев, а дорогая моя дочь Сидони недавно вышла замуж за француза Луи Пезо, и хотя сам я горжусь неграми, потому что это такой мужественный и сердечный народ, но в Южных штатах жизнь их превратили в невыносимую пытку, и я не хочу, чтобы Сидони и ее детей считали неграми и чтобы они страдали так, как страдают там мои соплеменники, которых в лицо называют грязными животными. Мне хотелось бы уберечь внуков от этой участи. Поэтому прошу Вас отныне числить меня французом.
Староват я стал для работы в глуши и почти все выполнил, что наметил себе в жизни, и страшно мне думать, что моих внуков, может быть, ждут плети, так прошу Вас, высокоуважаемый генерал Сибли, никому не рассказывайте, какая черная у меня кожа.
Должен добавить, что индейским дамам этот цвет, видимо, очень нравится, а здешние воины в один голос уверяют, что я первый белый человек, побывавший в их краю. Mes estimes les plus distinguees.[6]
Кс. Пик».
Доктор Вервейс заговорил:
— Замечательный, видно, был старик — куда благороднее, чем сеньер де Сен-Люсон или другие парижские царедворцы, которых судьба забрасывала на границу. Если у вашего приятеля-военного хватит на то смелости и силы воображения, — он может гордиться своим предком. А знаете, в том, что он говорит, много правды. Индейцы на северной границе делили людей на краснокожих и белых, так что негры, подобные Ксавье, действительно были первыми «белыми людьми», принесшими бедным язычникам блага цивилизации — бутылку, бомбу и библию. Они сыграли ту же роль, что адмирал Перри, когда он заставил Японию отворить свои двери внешнему миру, и если результаты оказались столь же плачевными, то не по их вине… А взгляните, какие все королевские имена: Сидони вышла замуж за Луи, а их сына, о котором ничего, кроме имени, нам не известно, звали Александр!
Та самая цепь, о которой говорила ему бабушка Жюли: Ксавье, Сидони, Луи Пезо, Александр, а если он раскроет тайну, этой цепью будут скованы и он и Бидди.
Если…
«А я так ясно себе представлял, — думал он, возвращаясь местным поездом в Миннеаполис, — что у Ксавье была золотистая бородка!
Это я, с моей рыжей шевелюрой, потомок негров? Или Бидди? Бабушка Жюли — та, правда, смуглая. О господи, и зачем я должен думать об этом?
Говорят, цветные иногда сходят за белых, если кожа у них достаточно светлая. Я-то, конечно, сойду. Что за самомнение, с чего я взял, что бог предназначил мне быть мучеником? Да и хорош мученик, который готов принести мать и дочь в жертву своему идиотскому тщеславию! Все может остаться, как было. Должно остаться, хотя бы ради Бидди! Ты что же, родную мать готов обречь на участь парии, а?
Не может человек так поступить!
А что если это уже многим известно? Если во мне можно распознать негра? Южане уверяют, что это всегда видно. Вот тот пассажир, что уставился на меня из угла, — видит он, что я негр? Или все всегда об этом догадывались?»
14
В Миннеаполисе он шел по вестибюлю своей гостиницы, не отрывая глаз от черно-белых шашек мраморного пола, с раздражением отмечая, что пол именно черный с белым, шагая напряженно, как пьяный, который выдает себя тем, что слишком старается не шататься. Он гадал, много ли людей смотрит на него, подозревая в нем негра. Уилбур Федеринг, который торговал съестными продуктами в Гранд-Рипаблик, но родился в штате Миссисипи, нередко утверждал, что может безошибочно распознать негра, который пытается сойти за белого, даже если в нем всего одна шестьдесят четвертая черной крови. Если Уилбур догадается, от него пощады не жди.
Дойдя до середины вестибюля, он чуть не остановился, чтобы взглянуть на свои руки. Он где-то слышал, что негра в любом колене, будь он белолиц, как Нарцисс, всегда выдают синеватые лунки ногтей. Ему не терпелось взглянуть на свои ногти. Но он заставил себя держать руки по швам (так что люди и в самом деле удивленно поглядывали на сердитого человека с деревянной походкой) и так дошагал до лифта. С изощренной небрежностью (как ему казалось) он ухитрился опереться рукой о стенку лифта и посмотреть на свои ногти.
Нет! Лунки были такие же светлые, как у Бидди.
«Зато теперь я знаю, что должен испытывать неузнанный негр, если он остановится в таком отеле: дрожать, как бы какой-нибудь чванный турист не заметил его и не велел управляющему вышвырнуть его вон. И так всегда? Всю жизнь?»
При изучении всех тонкостей сложного Искусства Быть Негром Нийлу предстояло узнать, что во многих Северных штатах, включая его родную Миннесоту, имеется Закон о гражданских правах, запрещающий удалять негров и представителей других непривилегированных народностей из гостиниц, ресторанов, театров, и что он проводится в жизнь столь же успешно, как в свое время пресловутый Сухой закон.
Белые постояльцы ворчали: «Всюду они суются, эти ниггеры. Могли бы, кажется, знать свое место». Эти умники не пытались задуматься над тем, каким образом негру, прибывшему в полночь в чужой город, узнать, где именно его место. Обнаружив, что за десять комнат от них спит негр, они чувствовали, что такое соседство таит в себе заразу, чуть ли не смертельную опасность, и набрасывались на управляющего, а тот, исходя из положения, что жить ему нужно, вырабатывал технику леденяще-вежливого обращения с неграми и уклончивых ответов относительно свободных номеров.
Уже сейчас, в первую ночь, которую он прожил негром, Нийл помнил, что в любую минуту снизу может позвонить ночной дежурный: «Я очень сожалею, сэр, но, оказывается, номер, который мы вам дали, был заказан заранее».
Помнил уже сейчас. Так мучительно и остро, как никогда не помнил сложных правил поведения «офицера и джентльмена».
За крепкими стенами своего номера он, здоровяк и атлет, прислушиваясь к телефону, ощущал себя сгорбленным и жалким. Телефон не звонил, но ему слышались десятки звонков.
А если ему не место в этом отеле, думал он, то тем более нечего соваться в пульмановский вагон «Борап». Арестовать его за это не арестуют, но никогда уже он не сможет дарить своей благосклонностью черного Мака, который оказался теперь чем-то вроде его старшего родича. Будущее темно — не пришлось бы ему самому благодарить Мака за снисходительно протянутый доллар.
Его место — с другими прокаженными, в бесплацкартном вагоне, в южном бесплацкартном вагоне для негров, ободранном и грязном, чтобы его «обезьяний запах» не оскорбил чувствительных белых ноздрей Кертиса Хавока.
Обо всем этом он думал, но он не решался думать о том, как вернется к Вестл и скажет, что подарил ей дочь-негритянку.
Вечером он собирался пойти подстричься в парикмахерскую отеля «Суонсон-Гранд».
Он сидел у стола в своем номере в глубокой задумчивости, постукивая ногтем по зубам, время от времени беспокойно взглядывая на этот ноготь. Собственно говоря, ему не так уж необходимо подстричься, но он должен пойти в парикмахерскую ради самоутверждения. Не допустит он, чтобы какой-то парикмахер оскорбил его! Он гражданин Соединенных Штатов и живет в этом отеле; он исправно платит налоги и не задолжал за номер; он имеет такое же право на услуги парикмахерской, как любой белый…
Он сердито поднялся с места, но сердился он на самого себя.
«Черт тебя дери, Кингсблад, мало тебе горя, что ты негр и должен рассказать это Вестл, ты еще сам выдумываешь себе неприятности? С чего ты взял, что какой-то швед-парикмахер обойдется с тобой, как с цветным, когда тридцать один год это никому не приходило в голову? Перестань изображать белого, который прикидывается негром. Ты и так негр, и чиппева, и вест-индский арап, так что притворяться нечего. Вот забавно, до чего разыгралось воображение. А я всегда считал, что я лишен фантазии. Все так считали.
А что если… что если и для меня и для Гранд-Рипаблик самое нужное — это струя прогретой солнцем черной крови?»
Ему даже стало смешно при мысли о мгновенном крушении всего, чем был Нийл Кингсблад; о том, что черный человек, подобный ему, никак не может служить в банке, быть членом Гольф-клуба, офицером, мужем спокойной, уверенной в себе Вестл, сыном дантиста из шотландцев, другом надменного майора Роднея Олдвика. Все, чем он был раньше, вдруг исчезло, а он все-таки существует, но что же он теперь?
Что мастер № 3 парикмахерской «Суонсор-Гранд» обойдется с мистером Кингсбладом точно так же, как всегда, было более чем очевидно, и Нийл еще раздумывал, не откажется ли № 3 подстричь его, а № 3 уже вовсю работал ножницами. Но даже прохладные влажные руки парикмахера, привычно навевающие сны, не успокоили Нийла.
Заведующий парикмахерской, кассирша, негр-чистильщик, мастер № 3 — может, они догадались, что он негр, может, они давно это знают? Может, они только ждут подходящего момента, чтобы обрушить на него угрозы, шантаж, — ждут, затаились и смеются над ним?
— Волосы у вас вьющиеся, капитан, никак не подровняешь, — сказал парикмахер.
О чем это он? Вьющиеся волосы. Курчавые волосы. Волосы негра.
Может, за его спиной мастер № 3 перемигнулся с соседом? Почему он так сильно дернул одну прядь? Или уже сгущается непостижимый мрак остракизма, черная зима черноты?
Очень медленно и осторожно Нийл высвободил руку из-под простыни, почесал нос и, опустив руку на колени, снова стал разглядывать свои ногти. Что это, ртутные лампы дают такой свет или в самом деле лунки чуть голубоватые?
Его подмывало вскочить с места, бежать, укрыться у себя в номере — нет, бежать к еще неизвестным ему друзьям-неграм, чтобы они пожалели его, спрятали, защитили.
Когда, наконец, пришло освобождение, он поднялся не с нарядного бело-зеленого парикмахерского кресла, а с электрического стула. У себя в номере он чуть не застонал.
«Вестл всегда любила теребить мои волосы. А что будет теперь, если она узнает? Волосы у меня такого же цвета, как были у отца, только у него не вьются. Что подумает Вестл? Нельзя, чтобы она узнала».
Еще и еще вспоминалось все приятное и привычное, чего он может лишиться, став негром. Обожание Бидди. Аристократический Федеральный клуб. Балы и холостые пирушки в загородном клубе «Вереск», где он однажды председательствовал на бильярдном турнире. Студенческое братство. Карьера в банке. Дружба с майором Роднеем Олдвиком.
В голове вертелся обрывок английских стишков, которые Род Олдвик цитировал с особым смаком:
Чем белый человек живет, О родине вспоминая? Привет рождественских огней Да империи честь святая!А как он сам, по собственным наблюдениям, представляет себе негров?
«Ну-ка, ты, белый человек, сын империи, отвечай, кто мы такие? Давай, давай, не стесняйся!»
Негры — они все угрюмые и вероломные, как Белфрида.
Врешь! Мак не такой, и я не такой, да и насчет Белфриды я не вполне уверен.
Они черные, плосконосые, толстогубые».
Он подошел к зеркалу и рассмеялся.
«Сколько же я такого знал, чего нет на свете! Каким был безмозглым попугаем! Ссылался на этого болвана-врача из Джорджии. Негры — ненастоящие люди, вот как? Кингсблад, конголезская кровь, ты заслужил все, что тебя ожидает. Наверно, бог для того обратил меня в негра, чтобы спасти мою душу, если ее еще не убили гроссбухи и футбольные матчи. Я должен сказать: «Ты слеп и невежествен, как белый», — а это нелегко выслушать даже от себя самого.
Ну, к чему эти нападки на белых? Уверен, что многие из них охотно искупили бы свои грехи будь у них мои возможности.
Капитан, а вы не преувеличиваете ли своей радости по поводу того, что стали цветным?
Возможно, не спорю».
В ящике стола под прошлогодней газетой он отыскал лист почтовой бумаги, почти целиком занятый изображением отеля «Суонсон-Гранд» и фамилией владельца, выведенной затейливым шрифтом девяностых годов; места, где писать, почти не оставалось, — видимо, от постояльцев такого усердия и не ожидали. Он перевернул листок, достал свою банкирскую, отделанную золотом ручку и составил бухгалтерски точный реестр одной ветви своего рода.
Ксавье Пик — возможна испанская и французская примесь, но считался 100-процентным негром.
Сидони, его дочь, вышла замуж за Луи Пезо, была на 1/2 чиппева и на 1/2 негритянка.
Александр Пезо, их сын, отец бабушки Жюли, — квартерон, на 1/4 негр.
Моя бабка Жюли Саксинар — на 1/8 негритянка.
Ее дочь, моя мать, — на 1/16 негритянка.
Я — на 1/32 негр.
Бидди — на 1/64 негритянка.
«Ну вот, теперь я, наконец, могу сообщить папе кое-что интересное о наших королевских предках!»
15
Было поздно, но он не пошел обедать в ресторан «Суонсон-Гранд». Не мог он сидеть там и все время думать, смотрят на него или нет. Он уже понял, что негры держатся обособленно не потому, что не могут жить друг без друга, а потому, что не выносят, когда на них пялятся белые идиоты.
Затаив в душе ужас, он поехал в чинное бунгало дедушки Саксинара.
Старик приветствовал его голосом, скрипучим, как его качалка:
— Милости просим, молодой человек! Никак, второй раз в этом году? Не часто вы нас так балуете!
Бабушка Жюли — та сразу спросила:
— Что случилось, мальчик?
Стоя неподвижно и прямо посреди комнаты, где пахло хвоей от подушек, набитых сосновыми иглами, Нийл сказал очень серьезно:
— Бабушка, вы уверены, что ваши предки, начиная от Пика, были только французы и чиппева?
— Говорил я тебе не болтать про Пика! — заныл дедушка Эдгар.
Она вся съежилась. Она знала!
Нийл не унимался:
— Вы уверены, что в нас нет нисколько негритянской крови?
Она взвизгнула:
— Ты что говоришь, негодник! Да где это слыхано!
Но гнев ее был слишком прозрачен, и слишком прозрачна была ярость дедушки Эдгара. Ничего не осталось от смешного скряги, уютно греющего у огня старые кости. Лицо его было ужасно — безжалостное, кровожадное лицо линчевателя. Такое выражение Нийл один раз видел у пленного немца и один раз у пьяного американца из военной полиции. Эдгар бесновался:
— Нет, ты что это выдумал, к чему ты клонишь, а? Уж ты не вбил ли себе в голову, что у твоей бабки в роду была черная кровь? Или ты пьян как стелька? По-твоему, выходит, что я народил черномазых ребят, что твой дядя Эмери и твоя родная мать — ниггеры?
Нийл всегда любил ласково поболтать с дедом, как и со всяким симпатичным старичком, но сейчас ему было не до болтовни и не до ласки.
— Надеюсь, что это не так, но раз в жизни я намерен добиться правды. Скажите мне правду.
Дедушка Эдгар сразу сник и одряхлел, его бесполезная вспышка погасла.
— Плюй ты на эти россказни и грязные поклепы, Нийл. Все это ложь, до последнего слова, а если бы и было правдой, никому этого не следует знать. Ради создателя, мальчик, забудь об этом.
Бабушка Жюли пронзительно заклохтала:
— Ложь с начала до конца, Нийл, миленький. Это люди в Гайавате выдумали из зависти, что мы с Эдом так хорошо живем.
Не было сил дольше присутствовать при этом самооголении двух дряхлых призраков прошлого, и Нийл отступил, но не сумел смягчить тон своей прощальной реплики:
— Ладно, ладно, не буду. Ну, мне пора. До свидания.
В поезде он злился:
«Осточертели мне все эти «Унесенные ветром» и сусальные рассказики Томаса Нелсона Пейджа! Белый хозяин на старой плантации — белый хозяин в холодной конторе — шпаги и розы и дай чертову ниггеру в зубы. Если я негр — ладно, буду негром.
Никогда еще так не хотелось выпить».
Но в баре отеля «Суонсон-Гранд» он выпил апельсинного сока и не рискнул заказать даже один коктейль. Он уже думал, не навсегда ли с ними расстался, хотя до сих пор был с коктейлями в ладах. Он смотрел на оживленных мужчин у стойки и представлял себе, как они обернулись бы волками и гиенами, если бы он спьяна сказал вслух то, что мог бы сказать.
Всю дорогу домой, в «Борапе», его тяготила услужливость Мака. Ему хотелось буркнуть: «Да бросьте, я же свой». Он вскипал, слыша, как Мак подобострастно смеется плоским шуткам жителя Гранд-Рипаблик Орло Вэя, который был симпатичным человеком, когда подбирал вам стекла для очков, но только тогда.
Нийлу хотелось спросить Мака: «Зачем вы слушаете этого белого пустобреха? Наш народ должен вести себя достойно».
Только в самом конце пути ему пришло в голову, что двадцать восемь часов обучения — пожалуй, слишком короткий срок, чтобы усвоить все повадки негров.
Раньше, если что-нибудь не ладилось, ему не удавалось обмануть Вестл никакими потугами на веселость, но когда он ввалился в дом с возгласом: «Твой муж скупил все банки Миннеаполиса и Сент-Пола!» — расцеловал ее, взъерошил Бидди волосы, как заправский счастливый супруг и отец, она ничего не заподозрила и сказала только:
— Я рада, что ты удачно съездил. Какое счастье, что кончилась война! Ты как, в настроении сегодня вечером сразиться в бридж у Кертиса?
— Конечно, с удовольствием.
Кертис, сын Буна Хавока, первый набросится на него.
Он ничего не мог решить, поскольку оставался нерешенным основной вопрос: обнародует ли он свою тайну, откроет ли ее хотя бы Вестл?
Если он будет молчать, никто, вероятно, не узнает, а бабушка Жюли и Эдгар ничего не скажут — это ясно. Доктору Вервейсу и в голову не придет связать Пика и семью Пезо с Кингсбладами.
Некому было обвинить его, кроме его самого. Но этот единственный обвинитель отличался таким упорством, что порой он слышал, как у него срываются слова: «Да, во мне есть негритянская кровь. Что я, Иуда, чтобы отречься от племени моей матери?»
Но всякий раз, когда он готов был предпринять какой-то смелый, решительный шаг, раздавался язвительный голос его второго, более трезвого «я»:
«До чего же храбрый этот капитан! Хочет бросить вызов всему свету! Не терпится тебе попасть в лапы к южным шерифам с бычьим взглядом и красными кулаками, когда в этом нет нужды, когда это бесцельно, когда никто тебя об этом не просит? Тоже, самозваный мученик сыскался!»
Этот карманный ад он носил с собой и на работе, когда занимался устройством Консультации для ветеранов. Пыхтя и покашливая, к нему подплывал мистер Джон Уильям Пратт, а за ним на буксире — миссис Джон Уильям Пратт — дама с кисло-сладким лицом, но с бюстом, который можно было бы назвать соблазнительным, не будь это бюст примерной христианки.
Дама журчала:
— Мне кажется, вы и мистер Пратт напрасно выбрали для этой комнаты такие строгие тона. Вы знаете, я никогда не вмешиваюсь в дела банка, — я знаю, сколько браков это погубило, даже когда женой руководили самые лучшие побуждения, — но я чувствую, что у меня есть призвание к убранству помещений; я знаю, многие женщины это утверждают, а сами только и умеют, что прощебетать: «Ах, как выгодно занавески оттеняют бледно-лиловый шелк тахты!» — но я чувствую, что у меня оно действительно есть — а ведь многие ветераны будут приходить сюда со своими невестами, или женами, или… ну, словом, не одни, и тех особенно может привлечь какое-нибудь умело брошенное красочное пятно — ну, скажем, ярко-желтая подушка на диване — так мило и напоминает о весне. Мне кажется, это очень важно, понимаете — о таких вещах часто забывают, но, право же, это важно!
Тут заговорил мистер Пратт, как всегда добродушно, но не без ехидства:
— Вам не обязательно соглашаться с моей благоверной, Нийл. Вы как, прониклись убеждением, что это важно?
— Я, сэр, не всегда разбираюсь в том, что важно и что нет.
«А что будет, если я им скажу?»
Это «а что будет, если я им скажу?» пугало и мучило его и коварно толкало на признание, когда он встречался с Уилбуром Федерингом, южанином, который вполне примирился с северными кассовыми аппаратами и пел «Убираем снопы золотые» на мотив «Дикси». Или когда в Теннисном клубе лесопромышленник У.С.Вандер, специалист по коврам и антисемитизму Седрик Стаубермейер и оптик-политик Орло Вэй дружно утверждали между играми, что нашим американским свободам, включающим право жевать табак и драть с потребителя сколько вздумается, грозит серьезная опасность.
Это были добрые соседи, всегда готовые ссудить Нийлу косилку для газона или бутылку виски, солидные клиенты банка, хорошо отзывавшиеся о вежливом обращении и порядочности Нийла, и это были линчеватели — северной, неактивной породы, которые «своим умом и энергией, без посторонней помощи, нажили себе состояние, и никакие, черт возьми, сантименты по отношению к этим лодырям-рабочим не заставят их поступиться своей собственностью».
Тут не приходилось сомневаться в том, что будет, если он скажет.
Вестл ушла спать. Он сидел на веранде, вдыхая тепло этой майской ночи, ерзал в плетеном кресле и пытался читать статью об «Использовании коносаментов в международном кредите в условиях послевоенной финансовой конъюнктуры». Статья была превосходно написана и иллюстрирована снимком парижской биржи, но он отложил ее, он решительно отложил ее в сторону и погрузился в тишину уснувшего пригорода.
Он оглядел веранду, трельяж, увитый плющом, миксер для коктейлей на маленьком зеленом холодильнике. Мысленно он увидел безмятежный профиль Вестл на подушке, Бидди, свернувшуюся в кровати золотым клубочком. В июне Бидди исполнялось пять лет, и она допытывалась, почему ей еще нельзя будет голосовать. Она заявляла, что хочет выбрать своего отца в президенты, и не давала матери сбить себя с толку шутливым возражением: «Ну что ты, маленькая, папе нельзя быть президентом, он слишком красивый».
Все эти простые радости…
Он выдаст себя необдуманным словом; какой-нибудь Уилбур Федеринг подхватит его; он будет опозорен, пойдет прахом это скромное благополучие, этот дом — воплощение их любви. Мысленно он уже видел: бесчувственные торговцы старой мебелью и любопытные соседи ввалились сюда покупать его вещи — по дешевке, — а Вестл и Бидди стоят и плачут, кутаясь в шаль, как вдова и сиротка из викторианского романа.
«Нет! Я грудью буду защищать наш дом!
Точно старомодная мелодрама. Что ж, я и чувствую себя, как в мелодраме».
Откуда-то подползла нехорошая мысль, что вернее всего он сможет защитить этот дом своей смертью. Из глубины могилы он не скажет опрометчивого слова. Его жизнь, как уважающего себя обитателя Сильван-парка, застрахована на большую сумму. Вероятно, можно совершить самоубийство так, что никто не догадается — например, пустить автомобиль под откос и сгореть в его обломках?
В банке выдался трудный и суетливый день, и Нийл, как никогда, устал от мира Праттов, изнемог от видений того, что могло с ним случиться. Если б незаметно уйти со сцены, обеспечив будущее Бидди…
Но тут он рассмеялся:
«Смотри-ка, сколько новых возможностей! А ведь я презирал богачей, которые выбрасывались из окна во время прошлого кризиса — несчастные белые пиявки не мыслили себе жизни без двух шоферов, — не из кого будет кровь сосать. Мы, негры, так не поступаем».
Он опять засмеялся, не притворно, не для публики, даже не для услаждения собственного слуха.
Рэнди Спрюс, генеральный секретарь Торговой палаты Гранд-Рипаблик, был приятелем Уилбура Федеринга — того, что родился в Стоуте, штат Миссисипи, на красном глинистом холме, но теперь стал гражданином Миннесоты и покровителем лыжного спорта, который он чуть ли не выдавал за свое изобретение, хотя сам на лыжах не ходил. Мистер Федеринг был основателем и президентом компании «С Пылу, с Жару — горячие обеды и завтраки на дом быстро и без хлопот — все от сандвича до фрикасе — салфетки и серебро по особому заказу — обращаться лично, письменно и по телефону».
Вот каков был Уилбур Федеринг. Обеды были неплохие, прибыли — огромные, а сам он был популярной фигурой для всех жителей Гранд-Рипаблик, кроме тех, которые не одобряли расовой нетерпимости и дурных манер.
Он подсказал Торговой палате ряд полезных идей, а Рэнди Спрюс всегда говорил: «Я всегда говорю, что для человека в моем положении, профессионального поборника передовых начинаний и Американского Образа Жизни, главный товар — идеи. Я не только читаю журналы и слушаю беседы по радио, я готов принять совет от кого угодно — как я всегда говорю, вплоть до поляка или члена профсоюза».
От представителя рода Федерингов Рэнди имел счастье получать Точную Информацию по Негритянскому Вопросу.
Рикошетом эта информация пригодилась и Нийлу, когда он и Рэнди оказались в числе девяти членов комиссии по устройству общегородской встречи ветеранов.
Рэнди нервничал:
— Среди солдат есть и ниггеры, нужно что-то сделать, чтоб они не испортили парад наших белых героев.
— А черных ветеранов нельзя тоже считать героями? — заикнулся было доктор Норман Камбер.
— Ни в коем случае! — разъяснил Рэнди. — Я всегда говорю, что на фронте ниггеры не подчинялись дисциплине и боялись холодного оружия. Командование раздало им кое-какие награды только для того, чтобы они не взбунтовались и нам не пришлось бы их всех расстрелять. Я слышал об этом от одного полковника. Но Уилбур Федеринг дал прекрасный совет. Мы устроим черномазым отдельную встречу на Майостри; все будет — и парад, и фейерверк, и знамена, и пусть какой-нибудь верблюд, вроде конгрессмена Оберга, произнесет речь. Мы им скажем, что не хотели, чтобы их затерли среди белых, потому, мол, и чествуем их особо. Эти ниггеры такие дураки, они поверят.
— Негры все дураки? — осведомился Нийл.
— Все до одного!
— А мулаты?
— Милый мой, я всегда говорю: если в человеке есть хоть капля черной крови, он недоумок. Не способен творчески мыслить, понятно? Ведь вы не назовете ученую собаку умной оттого, что хозяин выучил ее ездить на велосипеде и изображать пьяного? Потому и ниггер не может выполнять никакой ответственной работы. Док, пусть я трижды лжец, если вы сумеете назвать мне негра, который мог бы быть сенатором Соединенных Штатов.
— Хайрем Ревлс или Б.К.Брюс, — сказал доктор Камбер.
— Кто? Почему вы думаете, что эти ниггеры могли бы быть сенаторами?
— Они были сенаторами.
— А-а, понимаю. Это во времена «реконструкции»? Федеринг мне все разъяснил. Это потому, что тогда ниггеров только что освободили, а за время рабства их приучили к трудолюбию и покорности. Но позже, когда пришла свобода, цветные распустились и дегенерировали в умственном отношении, не говоря уже о их безнравственности, и сейчас среди них нет ни одного, который мог бы занять место выше, чем место швейцара в городском управлении.
Нийл думал уныло: «К чему? Я все равно никому не скажу. И точка».
Так просто!
16
Двенадцатое июня сверкало солнцем, сиренью и свежей листвой — как и требовалось, ибо двенадцатое июня было днем рождения Видди. Это был день рождения, достойный маленькой белой принцессы, — белые цветы, белые платья и белые дети со всего квартала, восхищенные новорожденной, ее новыми роликами и белым с золотом игрушечным театром.
Нийл рано вернулся домой. Несколько девочек и четверо пискливых, но галантных молодых людей — сверстников Бидди — играли в прятки на заднем дворе вокруг цементного бассейна и белого кукольного домика Бидди, густо увитого хмелем. Все дети, а в особенности Пегги Хавок, обожали Нийла и сейчас же пустились водить вокруг него хоровод, любовно припевая: «Мистер Кингсблад, капитан — мистер Кингсблад, капитан!»
Из дома вышла Вестл, высокая и благостная, как ангел, в длинном зеленом платье с золотым поясом, — она несла праздничный слоеный пирог, на котором белой и желтой глазурью было красиво выведено «Бидди — 5». Шесть розовых свечек (одна на рост) ровно горели в неподвижном теплом воздухе.
Перед тем как принять пирог, Бидди — прирожденная актриса — убежала в домик и появилась снова в своей святочной бумажной короне. Но хоть ей и очень нравилось быть королевой, она, как добрая конституционная монархиня, нарезала и раздала пирог по-царски справедливо. Нийл глядел на нее и думал, что недолго он тешил себя мыслями о королевской крови. Примесь ее в Бидди, несомненно, была, но от старого ли развратника Генриха VIII или от Ксавье Пика — властелина лесной глуши?
Бидди подлетела к нему, глаза ее сияли, как алмазы. Встав на цыпочки, она обхватила его руками:
— Папочка, у меня еще никогда-никогда не было такого чудного рожденья. Теперь на мое рожденье всегда будет так весело, да?
Он больно поцеловал ее.
Принц — бывший Ниггер, — считавший, что праздник устроен в его честь и что он, как гостеприимный хозяин, должен лаять на своих маленьких друзей и сшибать их с ног, в два прыжка очутился возле Бидди, облизал ей лицо и, смеясь, сбил с нее корону, и Бидди, позабыв о своем королевском достоинстве, завизжала:
— Ах ты, скверная собака, перестань сию же минуту, не то я тебя выгоню из моего дворца, скверная ты собака, Ниггер противный!
Нийл раздраженно поморщился.
В банке к столу Нийла подошел доктор Аш Дэвис, а доктор Аш Дэвис был негр, с лицом цвета сухих осенних листьев, освещенных солнцем. Нийл от кого-то слышал, что ввиду небывалых трудностей, вызванных войной, Уоргейтам пришлось нанять для работы в заводской лаборатории этого цветного субъекта Дэвиса — да, да, дело свое он знает, имеет степень доктора химических наук от Чикагского университета, но что ни говори — чернокожий. Вот и видно (согласились все присутствовавшие на завтраке в Бустер-клубе), как у нас туго с рабочей силой. Впрочем, еще вопрос, можно ли допускать такие прецеденты даже во имя победы. Дать работу белого выскочке негру — кто знает, к каким последствиям это может привести!
Да, Нийл уже слыхал про Аш Дэвиса.
Впервые в жизни он по-настоящему видел «цветного». Он никогда не видел Белфриду, Эмерсона Вулкейпа, с которым учился с первого до последнего класса школы, Мака, солдат-негров; он не видел их, а только с досадой ощущал их присутствие, как если бы в Аравии он искал дорожный указатель на английском, или французском, или еще каком-нибудь человеческом языке, а вместо этого находил только непонятные надписи по-арабски. И уж, конечно, он не видел клиентов-негров, приходивших в банк брать ссуды. Для него это были только темные руки, держащие бумаги, тихие голоса, преувеличенно учтивые.
Теперь он смотрел на Аша, но не видел в нем «негра», «цветного». Перед ним был на редкость обаятельный светский человек и к тому же ученый. У Нийла мелькнуло ощущение: «Где я его видел?» Потом он вспомнил: только кожа потемнее, а в остальном — вылитый Тони Эллертон с военного транспорта, его единственный вполне бескорыстный друг.
Доктор Дэвис был мужчина лет сорока, стройный, очень изящный, невысокого роста, с черными усиками, но совсем не фатоватый. Взгляд у него был твердый. Он был одет, как любой обеспеченный интеллигент, но серый костюм сидел на нем по-европейски. Будь Нийл Шерлоком Холмсом, он угадал бы в произношении доктора Дэвиса детство, проведенное в Огайо, три года в Англии, Франции и России, дружбу с теннисистами, преподавателями музыки и работниками лабораторий. Но он услышал только, что доктор Дэвис говорит четко и мягко, похоже на Роднея Олдвика, но более правильно.
Он уже склонялся к мысли: «В этом Дэвисе есть что-то очень привлекательное. Я не знал, что бывают такие негры. И откуда я мог знать? Мне негде было и встречаться с ними».
(На самом деле Нийл месяца три тому назад сидел напротив доктора Аша Дэвиса в автобусе, слышал, как он разговаривал с толстым негром в пасторском воротничке, но не видел ни того, ни другого.)
Доктор Дэвис сказал, что пришел с просьбой.
Сейчас, когда кончилась война, со здешних предприятий будут уволены сотни негров, и деятели негритянской общины в согласии с Городской лигой решили ходатайствовать перед деловыми учреждениями о предоставлении им работы. Нельзя ли устроить двух-трех человек во Второй Национальный? Он знает многих цветных, окончивших коммерческие школы, которые во время войны служили счетоводами и бухгалтерами. Что скажет Нийл?
— Почему вы обратились ко мне? — забеспокоился Нийл. — Я с удовольствием сделал бы все, что могу, но ведь я только помощник главного бухгалтера.
Улыбка у Аша Дэвиса была подкупающая.
— Доктор Норман Камбер, добрый друг моего народа, сказал мне, что вы один из немногих банковских дельцов, способных на человеческие чувства. Боюсь, что это звучит не слишком лестно!
— Для дока Камбера и это уже много. Что ж, я позондирую почву. Обязательно!
Он старался придумать, о чем бы еще поговорить с доктором Дэвисом. Ему необходим был человек, который понимал бы то, чем он стал. И, озаренные присутствием Аша Дэвиса, бледные проблески новых мыслей, не дававшие ему покоя, приобрели отчетливость и силу. Он думал: «Прекрасный, видно, человек, а вынужден унижаться, просить белых людей за своих соплеменников. Черт знает что такое, ведь он чуть не раболепствует передо мной, перед каким-то паршивым клерком. Он в тысячу раз лучше меня. Ну вот, Кингсблад, раз ты сумел это понять, — действуй».
Он, сколько мог, тянул разговор о работе для негров, но его смущало, что он не знает, как нужно говорить — «негры», «цветные» или еще как-нибудь. Доктор Дэвис стал прощаться, и в стране, где так в ходу рукопожатия, Нийл во второй раз в жизни (первый был Борус Багдолл) пожал руку негру.
Видимого ущерба это ему не причинило.
Для Джона Уильяма Пратта он изобрел хитроумную версию, что, мол, поскольку у них уже имеется несколько крупных вкладчиков-негров, а будет, вероятно, еще больше, следовало бы, пожалуй, взять одного-двух негров на должности младших служащих. Пратт поглядел на него с жалостью:
— Милый мой, ваше либеральное отношение к неграм меня радует. Я мечтаю о том времени, когда они будут получать приличное образование и смогут занять место рядом с белыми работниками — на своем родном Юге. Но здесь у нас им делать нечего, и самое лучшее — предоставить им голодать до тех пор, пока они не осознают своей глупой головой, что им нужно поскорее убираться к себе на Юг… Не говоря уже о том, какой скандал устроили бы нам клиенты.
По дороге домой он зашел к отцу выпить коктейль. Этот вздорный добряк затянул свой добродушный вздор:
— Ну что, сынок, успешно продвигаешься к нашим королевским истокам?
— Как будто бы да, папа.
В тот вечер он вспомнил доктора Аша Дэвиса по контрасту — на приеме в честь возвращения Рода Олдвика, который устроил сам Род, потому что никто не мог бы устроить лучше.
Майор Родней Олдвик из танкового корпуса — в миру юрист и богатый человек, питомец Принстона и Гарварда, постоянный участник маневров Национальной гвардии, загорелый, худой и длинный, коротко остриженный на прусский манер — был солдат, благородный искатель приключений, сокол, орел, герой. Нийлу, который был на пять лет моложе его, Род в школьные годы казался идеалом героя. Род мог решить за него пример по алгебре, научить его танцевать танго, показать, в каком уголке озера Мертвой Скво лучше всего ловится щука, потренировать по хоккею, поддержать в стычках с поляками и итальянцами, утешить, когда Эллен Хавок отвергла его любовь, дать взаймы пятьдесят центов и разъяснить тайну налогов и святой Троицы, а также почему порядочные люди вроде их отцов никогда не голосуют за демократов. Не то чтобы Род действительно совершал эти подвиги ради Нийла, который очень недурно прожил юношеские годы своим умом, но Нийл горячо верил, что он совершил бы их все, стоило его попросить об этом.
В студенческие годы Род (по сведениям, доходившим до Нийла) одинаково преуспевал в риторике и в поло, исправно напивался с хулиганами, которых подбирал в нью-йоркских барах, совращал девушек только из таких семей, которые не могли ни унизиться, ни возвыситься до шантажа, и говаривал с шутливой откровенностью, присущей ему уже в ранние годы: «Когда я выставлю свою кандидатуру в сенат, никакие незаконные младенцы не будут прерывать моих предвыборных выступлений».
Род Олдвик жил не на лоне природы в Сильван-парке, а рядом с доктором Роем Дровером, среди великолепия Оттава-хайтс. Он проводил отпуск дома в ожидании демобилизации и еще не утерял романтического ореола воина, тем более что носил пиджаки особого, полувоенного покроя. По случаю его возвращения с поля брани дубовые полы в его большом доме были натерты до зеркального блеска, хрустальные вазы, которых у него была целая коллекция, — перемыты и сплошь наполнены нарциссами, а за китайской ширмой, отбитой у подлых немецких грабителей, оркестр из четырех человек играл Делиуса и Копленда. В первый раз за это северное лето выдался теплый вечер, и мужчины щеголяли (и мерзли) в белых фланелевых пиджаках, а дамы — в легких белых платьях с накинутыми на плечи мексиканскими шалями.
Род, словно кандидат перед выборами, обходил восхищенных гостей и, дойдя до Нийла и Вестл, сказал с грубоватой простотой:
— И вы здесь — ну, теперь я окончательно понял, что я дома! Нийл, я слышал, как доблестно ты дрался, и слышал не от кого-нибудь, а от довольно-таки высоких чинов за океаном. Я им сказал: «Этот мальчик один из моих самых старых друзей, и я горжусь им!»
Нийла даже в жар бросило от гордости, и позже его неприятно поразило замечание доктора Дровера: «Не иначе как Род после армии намерен переключиться на политику и охоту за популярностью».
Жена Олдвика, Дженет, была ростом чуть повыше Вестл, и чуть искуснее подмазана, и чуть увереннее болтала о выставках лошадей, а его сын и дочь были такие же выдержанные и нарядные, как отцовский дом, и Нийл чувствовал себя здесь на своем месте. Когда Род, наконец, перестал циркулировать между гостями, как первый секретарь посольства, и нашел время обменяться с Нийлом воспоминаниями о далекой юности с баскетболом и пивом в школьной раздевалке, Нийл решил, что они с Родом — типичные офицеры и джентльмены и крупные дельцы, готовые вместе, плечом к плечу, бороться за высокие идеалы и инициативу американцев.
Ксавье Пик был всего лишь призрак, рожденный фантазией призрака, а Аш Дэвис — какой-то работник какой-то лаборатории.
Капитан Кингсблад небрежно спросил майора Олдвика:
— Ты видел цветные части в бою? Мне не случалось.
— А как же! В нашей бригаде была одна черная танковая часть — черт знает что такое, — угрюмые, недисциплинированные, нам всегда приходилось подталкивать их вперед во время атаки. Там был один цветной сержант — ну самый настоящий большевик. Нет чтобы обращаться по инстанциям, вечно лез прямо к генералу, через какого-нибудь негодяя-ординарца, — ставил под угрозу моральное состояние всей бригады своими жалобами, что негров и перевозят и медикаментами снабжают отдельно от белых. Была бы наша воля — уж этот черный джентльмен не вернулся бы к своей красотке в благословенную страну свободы!
Внезапно Нийлу стало ясно, что все это ложь; черные солдаты не были такими; а смутьян сержант, которого Род с удовольствием бы укокошил — «это мог быть я!» — подумал Нийл.
Прощался он с Родом подчеркнуто вежливо.
17
Раз он не хочет верить, что среди людей его расы много таких, какими их рисует Род Олдвик, значит, нужно посмотреть, что же это за люди. Где можно понаблюдать их без помехи? В кино? В церкви?
Наверно, в Гранд-Рипаблик есть негритянская церковь, раз цветное население города составляет уже несколько тысяч; наверно, есть негры, которые ходят в церковь, как вы думаете? (Его мать ведь ходит!)
Усевшись почистить туфли в подъезде отеля «Пайнленд», он ласковей, чем обычно, взглянул с высоты кресла на старого Уоша, чистильщика, крохотного, на редкость незлобивого старичка, которого звали вовсе не Уош, а Джордж Грэй и который приходился дедушкой Белфриде Грэй. Это был единственный негр, пользовавшийся благосклонностью Рэнди Спрюса, так как он «знал свое место и никогда не забывал снимать шапку перед белыми джентльменами».
Было в Уоше что-то жалкое, в его сгорбленной, паучьей фигурке, в цвете его кожи, скорей серой, чем черной. Он поднял глаза на Нийла и из древних запыленных воспоминаний выволок какую-то нехорошую историю о Белфриде. Тоненьким голоском он запищал:
— Правильно сделали, капитан, что турнули Белфриду из своего дома. Это самая настоящая девка, сэр. Я с ней ничего поделать не могу. — Он хихикнул. — Путается со всеми распоследними ниггерами в городе. Много они о себе понимают, эти молодые ниггеры, здесь, на Севере, и ничего с ними не поделаешь, да, сэр, ничего!
Нийл сказал с великодушием молодого принца:
— Ну, не такая уж она скверная, Белфрида. Просто годы молодые. Скажите, Уош… хм… где тут у нас в городе негритянская церковь?
Уош оцепенел. Он с трудом поднял голову, в его мутных глазах появилось тревожное, испытующее выражение, и совсем другим голосом, без нарочито «негритянского» акцента, он спросил:
— А вам зачем это знать?
— Я бы хотел побывать там.
— Мы не любим, когда белые приходят смеяться над нами туда, где мы молимся богу.
— Честное слово, Уош, мне и в голову не приходило смеяться.
— А зачем же еще такому человеку, как вы, ходить к нам?
— Мне просто захотелось ближе познакомиться с жизнью негритянских кварталов.
— Мы не любим, когда к нам ходят толпы любопытных.
— Я приду один и думаю, что сумею никого не оскорбить.
Нийл сам не замечал, как смиренно он обращается к этому почтенному старейшине своего племени. Уош проворчал неохотно:
— Ну что ж, мистер, церквей у нас пять или шесть, но я вам советую пойти в баптистскую, где преподобный Брустер служит — в Файв Пойнст, угол Майо-стрит и Омаха-авеню. Я сам туда хожу. Нам преподобный Брустер очень нравится — большого ума человек.
Нийл смутно помнил, что Черный Город в Гранд-Рипаблик носит название «Файв Пойнтс» и что Майо-стрит — его главная улица. Второй Национальный Банк вел там дела по закладным, и ему несколько раз приходилось туда ездить, но он ничего там не увидел. О «преподобном Брустере» он слышал впервые в жизни, и когда Уош снова принялся за его туфли. Нийл с шутливой непринужденностью белого человека произнес:
— Что за фамилия — Брустер, скорей подходит для янки, чем для чернокожего проповедника.
— А он и есть янки.
— А-а!
— Он — как это называется — доктор философии.
Нийл невольно улыбнулся: как у этого негра все спуталось в голове!
— Вы хотите сказать: доктор богословия?
Но Уош настаивал, и в его смиренной реплике снова послышался легкий призвук деланного южного акцента:
— Нет, сэр! Он эту самую степень доктора философии получил в Гарлеме, от Колумбийского университета.
— Доктор Брустер, доктор Дэвис. Что, на Майо-стрит у всех есть ученые степени?
— Нет, сэр, кое-кто из нас слишком рано родился для этого.
Белый человек в капитане Кингсбладе насторожился: «Да этот старый хрен, кажется, смеется надо мной!»
Он солгал Вестл.
В это воскресное июньское утро он сказал ей, что едет в Саут-энд, на завтрак Ассоциации Ветеранов Войны. Он вспомнил небылицы, которые плел в Миннесотском Историческом обществе, и подумал, что становится искушенным лжецом.
Он доехал до Файв Пойнтс в автобусе, дальше пошел пешком. Майо-стрит ничем не отличалась от любой торговой улицы мещанской окраины, тот же затрапезный вид, те же крикливые фасады деревянных магазинов с грубо намалеванными вывесками. В квартале между Денвер— и Омаха-авеню были две аптеки, совсем похожие на привычные глазу сокровищницы Сильван-парка, с такой же выставкой бутылок минеральных вод, молитвенников, аспирина, резиновых душей и неизбежного «Знамени фронтира». Кооперативная Продуктовая Лавка, бакалейный магазин «Старая Англия», магазин электрооборудования с реставрированными радиоприемниками на витрине — все напоминало ему англосаксонский город Гранд-Рипаблик; напоминала его и Мясоторговля Люстгартена — старенький жилой дом, где первый этаж был наспех перелицован под торговое помещение, а во втором сушилось на веревках хозяйское белье. Но вся эта знакомая сутолока сразу стала Нийлу чужой, как только он осознал, что в многолюдной толпе на тротуарах не видно ни одного белого лица.
У запертых дверей, под табличкой «Ночлег 75 центов» стояли кучками здоровенные негры-рабочие, смотревшие на него недружелюбно, как на непрошеного гостя, — чем он, в сущности, и был; говорили они больше на диалекте Крайнего Юга, которого он не мог понять. Дальше навстречу попался молодой парень в ультрамодном костюме: желтая спортивная куртка, яркие брюки, остроносые ботинки и черная шляпа с широкими полями. Еще дальше шли по мостовой двое пьяных, обнявшись и распевая громкими голосами, а там появилась, наконец, и классическая «чернокожая нянюшка» с пухлым шоколадным лицом, осклабившимся из-под желтой с красным косынки.
Но когда он заглянул в какой-то переулок, он увидел, что за чистенькими оштукатуренными коттеджами с аккуратным палисадничком перед каждым начинаются такие трущобы, что трудно было поверить, неужели может существовать что-либо подобное в штатах просвещенного Севера: лачуга на лачуге, в три, в четыре ряда, покосившиеся собачьи конуры, в каких ни одна уважающая себя собака не стала бы жить, с обломком железной трубы на крыше. На всем свободном пространстве между лачугами копошились вперемешку собаки, куры и голые коричневые ребятишки.
Ему стало страшно. «Если я превращусь в негра, значит, Вестл и Бидди должны будут переехать сюда?»
И это чувство, что нельзя, невозможно ему стать «цветным», все крепло в нем, когда он проходил мимо закусочной на Бил-стрит и видел в запотевшем окне темные пятна лиц, со злобой обращенных к белому человеку, туристом явившемуся в их трущобную глушь; когда он поравнялся с ночным клубом «Буги-Вуги» и вспомнил, что хозяин его — тот самый приятель Белфриды, сардонический Борус Багдолл, что насмеялся над Кингсбладами в их собственной кухне. Прежде в этом доме помещался магазин; теперь всю витрину занимала морская раковина из позолоченного гипса, а в ней, в венке из серебряных еловых шишек, перевитых ядовито-зелеными лентами, красовалась огромных размеров фотография почти нагой черной танцовщицы.
Эта улица была Нийлу более чужой, чем какая-нибудь итальянская деревня во время войны, и ему казалось, что каждое темное лицо, каждая покосившаяся стена дышит ненавистью к нему, и так будет всегда, и незачем ему было приходить сюда.
Но все это длилось лишь пять минут, пока он медленно шел по тротуару, а на шестой минуте чары рассеялись и он увидел себя среди толпы, ничем не отличающейся от любого сборища благочестивых американских горожан, кроме разве того, что лица тут были более заметно обласканы солнцем.
Это паства доктора Брустера развлекалась воскресными сплетнями и в ожидании, когда колокол призовет их в церковь: благодушные, чисто выбритые мужчины в воскресных костюмах, таких, какие и принято надевать в воскресенье; матери семейств, беспокойно худые или уютно дебелые, с разговорами о том, что пишет из армии сын; мальчики в чересчур тесных башмаках, отмытые до сверхъестественной воскресной чистоты, и девочки, щеголяющие великолепием воскресного наряда; почтенные старцы, на чьих гравюрных ликах запечатлена долгая и праведная жизнь; жизнерадостные младенцы, которые еще не знают, что они негры, и воображают себя просто младенцами.
Половину толпы составляли коренные северяне, и речь их не отличалась от речи любого жителя Миннесоты; они тоже смотрели на Нийла чуть недоверчиво, но он уже не чувствовал себя непрошеным гостем, как перед праздными насмешниками на Бил-стрит.
Баптистская церковь была чистеньким, вытянутым в длину кирпичным строением с нелепой крошечной колоколенкой. В узкие окна, деревянные переплеты которых суживались кверху в робком подражании готике, вставлены были цветные стекла с библейскими текстами. На этом попытки возродить готический стиль оканчивались.
Задребезжал маленький колокол, и мирная толпа устремилась по ступенькам крыльца; Нийл нерешительно последовал за остальными.
Внутри церковь показалась Нийлу больше похожей на масонскую ложу, чем на божий храм. Стены были облицованы сухой штукатуркой, аккуратно прибитой гвоздиками с красными шляпками, и такие же аккуратные и серые тянулись прямые ряды скамей. На стенах висели таблички с текстами, золотом по черному, и картина, изображающая черного святого Августина Карфагенского. Впереди, на возвышении, уже собрался хор, девять девушек в черных мантиях и четырехугольных шапочках. У двух девушек кожа была молочной белизны.
Полной неожиданностью для Нийла, который сам был баптистом, воспитанным в презрении к языческим побрякушкам Рима, явился импровизированный алтарь, покрытый обшитой кружевом скатертью, и на нем крест, украшенный поддельными драгоценными камнями.
Он стоял на пороге в замешательстве, точно больной, впервые очутившийся в приемной незнакомого врача. Вдруг они рассердятся, попросят его уйти? Но служитель, уже спешивший к нему на цыпочках, негр с черным, как черный шелк, лицом, с приплюснутым носом и толстыми губами, улыбался так ласково, словно хотел сказать, что в божьем доме все друзья. На нем был иссиня-серый костюм в елочку — точно такой, как последняя обновка доктора Кингсблада. Он вежливо дотронулся до локтя Нийла, повел его по проходу, остановился, сделал церемонный приглашающий жест, и негритянская карьера Нийла обогатилась новым достижением: он сел между двумя чернокожими людьми, и ему показалось, что это люди как люди.
Слева сидела маленькая женщина, которая все время шевелила губами в торопливой безмолвной молитве и не обратила на него никакого внимания; справа оказался крупный мужчина, черный, как уголь, вероятно, плотник или маляр, который приветливо улыбнулся в ответ на смущенный кивок Нийла.
Он заглянул в отпечатанную на ротаторе программку и удивился, прочтя заглавие проповеди: «Избавление от погибели». Что это будет — какая-нибудь убогая, смехотворная негритянская чепуха, невзирая на пышное, хоть и сомнительное, ученое звание проповедника, или же просто еще одна порция той безвкусной баптистской жвачки, которую Нийл привык потреблять (примерно раз в месяц) с самого раннего детства?
И тут из узенькой боковой двери возле алтаря появился преподобный доктор Ивен Брустер. Он замер в короткой рассчитанной паузе, чтобы обвести глазами всю свою паству, и вопросительным взглядом задержался на Нийле. Но если и была некоторая театральность в его выходе, в следующее мгновенье она уже исчезла; доктор Брустер запросто поздоровался с хором, шепнул что-то подоспевшему служителю (Нийл испугался, уж не на его ли счет) и прошел к кафедре, — духовный пастырь в своем храме, уверенный и спокойный.
Ивен Брустер был человек большого роста с плечами грузчика, черный, как японская лакированная шкатулка, и у него были курчавые волосы, приплюснутый нос, выпяченные губы, покатый лоб — все классические приметы негра с примелькавшихся Нийлу популярных картинок, изображающих, как черный бездельник нападает на доброго белого полисмена. Именно при взгляде на таких, как он, падают в обморок лилейно-нежные белые леди, и хотя Нийл был не столь слабонервен, все же ему стало неприятно, что святыню баптистской веры оскверняет этот борец-тяжеловес, прикрывший свой потертый синий костюм строгими складками пасторского облачения.
Доктор Брустер молча смотрел на прихожан, и мало-помалу Нийл разрешил себе признать, что никогда, ни в одном человеческом взгляде не видал он такой доброты, такой мягкости, такой открытой и мужественной ласки, такой неизбывной любви ко всему живому и к самой жизни. И речь его, когда он заговорил, была речью человека, выросшего в культурной семье, учившегося в солидном университете, человека, наделенного к тому же даром неистового красноречия.
— Я обращаюсь к вам, друзья мои, — и прежде всего к тем, кто в этот день впервые с нами, — не спеть ли нам для начала «Тверды устои, о святители господни»? Это истинный «Боевой гимн республики» в наши тревожные дни.
Ивен Брустер действительно получил степень доктора философии от Колумбийского университета, а кроме того, учился в Гарварде и в богословской семинарии, студенты которой чтят святую троицу — Отца, Сына и Социологию, где Отец есть символ, Сын — поэтический миф, а Социология — нечто с розовым нимбом вокруг чела. Но впоследствии основой его жизни стали религия и расовый вопрос.
Он родился в массачусетской деревушке с вязами и белыми колокольнями, в семье портного, который шил на белых заказчиков. Теперь ему было за сорок, у него была тихая жена, дочь по имени Тэнкфул и сын Уинтроп, который учился в школе и обнаруживал незаурядные способности к физике. Когда доктор Брустер только приехал в Гранд-Рипаблик, чтобы нести своему народу слово божие, церковью ему служила убогая хибарка в Свид-холлоу. На его глазах за этот десяток лет негритянское население выросло с трех— или четырехсот человек до двух тысяч; на его глазах черные иммигранты из обеих Каролин или Техаса, чересчур застенчивые или же чересчур шумливые, превратились в граждан республики; на его глазах молодые люди шли учиться в колледж, становились офицерами, начинали писать для негритянских газет.
Финны, поляки, скандинавы заполнили Свид-холлоу, квартирная плата резко повысилась (заботами любимых клиентов Второго Национального Банка) и доктор Брустер повел свою паству и многих других негров из Свид-холлоу к пустырям и болотам будущего Файв Пойнтс. Когда строилась новая церковь, он сам вместе со своими прихожанами работал на кладке стен, а его кроткая жена Коринна варила мужчинам кофе и раздавала молитвенники, а сестрам во Христе ссужала свою губную помаду.
Судья Кэсс Тимберлейн сказал однажды, что доктор Ивен Брустер — самый умный человек в Гранд-Рипаблик. Это было не совсем справедливо по отношению к Суини Фишбергу, или доктору и миссис Камбер, или к химикам из уоргейтовской лаборатории по имени Аш Дэвис и Коуп Андерсон, или, наконец, к самому судье Тимберлейну. Но никто из упомянутых достойных людей не мог сравниться с Ивеном Брустером в его любви к страждущему человечеству.
Друзья Нийла Кингсблада никогда не слыхали о докторе Брустере.
Когда запели гимн — без нелепых синкоп или тягучего подвывания, которые почему-то считаются характерными для негритянских напевов, а совсем просто, как поют в любой евангелической церкви Америки, — Нийл стал приглядываться к окружающим его людям.
Кроме четырех или пяти, относительно которых он колебался, все они принадлежали к «цветным». Только двое были ему знакомы: Уош, мудрый чистильщик сапог, который сейчас в своем двубортном синем пиджаке в точности походил на маленького, тихонького, патриархально-благообразного банкира-еврея, и миссис Хигби, кухарка судьи Тимберлейна.
После гимна все слушали чтение евангелия, и тут Нийл сделал открытие: у него исчезло чувство, что это люди другой расы, чужие, не такие, как он. То, что у всех у них было сходного — цвет кожи, курчавость волос, — показалось настолько менее значительным, чем индивидуальные особенности каждого, что они перестали быть неграми и сделались людьми, которыми можно интересоваться, которых можно любить и ненавидеть.
Ивен Брустер в своей грубоватой мужественности уже не казался ему безобразным, напротив, в нем чувствовалось достоинство, как чувствуется оно в американском медведе гризли, и Нийл смутно устыдился самонадеянности арийцев, объявивших собственную унылую анемичность идеалом человеческой красоты.
Он не был развлекающимся туристом; его гнала мучительная потребность познать свой народ. Зрение его обострилось, он ясно различал теперь все многообразие оттенков кожи у этих негров — от агатово-черного до пергаментного и кремового, с медным отливом, с лимонно-желтым; а через два ряда от него сидел человек с бледным, густо усыпанным веснушками лицом и почти такими же рыжими волосами, как у самого Нийла, но все же без всякого сомнения — негр.
Он стал отыскивать в них сходство со знакомыми белыми людьми. Вон та толстая и, наверно, сварливая женщина, которая с таким набожным рвением пела гимн, — конечно же, это миссис Бун Хавок. Стройная, элегантная дама в надвинутой на глаза черной шляпке, с которой струится лиловая вуаль, в жемчужных серьгах, выделяющихся на темной шее, — миссис Дон Пенлосс, а надменная особа, которая белей всякой белой и все-таки безусловно не «белая», — не кто иная, как изысканная Ив Чамперис.
Сосед справа, улыбнувшийся ему и предупредительно пододвинувший молитвенник, раскрытый на нужной странице, — тот самый плотник шотландско-ирландской национальности, у которого он мальчишкой выпрашивал длинные, нежные завитки стружек, чтоб сделать себе из них парик и бороду, или просто на растопку для костра.
Только сейчас, взволнованно приглядываясь к ладоням плотника, Нийл впервые понял, как прекрасны могут быть человеческие руки. С тыльной стороны они были темно-серого цвета, но ладони казались такими же розовыми, как у Нийла, только в складках притаился более темный налет; и ногти тоже были розовые. Такими руками хорошо отрывать прогнившие доски, держать молоток, направлять резец, гладить детскую головку.
«Может быть, такие руки умеют делать кое-что получше, чем выводить ряды цифр в гроссбухах», — вздохнул Нийл.
Он попытался проверить, действительно ли они так пахнут.
Подобно большинству американцев, он простодушно верил, что всем неграм присущ особенный противный запах, и теперь он стал сосредоточенно потягивать носом. Какой-то отчетливый дух щекотал его ноздри, но это пахло мылом, нафталином и прачечной, как пахнет в теплое воскресное утро во всех церквах мира, белых, черных, желтых или медно-красных. Поистине его попытки проникнуть в тайну своего народа терпели неудачу, поскольку он не мог найти никакой разницы между этим народом и тем, другим, который тоже был для него «своим» и люди которого назывались белыми.
Распознав в докторе Брустере суровую красоту примитивных бронзовых статуй и одухотворенную красоту коптского святого под знойным солнцем пустыни, он сумел оценить и хищную красоту женщины в жемчужных серьгах и свежую, веселую девичью красоту своих молоденьких соседок, типичных американских школьниц.
18
Проповедь доктора Брустера была длинной и торжественной. Не может быть погибели для того, кто верует во спасение, гласил его тезис, ибо такова воля господня и любовь его.
Не много мог почерпнуть тут молодой банковский служащий, желавший узнать, как поступить человеку, которого бог создал белым, а законы отдельных богобоязненных штатов превратили в черного. Такую проповедь можно было услышать в любой рокфеллеро-готической церкви на Пятой авеню, Мичиган-авеню или Голливудском бульваре. Для Нийла, в его растущем стремлении отделить правду от вымысла, эта проповедь была слишком академичной и утонченной, слишком «белой». Его бы больше устроили дикие пляски под звук тамтама, атавистические отзвуки обычаев его черных предков, — а тут за всю проповедь религиозный экстаз проявился лишь в двух-трех жиденьких «аллилуйя» и одном возгласе: «Воистину так, о господи!»
Нийл даже обрадовался, когда Колумбийско-Гарвардско-Семинарская непогрешимость дала трещину и доктора Брустера прорвало несколькими библейско-жаргонными оборотами.
То-то же, с торжеством думал Нийл. Это уже больше напоминает проповеди южных негров-пастырей в передаче южных джентльменов-журналистов, с особенным вкусом цитируемые Родом Олдвиком, — проповеди, в которых чернокожие толкователи слова божьего выражаются примерно так: «Братья и сестры! Разрази меня бог, если вся эта шайка бездельников не провалится в геенну огненную, когда наступит час, аминь!»
«Если уж я сделаюсь негром, так я хочу слушать такие проповеди, которые бы жгли. И, может быть, это даже не так плохо — покончить навсегда с реестрами и чеками и бриджем по вечерам.
Брось ломаться, Кингсблад! Если тебя поймают и заставят открыто признать себя негром, ты постараешься быть тише воды, ниже травы — только бы добрые белые господа не прогневались, что твоя поганка Бидди ходит в школу вместе с их милыми деточками.
А между прочим, наш белый баптистский проповедник, док Бансер, тоже говорит про геенну огненную и поминает иногда бога без надобности. Черт знает что! Собираешься с духом, чтобы превратиться в негра, а оказывается, что и превращаться не во что, ничего такого особенного в неграх нет. Все равно что мученик, взойдя на костер, обнаружил бы, что огонь только приятно согревает его. Даже скучно!
Ничего, не беспокойся. Ты забудешь о скуке, когда ирландец-кондуктор вытолкает тебя и Бидди из теннессийского автобуса, а мужлан-полицейский выбьет тебе парочку зубов, а макаронник-шпик схватит Бидди и будет издеваться над ней, а…
Перестань, перестань себя мучить! Сейчас же перестань!»
Пусть Нийлу не понравилась проповедь, прозвучавшая слишком претенциозно в этом скромном храме, но своим чтением вслух из священного писания доктор Брустер глубоко взволновал его. Нийл не был большим знатоком театра, но ему вспомнилась сцена сумасшествия Лира, когда пастор глубоким, проникновенным голосом произносил слова извечной жалобы всех черных племен, всех народов Востока, всех женщин, всех больных и отчаявшихся и загубленных нищетой:
«Уныло смотрели глаза мои к небу: «Господи! Тесно мне; спаси меня… Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей… Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели… Ибо не преисподняя славит тебя, не Смерть восхваляет тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне…»
Слушатели тихо стонали: «Был ли ты при том, как распяли господа бога нашего?» — потом сразу перескочили на веселый джазовый ритм: «Лишь два слова с Иисусом, и все будет хорошо!» — и перед взором Нийла вдруг открылась лесная вырубка, по которой шли люди, словно отлитые из меди или выточенные из черного дерева, они шли в цепях, под конвоем белых, по кочкам, по топям, навстречу встающему солнцу, и тихо пели, и смеялись порой.
«Это мое прошлое, — подумал Нийл, — это мой народ; я должен открыться ему».
19
Еще во время проповеди Нийл обратил внимание на семейство, разместившееся в том же ряду, через проход: отец, старик лет шестидесяти, мать, сын, военный в нашивках капитана, молодая женщина с ребенком на руках, который, надо сказать, вел себя образцово, и девушка не старше семнадцати. У всех у них были серьезные, осмысленные лица, и все, кроме разве смуглой молодой матери, легко могли сойти за белых, если б только не было видно по всему, что они здесь свои.
Где он встречал этого военного?
Вдруг он понял, что это тот самый «цветной мальчик», который все школьные годы проучился с ним в одном классе, — все его уважали, но никто с ним не дружил. Среди белых девочек находились даже такие, которым он как будто нравился, а однажды его выбрали старостой класса. Как же его зовут? Ах да: Эмерсон Вулкейп.
Нийл потом слышал, что этот Вулкейп открыл зубоврачебный кабинет в Файв Пойнтс, где завел усовершенствованное кресло и рентген и даже ассистентку в белоснежном халате, совсем как у заправского врача. Нийлу, сыну настоящего дантиста, это в свое время показалось немножко смешным.
Но теперь он не увидел тут ничего смешного, как и в том факте, что Вулкейп тоже состоит в капитанском чине, хотя в петлицах у него вместо доблестного огнестрельного оружия красуется лишь крылатый жезл с буквою «Д», в знак того, что его профессия не убивать людей, но — что значительно менее воинственно и благородно — всего только лечить им зубы.
Нийлу вспомнилось, как еще мальчишкой он однажды видел все семейство Вулкейпов на пикнике на высоком берегу Соршей-Ривер. Они расположились вокруг белой с красным скатерти, разостланной на камнях, и пели хором, и Нийл тогда с завистью подумал, что у него в семье никогда так весело не бывает. И — ну да! — старика Вулкейпа он не раз встречал потом в здании «Таверны наяды», где тот служил дворником и истопником. Но сейчас ничто в нем не напоминало о швабре и мусорном ведре. Его серый костюм сидел безукоризненно, галстук был завязан элегантным узлом, а голова с черной седеющей шапкой волос, горделиво откинутая назад, напоминала голову римского сенатора.
Нийл наблюдал торжественную сосредоточенность Джона Вулкейпа и заранее холодел при мысли о том, какая же судьба ждет его самого в этом мире, его собственном праттовском мире, где для человека с таким одухотворенным обликом не нашлось другого занятия, кроме грязного полурабского труда. Он настойчиво убеждал себя, что, как ни велико его сочувствие к этим неграм, слишком уж много он рискует потерять, если объявит себя одним из них. Но — «хотел бы я обладать достоинством этого старика», — вздыхал он.
В лице миссис Вулкейп было что-то необыкновенно знакомое. Нийл никак не мог понять, что, пока вдруг не догадался, что она удивительно похожа на его мать. Он вздрогнул, не поверил, снова взглянул. Она казалась старше его матери и как-то одновременно спокойнее и решительнее, но ее кожа цвета липового меда, ее точеный нос, ее маленький робкий рот, взгляд, полный самоотречения, — во всем было это сходство, и он вдруг почувствовал, что с ней и с ее семьей его связывает нечто большее, чем старая легенда о пограничном бродяге в мокасинах. Это была женщина, которой он с радостью ответил бы на любой вопрос, и в ее улыбке и ласке он мог найти утешение.
— Господь да пребудет с нами, когда мы в разлуке, да избавит нас от погибели и да осенит благодатью своею…
Ивен Брустер помедлил, его глаза смотрели прямо на Нийла, чудесная дружеская улыбка осветила его лицо, и он договорил:
— …благодатью своею всех нас, богатых и нищих, черных и белых — ибо все мы его дети.
Хор африканских девушек, которые были американскими девушками, запел: «Да святятся узы, связавшие нас!» Но все кругом встали, и чары нарушились, только Нийл еще сидел, завороженный.
Когда вместе с последними из прихожан он двинулся к двери, он почувствовал их смущение; они не знали, что привело его сюда — сочувствие или любопытство и как с ним быть — поклониться или не заметить. Но те из них, кто был родом с Юга, знали по опыту: лучше всего сделать и то и другое и скорей убраться подальше.
Доктор Брустер стоял в дверях, прощаясь с выходящими, и к Нийлу он обратился точно так же, как ко всем остальным:
— Приятно было видеть вас сегодня среди нас, брат мой.
Условная стандартность фразы не понравилась Нийлу, но разве доктор Бансер не говорил таких же фраз?
Пожимая проповеднику руку (теперь он уже натренировался и делал это довольно естественно), Нийл ближе разглядел его лицо: у него были тяжелые, чуть припухшие у переносицы верхние веки, потная, как у батрака, кожа и сила батрака в рукопожатии, а в глазах отражались все страдания мира со времен Голгофы.
Нийл, немного растерянный, спустился с крыльца, не чувствуя облегчения оттого, что испытание кончилось; ему было не по себе в этом будничном мире улицы, где ни от случайных белых прохожих, ни от черных гуляк и бездельников нечего было ждать чуткости Ивена Брустера.
Он долго стоял и смотрел на возвышавшееся через дорогу кино «Эфиопия», точно это был по меньшей мере Шартрский собор. Он не сразу заметил, что рядом с ним стоят Вулкейпы, обсуждая с соседями воскресные новости. Капитан Эмерсон Вулкейп, видимо, узнал Нийла, но не рассчитывал, что Нийл узнает его, и немало удивился, когда Нийл неловко мотнул головой и пробормотал:
— Мне показалось, что это вы, дружище, но я не был уверен. Мы ведь не виделись с самой школы.
Вулкейпы рассматривали его в молчании, которое еще не было ни благосклонным, ни враждебным. Он заторопился, стремясь, сам не зная почему, расположить их к себе:
— А знаете, я ведь вас всех когда-то видел на пикнике, помню, я даже пожалел тогда, что я не в вашей компании.
Они все растянули губы в подобии вежливой улыбки, но Нийл продолжал настойчиво, словно решил понравиться этим людям, хотя бы для этого пришлось перебить их всех поодиночке:
— Жалко, что мне раньше никогда не доводилось слышать доктора Брустера. Э-э… скажите, капитан… вы тоже побывали в Европе?
— Да, был некоторое время. — Эмерсон неохотно сделал то, чего требовала вежливость: — Разрешите вас познакомить, капитан Кингсблад: моя жена, вы, вероятно, знаете ее отца, Дрекселя Гриншо из «Фьезоле», и наш сын. Мой отец, моя мать, а эта молодая девица — моя племянница Феба… Мама, я тебе рассказывал о мистере Кингсбладе, мы с ним учились вместе.
У всех Вулкейпов был такой вид, как у детей, которые уже шаркнули ножкой дяде и считают, что теперь можно удрать к своим игрушкам. Но этому Нийл твердо решил помешать, хотя бы даже в ущерб собственному самолюбию. Эта семья вдруг приобрела для него огромное значение. Когда человек в тридцать один год рождается негром, ему нужна семья.
Ухаживания и подлаживания были не в характере Нийла; но сейчас он заговорил с Эмерсоном почти заискивающе:
— Вам в какую сторону, капитан? Я плохо знаю эту часть города.
Вместо Эмерсона откликнулась его мать, ласково и сердечно:
— О, пойдемте вместе, капитан, нам по дороге.
Джон и Мэри Вулкейп жили на расстоянии одного квартала от церкви, а Эмерсон по соседству с ними. Проходя мимо крошечного пасторского домика, Джон сделал попытку завязать разговор:
— Как вам понравилась проповедь, капитан Кингсблад? Мы все очень высоко ценим доктора Брустера.
Вулкейпов удивило, что этот белый банкир — приехал сюда, наверно, что-нибудь разведать по своей части! — ответил с таким жаром:
— Он меня просто поразил необыкновенным сочетанием силы и мягкости. Это святой — но умница!
— Ну, он такой мастер стряпать и играть в кегли, что к святым его, пожалуй, не причислишь, но мы все его очень любим, — сказала миссис Вулкейп, и Нийл почувствовал, что она чуть-чуть смеется над ним и над его позой критика-любителя. Но он решил, что улыбкой его не собьют. Он внимательно оглядел пасторский домик, убогое одноэтажное строеньице, — три-четыре комнатушки, должно быть, и все вместе площадью немногим больше, чем его скромная гостиная в Сильван-парке. В окошках виднелись аккуратные занавески, а на крылечке величиной с носовой платок стояли три горшка герани.
— Маловат домик для такого большого мужчины. У него и жена есть?
— Да, жена и двое детей. Доктор Брустер и то говорит, что для того, чтобы всем хватило места, приходится спать на плите, а кошку и ванну держать в духовке, и библиотеку тоже — все три книги! — сказал мистер Вулкейп.
Его жена запротестовала:
— Уж, пожалуйста, Джон, ты отлично знаешь, что у Ивена прекрасная библиотека, можно только удивляться при его жалованье — сотни книг, все новинки, и Мюрдаль, и Райт, и Ленгстон Хьюз, и Ален Локк, — и чего только нет!
Над ней добродушно посмеялись, как бывает в семьях, где все любят друг друга.
Нийл ухватился за возможность продолжить разговор:
— Приход небольшой, много платить ему, вы, вероятно, не можете. Обидно все-таки.
Джон ответил с достоинством:
— Да, мы не можем платить много. Мы и сами все зарабатываем гроши. А у Ивена — у доктора Брустера — дети еще учатся и вот, чтобы сводить концы с концами, ему приходится вечерами работать на почте. Но он ничуть не стыдится этого. Еще шутит: радуйтесь, говорит, что у вас проповедник, который служит в государственном учреждении, а не побирается под окнами. И потом, — закончил он горделиво, — Ивен не простой работник, а заведующий, и у него даже белые подчиненные есть!
— И все-таки, — не соглашался Нийл, — это ужасно, что такой человек, ученый, образованный, должен тратить время на сортировку писем…
— Ничего ужасного мы в этом не видим, — возразил мистер Вулкейп. — Нам приятно, что преподобный доктор Брустер в свободное время работает бок о бок с нами, простыми людьми, вместо того чтобы прохлаждаться и мечтать у себя в кабинете. Особенно это нравится моему младшему сыну Райану — он сейчас дома, в отпуску из армии, только сегодня не захотел пойти в церковь. Он у нас, знаете, немножко с левыми идеями.
— Вот, вот, вот, капитану Кингсбладу, наверно, страшно интересны наши семейные дела. Ты бы еще рассказал про шестипалого щенка, который у нас был в позапрошлом году, — съязвила Мэри Вулкейп и протянула Нийлу руку, прощаясь.
Но Нийл умышленно не заметил ее руки.
Они стояли перед домом Вулкейпов, который был почти такой же, как дом Ивена Брустера, — маленький, одноэтажный, чистенько выбеленный; стояли и не двигались, и Нийл тоже стоял и не двигался, так что в конце концов Джону Вулкейпу не осталось ничего другого, как только сказать:
— Может быть, зайдете к нам?
И Нийл зашел, не заботясь о том, уместно это или нет, он переступил порог следом за хозяевами, твердо решив, что из-за таких пустяков, как условности и приличия, не упустит возможности проникнуть в суть вещей.
Он перехватил удивленные взгляды Эмерсона и его отца, в которых ясно читалось: «Что нужно от нас этой банковской ищейке? Опять какие-нибудь провокационные выдумки белых?»
Он попытался установить тон встречи старых однокашников:
— Помните, капитан, у нас была учительница алгебры — настоящая старая наседка.
Эмерсон улыбнулся:
— Да, с причудами была старуха.
— Но, в общем, добрая душа. Как-то раз после урока она мне сказала: «Нийл, если будешь хорошо знать алгебру, сделаешься когда-нибудь губернатором штата».
— Неужели, капитан? — В интонации Эмерсона было что-то чуть-чуть оскорбительное. — А мне она раз после урока сказала, заботясь, по ее словам, лишь о моем благе, что для мальчика-негра изучать алгебру «чистейшая потеря времени» и лучше бы я учился приготовлению соусов для жаркого.
Приятельская атмосфера сразу завяла. Вулкейпы недоверчиво косились на Нийла, ожидая, когда наконец откроется истинная цель его посещения… Может быть, банки теперь рассылают агентов по страхованию жизни?
— Извините, я не собираюсь мешать вам. Я знаю, вы хотите поскорей сесть за свой воскресный обед, и я сейчас уйду, но мне только очень, очень нужно выяснить некоторые вещи, то есть я хочу сказать, я почти ничего не знаю… хм, хм… об этой части города, а мне непременно нужно поближе узнать… эту часть города.
Мысль, которую Нийл тщетно пытался выразить, была — «поближе узнать негров». Но он не знал, какое слово употребить — «негров», или «цветных», или «эфиопов», или это громоздкое словообразование «афроамериканцев», или еще что-нибудь. Что прозвучит наименее обидно? Как-то раз в Италии он слышал, как один чернокожий солдат рявкнул на другого: «Эй ты, ниггер, поворачивайся!» — но он уже успел узнать, что вообще негры не любят этого слова. Он совсем растерялся.
Хозяева теперь смотрели ласковее.
— Что же вы хотели бы от нас услышать, капитан Кингсблад? — спросил Эмерсон.
Откуда они знают про его капитанский чин? Может быть, и правду говорят, будто все негры участвуют в тайном сообществе, цель которого — истребить всех белых людей, дьявольски хитрый, но зверский, чудовищный заговор, зловещий, как черные клубы дыма над полуночным костром, зажженным для человеческого жертвоприношения; и за каждым белым человеком следят, и все его поступки заносят в особые книжечки для сведения знахарей и коммунистических агентов?
Ему томительно хотелось спросить у них одно: «Стать ли мне, негру, негром?» Подыскивая слова, чтобы как-нибудь сформулировать этот вопрос, он огляделся вокруг.
Казалось бы, человеку средних умственных способностей нечего удивляться тому, что в доме у небогатого негра с элементарным вкусом и любовью к порядку все выглядит совершенно так же, как в доме у любого другого небогатого американца с элементарным вкусом и любовью к порядку. Что, собственно, ты ожидал увидеть, сердито спрашивал себя Нийл. Жертвенник культа вуду? Тамтам и леопардовую шкуру? Игральные кости и бутыль маисовой водки? Или же картину кисти Элдзира Кортора и фотографии Хайле Селассие, Уолтера Уайта и Пушкина с собственноручными надписями? Да, очевидно, он ждал чего-то необыкновенного.
Вероятно, если бы он и его друзья были не адвокатами и коммерсантами, а дворниками и истопниками, их гостиные выглядели бы точно так же: тот же потертый ковер на полу, мягкое кресло с подножкой, кушетка, раскрашенные пепельницы, радиоприемник в ящике красного дерева, дамский журнал и посредственные репродукции с посредственных натюрмортов.
«Вестл понравилась бы эта комната, и она непременно отметила бы, что у миссис Вулкейп чистоты и порядка больше, чем у нашей Шерли».
Но он тут же оборвал свою ложь и с болью признал, что невозможно даже на мгновение представить себе Вестл здесь, в общении с этими людьми, людьми одной с ним крови.
Между тем они ждали, и надо было отвечать.
— Я хотел спросить вот что — не знаю только, как бы выразиться пояснее, — понимаете, произошли некоторые обстоятельства, из-за которых мне захотелось получше познакомиться с вами — с…
— Говорите «с неграми», — сказал Джон Вулкейп.
— Или — «с цветными». Мы на это не обижаемся, — сказала его жена так же, как и он, просто и даже снисходительно.
— Мама хочет сказать, — вмешался Эмерсон, — что оба эти названия нам глубоко противны, но мы считаем их несколько менее грубыми, чем «ниггер», или «черномазый», или «негритос», или «горилла», или еще какая-нибудь из тех кличек, которыми белые землекопы выражают свое превосходство над негритянскими епископами. Мы думаем, что пройдет еще несколько десятилетий, прежде чем нас научатся называть просто «американцы» или «люди».
— Не будь заносчив, Эмерсон! — одернул его отец. — Ты прав насчет кличек, но с каких это пор землекопы не такие же люди, как епископы? Я и сам — мусорщик! А если капитан Кингсблад хочет расспросить нас о неграх, — я употребляю именно это слово, — мы охотно скажем ему все, что знаем.
Эмерсон торопливо подхватил:
— Конечно, скажем. Я не хотел показаться заносчивым. Я только не люблю, когда меня клеймят, как скотину. Но, между прочим, капитан, если вы хотите услышать настоящие пламенные речи о расовом вопросе — подождите, пока придет мой брат Райан. Ему только двадцать три года, но он умеет рассуждать так мудро и так нелепо, как будто ему девяносто. Он сейчас в отпуску, — пока еще не демобилизовался, как и я; он сержант и глубоко презирает нас, капитанов! Райан служил в Индии, и послушать его, так подумаешь, что он запросто водился и с Ганди и с Неру, только возможно, они этого не заметили. И в Бирме он тоже был.
Упоминание о военной службе повело к тому, что у двух ветеранов завязался свой, армейский разговор. Капитан и военврач Эмерсон Вулкейп был настоящим солдатом по виду, по речам, по всей закалке, и Нийл подумал, что если он и лишен обаяния великого военачальника Роднея Олдвика, то во всяком случае не уступает ему в авторитетности суждений о сверхмощных бомбардировщиках, рационах, полковниках и морской болезни.
Все теперь уже не стояли, а сидели, но один только Нийл держался уверенно и непринужденно.
Племянница Эмерсона, Феба, о которой до сих пор было сказано очень мало, слушая монотонную беседу двух почтенных вояк, скучала, как скучала бы на ее месте всякая другая семнадцатилетняя американка. Это была хорошенькая, грациозная девушка, захлебывавшаяся своей молодостью, с такой же золотистой головкой, как у Бидди, с таким же нежным румянцем, как у Джоан, сестры Нийла, только более живая и непоседливая. Когда отворилась дверь и в комнату влетел юноша ее лет, она так и сорвалась с места ему навстречу.
У юноши была очень черная кожа, негритянские черты лица; и все же в своем синем воскресном костюме, в бежевом свитере с коричневой оторочкой у ворота он казался самым обыкновенным школьником — грудь колесом, вид свободный и независимый, пожалуй, даже чересчур свободный и независимый, как и у множества его белых товарищей, изрядно отравляющих жизнь ворчливо-заботливым наставникам.
— Это Уинтроп Брустер, сын нашего пастора. Они с Фебой сговорились сегодня позавтракать в Дулуте, — сказала миссис Вулкейп, как будто речь шла не о поездке за семьдесят с лишним миль, а всего лишь о прогулке по парку.
Уинтроп буркнул: «Очень приятно», — Феба выпалила: «Вы меня, пожалуйста, извините», — явно радуясь возможности избавиться от общества тридцатилетних стариков, — и они унеслись в облаке пыли, таком же облаке пробензиненной пыли, в каком всего лет двенадцать тому назад уносилась от родительских глаз другая пара американских юнцов — Нийл и Вестл. А миссис Вулкейп пожаловалась, качая головой, — точно так же, как жаловалась тогда покойная мать Вестл:
— Беда мне с этой девочкой. Феба наша внучка. У нее нет ни отца, ни матери, мы с дедом для нее все. Честное слово, я в школьные годы такой не была. Уж, кажется, влюблена в Уинтропа Брустера, и слава богу: Уинтроп замечательный юноша, он будет знаменитым специалистом по физике или — как это? — электронике, — вот пусть только поступит в колледж. Но для Фебы, видите ли, он слишком серьезен и слишком педантичен, и вот оказывается, что наша девица влюблена уже не только в него, но и в Бобби Гауза, есть тут такой эстрадный танцор, и еще в сына наших соседей, Лео Йенсинга — и преспокойно говорит об этом вслух. А Лео вдобавок белый, это уже совсем никуда не годится.
— А вы так не любите белых? — удивился Нийл.
Джон Вулкейп не дал жене ответить:
— Вот представьте себе. Я ей всегда говорю: стыдно образованной женщине (я-то ведь только начальную школу окончил) огульно осуждать целую расу. Попробуй подойти спокойно и беспристрастно — и найдешь среди белых не меньше умных и добрых людей, чем среди негров… Но смешанные браки я и сам не одобряю, просто потому, что есть много людей, и белых и черных, которым не дано в жизни счастья, и вот, когда они видят мужчину и женщину разных рас, которые ради любви друг к другу не побоялись гонений общества, они стараются выместить на них свою обиду. Конечно, расовые предрассудки и сами по себе нелепость, но они еще переплетены с выдумками о превосходстве высших классов, — возьмите хотя бы Дочерей Американской Революции или английскую аристократию (это я из книг знаю), — так что от них нельзя просто отмахнуться, как нельзя отмахнуться от сифилиса, на который они, кстати, очень похожи.
— Джон! — воскликнула миссис Вулкейп.
— А потому, — продолжал ее муж, — скажу вам по совести, капитан Кингсблад, если бы Феба захотела выйти за белого, я сам не знаю, что бы я сделал — посадил бы ее под замок или же сбросил бы свою форменную фуражку и с оружием в руках стал бы защищать ее право на счастье.
— Ну ладно, Джон, довольно расовых разговоров, — сказала миссис Вулкейп, впрочем, лишь для приличия.
Жена Эмерсона тем временем взяла своего ребенка и ушла домой — несколько демонстративно. Нийл понимал, что все ждут, когда он наконец распрощается.
— Я сейчас уйду, вот только… Скажите мне — тяжело быть негром? Здесь, у нас, на Севере, ну — в Гранд-Рипаблик? Вы не думайте, я не из любопытства. Мне страшно нужно знать.
Старики Вулкейпы без слов посоветовались с Эмерсоном, и Эмерсон ответил за всех:
— Да, тяжело, очень.
Мать поправила его.
— Не всегда. Большей частью мы забываем, что мы парии, и занимаемся каждый своим делом, не думая о расовой проблеме, не думая о своем особом, исключительном положении. Но иногда страдаешь невыносимо, и не столько за себя, сколько за тех, кто тебе дорог, и я понимаю иных молодых, которые заводят речь о пулеметах, — нехорошие речи, но я их понимаю.
Нийл гнул свое:
— Но, честное слово, я не для того, чтобы спорить, миссис Вулкейп, мне просто нужно знать. Я знаю, что на Юге это страшно, но здесь, на Севере, ведь не существует предрассудков, ну, у отдельных людей есть, конечно, но закон их не поощряет. Насколько мне известно, — с гордостью добавил он, — в нашем штате даже издан закон о гражданских правах, по которому негры имеют свободный доступ в любой ресторан. Возьмите Фебу, возьмите вашего сына — разве им приходилось когда-нибудь испытывать на себе дискриминацию?
— Капитан, — сказал Эмерсон. — Мы с вами вместе учились в школе. Я вас считал славным малым, добрым и прямым, и вижу, что не ошибся. Вы не любили обижать никого из товарищей, и у нас с вами было много общих интересов: спорт, математика, политическая экономия. И все же за двенадцать лет вы ни разу не сказали мне ничего, кроме как «доброе утро», и то с таким видом, будто вы не уверены, стоит ли.
Нийл кивнул головой:
— Верно. И теперь уже поздно жалеть об этом. Хотя я жалею. Но Феба принадлежит к другому поколению. Она, мне кажется, живет так же легко, как и моя сестра.
Мэри Вулкейп, кроткая мать, вдруг вскричала:
— Она еще девочка, и она сейчас только знакомится с тем повседневным чувством унижения, на которое обречен каждый негр, особенно здесь, на самодовольном Севере. На Юге нам говорят просто и ясно: ты — собака, привыкай к своей конуре, и тогда будет тебе от хозяина жирная кость и доброе слово. Но здесь нас уверяют, что мы настоящие люди, позволяют нам надеяться и размышлять, и потому постоянные напоминания о нашей якобы неполноценности, случайные бесцеремонные оскорбления для нас чувствительней, чем страх перед линчеванием для наших южных братьев. Унижение! Вот слово, смысл которого вам, белым, следовало бы узнать получше!
А хуже всего нам, тем, у кого светлая кожа.
Мы то и дело знакомимся с людьми, которые не знают и потому относятся к нам хорошо, — и мы, как дураки, забываем об осторожности. Но вот в один прекрасный день вчерашний друг тебя не замечает, или смотрит на тебя с презрением, или просто избегает встречи, и ты понимаешь, что он узнал и дружба кончена.
А если говорить о черных… Дискриминация на Севере? Ее нет, но только каждый раздражительный пассажир в автобусе или покупатель в магазине оглядывается на тебя, словно гремучую змею увидел. Работать дальше кухни или котельной тебя вряд ли пустят, будь ты хоть семи пядей во лбу. Молодые негры, мечтавшие о каком-то будущем, кончают игорным притоном или буферами товарного поезда, потому что никто не хочет дать им возможности испытать себя на настоящей работе. Да, тебя пускают нехотя в ресторан — закон! — но так потом оскорбляют или унижают, что в следующий раз ты скорей согласишься, остаться голодным и скорей согласишься бродить по улице всю зимнюю ночь, чем просить номер в так называемом хорошем отеле. Вот мы с Джоном, когда ездим куда-нибудь, терпеть не можем останавливаться в отелях, хотя нас-то пускают, но мы думаем о наших братьях, обреченных скитаться по улицам.
Унижение, унижение, унижение без конца, пока человек не сломится или, вот как мы с Джоном, не возьмет за правило сидеть дома, никуда не ходить и как можно меньше сталкиваться с белыми. А ведь мы не плохие люди, нет, совсем не плохие. Если б вы знали, как добр и отважен мой муж! А мои дети, а мой отец, ученый зоолог, который…
Простите. Это нервы. Я понимаю, вам, белому человеку, смешно слушать, как старуха негритянка расхваливает свою родню!
— Нет, что вы, что вы! — Нийл был бесконечно растроган и смущен.
— Разве вы не читали в юмористических листках рассказов о черномазых нахалах? Не слышали анекдотов про то, как Мэнди и Растус ведут себя в гостях? А Феба — вы говорите о новом поколении! Только на прошлой неделе один пятидесятилетний механик из гаража — белый, хотя у Фебы кожа гораздо белее, — сказал ей, что, пожалуй, переспал бы с ней, только ему противно спать с негритянкой. И все-таки это лучше, чем на Юге; была там у нас одна знакомая, цветная, она попала под машину и истекала кровью, но ее на хотели принять ни в одну больницу для белых, так она и умерла на улице — убили!
А здесь, когда у Фебы в школе, в той самой, где и вы учились, затеяли ставить спектакль, ей даже не дали прочесть что-нибудь на пробу, сказали, что все роли уже распределены, а она через одну белую товарку узнала, что это неправда. И есть у них учительница, которая постоянно косится на нее и еще на других девочек, гречанок, итальянок, русских, и вслух рассуждает о том, что «мы, мол, ведущие свой род от жителей Новой Англии, не нуждаемся в разъяснениях, что вот то-то и то-то — дело чести».
Но по крайней мере это не грозит ее жизни, не то что было с Баярдом, ее отцом. Баярд был наш старший сын. Он готовился стать учителем политической экономии. Окончил Карлтон-колледж — нанимался на черную работу, только бы учиться, но окончил с отличием — и жену себе нашел, чудесную девушку.
Он родился и вырос на Севере — да, да, я знаю, что я непоследовательна: конечно, Юг хуже, еще хуже! Но он вырос здесь, и ему никогда не приходилось сталкиваться с узаконенной дискриминацией. Он просто не представлял себе, что культурный, образованный негр может на Юге стать жертвой насилия.
Он уехал в Джоржию, где его прадед был рабом на плантации, и поступил преподавателем в негритянский колледж. Он писал мне, что когда ему первый раз попалась на глаза табличка с гнусной надписью «Только для цветных», он словно увидел человека, подкрадывающегося к нему с ножом, и от страха и ярости его затошнило, так что пришлось свернуть с дороги и выйти из машины.
Но все-таки он хотел последовать совету своих южных знакомых и подчиниться «правилам игры», хотя все правила в этой игре изобретает противник. Прошло около месяца, и вот однажды полисмен остановил на дороге его машину и стал утверждать, будто машина краденая. Этот полисмен встречал Баярда возле колледжа и знал, что он негр, хотя и со светлой кожей. Негодяй вел себя так нагло, что Баярд забылся и стал отвечать; тогда его забрали в полицию и сказали, что он пьян, — а он и пива никогда в рот не брал! — он вспылил, и его стали бить. Они забили его насмерть. Моего сына…
Его били долго. Пока он не умер под ударами на голом цементном полу. Он красивый был, Баярд. Потом они сказали его жене, пусть лучше молчит, если хочет доносить своего ребенка. Она тогда была беременна Фебой.
После родов она бежала на Север — целые сутки тряслась в бесплацкартном негритянском вагоне. Она не прожила и года. Он был очень красивый, Баярд, а они били его каблуками по голове на цементном полу, в грязи, в крови, и вот он умер.
Мэри Вулнейп плакала, без надрыва, тихо и безнадежно, и это было страшнее всего. Нийлу вдруг захотелось дать ей самое большое, что только у него есть, и в ту же минуту он услышал собственный голос:
— Я понимаю. Я все понимаю, потому что я недавно узнал, что я и сам негр.
«Боже правый, я сказал! Зачем я это сделал, дурак?»
20
— Вы сказали, что вы сами — негр? Мы этими вещами не шутим. — Джон Вулкейп, не такой румяный, как Нийл, и потому даже более «белый», смотрел на него строгим взглядом.
— Я тоже не собираюсь шутить! Я узнал только недавно. — Нийл чувствовал, что попал в ловушку. Вулкейпы — чудесные люди, но совсем не нужно, чтобы он оказался в их власти. Он продолжал, торопясь: — Может быть, я напрасно сказал вам. Никто не знает, даже родители и жена, но боюсь, что это правда. Всего лишь незначительная примесь негритянской крови, но по закону, действующему почти во всех штатах, я уже считаюсь «цветным».
Он удивился, не видя удивления на их лицах. Лица были неприветливые, суровые. Он добавил с деланной небрежностью:
— Что ж, видимо, придется примириться с этим.
Джон Вулкейп сказал ровным голосом:
— Не оплакивайте себя. Не будьте ребенком. Я вот уже шестьдесят пять лет «мирюсь» с тем, что я негр, «мирятся» кое-как и моя жена, и дети, и миллионы других порядочных людей.
Их взгляды скрестились, и Нийл, пристыженный, отступил:
— Вы совершенно правы, мистер Вулкейп. Я снова должен просить у вас прощения. Просто это так ново для меня, что я еще не успел привыкнуть к этой мысли. Даже отец и мать не знают ничего. Я знакомился с историей нашего рода и вдруг натолкнулся на… на…
— У белых людей это называется «мазок дегтя», — насмешливо сказал Эмерсон. — Нелегкое дело, а?
— Кому же, как не вам, знать, легкое оно или нелегкое, — огрызнулся Нийл.
— Джон, Эмерсон, сейчас же перестаньте мучить мальчика, слышите! — В голосе Мэри Вулкейп была материнская нежность и материнская повелительность. — Вполне понятно, что он расстроен. Бедный мальчик! — Она обняла Нийла одной рукой за плечи и легонько поцеловала в щеку. Это мать, его мать утешала его.
— Сколько тебе лет, сынок? — спросила она негромко.
— Тридцать, почти тридцать один, миссис Вулкейп.
Он чуть не назвал ее «мама».
— Не так-то просто в эти годы вдруг увидеть мир, как он есть. А нам, цветным, чтобы не попасть в беду, нужно хорошо знать и свой мир и мир белых. Ну, вот что, — миссис Вулкейп перешла на деловой, трезвый тон: — оставайтесь-ка с нами обедать. Жена не рассердится? Вот телефон, позвоните ей.
Вестл сказала: «Пожалуйста» и «ну как там, у ветеранов, весело?»
Выяснилось, что в одном отношении Мэри Вулкейп оправдывала миф о «типичной негритянке»: стряпала она великолепно. Но Нийл еще не освободился от первобытных представлений, и потому его удивило, что в меню воскресного обеда фигурировали не жареные куры и арбуз, а самый обыкновенный арийский ростбиф.
Эмерсон потел обедать домой. На прощание он сказал Нийлу:
— О том, что вы нам рассказали, капитан, я никому говорить не буду, пока вы сами этого не пожелаете. Но приходите в наш клуб. Бассейна для плавания там, правда, нет, но народ симпатичный.
Они пожали друг другу руки. Они стали друзьями с опозданием на двадцать лет.
Джон вздохнул.
— Райан опять опаздывает. Эти нынешние революционеры, пожалуй, и на баррикады опоздают. Ну, не будем ждать его, Мэри! Давай садиться за стол.
Так в этот день Нийл впервые разделил трапезу со своими новыми друзьями — самый древний и самый распространенный символ равенства.
Вероятно, чтобы он скорей почувствовал себя как дома, Вулкейпы стали рассказывать ему историю семьи.
Джон Вулкейп был «цветной» и при этом внешне «белый», то есть обладал кожей розовато-коричневато-сероватого оттенка, и ни разу в жизни он не бывал южнее Айовы или восточное Чикаго. Родился он в Северной Дакоте, где семья его была единственной «негритянской» семьей в округе. Его отец служил на железной дороге старшим путевым обходчиком, отец его отца был в Джорджии рабом, а после Гражданской войны батрачил во Флориде, которая ему едва ли казалась раем рулетки и пляжных зонтиков.
Джон с детства тоже работал на ферме, мечтал о колледже или сельскохозяйственных курсах, но когда он только что перешел из начальной школы в среднюю, отец его умер, попав под колеса оторвавшегося товарного вагона, и Джон поступил подмастерьем к деревенскому парикмахеру. Парикмахерское ремесло привело его в 1902 году в Гранд-Рипаблик, и здесь, в двадцать два года, он впервые узнал, что значит быть негром.
До этих пор дипломатическое искусство, к которому жизнь обязывает цветных людей, было ему так же чуждо, как какому-нибудь Нийлу Кингсбладу. Сын набожного баптиста и исправного железнодорожника, старшего над десятком ирландцев и шведов, Джон никогда не слыхал о том, что он низшая биологическая особь, и его непросвещенные белые друзья, юноши и девушки, не знали, что его прикосновение нечисто.
Девушки, во всяком случае.
Находились, правда, в далекой дакотской деревушке люди, недовольно ворчавшие что-то насчет дегтя, но это были чудаки и брюзги, и Джону злоба их оставалась непонятной.
Утвердившись в Гранд-Рипаблик как белый человек и мастер своего дела, он совсем позабыл о смутных намеках покойного отца на то, что их семья причастна к какой-то страшной тайне, именуемой «расовым вопросом». Скажи кто-нибудь Джону в то время: «Ты чернокожий», — это показалось бы ему не более осмысленным, чем если бы сказали: «Ты гидроидный полип», — ведь кожа у него и не была черная. Да и вообще его очень мало трогало, «черный» он или «белый», — были бы клиенты довольны да любила бы милая.
Но вот попал в город заезжий человек из его родной дакотской деревушки и что-то шепнул хозяину парикмахерской, а тот спросил Джона:
«Ты что ж это, оказывается, негритянской крови?»
«Кажется. А что?»
«Да мне-то, собственно, ничего, а вот клиентам может не понравиться. Обидятся и не станут ходить».
«До сих пор не обижались?»
«До сих пор нет, а все-таки… Лучше не рисковать. Такого мастера, как ты, у меня не бывало, тут ничего не скажешь, но лучше не рисковать».
Уже в 1904 году сложилась эта формула осторожности, которой во всем ее косном самодовольстве, тупости и трусости суждено было дожить до середины Века Демократии и Просвещения.
Джон стал мыкаться с места на место, и ни разу его не уволили за плохую работу или по жалобе клиента, — во всяком случае, никто из клиентов не жаловался, покуда ему не шепнут на ухо о Важном Обстоятельстве. Случалось и так, что Джон сам швырял им в лицо это Обстоятельство потому, что ему был противен прогорклый елей дядитомовщины, и потому, что за две минуты разговора с первым хозяином, изобличившим и уволившим его, он стал Негром и патриотом своей расы.
Его милая, белокурая горничная швейцарка, которую он учил английскому языку, приняла великую новость равнодушно, но ирландские и скандинавские подруги объяснили ей, что как истинная гражданка Страны Демократии она должна тотчас же прогнать его.
Джон первым из «цветных жителей» Гранд-Рипаблик услыхал об организации НАСПЦН — Национальной Ассоциации Содействия Прогрессу Цветного Населения, — и на съезде в Миннеаполисе он повстречал Мэри, такую же условно «цветную», как и он сам.
Она получила образование в Оберлин-колледже, была дочерью ветеринара из Айовы, довольно удачно ставившего научные опыты над индейками, курами и гусями. Встретившись, Джон и Мэри сразу почувствовали взаимную неприязнь, потому что у обоих была белая кожа, и они заподозрили друг друга в склонности этим гордиться. Но оказалось, что ни он, ни она не жаждут уподобиться белым тиранам, и это сблизило их. А с тех пор эту близость поддерживала свойственная им обоим честность и чувство юмора.
Джон открыл собственную парикмахерскую, но дело не пошло: не потому, что он был негр, — большинство клиентов не смущалось наличием в нем африканской крови, — но потому, что он не пожелал запереть свои двери для черных посетителей, а уж этого никакой белый, пекущийся о благе общества, не мог потерпеть.
Тогда Джон решил попытать счастья как механик — ему от природы легко давалась всякая техника. Но он не имел подготовки, технических школ было мало, и в них тоже соблюдалась сегрегация. Одно время он и Мэри думали переехать в какой-нибудь большой промышленный город, где он мог бы учиться, но потом их сбили с толку рекламные заверения агентов по продаже недвижимости, что всякий труженик, который показал себя добрым членом городской общины, приобретя в собственность домик и обзаведясь семьей, вправе рассчитывать на почет и уважение.
Они приобрели домик и обзавелись семьей в лице Баярда, и потому они застряли в Гранд-Рипаблик, должно быть, уже навсегда, и Джон стал дворником, и рад был такой удаче, а Мэри помогала ему тем, что пекла пирожки на продажу и нанималась прислуживать за столом на званых обедах.
— Я много раз видела вас, капитан, и у Хавоков и у миссис Дедрик, когда там бывали гости, но вы-то меня, понятно, не замечали, — сказала она, и хотя в ее словах не было укора — она была слишком умна и слишком по-матерински чутка для этого, — Нийлу стало стыдно.
Он не сомневался, что при наличии ярлычка «белый» и тестя вроде Мортона Бихауса Джон Вулкейп мог бы сейчас занимать пост директора Второго Национального Банка, и точно так же при соответствующих обстоятельствах Джон Уильям Пратт служил бы дворником и истопником. С той только разницей, что мистер Пратт идеально топил бы котел парового отопления, со вкусом подметал полы и выносил пустые бутылки, а мистер Вулкейп, ублажая крупных вкладчиков, был бы менее счастлив и уж, конечно, менее исполнен достоинства, чем сейчас.
Под конец обеда, отбросив сдержанность, они занялись обсуждением вопроса, следует ли негру Нийлу сделаться негром.
— Я только одно могу вам посоветовать, мистер Кингсблад: не спешите, — сказал Джон.
Эти люди сейчас стали Нийлу ближе, чем его родные отец и мать; смысл и цели их жизни были ему, во всяком случае, понятней. Ему хотелось, чтоб они называли его Нийл, но они только изменили официальное «капитан» на более мягкое «мистер» да изредка допускали ласковое «сынок».
— Не увлекайтесь ролью мученика, — настаивал Джон. — Чтобы понять, в чем ваш долг или хотя бы чего вам хочется, вы должны прочесть много книг о моем народе, тех самых книг, которые я, необразованный человек, читаю вот уже тридцать лет. Мне, впрочем, повезло в этом деле. Скамеечка у топки котла — самое подходящее место для серьезного чтения.
Может быть, почитав и подумав как следует, вы решите, что открываться не стоит. Народу нашему это никакой пользы не принесет, а для вашей матери, жены и дочки может оказаться ужасно. Я лично горжусь тем, что я негр. Среди моих братьев по крови я знаю много простых рядовых людей, которые не уступают великим поэтам и героям библии. Но белые дельцы не любят, когда маленькие люди проявляют героизм — безразлично, черные ли это или свой брат, белый. Они беспощадны с нами. И, так или иначе, вы не вправе требовать от ваших близких, чтобы они разделили вашу жертву. Вряд ли много найдется женщин, которых привлекает мученический венец. Для этого у них слишком много здравого смысла.
Мэри пожаловалась:
— Вот не могу заставить Джона понять Жанну д'Арк или, уж если говорить о здравом смысле, то хотя бы Гарриет Табмен. В отношении женщин он несправедлив. Недаром в мужской парикмахерской работал.
Нийл сказал задумчиво:
— Говоря по совести, я еще не думал о том, чтобы объявить себя негром. А вы очень презираете тех негров, которые не решаются на борьбу и предпочитают сходить за белых?
Старики вздохнули. Джон ответил:
— Нет. Нам жаль терять своих, но мы понимаем, что им пришлось пережить, и у нас даже существует неписаное правило: если встретишь старого знакомого в компании белых и он тебя не узнает, ты и виду не подашь на людях. И точно так же мы скорей вырвем себе язык, чем расскажем кому-нибудь вашу тайну. И наш младший сын Райан тоже, если вы захотите оказать и ему такое же доверие. На него даже больше можете положиться, хотя он у нас самый левый и вам, белым, от него порой здорово достается.
— Знаете что, мистер Кингсблад, приходите к нам в пятницу вечером. Будет Клемент Брэзенстар, из Городской лиги, и Аш Дэвис, химик…
— Я знаю доктора Дэвиса. Видел его в банке.
— А может быть, и Софи Конкорд. Это медсестра из городской больницы, умница и очень хорошенькая. Все они страстные любители расовых споров, еще хуже меня. Будет вам развлечение на вечер — вместо безика. Ведь вы в безик играете?
— В бридж! — поправила более искушенная в светских обычаях Мэри.
— Я приду, — сказал Нийл.
Джон продолжал:
— Вам незачем говорить им о своем происхождении. Вообще, мистер Кингсблад, мне кажется, распространяться об этом не стоит, разве что с нами — для нас ведь вы почти родной. Эмерсон часто рассказывал о вас, когда вы учились вместе в школе. Вы ему очень нравились.
Вот придете в пятницу, поговорите с Клемом Брэзенстаром. Его стоит послушать. Это настоящий простой батрак с низовьев Миссисипи, черный, как сам дьявол, и он не учился ни в каком колледже, но не знаю, много ли найдется в колледжах профессоров, которые прочли столько книг.
Ну, а Дэвисы, Аш и Марта — эти, так сказать, середка на половинку. Они не черные и не родились на хлопковом поле как Клем, но и не белые и не выросли среди северных метелей, как мы с Мэри. Кожа у них желтая, а родом они из пограничных штатов, Теннесси и Кентукки, где белые еще сами не знают, чего хотят. Сегодня дают негру полицейский мундир, а завтра его линчуют, а послезавтра помещают о нем в «Курьер-журнале» прочувствованный некролог.
Нийл вздохнул.
— Боюсь, у меня самого не очень чиста совесть перед неграми.
— Как так?
— У нас одно время была прислуга негритянка, Белфрида Грэй, и вот я к ней очень нехорошо, очень пристрастно относился. Я считал, что она неряшлива, что у нее скверный характер, я почти возненавидел ее, а из-за нее и всех негров вообще. Вы ее не знаете?
— Ну как же, кто не знает эту потаскушку, — невозмутимо сказала миссис Вулкейп, и это слово так резнуло Нийла, как если бы он услышал его от своей матери.
Мистер Вулкейп подхватил так же беззлобно:
— Да, Белфрида — она непутевая, дурной пример для нашей молодежи. Мы из-за нее не будем на вас в обиде, не уподобляйтесь только другим белым, не судите по ней обо всех нас. Но и Белфриде найдутся оправдания. Родителей у нее нет, дед ее, Уош, человек слабый, а бабка — настоящая ведьма. Конечно, Белфрида — пренахальная девчонка. Для нее нет больше удовольствия, чем форсить перед польскими девушками — она, мол, и умней их и одевается шикарнее. Но это, пожалуй, лучше, чем быть Топси, унижаться и корчить из себя дурочку на потеху белым. Или превратиться в грязнуху, лентяйку и воровку, как раз такую, какими изображают своих цветных слуг южане. А с другой стороны, что и спрашивать с девушки, которой не на что надеяться в жизни? Да, много оправданий можно найти Белфриде.
— Перестань, — сказала его жена. — Ты меня раздражаешь. Терпеть не могу, когда начинаются эти ссылки на обстоятельства. Плохое это оправдание. Каждый убийца, белый или черный, всегда хнычет: «Я не виноват, это все потому, что мои родители меня не понимали». Разве родители когда-нибудь понимают своих детей? А ведь это — излюбленное оправдание пьяниц и развратников даже у нас, в Файв Пойнтс. Надоело! Если Борус Багдолл торгует наркотиками и живым товаром, я вовсе не намерена прощать его только потому, что он родился в семье разоренного фермера!
Муж запальчиво возразил:
— Даже Борусу приходится сталкиваться с дискриминацией…
То был первый из «расовых споров», которых Нийлу еще много предстояло услышать в Файв Пойнтс, споров, длившихся ночи напролет, противоречивых и страстных, порой ученых, порой беспомощно косноязычных: негры — портные, официанты и смазчики, — которые их вели, не покупали книг оптом, как Оливер Бихаус или Джон Уильям Пратт, чтобы в строгом порядке расставить их на дубовых полках, а брали по одной в городской библиотеке, но зато читали.
Нийл попытался вступить в разговор:
— Я не считаю, что все белые сознательно жестоки. Я уверен, многие из них даже не подозревают о существовании дискриминации.
Позади него вдруг кто-то откликнулся молодым, но глуховатым баском:
— Любопытно, а кто же ее выдумал, эту дискриминацию, чужой дядя?
— Мистер Кингсблад, это наш сын Райан, — сказала миссис Вулкейп.
— Наш сын Райан, который всегда опаздывает, — сказал мистер Вулкейп.
— Ваш любящий сын Райан, который всегда прав, в особенности когда дело касается расового вопроса. А с кем я имею честь?
21
Сержант Райан Вулкейп выглядел как типичный англосаксонский студент в военной форме. Росту он был шести футов с лишком, прямой, подтянутый и с такой же горделивой посадкой головы, как у отца. Он сразу же зарычал:
— Что это за дурацкая болтовня, будто вы, белые, не хотите дискриминации?
Джон резко осадил его:
— Уймись, Райан. Это наш друг — капитан Кингсблад из Второго Национального Банка.
— Эта лестная подробность мне известна, папа. Я видел капитана на его мостике в банке… Прошу извинить меня за наскок, капитан. Мое дурное настроение имеет причины. Я сейчас только из божьего храма, там выступал преподобный доктор Джет Снут, канзасский евангелист-фундаменталист и сволочь в квадрате. Меня б туда, понятно, и на порог не пустили, если б служители догадались, что я черномазый, — подхалимы елейные, язви их душу! Но, в общем, я там был и слышал разглагольствования Снуда о том, что наши миннесотские свежезамороженные христиане должны собраться и прогнать всех ниггеров обратно в Джорджию, ибо такова воля господня. Так что вы извините, капитан, но немудрено, если я взбеленился, обнаружив, что один такой белый джентльмен снизошел до этой убогой лачуги.
— Райан, — сказал мистер Вулкейп, — замолчи сейчас же!
— Райан, — сказала миссис Вулкейп, — мистер Кингсблад не белый в глазах закона.
(«Я знал, что нужно было молчать!»)
— Он нашей крови, Райан. Он совсем недавно узнал об этом. Но помни, ты честью обязан хранить тайну. Он пришел к нам за советом и дружбой, а ты набросился на него, как техасский шериф!
Райан протянул Нийлу свою ручищу, улыбнулся улыбкой веселого великана и пробасил:
— Сам не знаю, радоваться или соболезновать, но только теперь я понимаю, почему мне всегда казалось, что вы слишком славный малый для офицера. Будем друзьями! Понятное дело, я никому не скажу, и очень жалею, что расхорохорился так некстати. Но в армии привыкаешь ненавидеть всех белых офицеров.
Нийл спросил:
— А почему? Вы в самом деле очень чувствовали дискриминацию? Мне не пришлось служить там, где были цветные части.
— А вот послушайте, капитан. Когда мы были в лагерях на Юге, для белых солдат каждый вечер устраивали кино или концерт, у них был хороший зал со сценой, были комнаты отдыха — хочешь, пиши письма, хочешь, режься в карты — и сколько угодно баров, а вздумал съездить в город — тут тебе и автобус. У нас кино бывало только раз в неделю, написать письмо было негде, бара ни одного, до автобуса две мили пешком, да еще и не сядешь, а за каждым твоим шагом следили чины военной полиции, белые, так что ты и сам начинал себя чувствовать преступником.
А наши цветные офицеры не пользовались никакой властью, чины их были одна видимость, чтобы отвести глаза черным избирателям. Цветные полковники ездили в старых, расхлябанных железнодорожных вагонах «только для негров». Один капитан негр, одетый в военную форму и направлявшийся в официальную командировку, был посажен в обыкновенную каталажку за то, что вошел в зал ожидания для белых, — в зале для цветных не было телефона, а ему понадобилось позвонить своему начальнику!
Но одно преимущество мне все-таки дала военная служба: я побывал на Яве и в Бирме и узнал, как тамошний народ относится к своей дискриминации, выяснил, в частности, что все они готовы объединиться с нами, американскими «неприкасаемыми», против всей этой подлой белой олигархии!
Райан смущенно осекся:
— Фу ты, черт, опять ораторствую на расовую тему! Это преподобный Снуд виноват!
Он улыбнулся Нийлу, как своему лучшему другу, а Нийл сидел молча, подавленный этим взрывом сокрушительной ненависти к белым людям. Ему захотелось уйти, отмежеваться. Ему нет дела до этой расовой проблемы!
Миссис Вулкейп, желая унять расходившиеся страсти, сказала кротко:
— Мы встретились с мистером Кингсбладом в нашей церкви, Райан. Ему очень понравилась проповедь Ивена.
Райан засмеялся.
— А поесть мне что-нибудь оставили? Уж я не поддамся на провокацию и воздержусь от выступления на тему о том, что негритянские церкви еще худшее болото, чем белые. Молодые ниггеры, которые в прошлом поколении руководили бы воскресными школами, сейчас работают в НАСПЦН, а кто покрепче, и тогда, верно, был бы горластым проповедником, — те вступают в коммунистическую партию. Вру стер славный малый, но он слишком популярен среди раболепствующих дядей Томов, и в его проповедях вы все еще можете услышать про то, как жалкий черномазый, которому нечем уплатить подушный налог, обращается на стезю истины умного и богатого — непременно умного и богатого — белого грешника. Нет уж, мамочка, если ты хотела, чтобы я оставался смиренным и набожным христианином, незачем было рассказывать мне про Саймона Легри.
Пока добродушный террорист расправлялся с холодным ростбифом, миссис Вулкейп объясняла Нийлу, что у Райана своя мечта — организовать негритянскую кооперативную ферму. Но Нийл слушал безучастно, с него на сегодня довольно было революции и расовой проблемы.
Он обещал прийти в пятницу. Райан весело сказал ему:
— Я еще не уверен, допустим ли мы вас в наше сенегальское содружество. Как бы вы не перепугались, ознакомившись с нашими истинными взглядами — теми, которых ни одному белому не полагается знать. Представьте, ведь мы даже не считаем обязательным каждый день переодеваться к обеду!
Нийл решил, что раз Райан шутит, то долг вежливости — улыбаться и делать вид, что это тебе нравится. Но, шагая к автобусной остановке, брезгливо обходя чернокожих гуляк, в воскресной праздности слоняющихся по Майо-стрит, он внутренне бесновался:
«Ах, вот как, милейший сержант, вы еще не уверены, достоин ли я принадлежать к вашей черной расе! Этого следовало ожидать! Не надо было валять дурака! Что ж, вот я и вернулся к своей плачевной участи будущего директора банка — и притом белого!»
Но это было не так. Он уже не мог уйти. С печальным укором смотрели на него глаза Мэри Вулкейп, те самые глаза, которые обдавали его лучистым теплом, когда он был вновь обретенным и страдающим сыном.
Он вернулся домой, не зная, как, где и чем теперь быть Нийлу Кингсбладу.
Вестл не упрекнула его за долгое отсутствие.
— Ну, как твои ветераны? Что вы там делали, рассказывали друг другу о своих подвигах?
— Я тебе хочу сказать одну вещь, — сказал он решительно. — Я пришел к убеждению, что в армии очень несправедливо относились к солдатам-неграм — они строили аэродромы, водили машины под огнем, а наград не получали.
— Ай-я-яй! Может быть, и я, грешная, обделила их при раздаче медалей? Сейчас же обращусь в конгресс и потребую немедленно урегулировать этот вопрос. Бедненькие черномазики! Выдадим им всем Алое Сердце и Розовый Крест и Орден Изумрудного Арбуза второй степени!
— Я говорю вполне серьезно, а сейчас я хочу вздремнуть, — заявил он.
— Тоже вполне серьезно? — фыркнула она.
Прежде чем прилечь, он должен был посмотреть рисунок Видди — проект нового скоростного бомбардировщика.
Он позабыл раскрыть окна, и в этот теплый летний вечер сон у него был тяжелый и беспокойный.
Гонимый страхом, он бежал по лесу беспросветной ночью, увязал в трясинах, натыкался на деревья, ветки хлестали его по незащищенному лицу. Он задыхался так, что в груди болело и во рту нестерпимо жгло от жажды. Он не знал, кто это гонится за ним, но знал: если догонят, будут бить ногами в пах, раздробят скулы, вырвут глаза.
Он остановился, увидя впереди круг сверкающих огоньков. Это горели глаза собак-ищеек, присевших на задние лапы. А за ними в свете вспыхнувших факелов он увидел полукруг людей, страшных чудовищ, каких он никогда раньше не видал, с собачьим оскалом, складками жира на шее, со змеиным холодом во взгляде, и эти люди шли на него, близились, надвигались, подступали.
Кто-то вдруг сказал простым будничным тоном: «Вот этим крюком удобно будет поддеть черномазого насильника за ногу, как раз войдет в мякоть икры».
Он лежал ничком, и огромный сапог — он ясно чувствовал запах навоза от подошвы — бил его по виску, но он лежал уже не на прелой опавшей листве, он лежал на цементном полу, в крови и в грязи, и сапог все бил, бил, и нестерпимая боль отдавалась в глубине черепа.
Его подняли, хотя он отбивался; его поднимали веревкой, сдавившей горло, медленно, постепенно; и потом он стоял на болотистой опушке леса и смотрел, как он висит на суку и дергается, и лицо у него было его собственное, румяное, в веснушках, лицо белого человека, а нагое тело — черное как уголь, черный уголь, лоснящийся от пота в неверном свете факелов, и черные руки и ноги дергались нелепо, смешно, как у автомата, а он и другие белые люди стояли кругом и смеялись: «Смотри, как его корежит, паршивого ниггера! Скачет, словно лягушка, черная лягушка, смотри, как он скачет, черный ниггер! А еще говорят, что они тоже люди, такие же люди, как мы! Ха-ха-ха!»
Он лежал, еще не придя в себя от ужаса.
«Это могло бы случиться со мной. Даже в Миннесоте бывали линчевания. Меня ненавидели бы еще сильнее, чем тех, кто родился и жил негром. Это мою шею могла захлестнуть веревка.
Я не могу открыться и пойти на все это. Но если так нужно моему народу, я должен.
Но я не могу из-за Бидди. Я не хочу, чтобы ее жизнь была отравлена памятью об убитом отце, как у Фебы Вулкейп. А может быть, она сама захочет драться? Может быть, даже маленькие девочки теперь такие — думают о бомбардировщиках, не знают жалости?»
«Смотри, как он скачет, черная лягушка, а еще говорят, что они тоже люди!»
Он вдруг поймал себя на том, что ему хочется убежать к Вулкейпам, к Мэри Вулкейп, а больше всего — к Райану.
22
Доктор Кеннет подмигнул сыну в знак того, что у них есть свои мужские секреты, и, отведя его в сторону, шепнул:
— Ну, как твои исследования, подвигаются? Законны наши притязания на английский престол?
Вопрос относился к такой далекой полугодовой древности, что с тем же успехом можно было спросить: «Решился ты, наконец, голосовать за Резерфорда Б.Хейса?»
Все еще под гнетущим впечатлением своего сна Нийл пошел к отцу на традиционный воскресный ужин — горячий суп, холодная курица, жареный картофель, мороженое из соседней аптеки. Бидди уснула на диване наверху, а Вестл с матерью Нийла и его сестрой Джоан беседовала о Прислугах и Детях — как беседовали, вероятно, все добропорядочные женщины в пещерах каменного века, в средневековых замках, под сенью пагод древней Китайской империи. В доме царила атмосфера уюта, уверенности и покоя, как обычно, когда прислуга бывает выходная.
На вопрос отца Нийл ответил только:
— Все роюсь в придворных архивах, ваше величество, — и поспешил переменить тему.
Он присматривался к матери и угадывал наследие негритянских предков в ее черных глазах: но тут же напоминал себе, что еще недавно находил черты чиппева у Вестл.
В своей одержимости Африкой он не должен был забывать, что в его крови живет и отвага индейцев. Вечером, не находя покоя, он говорил себе: хорошо бы сейчас плыть в индейском челне по бурному озеру. Приятно было думать, что к его обиходу относятся не только гроссбухи и плуги, но также челны и томагавки.
Мирный воскресный уют не успокоил его; не нашел он забвения и в показном веселье следующего вечера.
То было очередное из бесконечных приветственно-хвалебных пиршеств в честь Роднея Олдвика, скрашивавших последний отпуск бравого майора. Ему теперь предстояло вернуться в часть, чтобы снять свои майорские нашивки, а затем уже окончательно приехать в родной город в качестве овеянного славой ветерана и вновь приступить к адвокатской деятельности, оповестив об этом всех через газеты.
Весь этот уже всерьез прощальный вечер Род ораторствовал на свою коронную тему:
— Мы, ветераны, должны держаться вместе и дружно давать отпор всем элементам, породившим фашизм, над которым мы одержали победу; я имею в виду низшие расы, чье вероломство ослабило мощь британской, американской, французской и голландской империй и тем дало возможность ублюдку Гитлеру наброситься на Уинстона Черчилля.
На Нийла точно оцепенение нашло, когда он понял, что его герой — человек не только злой, но и глупый. Тяжело бывает разочаровываться в друге, а Нийлу это было особенно тяжело.
Нельзя сказать, что после того страшного сна его стала мучить бессонница. Не так легко было вызвать бессонницу у Нийла Кингсблада. Размышлениям он обычно предавался в час утреннего бритья — его располагали к задумчивости неисчислимые прелести электрической бритвы, изящной вещицы из никеля и пластмассы под слоновую кость, которая нежно, точно рука любимой, скользила по его крепкому подбородку и без участия таких феодальных пережитков, как мыло и кисточка, соскабливала блестящие волоски, свидетельствуя о том, что в современной цивилизации все-таки кое-что есть.
Глядя в круглое зеркало, укрепленное на кронштейне рядом со стенной аптечкой, он думал о том, что его вьющиеся волосы ничуть не отличаются от курчавой шевелюры доктора Брустера. Он думал об Ивене Брустере, о его серьезности, его безыскусственной доброте. А поскольку Брустер был баптистом, как и он сам, Нийл задумался о мудрости и высоком достоинстве баптистских проповедников и их богословской программы.
Он спрашивал себя: в чем его настоящая вера? Верит ли он в определимого бога? В личное бессмертие? Какие есть у него в жизни цели, кроме того, чтобы любить Вестл и обеспечить Бидди счастливое существование? И за что господь покарал Вестл, сделав ее женою негра? А может быть, это и не кара вовсе, а знамение свыше?
Он вдруг перестал водить бритвой, сообразив, что за последние десять — пятнадцать лет, если не считать бесед с Тони Эллертоном, он так же мало думал о религиозных вопросах, как о яблоне Вашингтона.
У него был свой официальный пастырь, его преподобие доктор Шелли Бансер из баптистской церкви Сильван-парка, приятный и здравомыслящий человек. Отчего раз в жизни не удостовериться, что этому ученому богослову в самом деле известно о боге и бессмертии многое такое, что недоступно простому рабочему или банковскому клерку, и что доктор Бансер приглашен в их церковь именно по этой причине, а не за то, что он отличный партнер для гольфа, незаменимый распорядитель на свадьбах и детских праздниках и надежный оратор, всегда готовый выступить с речью при проведении кампании по займу?
И во вторник вечером Нийл посетил доктора Бансера и вверг его в немалое смущение, спросив напрямик: что он знает о боге и истине?..
В летний вечер приятно было пройтись под кленами, вдоль только что политых газонов Сильван-парка. Баптистская церковь высилась слоеной громадой из красного и серого камня, а рядом притулился пасторский домик, старенький, деревянный, выкрашенный белой краской, которому миссис Бансер (она была родом с Востока, из Огайо) пыталась придать элегантный вид с помощью синих с золотом портьер на окнах.
Кабинет пастора — он, бедняга, иногда в шутку называл его своей «святая святых» — отличался респектабельностью, хотя и не без смелых штрихов в убранстве. На сумрачном письменном столе красного дерева стояли розы в шведском чеканном кувшине, а на стене, между портретами Адонирама Джадсона и Гарри Эмерсона Фосдика, висела гравюра с надписью «Ребята и котята».
Доктор Бансер, мужчина с брюшком, но сангвинического темперамента, воспитанник Браунского университета и богословского факультета в Йеле, был лет на двадцать старше Нийла. У него были жидкие волосы и епископальный бас, он был одет в серый костюм с красным галстуком, и он угостил Нийла хорошей — то есть не совсем плохой — сигарой.
— Сын мой, — произнес он, — когда человек предпочитает бумажную соску сочному, мужественному вкусу табачного листа, я склонен видеть в этом признак вырождения, свойственного нашему веку, а потому садитесь и закуривайте, а я отложу свой томик Саки. Должен сознаться, я ищу иногда забвения от житейских тягот в этой сокровищнице свободного ума.
И доктор ловко смахнул в ящик стола книгу, которую читал: «Убийство на Парк-авеню».
К ужасу доброго пастора, оказалось, что Нийл явился к нему не с приглашением выступить в Бустер-клубе или в Ассоциации Молодых Чиновников. Он пришел с вопросом, и ответить на этот вопрос доктору не помогла бы его хорошо подобранная справочная библиотека. Он, верно, взбесился бы и стал лаять, если бы знал, что на самом деле привело к нему его скромного прихожанина.
— Доктор Бансер, я получил письмо от одного солдата, моего бывшего подчиненного, он пишет, что узнал некоторые факты, заставляющие его предположить в себе примесь негритянской крови. И вот он просит моего совета в этическом вопросе, который вы сумеете разрешить лучше меня. Человек этот женат, по-видимому, счастлив в браке, имеет двух сыновей, и ни жена, ни дети не подозревают о наличии какого-то негритянского предка, очень далекого, насколько я мог судить. Так вот, он спрашивает, какой тут выход достойнее? Должен ли он сказать правду родным или друзьям или же вообще молчать обо всем?
Доктор Бансер сделал вид, будто напряженно думает, — занятие, от которого он давно уже отвык.
— Скажите, Нийл, а кто-нибудь догадывается о положении вещей?
— Судя по его письму, очевидно, нет.
— Ему много приходится общаться с неграми?
— Едва ли.
— Кстати, Нийл, а вам когда-нибудь приходилось общаться с цветными?
Все в нем похолодело.
Стараясь казаться как можно равнодушнее, он протянул:
— Да нет, близко я, пожалуй, не знал ни одного н… — Нет! Будь что будет, но слова «ниггер» он не произнесет! И он кончил фразу: — …ни одного негра, кроме разве прислуги и железнодорожных проводников.
— Я потому и спросил: вам, значит, трудно представить себе сложность проблемы, которая занимает вашего бедного знакомого, во всей ее глубине и, я бы сказал больше, в ее религиозном значении.
«Господи, даже дышать легче стало!»
— Видите ли, Нийл, сам я немало сталкивался с цветными на своем веку. В университете моим соседом по общежитию был негр, и я очень, очень часто — раз пять или шесть, во всяком случае, — заходил к нему в комнату и старался держать себя с ним, как с равным. Но все эти цветные, даже те, которые кое-как одолели университетский курс, неловко себя чувствуют с нами, белыми, потому что для нас культура есть наследственное благо и воспринимается нами естественно.
Мы знаем и радуемся, что и они тоже чада всемилостливого господа; и, возможно, когда-нибудь, лет через сто или двести, психологически они почти ничем не будут отличаться от нас. Но сейчас всякий, у кого в жилах есть хоть ничтожная капля черной крови, настолько чувствует наше превосходство, что, к сожалению, мне или вам совершенно невозможно сесть с ними рядом и полчаса побеседовать откровенно, по-товарищески, вот как мы с вами беседуем.
Здесь, в Гранд-Рипаблик, мне тоже приходилось участвовать вместе с неграми в разных комиссиях, сидеть с ними за одним столом на заседаниях, и это помогло мне узнать их ближе. Но где я действительно изучил душу черных, это на Юге, в их родных местах. После университета я — э-э — так сказать, стажировал месяц в Шривпорте, в Луизиане, и там я понял, что сегрегация на Юге была введена не для того, чтобы ущемить права негров, а чтобы — э-э — защитить, оградить их от дурных людей (которые встречаются и среди белых и среди черных) до той поры, когда они умственно разовьются и будут способны воспринимать действительность, как вы, я, любой белый.
Поймите меня правильно, я не сторонник этой системы, как чего-то постоянного и незыблемого. Нет никаких оснований к тому, чтобы американский гражданин был вынужден ездить в особых вагонах и есть за отдельным столом — если только это действительно Американский Гражданин в Полном Смысле Слова, а на такое звание, боюсь, не могут претендовать даже самые разумные из наших цветных друзей!
Никто более меня не радуется малейшему признаку прогресса среди негров — ну, скажем, тому, что они начинают применять севооборот, или разводить свиней или рациональнее питаться, — но священнику приходится глядеть в корень вещей, хотя и так нас уже попрекают за нашу честность и прямолинейность. Ну, что ж, пускай, я всегда это говорю, это для нас, говорю, даже лестно, ха-ха!
Но вернемся к вашему солдату и его сомнениям. Если его никогда не считали негром, думаю, что он не погрешит против устоев морали, если просто будет молчать и формально останется белым. В конце концов никто из нас не обязан говорить все, что знает, ха-ха!
Но с другой стороны, если вы достаточно хорошо с ним знакомы, чтобы говорить вполне откровенно, посоветуйте ему держаться по возможности дальше от белых, потому что шила в мешке не утаишь и его генная мутация рано или поздно даст себя знать. Я, например, с моим южным опытом опознал бы его мгновенно. Так что скажите ему, для его же пользы: словно — серебро, а молчание — золото! Ха-ха! Понятна моя мысль?
— Д-да, пожалуй… — Нийла уже не интересовали прочие взгляды Бансера. Но он поддался искушению, которому все мы подвержены: узнать, что думает священник, судья, врач, сенатор, полисмен-регулировщик, когда сидит в ванне, нагишом, без мундира.
— Доктор Бансер, вам, вероятно, приходилось работать в комиссиях не только с неграми, но и с евреями?
— О, сколько раз! У меня даже как-то обедал один раввин, и миссис Бансер и дети — все были за столом. Видите, какой я отпетый либерал.
— Но мы говорили о неграх, доктор. Пригласили бы вы к обеду негра — например, негритянского священника?
— Ну, ну, Нийл, не пытайтесь поймать меня на слове! Я ведь вам сказал, я человек новой школы. Меня совершенно не смущает перспектива сидеть рядом с интеллигентным чернокожим — ну, скажем, на каком-нибудь съезде. Но у себя в доме, за обеденным столом — нет, нет, мой друг, об этом не может быть и речи! Это было бы невеликодушно по отношению к ним! Наш образ жизни и мыслей для них слишком непривычен. Возьмите любого негра, даже претендующего на высшую ученую степень, — можете вы представить его себе в непринужденной беседе с миссис Бансер, которая училась в консерватории Форт-Уэйна и интересуется Скарлатти и клавесинной музыкой? Нет, Нийл, нет!
— Что вы скажете о местном баптистском проповеднике негре, докторе Брустере, — так, кажется, его фамилия?
— С доктором Брустером я знаком. О, это вполне порядочный, скромный человек.
— А почему в нашем приходе так мало цветных баптистов и даже те, которые есть, почти не заглядывают в церковь?
— Видите ли, когда они «заглядывали», как вы выражаетесь, чаще, я поручил служителям объяснить им, что, хотя, разумеется, наши двери широко раскрыты для наших чернокожих братьев, все же, вероятно, они гораздо лучше будут чувствовать себя в Файв Пойнтс, среди своих. По-видимому, служители объяснили это достаточно вразумительно, что, впрочем, и требовалось.
Есть у нас молодые священники, которые со мной не согласны. По их поведению можно подумать, что они платные агенты рабочих союзов или всяких там еврейских и негритянских организаций. Отстаивают даже противозачаточные меры! Мы читаем в Писании, что Спаситель преломлял хлеб с ворами и грешниками, но нигде не сказано, что он приглашал к своей трапезе маловеров, и смутьянов, и разрушителей христианского домашнего очага, и своекорыстных агитаторов, белых, черных, желтых, любых! Понятно, друг мой?
— Да, мне теперь многое понятно, доктор, благодарю вас, — сказал Нийл.
23
Мистер Пратт заметил его рассеянность и игриво поддевал его: «Вы все о чем-то мечтаете, Нийл, не иначе как влюбились». Однако в эти дни душевного распутья Нийл по-прежнему оставался «одним из самых надежных среди наших молодых сотрудников», а Консультация для ветеранов исправно привлекала новых вкладчиков — демобилизованных, которые сейчас донашивали солдатские шинели, но впоследствии вполне могли стать акушерами, владельцами кафе-автоматов или фабрикантами кондитерских изделий.
Среди ветеранов, приходивших за советом, было до странности много негров, и Нийл с тревогой думал, не Райан ли их присылает, и не рассказал ли им Райан его тайну, и не грозят ли ему неприятности. Но спрашивать он не решался.
Все эти размышления были прелюдией к вечеру, который он провел среди цветных интеллигентов.
В пятницу вечером он уговорил Вестл взять машину, потому что он опять идет «на собрание ветеранов», а сам пешком и автобусом добрался до дома Джона Вулкейпа.
Эмерсон уже вернулся в свою часть, но Нийла встретили Джон, Мэри, Райан и Аш Дэвис с женой. Ко всеобщему удивлению, он приветствовал доктора Дэвиса как давнишнего друга, о котором страшно стосковался.
В светской непринужденности Аша Дэвиса, в золотом браслете часов на его гладком темно-коричневом запястье было больше от парижских бульваров, чем от Америки, а черные усики придавали ему сходство с французским артиллеристом. Ему пошел бы голубой мундир. Сослуживцы по лаборатории находили, что Аш, с его увлечением музыкой, теннисом и ботаникой, несколько чудаковат, но отдавали ему должное как прекрасному химику и большому специалисту по пластмассам. Он три года работал в лабораториях Парижа, Цюриха и Москвы и за это время почти успел забыть, что он Цветной, и стал считать себя Человеком.
Ему очень не хотелось возвращаться в «великую белую республику», однако он возвратился туда вполне сознательно. Его не прельщала жизнь изгнанника среди европейской богемы, за столиками кафе «Селект». Благодаря нехватке химиков, вызванной войной, он получил ответственную работу на комбинате Уоргейта. Он наивно вообразил, что сможет работать здесь всегда, и, решив, что довольно жить на чемоданах, они с Мартой купили уродливый коттедж в Кэну-хайтс и сверху донизу перестроили его.
Он жил содержательной, плодотворной и скромной жизнью, был очень привязан к Марте и к дочке Норе, но чувствовал себя немного одиноко. Вулкейпов и Ивена Брустера он уважал как борцов и честных людей, но их не тянуло к ученой и легкой беседе, которую он ценил превыше всего.
Марта — прелестная толстушка Марта с чистой темно-коричневой кожей — была дочерью негра-юриста из Кентукки. В колледже она увлекалась драмой и дочь свою назвала Норой в честь героини «Кукольного дома». Марта никак не могла усвоить, что ее муж — Нахальный Ниггер, Который Не Знает Своего Места. Для нее он был самым взыскательным ученым, самым благородным человеком, самым веселым собеседником и самым нежным мужем на свете.
Она очень старалась разубедить своих менее обеспеченных цветных сограждан в том, будто она и ее муж — попросту карьеристы. У бедняков были веские причины для таких подозрений. Они достаточно видели негров, которые, разбогатев на продаже эликсира для ращения волос или зазнавшись на теплых местечках в суде, забывали дедовские хижины и стремились втереться в так называемое Высшее Цветное Общество с его темно-кофейными красавицами и такими же лимузинами, его любовными интригами, продажными поэтами и белыми альфонсами в салоне мадам Нуар-Мозамбик и с охотничьими завтраками по всей форме — вплоть до красных курток и последующих отчетов в светской хронике (негритянских газет).
Но Нийл не знал о существовании Высшего Цветного Общества, столь нелюбимого Мартой Дэвис. Он заблуждался, как всякий неофит, считая, что негры не могут быть так же самодовольны и пошлы, как белые. А ведь они, несчастные, часто щеголяют и крахмальными манишками, и тридцатипроцентным раствором лондонского произношения, и вообще бывают не менее скучны, чем жители-Парк-авеню. Нийлу много еще предстояло узнать о цветных, а в свете этих откровений — и о белых.
Вулкейпы, Дэвисы и Нийл сидели в гостиной, безуспешно пробуя разные темы разговора и откладывая их одну за другой. Все были так вежливы, что всем было не по себе, но тут хлопнула дверь, в комнате появился человек с симпатичной физиономией комического актера, и все закричали: «А-а, Клем!»
Клем Брэзенстар, разъездной агент Городской лиги, был сыном черного бедняка-издольщика с низовьев Миссисипи, которому и фамилию-то дали по названию плантации. Клем никогда не учился в колледже. Книги (и сколько книг!) он доставал где попало, когда мальчишкой носился по всей стране, работая рассыльным, поваром, агентом по продаже удобрений, репортером, агитатором. Сейчас в его задачу входило подыскивать неграм более сносную работу, урезонивать черных фермеров, которые ленились изучать дизель-мотор и основы кооперации, а также (не по заданию лиги, а по собственному почину) отравлять существование белым ректорам колледжей, поощряющим дискриминацию негров. Он любил виски, китайские орехи, Толстого и бокс. Французскому языку от выучился в Марселе во время первой мировой войны и знал его недурно, на итальянском же и еврейском объяснялся лишь с грехом пополам.
В то время как Вулкейпы были «выцветшие» северяне, а коричневые лица Дэвисов вызывали в памяти арабов и сады Альгамбры, Клем Брэзенстар предстал перед изумленным Нийлом как воплощение того, что сеятели ненависти называют «черный тут с негритянского Юга». Это был человек с широкой, лукавой улыбкой, всегда появлявшийся неожиданно, как чертик из коробки. Он был черный, как ночь; черный и блестящий, как новый лист черной копирки; казалось, он черный не только снаружи, как Ивен Брустер, но до самых костей. Губы у него были красно-лиловые, ушные раковины черные снаружи и внутри, белки глаз отливали желтизной, и даже ладони были не розовые, а серые. Усмешка не сходила с его лица, особенно в серьезные минуты, потому что тогда он смеялся не только над другими, но и над самим собой.
Толстые губы его маленького рта то и дело насмешливо кривились, лоб собирался в беспокойные складки. Он был очаровательно безобразен, как бультерьер, но темная кожа его так сверкала, и держался он так весело и просто, что был прекрасен, как черный дрозд, раскачивающийся на стебле камыша.
В произношении его мешались Миссисипи, Гарлем и гнусавый Средний Запад. Он часто употреблял слово «ниггер» в применении к себе и к своим друзьям, но врагу никогда не разрешал произносить его безнаказанно. Многим он казался немыслимым, потому что это был абсолютно естественный и нормальный человек, не отягченный ни честолюбивым семейством, ни школьным образованием, ни счетом в банке.
— Знакомьтесь, это капитан Кингсблад, наш новый белый друг, и хороший друг, — сказал Джон Вулкейп.
Клем улыбнулся Нийлу улыбкой доброжелательного рабочего, и это вышло у него без малейшей натяжки. Улещать или поносить белых было для него таким же привычным делом, как подстегивать или одергивать черных.
— Привет, капитан. Ну-с, воинствующие братья мои, всегда приятно вернуться в Гранд-Рипаблик, в блаженный край, свободный от дискриминации. Еду я сейчас в автобусе, а рядом сидит этакая смазливенькая немочка со своим сынком-нацистом; вот он присмотрелся ко мне да как заорет: «Мама, смотри, какое черное чучело!» — а она вторит колоратурным сопрано: «Это бесопрасие, я напишу в автопусную компанию, как нас, американцев, вынуштают ездить вместе с такими и с сякими!»
Клем сиял, он громко смеялся над своей незадачей. Удивленному Нийлу предстояло узнать, что так повелось у самых закоренелых борцов за права негров. Ничто не смешило их больше, чем собственные злоключения.
Они не унывали, но из разговора с ними «новый белый друг» все лучше понимал, каким неприятностям подвержены пасынки Страны Свободы. Аш Дэвис спокойно рассказывал о пограничных штатах:
— Непоследовательность в дискриминации — вот что губит бедного Самбо. В одном городе на Юге он может свободно войти в любой магазин и пользоваться парадным лифтом, и жена его может примерить выбранное платье; а в другом, за каких-нибудь сорок миль, его ни в один приличный магазин не пустят, а если попробует войти — арестуют, и лифты, даже в учреждениях, отдельные для цветных и для белых. Годами мы, парии, покупаем на железной дороге журналы в зале для белых, а потом в один прекрасный день здоровенный полисмен арестовывает нас за то, что мы туда сунулись.
Понимаете, капитан Кингсблад, не только унизительность дискриминации нас бесит. Плохо еще то, что невозможно угадать, когда именно твой самый пустячный поступок — скажем, поклонился на улице монахине — сочтут преступлением и изобьют тебя до бесчувствия. Вот от этой неуверенности и бывает, что тихий, робкий человек хватается за бритву.
Есть, конечно, цветные братья, которые хвалят Юг, потому что там негры изолированы и кучка темнокожих коммерсантов может наживаться на всех прочих представителях «избранного» народа. Сейчас в негритянской прессе даже ведется полемика на тему о том, что лучше — ехать на Север, где тебя выморозят, или оставаться на Юге, где тебя сожгут. Но так или этак, а скорее всего тебе несдобровать.
Клем Брэзенстар вскричал:
— Это что же, опять, черт возьми, расовый спор на всю ночь? — и поудобнее уселся на кушетке, готовясь принять в нем участие.
— Меня увольте. Слышать больше не хочу о нашей проклятой расе! — заявил Райан Вулкейп и тоже устроился поудобнее.
Нийл сказал поспешно:
— Прежде чем вы оставите эту тему… — кто-то засмеялся, — …я хотел бы узнать ваше мнение о письме, которое я как-то давно получил от своего бывшего одноклассника, он служил на Тихом океане. Вы мне разрешите прочесть кое-что оттуда?
Их гмыканье, видимо, означало: «Разрешаем», — и он начал:
«Последнее время работаю военным следователем, работа поганая, и в результате сильно изменилось мое отношение к неграм. Их здесь очень не любят. Белый солдат более дружески настроен к представителям всякой другой расы, потому что у негров по отношению к белым солдатам нет того товарищеского чувства, какое связывает белых людей, а это очень важно там, где люди все время вместе. Среди негров безусловно есть прекрасные солдаты. Но в каждой военной тюрьме на одного заключенного белого приходится три негра — сидят за самовольные отлучки, за неподчинение приказам, сексуальные преступления, поножовщину, за кражи у других солдат, и все врут, врут без зазрения совести. И получается, что наши ребята, которые до войны не сталкивались с неграми, вернутся к гражданской жизни сильно предубежденными против них».
Нийл ожидал взрыва, но ответом ему было молчание, даже не очень взволнованное, а потом задиристый сержант Райан Вулкейп равнодушно объяснил:
— Ваш знакомый — типичный полицейский чин. Хорошие солдаты его не интересуют, его дело — выискивать плохих. Он и не слышал о бесчисленных цветных подразделениях, которые покрыли себя славой, — взять хотя бы семьсот шестьдесят первый танковый батальон. Но будьте уверены, он знает, какое впечатление производит анекдот, который подобные ему молодчики пустили гулять по всей Азии и Европе, — будто у каждого цветного есть хвост! Не это ли должно было вдохнуть в нас бодрое товарищеское чувство?
Все рассмеялись, а Клем Брэзенстар скомандовал:
— А ну слазь с трибуны, Райан, дай поговорить специалисту! Капитан, в том, что сказал этот молодой человек, есть доля правды, и чем больше этой правды, тем скорее вам, белым, следует предпринять что-то решительное для своей же пользы.
В прежнее время всякие дяди Томы возносили хвалу господу, если с ними обращались не хуже, чем со скотиной, но теперь не то. Наша молодежь читает книги. Поймите, Новому Негру нужны все права Нового Белого Человека — все без исключения, и теперь он их не выпрашивает — он будет за них бороться. Вы, белые Яго, создали революционную армию из тринадцати миллионов Отелло, мужчин и женщин. Вполне понятно, что цветные солдаты невежливы с белыми господами на войне, куда их послали, не спрашивая, хотят они этого или нет. Им ближе их собственная война.
Люди, которые, как я, выросли в лачугах без отхожих мест, возле грязных луж, где гнили отбросы и дохлые собаки, люди, которых обворовывали, как могли, и лавочники с плантации и скупщики хлопка, не давая даже взглянуть на их счета, — эти люди иногда крадут у тех, кто их постоянно обкрадывает. Какой рассадник преступлений создали вы, белые!
Сегрегация! Для всех — будь то Джон и Мэри, Аш и Марта или такой черный сапог, как я. Сегрегация. Мы, дескать, вроде свиней, и с людьми нам не место, — и после этого ваш приятель из военной полиции требует от нас дисциплины да еще товарищеских чувств.
Сегрегация! «Отдельно, но с теми же удобствами», — новые вагоны для белых и клоповники на колесах для счастливых ниггеров! Новые кирпичные школы для ваших ребят, — смотри снимки в воскресных газетах Атланты, — а для нас, для нашей детворы — некрашеные сараи, скамьи без спинок и никаких парт — пусть черные пащенки пишут у себя на коленях, если им обязательно нужно писать, в чем разумные люди далеко не уверены.
Сегрегация! Школьные автобусы для ваших драгоценных малюток, а наши и пешком пять миль протопают. Для вас — больницы с кафельными полами, а для нас — бойни. Работа — пожалуйста: самая тяжелая, самая грязная, самая опасная, а белые полисмены выдумывают для нас особые законы и сами выполняют функции и провокаторов, и судей, и палачей. И после этого ваш чувствительный одноклассник жалуется, что мы не доверяем ему наших заветных тайн! Ну, знаете ли!
И Клем расхохотался, ласково глядя на Нийла. И так же ласково заговорила, обращаясь к нему, Марта Дэвис:
— Мистер Кингсблад, белый южанин обязательно расскажет вам, что в детстве его лучшим другом был черный постреленок, который научил его пить водку и насчет всего прочего просветил. Никогда он, бедный, не расскажет вам, что дружил с черным мальчиком, прилежным и непьющим. Он и не знал, что среди цветных мальчиков бывают такие — он и по сю пору этого не знает!
А сколько милых, по-настоящему добрых южанок будут заботливо выхаживать чернокожую девушку, если она заболеет тифом, но почувствуют себя оскорбленными, если она вздумает изучать психологию.
На Юге нас угнетает не только прямая опасность — страх, что тебя линчуют, сожгут, изобьют. Об этом можно не вспоминать, разве что в душные ночи, когда зарницы полыхают, как выстрелы. Тогда лежишь в темноте, застыв, и прислушиваешься, и замираешь от ужаса, когда слышишь автомобиль, шаги, шепот, — от ужаса, что это идут белые, а они никогда не приходят с добром.
Но главное — не этот страх, а беспрестанные, как будто бы и незаметные щелчки. Всякие мелочи — а на Юге так ценятся мелочи: розы, и дедовская сабля, и стихи Ланье, и шумные споры о том, давить или толочь мяту для джулепа. Такие мелочи, как надписи: «Только для цветных», — чтобы загордившаяся негритянка вроде меня помнила, что она — нечистая.
После колледжа я год работала в школе на Крайнем Юге. Мне говорили, что белые любят, чтобы цветные учителя подавали пример детям и одевались особенно опрятно и чисто. У меня был маленький развалюшка-автомобиль, я сама покрасила его в белый цвет. Как-то в субботу я собралась в город и перед отъездом вымыла машину — она блестела, как зеркало, — и мне было очень приятно, что на мне новый белый костюм и белые туфли. И новые белые перчатки! Я вышла из машины около аптеки, а там стоял старый, страшный фермер — желтый, как червь, — так он подошел и нарочно выплюнул целую струю табачного сока прямо на дверцу моей чистенькой машины. А другие белые мужчины смеялись. Вот тогда я поняла, что над дверью в ад написано: «Только для цветных».
24
Клем Брэзенстар заявил, что, если они будут говорить только о таких пустяках и не коснутся более ярких образчиков насилия на Юге, вроде того случая, когда негру, вернувшемуся с фронта, выбили глаз полицейской дубинкой, их новому другу станет скучно и пострадает престиж его, Клема, как мужественного южанина.
Все опять засмеялись, но Нийла пронизала дрожь.
Он пробовал спорить:
— Но ведь на Севере негры ни в одном штате не подвергаются таким насилиям.
— Во время расовых беспорядков, — сколько угодно, — спокойно сказал Клем. — Но гораздо важнее вопрос о приеме на работу: темнокожим учителям и стенографисткам прямо говорят, что на работу их не возьмут, — не потому, что они с ней не справятся, а потому, что цвет лица у них неподходящий. А рестораны? В этом штате по закону туда обязаны пускать и негров, так их либо заставляют ждать — авось, уйдут, либо пересаливают им пищу так, что есть невозможно. А военные заводы, где неграм не разрешают пить из одного фонтанчика с белыми! Что и говорить, пламенный патриот выйдет из человека, который любит мыться каждый день, если твердить ему, что он не смеет даже пользоваться одним водопроводом с фермером янки или деревенщиной из Теннесси, искренне убежденным, что ванны существуют для того, чтобы держать в них червей для наживки.
Нет, мой белый друг, не поймите меня превратно: в этом ультрадемократическом северном городе негров не линчуют — разве что изредка, — но каждый день нам твердят, что мы грязны, больны дурными болезнями, что мы преступники. И думаете, они сами в это верят? Нет, конечно. Но они внушают это себе, а потом внушают другим, и таким образом оттесняют нас от хорошей работы, на которую сами зарятся.
Но что особенно восхищает нас здесь, в Гранд-Рипаблик, это что мерзкому эфиопу не разрешено вступать в члены Христианской Ассоциации Молодых Людей — щедро субсидируемой организации по распространению христианских идеалов, — дабы оградить от скверны ее бассейны для плавания и не повредить здоровью этаких-разэтаких сынов белых жертвователей на африканские миссии. ХАМЛ! Холуйская Армия Мелких Людишек!
— Я не знал, что в Гранд-Рипаблик проводится такая дискриминация, — робко сказал Нийл.
— Мне обиднее всего было то, — сказал Райан, — что в начальной школе я дружил со всеми белыми, и мальчиками и девочками, мы вместе купались, строили крепости из глины, и на коньках катались, и на санках, и я привык считать, что они в самом деле мои друзья, а потом, когда мы подросли, они обнаружили, что я «цветной», и поспешили мне об этом сообщить, а когда я пошел к одной девочке, с которой мы много лет играли вместе у нее во дворе, мне сказали, что ее «нет дома», а потом я видел, как она вышла из подъезда с прыщавым белым мальчишкой, которого мы все презирали. У нас сегрегация, капитан? Нет, что вы, просто карантин!
Джон Вулкейп сказал мягко:
— Мы с Мэри мало ощущаем дискриминацию. Конечно, мне неприятно, когда двенадцатилетний белый малыш заглядывает ко мне в подвал и орет: «Эй ты, чертов Джонни, куда ты запропастился?» Но так обращаются со всеми дворниками. А что касается оскорблений в ресторанах и кино, мы предпочитаем не нарываться на них. По вечерам сидим дома — читаем, или слушаем радио, или играем в карты с друзьями — и никогда, никогда не выходим. Мы с Мэри не любим скандалов и крика, и нам так спокойнее. Никто не может к нам придраться и попытаться выселить нас из нашего дома. Да, мы очень любим наш дом, и здесь мы в безопасности.
— До поры до времени, — грубо сказал Клем. — Сейчас на Юге стало чуть получше, — меньше линчеваний, больше негров получили право голоса, кое-где даже одинаковая плата для учителей, цветных и белых. Так зато на Севере стало хуже — иначе бы я остался без работы.
— Да, — сказал Аш Дэвис. — Северянина в роли синтетического Роберта Э.Ли ждет великое будущее. Вот, например, мистер Пит Снитч — Иллинойсская Сталелитейная Компания братьев Снитч. Он покупает в Южной Каролине зимний дом, и через два года он больше южанин, чем любой уроженец Юга.
Когда-то он работал у пудлинговой печи, а теперь у него миллион, и ему с его женушкой понадобились аристократические традиции — замок, увитый плющом, и резвые кони, чтобы совсем как у Вальтера Скотта. И вот на Юге все это к его услугам — магнолии, и дрозд-пересмешник, и белые колонны, и полянка в лесу, где некогда местные щеголи дрались на дуэли, и почтительные бедняки, во всяком случае, почтительные на словах. Последний отпрыск семьи, в усадьбу которой Снитчи вселились, как кукушка в чужое гнездо, работает в какой-то бирмингамской газете, так что мистер Снитч вполне может считать, что вместе с домом в его собственность перешли и фамильные привидения в кринолинах.
Он стал помещиком с помощью денег и южанином с помощью лингафона. Но ему нужно доказать свою родовитость, а лучший способ для этого — оскорблять тех, кто стоит ниже тебя; поскольку же нам, эфиопам, не отпущено природой его англосаксонского пивного румянца, он решает, что именно мы стоим ниже, и орет на нас громче, чем какой-нибудь каролинский тюремщик, и в любом разговоре в Боллингтон-холле полковник Питерборо Снитч первый будет кричать истошным голосом: «Не захотите же вы, чтобы ваша дочь вышла замуж за ниггера!» Да, да, у вас, северян, богатые перспективы по части феодальных и плантаторских традиций.
А старую поговорку «С волками жить — по-волчьи выть» я для себя дополнил так: «Только не воображай, что ты первый до этого додумался!»
Дальше разговор принял несколько истерический и не совсем понятный для Нийла характер. Его прервало появление Шугара Гауза с котелком для завтрака.
Шугар родился на сахарных плантациях Луизианы, но каким-то образом научился обращению с рабочим инструментом. Сейчас он шел на завод Уоргейта, где работал механиком в ночной смене. Работал он безупречно и поэтому верил, что его оставят на заводе и после войны, и, не уступая в наивности Ашу Дэвису, купил двухкомнатный домишко, где жил со своим сыном Бобби — отличным танцором-эксцентриком, черным вундеркиндом Файв Пойнтс.
Говорил он по-южному, глотая половину согласных, и Нийл с трудом понимал его. Он был похож на индейца — тонкие губы, тонкий черный нос с горбинкой, высокая, прямая фигура: статуя судьи Кэсса Тимберлейна, высеченная из базальта. Одет он был в синюю рубашку и комбинезон, живописный, как всякая рабочая одежда.
Когда его попытались втянуть в обсуждение расового вопроса, он сказал: нет, он ничего не знает насчет дискриминации, знает только, что здесь, как и везде, цветных берут на работу в последнюю очередь, а увольняют в первую, так что не все ли равно?
Нийл спросил его:
— Но как вы переносите наши холодные зимы?
— Мистер, в дырявой хижине в Луизиане в сорок градусов жары холоднее, чем в моем здешнем крепком домике в сорок градусов мороза.
— Шугар довольствуется малым, — сказал Аш. — У него хватает ума не терзаться постоянным ощущением неуверенности и бессилия, которое удручает нас с Мартой.
— Вы, образованные, больно чувствительны, док, — сказал Шугар. — Где вам знать, что думает рабочий человек!
— Рабочий! — возмутился Аш. — Я, когда кончил колледж, работал поваром в салон-вагоне — в жизни не забуду, какие там устраивали попойки, — а получив ученую степень, пошел служить на фабрику патентованных средств, изредка выводил формулы, а больше упаковывал ящики и грузил их в машины.
Клем Брэзенстар начал было возражать Шугару:
— Станешь чувствительным, когда в автобусе женщина пересаживается на другое место, если ты сел рядом с ней… Софи! Радость моя!
В комнату незаметно вошла темнокожая молодая женщина, и Мэри сказала Нийлу:
— Знакомьтесь — Софи Конкорд. Она медицинская сестра в городской больнице. А это мистер Кингсблад, новый друг.
— Я видела мистера Кингсблада в банке, — сказала Софи и добавила с совершенно невинным видом: — Эта должность ему очень к лицу.
Она смотрела на него живым и смелым взглядом, и он подумал, что никогда еще не видел такой красивой женщины — и такой незамороженной.
Софи Конкорд, уроженка Алабамы и ровесница Нийлу, была высокого роста, как Вестл, и с таким же открытым лицом, но более щедро наделена мягкими, длинными линиями и изгибами, которые произвели впечатление даже на такого мирного битюга, как Нийл. У нее был большой рот и кожа почти такая же темная, как у Аша Дэвиса, теплая, темная кожа, гладкая, как атлас, и ее голые руки цвета полированного ореха оттеняли белую ткань не очень нового вечернего платья.
Когда-то Софи выступала с негритянскими песенками в ночных клубах Нью-Йорка; ее принимали в богатом веселящемся гарлемском обществе; но ей надоело кривляться на потеху белым ротозеям. Она демонстративно ударилась в добродетель, спела под джаз обет целомудрия и после трех лет труда и лишений стала медицинской сестрой, умелой, терпеливой до самозабвения и очень бойкой на язык.
Она шутливо уверяла, что гораздо приятнее возиться со вшивыми ребятами, чем с белыми ухажерами. Требовательный Райан Вулкейп признавал: «Софи — медсестра что надо, хоть от нее и отдает духами Кобра и кружевными подушками».
— Наш новый белый друг, видимо, хороший малый, — во всеуслышание объяснил ей Клем. — Мы тут преподавали ему Доктрину Подрывания Основ для второго года обучения, — он и глазом не сморгнул. Не иначе как в нем самом есть капелька шоколада.
Все засмеялись, кроме Вулкейпов и Нийла, которому вдруг стало холодно.
— Ну, конечно, набросились на несчастного человека, которого интересуют спортивные рекорды Джо Луиса, и пичкаете его пропагандой. Наверно, ваша расовая агитация успела надоесть ему так же, как мне, — сердито заявила Софи, тоже взбираясь на трибуну. — Скажите, мистер Кингсблад, вы что — очередной белый турист, изучающий нравы трущоб, или настоящий друг нашего народа?
— Такой настоящий, что вы и представить себе не можете, — ответил Нийл.
— Он хороший, славный человек, — подтвердила Мэри Вулкейп.
— Умница, паинька!
Голос Софи, даже когда она старалась язвить, напоминал Нийлу летнюю ночь, пронизанную светлячками.
— Белые люди часто думают, что мы недоверчивы и к нам трудно подойти. Может быть, они и правы. У каждого из нас есть унизительные воспоминания о том, как белые прикидывались нашими друзьями, захваливали нас, а потом выдумывали о нас всякие гадости.
На одного такого белого, как Суини Фишберг или Коуп Андерсон, которым, если вы друг, безразлично, какого вы цвета, так же, как безразлично, черные у вас волосы или рыжие, — найдется десять мерзавцев, которые набиваются нам в друзья либо потому, что хотят нам что-нибудь навязать — швейную машинку, новую религию или коммунистическое учение — либо потому, что они в свободное время увлекаются Социальным Равенством для Бедных Цветных Братьев так же, как подарками для Англии и романами Томаса Вулфа, как Сальвадором Дали и монсиньором Шиан. А то еще есть белые неудачники — брошенные женщины, безработные журналисты, проповедники без паствы, — те воображают, что могут добиться признания и горячей любви в нашем мире, что мы только и мечтаем о белом покровителе, который когда-то прочел биографию Букера Т.Вашингтона. Такие-то и отпугивают нас от наших милых белых друзей. Так что видите, мистер Кингсблад, мы присматриваемся к вам с такой же опаской, как и вы к нам.
Она проповедовала, как миссионер, а Нийл глядел на нее, как на женщину. Она двигалась плавно, словно кошка, бронзовая кошка, а если тронуть — бронза станет мягкая и живая. И грудь у нее, наверно, твердая, как бронза и шелковистая, как шерсть у кошки.
Тут он раздраженно тряхнул головой: «Ты, Кингсблад, неудавшийся белый человек, не можешь ты любить этот народ без тоге, чтобы у тебя руки не тянулись к его женщинам?»
Шугар Гауз поднялся, взял свой котелок и сказал нараспев:
— А мне вот белые у нас на заводе больше нравятся, чем эти зазнайки, о которых мисс Софи говорила. Там с тобой либо делятся колбасой и пивом, либо ненавидят тебя и говорят об этом яснее ясного — ломом по голове. Ну, прощайте.
Говорил Шугар так, словно у него рот полон каши, и выражался не всегда грамотно. Но Нийлу было ясно, что это уже не тот получеловек, о котором, останься он на Юге, даже самые добросердечные белые сказали бы: «Для негра он ничего». Здесь он стал человеком, таким же, как Уэбб Уоргейт или Джон Вулкейп. Только веселее!
Нийл заметил, что за весь вечер не слышал ни экзотической речи, которой наделяют южных негров в романах, ни соблазнительных непристойностей, неизменно фигурирующих в рассказах о Гарлеме, о наркотиках и кошмарных преступлениях. Если не считать отдельных словечек, занесенных с Юга, эти люди — еще одно откровение! — разговаривали так же, как его знакомые, как все, с кем он встречался в банке, в армии, в университете. Только веселее!
Выступал Клем:
— Я хочу рассказать мистеру Кингсбладу про дядю Бодэшеса. Это тот молодец — он белый, но у него есть бедные родственники из цветных, — тот самый болван, который, наверно, и пустил в ход фразы вроде: «Среди моих ближайших друзей есть евреи» и «Я целиком за союзы, но не терплю агитаторов». Этот дядюшка Бодэшес авторитетно разъясняет, что сегрегация нужна потому, что иначе, мол, негры заберут себе в жены всех белых женщин, и ведь такому олуху не втолкуешь, что большинство из нас охотнее женилось бы на такой девушке, как Софи, чем на белой красотке.
Моя-то жена, дай ей бог здоровья, не желтая, как вы. Она у меня что лакированная туфля. Но захоти я жениться на белой, которая захотела бы выйти за меня, — и женился бы, будьте спокойны.
Когда кто-нибудь разоряется насчет того, сколько теперь браков между белыми и черными, можете не сомневаться, что он просто ищет удобного, благочестивого, бесстыдного предлога, чтобы охаять свою цветную прислугу и потом с чистым-сердцем платить ей меньше прежнего.
Но у дяди Бодэшеса есть формула еще почище: «Негритянская Проблема Неразрешима». Звучит это страшно учено, прямо из трактата по этнологии, но значит всего только то, что она неразрешима для дядюшки Бодэшеса, пока он не успокоится в уютной могилке — на Форрест-лон!.. А теперь, Мэри, ради всего святого, будет сегодня кофе с пышками?
И Мэри подала на стол не что иное, как кофе с пышками. Они были изумительно вкусные.
Стоя с чашкой в руке возле стула молодой мулатки, Нийл не был похож на человека, переживающего драматическую коллизию, но в Софи Конкорд с ее узкими глазами и певучим голосом воплотилась для него вся манящая таинственность сказочной Африки, и он чувствовал, что ей следовало бы петь колдовские заклинания, а не ратовать за фонды на лечение детского паралича.
Новообращенного Нийла тянуло ближе подойти к этим избранным; ему хотелось, чтобы они называли его по имени, как друг друга, но они продолжали величать его «мистер». Даже когда он по ошибке назвал доктора Дэвиса «Аш», спокойное «мистер» сразу поставило его на место. Он вежливо говорил «мисс Конкорд», но, глядя, как она откидывает голову, встряхивает темными волосами и вздыхает: «О господи!» — он думал, что такое обращение идет ей, как тигрице — уздечка. Ему хотелось видеть ее в угарном блеске бродвейских кабачков, а не на Майо-стрит за кофе с пышками.
Обращаясь только к ней, он промямлил:
— Что вы думаете о будущем вашего народа? — И похвалил себя за столь умело поставленный вопрос.
Софи ответила резко, как умела отвечать Вестл:
— Что именно вас интересует, мистер Кингсблад? А то вы спрашиваете, как страховой агент по телефону: «Хорошо ли вы сегодня спали?» или «Здравствуйте, здравствуйте, ну, как мы себя чувствуем?»
— Может быть, но только я действительно хочу это знать.
— Зачем?
— Да просто… мисс Конкорд, мне страшно нравятся ваши друзья… и вы.
— Мистер, я не слышала таких комплиментов от белых банкиров с тех пор, как работала в Гарлеме, в «Тигровой шкуре», и один белый финансист из города Бисмарка, большой охотник до черной дичи, все хотел зайти ко мне домой посмотреть гравюры — гравюры он предлагал принести с собой — новенькие, хрустящие — и…
— Перестаньте!
— Что такое?
— Я в самом деле интересуюсь неграми. Я учусь.
— Боже милостивый, что он говорит!
— Какой колледж вы кончали, Софи?
— Ау?
— Вы же всего-навсего образованная девушка из Алабамы, а прикидываетесь африканкой.
— Мистер, вы угадали! Но я проучилась только год и, прости меня бог, все время ухлопала на историю Франции!
— Я никак не думал, что встречу среди вас столько людей, более начитанных, чем я.
— А вы не обольщайтесь. Таких немного.
— Здесь — все. Не издевайтесь над бедным белым профаном. Расскажите мне о себе.
— Мистер, неужели вы еще не поняли, что я такое? Я же та самая красавица квартеронка, воспитанная в нью-орлеанском монастыре, знойная невольница со сверкающими очами и тяжелыми иссиня-черными косами, что стоит вся в слезах, а больше почти ни в чем, на помосте перед сластолюбивыми плантаторами (или театральными антрепренерами) в касторовых шляпах и с часами на толстых цепочках. Но один человек — молодой Невиль Кэлхун Кингсблад из Кингсблад-Корнере, штат Кентукки, — сжалился над ней, и вскоре можно было увидеть, как по галерее таинственного старинного дома близ Лексингтона скользит закутанная женская фигура — вот она скользит — вот она — бедняжка!
Нет, серьезно, милый мистер Кингсблад, не пытайтесь искать в нас романтики. Мы — трудовой народ, и у нас одна забота — добиться расширения права на труд для всех негров, так чтобы цветная девушка с высшим образованием могла надеяться получить место делопроизводителя на тридцать два доллара семьдесят пять центов в неделю, а не работать всю жизнь в прачечной. Вот что мы такое — и все.
Но когда она говорила это, они уже были друзьями.
Он наконец заметил, что на ней надето: длинное белое платье с кричащим золотым болеро, кольцо с огромным топазом, которое плохо вязалось с ее речами.
«Надо запомнить, чтобы рассказать Вестл», — привычно мелькнуло у него в мозгу, но он тут же сообразил, что едва ли расскажет Вестл о туалете Софи или о чем бы то ни было, касающемся этого сорванца с дипломом.
Когда опять завязался разговор на расовые темы, к которым их тянуло неудержимо, как котенка к шуршащей бумажке, Нийл узнал, что всякий доброжелательный белый, который спросит: «А негров не удовлетворило бы…» — услышит в ответ «нет». Он узнал, что южный либерал — это человек, объясняющий северному либералу, что Бил-стрит переименована в Бил-авеню.
Он услышал о цветных судьях, хирургах, о военных корреспондентах негритянских газет. Странные вещи он услышал — что есть негры-буддисты и негры, исповедующие иудейскую религию, негры-коммунисты, негры-масоны и негритянские студенческие братства, неимущие негры, которые ненавидят всех лавочников-евреев, и негры столь имущие, что они ненавидят всех неимущих негров.
Неизбежно они подошли к следующему вопросу, и Нийл, смущаясь, обратился к доктору Дэвису:
— Наверно, вам это уже надоело, но скажите, какая цена тому доводу, будто негры потому низшая раса, что они не настроили в Африке всяких соборов и парфенонов?
Все засмеялись, но доктор Дэвис ответил вполне серьезно:
— А вы попробовали бы построить Парфенон среди мух цеце! Но наш народ немало строил вместе с другими рабами в Египте и в Риме. А кто, по-вашему, строил дома плантаторов? Не сами ли хозяева плантаций? А знаете вы, как много сейчас молодых архитекторов среди цветных?
Нет, мистер Кингсблад, не рассчитывайте на то, что негры спасуют перед белыми в области архитектуры, даже если какой-нибудь сладкоречивый проповедник в некрашеной дощатой часовне разливается на тему о «неграх, которые по неисповедимой воле божией никогда не сумеют построить даже самого завалящего парфенонишки». Ого, уже час! Надо идти домой!
Нийл чувствовал, что открыл новый мир — диковиннее луны, темнее ночи, ярче утра в горах, мир волнующий и опасный.
«Люблю этих людей», — думал он.
25
— Не знаю, как вы, миллионеры, а я человек рабочий, и мне пора, — заявила Софи Конкорд.
«Так и Вестл говорит!»
Марта Дэвис взялась подвезти Софи. Аш предложил:
— А я провожу мистера Кингсблада до автобуса… Не стоит ходить здесь одному после часа ночи. Попадаются темные личности — не обязательно цветные. Обещаю не говорить на расовые темы, хотя полной гарантии дать не могу. Я на днях умудрился где-то прочесть вместо «кассовый сбор» — «расовый спор».
Прощаясь с Мэри Вулкейп, Нийл сказал вполголоса:
— Я провел замечательный вечер, но я и сейчас не знаю, могу ли я признаться даже этим нашим друзьям, что я негр.
— А я не уверена, следует ли в этом признаваться, далеко не уверена. Зачем подвергать себя унижениям, о которых мы сегодня говорили?
Кое-где на Майо-стрит за темными занавесками еще виднелся свет, в каком-то помещении над магазином громко смеялись. В переулках гнездились тени — может быть, притаившиеся люди, может быть, бочки, но так или иначе Нийлу они не нравились. Аш не начинал разговора, и Нийл заметил, как внимательно он приглядывается к каждой бездомной кошке, к каждой темной мужской фигуре, скорчившейся на тротуаре.
Нийл захотел идти пешком и дальше автобусной остановки — до Кену-хайтс, где жил Аш.
Дом доктора Дэвиса был маленький, с плоской крышей, но по огромному окну, превращавшему целый его угол в стеклянную клетку, Нийл понял, что это так называемый «стиль модерн», протест против тюдоровских и мавританских особняков Сильван-парка. Он слышал, как мистер Пратт неодобрительно называл такие постройки «анархическими», но ему никогда не приходилось бывать в них.
Аш сказал негромко: «Зайдите, выпьем», — и Нийл очутился в комнате, которая и оттолкнула и очаровала его своей нарочитой пустотой, отсутствием каких бы то ни было безделушек. В ней было два центра: огромное угловое окно, из которого, далеко внизу, были видны бледные цепочки огней в Файв Пойнтс, и строгий камин из полированного камня, без полки. Несколько кресел необычной формы, обитых кустарной тканью, свидетельствовали о том, что удобство здесь ценится больше, чем марка «чиппендейл», а на стене, не то оклеенной обоями, не то обитой каким-то металлом, висела одна-единственная картина — вихрь крутящихся треугольников. На пианино бесформенной глыбой высилась черная скульптура.
— Это, значит, и есть стиль модерн? — дивился Нийл, пока Аш сбивал коктейль у стенного холодильника.
— Так его принято называть.
— Какой архитектор вам строил?
— Я сам, а скорее никто. Здесь был сарай, и мы с Мартой приспособили его под жилье. Но знаете, этот дом — знак моего позора. Боюсь, что я построил его на зло Люциану Файрлоку, а тянуться за снобами хуже, чем тянуться за мещанами. Вы знаете Файрлока?
— Заведует рекламой у Уоргейта — южанин? Да, немного знаю.
— Он южанин-либерал — окончил университет Вандебильда, из тех людей, которые считают, что мы, такие-сякие негры, должны знать свое место, и вместе с тем хотят прослыть терпимыми, хотят, чтобы мы учились тому же, что и белые, но помалкивали. Файрлок живет через два дома от меня, в ужасающем Ноевом ковчеге с завитушками — по военному времени он, бедный, ничего лучшего не нашел.
Он встревожился, когда обнаружил, что мы с ним соседи. Он, правда, привык к соседству негров, но считает, что им положено оставаться нищими, смиренными и благодарными. Поначалу он на меня косился. А потом его дети стали играть с моей Норой и мы как будто познакомились, и всего огорчительнее то, что он, бедняга, предпочитает меня всем другим соседям, но не может себе в этом признаться.
Когда я стал отстраивать этот дом, я сначала сам не понимал, что выбрал стиль модерн — эту фрейдистскую форму пуританства — специально для того, чтобы уязвить Файрлока. И что самое забавное — это мне удалось: всякий раз, как он проходит мимо моего дома, на лице у него написана зависть. Вот видите, какие у меня бывают низкие побуждения. А эта комната получилась такая беспросветно целомудренная, что я тоскую по дубовой качалке и чтобы над ней висела олеография — старая церковь при лунном свете. Ведь я обыватель в профессорской шкуре.
Впрочем, нет, это неправда! (Господи! Сколько я сегодня говорю, — это потому, что по вечерам я почти всегда сижу дома.) Я не благодушный бизнесмен, отнюдь нет, но и не пламенный борец за дело негров.
Мне хотелось бы жить в башне из слоновой кости, играть Баха, читать Йитса и Мелвила, заниматься историей химии и алхимии, а не корпеть на лабораторной работе. Белые ученые не принимают меня в свою среду, поэтому я стараюсь увлечься расовой борьбой. Но это роль, а я плохой актер.
Я очень ценю людей, с которыми сегодня провел вечер, но, на мой взгляд, Клем слишком криклив, Софи слишком подражает белым «деятельницам», а Джон и Мэри, которых я от души люблю, слишком ограниченны. Для меня приятно провести вечер — значило бы молча посидеть у камина с томиком Джорджа Мура. Да, да, мне очень нелегко кричать о наших «правах», хоть я и отлично знаю, что это действительно наши права.
Вероятно, я говорю все это для того, чтобы внушить вам, что мы и наша пропаганда не так просты, как кажемся. Да и вы тоже!
Вероятно, у вас есть особые причины интересоваться нашим народом. Во всяком случае, на филантропа-любителя вы не похожи. В чем ваш секрет?
«Вот кто действительно мог бы мне многое разъяснить, кто мог бы стать мне другом. Я вовсе не хочу болтать об этом направо и налево, но…»
— Дело в том, Аш, что во мне, видимо, есть негритянская кровь, от каких-то далеких предков.
Аш не выразил ни сочувствия, ни удивления, но ограничился спокойным:
— Вот как. Что же, этим, пожалуй, можно гордиться. Пожалуй, теперь вам больше смысла воевать, чем было на фронте.
— Но мне страшно, что об этом узнают, и притом люди, чье мнение я в грош не ставлю.
— Если вам понадобится помощь, мистер Кингсблад, во всяком случае, если захочется поговорить, приходите сюда, я буду рад.
— Непременно приду. До свиданья, Аш.
Доктор Дэвис сделал заметную паузу, прежде чем выговорил:
— До свиданья… Нийл.
Он шагал домой — еще молодой мужчина, приятной, хоть и заурядной наружности — по улицам, населенным мелкими служащими и заводскими мастерами, узким, как темные проходы между ящиками на огромном складе, и в душе его было больше надежды, чем страха. Он по-прежнему с тревогой думал о своем негритянском будущем, но теперь ничто в этом будущем не отталкивало его; он перешагнул за черту, на ту сторону, где стояли Аш и Софи, Райан и Клем.
Когда он, стараясь не шуметь, вошел в спальню, Вестл проснулась на минутку, ласково поддразнила его: «Видно, встреча ветеранов прошла удачно», — и опять заснула.
Он был поражен: казалось бы, жена, такой близкий ему человек, должна была сразу почувствовать, что этот вечер — самый значительный в его жизни. А Софи поняла бы это?
Вестл и Нийл собирались провести двухнедельный отпуск Нийла на даче, на северном побережье Верхнего озера. Перед их отъездом главный бухгалтер Второго Национального мистер С.Эшиел Денвер пригласил их пообедать в отель «Пайнленд» в ознаменование славной и прибыльной деятельности Консультации для ветеранов. В палевом свете стенных ламп в виде роз, укрепленных на помпейских фресках «Фьезоле», сенатороподобный Дрексель Гриншо, с высоким темно-коричневым лбом и белыми усами щеточкой, провел их к столику, сверкавшему серебром и розами.
Закусывая сардинками, в изнеможении раскинувшимися на холодных гренках, Вестл залюбовалась степенно удаляющейся фигурой мистера Гриншо:
— Просто классический негр из старинных романов! Он, наверно, любит играть в кости и есть свиные отбивные и арбузы.
Мистер Денвер согласился:
— Да, хороший старик. Никогда не дерзит, не фамильярничает с белыми. Знает свое место, делает, что велят, и говорит «спасибо», и не пытается вам внушить, будто он владелец отеля, не то что многие нахальные ниггеры помоложе.
Но миссис Денвер не считала возможным безоговорочно разрешить Дрекселю жить на белом свете:
— По-моему, он бывает чересчур развязен. Я считаю, что в наше время, когда нравственные устои так расшатаны, необходима особенная строгость, и не могу сказать, чтобы мне очень нравилось, когда цветной лакей ведет себя так, словно он член семьи. Не понимаю, почему они вообще держат черную прислугу в отеле, который хочет слыть первоклассным, гораздо лучше было бы нанять хороших официанток — только американок, а не каких-нибудь толстых шведок.
— Ну, что вы, по-моему, эти лакеи ничего, только меня всегда злит, что я не в состоянии отличить их друг от друга, — сказала либеральная Вестл, глядя на трех скользящих по залу лакеев, из которых один был приземистый и черный, другой — худощавый, с кожей кофейного цвета, а третий — очень высокий, очень светлый и в очках. — А ты, Нийл?
— Нет, по-моему, они все разные.
Миссис Денвер проскрипела (в ее голосе всегда был призвук корсета):
— Хорошо, Нийл, пусть вы можете их различить, но неужели вам нравится это ворчливый старик метрдотель?
— Нравится. По-моему, он очень достойный старый джентльмен.
— Джентльмен? Вот оригинальное определение для негра!
После обеда они поехали к Денверам, обитавшим неподалеку от Нийла, и туда явились еще гости: Седрик Стаубермейер, Дон и Роза Пенлосс — исколесивший весь свет торговец красками, обоями, линолеумом и прочими произведениями искусства — с женой. Разговор велся самый светский, но в сугубо интеллектуальном плане, и Нийл имел полную возможность сравнить культурный диапазон богатого белого человека с узким кругозором негров, чьи высказывания он слышал за три дня до того в доме цветного дворника.
— Ну, кажется, последние дни стало теплее.
— Да, но в июне было страшно холодно.
— Разве? А мне показалось, что не холоднее, чем всегда в это время. Может быть, чуть-чуть.
— Да? А мне, представьте, показалось, что холоднее.
И тому подобные блестки, рассыпаемые изящно и без усилий.
Однако миссис Седрик Стаубермейер была дамой более просвещенной, можно даже сказать — просветительницей.
— Ах, мне просто не верится, что уже десять лет прошло, как мы были в Риме; кажется, будто это было только вчера. Мы повидали в Вечном Городе решительно все — и руины, действительно очень древние, и Ватикан, и аэродром, и владелицу английского кафе — она была англичанка, и она сказала, ах, вы ничуть не похожи на иностранцев, и для нас было очень удобно, что мы жили не в отеле, а в пансионе, где мы могли встречаться с настоящими итальянцами, мы их встретили несколько человек, и они нам все объяснили, а еще там был такой интересный француз — ах, он замечательно говорил по-английски, не хуже нас с Седриком, и — подумайте только! — он нам рассказал, что его двоюродный брат живет здесь у нас, в Гранд-Рипаблик!
Но мистер Стаубермейер ввернул довольно кисло:
— Мы, когда вернулись домой, не стали разыскивать этого двоюродного брата, потому что я сильно подозреваю, что тот француз был евреем, а вы знаете, как я отношусь к евреям, вы сами бы так относились, если б вели с ними дела, и я так и сказал жене: «Черт с ним совсем! Я еще могу терпеть иностранцев в других странах, и тамошние туземцы мне, говорю, нравятся, только жить не умеют и дела с ними вести невозможно, а все же пусть лучше сидят у себя за границей».
Их интересы отнюдь не ограничивались путешествиями. Они подробно обсудили перспективы охоты на фазанов в предстоящем осеннем сезоне; продажность своего депутата, за которого, впрочем, снова собирались голосовать, чтобы в конгресс не пробрался какой-нибудь рабоче-фермерский демократ; и то обстоятельство, что мистер Джонс покупает дом у мистера Брауна, а мистер Браун слишком много пьет. После этого они со знанием дела сравнивали цены на дамские чулки в «Эмпориуме» у Тарра, в универмаге «Beauh Arts» и в магазинах Дулута, Миннеаполиса и Сент-Пола, пока миссис Денвер не воскликнула:
— Боже мой! Мы так хорошо разговорились, я и понятия не имела, что так поздно; но что это, Нийл, если я не ошибаюсь, вы хотите уходить?
Она не ошибалась.
26
Волны Верхнего озера плескались среди темных обнаженных корней прибрежных берез, кедров и сосен, в бревенчатой дачке пахло свежестью и влагой. Они окунались в холодную воду и выскакивали на берег, визжа от восторга, а на маленьких озерах в густом Эрроухедском лесу, где вода была теплее, они катались на лодке, ловили окуней и, забрасывая в воду банки от консервов, стреляли по ним в цель. Но и в этой мирной тишине Нийла ни на минуту не покидала тревога.
В этих краях когда-то жили чиппева. Ксавье Пик, наверно, проводил свой челн вон под теми скалами, когда держал путь на Тандер-Бэй. И сейчас еще вблизи их дачки была небольшая резервация, и Нийл тешил себя мыслью, что он внушит своей Бидди любовь к краснокожим братьям и со временем сможет ей сказать, что она не только очень славная белая девочка, но еще немножко чиппева и немножко негритянка, и как это просто и мило!
Подобно всем любящим родителям во все времена, Нийл утешал себя: «Мое поколение обанкротилось, но это, новое, поколение изменит мир, и будет добросовестно ходить на выборы даже под дождем, и не будет пить больше одного коктейля зараз, и навсегда покончит с войнами».
Он сидел с Бидди в машине у въезда в небольшое становище, где женщины и дети чиппева, поселившиеся на лето в вигвамах, продавали туристам корзины и игрушечные челны из бересты.
— Бидди! Посмотри на маленьких индейчиков, правда, они хорошенькие? Хочешь поиграть с ними в следопытов или еще во что-нибудь?
— Нет.
— Почему нет, моя хорошая?
— Они грязные.
— Маленькие индейские ребятки? Грязные?
— Да.
— Ну, может быть, и так, но зато подумай — они знают, как бобры строят плотины и… мм… у них головные уборы из перьев. Разве это не интересно?
— Нет.
— Что ж такого, если они немножко грязные? Они просто закоптились у костра. Ведь папина дочка тоже иногда приходит домой не очень-то чистенькая!
— Они похожи на ниггеров!
— А чем плохи… негры?
— Я их не люблю.
— А у тебя есть знакомые негры?
— Да.
— Кто же, кроме Белфриды?
— Девочка Ева.
— Она вовсе не негритянка. Она белая.
— Я ее не люблю.
— А знаешь ли ты, Элизабет, что ты ведешь себя, как очень скверный ребенок?
— Только что из пеленок?
— А, черт!
— Ага, папочка, ты что сказал? Ты сказал «черт». Черт, черт, черт, черт, черт!
Бидди, чисто по-женски сумевшая использовать его промах, была в эту минуту такая беленькая, розовая, веселая, такая очаровательная, что он задохнулся от любви к ней и с тяжелым отчаянием подумал, что мелкие, гаденькие предрассудки «порядочных людей» обладают куда большей разрушительной силой, чем бомбы и сверхмощные самолеты.
Оттого, что он две недели мог ничего не делать, оттого, что Вестл теперь была для него «белой женой цветного мужа», он стал приглядываться к ней во время прогулок среди устланных лишайниками скал. Она не так умна и хуже знает жизнь, чем медсестра Конкорд, думал он, она не такая горячая и красивая, зато в ней больше ясности, сдержанности. Вестл — «прелестный образец молодой замужней американки» — безупречная жена и мать, спортсменка, начитана (более или менее), интересуется тем, что творится на свете. Она достаточно благочестива для жительницы Сильван-парка и презирает сантименты. Короче говоря, в ней есть все, кроме индивидуальности.
За несколько коротких недель он познал, что без страданий и сомнений не может быть полноценной человеческой личности. Вестл никогда в жизни не страдала, кроме как во время родов, никогда не испытывала никаких потрясений и сомнений, кроме как в брачную ночь.
В одном она, бесспорно, была выше многих и многих добродетельных женщин: ей не доставляла удовольствия сознательная жестокость. Но Нийл начинал понимать, что и бессознательная жестокость может причинить боль.
Вестл, вспомнив детство, напевала: «Я черный, черный, черный, ах, если бы мне побелеть!»
«Это про меня и про Бидди. Черный. Ниггер. Существо столь отвратительное, что утонченная женщина, подобная Вестл, и не заподозрит в нем способности чувствовать обиду».
Примчался Принц, отряхиваясь после купанья в луже, и Вестл побранила его:
— Зря мы дали тебе новое имя, собачка! Никакой ты не принц! Ты попросту грязный, никудышный ниггер!
И так доверчиво улыбнулась Нийлу.
Он видел, что Вестл восприняла бы его любовь к неграм, как смесь безумия и озорства. Зачем показываться ей в таком нелепом свете? А две недели — большой срок для исцеления, когда вас окружает северная феерия серых скал и оранжевых лишайников, душистых сосен и красных челнов, скользящих по серо-синей глади неоглядного озера. Они купались в ледяной воде, бегали взапуски, как дети, несмотря на его хромоту, и в город он вернулся излечившимся от своей мании.
В город вернулся энергичный молодой делец — белый.
27
Что Нийл будет директором банка, и притом с окладом в десять раз более высоким, чем у мистера Пратта, было для Вестл так очевидно, что об этом не стоило и говорить. Гораздо больше ее занимал будущий дом, достойный их нового положения в обществе. Нийл посмеивался над ее честолюбивым планом — купить у Бертольда Эйзенгерца половину его холма и построить там идеальное жилище, о котором мечтает каждая женщина.
А может быть, шутил он, ее заинтересует дом в стиле модерн — сплошь стекло и гладкие стены, он видел один такой, когда… словом, он где-то видел такой дом.
Ну, нет! Ничего столь холодного и вычурного ей не надо. Она уже все придумала — каменный особняк в виде нормандского замка, только с застекленными верандами, огромная гостиная с деревянными панелями и стенным шкафом для напитков и кукольный дом для Бидди, и чтобы в нем — или это уже глупо? — «была кукольная ванная с настоящим водопроводом!
— Это для нее очень важно? — спросил Нийл.
— Ну еще бы! Ведь она только раз в жизни будет маленькой девочкой!
Работа по проектированию нормандского замка продвинулась уже Настолько, что они решили купить новую газовую плиту.
Война с Японией кончилась, и Вестл не скрывала, что ее в одинаковой мере радует как предстоящее возвращение друзей и знакомых с Тихого океана, так и то, что заводы теперь переключатся с производства оружия на изготовление всевозможных хозяйственных сокровищ — туалетных столиков из пластмассы, стеклянных кофейников, машин для мытья посуды. Она уже обдумывала, какие платья из еще не изобретенных тканей закажет для Бидди, когда лет через двенадцать будет снаряжать ее в колледж Брин Мор.
За утренним завтраком она предложила Нийлу:
— Давай я сегодня приеду в город, ты меня где-нибудь покормишь, а потом я покажу тебе ту газовую плиту — предмет моих девических мечтаний. Это не плита, а восторг, загляденье, прелесть, роскошь, дуся, идеал, и я ценю ее превыше добродетели — во всяком случае, пользы от нее больше.
Плита действительно оказалась превосходной, и Вестл ликовала:
— С такой плитой и наша жалкая кухонька станет похожа на тот замок, что уготовила нам судьба.
Он вздохнул:
— Но ты все-таки любишь наш дом?
— Господи, Нийл, да как бы я ни бредила будущими палатами, я просто обожаю наш домик — наше гнездышко, которого не может у нас отнять даже самое взбалмошное демократическое правительство. Наступит кризис — пожалуйста, мы опять переселимся сюда и будем растить лук в ваннах, и все нам будет трын-трава — кстати, ты не знаешь, что это за трава такая? Ах, да. — Она указала глазами на продавца, который ждал, устало скрестив на груди руки. — Они тут любят запрашивать, ты попробуй, может, хоть пять долларов выторгуешь?
В тот же самый день к его столу в банке подсел Аш Дэвис и сказал официальным тоном, на случай если кто-нибудь услышит:
— Можно вас побеспокоить, мистер Кингсблад?
— Мы здесь одни, Аш.
— Нийл, я опять с просьбой. Скверные новости. В Южной Каролине несколько цветных ветеранов арестованы за убийство, которого они не могли совершить. Мы с Софи собираем деньги для приглашения адвокатов. Давайте все, что можете. Но предупреждаю, что, если вы по недомыслию дадите мне хотя бы один цент, — конечно, мы из вас всю кровь по капле высосем.
Нийл прикинул, сколько он может дать, и выписал чек на немного большую сумму. Он вдруг затосковал по легкой, иронической, опустошающей душу беседе Аша, Клема, Софи.
— Когда вас всех можно повидать? — спросил он жадно. — Клем теперь не скоро будет в городе. Но вы приходите как-нибудь к нам пообедать, может быть, я сумею залучить Софи? Хотите сегодня?
На этот раз он солгал Вестл почти автоматически. Но он с грустью чувствовал, что уже никогда не сможет делить ее восторгов по поводу дивной газовой плиты. Бедная Вестл — высокомерная, как знатная дама, доверчивая, как малый ребенок.
Сидя с Дэвисами и Софи за столом, который появился из-под книжной полки и обратил угол пустой и строгой комнаты в столовую, он растерянно молчал. Они жили в мире, куда Нашему Мистеру Кингсбладу из Второго Национального не было хода; и чем больше он твердил себе, что Софи для него — табу, тем соблазнительнее казались ее нежные коричневые руки, то спокойно сложенные, то двигающиеся уверенно, как у мастера-краснодеревца.
Он без аппетита отправлял в рот куски бифштекса (которому предшествовал отличный грибной суп) и наконец спросил:
— О чем это вы спорите? Кого вы называете «турком», и почему он мерзавец?
Софи ответила немного устало:
— Это один цветной, некий Вандербильд Литч — ростовщик, единственный в городе возможный Квислинг из цветных. Но вам это едва ли интересно.
— Почему?
— Какое вам, в сущности, дело до наших забот? Мы живем под вывеской «Только для цветных», а к вам это не относится, капитан.
«Только не говори! Не говори ей, что ты цветной! Молчи! Не говори ничего! Ты уже сказал Ашу и Вулкейпам — хватит. Подожди, подожди!»
А сам уже говорил:
— Это относится и ко мне, потому что я узнал совсем недавно, что я тоже отчасти цветной.
Губы ее раскрылись, тонкие пальцы с зажатой в них сигаретой замерли в воздухе, она часто задышала, потом удивление сменилось скорбным сочувствием. Медицинская сестра, в прошлом — девушка из провинциального городка, потянулась к нему с ласковым участием, но заговорила певичка с Бродвея:
— Ну да?
Он услышал, что его критикуют, доброжелательно, но твердо.
— Нет, вот ловкий чертенок, — умилялась Софи, — прикинулся белым, и хоть бы что, а я и не догадалась!
— Но я же говорю вам, я сам не знал!
— Он, правда, не знал, — сказал Аш тоном школьного учителя.
— Ах, бросьте! — не унималась Софи. — Да как вы, крошка Нийл, могли не чувствовать в себе негритянского ритма? Ведь у кого кожа черна, у того душа ясна, в нем кровь кипит и страсть бурлит, и весь он полон этого самого мумбо-джумбо, которое из Африки!
— Довольно, Софи! — остановил ее Аш.
— В общем, вы меня понимаете. Пусть сейчас я просто дурачилась — Гарлем захотелось вспомнить, — но, клянусь богом, я просто не понимаю, как можно, нося в себе африканские гены, воображать, что принадлежишь к грубым, бесчувственным уродам, которые именуют себя белой расой! Во всяком случае, поздравляю, дорогой!
— Хватит! — сказал Аш. — Имейте в виду, Нийл, ее африканские страсти — чистейшее притворство, как и ее ненависть к белым — этой разнородной группе населения земного шара, наделенной многими достоинствами. Софи — обыкновенная добросовестная общественная деятельница. Но…
Какое-нибудь «но» было во всем, что говорили Аш и Софи (в том, что говорила Марта, никаких «но» не было, потому что Марта ничего не говорила). Чем ближе Нийл узнавал их, тем сложнее казалось их двойственное отношение к нему — как к другу, которого нужно защитить, и как к неофиту, которого следует использовать в качестве козыря в интересах всей расы. Не считаясь с его чувствами, они высказывали соображения вроде того, что: «Даже если это будет тяжко — немного тяжко, только сначала, — может быть, вам все же стоит откровенно заявить, что вы негр?»
Но они решили дать ему еще немного сроку.
Ему и в голову не приходило, что разглашение тайны, которое покроет его позором или славой, может зависеть от кого-нибудь, кроме него самого. Теперь он понял, что разоблачил себя опрометчиво и непоправимо и что от прихоти этих трех человек и Вулкейпов — любого из Вулкейпов — зависит, выдать его или нет. Но вместе с легким страхом пришло облегчение: теперь Софи, Аш и Марта ему свои, родные. Когда Софи поднялась, он сказал:
— Я провожу вас до вашей машины.
Он сидел с ней в ее стареньком двухместном автомобиле и держал ее руку, необыкновенно теплую руку, излучавшую то особое тепло, которого не отмечает термометр, которое кажется то прохладным и ровным, то горячим и трепетным.
Но Софи, только что восхвалявшая вольные радости джунглей, словно ушла в себя. Когда он стал допытываться: «Если все узнают, что я негр, обещаете вы заменить мне тех, кого я потеряю?» — она сердито накричала на него:
— Да ну вас к черту, никого вы не потеряете, кого бы стоило сохранить! Вы уж не ждете ли от нас, чернокожих, жалости к человеку, который имел счастье стать чернокожим? — И тут же, сменив гнев на милость: — Ну, ничего, ничего, не надо плакать! — В точности таким же тоном его уговаривала Вестл. — Мальчика обидели — спеси посбили? Ну, мама утешит.
Она поцеловала его. Никогда его так не целовали — так крепко, так нежно, так красноречиво. Но она быстро отодвинулась:
— Простите, я не целуюсь с белыми мужчинами, а у вас хоть сердце доброе и черное, мозги еще белые, как у младенца. Спокойной ночи!
Он смотрел вслед тарахтящей машине:
«Не могу я обрушить это на Вестл — она так носится со своей газовой плитой. Надо выбираться из этого африканского мира. Слишком он сложен для простых людей, вроде нас с Вестл. Пратт, я возвращаюсь домой!»
28
Все уже вернулись с войны, все его друзья: Род Олдвик, здоровяк Джад Браулер, щеголь Элиот Хансен. Все они вернулись и шумно уверяли, что даже в этом свихнувшемся мире старина Нийл не мог измениться и не изменился.
Дни проходили, а он не встречался ни с Ашем, ни с Софи. К обеду бывали гости, то Джад с женой, то Элиот с женой, и незаметно Нийл вновь становился по всем статьям Чистопородным Молодым Банкиром. Его расовый казус просто привиделся ему во сне или в бредовом кошмаре. Перед здравомыслием друзей недавние фантазии показались сентиментальной чепухой, и он даже готов был поверить, что Родней Олдвик, бывший для него неизменным образцом в танцах, в хоккее, в искусстве завязывать галстук, никогда не говорил тех злых и несправедливых слов о солдатах-неграх, которые запали ему в память.
Он слышал, как в Федеральном клубе Род обсуждал поведение этих солдат с другим демобилизованным офицером, полковником Леви Тарром. Род был только майор, но в гораздо большей степени майор, чем Тарр — полковник; так по крайней мере казалось Нийлу.
Леви Тарр до войны работал помощником управляющего в «Эмпориуме», универсальном магазине своего отца. Он был худой, долговязый, носил очки, и хотя, по слухам, отличился, руководя большой контратакой в Арденнах, было как-то трудно себе представить этого типичного приказчика из галантерейной лавки размахивающим саблей или вообще с оружием в руках, тогда как Род Олдвик, казалось, должен был есть кашу кортиком, почесываться штыком и писать любовные письма шпагой.
Когда полковник Тарр стал с волнением расхваливать мужество черных солдат, Род захохотал, и Нийл вторил ему, хотя и не очень уверенно. Но потом на него опять нашли сомнения, когда он встретил пылкую защитницу негров в лице собственной двоюродной сестры Патриции, дочери его дяди, Эмери Саксинара, энергичного торговца насосами и клапанами. Плат всегда была хорошенькая девушка, но немножко дикарка и недотрога. После военной службы (она была младшим лейтенантом в женских добровольных частях Военно-Морского Флота) она вернулась другим человеком и теперь живо интересовалась всем, что происходит вокруг. Она горячо расхваливала черных моряков, а однажды озадачила Нийла таким замечанием:
— Я решительно опровергаю слух, будто Дочери Американской Революции — это женское отделение Ку-клукс-клана, — ведь в Клане нет ни одного негра, а в ДАР их должно быть сколько угодно, раз первый человек, убитый во время Американской Революции, был негр.
Вестл возмутилась:
— Как не стыдно, Пат, вот и пускай после этого женщин на фронт!
Нийлу стало не по себе.
К обеду был приглашен Род Олдвик со своей красивой, румяной женой Дженет. Бидди разрешили попозже лечь в этот вечер, и когда «дядя Род» пришел, она так и повисла на нем. Она даже выдвинула предложение, что, если ей дадут посидеть еще полчасика, поговорить с ним о своих делах, она обещает два с половиной дня хорошо себя вести.
— Вы замечательно ладите с детьми, наверное, и с солдатами тоже, — сказала Вестл Роду.
За обедом Род развивал подробные планы относительно будущего своего девятилетнего сына Грэма, чей жизненный путь был уже полностью предначертан. Грэму предстояло, следуя по стопам отца, ехать в Лоренсвилл, два-три лета провести в Кулверской Военной Академии, успешно закончить курс в Принстоне, а затем в Гарварде, по юридическому факультету, вступить компаньоном в фирму отца, надеть мундир Национальной Гвардии, быть истинным джентльменом, жениться на истинной леди и, когда час пробьет, стать на защиту Англо-Американской Цивилизации, а также Ассоциации Адвокатов против португальцев, итальянцев, евреев, китайцев, пораженцев и панисламистского союза. И если повезет, дослужиться не просто до майора, но до генерал-майора.
У чувств есть своя логика, мгновенная и непостижимая, и, следуя этой логике, Нийл обратился мыслью к Уинтропу Брустеру, сыну преподобного Ивена. Счастливый Уинтроп! Его не отправят в глазетовом гробу плыть по волнам Принстона и офицерского клуба; он может с честью оставаться независимым и бедным.
И, следуя той же логике, вопреки данному себе слову соблюдать осторожность, Нийл назавтра поехал в маленький домик доктора Брустера близ Майо-стрит.
Зачем он это сделал, он сам хорошенько не знал, и потому не находил, что сказать, представ перед удивленным взором Ивена, его жены Коринны, не такой черной, как он, и далеко не такой сердечной, и их детей, Уинтропа и Тэнкфул, этих чистейших янки, чьи предки жили в Массачусетсе с тех давних пор, как некий очень черный пращур-пилигрим бежал в этот благословенный край, если не на «Мэйфлауэре», то подпольной дорогой, а это почти одно и то же.
На этот раз Нийл не лгал Вестл; он позвонил по телефону и сказал Шерли, что, может быть, не вернется домой к обеду.
Дела.
29
Не то чтобы у Тэнкфул и Уинтропа кожа была много светлей, чем у их отца, или волосы не так курчавились, или нос больше выдавался вперед, но чувствовалось, что они еще в большей степени сознают себя американцами. Манера смотреть не опуская глаз, ходить не сгибая спины — все это делало их похожими не на порождение невольничьего барака и хлопкового поля, а на то, чем они и были, — на американских подростков-школьников, в которых необычной была, пожалуй, только их необычная душевная мягкость.
Когда тебе постоянно твердят в школе, что американцы — самый храбрый, самый богатый и самый великодушный народ, какой когда-либо знала история, поневоле проникаешься гордостью, что, кстати, не так уж плохо, если эта гордость умеряется более глубокой и разносторонней культурой, прививаемой дома.
Нийл стал неуклюже объяснять причину своего визита: проповедь доктора Брустера произвела на него неизгладимое впечатление — он как раз ехал мимо, — «думаю — зайду, поздороваюсь». Уинтроп сразу загорелся к нему любовью младшего брата к старшему, а Тэнкфул решила, что именно за такого мужчину она мечтала выйти замуж, только до сих пор ей такой не попадался.
Увидев доктора Брустера без пасторского облачения, в коричневой куртке, белой рубашке и простеньком синем галстуке бабочкой, легче было поверить, что он не только священник, но и почтовый служащий; и хотя речь его была правильнее, а словарь — богаче, чем у Нийла (или Рода Олдвика), но собеседником он оказался куда более веселым. Смех вольно лился из его могучей груди, широкого рта, большого всепрощающего сердца. Жена его отнеслась к незваному белому гостю более настороженно, более подозрительно, с меньшей готовностью рисковать благополучием семьи. Черты лица у нее были тоньше, чем у доктора Брустера, особенно нос, словно выточенный из коричневого агата.
Нийл догадывался, что им обоим не терпится узнать, зачем он пришел, и он их хорошо понимал: ему и самому хотелось бы знать это. Поговорили о погоде, о городских делах, сидя кружком в маленькой комнате, которая казалась еще теснее от солидной пишущей машинки, водруженной на некрашеный стол, от книг по истории, богословию, антропологии, валявшихся на древних креслах, наделенных чувствительностью сейсмографа.
Уинтроп был в восторге, что пришел гость — мужчина, который, может быть, разбирается в электричестве. Он спросил:
— Вы когда-нибудь были радиолюбителем?
— Нет, но у меня был приятель, который увлекался этим делом.
— Пойдемте вниз, я вам покажу свой приемник.
Нийл искренне пожалел, что нагромождение проводов и ламп в крохотном подвальчике кажется ему лишь грудой хлама, а когда Уинтроп похвастался: «Я и Майами принимаю!» — он проникся к нему искренним уважением.
— А вы держите связь с каким-нибудь иногородним радиолюбителем?
— Да, с одним парнем в Далласе, Техас.
— Он негр?
— Никогда не спрашивал! Да нет, наверно, белый — он какие-то глупости говорит о Гражданской войне. А не все ли равно? — укоризненно заметил Уинтроп, и Нийлу стало стыдно.
— О чем же вы с ним беседуете?
— Обычно о хай аллаи. Я когда-нибудь непременно буду играть. Но сейчас меня, конечно, больше всего интересует радиолокация. Вы согласны, что будущее за радиолокацией?
— Безусловно, — сказал Нийл, знавший о радиолокации только то, что с ее помощью можно как-то увертываться от айсбергов.
Уинтроп тараторил:
— Обязательно всерьез займусь электротехникой в университете, как только мне разрешат. Я осенью поступаю в университет.
— Я тоже учился в университете, — сказал Нийл.
— Здорово!
— А не рано вам еще?
— Как это рано! Мне семнадцать лет! Этой весной я, как лучший ученик, произносил выпускную речь в школе — вы не знали? — Уинтроп говорил без хвастовства, но с неподдельной гордостью. — Ну, конечно, мне было легко, потому что папа мне помогал. Мы с ним четырехлетнюю программу по математике прошли за два года. Скажите-ка, мистер Кингсблад, вы, наверно, много занимались рыбной ловлей в Эрроухеде?
— Да, когда-то увлекался. В озере Соубилл замечательная щука.
— Эх, вот бы мне! Ловить рыбу, купаться, спать в палатке — красота! А вместо того сиди тут и слушай все эти расовые разговоры. И кому они нужны? В наше время только какой-нибудь деревенский олух не знает, что между черными и белыми людьми нет никакой разницы, все равно как между черными и белыми котятами. Для вас это новость?
— Нет, конечно, то есть более или менее. — Нийл поспешил уклониться от дальнейших вопросов, воскликнув с жаром: — А почему бы вам не провести лето в Эрроухеде? Я укажу вам хорошее местечко.
Мальчик отвернулся и пробормотал:
— Вы забываете. На эти курорты цветных не пускают. Даже таких, как папа и мама. Ох, пожалуй, и в самом деле не так уж это бессмысленно, все эти разговоры… Да потом у нас и денег не хватило бы. Мне придется все лето работать, чтобы скопить для университета.
— А какая у вас работа, Уин?
— М-м, да вот ничего лучшего не нашлось — просился в электрическую компанию, но там со мной и разговаривать не захотели; и в радиомагазинах тоже. Так что я работаю на вокзале, мою полы в зале ожидания и в мужской уборной.
Нужно было придумать какое-нибудь объяснение своему неожиданному визиту. Вернувшись с Уинтропом из подвала, Нийл сказал миссис Брустер:
— Мне хочется сообщить вам то, что вы, верно, и сами знаете. Ваш сын на редкость одаренный мальчик. Я горжусь знакомством с ним. И он олицетворяет явление, которое меня чрезвычайно интересует и лично и как представителя банка: перспектива развития наших так называемых национальных меньшинств — финнов, поляков, негров, литовцев и… — Его этнографические познания иссякли. — И всех вообще! Я хотел бы разобраться в этом. Примете меня в ученики?
Ивен Брустер принял его еще до того, как он родился. Коринна Брустер, судя по выражению ее лица, склонна была принять его, когда он станет взрослым.
— У меня к вам есть просьба: позовите доктора Аша Дэвиса и миссис Дэвис и, пожалуй, мисс Софи Конкорд и позвольте мне угостить вас всех обедом в закусочной, которую я приметил тут недалеко. Боюсь, это не совсем вежливо, такое позднее приглашение, но если бы вы согласились…
Ну как было не поощрить такого ревностного ученика!
По дороге в закусочную Уинтроп и Тэнкфул — молодежь, свободная от «расового комплекса», — шли рядом со своим новым приятелем банкиром, ухватив его под руки, наперебой рассказывали ему о своем щенке колли по кличке Алджернон Суинберн.
«А что, если бы нам повстречался Род Олдвик?»
Длинная стойка занимала почти все помещение закусочной, но были в ней и столики, вроде ломберных, со стульями из витой проволоки. Салфетки были бумажные. В карточке значились: антрекот, свинина, бифштекс по-гамбургски и филе, которое уже кончилось; подавали молодые девушки, ласковые, старательные, но неопытные. Все было, как во всех дешевых ресторанчиках страны, в которой демократия началась с меню, мод и ходовых словечек и, пожалуй, на том и кончится.
Большинство обедающих были рабочие-негры, некоторые даже в комбинезонах. Но Нийл, у которого уже появились «свои» в этом черном мире, увидел Джона и Мэри Вулкейп и приветствовал их так радостно, как никогда не приветствовал Эшиела Денвера с супругой. А когда у Брустеров с Софи, Ашем и Мартой завязался свойский разговор за свининой с капустой, ему уже гораздо легче было принять в нем участие.
Вероятно, нет ничего примечательного в том, что разговор этот вертелся вокруг горестей негров. И пусть даже многое Нийл слышал не впервые — разве мистер Пратт и мистер Денвер не твердили без конца о горестях банкиров или Род Олдвик о горестях солидных адвокатов и охотников на диких уток?
В этот вечер предметом обсуждения был преподобный доктор Джет Снуд — по-видимому, самая большая пакость, какая только водилась в Гранд-Рипаблик.
Когда крупные религиозные секты — методисты, баптисты, пресвитерианцы — от стонов и возгласов «аллилуйя» перешли к газосветной готике и литературным обзорам с амвона, замученные, усталые люди устремились в новые церкви, где им хоть и не обещали роста зарплаты, но гарантировали спасение души и где они могли во всеуслышание ругать дьявола, папу Римского и Уолл-стрит, вознаграждая себя за то, что нельзя во всеуслышание ругать хозяев. На чердаках, в пустующих магазинах и складах возникали удивительные новые секты, вроде церкви Библейского Спасения во Христе или Общины Святых Избранников Божиих, под чем следовало понимать десяток усталых мужчин и женщин, восемь молитвенников и четыре скамейки.
С чисто американской предприимчивостью духовные пастыри, которые в менее просвещенные времена были бы продавцами патентованных средств или коммивояжерами, учли, что можно делать неплохие дела, если возвести себя в священнический или даже епископский сан, снять помещение и придумать название для церкви, — а дальше вся работа сводилась к тому, чтобы погромче вопить да пожалостней причитать и по три раза в сеанс собирать пожертвования.
Среди таких новейших аттракционов в Гранд-Рипаблик славился некий Джет Снуд, который, не окончив средней школы, был тем не менее доктором богословия. Он являлся владельцем большого сарая на углу Саут-Шамплен-авеню и Ист-Уинчелл-стрит в Саут-энде и сам же состоял при нем главным зазывалой, рекламируя свое заведение под романтическим названием «Скиния Божиих Откровений, Основанная на Библии: Христос за Всех, и Все за Христа».
По правде сказать, преподобный доктор ни в одном городе не мог продержаться дольше пяти лет, так как знал только пятнадцать проповедей и пятьдесят эстрадных трюков, и даже его хмурым, отупелым, вечно жующим резину слушателям под конец становилось невмоготу. Но пока дело шло, оно давало отличную прибыль, потому что аудиторию приятно щекотали разговоры о грешниках и адском огне, и шведки-горничные, немцы-приказчики и янки-монтеры чувствовали, что если им недоступно общество Хайрема Спаррока в Федеральном клубе, то зато они могут наслаждаться обществом бога, ангелов и праведных душ в Скинии Божиих Откровений — вход свободный, пожертвования добровольные (но частые). Джет, оглушая слушателей длинными высокопарными словами, приправленными сленгом, убеждал их в том, что если снобы из Коренных Американцев смотрят на них сверху вниз, то и они, в свою очередь, могут быть снобами и смотреть с презрением и ненавистью на всех евреев, негров, католиков и социалистов.
Здесь же, в закусочной, Аш Дэвис объяснил Нийлу:
— Таких Снудов в городе несколько, но Джет самый крупный из них, и своих последователей они вышколили так, что это готовые резервы для Ку-клукс-клана. Совсем не смешно будет, когда эти шайки христова воинства бросятся избивать несчастных негров и жечь их дома. Вы друг нашего народа; как вы думаете, могли бы вы что-нибудь предпринять против мистера Снуда?
— Я, конечно, постараюсь, — сказал Нийл.
И знал, что он, конечно, ничего не сделает.
К их столу подсел молодой человек в военной форме с нашивками капитана военно-воздушных сил, темнолицый, стройный и улыбающийся. Нийлу объяснили: это капитан Филип Уиндек, он пошел в армию с последнего курса инженерного отделения Миннесотского университета и совершил немало полетов на итальянском фронте.
— Понимаете, — сказал он Нийлу, — я, собственно, уже не имею права носить этот мундир, но сегодня у нас была встреча боевых друзей. Завтра снова надену комбинезон.
— А чем вы занимаетесь?
— Моя мечта — подзаработать денег, жениться и вернуться в училище. Мне казалось, летчику, да еще с техническим образованием, нетрудно будет найти работу. Ну, ни на аэродроме, ни в автомобильных фирмах ничего у меня не вышло, даже разговаривать не стали, но, к счастью, удалось вернуться на старое место, где я работал до училища, — в Общедоступный Гараж О'Тула, смазчиком и мойщиком машин. Дрексель Гриншо, отец моей невесты, мог бы устроить меня мыть посуду в ресторане. Я, однако, счел, что возвратившемуся герою, который собирался держаться так скромно, когда его будут встречать с двумя оркестрами и речью мэра, более подходит место в гараже, где демобилизованные белые рядовые будут покрикивать: «Эй ты, черная сволочь, поворачивайся живее!»
И, как обычно, все дружно захохотали над печальной судьбой Фила Уиндека, и сам он громче всех. Лучше уж смеяться над Неблагодарной Республикой, чем унывать и лить слезы. Один только Нийл не скрывал возмущения. Но его радовало, что это ветеран, соратник по итальянскому походу, отнесся к нему как к другу, и сам он как друга приветствовал Райана Вулкейпа, когда тот появился — уже без мундира, уже не военный.
Далеко зашел Нийл, дальше, чем сам думал.
Как всякая женщина, радующаяся, когда ее новый поклонник благосклонно принят в семейном кругу, Софи Конкорд следила за тем, как Нийл себя держит с Филом, с Райаном, с детьми Ивена, и была довольна. Это она после обеда предложила Нийлу:
— Брустеры и Дэвисы идут сейчас на собрание Комитета — ну как же иначе! Без этого они спать не лягут. Комитеты — это привычка, хуже всякого наркотика. А мы четверо, я, вы, Райан и Фил, давайте пойдем в «Буги-Вуги», посмотрим черненьких в их самом некомитетском виде. Вы ведь типичный турист, изучающий нравы трущоб. Познакомились с Ашем и с Ивеном и вообразили, что все мы интеллигенты с непорочной душой, ведущие своих соплеменников в эфиопское царство разума. А давайте взглянем на тех, кого ведут, к величайшему их неудовольствию! Я уж даже не знаю, кто больше упирается, когда его берут за руку и тащат в это самое царство, — неграмотный батрак, или искушенная горожанка, или богатый коричневый специалист вроде доктора Мелоди. Но так или иначе, пошли смотреть веселых девочек.
В «Буги-Вуги» было вдоволь шума и мишуры, но все же Нийл не нашел здесь той атмосферы порока, которая рисовалась его романтическому воображению. Это была большая комната в форме буквы Г, вся в золоченых трельяжах с искусственными орхидеями. Оркестр — три толстых веселых негра в вишневых фраках и золотых котелках (ансамбль Дьюка Эллингтона в местном масштабе) — истязал рояль, барабан и кларнет. Цветные матросы и солдаты танцевали с фабричными работницами, цветными и белыми, в не меньшей тесноте, чем в самых дорогих злачных местах, где веселятся и потеют нью-йоркцы. Девушек с шоколадной или пепельной кожей, улыбающихся, но молчаливых, кружили молодые негры, танцевавшие с врожденным изяществом и легкостью.
Нийл как-то не сразу осознал, что за одним из столиков сидит Борус Багдолл, хозяин заведения, а задорная девушка напротив него, в полупрозрачном зеленом шифоне, — Белфрида, и оба они смотрят на него и скалят зубы. Он пожаловался своим спутникам:
— Вон там сидит девушка, которая у нас служила и которая меня ненавидит, — Белфрида Грэй. Лихая девица. Только, пожалуйста, Райан, не пытайтесь агитировать меня и не доказывайте, — что она жертва среды.
— А почему? Давайте подойдем, поговорим с ней. Я ее знаю с детства. А вам, наверно, незнакомо такое культурное удовольствие, как получить пощечину от кухарки.
И вот Нийл, к великому своему удивлению, впервые взглянул в лицо той Белфриде, которая много месяцев спала под одной крышей с ним, и увидел, что это Нелл Гвинн, только выточенная из черного дерева; те же глаза, и улыбка, и живость, и задорная ветреность нрава. С томной грацией — так, должно быть, прелестная продавщица апельсинов оскорбляла какого-нибудь лорда — она протянула:
— Да это же мистер Кингсблад! Вот не ожидала вас встретить в таком местечке. Я думала, если уж вы уходите из дому, так только на занятия в воскресной школе.
— Вы отлично знаете, что я никогда не вел занятий в воскресной школе! — возмутился Нийл, оскорбленный в своем мужском достоинстве охотника на диких уток.
— Будто бы?
— Что вы теперь делаете, Белфрида?
Белфрида и Борус переглянулись, как будто вопрос был ужасно глупый, но она сжалилась над неопытным белым бюргером и снизошла до ответа:
— Я открыла косметический кабинет. Мы вдвоем — я и еще одна девушка. Клиентура у нас только избранная, настоящие дамы или пасторские жены — и не рассчитывайте, что вам удастся закрутить с какой-нибудь через меня. У них у всех есть кавалеры, и такие, что денег не считают.
Она вызывающе посмотрела на Нийла, потом неприязненно посмотрела на Софи, потом взглянула на Боруса и хихикнула.
Нийл сказал просительно:
— Я надеюсь, вы нас не поминаете лихом, Белфрида.
Она — небрежно:
— Нет, зачем же. Вы-то, конечно, что с вас взять, но миссис Кингсблад молодец. Она — с перцем. От белого мужчины, вроде вас, особенный прыти и ждать нечего, но она — она такая умница, что негритянке впору. Ну, рада была вас повидать, мистер.
— Гм… Белфрида, мне очень жаль, что мы не поладили. Возможно, тут во многом я виновен.
— Еще бы! Вы всегда вели себя так, как будто знали наверняка, что я нахалка, ну я и стала нахалкой. Господи боже! Я ведь не в гостиной росла! Я росла среди сапожных щеток и с тринадцати лет привыкла, что каждый встречный белый пристает ко мне. Когда я поступила к вам, мне сперва понравилось жить в отдельной комнатке, но вы с вашей Вестл повадились лазить туда и смеяться над моими вещами и что у меня не убрано. А между прочим, мистер, когда вечно приходится убирать чужие постели, то делается так тошно, что уж на свою смотреть не хочешь и думаешь: хоть у себя-то можно себе позволить быть неряхой, если тебе охота. Но вы и туда совались. И вечно шушукались про меня — шу-шу-шу да шу-шу-шу!
— Белфрида, мне очень жаль, честное слово.
— Ладно, что уж там. Ну, рада была повидать вас.
Наш мистер Кингсблад довольно ясно почувствовал, что аудиенция окончена, и, проглотив это, покорно поплелся к своему столику за безмолвной Софи, улыбающимся Филом Уиндеком и ироническим Райаном. Но прежде чем готовый вопрос успел сорваться с чьих-нибудь губ, он воскликнул:
— Она просто великолепна!
Мисс Софи Конкорд не стала дразнить его тем, что он получил щелчок от своей бывшей кухарки. Напротив. Она поддела его супружески шутливо:
— А в каких отношениях вы состояли с мисс Белфридой, мой милый друг? А? Вот что мне хотелось бы знать!
В укромном уголке стоял столик, за которым собирались обычно старейшины цветной колонии: Дрексель Гриншо, Уош, чистильщик обуви и Мак, проводник «Борапа», — когда он заезжал в город навестить сестру. Сегодня с ними был еще четвертый — механик Шугар Гауз. Фил Уиндек как будущий зять относился терпимо к величавому старому Рыцарю Камчатных Скатертей и потащил Нийла на поклон к дядитомовскому столику.
Там не слишком обрадовались, когда один из тех, от кого они привыкли получать на чай, помешал их частной джентльменской беседе.
— Мистер Гриншо, капитан Кингсблад хочет стать настоящим другом нашей расы, и его интересует один вопрос: вот вам, Маку, Уошу приходится близко наблюдать белых в самой их, так сказать, красе; так считаете ли вы серьезно, что все белые — дураки?
Дрексель недоверчиво покосился на Нийла и промямлил:
— Нет, Фил, нет. Просто очень уж они смотрят на все со своей колокольни.
Проводник Мак поглядел на Нийла почти как на человека и начал:
— Надеюсь, капитан Кингсблад не обидится, если я скажу, что он — один из немногих умных людей, которым по средствам разъезжать в «Борапе»; а насчет вашего вопроса, то по мне белые люди — очень славные люди, но только все они точно дети малые и за ними нужен глаз да глаз. Они ни в чем не разбираются по существу, как вот мы, цветные, начинаем разбираться, когда еще под стол пешком ходим. Они точно те негры с низовьев Миссисипи, которых каждый из нас хорошо знает, — верят всему, что говорится в проповедях и в законах. Но разве ж они в этом виноваты, бедняжки?
Дрексель возразил:
— Я о белых лучшего мнения, чем ты, Мак. Взять хотя бы такого человека, как мистер Хайрем Спаррок. Видал ты когда-нибудь негра, который бы нажил столько миллионов? А ведь для этого тоже смекалка требуется… И потом он мне как-то пять долларов на чай отвалил!
«Они уже совсем забыли о том, что я белый. Но ведь я и не белый! Неужели они видят эту черную каплю в моей крови?»
Мак презрительно отозвался:
— Мистер Спаррок? Да он самый младенец и есть. Пичкает, пичкает себя всякими пилюлями, а в них ничего нет, кроме чистого сахару, — мне доктор говорил, который его лечит, доктор Дровер, и разрешил мне давать ему, сколько он пожелает.
Шугар Гауз сказал:
— Вы уж, джентльмены, извините, что я, простой рабочий, вмешиваюсь, но сколько мне пришлось наблюдать белых господ, так они всегда себе на уме. Вот мой мастер: подойдет ко мне и спросит, могу ли я наладить такой-то станок, а когда я налажу, так он засунет за щеку табачную жвачку, надуется, как индюк, и давай форсить перед инженером: «Вот, мол, я каков специалист!» Но если им помогаешь, так они с тобой ничего, меньше издеваются и наговаривают меньше. Я уж теперь подход к ним знаю, к сукиным детям, — ох, простите, капитан.
Они сидели напротив Нийла, как важные черные филины, слетевшиеся в круг; они попробовали было перевести разговор на политику; но вскоре Дрексель, завороженный вечной темой, снова сбился на прежнее. Он прошел основательную школу раболепства перед белыми людьми, но он слишком часто видел, как они пьянствуют и распутничают в ресторане, чтобы остаться верным культу белого господина, и если нашелся такой белый, который хочет знать правду, пусть получает!
— Подход, говоришь? Есть только один подход к белому человеку — подход дяди Тома. Унижайся и раболепствуй, почаще восхищайся его умом, чеши ему спину — и обчищай карман… То есть это не я так считаю, капитан, а некоторые другие негры!
Мак замотал головой:
— Не люблю я эту дядитомовщину. Суметь-то и я сумел бы, думаю…
Старик Уош хихикнул:
— Ты думаешь, а я делаю! Они младенцы, им конфетку надо. Только очень уж у них ружья большие и веревки крепкие. Поэтому я и говорю: «Дядя Том? Пожалуйста, вот я дядя Том», — а они, дурни, развесят уши и верят… К вам это, конечно, не относится, мистер!
— Да уж, смеяться и смиряться — на этом мы, черномазые, собаку съели! — сказал капитан Филип Уиндек. Но своей улыбкой он как бы просил у Нийла прощения.
Он проводил Софи до ее дома, в двух кварталах от Майо-стрит. Он сказал:
— Каких красочных впечатлений я набрался сегодня! Я все больше и больше чувствую себя настоящим сыном своего народа. Они такие… столько стоицизма в том, как они сами смеются над собой.
— Мой благожелательный, но незрелый друг, человеческие существа не бывают «они», только «мы»!
Стоя у ее дверей, он не знал, поцеловать ее или нет. Она знала. Но он так и не догадался. Ковыляя к автобусной остановке, он думал не столько о Софи, сколько об Уинтропе Брустере, которого он сравнивал со счастливым наследником Роднея Олдвика. На чьей же стороне он сам, на чью сторону призывает его солдатская присяга? С твердым, хотя и неосознанным намерением он вдруг повернул назад и направился к пасторскому домику Ивена Брустера. В окно видна была его могучая спина, сгорбившаяся над столом.
Доктор Брустер вышел на стук в домашнем халате, похожий на Поля Робсона в роли Отелло. Очутившись в гостиной, Нийл сказал просто — такому человеку не плетут небылиц, как бансерам:
— Я хочу сказать вам одну вещь, доктор Брустер. Мне нужно сделать это поскорее, иначе осторожность возьмет верх. Я узнал, что во мне есть негритянская кровь, от одного далекого предка. Я рассказал об этом Ашу, Софи, Вулкейпам, но не рассказывал никому из белых. Как вы думаете, должен я открыться и заявить об этом всему миру?
Он надеялся, что Ивен воскликнет: «Конечно!» — и тогда можно будет рассердиться и защищать себя, но Ивен шептал: «Не знаю… я не знаю». Глядя на Нийла широко раскрытыми глазами, куда больше похожий на доблестного мавра, чем на тихого доктора философии, в этой крохотной обители знаний и почтмейстерского труда, он слушал историю Ксавье Пика, которую Нийл оборвал коротким:
— Как же мне теперь быть, по-вашему?
— Просто не знаю, что вам сказать. — Большие руки Ивена шевелились, словно хотели благословить кого-то. — Но мне кажется, совершенно незачем вам признаваться в том, чего на самом деле не существует, что есть лишь нелепый американский предрассудок, — в вашей мнимой принадлежности к моему народу.
— О-о! — Нийл испытывал разочарование оттого, что никто не хотел его жертвы, разочарование и в то же время явное облегчение.
— Но, Нийл, когда я думаю о травле моих братьев, в которой все более усердствуют скоты вроде Джета Снуда, когда я вспоминаю людей, крестом господним разжигающих наши мученические костры, тогда мне хочется сказать: «Да, да, отрекитесь от жены, отца, покоя и доброго имени и идите к нам!» Но я не знаю! Дайте же мне подумать, прежде чем я вмешаюсь в вашу жизнь! Приходите через несколько дней, а пока — пока попробуйте молиться, Нийл, — если можете!
Нийл постарался сделать вид, что готов следовать этому благочестивому совету, но ему казалось, что он слышит смех Райана Вулкейпа.
Дома, в Сильван-парке, где феномены святости, подобные Ивену Брустеру, казались столь же немыслимыми, как гады вроде Джета Снуда, Нийл попробовал поиздеваться над собой:
— Да уж, глупее и выдумать нельзя: солидный, положительный человек отправляется к чернокожему фанатику и начинает скулить перед ним: «Скажите, сэр, можно мне бросить жену, дочь и дом, чтобы выпивать с Белфридой в «Буги-Вуги»?
Но это не помогало. Он вспомнил, как еще в университетские дни зашел однажды в импровизированную церковь, где бродячий белый проповедник, надсаживаясь, кричал: «Если уж ты попался господу богу в лапы, вопи и вырывайся сколько угодно, все равно не уйдешь никуда!»
30
Он сам послушает этого преподобного доктора Джета Снуда и сам будет судить, так ли он красноречив и так ли зловреден, как о нем говорит потрясенный мир; и Вестл он тоже возьмет с собой на эту глухую окраину града человеческого. Ибо как бы сильно его ни влекло временами к Софи, ему и в голову не приходило, что это может отразиться на его чувстве к Вестл — особенность мужской психики, которая испокон веков заставляла отчаиваться свободных женщин в их соревновании с законными женами.
Смешнее всего было то, что на предложение совершить эту экскурсию в трущобы духа Вестл ответила упреком:
— Фу, Нийл, зачем тебе слушать этого гнусного куклуксклановца с его расистскими бреднями?
— Меньше всего я сочувствую этим бредням. Я отношусь к неграм с большим уважением, — мягко ответил Нийл.
— Давно ли?
«Хватило бы у нее мужества вынести, если бы я сказал ей? Ох, не будь дураком, Кингсблад!»
Тут как раз пришла в гости кузина Патриция Саксинар, экс-офицер флота, так что они захватили и ее.
— Хотя, — заметила Пат, — я не любительница слушать тявканье дворовых собачонок.
Скиния Божиих Откровений была скромна и убога, как ясли, в которых родился Спаситель, но рекламная часть стояла здесь на значительно большей высоте. Это был сарай, вмещавший человек восемьсот — девятьсот, сколоченный из старых досок и наспех покрашенный, так что видны были все дырки от гвоздей. На стене, выходившей на вонючий, заросший бурьяном пустырь, где валялись рваные башмаки и негодные автомобильные шины, была выведена трехфутовыми буквами надпись: «Правда о Международном Заговоре — из уст Всевышнего и доктора Снуда!».
Внутри по стенам были расклеены ярко-красные плакаты, изображающие советского премьера и папу Римского в виде чертей, окруженных языками пламени, — «Это еще куда ни шло», как заметила Пат Саксинар. А в дальнем конце сарая висела диаграмма, наглядно доказывающая, что Наполеон и Том Пэйн, а также все Рокфеллеры и Вандербильды находятся в аду, что сулило неимущим пекарям, мясникам и фабричным рабочим, наполнявшим зал, весьма занимательный дивертисмент, причем бесплатно и на веки вечные. В зале царила приятная домашняя атмосфера: здесь были отцы и матери скромных семейств, по-праздничному приодеты, ребятишки, сосущие леденцы, — «соль земли», которая под руководством диктатора может превратиться в селитру.
Пат шепнула:
— Славные, простые люди, ах, с каким бы удовольствием они славно и просто линчевали кого-нибудь. В качестве поклонницы Авраама Линкольна я нежно люблю их, но не хотела бы я попасться этой ветхозаветной банде во главе с каким-нибудь Снудом, будь я еврейкой, итальянкой или негритянкой.
Нийл подумал о том, что и Пат — правнучка Ксавье Пика. И сразу же эти человеческие лица вокруг него, бледные и усталые, предстали перед ним страшными, как те, что кривлялись при свете факелом в его сне.
До начала службы богомольцы толпились у входа в скинию, судачили, соглашались на том, что от дождей и махинаций Ватикана последнее время просто деваться некуда. Дети гонялись за собаками, собаки гонялись за черными жуками. Миссис Джет Снуд, высохшая, запуганная женщина, стояла за гладильной доской, превращенной в книжный прилавок, и продавала журнал под названием «Горний призыв», иллюстрированный видами Иерусалима и портретами полковника Чарльза Августа Линдберга.
Служители, плотные, похожие на каменщиков молодцы в синих, плотных, похожих на каменные, Пиджаках, принялись уминать всю человеческую массу в клетки откидных кресел, а на эстраде Духовой Оркестр Христовых Трубачей, игравший «Хелло, Центральная, Дайте Мне Рай», торопливо перешел на «Внемлите Хору Вестников Небесных», и под эту бодрую музыку современный вариант Небесного Вестника — преподобный доктор Джет Снуд — выскочил на эстраду, опустился посередине ее на колени, склонил голову, не настолько, впрочем, низко, чтобы нельзя было сосчитать аудиторию, и, возвысив свой громоподобный голос, стал уверять господа бога, что если ему угодно будет послушать, то он узнает сегодня разгадку многих непостижимых тайн.
После этого Снуд вскочил, неожиданно резво для человека, только что пережившего высокое потрясение личной беседы с творцом, и в два прыжка очутился у кафедры, на которой лежала библия, стоял графин с водой и торчал пучок чертополоха. Но прежде чем приступить к своей разоблачительной проповеди, которая (если не считать денежного сбора) составляла гвоздь программы, он заставил слушателей спеть три гимна, причем сам дирижировал такими жестами, как будто пугал ворон, а затем пригрозил им вечной карой за скудость доброхотных даяний в кружке для сбора.
Снуд не был похож ни на служителя мистического культа, ни на опасного демагога, ни на мошенника, он напоминал скорее жадного провинциального лавочника — мастера раскладывать товары в витрине и грозу неаккуратных должников. Он мог играть роль бикфордова шнура для своих последователей, но внешне это был маленький, коренастый, кудлатый торгаш в наимоднейших восьмиугольных очках без оправы.
Он был однообразен, он был безграмотен, он был скучен. Но у него было два замечательных дара: великолепный голос, на котором он играл, как на губной гармонике, и еще более великолепное отсутствие совести. Его совершенно не интересовало, кого и за что линчуют, были бы ему обеспечены его шесть тысяч долларов в год. Эта цифра была его слабостью, его гордостью, потому что на торговле скобяным товаром, которой он прежде занимался, он никогда не зарабатывал больше чем 22 доллара 75 центов в неделю, и многие из братьев-скобяников смеялись над ним и говорили, что никогда из него не выйдет толку.
Он часто шутил после молитвенных сборищ:
«Нам с мамашей икры и шампанского не нужно, но мы хотим до своей смерти повидать Атлантик-Сити и совершить путешествие в Святую Землю, да так, чтобы останавливаться в лучших отелях».
Его не раз сравнивали с Авраамом Линкольном и с Хьюи Лонгом, и многие видели в нем потенциального вождя Простого Народа. Джет не так стар: он родился в начале девяностых годов, и он еще удивит скептиков-журналистов, которые считают его чудаком и мелкой сошкой.
Он начал свою речь с энергией человека, привыкшего обливаться холодной водой по утрам.
— Вы ждете от меня проповеди, а я приготовил вам хороший нагоняй. Осточертело мне видеть, и господу богу осточертело видеть, как шайка жидов-коммунистов, что засела в Вашингтоне, отдает наши заработки и вверяет заботу о воспитании нашего потомства темным агентам Рима и Москвы!
Он пустился в объяснения, которые, по сути дела, ничем не отличались от объяснений элегантного майора Роднея Олдвика. Он объявил, что существует Международный Заговор, в котором участвуют еврейские банкиры, английские аристократы вроде сэра Криппса, советские агенты, магометанские муллы, индийские агитаторы, католики и американские профсоюзные лидеры («не о рядовых членах профсоюза речь, братья мои, — ведь и мы с вами члены профсоюза; но я хочу изобличить матерых жуликов, которые пробрались на руководящие посты»).
Он объяснил, что англичане — это заблудшее колено израилево. Он объяснил, что при помощи измерений Большой Пирамиды можно предсказать почти все на свете — вот разве только не предскажешь, пойдет ли завтра дождь, если вы собрались на пикник, — да, тут, пожалуй, Пирамида не поможет, хотя вообще он мог бы порассказать чудеса насчет этой самой Пирамидки.
Еще удобнее для предсказательской практики, продолжал он, Апокалипсис и книга Иезекииля, главы тридцать восьмая и тридцать девятая. Библейский Рош, сообщил он, — это, конечно, Россия, а Мешех — Москва. Он добавил:
— Старички из Сената США пыхтят и трудятся аж до пота — только потеет у них не лоб, а под мышками, потому что за лбом-то нет ничего! — все стараются надумать, как дальше будут дела у дяди Сэма с Россией. Пришли бы эти сенаторы ко мне да спросили бы меня: «Доктор, что будет?» Я бы им сказал: «Ребята! — сказал бы я им. — Вот я сейчас заглянул в библию и тогда точно скажу вам, что будет!»
Но, может, вы думаете, что у кого-то хватит ума выбрать меня в сенаторы? Как же, держи карман шире! Есть тут, правда, одна милая старушка, живет на ферме в округе Тамарак, добрая христианка и верная помощница в нашем деле, благослови ее господь, — так вот она мне пишет, что каждый вечер перед сном молится, чтобы меня выдвинули и избрали в Сенат, и чтобы я отправился в Вашингтон, и чтоб бог через меня мог наконец вмешаться в дела правительства.
Но я ей на это написал: «Нет, сестра моя! — написал я ей. — Сдается мне, что здесь, в нашем милом Гранд-Рипаблик, где полным-полно шулеров, и агностиков, и сводников, нужды во мне больше, и если на то будет воля господня, и если вы, липовые христиане, у которых душа и кошелек всегда на замке, расщедритесь для господа бога больше чем на десять — пятнадцать центов, — то мы зададим жару и сатане, и евреям, и радикалам, и Царствие Божие начнется у нас здесь, в этом маленьком городке, подобно тому, как некогда оно началось в захолустном Вифлееме — не в том, который в Америке, а в том, который в Святой Земле».
Под конец, после небольшой приятной интермедии сбора пожертвований, голос Снуда зазвучал мерно, чеканно и гулко, точно медный колокол забил:
— Я сегодня не говорил о наших черных братьях, но приходите завтра, и я поведаю вам кое-что об этих проклятых сынах Ваала, которым бог за грехи дал черную кожу и на веки вечные сделал их слугами белого человека. Открою я вам и коварный замысел евреев: отдать нас всех под пяту черным выродкам, о чем даже газеты писать боятся, — вот тогда вас дрожь проймет и волосы у вас встанут дыбом.
Еще не пришло время возродить Клан, но оно придет, и я хочу, чтобы все вы, возлюбленные мои братья во Христе, поняли, для чего мы воздвигаем на высоком месте крест возрождающий, разжигаем огонь очищающий, берем в руки книгу, в которой заключена мудрость, и кнут и веревку, которые сам господь обратил против меня во храме, а мы теперь обратим против дьяволов в черном сатанинском облике, покинувших гостеприимный Юг, чтобы толпами вторгнуться на наши фабрики, в наши рестораны, даже в наши дома и постели! Факт! Вот приходите завтра — и вы много чего узнаете!
А теперь, о благостный Иисус, любвеобильный господь наш, сделай так, чтобы наша сегодняшняя речь не нашей силой и красноречием, но твоею милостью проникла в сердца всего страждущего человечества — господу помо-о-лимся.
Обратно ехали в свете яркой сентябрьской луны; Нийл правил молча, молчала и Пат, сказав только:
— В смысле путаницы в мозгах этот Снуд просто творит чудеса. Он умудрился внушить мне симпатию и к коммунистам и к католикам.
Вестл болтала:
— Мне он не понравился. Ужасно вульгарный и притом круглый невежда — точь-в-точь те черномазые шуты-проповедники, про которых всегда рассказывает Род Олдвик, помните? «Братья, не воруйте арбузов больше, чем положено воровать черным детям господа бога!»
Она весело захохотала, и Нийл подумал, что шуточки таких жен, как Вестл, скорее, чем вся мерзость Снуда, могут побудить его навсегда уйти к «черномазому шуту-проповеднику» Ивену Брустеру.
Когда он опять явился к Брустеру, прямо с работы, ему пришлось дожидаться, пока тот вернется из своего почтового отделения. В стареньком свитере Ивен был похож на обыкновенного рабочего. Он мягко положил Нийлу руку на плечо и посмотрел на него ласковым, непоколебимо твердым и чуть безумным взглядом византийского святого.
— Садитесь, пожалуйста, Нийл. Знаете, что я тут как-то сделал? Поехал в Сильван-парк и раза два прошелся мимо вашего дома. Видел в садике миссис Кингсблад и вашу дочурку. Они-то меня, конечно, не заметили. Я был очень осторожен. Просто видели — идет какой-то негр, наверно, к соседской кухарке в гости.
Обе они прелестные, и жена и девочка, — право, я даже почувствовал к ним любовь, зная, что они ваши. И я спросил себя, имею ли я право совершить нечто такое, что вовлекло бы их в Борьбу Униженных?
Нет, не имею. Это моя борьба, но не их — и не ваша тоже, Нийл! Быть может, ваш долг перед этим ребенком и этой милой, красивой, такой спокойной на вид женщиной больше, чем ваш долг перед нашим народом, — если вообще есть у вас такой долг. Я даже не могу сказать, что господь вам укажет путь. Одно из двух: или вы уже верите в это сами, или не поверите никогда. Нийл! Не говорите, не надо!
Уинтроп ворвался в комнату — он всегда именно врывался, а не входил — и закричал:
— А, капитан! Научите меня играть в джин-рамми?
— Непременно научу, если только вы будете звать меня Нийл.
— Как хотите. Но можно, я лучше буду вас звать — капитан? Обожаю военные звания! — сказал этот молодой американский ученый-реакционер.
31
Это вышло случайно — ничего заранее обдуманного тут не было. Он повстречал Софи Конкорд на улице, предложил ей позавтракать вместе, и она согласилась. Он не думал о том, что здесь есть «компрометирующий момент», пока не услышал собственный нерешительный вопрос:
— А куда бы мы с вами могли пойти?
Тут только он понял, что означает этот вопрос, и сам ужаснулся, — ведь, в сущности, он сказал этой женщине, которая была умней и культурней всех ему знакомых: «Не забывайте, что вы черномазая девка и не во всякую низкопробную харчевню впустят такое чудовище. Пожалуй, даже то, что я пригласил вас, можно рассматривать как завлекательство с вашей стороны».
Но ни тени виноватого смущения не было в ее спокойном ответе:
— Можно встретиться в павильоне «Павлиний хвост». Это негритянский ресторанчик на Старой Северной Военной Дороге — сейчас же после поворота от Биг-Игл-ривер. Завтра, хотите? Ровно в час.
В сущности, совсем незачем было так волноваться, словно назавтра ему предстояла свадьба или виселица. Он был солидный человек, семьянин и финансист без страха и упрека, и собирался всего только позавтракать в ресторане с интеллигентной медсестрой из городской больницы. И все-таки весь день и весь вечер его точила мысль, что он виноват перед Вестл, что, если кто-нибудь увидит его в негритянском кабаке, его уволят со службы, что он ничуть не лучше распутного Кертиса Хавока.
Он пытался прямо ставить перед собой вопрос: «Чего тебе надо от этой женщины, чего бы ты хотел, если бы дело зависело только от твоего желания?» — но не находил ответа, кроме довольно зыбкого соображения, что, если он решится открыто признать себя негром, ему нужен будет друг, более преданный, чем Аш, более мужественный, чем Вестл.
Короче, ему нужна будет Софи.
Павильон «Павлиний хвост» был низенькой, шаткой хибаркой из старых досок, едва прикрытых штукатуркой, и, когда белый человек, поставив у крыльца свою машину, вошел в зал, старый маленький негр-хозяин, два здоровенных негра-официанта, пять или шесть негров-посетителей — все уставились на него с тревогой. В их примитивном представлении «бремя белого человека» непременно составляют счета, повестки и неприятности.
— Э-э, сюда должна прийти мисс Софи Конкорд, — начал он.
— А вы знаете мисс Конкорд? — недоверчиво переспросил хозяин.
— Да, знаю.
— Это медицинская сестра?
— Вот, вот.
— Чернокожая?
— Д-да, кажется.
— Первый раз слышу про такую. Вы не туда попали, мистер.
Тихий, сдавленный смех послышался сзади, сбоку, со всех сторон, но прежде чем он успел возмутиться этим грубым проявлением расовой нетерпимости, в зал влетела Софи, запыхавшаяся от спешки, бросила хозяину: «Хелло, Панти!» — и приветствовала Нийла вполне благопристойным: «Погода сегодня просто на редкость!»
Панти неохотно отвел им столик в подчеркнуто изолированном уголке у дальнего конца стойки, где на стене висели портреты негритянских знаменитостей эстрады и ринга, и спросил уверенным тоном:
— Черепаху по-южному, так, что ли?
— Жаркое по-мерилендски два раза, и марш отсюда, Пант, — сказала Софи. Затем, обращаясь к Нийлу: — Ну, как вам нравится эта обжорка?
— Здесь не так плохо.
— Ужасно. Хуже не бывает. Но я привыкла, и потом именно в таких местах белые джентльмены завлекают в свои сети бедных шоколадных красоток.
— Софи! Я знаю, что вы любите шутить, но вы же не думаете в самом деле, что я пригласил вас позавтракать с э-э…
— С дурными намерениями? Была у меня такая игривая мыслишка.
— Честное слово, мне даже обидно! С чего вы взяли?
— А что же еще могло свести нас вместе? Мы с вами не компания. То есть я, конечно, не об оттенках кожи говорю. В наше время только недоразвитые кретины верят в этот вздор. Но я трудящаяся женщина и общественная деятельница, а это хуже всего, — я та самая надоедливая муха, которая все время жужжит над головой и не дает покоя процветающим персонам вроде вас. Мы поладить не можем. Все равно как кошка с собакой.
— Бывает, что кошка и собака очень привязываются друг к другу, Софи, даже спят вместе.
— Но, но, насчет спанья вместе это вы оставьте, мой светский друг!
— Какой там к черту светский! Я провинциал и к огням большого города привык гораздо меньше вас. Во мне так мало светского, и я так неотесан, что мне до сих пор не приходили в голову подобные мысли, даю вам честное слово. Но, собственно говоря, я не вижу, почему бы мне не влюбиться в вас и не сделать вам всех гнусных предложений, какие полагается делать джентльмену. Почему, а?
— Давайте обсудим. Во-первых, вы меня не знаете.
— Мы с вами знали друг друга через пять минут после первого знакомства.
— Во-вторых, вы мне не особенно нравитесь.
— Тоже неправда. У вас в глазах написано, что я вам нравлюсь.
— Ну вот еще. Я просто выдерживаю стиль — именно так должны смотреть нестрогие девушки в сомнительных заведениях вроде этого.
— Боже мой, Софи, вы сами знаете, что я гораздо охотнее пригласил бы вас в «Фьезоле»…
— Или к себе домой?
В наступившей стальной тишине его голос прозвучал довольно холодно:
— Вы знаете, что для этого мне потребуется еще время — не касаясь даже вопроса о том, насколько этично знакомить свою жену со своей возлюбленной. Я не могу за полгода перескочить от окошечка кассы на трибуну агитатора. Слишком долго складывались кассирские навыки. Чтобы ввести вас в свой дом, я раньше должен сам открыто войти в него.
— А что скажет на это Вестл? Ага! Вас передернуло оттого, что я назвала эту женщину «Вестл»! Не пытайтесь отрицать, Нийл. Бедный мальчик, ведь вы же воспитаны в предрассудках, каких мир не знавал со времен феодализма. Пожалуй, я даже могла бы полюбить вас за то, что вы широкоплечий, и бело-розовый, и мускулистый, и честный, точно так же, как своего последнего друга я любила за то, что он был тонкий, темнокожий и вероломный. Но с меня довольно любви украдкой. Я медицинская сестра и хорошо делаю свое дело. И я американка и открыто горжусь этим. Когда я смотрю на Верхнее озеро, или на долину Рут-ривер, или на береговые кручи Миссисипи за Ред-Уингом, все во мне замирает, и я шепчу: «Где тот, в ком сердце так мертво, чтоб не срывалось с уст его: «Вот он, мой край, мой край родной!» — и вспоминаю о том, что восемь поколений моих предков жили в Америке. А мы, потомки старинных династий, очень разборчивы в своих привязанностях.
Если бы у вас хватило мужества признать себя негром и ваша ледяная Вестл оттолкнула бы вас — о, я видела ее издали, на совещаниях по вопросам здравоохранения! — и вы бы прибежали ко мне обиженный, страдающий, я, может быть, полюбила бы вас — настоящей любовью, бэби! Но вас никогда на это не хватит… Вам вдруг станет страшно, и вы запищите: «Мама, Вестл!» — и влезете обратно в свою банкирскую шкуру, белей, чем генерал Джексон в воскресный день.
— Может быть, вы и правы, Софи, может быть, вы и правы.
Он смотрел на ее темно-алые губы, на выпуклость груди под жакетом мужского покроя. Он видел в ней женщину, горячую и влекущую, и видел в ней искушенную человеческую душу, которая знает зло, живущее в мире, и борется с ним смеясь. Ему нравился иронический склад ее губ, которых он никогда не видал злобно поджатыми, нравилась кофейная матовость ее щек, по сравнению с которой женщины Сильван-парка казались слинявшими. Но больше физической красоты пленяла его ее душевная сила.
— Да, — буркнул он. — Не знаю, решусь ли я открыться. Это значило бы поставить на карту слишком много. И потом — вы правы. Я люблю Вестл.
— Как будто я этого не знаю!
— Но если случится беда, я не уверен, хватит ли у нее сил остаться со мной. Как она может остаться? Она с детства привыкла верить, что бог создал мир единственно для того, чтобы увенчать свое творение Лигой Образованных Молодых Женщин. Но, значит, — когда… если вы будете нужны мне, я вас найду?
— Сомневаюсь.
— ?
— Милый, я, увы, не способна уже доказывать свою преданность доброму белому хозяину в критические минуты его борьбы за место в конгрессе от округа Плантагенет. Я могла бы полюбить вас любовью Казановы в юбке, — мне даже приятно рисовать себе, как я целую вас и как эти руки белокурого бога сжимают меня в объятиях, — но мои грешные мечты кончаются там же, где ваши аналогичные помыслы о сестрице Конкорд. Наш последний поцелуй уже состоялся. Ах, Нийл, милый мой поклонник в двухпроцентном растворе, какой великолепный Новый Негр вышел бы из вас, если б вы не были воспитаны, как богобоязненный белый джентльмен из фешенебельного пригорода! Но это так, и потому — прощай навек, недели на две, во всяком случае.
— Чушь!
— Простите, мистер Кингсблад?
— Все дело в том, что мы оба были честны — хоть и не очень деликатны — по отношению к Вестл, и это воздвигло между нами стену. Теперь я навсегда останусь у вас на совести.
— Нет, только в моей записной книжке. Ну, Нийл, дорогой, до свиданья… Черт возьми, неужели я когда-нибудь все-таки влюблюсь в вас, несчастный йорктаунский фельдфебель?
Дружба с Софи и с Ашем научила его критически относиться к суждениям белых о неграх, а таких суждений приходилось теперь выслушивать немало, потому что среди населения Гранд-Рипаблик все росла неприязнь к цветным фабричным рабочим, которых во время войны терпели как американских патриотов.
Стояли прощальные золотисто-пурпурные дни октября перед наступлением долгой северной зимы. В былые времена Нийл посвятил бы эту волшебную пору охоте и гольфу, а теперь он пользовался последним досугом без снега и льда, чтобы вприпрыжку носиться по кортам Теннисного клуба Сильван-парка с Вестл, среброрукой и быстрой.
Клуб не имел настоящего здания, только легкий павильон, похожий на сельскую школу, где хранились мячи и ракетки и были шкафчики для бутылок.
Тот день был полон радости жизни — белые шорты и фланелевые брюки игроков, звон ракеток, веселая перекличка счета, солнце, воздух, движение, осенние листья. Кончив игру, сидели на складных стульях у кортов и пили коктейли: ветераны Элиот Хансен и Джат Браулер, их жены: Кертис Хавок, Роберт, брат Нийла, со своей Элис, Рита Камбер, жена чудаковатого доктора, и подполковник Том Кренуэй, недавно вернувшийся к своей типографии, и его жена Вайолет, которая принимала горячее участие в разных реформах и добрых делах, но очень быстро замораживала их.
Все добрые друзья и соседи, думал Нийл, умиленный и признательный; как великодушно они соглашались, чтобы он, инвалид, портил им игру. Где еще найдешь такие добрососедские отношения, как здесь, на Среднем Западе? Здесь не знают ни подобострастия к именитым, ни борьбы за первенство между женами врачей, адвокатов и коммерсантов — всего того, что мешает свободно дышать в Европе, в Великобритании и британских колониях, включая Новую Англию. Его окружают преданные друзья и знаменосцы демократии.
Кто-то упомянул о заметке в сегодняшней газете: вчера в «Буги-Вуги» кого-то пырнули ножом; заговорили о том, что негритянское население Гранд-Рипаблик все увеличивается. Подполковник Кренуэй пожелал определить место негров в современной цивилизации, и все с охотой вызвались помочь ему. Кертис Хавок выведал всю подноготную про ниггеров от товарищей по морской пехоте, южан, а подполковник Кренуэй, когда был в учебных лагерях в Миссисипи, обедал у местных плантаторов и там узнал такие секреты, каких обычно северянам не доверяют.
Большинство присутствовавших приняло информацию Кренуэя — Хавока безоговорочно, только Рита Камбер и Нийл Кингсблад промолчали да Вайолет Кренуэй из кокетства заспорила по каким-то пунктам. Вайолет часто говорила, бестрепетно глядя в глаза пожилым джентльменам, повинным в филантропии или других грехах, что природа создала ее либеральной и интеллектуальной и тут уж просто ничего не поделаешь. Она состояла во всех существующих комитетах, была за и против всех существующих доктрин, хотя выделялась не столько своей деятельностью, сколько умением демонстрировать изящный бюстик и глаза с поволокой. Вайолет также не преминула заметить, что «очень хорошо изучила негров на практике, по личным наблюдениям», — это означало, что у нее однажды была чернокожая кухарка.
Так было выработано Американское Кредо о Неграх, которое мы здесь приводим в основных положениях:
Никто не вправе судить или даже разговаривать о неграх, кроме коренных южан или же северян, имеющих на Юге зимнюю дачу. Но всякий южанин, будь то профессор из Чаплхилла или набожная вдова из Блэк-джек-холлоу, является авторитетом по всем вопросам негритянской психологии, биологии и истории. При этом южные негры в понятие «южане» не включаются.
В детстве у всех южан (белых), а стало быть, и у рабочих с текстильных фабрик, имелись чернокожие нянюшки, которых они и их отцы, все сплошь полковники, любили просто без памяти.
Все негры, как один, независимо от оттенка кожи, ленивы, но добродушны, вороваты, распутны и склонны к человекоубийству, но очень любят детей, и все они постоянно распевают веселые песни о рабской доле. Эти песни называются спиричуэлс, они очень мелодичные, но смешные.
Все негры питают такое почтение к богоподобному белому человеку, что ни один негр не хотел бы, чтобы его принимали за белого, и все негры (читай: ниггеры) мечтают, чтобы их не опознали и считали белыми. Это называется Логика, излюбленный предмет в южных колледжах (для белых).
Всякий белый южанин при встрече со всяким негром, хотя бы судьей или конгрессменом, непременно скажет: «А, Джим, вот тебе доллар, черная образина, да ступай ко мне на кухню, там тебя накормят досыта». Поистине основной заботой для всех белых южан является благоденствие негров, а так как и сами негры стремятся к тому же, то мы с удовольствием можем отметить, что южные негры в смысле высокой оплаты труда, жилищных условий, а также всестороннего и глубокого образования составляют самую привилегированную общественную группу в истории человечества. Это называется Новый Индустриализм на Солнечном Юге.
Негры не люди, а промежуточный вид между обезьяной и полковником. Доказательством тому служит необыкновенная толщина их черепа, благодаря которой, как показали опыты, произведенные в Луизианском университете, можно сбрасывать им на голову кокосовые орехи, кузнечные молоты и очень большие камни, и они ничего не почувствуют, кроме легкой щекотки. Это называется Наука.
(Но все это в конце концов сводится к вопросу: согласились бы вы, чтобы ваша дочь вышла замуж на негра?)
Все негры, в том числе и биофизики и ректоры колледжей, если не околачиваются в кухнях у белых, то проводят время в пьянстве, игре в кости, религиозных бдениях и торговле наркотиками.
Лиц, утверждающих, будто негры по своим психологическим и социальным свойствам, а также способности к труду ничем не отличаются от белых, именуют «смутьянами», а их взгляды — «бреднями недоумков», и все хорошенькие женщины обязаны осаживать их словами: «Вот был бы здесь мой муж, он бы вас отхлестал плеткой за то, что вы внушаете черномазым всякие глупости». Это определяется как Лояльность, или Наследие Наших Доблестных Предков и особенно превозносится голливудскими Джексонами и Ли, финансирующими патриотические фильмы о героизме южан в Гражданской войне.
Даже если те чудаки, которые от нечего делать критикуют отношение белых к неграм, кой в чем и правы, выхода они предложить не могут, а у меня правило: никогда не слушать критиков, ставящих Проблему в Целом и не указывающих ее Практического Разрешения. «Очень разумно, — говорю я в таких случаях, — но я-то, по-вашему, что должен делать?»
Все негры постоянно затевают драки и чуть что — пускают в дело ножи, но все чернокожие солдаты избегают драк и боятся всех видов холодного оружия. Это относится к области знания, называемой Быт и Нравы.
Поскольку все негры ленивы, никто из них не зарабатывает больше одиннадцати долларов в неделю, но поскольку все они расточительны, то из этой суммы каждый тратит восемьдесят долларов в неделю на шелковые сорочки, радиоприемники и взносы в Погребальное Общество Биг-Крик-Аллилуйя.
(Здесь ни при чем предрассудки; просто каждый волен выбирать себе знакомых, и позвольте вам задать один вопрос: согласились бы вы, чтоб ваша дочь, сестра или тетка вышла замуж за цветного? Честно говоря, согласились бы?)
Все негры, переселившиеся в Чикаго, постоянно мерзнут там, особенно июльскими днями в прокатных цехах, и без конца тоскуют по теплу, по цветущему хлопку, магнолиям, овсянке, стручковому гороху, свинине, арбузам, маисовым лепешкам, банджо, южным тюрьмам и южным конгрессменам, и, стоит им увидеть заезжего белого южанина, они тотчас же бросаются к нему и горько сетуют на то, что покинули Юг и своих богоданных, естественных, южных арийских покровителей.
Все мужчины-негры обладают таким темпераментом, что ни одна белая женщина не может устоять перед их бесовскими чарами, и все мужчины-негры — такие грубые чудовища, что ни одна белая женщина не может почувствовать к ним влечения. Это называется Биология.
Все негры, которые ютятся на болотах, вполне довольны своей жизнью, и от души смеются над претензиями негров — врачей, адвокатов и прочей так называемой «интеллигенции».
(Нет, но что бы вы сказали, если бы к вам вдруг пожаловал здоровенный ниггер и объявил: «А я баловался с вашей дочкой»? А ведь тем и кончится, будьте уверены, если только черномазые станут зарабатывать столько же, сколько мы с вами.)
Ведь смешение рас никогда не дает хороших результатов. Этими сведениями мы обязаны англичанам, так же как и первыми ввезенными к нам значительными партиями рабов. Например, в мулате нет уже ни благородства и творческой фантазии белых, ни терпения и веселого нрава черных. Поэтому, если многие мулаты проявляют одаренность и высокие нравственные качества, то это потому, что в них много белой крови, а если многие черные-пречерные негры проявляют такую же одаренность и нравственные качества, то это нипочему, так как это просто неправда. Это называется Этнология, Евгеника или Уинстон Черчилль.
Негритянские газеты полны всяких выдумок о гонениях, которым якобы подвергают негров, но их можно было бы от этого отучить, показывая редакторам потихоньку конец веревки. Это называется Хорошее Воспитание.
Все негры, в том числе Уолтер Уайт, Ричард Райт и бригадный генерал Бенджамен Дэвис, носят очень смешные имена, как, например, «Сим Соубелли», «Клеопатра Гатч» или «Отченаш Пипсквик», что доказывает, что все негры — нелепые чудаки; а хотели бы вы, чтобы ваша дочь сделалась миссис Отченаш Пипсквик? Это называется Генеалогия.
Если писатель изображает негра, который говорит и действует, как нормальный американец, значит, этот писатель либо неосведомленный северянин, либо изменник, замысливший уничтожить цивилизацию.
В разговоре об образовании для негров, желая блеснуть глубиной и оригинальностью взглядов, следует начать с заявления: «Прежде чем учиться летать, пусть научатся ходить», — а затем, когда уже всплыла тема наследственности, принять глубокомысленный вид и пояснить: «Река не может подняться выше своих истоков». Это Риторический Прием, называемый Доказательством от Метафоры; особенно популярен у женщин и священников.
Все негры ничего не умеют, чем и объясняется, что они сумели прекрасно организоваться, чтобы в день получки оттеснять белых от окошка кассы, а белых женщин обречь на тяжкую и устрашающую участь домашних хозяек без прислуги, и этим даже возбудили зависть немецкого Генерального Штаба. В течение долгого времени все негритянки с утра до ночи кричали на белых дам: «Погоди, к рождеству ты у меня кухаркой будешь!» Я это точно знаю, потому что слыхал от моей тети Аннабел, честнейшей женщины.
Отдельные случаи дискриминации негров, может быть, и имеют место где-нибудь в отсталых районах Юга, но на Севере никакой дискриминации нет.
В сущности, можно заявить вполне авторитетно, что негритянская проблема неразрешима.
Не помню, рассказывал ли я вам анекдот о том, как один негритянский проповедник честил свою паству…
Когда с формулировкой Американского Кредо покончили, Джад Браулер заметил неуверенным тоном:
— Пожалуй, кое-что здесь преувеличено.
Но Вестл Кингсблад, проведшая свои студенческие годы в Виргинии, заявила:
— Нет, нет, общая картина совершенно правильная.
Братец Роберт, прапраправнук Ксавье Пика, размечтался:
— Я бы издал такой закон, чтобы считать преступником всякого, кто, имея хоть каплю негритянской крови, выдает себя за белого. Если б такой человек обманом ухитрился жениться на моей дочке, я бы его удушил вот этими руками.
Впрочем, руки, которыми при этом потрясал Роберт, были больше приспособлены для подписывания деловой корреспонденции, чем для удушения преступников.
Нийл молча поглядел на него, потом поглядел на всех своих соседей, добрых, милых, великодушных и образованных.
Тут Вайолет Кренуэй, восхищенная собственным глубокомыслием, запищала:
— Все вы не учитываете главного. Негры вовсе не такие плохие. Попадаются даже интеллигентные негры, которые ничем не хуже нас, то есть почти ничем. Но их ошибка в том, что они слишком торопятся, вместо того чтобы положиться на естественный ход событий и понемножку прогрессировать без посторонней помощи, так, чтобы когда-нибудь, в свое время, мы, белые, должны были признать их достижения.
Я всегда говорю своим цветным знакомым: «Да, да, я знаю, что среди людей вашей расы есть таланты, не получающие должного признания. Я и сама бунтарь по природе и считаю, что вы, негры, должны стараться вырвать у жизни все, что можно. Но позвольте напомнить вам одно обстоятельство, которого вы, видно, не заметили. Только что окончилась война. В Европе еще не все утряслось, и здесь, в США, тоже без конца то рабочие беспорядки, то одно, то другое, и хоть я всей душой за равноправие цветных и даже за общественное равенство когда-нибудь в будущем, но неужели вы не понимаете, что сейчас для этого не время!
И Нийл понял без чьих-либо объяснений, что из всего сказанного это было самое вредное и самое глупое.
32
Золото поблекло, на улицах была грязь, до ноября оставались считанные дни, и тут как-то Нийл сговорился позавтракать с Рэнди Спрюсом, секретарем Торговой Палаты, Люцианом Файрлоком, журналистом, который приехал из Джорджии и заведовал теперь отделом рекламы у Уоргейта, и Уилбуром Федерингом, который тоже совершил переселение с Юга на Север, но скорей по образцу рейдов генерала Моргана.
Уилбур был последней сенсацией в деловых кругах города; сорока пяти лет, маленький, чистенький и весь набит двадцатидолларовыми бумажками. Он родился в Миссисипи, в семье разорившегося бакалейщика, но ему больше нравилось, когда его считали потомком плантаторов. Рэнди в одной застольной речи в Бустер-клубе сказал: «Пусть Уилбур неотъемлем от Юга, как мексиканское тамале, но он близок Северу, как снежный буран, и обтекаем, как авиабомба».
У мистера Федеринга, помимо округления своего капитала, была еще особая миссия: раскрыть глаза жителям Гранд — Рипаблик на угрозу расового мятежа, неизбежного, как он утверждал, в городе, где за шесть лет его пребывания негритянская колония увеличилась с восьмисот человек до двух тысяч, что составляло почти 2 1/4 % всего городского населения, а по исчислению Уилбура, — 98 1/4 %.
Нийл встретился с ними в «Беседке» — отделанном кленовыми панелями коктейль-холле отеля «Пайнленд», откуда вся компания, пропустив по стаканчику, перешла завтракать в «Фьезоле». Присутствие цветных официантов навело их на разговор о Негритянской Проблеме.
— Ваша ошибка, ребята, — сказал Уилбур Федеринг, — в том, что вы смотрите на своих черномазых как на резервную рабочую силу, которую можно использовать для срыва стачек и борьбы с профсоюзами. Так оно было раньше, но теперь кое-какие из этих треклятых профсоюзов вздумали принимать и негров, как будто они тоже люди.
— Он, пожалуй, прав, — сказал Рэнди.
Они услыхали, как их друг Глен Тартан, управляющий «Пайнленда», спросил у официанта: «А где мистер Гриншо?»
Уилбур взвыл:
— Вот, не угодно ли? Мистер Гриншо! Черномазому лакею! Нет, вы, северяне, понятия не имеете о том, как обращаться с черными гориллами.
Люциан Файрлок возразил:
— Я и сам часто говорю неграм «мистер» — на разных заседаниях.
— Бросьте, Файрлок, вы просто любите порисоваться, — сказал Федеринг. — Я вот ни разу в жизни не сказал «мистер», или «миссис», или «мисс», обращаясь к цветному, даст бог, и впредь не буду. Тут ведь есть своя, так сказать, философия. Раз вы хоть одного из этих скотов назвали «мистер», значит, вы признали, что они не хуже вас, и вся ваша петрушка с Превосходством Белой Расы провалилась!
Люциан Файрлок, некогда надежда университетских кругов Джорджии, заспорил:
— Неужели о неграх всегда нужно говорить с ненавистью?
— А я вовсе их не ненавижу, черномазых. Они меня даже забавляют, честное слово. Это такие пройдохи, такие хитрые обезьяны, и все так хорошо танцуют, а встретят белого человека, вроде меня, который знает им цену, так только хохочут и сами готовы признать, что в рабстве им было бы куда повадней. Но вы, я вижу, из тех Новых Южных Либералов, которые кричат: что ниггера вполне можно пригласить к себе в дом обедать!
Люциан сказал серьезным тоном:
— Нет, я сторонник сегрегации. Это предотвращает неприятные столкновения. Но я также считаю, что наш долг — следить, чтобы негры имели при этом все то, что имеем мы сами. Вот, например, есть здесь один химик негр, доктор Аш Дэвис; я не пойду к нему в дом и не хочу, чтобы он ходил ко мне, но я считаю, что ему должны быть созданы самые лучшие условия жизни, потому что он того стоит.
Федеринг сердито запыхтел:
— Слыхал я об этом типе, и плевать мне на то, какие там у него условия жизни! То, что он у вас служит, — это вопиющее безобразие и несправедливость, если хотите знать: какой-нибудь белый молодой ученый трудился, ночей недосыпал в надежде получить потом хорошее место, — а тут, оказывается, на это место уже уселся хитростью и обманом какой-то грязный, толстый негр! Да неужели вы можете спокойно смотреть на это? А возьмите хоть этого черномазого метрдотеля! Нет того, чтобы скромно заметить Глену: «Пожалуйста, хозяин, не зовите меня «мистер», а то мне неловко перед белыми господами!» Как же, дожидайся! Это вы, янки…
И тут он вставил, так-таки вставил классическую фразу южан: «Я, знаете ли, до двенадцати лет все думал, что янки дурень — одно слово».
— Вы, янки, разбаловали его, и теперь с ним не сладить, пока не приласкаешь его черную шкуру хорошим кнутом.
Вспышку Нийла предотвратило восклицание Люциана:
— Ох, не говорите вы, как южный сенатор!
— А чем вам не угодили южные сенаторы? Может, они, конечно, народ и неотесанный, но уж в этом вопросе всегда говорят дело! Да! Я вот слышал, что у дочки нашего метрдотеля муж зубной врач! Можете вы себе представить — ниггер своими черными пальцами копается у людей во рту! Да его надо гнать в три шеи из города. Именно гнать, и когда-нибудь мы этим займемся. Вот увидите, ребята, вы еще скажете спасибо, что нашелся человек, который надоумил вас принять кой-какие меры, пока негры не затеяли беспорядков!
Нийл задыхался.
«Будь прокляты все белые, все до одного! Когда же я заговорю наконец? Когда я откроюсь?»
А дядюшка Бодэшес-Федеринг продолжал:
— Было время, и мы у себя на Юге держали в ресторанах цветных лакеев, да не таких вот, а вежливых, которые каждому белому говорили «сэр», даже если это был ночной сторож, — и то пришлось их повыгонять и заменить белыми официантками, потому что эти угольщики разлагались, слушая, как образованные негры за столиками толкуют про «расовые преследования», — все чушь и небылицы, понятно. Перевешал бы я всех тех любителей соваться не в свое дело, которые подговаривают ниггеров поступать в колледжи, — и признайтесь, Файрлок, что в глубине души вы согласны со мной.
— Нет, не согласен.
— Так ведь я и сам — человек мягкосердечный. Люблю собак, например. Но если моя собака вываляется в навозе, а потом полезет за мой стол…
Дальнейшего Нийл не слыхал. Он встал и вышел из комнаты.
Он сидел в коктейль-холле, среди кустарной мебели кленового дерева, под люстрой, похожей на колесо, увешанное стеклянными сосульками. Он медленно тянул из стакана чистую воду, а в ушах у него звенело и стучало в назойливом безостановочном ритме: «Я должен сказать, я должен сказать». Когда потом он осторожно пробирался через вестибюль, он увидел у конторки портье стройного, красивого темно-коричневого негра, одетого в серый костюм. Нийл решил, что это врач или учитель, отважившийся вместе со своей кроткой женой совершить автомобильную прогулку по родному краю.
Портье кричал на весь вестибюль:
— Мистер Тартан, выйдите, пожалуйста, сюда на минутку!
Год назад Нийл, разумеется, не остановился бы, ничего бы не увидел и не услышал. Но сейчас он ясно услыхал, как Глен Тартан говорил незнакомцу:
— Ну да, док, я знаю, такой закон в Миннесоте существует — очень, кстати, неправильный и несправедливый закон, хотел бы я посмотреть, что запели бы наши законодатели, если бы их заставили пускать к себе в дом людей, которые им не нравятся. Но закон законом, а я прошу вас понять — вы, видно, человек неглупый, — что приличная публика недовольна, когда ваш брат втирается сюда. Так что вы нас очень обяжете, если поищете другой отель.
Муж и жена молча повернулись и пошли к выходу. У самых дверей Нийл остановил их:
— Поезжайте в «Блэкстон»; это в Файв Пойнтс, на углу Астор и Омаха-авеню, там как будто чисто и удобно.
Негр ответил:
— Может быть, это неделикатно, но я хотел бы сказать, что люди моей расы не привыкли к такой любезности со стороны белого человека.
— Я не белый. Я тоже цветной, слава богу.
Так и сказал.
33
Неподалеку, у себя в саду, отец Нийла сметал в кучи последние опавшие листья. Нийл направился к нему, ни о чем не думая, словно устав после многих прощаний.
Дом доктора Кеннета Кингсблада числился среди древностей Сильван-парка: ему было уже тридцать лет! Дом был деревянный, потемневший от времени, и на фоне всех разнокалиберных архитектурных деталей, его составлявших, в памяти оставались разве что висячий балкон на третьем этаже да коричневый обливной кувшин с папоротником между кружевными занавесками большого окна, выходившего на парадное крыльцо. Это был дом простой и задушевный, как стихи Лонгфелло.
Доктор Кеннет бодро затараторил:
— Очень рад, что ты зашел, мой мальчик, теперь я хоть знаю, что ты жив. Все живешь на Севере, в Гранд-Рипаблик, а?
— Если вообще можно жить в таком холодище.
— Слышал, что ты служишь в банке. Хоть бы собрался написать мне про свои дела.
— Я боялся, что ты будешь шокирован.
— Нет, серьезно, как твои изыскания? Я не слишком близко принимаю к сердцу свою родословную, но, понимаешь ли, к чему-то это обязывает, если в тебе голубая кровь — красная, белая и голубая. Noblesse oblige![7]
Нийл заговорил тусклым голосом, без намерения совершить жестокость, но и без особого желания проявить милосердие:
— Возможно, папа, что у тебя кровь красно-бело-голубая, но у меня, если следовать твоей классификации, кровь черная, и это меня вполне устраивает.
— Ты что…
— Я обнаружил, что в маминой семье была негритянская примесь, а значит, это относится и ко мне.
— Что за шутки, Нийл? Мне это не нравится.
— Среди маминых предков по женской линии был один фронтирсмен — чистокровный негр, кстати сказать, женатый на индианке чиппева. Неужели она никогда тебе не говорила?
— Твоя мать не говорила мне ничего подобного, и я в жизни не слышал таких подлых сплетен и слышать не желаю! По женской линии она происходит из очень хорошей французской семьи, и больше я знать ничего не знаю. Господи милостивый, да ты что, хочешь свою родную мать — мою жену — превратить в негритянку?
— Я ее ни во что не хочу превращать, папа.
— Все это гнусная клевета, и попробуй кто-нибудь другой повторить ее, такого человека живо упрятали бы в тюрьму, уж поверь моему слову. Забудь об этих чиппева и ниггерах, в тебе нет ни капли их крови.
— Разве ты не можешь сказать негров?
— Нет, не могу, и не хочу, и не подумаю, и, пожалуйста, имей в виду… Боже мой, мальчик, ведь я-то, твой отец, должен знать, кто были твои предки, и уверяю тебя, в тебе нет ни на йоту неполноценной или дикарской крови, мне ли не знать, я же изучал бактериологию! Нийл, мальчик мой, во имя всего святого, постарайся понять, как все это серьезно и страшно! Даже если бы это была правда, ты обязан, скрыть ее ради твоей матери, ради твоего ребенка. Обязан!
— Я старался, папа, но знаю, долго ли еще смогу выдержать. Да и не скажу, чтобы мне этого очень хотелось. Пожалуй, я сейчас лучше отношусь ко многим так называемым цветным, чем к большинству белых.
— Не смеешь ты это говорить! Это безумие, это предательство, это измена расе, родине, религии — и это очень повредило бы твоей карьере в банке! Да, гм… Кто бишь был этот самозваный фронтирсмен?
— Ксавье Пик.
— Но с чего ты взял, что он был цветной?
— Узнал от бабушки Жюли, из архивов Исторического общества, из писем самого Ксавье.
Он был бы рад пощадить своего доброго, недалекого старика отца, но ему нужно было вступить в ряды борцов против Уилбура Федеринга, и он не считал, что Мэри Вулкейп — менее достойная подруга для его матери, чем миссис Федеринг.
Под конец доктор Кеннет совсем растерялся и только просил Нийла:
— Ты просто обязан молчать, пока я все это обдумаю, приведу мысли в порядок.
Нийл подумал, что это значит — до гробовой доски, но пробормотал что-то похожее на обещание.
Холодным осенним вечером в синей гостиной с терракотовыми занавесями, с каминными часами, которые в Гранд-Рипаблик считаются символом респектабельности, Бидди вырезала из бумаги кукол, хотя ей уже пора была спать — обычное дело! — Вестл писала письма и слушала по радио хоккейный матч, а Нийл проглядывал в «Тайм» раздел «Торговля и Финансы» и ясно видел при мерцающем свете электрического камина, что вся эта негритянская фантасмагория яйца выеденного не стоит и что он поступил жестоко, не подумав о том, как отнесется к делу отец.
Звонок. Вестл пошла открыть. Вернувшись в гостиную, она равнодушно сказала:
— Тебя спрашивает какая-то цветная женщина, что-то насчет комитета по вспомоществованию. — И снова взялась за свои письма, не терзаясь вещими страхами, хотя только что впустила в дом Софи Конкорд.
Софи торопилась:
— Нет, лучше постоим здесь, в передней. Говорите тихо. Я видела Ивена Брустера. Мы — ваши друзья — считаем, что вам не следует разглашать, что вы негр, и мы боимся, не затеваете ли вы какую-нибудь мелодраму. Мы-то с рождения ко всему приучены, но вам незачем подвергать себя этому, притом же вы, оставаясь белым, тоже можете очень много для нас сделать. Сколько мы одних денег из вас вытянем! Нийл, не надо ничего говорить! Я могла просто позвонить вам, но мне очень хотелось увидеть ваш дом, и вашу малышку, и еще раз увидеть вашу жену. Она красива, как скаковая лошадка. Никуда вам от них не уйти. Прощайте, милый, и молчите!
Софи исчезла за сеткой серых снежных хлопьев.
В гостиной Вестл спросила, не оборачиваясь:
— Кто такая?
— Сестра из городской больницы. Мисс Конкорд.
— Мм… ах да, Нийл, я тебе рассказывала, что Джинни Тимберлейн прислали из одного австрийского магазина в Нью-Йорке изумительный вязаный костюм — синий, вышитый? Надо и мне заказать такой.
Нийл согласился, что мысль разумная.
А в середине ноября, не объясняя причины, не посоветовавшись с Нийлом, доктор Кеннет Кингсблад созвал семейный совет.
34
Нийл был в Федеральном клубе, на вечернем заседании финансовой комиссии, когда отец позвонил ему по телефону:
— Нам с мамой нужно немедленно тебя видеть. Дело очень важное. Можешь ты быть у нас не позже, чем через сорок минут? Хорошо.
О том, что предстоит совет, Нийл и не догадывался, он даже не знал, что Вестл тоже будет там. Посвистывая, он прошел через узкий, устланный бобриком холл отцовского дома в «парадную» гостиную и замер на пороге при виде всех своих родственников, которые, расположившись на ковровых креслах, на диване цвета яичного желтка и на полу, под сенью «Отцов Пилигримов», видов Венеции и зимних пейзажей с санями, рассматривали друг друга, пепельницы-сувениры и альбом нью-йоркской всемирной выставки.
Всего, включая Нийла с родителями и Вестл, здесь собралось пятнадцать человек, и никто из них, кроме доктора Кеннета, не знал, зачем их созвали. Братец Роберт с женой Элис и с ними ее брат, сам Харолд В.Уиттик, большой человек в мире радио и рекламы; сестра Китти и ее муж, юрист Чарльз Сэйворд; незамужняя сестра Нийла Джоан и Саксинары — дядя Эмери с тетей Лорой и Патрицией. Для вящей законности доктор Кеннет озаботился также приглашением столь важных особ, как отец Вестл, Мортон Бихаус, и его брат Оливер, старшина адвокатского сословия Гранд-Рипаблик, единственный в городе знаток коньяка «Наполеон» и од Пиндара.
Оливер Бихаус был коренастый, с огромной веснушчатой лысиной, окруженной бахромой жидких, светло-желтых волос. С его бледного, в веснушках лица не сходила кислая гримаса, вызванная коварными кознями врагов капитализма. У его брата, Мортона, который был повыше ростом и на четыре года моложе, веснушки отсутствовали, но зато правую его щеку украшало небольшое родимое пятно.
Пат Саксинар, Вестл и Джоан хихикали в уголке над старосветскостью дома и старших родичей, а те вполголоса справлялись друг у друга о причине сборища, в то время как мать Нийла сидела одна, как всегда молчаливая и хрупкая, а доктор Кеннет с таинственным видом разливал лимонад.
Так выглядел зал суда, когда в дверях появился Нийл.
Его встретили улыбками, ибо все знали, что, если их действительно ждут неприятные известия, никто не даст более здравого совета, чем общий любимец Нийл.
Доктор Кеннет испуганно замахал руками и крикнул:
— Вы, молодежь, встаньте, пожалуйста, с пола и сядьте как следует. Оливер, усаживайтесь вот сюда, в плюшевое кресло. И прошу вас выслушать меня внимательно.
Мой сын Нийл, которым я до сих пор мог по праву гордиться и жену и дочку которого я от души люблю, удивил меня, выразив желание сделать нечто, по моему мнению, непозволительное, могу даже сказать, ошеломившее меня, нечто такое, о чем, насколько я понимаю, даже Вестл не осведомлена и чего я, безусловно, не допущу, не спросив предварительно вашего совета. Сейчас он вам сам в этом признается. Нийл!
Доктор Кеннет опустился на тонконогий золоченый стул, и Нийл почувствовал острую жалость к отцу, но все же он встал и заговорил спокойно, как человек на эшафоте, уже не надеющийся на помилование:
— Я узнал, что прапрадедом моей матери — возможно, она и сама этого не знает, — был некий Ксавье Пик, который жил примерно с тысяча семьсот девяностого по тысяча восемьсот пятидесятый год, исходил северную границу Миннесоты, был отважный и благородный пионер, предок, которым все мы можем гордиться, и притом — чистокровный негр. А значит, по букве закона, все мы — либо негры, либо связаны с неграми близким родством.
Тут речь его потонула в хоре яростных возгласов, опровержений, криков, что он сошел с ума. Вестл пылала безмолвным изумлением, — как он мог ей ничего не сказать. Только его мать и кузина Пат остались спокойны. Он поднял руку, и гомон постепенно стих. Он рассказал о своем разговоре с бабушкой Жюли, о находках доктора Вервейса и закончил так:
— Несколько месяцев тому назад мне было бы страшно или стыдно сообщить вам это, но теперь я понял, что стыдно нам должно быть только перед неграми, индейцами, народами восточных стран — стыдно за то зло, которое причинялось им веками…
Оливер Бихаус взял слово, даже не потрудившись встать:
— Итак, молодой человек, вы решили, что исправите это зло тем, что смертельно оскорбите всех нас, ваших родных и друзей, от которых всегда видели только любовь и готовность помочь вам, — погубите даже свою жену — мою племянницу! Немедленно прекратите эту комедию, перестаньте изображать из себя героя. Довольно с нас вашего бесстыдства!
Нийл сказал негромко:
— Подите вы к черту!
— Что?
— Вы меня слышали. Нечего разыгрывать верховный суд. Может, я ничего бы и не сказал, если бы папа не созвал этот синклит, а вы не назначили бы себя судьей, но раз уж так, остается решить вопрос: надо мне поступить честно и сказать всему свету правду о том, что мы такое? Ох, мамочка, прости, что я впутал тебя в это!
Мнения растревоженного племени были высказаны не так отчетливо и гладко, как они изложены здесь, — все перемешалось: стоны, божба, протесты, грозные возгласы Оливера, кажется, смех Пат Саксинар. Доктор Кеннет произнес:
— Нийл, мы все, по-видимому, согласны в том, что, если ты обещаешь ничего не говорить посторонним, мы постараемся предать это забвению.
Поскольку Нийл уже сказал Вулкейпам, Ашу, Софи, Ивену, он не сразу нашелся, что ответить, и отец воспарил:
— Вот ты утверждаешь, что правда тебе дороже всего, а где же тут правда, если ты свою родную мать, которая дала тебе жизнь, произвел в ниггеры, когда ничего подобного нет?
— Я не…
— Да какому же разумному человеку придет в голову назвать ниггерами твою дочь, бабку и братьев с сестрами? — упорствовал доктор Кеннет. — Тебе что, будет очень приятно, если твоя Бидди станет грязной бродяжкой, как все ниггеры?
— Негры! И бродяжкой она не станет; будет такая же, какая есть. Она не изменится, это ваши взгляды должны измениться. И, пожалуйста, перестаньте говорить «ниггер». Это-то, кажется, нетрудно!
— А вы, если уж вам обязательно нужно терзать своих родных, перестаньте придираться к словам! — рявкнул Оливер Бихаус.
Доктор Кеннет тянул свое:
— Слушай, мальчик, не всегда нужно говорить все, что знаешь. Ну, представь себе, что я был бы наркоманом. Ведь ты не стал бы болтать направо и налево, что я…
— Но ведь ты не наркоман, дядя Кеннет? — перебил его голосок Пат Саксинар. — Или, может быть, ты скрывал это?
— Молчать! — прогремел ее отец, дядя Эмери, сын бабушки Жюли, отнюдь не обрадованный тем, что его причислили к неграм.
Его супруга (урожденная Педик, из Уиноны) добавила:
— Сейчас не время дерзить. Патриция. Я очень жалею, что разрешила тебе вступить в женский отряд.
Братец Роберт попросту отрицал все, от начала до конца.
По его словам, Нийл рехнулся, ранение сказалось, но даже если эта мерзкая история — правда, — хотя где там, просто бабушка Жюли от старости все перепутала, — как это доказать? Доказательств нет. Письмо Ксавье Пика? Подумаешь! Подделка.
Чарльз Сэйворд предложил:
— Забудем об этом. Не унывайте. Ни по каким законам мы не обязаны сами себя обвинять.
Это послужило предисловием к обстоятельной речи Оливера Бихауса:
— Нийл, я поразмыслил и признаю, что был не прав, а вы, мой мальчик, совершенно правы, когда утверждаете, что мы как воспитанные люди должны называть темнокожее население нашей страны не ниггерами, а неграми. Мы ценим достойные качества лучших представителей негритянской расы, ценили их еще тогда, когда вас на свете не было! Разве Т.Р. в бытность свою президентом не пригласил на завтрак Букера Т.Вашингтона? (Поверьте мне, этого и Ф.Д.Р. не сделал бы!) Но такие сорвиголовы, как вы, которые требуют для этих несчастных больше того, что они способны воспринять, того, чего наиболее порядочные из них и не вздумали бы требовать, — такие люди попросту вмешиваются в размеренный ход эволюции, и… и хватит говорить об этом, Нийл, постарайтесь проявить хоть каплю здравого смысла! А что касается документов о Ксавье Пике, то, хотя никто из нас лично и не станет совершать противозаконных поступков, все же я думаю, что в один прекрасный день этих бумаг может не оказаться в архивах исторического общества, и тогда все мы вздохнем свободно!
Бодрая улыбка Оливера говорила: «Мужайся, мой юный друг», — и Нийл уже приготовился услышать архангельский глас: «Ходатайство удовлетворить», — но молчание в зале суда нарушил пронзительный крик. Шурин Роберта Харолд Уиттик вопил:
— К черту Нийла с его «правдой»! Безобразие в том, что в это впутали мою сестру, что она оказалась замужем за ниггером Бобом. А как это отразится на моем рекламном предприятии, об этом я и думать боюсь!
Элис взвизгнула:
— Да, да, безобразие! — Она устремила на Роберта взгляд, полный отвращения, и прошипела: — Теперь я понимаю, почему ты так возмутительно ведешь себя в ванной!
Роберт, человек глупый, привязанный к дому и ночным туфлям, запричитал:
— Господи, да разве я виноват, если во мне есть подпорченная кровь? Но ты же слышала, что я сказал, — я отрицаю эту выдумку с первого до последнего слова, Нийл попросту помешанный!
— Хуже, чем помешанный, — сказал Мортон Бихаус.
Тетя Лора Саксинар, чувствуя себя выше всех этих вульгарных пререканий, снисходительно заявила:
— Это скандальная история, к которой я не желаю иметь никакого касательства. Мой муж сам скажет вам, считает он себя чернокожим или нет. Но что до моей дочери Патриции, так я не только чувствую сердцем матери, но и вижу глазами матери, что она безусловно не… не негритянка, если уж вам угодно так называть этих уродов, — и к тому же я слышала, что они абсолютно не способны к иностранным языкам, а Патриция у меня говорит по-французски, как француженка!
Ее муж, дядя Эмери, поглядел на нее не слишком нежно и прорычал:
— Очень благодарен тебе за разрешение самому определить мою расовую принадлежность! Так вот, Нийл говорит, что его мать, его родная мать — негритоска, но, между прочим, она приходится мне сестрой, и позвольте заявить вам раз и навсегда, что ни она, ни я не ниггеры, а если я произошел от какого-то Ксавье Пика, о котором я и слыхом не слыхал, могу сказать вам с полной достоверностью, что ниггером он, черт возьми, не был, и это, к сожалению, относится также и к Нийлу, хотя сейчас ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем разоблачить тебя как последнюю черную гадину, понял, мерзавец? — вот только что это и нас бы всех замарало. А что касается моей семьи…
Ему не дала договорить младшая сестра Нийла — Джоан:
— Ради бога, дядя Эмери, замолчи ты про свою семью. У вас жизнь прошла, ты женат, и тетя Лора не может тебя оставить, а я? Мне-то как быть? Джонни теперь на мне не женится, скажет, что я обманула его, скрыла, какой я расы, а я и не знала, я ничего не знала! Ах, Нийл, что ты со мной сделал! Я никогда, никогда тебя не обижала! А теперь я всю жизнь буду как зачумленная из-за какой-то твоей дурацкой идеи о справедливости. За что? Как ты мог нарочно меня так унизить, ведь теперь мне всю жизнь надо прятаться от людей, никто не захочет со мной дружить, никто меня не полюбит, а я была так счастлива с Джонни! Ох, зачем, зачем ты это сделал?
А его старшая сестра, Китти Сэйворд, верный друг его детских лет, смотрела на него, безмолвно ужасаясь тому, что он мог ее погубить, когда она так его любила.
— Ему стало страшно, он готов был крикнуть, что все это — шутка одержимого, но тут на помощь ему пришла тихая женщина — его мать.
Все они были с ней особенно нежны, — ведь она была такая слабая, словно не от мира сего. Муж успокаивающе и любовно положил руку ей на плечо, Джоан гладила ее по голове, Нийл бросал на нее виноватые взгляды. Но теперь она заговорила более внятно, чем все остальные. Когда она подняла руку, свара затихла, и они ясно услышали:
— Минуточку! Я думаю, что Нийл, вероятно, прав.
Взрыв негодующих голосов, потом — напряженная тишина.
— Мне всегда казалось странным, почему придают такое значение, «белый» человек или «черный», если близкие его любят, но вас это, по-видимому, так волнует, что придется вам рассказать.
Когда я была совсем маленькая, к нам раза два заходил мой дядя, брат моей матери, дядя Бенуа Пезо, но заходил он, только когда папы не бывало дома. Я тогда еще думала, что он похож на негра, хоть и не черный. Мама никогда не говорила о нем. Он был игрок и потом куда-то исчез, и я не знаю, жив он или умер.
Я как-то спросила маму: а может быть, дядя Бенуа цветной? Но она меня нашлепала и велела молчать, и я забыла об этом и вспомнила только сейчас. Теперь я думаю, может быть, я себя заставила забыть, и мама тоже. Она, мне кажется, знает про нас, про то, что мы… ну, вы понимаете.
У нее был каменный амулет, и однажды она мне сказала, что он привезен с Мартиники лет полтораста назад, а потом, много лет спустя, я стала искать его и не нашла, а когда спросила ее, она страшно рассердилась и сказала, что никогда у нас такой вещи не было. Я не знаю. Может быть, мне все это почудилось. Но не браните Нийла за то, что он пытается сказать правду.
Доктор Кеннет торжествовал:
— Вот видишь, Нийл? У твоей матери достало ума и замечательной силы воли, чтобы попросту забыть зло и помнить только добро, как учит библия… Мать, я тебя прошу, прикажи Нийлу, чтобы он не смел убеждать себя и других, что эта злосчастная выдумка — правда.
Жена его задумалась.
— Не знаю, Кенни. Если это действительно правда…
Тогда сорвался Роберт:
— Мама! Бог тебя покарает, если ты сделаешь из меня ниггера, когда на самом деле я белый и порядочный человек, и дела у меня идут так успешно — нет, я с ума сойду! Вы с Нийлом совсем задурили мне голову, но это гнусные измышления, и все из-за какого-то чертова амулета, подумаешь, мало ли откуда он мог к вам попасть, да ты сама не уверена — может, его и не было! Элис, дорогая, ты же видишь, что я белый? Все это ложь, я белый, и дети наши белые! Белые! Не желаю я пропадать из-за того, что Нийл лишился рассудка! Я белый, и не поздоровится той сволочи, которая попробует доказать обратное. Посмотри же на меня, Элис!
Она посмотрела.
Голос Пат Саксинар звучал холодно и четко:
— Вы все говорите так, точно «цветной» — это низшая порода людей, а я в этом отнюдь не уверена. Меня всегда бесила дискриминация в отношении очень славных цветных моряков, и хотелось как-то с ней бороться, а вот теперь, когда я сама цветная, я и буду бороться.
Казалось, на этот раз негодующим возгласам не будет конца, и Нийл оглянулся на Вестл.
До сих пор она только взволнованно молчала. Когда он прошептал: «Ну что?» — она ответила:
— Дай мне подумать. Я, конечно, немножко удивлена.
Во втором часу глаза ее сказали Нийлу, что пора идти домой, но поскольку ничего не было решено, поскольку даже доктор Кеннет, видимо, намеревался не спать и ужасаться всю ночь, уйти им было трудно.
Все же им это удалось, когда они сделали вид, что внезапно оглохли, и теперь неразгаданный негр Нийл остался наедине со своей белой женой — без союзников.
35
До дому было всего три минуты ходьбы. Вестл, доверчиво взяв его под руку, шла молча до самой их двери и только там заговорила естественно, без гнева и без нарочитой сдержанности:
— Милый, почему ты не сказал мне раньше? Я бы постаралась понять и помочь.
— Я хотел. Это папа поторопился, не дал мне даже сообразить, что я скажу. Но ты и теперь можешь мне помочь. Главный вопрос — должен ли я признать это открыто? Ведь это правда!
— Тише. Помолчи. Я знаю, как ты поступишь, потому что знаю тебя! — Она прижала палец к его губам и увлекла его за собой в комнаты. Держа его за руку, словно вернулись юные дни их любви, она провела его в бело-розовую детскую, где спала Бидди, свернувшись клубочком, с сосредоточенным, серьезным выражением, а в ногах низкой кроватки, тоже свернувшись, спал Принц. — Посмотри на нее, Нийл. Я знаю, ее ты никому не позволишь обидеть и опозорить, и даже если правда, что Пик был цветным, ты не предашь это гласности, не обречешь ее на муки, чтобы удовлетворить свое тщеславное стремление к правде. Но я-то уверена твердо, бесповоротно, так же уверена, как в твоей любви и в нашем бессмертии, что все это неправда! Бабушка Жюли что-нибудь перепутала — она старая, где же ей все помнить, — да она всегда была злющая, ну ее, старую колдунью! Мы выясним, что был другой Ксавье Пик или Пико, или Пике, или как его там звали, этого противного дядьку! Вот увидишь! Все обойдется, Нийл! Посмотри на нашу девочку, какая она розовая, атласная, золотая. И это в ней негритянская кровь?!
Но Нийлу вспомнилась Феба Вулкейп — розовая, атласная, золотая — и негритянка!
— Хорошо, увидим, — вот все, что он мог ответить.
На следующее утро отец сообщил ему по телефону резолюцию, принятую накануне семьей под председательством адвоката Бихауса: по единодушному мнению всех собравшихся Нийл должен молчать.
А несколько недель спустя Нийл получил от доктора Вервейса копию письма Ксавье Пика майору Джозефу Реншо Брауну, которое он разыскал в архивах Исторического общества:
«Бобров, о которых вы спрашиваете, в нынешнем году мало. Белые опустошают наши леса. Я много думал о вас, белых людях. Правда, для оджибвеев я тоже белый, поскольку они различают только белых и индейцев, но, пожалуй, я уж предпочел бы, чтобы меня считали индейцем.
Вы мне как-то сказали: «Почему вы не хотите презреть людское мнение и гордиться вашим черным лицом?» Но к чему мне объяснять это, или оправдывать, или вообще думать об этом? К чему человеку с рыжими волосами оправдываться перед черноволосыми, белокурыми, русыми?
Вы, белые люди, говорите, что созданы по образу и подобию божию, но кто из вас видел бога? Вы видели генерала Сибли и губернатора Рамсея, но бога вы не видели. Может быть, он темный с лица, как индейцы и я, а может быть, он — всех цветов, а может быть, — совсем без цвета, как скала, освещенная луной.
Последнее время я много читал священное писание и нашел подходящий текст для вас, белых: «Ненавидящий меня ненавидит отца моего». Не обессудьте за почерк, руки у меня немеют, я их отморозил на прошлой неделе, когда вытаскивал из воды одного миссионера, у которого лодка опрокинулась на порогах, а он меня спросил: «Умеете ли вы и здешние язычники-индейцы читать и писать?»
Нийл пришел в восторг — вот поистине царственный предок, которым Бидди может гордиться! Потом он рассмеялся. Он услышал язвительный голос Клема Брэзенстара: «Этим-то вы, мулаты, и плохи. Обязательно вам подавай что-нибудь необыкновенное, когда нас, простых негров, вполне устроила бы хорошая работа и хорошая сигара!»
Наступил декабрь, было холодно, приближалось рождество. Все это время родные избегали Нийла, встречаясь с ним только на экстренных семейных совещаниях, где один Чарльз Сэйворд держался вполне по-человечески — неизменно враждебно. Остальные либо дулись, либо были невыносимо почтительны.
То и дело забегала Пат Саксинар. К немалой досаде Вестл, Пат, видимо, считала себя и Нийла участниками тайного заговора и, захлебываясь, рассказывала Нийлу, как Харолд Уиттик и Элис все принюхиваются к братцу Роберту, чтобы проверить, действительно ли он совершил такое гнусное преступление — позволил себе родиться негром.
Вестл больше не заговаривала о «другом Ксавье Пике», и Нийл догадывался, что хотя она и отказывается верить в его пегое происхождение, но в глубине души поверила и уже ни на что не надеется. Она брала Бидди на колени и подолгу смотрела на нее.
Он вспоминал, как год назад она с легким сердцем несла священные предрождественские повинности, а теперь она только вздыхала: «После войны еще так мало делают красивых вещей; не нужно нам в этом году новых елочных украшений, сойдут и старые». С болью в сердце он видел, что она теряет вкус к жизни и что виною тому он сам со своей социальной справедливостью.
Все же они постарались обставить рождественские закупки по-праздничному. Они вместе позавтракали в «Фьезоле», поглядывая на ничего не подозревающего Дрекселя Гриншо, как на нежеланного родственника. С волною других покупателей их внесло в «Эмпориум» Тарра. Леви Тарр, четыре месяца тому назад бывший полковником, теперь опять учился потирать руки и быть благоговейно внимательным с дамами, желавшими купить электрический холодильник за сорок девять долларов девяносто пять центов. Он сам водил Нийла и Вестл по отделу игрушек, запросто называя их по имени, а когда они с наигранной таинственностью расстались, чтобы купить подарки друг другу, он шепнул Нийлу, что может предложить ему прелестную вещицу для Вестл — бриллиантовый гарнитур: браслет, колье и серьги.
Выйдя из «Эмпориума», они брели к стоянке, где оставили свой автомобиль, и бодрая святочная болтовня Вестл звучала примерно так:
— Ну и движение, просто не пройти! Я думала, за войну все машины износились, так нет, у этих болванов их больше прежнего. Посмотри, вон та спортивная хороша — бледно-лиловая. Ото, а погляди, кто за рулем — этот ужасный ниггер Борус Багдолл. Ой, прости! Честное слово, прости милый! Я забыла. Да, знаешь ли, не так-то быстро это укладывается в мозгу.
В семье по молчаливому соглашению считалось, что «пока» Нийл никому ничего не скажет. Когда кончится это «пока», установлено не было. Но он жил в постоянном страхе, как бы весть о его чудесном превращении не проникла наружу — через замешательство брата Роберта или ярость дяди Эмери, излишнюю смелость Пат Саксинар или злобное попустительство Харолда Уиттика. Сколько человек уже знает? Пятнадцать в семье да восемь-десять человек цветных — слишком, слишком много! А кто еще знает или подозревает, сторожит и высматривает, готовый поднести спичку, чтобы спалить его?
На ужине у Элиота Хансена, когда Вайолет Кренуэй щебетала Нийлу: «Ах, все вы, рыжие, какие-то особенные», — что она хотела сказать? Откуда ей могло быть известно про письмо Ксавье о рыжих и черноволосых?
На ежегодном зимнем празднике у Экли Уоргейта что имела в виду Помона Браулер, когда вдруг запела старую песню «Dans mon chemin»? На этом празднике Нийла не покидало тягостное чувство, словно он навсегда прощается с легкой жизнью белого человека: шумные гости, съезжающиеся в санях к большому охотничьему дому Экли на берегу замерзшего озера Райфлсток; старые друзья, смоляные факелы, бледные отблески заката в конце просеки, женщины, горячий пунш, буйное пение традиционных песен «Когда Нелли домой провожали» и «Я работал на дороге».
Да, все это было чудесно, но почему Экли так внимательно приглядывался к нему?
Нийл чувствовал себя в большей безопасности, когда перед самыми праздниками отправился в Файв Пойнтс со скромными подарками для Брустеров, Дэвисов, Вулкейпов, для всех, кроме Софи, — он боялся совершить промах.
Он посидел часок с Мэри Вулкейп, которую все это время навещал раза два-три в месяц. С ней он обретал покой и уверенность, которые даются общностью повседневных интересов, — то, что он когда-то ценил в отношениях с матерью и Вестл: не спеша жевать пышку, во всех подробностях обсуждать вопрос о том, показывал ли сегодня термометр восемь градусов мороза или только семь.
— Не огорчайся, сынок, — сказала Мэри-несокрушимая. — Ты и не знаешь, сколько у тебя друзей.
У Брустеров он застал только Уинтропа, недавно приехавшего домой на каникулы после первого семестра в университете. Сей типичный представитель нашей жизнерадостной студенческой молодежи, в свитере и мокасинах, встретил его радостными воплями:
— Нийл! А я только что узнал, что вы перешли в мою расу! До чего же я рад, просто сказать не могу.
— Откуда вы узнали?
— Слышал, как папа и мама сокрушались о вас.
С преувеличенной сердечностью пожимая руку своему юному поклоннику, Нийл ощущал беспокойство. Мало ли кто еще мог услышать! Все так легко могло обнаружиться.
— Ну и ладно, — сказал он без особого подъема.
Но ему льстило, что этот незаурядный мальчик видит в нем друга, с которым можно сбросить маску прожженного циника — обычную защиту всякого юноши от скучного и нравоучительного мира взрослых.
— Нийл! Может, вы и правда примете участие в расовой борьбе и укажете нам какие-то новые пути. Хорошо, если бы вы вправили мозги нашим фанатикам, а то они до того чувствительны, что предлагают цветным газетам печатать Страшное Слово так: «Н..Р», — и чуть не в обморок падают, когда белые ребята распевают безобидную песенку вроде «Вечер был, и негры пели». Пари держу, что они и реку Нигер готовы переименовать в «Негр». Вы бы их высмеяли как следует, а? Ух, да вы бы могли стать одним из вождей нашего народа!
Нийла такая вера вознаграждала за томительные дни, когда он старался не замечать шушуканья родственников за его спиной, секретных ночных разговоров по телефону.
Где бы он ни был, глаза Семьи преследовали его.
Чарльз Сэйворд, которого он всегда считал самым веселым, разумным и порядочным из всех родственников, теперь наиболее демонстративно его сторонился. Он попросту перечеркнул Нийла вместе со вздорными слухами, будто в Китти могла быть «негритянская кровь». Чарльз отличался простодушной тупостью маленького человека, в совершенстве знающего свое маленькое дело, и теперь Китти в нем искала ту радость, которую она когда-то находила в дружбе с братом по имени Нийл, недавно скончавшимся, — очень прискорбно, но не будем об этом говорить.
В известной мере ему сочувствовали только его мать, Вестл и Пат Саксинар. Но мать, хоть и была с ним нежна и не упрекала его ни в чем, теперь уверяла, что она все обдумала, и ей открылось, что дядя Бенуа не был ни игроком, ни цветным, но почтенным арийцем и чем-то вроде инкассатора.
Так они дожили до рождества — карикатуры на праздники прошлых лет, — прошедшего скорее под знаком Топси, чем Крошки Тима. Ни Сэйворды, ни Бихаусы не явились на рождественский обед, устроенный в этом году у Роберта, а остальные члены семьи изливали приторную нежность на весьма самостоятельную молодую особу, которую все они считали нужным называть «бедняжка Бидди».
С утра шел снег, и время от времени кто-нибудь с довольным видом отмечал: «Хорошо! Настоящее белое рождество!» — а Нийл, слыша это, всякий раз думал: «даже рождество подвергается дискриминации».
Родственники не стали, как бывало, дожидаться ужина, к трем часам все уже разошлись. Проводив Вестл и Бидди домой, Нийл сказал скороговоркой:
— Я немножко пройдусь, подышу воздухом. — И поспешил к Ашу Дэвису глотнуть душевного покоя.
Он застал там не только Софи, которая встретила его ласково, дружески похлопала по руке, — там оказался и суетливо любезный южный либерал, мистер Люциан Файрлок, обсуждавший с хозяином дома роль негритянской скульптуры в черном мире, который когда-то представлялся Нийлу пучиной темной фантастики или темного ада, но теперь казался ему живым, многоцветным и полным неожиданностей, как вольер с тропическими птицами.
Люциан оправдывался:
— Дэвисы и Нора так трогательно относятся к моим ребятам, что я решил зайти и… и, в общем, мне пора.
Нийлу хотелось побыть в тепле, с Софи, но он не мог забыть, что Вестл и Бидди сидят одни в рождественский вечер. Ковыляя под снегом домой, он размышлял о том, что вполне мог бы полюбить Софи чисто платонически, но что Вестл он любит земной любовью и что именно этой любви не видно конца.
Софи была его сестрой, его вторым «я». Как некогда Китти, верный товарищ его игр, вместе с ним по-детски бунтовала против власти отца, так Софи была ему товарищем в величайшем бунте его жизни. Но Вестл… Вестл была его любовью. Каждая мысль, какая могла прийти в голову темнокожей женщине из Алабамы, была ему близка и знакома; каждая мысль женщины, с которой он учился в школе, играл в теннис, семь лет спал в одной комнате, была чудесной загадкой, и эту женщину он любил больше всех и надеялся когда-нибудь покорить и даже понять.
О, когда-то он ее понимал, знал наперед все, что она сделает и скажет, но это относилось к временам, когда ей не нужно было делать ничего необычного, когда ей не предлагалось высказать свое мнение о человеке, способном, очевидно, погубить ее и себя во имя божества, в которое он не так уж горячо и верил.
Он застал Вестл дома, нарядную, веселую. Она показалась ему немногим старше Бидди и более беззащитной. Малышка всегда сумеет пойти в атаку на жизнь и подчинить ее себе; скромная, нетребовательная Софи не пропадет, где бы ни оказалась — в больнице, в монастыре, на эстраде; но живая, энергичная Вестл, гордость Лиги Образованных Молодых Женщин, растеряется и сдаст, если рядом с нею не будет мужчины: отца, мужа, сына, духовного пастыря.
Он расцеловал ее, и они дружно принялись готовить ужин. Шерли ушла танцевать на славянский карнавал. Они уложили Бидди спать и, сидя у синего кухонного столика, уплетали яичницу и с полным единодушием рассуждали об испорченности Кертиса Хавока, достоинствах папаши Кеннета и вероятной стоимости зеркального стекла для окна в гостиной.
Да, переделать окно совершенно необходимо, решили они бодро в этот черный вечер после черного рождества.
36
С самого основания Федерального клуба в нем не числилось ни одного еврея, ни одного музыканта, ни одного учителя и очень мало членов демократической партии. Это не было оговорено уставом. Такой оговорки не требовалось.
Здесь заслуженные миллионеры Гранд-Рипаблик вроде Хайрема Спаррока каждый вечер играли в бридж или в трик-трак, ровно в одиннадцать часов прерывая игру для стакана горячего пунша. Клубные лакеи, правда, не были природными англичанами и не обучались прислуживать лордам, но лицезрение тюдоровских физиономий клубных завсегдатаев в какие-нибудь полгода сглаживало эти недочеты, и всякий заслуженный член клуба, завидев в фамильном склепе чужого, считал своим долгом подозвать Джимса и пропыхтеть: «Это еще кто? Вышвырнуть его вон!» Столпы клуба находили возникновение в городе новых предприятий вульгарным, ибо, по их мнению, в Гранд-Рипаблик и так уже было вполне достаточно денег.
Большая часть этих денег принадлежала им.
Ни у кого не хватило бы смелости выдвинуть в члены клуба Рэнди Спрюса или Уилбура Федеринга; Кертису Хавоку не предлагали баллотироваться, несмотря на солидное положение его отца; а Нийл Кингсблад был избран главным образом потому, что приходился зятем Мортону Бихаусу. Избрание его брата Роберта можно было объяснить только недоразумением.
Среди событий светской жизни Гранд-Рипаблик самым значительным был Холостой Вечер Воспоминаний в Федеральном клубе, устраивавшийся ежегодно между рождеством и Новым годом, что позволяло членам клуба спасаться от младших членов семьи, особенно докучавших им на святках, и сулило тихие радости мужской беседы. Являться полагалось в смокингах; меню не обходилось без бараньих отбивных; такие безделки, как салат и мороженое, исключались. Все это очень походило на холостой обед, которым Дж. П.Морган-старший угощал короля Эдуарда VII, но называлось ужином и происходило в зале Пиллсбери, в мужественной атмосфере дубовых столов, изразцовых каминов и оловянных кружек.
В этом году собрание украшала целая галерея Спарроков, Уоргейтов, Бихаусов, Грэнников, Тарров, а также один Хавок, один Тимберлейн, один Дровер, один Марл, один Пратт, один Трок, один генерал, один капитан 3-го ранга и один епископ епископальной церкви.
Нийл, постоянно чувствовавший себя так, словно под ногами у него скат обледенелой крыши, не хотел идти, но пришлось, чтобы не обиделся мистер Пратт. Он не забыл взять с собой свой золотой портсигар и оставить дома свои новые взгляды. До ужина он довольно искусно лавировал, чтобы не столкнуться с братом Робертом и Харолдом Уиттиком, и держался поближе к Роднею Олдвику.
После ужина началось священнодействие — появились длинные глиняные трубки и кружки с горьким элем, который почти все они терпеть не могли и сменили на виски, как только сочли, что это уже не будет нарушением ритуала. Потом, задрав ноги на стол, что тоже считалось обязательным для всех, кроме примерно шестидесяти процентов страдавших подагрой, они приступили к традиционной процедуре — коротким юмористическим речам, нередко включавшим важные конфиденциальные сообщения финансового порядка. Соблюдение тайны в большой мере гарантировалось присутствием и честным словом Грегори Марла, крупного, флегматичного мужчины, потомственного владельца обеих газет, выходивших в Гранд-Рипаблик.
Председатель клуба доктор Рой Дровер предоставил слово Роду Олдвику.
Доктор Дровер любил пошутить, но сейчас он произнес серьезно и внушительно:
— Не обещаю вам на сегодня коротких выступлений. То, что имеет нам сообщить наш друг майор Олдвик, так важно, что я дал ему зеленый свет на неограниченное время.
Подстриженные ежиком волосы Рода, его широкие плечи и тонкая талия вызывали в памяти всякие слова из Киплинга: сирдар, саиб, сипай, долг, сила, нищий, туземец, каста, пария, кровь; беззаботно ответил полковника сын, голос крови во мне не угас; твой сын молодец, отважный боец, он Квислингом будет у нас. А в голосе Олдвика звучал лай плац-парада, смягченный адвокатскими модуляциями.
По его словам, поведение всех наших белых войск в Европе доставило ему большую радость. «Не консервы и не патроны, а боевая доблесть — вот что давало нам силу». Но он должен отметить одно чрезвычайно печальное обстоятельство, а именно — поведение наших солдат евреев и негров.
Десять минут он с увлечением громил евреев, а затем продолжал:
— Эти самые меньшинства любят прихвастнуть в своих крамольных газетках, но на поле чести они не выдерживают, кишка тонка, особенно у темнокожих братьев. Не посетуйте за грубое солдатское выражение, от них смердит!
(Нийл посмотрел на страдальческое лицо брата, на Уэбба и Экли Уоргейтов, которые принимали на завод квалифицированных рабочих-негров. Уэбб — среднего калибра бухгалтер в очках, вечно дрожащий над балансом, и Экли — бухгалтер мелкого калибра, еще не научившийся дрожать.)
Речь Олдвика стала размеренной и твердой:
— Я лично свободен от предрассудков, наша армия и флот свободны от предрассудков, господь бог, надо полагать, свободен от предрассудков. Мы надеялись, что эти шоколадные джентльмены кое-чему научились за прошлую войну. В этой войне мы дали им все шансы — у нас даже был один генерал негр и немало полковников! А сегрегация если и проводилась, так только по просьбе самих же цветных командиров, которые откровенно признавали, что их черные барашки не доросли до общения с белыми.
Я сам видел, как во время атаки тихий маленький сержант ариец в очках сдерживал целую ораву черных солдат, вздумавших удирать во главе с огромным детиной, у которого хватило нахальства нацепить, на плечи две полоски; увидев меня, этот «капитан» только заулыбался, как дурак. Зато когда доходило до ухаживаний за простодушными французскими крестьянками, тут эти косолапые кавалеры не знали страха!
Однако, если говорить о зверствах и безобразиях негров, какие мне лично пришлось наблюдать, то хуже всего был случай, когда один из них — очевидно, с пьяных глаз — имел наглость заявить рослому ирландцу из американской военной полиции: «Вот меня отправят домой по состоянию здоровья, тогда уж я обслужу вашу девушку за вас». Не знаю, право, насколько это было законно, и узнавать не собираюсь, но могу вам сказать, что этого голубчика хоронили без воинских почестей!
(Смех и аплодисменты.)
Где же выход? Мне кажется, наш новый друг и сочлен Люциан Файрлок может предложить нам единственный выход: это полная сегрегация, которая столь успешно проводится на Юге и которой, надо надеяться, скоро потребуют повсеместно у нас на Севере. Мне бы хотелось, чтобы в будущей войне негров даже не называли солдатами, чтобы их обрядили не в форму, а в комбинезоны и силой сгоняли в рабочие команды.
(Нийл посмотрел на Люциана Файрлока, сидевшего рядом с Дунканом Браулером, вице-президентом компании Уоргейта. Видимо, Люциану было так же неловко выслушивать комплименты Рода, как сидеть, положив ноги на стол.)
— А теперь, — продолжал Род, — я должен сообщить вам кое-что о неграх, живущих здесь у нас, в Гранд-Рипаблик. Когда мы уходили отсюда, чтобы с оружием в руках защищать наши мирные жилища, негры здесь были наперечет, и все больше скромные, работящие старики вроде Уоша, который с детства всем нам чистил башмаки и был доволен этим, дай ему бог здоровья, и которого все мы любили и уважали.
Но, возвратившись с фронта, мы увидели, что в наше отсутствие сюда проникли сотни цветных самого худшего типа, а за ними тянутся и все их вшивые, немытые и незваные родственники с Юга, где от них рады избавиться, и на наших глазах создается такой очаг черной смуты, что расовые беспорядки совершенно неизбежны, а всему виной — ложный либерализм, слепая терпимость по отношению к неграм.
(Майор Родней Олдвик никогда не говорил «ниггер». Он не произнес бы этого слова, даже участвуя в линчевании.)
Сейчас мы имеем здесь уже около двух тысяч этих сынов и дочерей мумбо-джумбо, а скоро их будет двадцать тысяч, и прекрасный город будет загрязнен, заражен, погублен, если мы этому не воспрепятствуем.
Я по собственному почину собрал сведения о нескольких негритянских агитаторах, которые пытаются посеять смуту на наших заводах и фабриках, и хочу рассказать вам об этих небезынтересных субъектах, которые, хотя большинство из вас о них и не слышало, готовятся отнять у вас ваши предприятия, джентльмены, и, прибавлю, имеют все шансы добиться успеха, если вы не проснетесь и не приметесь за дело очень, очень энергично!
(При этом возгласе из детективной мелодрамы все подняли головы.)
Они хотят заставить профсоюзы, которые до сих пор обычно не принимали черных или обезвреживали их, выделяя в особые псевдосоюзы, они хотят заставить их широко открыть свои двери, чтобы каждый черный чурбан-землекоп мог войти туда и даже занять должность.
Скоро вы увидите такую картину: дюжий черный профсоюзник является к вам в кабинет, усаживается, не снимая шляпы, пыхтит вам в лицо дешевой сигарой и учит вас, как вести дело, на создание которого вы отдали лучшие годы своей жизни. Да, да, а черные, как сажа, девицы будут требовать «права» пользоваться той же уборной, что и ваши дочери и ваши изящные секретарши!
И вы, джентльмены свободных профессий, вы, врачи, и мои коллеги юристы, и даже лица духовного звания, не думайте, что вас это не коснется! Если вы не примете нужных мер, вас заставят брать на работу темнокожих секретарей и бухгалтеров, — и вы, умные люди, возглавляющие наше общество, допустили, чтобы этот заговор составился у вас под носом!
(Впечатление было потрясающее. Все знали, что Род Олдвик — хороший малый, храбрый солдат, способный юрист, но он, оказывается, еще и недюжинный мыслитель и оратор! Да он, пожалуй, со временем подойдет на пост губернатора или сенатора Соединенных Штатов!)
А теперь совершенно конфиденциально, чтобы вы могли защитить себя, свою честь и свой бизнес, я назову вам коноводов этого заговора — образованных негров, устроившихся на теплых местечках и не имеющих ни малейшего права вмешиваться в дела рабочих организаций.
Самый опасный из них — некий Клемент Брэзенстейн, профессиональный агитатор с темным прошлым. Он не живет здесь постоянно, но, как тать, пробирается сюда под покровом ночи, чтобы подстрекать к мятежу здешних, очень, кстати сказать, активных предателей. В число их входит некий Райан Вулкейп, бывший солдат, выгнанный из армии за неподчинение приказам, и Сьюзен, она же София Конкорд, медсестра городской больницы, получающая жалованье из налогов наших сограждан, из ваших и моих денег, чтобы сеять разрушительную пропаганду среди безобидной негритянской бедноты!
В том же заговоре участвует весьма подозрительный черный горлодер-проповедник, известный одураченной им пастве как «евангелист» Брустер, который кощунственно использует церковную кафедру для распространения красной доктрины восстания рабов, и бывший рабочий с фабрики патентованных средств, который выдумал, будто он ученый-химик, и именует себя «доктор» Ашер Дэвис.
Все эти милые личности непрерывно поддерживают связь с еврейскими чиновниками в Вашингтоне, у которых есть тайный план: сделать КНРР — Конспирацию Негодяев, Разлагающих Республику, — основным законом страны, подменить ею наш Американский Образ Жизни и принудить каждого промышленника держать на работе целую кучу негров, независимо от того, нуждается он в них или нет. По всей Америке подготавливают они этот неслыханный переворот — от рыбоконсервных заводов старой Новой Англии до киностудий Голливуда, — не верьте мне на слово, джентльмены, а почитайте, что пишут сами негры в своих возмутительных газетах!
Однако здесь, в Гранд-Рипаблик, они проявляют особое коварство, и с ними из вечера в вечер встречаются некоторые белые люди, и притом не евреи, не бродяги или преступники, а люди нашего с вами круга!
(Род торжествующе окинул глазами аудиторию, на секунду взгляд его задержался на Нийле, и тот безмолвно ответил ему: «Хорошо, Род. Я готов».)
Род продолжал:
— Присутствующие здесь сегодня Уоргейты и Дункан Браулер достойны самой сердечной похвалы за то, что они в своем великодушии дали огромному количеству черных джентльменов возможность показать, на что они способны.
Нужно сказать, что эти левые, эти витающие в облаках мечтатели из Вашингтона утверждают, будто бы цветные братья не уступают белым рабочим в точности, дисциплинированности и качестве работы. Но я уполномочен заявить, что Уэбб, Экли и Дунк пришли к совершенно иному выводу, и в ближайшее время общая картина на заводах Уоргейта значительно изменится и ухмыляющимся черным рожам будет уделено в ней куда более скромное место!
(Нийл посмотрел на Экли, в лесном домике которого они так весело провели вечер две недели назад. Вид у Экли и у его отца был смущенный, но они не пытались возражать.)
Итак, джентльмены, я нарушил традицию и не старался вас посмешить, потому что тем из нас, кто стоял под огнем неприятеля, будет не до смеха, пока мы не убедимся, что вы намерены сохранить для нас то, что мы сохранили для вас ценой своей крови, — чистую, честную, незапятнанную страну свободной конкуренции и инициативы — Америку Отцов Основателей!
В знак одобрения они застучали кружками по столу и разбили свои глиняные трубки.
Нийл думал: «Вот оно. Пора. Идет смотритель тюрьмы со священником».
Доктор Дровер призвал к молчанию, чтобы поблагодарить оратора, и тут Нийл поднялся с места. Он заговорил бесстрастно, как чиновник, делающий очередной доклад, и все прислушались. Славный малый этот Кингсблад, неглуп, и перспективы прекрасные — он ведь служит во Втором Национальном, зять Морта Бихауса.
— Я был ниже майора Олдвика чином, — сказал Нийл, — но я должен его поправить.
Глаза его встретились с испытующим взглядом Рода.
— Джентльмены, то, что Олдвик сказал о солдатах-неграх, — это бахвальство пополам с враньем. Это вредная чепуха.
Род было поднялся, чтобы перебить его, но Нийл упорствовал:
— Ты свое сказал, Род.
Доктор Дровер бормотал что-то председательское, но доктор Генри Спаррок тявкнул:
— Дайте ему слово!
По всей комнате шел ропот: «Пусть говорит!» — и зловещий шип: «Интересно, что он скажет!»
Роберт Кингсблад вскочил с места и стонал, страдальчески сгорбившись: «Замолчи, Нийл! Ради бога!» — а Нийл не спеша продолжал:
— Олдвик ни слова не сказал ни о доблести, проявленной неграми, ни о подлых попытках офицеров и унтер-офицеров с Крайнего Юга разложить нашу армию путем разжигания расовой ненависти. Да я и не ожидал этого от человека, делающего политическую карьеру. Но его утверждения относительно доктора Дэвиса, доктора Брустера и мисс Конкорд — это уже просто ложь, и он даже имена их исказил. Мне стыдно, что я сидел здесь и слушал, потому что…
Отчаянный голос Роберта — может, он и не сознавал, что говорил вслух, — молил его: «Нийл, не надо!»
— …потому что, — продолжал Нийл, — во мне самом есть то, что вы называете «негритянской кровью».
Все словно окаменели.
— Я негр всего на одну тридцать вторую, но в понимании Люциана Файрлока и его друга — мистера Уилбура Федеринга…
Люциан отозвался, не повышая голоса:
— Он мне не друг, Нийл!
— Ну, хорошо, по принятому на Юге толкованию, которое южане навязали немудрящим карьеристам вроде Олдвика, это значит, что я — стопроцентный негр. Отлично. Я согласен. И никто из моих друзей не внушает мне большего уважения, чем доктор Дэвис, доктор Брустер, мисс Конкорд и мистер Брэзенстар! Я очень рад, что я негр, джентльмены, и очень оптимистически смотрю на будущее моего народа, и на этом кончим.
Бун Хавок протянул:
— Давно пора.
В последовавшей затем какофонии Нийл расслышал голос Пратта, визгливо утверждавшего, что все это неуместная шутка, расслышал истерические опровержения Роберта и обрывок спора между Файорлоком и Браулером по поводу квалификации Аша Дэвиса. Вся эта болтовня потонула в яростном реве дородного подрядчика Буна Хавока, который орал на Браулера:
— Вы еще рассуждаете, умеет ли какой-то ниггер отличить пробирку от собственного пальца, когда тут такое творится — член клуба признался, что он ниггер, и всех нас покрыл позором! Кому интересно слушать о черных солдатах…
Полковник Леви Тарр начал было:
— Мне интересно! Дискриминация, которой они подвергаются…
Доктор Рой Дровер приглушил его:
— К черту! Как председатель этого клуба предлагаю немедленно принять заявление мистера Нийла Кингсблада о выходе из членов — сию же минуту.
Нийл смотрел не на Дровера, а на Рода Олдвика — спокойного, улыбающегося, злобного.
Заговорил Грег Марл:
— Рой! Прежде чем мы предпримем этот шаг, я предлагаю разойтись по домам и все обдумать, а завтра можно назначить комиссию для разговора с Нийлом. Пока же я обещаю, что мои газеты будут молчать и информационные агентства ничего не узнают, если только это будет от меня зависеть и если все вы сумеете держать язык за зубами.
Судья Кэсс Тимберлейн твердо заявил:
— Не знаю, насколько это было умно с его стороны, но, во всяком случае, Нийл показал, что он не трус, а нам нечего зря горячиться.
Экли Уоргейт — Нийл когда-то играл с ним в шашки и обыгрывал его — Экли крикнул:
— Конечно, нам нечего горячиться, но я и сейчас знаю, как я смотрю на это дело. Я всегда считал Нийла своим другом и с удовольствием принимал его у себя. Я как будто всегда хорошо к нему относился. И я возмущен тем, что он, притворясь белым, пролез ко мне в дом и держал себя с моей женой и детьми как равный. Могу заверить его и вас, что больше этого не случится.
Джад Браулер — добрая душа, самый старый и верный друг — встал с места и заявил:
— По-моему, все это глупости! Все мы знаем, что Нийл — замечательный парень, а уж лучшего друга во всем городе не найти. Ну что такое одна тридцать вторая негритянской крови? Все равно он здесь самый белый человек, и я от него не отступлюсь.
Разгорелся неистовый спор, и под шум его Нийл вышел из комнаты. Он устал. Он не мог больше слышать их голосов. Словно занавес опустился между ним и этими белыми людьми. Разрыв с белой расой был куда важнее, чем разрыв с Федеральным клубом.
Джад Браулер нагнал его в вестибюле и пробурчал:
— Черт возьми, и дурак же ты, брат, что выболтал это, но мы за тебя постоим. Приходи к нам с Вестл обедать, вот хоть во вторник, на Новый год, и мы все обсудим. Идет? Ну вот и отлично.
37
Когда он пришел домой, Вестл сидела в гостиной в пушистом халатике с вязаньем в руках — домовитость для нее необычная.
— Вот ты меня и поймал. Я тебе вяжу шарф, но к рождеству он, проклятый, не связался, так я решила кончить хоть к Новому году и… Что это? Нийл! Почему ты так стоишь? Нийл! Не может быть! Неужели все узналось?
— Род Олдвик так безобразно ругал негров, что я был вынужден заявить публично, что я тоже негр. Смешно сказать: «Я — негр».
— Смешно. Да. Ужасно смешно. Так же, как то, что я — жена цветного. Что Билли цветная и, значит, обречена. Да, смешно. И надо что-то поскорее делать, чтобы не дать хода твоему прелестному публичному признанию. Только не знаю, что.
Она уже была у телефона, вызвала доктора Кеннета, попросила его приехать к Мортону Бихаусу. Позвонила в Федеральный клуб отцу и Роберту. Одеваясь наверху, в спальне, под безучастным взглядом Нийла, она сказала, чуть не плача:
— Только бы ты ничего не говорил!
— Я, кажется, молчу…
Она попробовала улыбнуться:
— Нет, молчать не надо, но только не говори ничего лишнего. Я не собираюсь от тебя отступаться — или, может быть, я тебе уже не нужна? Может быть, я не гожусь даже в жены цветному?
— Не говори глупостей.
— Почему глупости? Раз ты так поступил со мной. Я многое могу выдержать, по крайней мере я так считала, но за Бидди…
— Вестл, ни к чему это. Все очень просто. Раз я негр — значит, так оно и есть. И Джад Браулер — да, наверное, и многие другие — находят правильным, что я отношусь к этому честно.
— Я, наверное, могла бы возненавидеть тебя, пожалуй, могла бы, но этого нет, пока еще нет, и когда я смотрю на тебя — какой ты здоровый, рыжий, хороший, такой, как всегда, — мне как будто не противно, только… Может, дяде Оливеру удастся доказать, что произошла ошибка, что ты нисколько не негр?
— Тогда я сам уйду к неграм. Мне Аш, Ивен, Фил, Софи и Вулкейпы нравятся больше, чем Род Олдвик, и док Дровер, и Оливер Бихаус.
— А что это за таинственные личности? Черномазые?
Казалось немыслимым, что она не знает этих людей, когда для него они важнее всех на свете.
— Это негры, которых я ценю за их доброту, и ум, и смелость, и…
— Ах, перестань! Ты стал совершенно невозможен!
Жилище мистера Мортона Бихауса можно было охарактеризовать одним словом: монументальность.
Тридцать лет ушло на то, чтобы окончательно выбрать место для его ночных туфель и подыскать достаточно монументальный буфет. В этой цитадели, где самый воздух, казалось, был дубовый, как и обшивка стен, Нийла ждали похожий на вспугнутого аиста доктор Кеннет в костюме, надетом поверх пижамы, и в клетчатом пальто, брат Роберт, глядевший как норовистый бык, и хозяин дома — неподвижный идол с живыми глазами.
Роберт начал:
— Я говорил с мамой по телефону, Нийл, и она категорически опровергает всю эту историю. Она говорит, что ты должен созвать членов Федерального клуба и заявить им, что у тебя был припадок.
Мортон Бихаус сказал:
— С тем же успехом частное лицо могло бы приказать собраться конгрессу. Теперь поздно. Ведь я сам был при этом и скажу вам, Нийл, лучше бы вы убили мою дочь, чем совершили по отношению к ней такую непристойность. Она, разумеется, немедленно уйдет от вас, хотя бы из уважения к себе.
— Не уйду, — сказала Вестл.
— Ты думаешь? Вот подожди, пока Лорен Уоргейт и Дженет Олдвик перестанут здороваться с тобой на улице.
— Я не буду ждать. Я сама первая перестану с ними здороваться.
Мортон не рассердился:
— Так, так, дочка. Вначале это трудно. Твоя преданность естественна, иного я от тебя и не ожидал. Все Бихаусы — преданный народ. Но когда твое чувство долга будет удовлетворено, ты согласишься со мной, что этот субъект, твой муж — сейчас он еще твой муж, — самый неприличный, себялюбивый, скверный фигляр, скандалист и хулиган, когда-либо позоривший наш город!
Роберт испугался, но родственные чувства превозмогли, и он пробурчал:
— Хватит с нас ваших дерзостей, Бихаус!
— Безусловно, — сказал доктор Кеннет.
И Роберт подхватил:
— Мой отец и я, мы любим этого мальчика, хоть он и ведет себя, как помешанный, и вполне возможно, что ваша дочь тоже его любит, а значит, и говорить больше не о чем.
Но оказалось, что много о чем еще нужно говорить, и Нийл с Вестл вернулись домой только в четвертом часу. Когда они вошли. Билли проснулась и расплакалась. Они с грехом пополам успокоили ее и сами улеглись, но пролежали остаток ночи без сна. Вестл уверяла:
— Я очень тебя люблю и буду поддерживать тебя, пока хватит сил. Но мученичество не в моем характере. По-видимому, я даже менее интеллектуальна, чем твои замечательные ниггеры.
— Вестл!
— А что мне делать?
И так до рассвета, до железно-серого рассвета с мокрым снегом.
На следующий день секретарь Федерального клуба, изысканно любезный Верн Авондин, сообщил Нийлу по телефону, что в полдень состоялось заседание комиссии, «принявшей его заявление о выходе из членов». Верн выразил надежду, что «ваша супруга и мисс Элизабет весело проводят праздники».
— Так весело, что дальше некуда, — сказала Вестл, которая подслушивала у отводной трубки.
Как свойственно мужьям, он поверил, что одержал легкую и прочную победу, что Вестл простила ему дурной вкус, проявленный им при выборе предков. Как свойственно женам, даже очень хорошим женам, она дала ему открыть забрало и тогда нанесла удар. В туманный декабрьский вечер, когда они только что весело решили, что не стоит идти в гости к Нортону Троку, она перешла в наступление:
— Но, пожалуйста, не думай, что раз я не устраиваю тебе сцен, значит, мне не обидно, что из-за твоего идиотского упрямства мне никуда нельзя ходить — никуда и никогда. Временами я вдруг начинаю видеть в тебе негра, — надеюсь, что это пройдет, — так и вижу, как ты волочишь ноги и глупо скалишь зубы…
— Неужели ты внушила себе, что для тебя все негры такие?
— Не внушила, а знаю, что для меня они все такие, все… И на лице у тебя мне чудится какая-то страшная тень. Мне все негры всегда были противны, особенно этот их дурацкий смешок. Они знают, что они ниже нас!
Он спросил не слишком ласково:
— А у тебя есть знакомые негры, кроме Белфриды?
— Да! Ты, и твой безмозглый братец Роберт, и твои сестры… Ох, прости, милый, пожалуйста, прости. Это я с горя. Я готова поколотить себя за эти слова.
— За какие слова? Ведь это правда!
— Честное слово, Нийл, я все стерплю, только не будь ты со мной таким смиренным и праведным. Этого я не выдержу.
И все же на сей раз они еще сумели избежать самых острых мук семейной ссоры.
Холостяцкий вечер в Федеральном клубе состоялся в четверг 27 декабря. Второй Национальный Банк был открыт весь день в пятницу и полдня в субботу; был он открыт и в понедельник, накануне Нового года. Все эти дни автомат по имени Наш Мистер Кингсблад исправно работал, сидел у окошечка кассы, давал советы ветеранам, у которых сам не решился бы попросить совета, говорил с мистером Праттом о приглашении рабочих для мытья окон.
Во время их беседы Пратт без конца откашливался и изображал на лице ненужные улыбочки, и Нийл спрашивал себя: неужели свершилось чудо? Неужели Пратт намерен принять героическое решение, что эта негритянская легенда его не касается? Потом он заметил бегающий взгляд Пратта и понял, что этот достойный джентльмен старается разглядеть его ногти… убедиться, не отливают ли лунки синевой.
Он застыл, как солдат из дворцовой охраны, на которого устремлен подозрительно задумчивый взор диктатора. В воздухе повеяло смертью. Но нет, опасность миновала — покуда какой-нибудь клиент не заявит претензию, что его заставляют иметь дело с этим цветным — как его — Кингсбладом.
К моменту раздачи новогодних наградных, когда всем служащим полагалось выражать радостное удивление по поводу отеческой заботы со стороны банка (и кое-кто действительно бывал удивлен), и когда все они, как цветы на грядке, выстроились в кабинете директора, Нийл, по всем признакам, еще числился в штате. Но как раз когда подошла его очередь получить конверт и полагающуюся к нему стандартную фразу, мистер Пратт кашлянул: «Я на одну минуточку, сейчас вернусь», — и Нийл принял свои позолоченные кандалы не из бледных, стерильно чистых директорских рук, а из широкой лапы мистера С.Эшиела Денвера.
«Я еще здесь служу, но сдается мне, что вице-директором этого банка я не буду».
Разумеется, все узналось. Хоть и не сразу.
Разумеется, все очевидцы великосветского скандала в Федеральном клубе поклялись молчать; и, разумеется, каждый из них кому-нибудь да проболтался. До Нового года в печать ничего не проникло, но местная радиостанция, владельцем которой являлся оскорбленный в своих лучших чувствах мистер Харолд В.Уиттик, пообещала в своей передаче сплетен, именовавшейся «Городские новости», что через несколько дней сможет сообщить своей необъятной аудитории (местная радиостанция питала пристрастие к грандиозным масштабам) подробности некоего скандального происшествия, доказавшего, что некий банковский деятель, широко известный на севере Среднего Запада, годами вел постыдную двойную жизнь.
Услышав это, Нийл и Вестл переглянулись, и им стало страшно.
Накануне Нового года позвонил Джад Браулер:
— Послушай, старик, я оказался в ужасно неудобном положении. Жена и отец мне проходу не дают за то, что я хочу открыто поддерживать тебя в этом… ну, ты понимаешь. Так что, пожалуй, вы лучше не приходите завтра обедать. Может получиться неприятно для вас. Но лично я тебя вполне одобряю. Я на днях тебе позвоню, сговоримся позавтракать вместе.
Больше Джад не звонил.
Они давно предвкушали веселую встречу Нового года в загородном клубе «Вереск». Они остались дома и провели довольно унылый вечер. Нийл тревожился:
— Не уволят же меня из банка, а? Что нам тогда делать?
— Не знаю. Мы как-то привыкли считать себя обеспеченными людьми. Может, старый клубмен папа Мортон решит не давать мне больше карманных денег, как ты думаешь?
— Ну, это-то не страшно. Как-нибудь проживем. — Нельзя сказать, чтобы голос его звучал победно.
Столь революционное высказывание заставило ее встрепенуться, и теперь она размышляла вслух:
— Вероятно, в Америке есть немало людей, которые под Новый год всегда боятся, не потеряют ли они в наступающем году работу.
— Да, мой друг, дворник Джон Вулкейп едва ли сейчас прикидывает, есть ли ему смысл продать свои акции «Дженерал моторс» и вложить деньги в недвижимость.
— Ах, пожалуйста, не читай мне мораль и не тычь мне в нос своих высокосознательных друзей! Право же, в том, что ты родился цветным, нет никакой заслуги. Неужели ты не можешь забыть об этом, когда ты со мной? Я-то уж так стараюсь забыть!
— Ты права. Я, наверно, скоро стану таким же фарисеем, как Коринна Брустер.
— А что это за мисс Коринна? Я же понятия не имею обо всех этих людях, с которыми ты, по-видимому, много встречался за последнее время. Нийл, ты очень отдалился от меня. Ах, вот что! — Ее печальный тон сменился резким. — Это не та ли цветная красавица, что вломилась к тебе сюда как-то вечером?
— Нет, то была другая. Я, видишь ли, пользуюсь успехом. Ты уж не вздумала ли, киска, удостоить меня своей ревностью?
Он постарался придать своим словам тон милой семейной шутки.
За весь вечер к ним наведалась только Пат Саксинар, а Пат так пылала восторгом по поводу своей принадлежности к неграм — она только что обнаружила существование Гарриет Табмен и Национальной Ассоциации Содействия прогрессу Цветного Населения, — что раздражала закаленного в расовых боях Нийла не меньше, чем сам он раздражал Коринну Брустер.
В две минуты первого им позвонил доктор Кеннет, голос у него звучал совсем по-стариковски:
— Мой милый мальчик, от всей души желаю тебе и твоим всего хорошего в наступающем Новом году. Я стараюсь все уладить, и да благословит тебя бог!
«Трудно будет папе работать, если у него начнут дрожать руки. Может, напрасно я… Поздно».
Вестл в эти дни особенно старалась развлекать Бидди; всем своим поведением она словно говорила: «Да, детка, мамочке очень, очень весело». Но девочка смутно ощущала тень ужаса, нависшую над домом, а заодно и то, что здесь придают неестественно большое значение неграм. С невинным коварством, присущим всем Милым Крошкам, она вернула Принцу старое имя и бегала по всему дому, выкликая: «Ниггер, Ниггер, Ниггер!»
Вестл, дрожа от ярости, шепнула Нийлу:
— А вдруг Кертис Хавок услышит из своего дома? Он, наверно, знает от отца. Но если я попробую ее утихомирить, она пуще раскричится.
Как-то в январе поздно вечером они снова услышали сквозь шум метели слабое подвывание: «Ниггер, Ниггер, Ниггер!»
— Придется пойти и заставить ее замолчать, — вздохнула Вестл.
Нийл сказал:
— А ты уверена, что это Бидди?
38
Буря разразилась внезапно.
Во вторник, через неделю после Нового года, Нийл сидел за своим столом в банке, когда честный Джад Браулер, живший в двух шагах от Нийла, но теперь почему-то никогда не встречавшийся ему на улице, появился перед ним и сказал:
— Нийл, ты отлично знаешь, что сам я свободен от предрассудков, но все как будто считают, что я должен оберегать мою жену и дочь, так что, пожалуй, лучше нам с тобой по возможности не видаться. — И зашагал прочь, не дожидаясь ответа.
Потом, когда Нийлу уже порядком осточертело неослабное внимание Пратта, в атаку двинулись все старые друзья. Кертис Хавок, увидев во дворе Нийла, крикнул жене: «Вон он, чертов ниггер!» Щеголь Элиот Хансен позвонил по телефону Вестл, и его намеки в переводе на английский язык означали, что, когда она устанет от постыдного сожительства с цветным, он с удовольствием пригласит ее в ресторан и постарается быть ей полезным. (Она рассказала Нийлу.)
Но тяжелее всего было встретить Рода Олдвика и услышать его елейное, как пасхальное благословение: «Доброе утро, Нийл!»
Потом, похожая на мелкий холодный дождик, пришла уверенность, что весть уже поползла по всему городу. Какой-то незнакомец, смуглый и мрачный, склонился над столиком Нийла в кафетерии, где он одиноко завтракал эти дни, и таинственно забормотал:
— Вы меня не знаете; я торгую фруктами, и все думают, что я грек. Но я цветной, как и вы, только я-то об этом молчу. Послушайтесь моего совета, брат, и поступайте так же.
Самую откровенную издевку позволил себе Эд Флирон, новый мэр Гранд-Рипаблик, занявший этот пост после Уильяма Стопла. Он был владельцем большой аптеки, где по дешевке продавались сваленные в неаппетитные груды сандвичи, резиновые купальные чепчики, засохшие конфеты, детские велосипеды, электрические вентиляторы и кое-какие лекарства, а покупателей обслуживали бестолковые девушки, от которых больше пользы было бы дома на ферме.
Мэр Флирон ввалился в гостиную Нийла, когда Вестл не было дома, и выпалил:
— Я мэр этого города и ваш сосед, к сожалению!
Нийл, естественно, рассердился:
— Да что вы, Эд? А я думал, вы живете в Свид-холлоу.
— Прошу не дерзить мне, Кингсблад. Я мэр этого города…
— В самом деле?
— …и я вам говорю: мы не желаем, чтобы вы, ниггеры, забирались в районы, где живут порядочные белые люди, портили детей и пугали женщин.
— И сбивали цены на земельные участки? Старо, Эд.
— Пусть старо, зато правильно, и вы еще об этом услышите, а если моя полиция заинтересуется вашими делами, не вздумайте лезть ко мне с жалобами, как к мэру города!
— К вам? Да я лучше… А ну, ладно. Убирайтесь вон!
Бессменный соперник мэра Флирона, бывший мэр Стопл, который в качестве агента Бертольда Эйзенгерца занимался в свое время планировкой Сильван-парка, пожаловал на следующий вечер. Но у этого подходец был другой.
Он ни словом не упомянул о неграх; он затараторил:
— Нийл, миссис Кингсблад, у меня есть один клиент, который спит и видит, как бы переехать в Сильван-парк, и дом ваш ему очень нравится, а с другой стороны, у меня есть на примете чудесный домик в Кэну-хайте, по соседству с нашим милейшим Люцианом Файрлоком. — Он не добавил, что это означает также — по соседству с доктором Ашем Дэвисом и недалеко от Шугара Гауза. — Там, правда, менее благоустроено, но зато вид оттуда гораздо лучше, вы говорите, у вас тут красиво, — господи, а там вид на весь Саут-энд — просто дух захватывает. Если бы вы, друзья, согласились на обмен, разумеется, с небольшой приплатой, я мог бы выгодно вам это устроить, а кто же отказывается от своей выгоды, ха-ха?
Нийл сказал:
— Нет. Это наш дом.
Вестл сказала:
— Конечно, нет. Что за вздор! И почему Кэну-хайтс? Там такое смешанное население — евреи, итальянцы и даже… Ах, так. Понимаю.
Мистер Стопл выразился деликатно:
— Едва ли ваша разборчивость сейчас уместна, миссис Кингсблад. И условия в следующий раз будут куда менее соблазнительные. Но я несколько дней подожду вашего ответа. Всего хорошего.
Нийл сказал:
— Он знает.
Вестл сказала:
— Ну еще бы он не знал! Наверно, все уже знают… А что, в Кэну-хайтс живут все сливки негритянского общества? Вроде доктора Мелоди?
— Понятия не имею.
— А разве твои… разве никто из твоих знакомых негров не живет в Кэну-хайтс?
— Этого я не говорил! Я ничего подобного не говорил! Я не говорил, что никто из моих знакомых негров не живет в Кэну-хайтс! Я просто сказал… я сказал, что не знаю, где живет доктор Мелоди, — я и не знаю!
— Господи, Нийл, ты никогда не отвечал мне таким тоном!
— Ты права и — прости, пожалуйста. Не будем ссориться из-за пустяков. (Он почувствовал, что она сверхчеловеческим усилием удержалась от реплики: «я не начинала ссориться», — и это придало ему бодрости.) Не допустим, чтобы они одолели нас, восстановив друг против друга.
— Ни за что!.. Во всяком случае, постараемся.
Они долго гадали, и в этот вечер, и после, многие ли уже знают и что говорят. Вестл едва смела верить, что соседские дети до сих пор не ополчились на Бидди и по-прежнему видят в ней только веселую подружку и выдумщицу, всегдашнего их коновода в самых шумных играх. Все дети, кроме Пегги Хавок. Та раньше ходила по пятам за Бидди, а теперь она редко появлялась во дворе, и Вестл с болью в душе смотрела, как Бидди, не дозвавшись Пегги, стоит озадаченная, медленно водит по снегу носком красного сапожка, смотрит, не отрываясь, на дом Хавоков, тщетно ждет.
Соседи при встречах бывали по большей части сугубо любезны и сугубо лаконичны. На лицах у них было написано, что они видят в Нийле и даже в Вестл нечто новое и предосудительное. Откровеннее других был добродушный мистер Топмен, который в пятьдесят лет дослужился только до кассира в Торговом и Горно-Промышленном Банке.
Он остановил Нийла на улице и кротко сказал:
— Я слышал, что в вас есть негритянская кровь, Нийл. Признаюсь, это меня удивило. Я всегда думал, что все негры огромные, черные и страшно вороватые. Неужели я ошибался?
Он взывал к Нийлу, как к высшему авторитету, и Нийл ответил авторитетно:
— Вы ошибались.
— Подумайте, как интересно! А скажите, негры охотно возвращаются в Африку?
— Сколько мне известно, они туда не возвращаются.
— В самом деле? Я и не знал. А вот один швед — тот, я знаю, вернулся к себе на старую родину.
— Это не совсем одно и то же.
— Да? Очень интересно. Скажите, Нийл, а вы знаете такого негритянского проповедника, в Атланте, штат Джорджия, — я про него читал, зовут его… нет, точно не могу вспомнить, Джордж Браун или что-то в этом роде — вы знаете, кого я имею в виду.
— Боюсь, что нет.
— Или, может быть, Томас. Я думал, может, вы про него слышали. А скажите — меня всегда занимал этот вопрос: самые знаменитые цветные дирижеры — вот, скажем, Дьюк Эллингтон, — сколько они зарабатывают в год чистых?
— Боюсь, что и этого я не могу вам сказать.
— Неужели не знаете? Ну, а скажите, верно, что негры всегда хотят жениться на белых женщинах?
— Очень сомневаюсь, но наверно сказать не берусь.
— Как странно! Я думал, вы, цветные, решительно все знаете об этих вещах.
Если было что-то комичное в попытках мистера Топмена найти общие интересы с эфиопом Кингсбладом (которого он знал всего тридцать один год), то комизма сильно поубавилось, когда он спросил участливо:
— Если у вас с Вестл родится еще ребенок, есть все-таки надежда, что он будет не совсем черный?
В тот раз Нийл вспомнил свою прозрачно-розовую Бидди, и вопрос насмешил и немного раздосадовал его, но позже, когда он услышал его раз десять, а в намеках уловил раз сто, это уже было очень досадно и совсем не смешно. Нийл как-то расспросил Аша Дэвиса о данных генетики и узнал, что на десять тысяч случаев не бывает ни одного, чтобы дети, рожденные от союза «цветной» и «белой» особей, были темнее, чем более темный из родителей. Но Нийлу предстояло убедиться, что среди такого невежественного элемента, как ректоры колледжей, агенты по продаже швейных машин и популярные лекторы, твердо держится убеждение, будто всякий, в ком есть хоть 0,000001 процента негритянских генов, женись он даже на женщине белой, как мрамор (белизна которого общеизвестна), произведет на свет потомство, черное, как душа диктатора. То обстоятельство, что сии радетели о пользе общества сами никогда не слышали о подобном случае, не имело значения, потому что все они слышали об этом от кого-то, кто об этом слышал!
Нийл не сразу додумался до того, что даже если у таких родителей и родился бы такой эбонитовый ребенок, все же это был бы их ребенок, родной и любимый.
Орло Вэй сказал У.С.Вандеру, тоже одному из столпов Сильван-парка:
— Он дурак, но он всегда был приятным соседом — его дом как раз напротив моего, и я что-то не уверен, можно ли считать его ниггером, раз он только на одну тридцать вторую черный.
Мистер Вандер проворчал:
— Я так понимаю, что ниггер — это тот, кто публично и всерьез в этом признается и тем сам себя вышибает из человеческого общества, будь он черный хоть на одну сто тридцать вторую.
— Пожалуй, вы правы, — поспешил согласиться Орло.
И довольно скоро в Гранд-Рипаблик утвердилось мнение, что Нийл — «если вы хотите знать точно» — на одну четверть негр.
Теперь, когда он спешил к Дэвисам и Вулкейпам, он с облегчением сознавал, что не нужно больше лгать Вестл. Каким-то образом вся Майо-стрит прослышала о его выступлении в клубе, и здесь его любили, хотя кое-кто и подсмеивался над ним: Он и сам не заметил, как у него вошло в привычку по дороге домой заглядывать к Джону и Мэри. И нередко у Аша он встречался с Софи, и в их тревожной дружбе было словно ожидание чего-то.
Ему нужна была их поддержка, потому что в конце января уже не проходило дня без того, чтобы кто-нибудь, решив проявить оригинальность, не напомнил ему, что он «цветной».
Том Кренуэй, не зная, чем бы попрекнуть его на словах, выражал укоризну всем своим видом. Седрик Стаубермейер старался глазеть на него так, как белым полагается глазеть на негров. Зато Роза Пенлосс, жившая кварталом дальше, с робкой приветливостью махала ему рукой. В кухне Шерли Пзорт, не совсем разобрав, в чем дело, решила, что негритянкой оказалась Вестл, и стала с ней особенно ласкова, как с подобной себе иммигранткой. Доктор Коуп Андерсон, химик и сослуживец Аша, зашел с дружеским визитом в сопровождении либерального священника Ллойда Гэда; а в банке Люциан Файрлок пользовался каждым удобным случаем, чтобы на виду у всех пожать Нийлу руку.
Потом у них побывал человек, годами известный в доме как «тот старичок, что ходит с черного хода». Он часто появлялся под вечер с корзинкой на руке и предлагал купить откормленную курицу, вишневого джема, яиц или замысловатый кофейный торт, который испекла его жена на далекой ферме за озером Мертвой Скво. В этот раз его нерешительный звонок у задней двери раздался в двенадцатом часу ночи, и хозяева встревожились, сразу представив себе пьяного Кертиса Хавока или грозного мэра Флирона с его полицейскими молодчиками. Нийл пошел отворять, а Вестл следовала за ним, твердо шагая, точно телохранитель с автоматом.
Старичок стоял в полумраке на цементном полу заднего крыльца.
— Мистер Кингсблад… Нийл, я сегодня ничего не принес на продажу, но я только что узнал, сколько мужества вы проявили, и хочу вас поблагодарить.
Но, с другой стороны, в автобусе незнакомая старушка напустилась на Нийла:
— А известно ли вам, приятель ниггер, как вас накажет господь бог, заповедавший, что эфиопам положено пребывать в вечном рабстве на кухне, а не разъезжать в автобусах с приличными белыми людьми? Кто не слушается слова божия, того ждет ад и скрежет зубовный, так в писании сказано, так повелел господь всемилостивый, благословенно имя его!
А потом посыпались письма.
Дедушка Эдгар Саксинар написал из Миннеаполиса, что Нийл неблагодарный лжец, что никакого Ксавье Пика никогда на свете не было.
Владетельный Бертольд Эйзенгерц написал из своей зимней виллы на Палм-Бич, что очень дорожит знакомством с Нийлом и сумеет соблюсти его финансовые интересы, если он переедет в другое место.
Дрексель Гриншо написал, что не стоило белому джентльмену, такому, как мистер Кингсблад, привлекать внимание к их несчастной расе, потому что этим он только ухудшил их положение.
А дальше шли анонимные письма — гримасы славы, — состряпанные в болезненном исступлении невропатами из тех, что ночами бродят по глухим переулкам и отравляют кошек.
Первое из десятка таких посланий было написано ревматическим почерком на линованном листке из блокнота, вложенном в дешевый конверт с адресом, выведенным кривыми печатными буквами:
«Дорогой нахальный ниггер мистер Кингсблад!
Вам наверно и не снилось что я узнаю как вам пришлось сознаться вы все время притворялись порядочным белым человеком а теперь вас уличили в таком грязном деле что вы попросту ниггер вы и стараетесь выкрутиться кричите что ниггеры не хуже белых а читали бы библию так знали бы что это враки там ясно сказано бог сотворил ниггеров чтобы служить белому человеку а если бы богу угодно было чтоб ниггеры были все равно что белые и учились бы на докторов и адвокатов и так далее стал бы он их делать другого цвета конечно не стал бы. Он для того их и сделал черными уродами вроде вас чтобы ясно было какая это низшая раса а вам это и в голову не пришло.
В том-то и беда с вашим братом что вы не хотите пошевелить своими черными мозгами а подумали бы так сразу бы поняли что я прав и убрались бы подобру-поздорову в свои хижины где бог вам и повелел находиться.
Вот вы теперь и попались черный мистер и бросьте лучше ломаться слушать смешно как вы мелете вздор и показываете свое невежество я так смеялся до слез а вы лучше сознайтесь что попались а я уж вас так и быть прощу на этот раз. Оно конечно мне повезло что я образованный а вы ниггеры круглые невежды но посмейте только слово сказать против сенаторов из Луизианы и Миссисипи они джентльмены хоть куда а вы черное отребье недостойны им обувь чистить так и намотайте себе на ус мистер Образованный Ниггер и благодарите
Неизвестного Друга.P.S. В другой раз это вам так легко не сойдет с рук вот попробуйте еще раз прикинуться белым увидите так что вы поосторожнее вами много кто интересуется и заранее не скажешь когда грянет гром».
Вестл получила всего одно анонимное письмо, но зато на веленевой бумаге, чистенько отпечатанное на машинке и надушенное:
«Дорогая Вест(а)л(ка?)!
Здешнее скучающее общество от души признательно Вам и Вашему интересному муженьку за скандальчик, которым оно будет развлекаться еще очень долго. Но будьте добры, сообщите нам, собирается ли Ваш очаровательный супруг пройти в конгресс как Цветной Джентльмен, чтобы дать Вам возможность щеголять Вашими «совершенствами» и Вашими пятидесятидолларовыми шляпками в высших (цветных) кругах Вашингтона, подобно тому, как Вы это делали в Гр-Р. Там, в Вашингтоне, ваша прелестная дочурка, которая так «выделяется» среди нормальных детишек (ее постоянное хвастовство и властные замашки уже давно казались нам очень подозрительными), сможет общаться с достойными ее младенцами, талантливыми отпрысками профессоров-негров, «экспертов» евреев и послов с Гаити.
Мы не сомневаемся, что, если у Вашего «кормильца» возникнут затруднения с заработком, дефицит в семейной кассе будет по-прежнему пополняться даяниями Вашего почтенного, хоть и малосимпатичного папаши.
Передайте Вашему мужу, — Вам не приходило в голову, что он был бы украшением любого джаза? — что наглость ниггеров нам надоела. Ваш милый мальчик выбрал самое неподходящее время для дружбы с этой публикой. Ниггеры уже скоро потребуют права состоять в ДАР, а черные девки не желают работать на кухне и в прачечной, потому что они, видите ли, все были лейтенантами!
Негры — так и скажите Вашему обаятельному, но на редкость неосведомленному дружку — ничего не добьются, пока не поймут, что «предубеждение» наше вызвано отнюдь не их очаровательным цветом лица или формой носа, но их некрасивыми болезнями, ленью, невероятной грязью и вопиющим невежеством. Мы, конечно, знаем, что Вам все это по вкусу, и преклоняемся перед Вашей преданностью представителю этого неандертальского племени. Сердце замирает при мысли, какое наслаждение Вы испытываете в его объятиях!
Ах, не стоит благодарности, дорогая миссис К., и я надеюсь — и многочисленные дамы, обсуждавшие этот вопрос, все до одной надеются, — что внимание, которое Вам всегда оказывал мистер Элиот Хансен, приведет еще к одной «интересной ситуации». Хитроумные уловки, с помощью которых Вы привлекаете этот сомнительный тип мужчин, вызывают в нас самую настоящую зависть, и мы намерены, затаив дыхание, следить за Вашей двойной игрой.
Или, может быть, Вы с душкой Нийли одумаетесь и уберетесь из этого города? Устами Терсита глаголет истина.
Искренно преданный Друг».Протягивая этот «скорбный лист» Нийлу, Вестл сказала в бешенстве:
— Нельзя ли мне как-нибудь доказать, что во мне тоже есть честная негритянская кровь?
39
С новогодними гаданиями и похмельем было покончено, и Нийл, как и раньше, занимал свое место в банке, в трезвом мире ценных бумаг, мрамора и праттов.
В пятницу утром, на десятый день нового года, мистер Пратт пригласил его к себе в кабинет.
Мистер Пратт был человек добродетельный и преуспевающий, хоть и епископал, и в тоне его сквозила чисто материнская забота:
— Нийл, мой мальчик, присядьте. — Он сложил руки домиком и взглянул на Нийла поверх крыши. — Я убедился, что слова, сказанные вами в клубе относительно вашего происхождения, не были шуткой, что вы не были пьяны, как я надеялся. Вы, разумеется, сожалеете о своем признании и понимаете, как тяжело оно отзовется на вашей карьере, но вот не знаю, ясно ли вам, в какой степени оно отзовется на мне, поскольку я несу ответственность за репутацию этого банка.
Как истинный янки, я всегда относился к вам, цветным людям, с большим участием и всегда считал, что было бы милосерднее ограничивать ваше образование начальной школой, чтобы вы не строили себе иллюзий и не сознавали всей глубины своего несчастья. Но я думаю, что в вас лично белая кровь перевешивает неполноценные примеси, и потому вы всегда относились к этому Учреждению лояльно, так же как это Учреждение всегда относилось лояльно к своим служащим.
В создавшемся щекотливом положении — я, заметьте, не проявляю излишнего любопытства к вашим мотивам — мы по мере сил окажем вам поддержку и всячески постараемся изыскать способ не расставаться с вами. Но…
Вы, надеюсь, поймете, что будет гораздо разумнее, если некоторое время вы не будете непосредственно соприкасаться с публикой. Мы не можем себе позволить заслужить славу Учреждения, которое держит на работе цветных, когда многим из наших белых ветеранов уже грозит безработица.
Так что, пожалуй, мне придется поставить во главе нашей Консультации для ветеранов кого-нибудь другого, а вам я найду счетную работу во внутреннем зале, где вы, во избежание толков, будете скрыты от глаз клиентов. Люди бывают так нетактичны! Но я постараюсь уговорить наше правление не снижать вам жалованья… пока. Итак, Нийл, голубчик, — закончил он бодро, — вы, конечно, понимаете мою точку зрения?
— Да.
Вот и все, чем этот цветной человек нашел возможность помочь бедному мистеру Пратту.
Он вернулся в помещение Консультации, которую сам задумал и организовал, и стал собирать со стола свои личные вещи — фотографию Вестл и Бидди, трубку, итальянскую монету, найденную на поле боя.
Его позвали к телефону. Звонил доктор Норман Камбер:
— Нийл, я говорю из приемной вашего отца. Немедленно приезжайте. Ваш отец внезапно скончался несколько минут тому назад.
Он думал: «Это просто нелепо. Мелодрама какая-то». То, что сразу произошло так много событий, оглушило его, и в этом было даже что-то приятное. Лишь постепенно в мозгу оформилась горькая мысль, что он никогда больше не сможет поговорить с отцом; никогда не увидит его застенчивой улыбки из-под рыжих усов, не услышит его безобидных шуточек; никогда не дождется его прощения за то, что стал негром.
Он вспомнил, как отец его мечтал возродить королевскую династию; вспомнил, как ловко он управлялся со всякой домашней работой; потом подумал: когда будут похороны — в воскресенье или в понедельник; а если в понедельник, то нужно ли потом возвращаться в банк? В Консультации для ветеранов его, наверно, будут ждать клиенты.
И вспомнил, что в его Консультации его никогда больше не будут ждать.
Потом все эти мысли вытеснила нежность к матери, которая теперь так одинока. Впрочем, она не одна. С ней остается Джоан. И по его вине обе они причислены к неграм, обречены на полное одиночество — удел всех негров, живущих среди белых людей.
Он устало брел по улице, и его неотступно преследовал образ матери — сидит одна, не решается ни с кем поговорить даже в этот страшный час смерти.
40
Кабинет доктора Кеннета Кингсблада помещался в Доме Специалистов на Чиппева-авеню, всего в одном квартале от Второго Национального.
В вестибюле толпилось столько народу — мужчины на костылях, мужчины с рукой на перевязи, растерянные женщины с детьми на руках, — что Нийл попал в лифт только в третью очередь. Лифтерша была красивая. Она кокетничала с молодым человеком в белом плаще, но успела улыбнуться Нийлу и ласково сказала ему: «Пятый этаж — вам выходить». Его удивило, что она, видимо, не знает, что ждет его на этом этаже, в нескольких шагах от ее клетки.
Страшно было войти в чисто прибранную банальную приемную доктора Кеннета — два кленовых стула с клетчатыми подушками, на кленовом столе стопка иллюстрированных журналов и всегда зажженная лампа под абажуром с изображением плывущего по волнам фрегата, — войти и увидеть на кушетке с клетчатыми подушками мертвое тело отца. Голова его тонула в тени, падавшей от стола, а на столе лежала открытая книга для записи больных, и против чьей-то фамилии был аккуратно помечен еще не наступивший час. На книге лежали уже ненужные старые очки. Дужка была обмотана посеревшим от времени пластырем, и Нийл вспомнил, как отец, весело поглядывая на него через толстые стекла, обещал зайти в мастерскую, на том же этаже, и отдать оправу в починку.
Молоденькая ассистентка не отрываясь смотрела на безжизненное тело и плакала, вся красная от испуга и жалости.
В ту минуту, как Нийл повернулся к доктору Камберу, чтобы услышать от него профессиональные слова утешения, в комнату ввалился брат Роберт.
— Хорошо, что вы застали меня в банке, док. Я как раз собирался уезжать в пекарню и, наверно, не скоро еще попал бы сюда, а я… Ох, папа, папа! Нет, я просто не могу поверить! Зачем ты ушел от нас?
Он обернулся к Нийлу:
— Это ты его убил! Твои сумасшедшие выдумки свели его в могилу. Ты виноват в его смерти, и я этого не забуду!
Доктор Камбер приказал:
— Перестаньте, Боб. По всем признакам ваш отец умер от грудной жабы. Нийл тут ни при чем. Вероятно, ваш отец гордился его мужеством.
В небольшой комнате стало тесно: из своих кабинетов, помещавшихся в том же здании, пришли доктор Рой Дровер, председатель Федерального клуба, и доктор Кортес Келли, сосед Нийла и заядлый охотник на уток; и Дровер, удостоив Нийла долгим неприязненным взглядом, возразил Камберу:
— Ну, не скажите, доктор. Выходки Нийла вполне могли повредить старику. Нельзя говорить так уверенно.
Доктор Келли вступился:
— Да бросьте вы, Рой. Нийл — идиот, и я надеюсь, что его выселят из нашего района, как всякого другого ниггера, но старика он не убивал. А в общем пошли!
Голоса спорящих затихли в коридоре, а Нийл, Роберт, доктор Камбер и заплаканная ассистентка еще долго молча прислушивались к неестественному молчанию мертвого.
Нийлу вспомнилось, как в октябре отец энергично сгребал сухие листья и философствовал:
«Больше всего люблю осень. Самое спокойное время года. Я всегда так занят, хоть заработки у меня и не бог весть какие, и от осени моей жизни я предвкушаю много покоя и радости. Великое дело — покой».
Но не этот покой — лежать на кушетке в приемной, неподвижно сложив нервные руки.
«И я — его убийца? Теперь он никогда не узнает о потомстве Екатерины Арагонской, а может, это все-таки правда? Что же, я и мечту его убил?»
Рука доктора Камбера лежала у него на плече, но Нийлу хотелось, чтобы с ним была Вестл… И Софи. И Мэри Вулкейп.
Роберт сморкался и плакал. Самый старший из детей доктора Кеннета, он больше других остался ребенком и бежал к отцу со своими горестями, даже когда сам уже стал отцом. Это был великовозрастный мальчишка с фермы, охваченный горем и страхом, и Нийл только сейчас понял, чем явилось его сообщение о негритянских предках для этого неумного, жадного и привязчивого отца семейства.
А затем прибыл Роберт Харт из похоронного бюро, и с этой минуты до того, как гроб опустили в январскую землю, два Роберта несли на себе все заботы. Они были очень похожи друг на друга: одинаково торжественные, одинаково блестяще умеющие справляться с маленькими, никчемными делами, одинаково уверенные, что в гробу доктору Кеннету приятно иметь под головой чистую мягкую подушечку.
И одинаково убежденные в том, что Нийл убил его.
К похоронам худое, доброе лицо его отца усилиями бальзамировщика приобрело отвратительное сходство с восковым красавцем из паноптикума. Нийла резнула догадка, что нарядная отделка гроба, видная в квадратном прорезе крышки, вероятно, тут и кончается — из соображений экономии, и он почувствовал, что ненавидит этот мишурный бизнес смерти без хлопот для родных и знакомых; ненавидит двух шепчущихся Робертов, которые всем своим важным видом словно говорили: «Не предавайтесь горю — смотрите, как мы держим себя в руках — цены исключительно низкие — открыто круглые сутки».
Вдвоем они добились того, что Нийл ощущал себя чужим в отцовском доме.
Мать его — слабенький клочок тумана — держалась спокойно, не плакала, не строила из себя героиню даже в этот единственный день, когда имела на это право. Она покорно выполняла все, что ей диктовали два Роберта. Они так мужественно опекали ее, так любезны были их неуклюжие попытки снять с нее бремя скорби, недоступной их пониманию!
Больше всего льстило двум Робертам присутствие мэра Флирона и бывшего мэра Билла Стопла, которые, сняв шляпы, многозначительно поглядывали на Нийла, точно без слов обещали ему, что на сегодня оставят его в покое.
А гроб стоял посреди гостиной, и вокруг него толпились чужие люди, — Нийл мог бы поклясться, что они никогда не видели доктора Кеннета при жизни, и раскрашенная кукла в гробу, казалось, ждала, и все они, казалось, ждали чего-то, сидя на взятых напрокат стульях, и в комнате нестерпимо пахло множеством диковинных цветов, а карандашный портрет доктора Кеннета был завешен черным покрывалом, наскоро выкроенным из шторы времен затемнения. Только маисовая трубка доктора Кеннета, которую два Роберта забыли убрать с пианино, никого не обманывала и ничего не ждала.
Роберт Харт священническим жестом поднял руку, и Роберт Кингсблад тоже поднял руку и повернулся к матери, которая только теперь разрыдалась. Со смущенным видом, шагая, как автоматы, к гробу подошли четверо мужчин. Среди них были Седрик Стаубермейер и У.С.Вандер — два соседа, питавшие особо лютую ненависть к перевоплотившемуся Нийлу.
За все время никто из присутствующих не заговорил с ним — все только молча кланялись непроницаемо-вежливой Вестл и взбудораженной Бидди.
Гроб, наклонившись, медленно поплыл вниз над ступенями парадного крыльца. Нийл только сейчас почувствовал всю бесповоротность смерти. Последний раз отец спускался по этим ступеням, по которым он столько лет суетливо и быстро бегал вверх и вниз; и теперь он не мог даже пройти по ним сам. Его несли, и он не мог напоследок оглянуться на свой дом.
Харт рассадил всех по машинам, следуя сложным правилам придворного этикета, как будто Смерть — монарх, строго требующий соблюдения чинов и званий. Элис Уттик Кингсблад и Китти Кингсблад Сэйворд поспорили из-за того, кому ехать с мамой. Роберт Харт успокоил и примирил их с таким деловито набожным видом, словно хотел сказать: «Пройдет и это, и вы удивитесь, какой скромный счет я вам представлю».
Машины шли с зажженными фарами, чтобы все знали, что это похоронная процессия. Закон штата гласил, что всякий, кто пересечет ей дорогу, оскорбит чувства доктора Кеннета и обязан будет заплатить штраф.
Потом гроб вознесся по лестнице в баптистскую церковь Сильван-парка, где доктор Шелли Бансер в полном облачении дожидался его с таким лицом, будто он никогда не играл в рамми, но проводил всю жизнь в унылой келье, размышляя о последнем воскресении. Проповедь его содержала много утешительных слов, и он обещал всем собравшимся, что скоро они снова свидятся со своим другом, но казалось, сам он мало этим озабочен.
Нийл опять подумал о незнакомых людях, явившихся проводить его отца. Кто они такие? Пациенты? Может, некоторые из них знали отца лучше, чем он, его сын? Ему стало тоскливо, и вдруг его руку ободряюще сжала умная рука Вестл.
Он заметил, что многие смотрят не на пастора, а на него; и вспомнил, что для половины этих людей он — переодетый негр, которого уличили и скоро выгонят из города. Потом он увидел в заднем ряду двух неожиданных гостей, пытавшихся взглядом заверить его в своей крепкой дружбе. То были Ивен Брустер и дантист Эмерсон Вулкейп — коллега доктора Кеннета, с которым тот за всю жизнь не сказал ни слова.
На кладбище Форрест-лон было холодно, и над теми, кто еще стоял, поеживаясь, у могилы, напутственные слова доктора Бансера плыли и повисали в воздухе, как серые снежные хлопья.
Потом все повернулись и пошли прочь, оставив его отца одного.
Дома Вестл, так долго являвшая чудеса терпения, накинулась на него:
— Хватит тебе лить слезы об отце. Ему ты уже ничем не поможешь. Зато есть многое, что ты мог бы сделать для меня и для нашего ребенка. Ты когда-нибудь думал о том, что она до некоторой степени и твоя дочь и беззаботностью вся в тебя? Раз ты так обожаешь правду и справедливость, что решил превратить нас в негров, скажи, пожалуйста, как ты представляешь себе наше будущее? Ты не спросил моего совета, прежде чем выставить себя на позор, так что теперь я жду указаний.
— Вестл! Это после того, как ты на похоронах была такая хорошая!
— Должно быть, слишком хорошая. Что ты намерен делать, если эта старая грымза Пратт выставит тебя из банка?
— Не знаю.
— А не кажется ли тебе, что пора об этом подумать?
Он кивнул головой.
41
Они грустно проводили вечер одни, за чтением. Когда затрещал дверной звонок, Вестл удивилась:
— Одиннадцатый час, кто бы это мог быть? Наверно, братец Роберт притащился поныть и повздыхать в свое удовольствие. Давай, я пойду открою. Скажу ему, что мы уже собирались спать.
Стукнула дверь, и сейчас же раздался шум голосов и громкий вызывающий хохот. Нийл вскочил, готовый к драке, но услышал, как Вестл, голосом, похожим на чуть резковатую флейту, приглашает:
— Пожалуйста, пожалуйста, заходите. Мы очень рады… Как мило с вашей стороны!
В дверях показались три черных лица и одно напудренное до мертвенной белизны, все с одинаковым злорадным весельем в глазах, — Борус Багдолл из «Буги-Вуги», Хэк Райли, демобилизованный солдат-негр, девушка-полька по имени Фэйдис — фамилии ее никто не знал — и черная роза Белфрида Грэй, которая тотчас же затараторила:
— Говорила я, что когда-нибудь войду в этот дом с парадного крыльца, что ж, вот и вошла!
— Вот и вошли! — ласково согласилась Вестл.
Самоуверенный, но томный, подтянутый, как летчик в полете, с тонким носом, задорно темневшим над ослепительно пестрым галстуком, черный ястреб, гроза и ужас мелкой птахи, Борус подмигнул Вестл, с насмешкой глянул на озадаченного Нийла и сказал спокойно:
— Добрый вечер. Моя фамилия — Багдолл. Я содержатель кабака. До меня дошли слухи, что в городе появилась новая смешанная пара, а я в таких случаях всегда захожу и приглашаю в компанию.
Фэйдис подхватила:
— Да, мы с ним тоже смешанная пара. Он раньше гулял с Бел, но Бел с Хэком спелись лучше, и Борус теперь мой кавалер, а я такая же белая, как вы, может, даже побелее, но своего чернушечку я просто обожаю! Да, да, Вестл, у меня тоже дружок из цветных, как и у вас, и до чего же мне с ним хорошо!
Нийл шумно потянул носом воздух, готовясь дать отпор непрошеным гостям, но тут прозвучал голос Вестл, отчетливый, тихий, уловимый только для мужа:
— Нет. Я хочу, чтобы ты увидел своих интеллигентных друзей во всей красе!
И вслух приветливо:
— Садитесь, пожалуйста. Как ваши дела, Белфрида? Извините, я, может быть, слишком фамильярна?
Она говорила так просто, так весело, что, в сущности, уже сорвала их затею. Борус, знаток светских отношений, стоял в непринужденной позе, чуть-чуть возвышаясь над Вестл; отдавая ей должное, он сказал:
— А знаете, дамочка, вы славный малый.
Он смотрел на нее, забавляясь, как будто знал все ее мысли, и снобистские замашки, и великодушные порывы, как будто повидал ее и в вечернем платье и в купальном костюме; и в конце концов под этим взглядом она покраснела и не выдержала. Она торопливо проговорила:
— Нийл, я пойду принесу твоим друзьям чего-нибудь выпить. Ты пока займи их.
Он отметил про себя, как держится Борус — насторожен, подтянут, весь наизготовку, — и сказал, медленно выговаривая слова в предчувствии скандала:
— Зачем, собственно, вы сюда явились?
— Может, просто подразнить вас, а может, посмотреть, что же вы такое — в самом деле свой или же очередной проповедник-любитель, специалист по расовому вопросу из интеллигентов. Нам любопытно, уживетесь ли вы с нами, с угольщиками, Нийл.
Он подумал, что следовало бы обидеться, но почувствовал, что обиды нет, что высокие, затейливые социальные перегородки, отделявшие, казалось, капитана Кингсблада (из рода Кингсбладов!) от черного кабатчика Багдолла, были перегородками призрачными и что, пожалуй, неплохо бы опереться на дружбу такого Багдолла, когда все Федеринги пойдут на него войной.
— Хочу ужиться, Борус, — сказал он очень серьезно. — Но пока мне трудно. Я хотел бы знать, могу ли я рассчитывать на вас.
— Еще бы! — закричал Хэк Райли, а Борус протянул: «Пожалуй», — и это прозвучало, как обещание или как полуобещание, если не на сейчас, то на будущее.
Вернулась в комнату Вестл с большим деревянным подносом, уставленным бутылками, сифонами, льдом. Хэк встал, неуклюже протянул к подносу руки, но проворный Борус опередил его и тотчас же принялся сбивать коктейли, а Хэк и Фэйдис боязливо оглядывали комнату, дивясь царившему в ней безмятежному спокойствию. Потом все выпили, и сразу все изменилось: не было больше непрошеных черных гостей и надменных белых хозяев, а просто шестеро молодых людей от души веселились, хохоча и не особенно стесняясь в выражениях. Хохотали и над анекдотами Боруса о жадности белых полисменов, и над суждениями Хэка о белых сержантах, и над тем, какое лицо было у Вестл, когда она открыла дверь и увидела их.
Белфрида стала расспрашивать:
— Как Бидди?
— Ой, такая огромная стала! — отвечала мамаша Вестл.
— Вы ей побольше цветной капусты давайте.
— Я даю.
— А как Ниггер, то есть Принц? — спросила Белфрида.
Не обошлось, разумеется, и без расовой темы.
В вопросах негритянской культуры Борус был одного мнения с мистером Федерингом.
— И на что черномазому театры — было бы в кармане побольше да девочка хорошая, беленькая или черненькая, все равно, — издевался он.
Хэк Райли признался:
— Я думал заставить вас поплясать, капитан, но вы, оказывается, свой парень. Достанется вам от белой сволочи. Да наплевать! Мне всю жизнь достается! Посмотрел бы я, как вы станете грузить ящики или мыть посуду.
Они просидели не больше часа. Прощаясь, Белфрида потрепала Вестл по руке, а затем вся развеселившаяся компания укатила в роскошной машине Боруса, крича:
— Вы ребята что надо! Приезжайте в «Буги-Вуги».
Когда-то их предки плелись вдоль обочины дорог, по которым белый господин скакал верхом, но в автомобиле негр мчится так же быстро, как и белый.
Нийл начал:
— Они, конечно, сорвиголовы, но славные. И это надежные друзья, если когда-нибудь нам понадобится их дружба. Теперь ты понимаешь, почему я отношусь к ним серьезно?
Вестл смерила его холодным взглядом.
— Друзья? Этот сброд? Мой милый мальчик, ты совсем с ума сошел.
— А мне казалось, что они тебе понравились.
— Просто я не желала, чтобы нам перерезали глотки.
— Фу, чушь какая! — возмутился Нийл. — Они гораздо добропорядочнее Кертиса Хавока и уж, наверно, умнее.
— Это нетрудно! Но ты, что же, хочешь сказать, что тебя не приводит в ярость усмешечка этого отвратительного Багдолла? С удовольствием выпорола бы его! Я не южанка, но я до мозга костей белая!
— Мне еще меньше нравится, когда Элиот Хансен смотрит на тебя маслеными глазками и всячески норовит потрогать тебя! Борус — смелый человек, помимо всего прочего. Может быть, придет время, когда мы рады будем поселиться рядом с ним.
— Ты будешь рад. Но не я. Я там жить не буду!
— Вот как? Ну хорошо, я пойду прогуляюсь перед сном.
Он чувствовал смутное желание изменить своей деспотичной жене — как многие укрощенные молодые мужья, когда на них находит сомнение, когда им кажется, что в других, неизведанных, более жарких объятиях можно найти ответ на все недоумения и вопросы. Ему томительно хотелось позвонить по телефону Софи Конкорд.
И потому, проведя пять минут в одиночестве на холодной улице, он вернулся домой и до полуночи препирался с Вестл.
Наступил февраль, и пешеходы скользили на тротуарах, коварно припорошенных снежком. Машины буксовали и съезжали назад на крутых подъемах, и целый день в воздухе стоял раздражающий скрежет цепей.
В столице республики несколько южных сенаторов не дали остальным титанам даже поставить на голосование законопроект о запрещении владельцам предприятий отказывать людям в работе из-за цвета кожи.
Снова Форт Самтер подвергся обстрелу, а Крайний Юг снова отступил от Американской Конституции, и на этот раз еще больше нашлось на Севере твердолобых, оказавших ему поддержку. Новый Джефферсон Дэвис еще не появлялся, но южные идеалы получили точную формулировку, прозвучавшую как сигнал к вооруженному восстанию, — в словах старого аристократа-плантатора, мистера Дэвида Л.Кона, на любезно предоставленных ему страницах «Атлантик Мансли»:
«Есть среди белых и негров такие, которые хотели бы правительственным указом отменить сегрегацию на Юге. Пусть остерегаются. Для меня нет сомнений, что в этом случае каждый белый южанин тотчас схватится за оружие и в стране заполыхает огонь гражданской войны».
Не было теперь Линкольна, чтобы призвать народ под ружье, и потому через восемьдесят пять лет после своего начала война между штатами закончилась победой Юга. И в маленьком промерзшем городке одного из северных штатов негру по имени Нийл Кингсблад грозила опасность лишиться работы, не из-за небрежности или неопытности, а лишь из-за цвета кожи — хотя кожа его вовсе не была черного цвета, и бог по-прежнему царствовал в небесах, и все вокруг было таинственно и непостижимо и полностью лишено какого-либо смысла.
42
— Учитывая историю англичан, французов, голландцев, испанцев и португальцев, количество путешествий, которые они совершали в экзотические области своих империй, и число прислужниц, которых они вывозили оттуда, учитывая походы мавров на юг в Африке, и на север в Европе, учитывая, наконец, воздействие теплых южных ночей на человеческую природу, можно высказать предположение, что в каждом «белом» жителе Европы и обеих Америк есть, вероятно, частицы «негритянской крови».
Так ораторствовал Клемент Брэзенстар, снова гостивший в Гранд-Рипаблик у Вулкейпов. Нийл очень рад был вновь увидеть его выразительную черную физиономию, но дерзкая теория Клема задела его за живое. Какой смысл в той сложной нравственной пытке, которую он для себя придумал, если можно доказать, что и Вестл, и Джон Уильям Пратт, и Уилбур Фердеринг, и Родней Олдвик — все такие же «цветные»?
Клем в этот вечер бросил еще несколько бомб.
Если в тех районах Юга, где цветное население составляет семьдесят — восемьдесят процентов, белые обеспокоены таким численным превосходством, у них есть отличный выход — помимо нарушения законов и превышения власти. Они могут воспользоваться той самой возможностью, которую столько раз великодушно указывали недовольным неграм: убраться вон.
Можно ожидать, что механизация сбора хлопка и применение культиваторов для рисовых посевов в ближайшие пятнадцать лет перегонят на Север четыре или пять миллионов сельскохозяйственных рабочих-негров. И правоверным северянам придется, пожалуй, задуматься над трудностями новой, Белой Проблемы.
Там, где негры, восстав, вступают в жестокие схватки с белыми лавочниками и полисменами, их жестокость прямо пропорциональна той жестокости, которую приходилось терпеть им самим. Таков древний биологический закон восстаний.
Предрассудки — ценнейшая наследственная прерогатива невежд; пусть семь величайших мудрецов мира, находясь в здравом уме и твердой памяти, битых семь часов доказывают, что негр типа Аша Дэвиса как избиратель и застольный собеседник ничем не хуже обыкновенного белого бутлегера, — настоящий южанин, а особенно южанка, выслушав до конца, вежливо улыбнется и скажет: «Вы, друзья, не знаете ниггеров, как я их знаю, и потом согласились бы вы, чтобы ваши семь дочек вышли замуж за негров?»
И Клем весело хохотал.
Нийлу пришлось уйти в полночь — час, когда в расовых спорах только-только разгораются страсти. У самого дома Вулкейпов он наткнулся на Уилбура Федеринга, прогуливавшегося с независимым видом.
Уилбур развязно окликнул его:
— Привет, Кингсблад! Хорошо провели вечерок? Вы, я вижу, вроде меня: тоже любите на месте изучать жизнь угнетенных чернокожих.
Так, значит, это от Уилбура исходили сведения Рода Олдвика об «Агитаторах»!
Нийл что-то буркнул в ответ и пошел своей дорогой.
На следующее утро в банке он увидел мистера Федеринга, оживленно беседующего с Эшиелом Денвером. Спустя некоторое время мистер Денвер вызвал его к себе.
— Нийл, я хотел бы, чтоб вы считались с желаниями мистера Пратта. Это достойнейший человек, человек образцовых нравственных правил. Он мне рассказывал, как однажды в детстве, когда он еще жил в Мэне, у него не оказалось цента, чтобы положить в кружку воскресной школы; но как только он раздобыл этот цент — заработал на стрижке газона, — он прошел пешком пять миль, чтобы вручить его своему наставнику, и наставник, владелец обувного магазина, был так тронут благочестием ребенка, что подарил ему пару почти совсем хороших галош! Что же касается отношения ко всем нам, своим сотрудникам, то тут мистер Пратт просто безупречен.
— Что случилось, мистер Денвер?
— Гм, дело в том, что некоторые из наших солидных вкладчиков выразили неудовольствие по поводу того, что у нас работает неариец. Вы же нас знаете, Нийл. И мистер Пратт, и я, мы на все готовы для вас. Но…
Был, впрочем, один вкладчик, которого общество Нийла никак не смущало, — Люциан Файрлок, и однажды он даже прислал ему, в его одинокую клетку, записку с приглашением позавтракать вместе. Нийл обрадовался. Уже две недели он завтракал один, забираясь в какой-нибудь захудалый ресторанчик.
Они отправились к Оскару, в «Монпарнас», прибежище моды и вкуса, более даже изысканное место, чем «Фьезоле». Когда они вошли в зал, Нийлу почудилось, что на него устремлены презрительные и враждебные взгляды, и он пожалел, что пришел, не столько из-за себя, сколько из-за Люциана.
Их встретили очень любезно, отвели им прекрасный столик, но он тотчас же заметил, как Рэнди Спрюс и Бун Хавок оглянулись на него и подозвали к своему столу метрдотеля. И, может быть, это было его воображение, а может быть, и в самом деле у официанта, ожидавшего заказа, вдруг появился нахальный панибратский тон. Он стоял, отставив ногу, прищелкивал языком и, наконец, спросил довольно небрежно:
— Телячья отбивная подойдет?
— Хорошо, можно телячью отбивную, — сказал Люциан, а Нийлу не захотелось ответить.
Тогда официант обратился непосредственно к нему:
— Ну, а вам, братец?
— То же самое.
— Не пожалеете, ребята. Наши лучшие клиенты всегда заказывают и довольны бывают!
А может быть, он просто фамильярничает по неопытности? Люциан хмурился, и Нийл тотчас же решил про себя: «Будь я один, мне было бы наплевать. Значит, незачем ходить в ресторан с белыми друзьями, незачем ставить их в неловкое положение. Ведь этого даже и объяснить нельзя. Скажешь — не поймут. Спросят: «А почему же вы молчали, не пожаловались?»
За завтраком речь не сразу зашла о Негритянском Вопросе, говорили о Дайанте Марл, супруге газетного магната. С исключительным упорством и непосредственностью Дайанта стремилась прибрать к рукам все культурные начинания в городе, от маленького театра до Ассоциации Международной Политики, и, может быть, это даже удалось бы ей, если б она умела остановиться после третьего коктейля.
(Честное слово, Нийл поймал себя на мысли о том, пристало ли ему говорить в таком тоне о белой леди.)
Вдруг Люциан выпалил:
— Я знаю, что вы перестали бывать в Федеральном клубе. Почему?
— Я больше не член клуба.
— Они не посмеют вас выгнать.
— Допустим. Но что это докажет?
— Не знаю, — пожал плечами Люциан. — Может быть, это докажет несостоятельность всех моих доводов в пользу сегрегации, основанных на признании внутренних различий между неграми и белыми. Ах, Нийл, дорогой мой друг, ведь мы едва знакомы, а вы уже внушили мне всякие еретические мысли. Пожалуй, даже лучше, что мы не успели познакомиться ближе. А то вдруг бы я оказался розенкрейцером или огнепоклонником!
Нийл вернулся в банк с высоко поднятой головой.
Во второй половине дня мистер Пратт вызвал его к себе и сказал, на этот раз без сочувственных экивоков:
— Я просил бы вас больше не давать повода к разговорам, появляясь в публичном месте в обществе белого. Обещаете?
— Что такое? Конечно, нет! Ни в коем случае.
— Нийл, я проявил достаточно великодушия, продолжая держать вас, несмотря на все нарекания вкладчиков. А вы — оценили вы это? Не далее как вчера вы провели вечер в доме у негра по фамилии Вулкейп, в компании чернокожих смутьянов, которые замышляют подрыв всей нашей экономической системы.
Нийл встал.
— Если вы могли поверить этому, значит, вы всему способны поверить. Прошу вас освободить меня от работы в банке.
— Это самый лучший выход, Кингсблад, и я постараюсь забыть о том, что вы злоупотребили нашим долготерпением.
Мистер Пратт протянул кончики пальцев, но Нийл не взял их.
— Отлично, сэр, только я не пожимаю руки белым. Всего хорошего, сэр.
Он поискал С.Эшиела Денвера, чтобы проститься. Он увидел, как главный бухгалтер шмыгнул от него в кладовую.
С фотографией Вестл и Бидди под мышкой Нийл вышел из подъезда банка — безработный негр.
Срок последнего платежа за дом уже наступил, но это составляло немного, две-три сотни долларов, а у него был текущий счет на 1127 долларов 79 центов и любящая жена.
В текущем счете он не сомневался.
43
Для Вестл, наследницы целого легиона Бихаусов, безработный в семье был таким же непривычным явлением, как чиппева или готтентот. Но ей было пятнадцать лет, когда разразилась паника 1929 года, и она помнила, как вполне добропорядочные люди, питомцы Йеля и Дартмута, после краха своих биржевых предприятий мужественно продолжали бороться за существование, имея не более десяти тысяч в год.
Отсутствие твердого дохода у Нийла ее не тревожило. Вопрос сводился к тому, примет ли он должность в «Блю Окс» (очевидно, с повышенным окладом) или же предпочтет более скромный Торговый и Горне-Промышленный Банк.
Нийл и сам не имел опыта в деле приискания работы, если не считать одних школьных каникул, когда, вооружившись травокосилкой дяди Эмери Саксинара, он решил заняться отхожим промыслом в качестве садовника (за все лето ему удалось подстричь три газона по тридцать пять центов за каждый, и дело оказалось явно бесперспективным, так как заработок он тут же пропивал в киоске с газированной водой). Место кассира во Втором Национальном досталось ему после окончания колледжа так же легко и естественно, как часы — подарок отца в день выпуска.
Он еще не знал, что миру просто нет дела до судьбы незаметных мятежников, решивших выйти из благополучного лагеря праттов. Мир не преследует их, не травит, только велит передать: «Дома нет», — когда такой человек приходит сказать, что умирает с голоду.
Национальный Банк «Блю Окс» Нийл не пожелал осчастливить предложением своих услуг — нет уж, слишком противны ему были Хавоки. Лучше он удостоит этой чести Торговый и Горно-Промышленный и своего тихого друга-кассира, мистера Топмена. Но Вестл требовала, чтобы это было обставлено импозантно: он должен явиться в машине. Нет, нет, она собирается только в Дамский клуб на партию бриджа и отлично может доехать автобусом.
Он твердым шагом вошел в темноватое и тесноватое помещение, но мистер Топмен при виде его отскочил, как будто знал наверняка, что Нийл кусается. С явной неохотой старик проводил его к директору банка, который долго не мог припомнить Нийла, — хотя когда-то на теннисном турнире «Вереска» восхищался его игрой, — и наконец процедил сквозь зубы:
— К сожалению, у нас нет ни одной вакансии.
Уже менее бодро, с каждым разом теряя немножко бодрости, Нийл побывал в других банках, в маклерской конторе, в Северном Страховом Обществе Скотта Зэго.
Мистер Зэго был занят срочными делами — так объяснил Нийлу Верн Авондин, управляющий конторой, изысканно вежливый пожилой джентльмен, знававший лучшие времена. Газон мистера Авондина был одним из трех, в свое время обработанных предприимчивой фирмой Нийл и Кo, и мистер Авондин тогда спросил мальчика: «Ну, какие великие подвиги ты собираешься совершить в жизни? Достать Золотое руно или лампу Аладина?»
«Буду врачом или летчиком, я еще не решил окончательно», — отвечал ему Нийл.
Этот самый Верн Авондин в качестве секретаря Федерального клуба недавно позвонил Нийлу по телефону и сообщил, что его заявление о выходе из членов принято. Сейчас он слушал сбивчивые объяснения Нийла, сводившиеся к просьбе о работе, с таким видом, как будто его даже забавляло нахальство этого цветного. Он не стал утруждать себя словесным отказом. Он ограничился улыбкой.
В «Эмпориуме» Леви Тарр объяснил, что бухгалтерия и отдел кредитования укомплектованы полностью, но, может быть, Нийла устроит место продавца?
— Я бы вам советовал. Оклад небольшой, но вы, конечно, очень скоро дослужитесь до агента по закупкам. А я со своей стороны был бы очень рад: во-первых, приятно иметь дело с интеллигентным человеком, а во-вторых, я давно пытался уговорить отца принимать на работу негров. Вы будете, так сказать, пробным шаром.
Нийл очень вежливо соврал что-то о «других предложениях».
«Мне быть пробным шаром! Мне стоять за прилавком и ублажать всяких старых дур! Отмерять им ленты, и кружева, и черт их там знает, что еще!»
Пересиливая себя, он поплелся в Энергосвет Прерий, к своему тестю Мортону Бихаусу, с которым сознательно избегал встреч после Нового года и от которого Вестл с тех пор не получила ни единого цента. Глядя на высившийся перед ним непроницаемый дубовый фасад, Нийл говорил:
— Я не прошу, чтобы мне дали место из милости. Я хороший работник и уверен, что могу быть полезен.
— И вы, вероятно, также уверены, что можете должным образом обеспечить мою дочь — после того как восстановили против себя всех порядочных деловых людей в городе? Так вот, учтите: если для вас и найдется какая-нибудь работа в этом учреждении, это будет только из милости!
— Учту, — сказал Нийл, закрывая за собой дверь.
Это произошло на второй день его поисков, и вечером того же дня, в слякоть и непогоду, он отправился в Саут-энд нащупать почву в одном Обществе Домашнего Кредита. Машина скользила по обледенелой мостовой, и он заехал в гараж, чтобы надеть цепи. На мокром полу, сбивая лед с автомобильного крыла, лежал негр-мойщик в засаленном комбинезоне; при виде Нийла он заулыбался и робко помахал ему рукой. С усилием, холодея от ужаса, Нийл признал в этом человеке капитана Филипа Уиндека, которого он видел в «Буги-Вуги» таким подтянутым и осанистым, в форме военного летчика.
— Фил! — вскричал он с волнением, которое удивило обоих.
— Здравствуйте, капитан… здравствуйте, Нийл! — нерешительно поправился человек в грязном комбинезоне.
Когда были пройдены неизбежные подступы к разговору, Нийл поинтересовался:
— Ну, а как ваши дела с училищем? Думаете, удастся вернуться?
— Кажется, у меня не хватит выдержки начать сначала всю эту головокружительную карьеру — через учебную аудиторию к положению офицера и джентльмена, а затем к ведру и тряпке. Сегрегация заедает. Когда я стал искать работу, оказалось, что мое офицерское звание только портит дело. Белые механики воспринимают это как личное оскорбление.
И вот я вступил на торный путь негров. Дай бог вам никогда не знать этого пути: из города в город — из Омахи в Даллас, из Сиэтла в Питсбург, приедешь в одно место — негров на работу не берут, но будто бы берут в соседнем; мчишься туда в товарном вагоне — оказывается, ничего подобного. В конце концов я стосковался по Гарнет, по родному городу. Ведь я родился здесь, люблю эти холмы, эти речки. Вот я и вернулся; сколочу несколько долларов, и можно отправляться снова — или в училище, или в погоню за работой.
Когда я прихожу в механическую мастерскую, я всегда прошу: испытайте меня, дайте выточить любую деталь на револьверном станке. И всегда слышу в ответ одно: как же, станем мы портить дорогой механизм в угоду черномазому мойщику автомобилей.
Он укоризненно посмотрел на Нийла, но Нийл в ответ произнес совсем просто:
— Фил, я тоже негр и тоже потому лишился работы. — И сейчас же всякая неловкость исчезла, и, тщательно вытерев руку о чистую тряпку. Фил протянул ее другу — такому же, как он, капитану, такому же, как он, безработному бедняку.
После конца рабочего дня, успев получить еще один отказ, Нийл вернулся в гараж, и они вместе с Филом пошли выпить кофе в Кафе Автомобилистов, владелец которого давно перестал разбираться, кто из его перепачканных маслом посетителей «белый», а кто «цветной».
Фил рассказывал:
— Вы, верно, знаете моего отца, старого Клота Уиндека, он служит лифтером в Национальном Банке «Блю Окс». Бедный старик все никак не переварит мой упадок и крушение. Он любит говорить, что это я от него унаследовал вкус к полетам — ведь он водит лифт на высоту двенадцати этажей.
И продолжал:
— Однажды в моих странствованиях выдалась у меня счастливая неделя. Это было в Денвере, я получил место шофера такси и с понедельника выехал на работу; машина — красавица, новенькая, темно-вишневая, я старался, как мог. Заставлял себя вовремя говорить «да, сэр», «да, мэм» и получать чаевые так же спокойно, как прежде получал офицерское жалованье. Все шло прекрасно, ни аварий, ни стычек, даже полисмен не придрался ни разу, но во вторник один белый красавец устроил в гараже скандал — с какой стати ему дали цветного шофера-неуча; и в среду я был уволен. В четверг мне удалось устроиться водителем грузовика. Четыре белых шофера подстерегли меня, избили и подожгли мою машину, — и знаете, я решил, что хозяину об этом сообщать не стоит, сел в товарный поезд и укатил в Шайенну. «Америка, я люблю твой обычай дружбы, твоих сильных людей, камерадос, друг за друга стоящих в труде!» — Уолт Уитмен.
Нийл подумал вслух:
— Когда-нибудь и мне придется столкнуться так с белыми. Фил, если уж очень становится невмоготу, вам никогда не приходит мысль о пулеметах?
— Иногда приходит, но я сейчас же гоню ее. Да, белым людям и не измерить всей силы терпения цветных во всем мире. Тягаться с нами в этом может только господь бог.
Ни с Джадом Браулером, ни с щеголем Элиотом Хансеном у него никогда не выходило такой непринужденной и страстной, такой возвышенной и кощунственной беседы. Но в машине по дороге домой он думал о том, что у Вестл всегда найдут радушный прием и Джад и Элиот, но только не Фил Уиндек, не измазанный мойщик машин, не человек, которому кричат: «Эй, малый!»
Он уплатил последний взнос за свой дом.
— Вот теперь это уже наше, совсем и навсегда! — радовался он, и вместе с Вестл они прошлись веселым танцем по синетерракотовой гостиной, по стеклянной веранде, по маленькой столовой с красным деревом и хрусталем.
— Нет, Нийл, скажи по-честному, даже если б ты не знал, чей это дом, ты все равно сказал бы, что он — прелесть? — восторженно кричала Вестл.
— Конечно, сказал бы!
Не стоило, пожалуй, в эту минуту говорить ей о том, что в банке у него осталось всего 767 долларов 61 цент, что его военная пенсия почти ничего не составляет и что игра в молодого белого джентльмена, притворяющегося безработным негром, быстро теряет свою романтическую прелесть.
Но спустя несколько дней он должен был признаться ей, что у него нет никакой надежды на получение работы.
— Придется тебе помочь мне — хоть чем-нибудь, — сказал он.
Вестл принялась действовать. Она отказала Шерли, но сделала это так мило, что Шерли просила крепко-прекрепко поцеловать от нее Бидди и ушла, полная сочувствия к Вестл, такой же, как и она сама, жертве мошенников с Уолл-стрита.
Вестл стала экономить на еде, отменила почти обязательное хождение в кино, с угрозой отмечала неуменьшавшийся аппетит Принца и решительно заявила Бидди, что никакого пони она не получит.
Потом они продали машину. В Соединенных Штатах это все равно что сказать: «Потом они продали своих четырех дочерей в рабство».
Благодаря послевоенной нехватке машин им удалось получить довольно приличную цену. Но совсем не иметь автомобиля значило умереть в глазах общества — по крайней мере для Процветающего Американского Дельца и Деятельной Молодой Матроны, пытающейся сохранить свой престиж, хотя закадычные подруги и смотрят на нее так, словно только что впервые увидели ее и она им не очень понравилась.
Взамен других даров, которых то и дело требовала Бидди, Вестл купила ей за пятнадцать центов книжку комиксов. Знакомясь с этой увлекательной литературой, занявшей в современной Америке место сказок братьев Гримм, Нийл обнаружил, что на многих рисунках изображены негры в нелепом и пакостном виде.
Но он промолчал, устав от нотаций, только незаметно украл у собственной дочери ее сокровище и бросил в огонь, а потом долго сидел и с тревогой раздумывал о будущем Бидди-негритянки. Где будет она учиться, где сможет работать, кто возьмет ее замуж, когда весь мир узнает про «это»?
Ему казалось, что он слышит упрек Вестл: «Обо всем этом нужно было подумать раньше, а не рубить сплеча».
Ему казалось, что он слышит бормотание Уилбура Федеринга: «С.б.в.ч.в.д.в.з.з.н.?» Да, да, спрашивал он себя, согласился бы он, чтобы Бидди вышла замуж за юношу вроде Уинтропа Брустера?
«Отчего же, если б только Уин польстился на такого неугомонного деспота, как Бидди! Я не знаю юноши умнее и обаятельнее.
Нет, все-таки белый человек неисправим, и он — самая страшная ошибка природы после землетрясений и бубонной чумы; подумать только: я размышляю, достоин ли Уинтроп тех, кто гораздо хуже его, и еще умиляюсь, какой я великодушный, что размышляю об этом!»
Но Вестл он об этих размышлениях не сказал ни слова.
Когда на следующее утро Орло Вэй ехал к себе в оптическую мастерскую в своей комфортабельной, теплой машине и увидел, как этот ниггер Кингсблад, этот нищий, у которого нет ни автомобиля, ни прислуги, бредет на ветру по заснеженной улице, начиная свой день безработного в поисках места, увидел, как он поскользнулся на льду и завертелся, точно живой волчок, и замахал руками, стараясь не упасть, — Орло даже засмеялся от морального удовлетворения.
Зато Вирга, миссис Орло Вэй, смущаясь и нервничая, пришла угостить соседку слоеным пирогом, и Вестл, яростно орудуя щеткой и пылесосом, не знала, растрогаться ей или оскорбиться. Ибо в том слоеном пироге, который представляло собой общество Сильван-парка, миссис Вэй определенно относилась к более низкому слою — до сих пор по крайней мере было так.
44
Вестл не мирилась с этим отшельническим существованием. Она любила гостей, любила вечеринки. Ей не нравилось сидеть дома и утешаться возвышенными принципами.
Ее отец, непререкаемый авторитет в вопросах общественной морали, полагавший, что брачные контракты, так же как и договоры на снабжение электроэнергией, заключаются на небесах, тем не менее уговаривал дочь покинуть законного мужа, вернуться в родительский дом и добиваться развода. Тогда она снова во всеоружии своего арийского достоинства сможет бывать на вечеринках, где едят крабовый салат и играют в «мнения». Если же дело не пойдет, он обещал отправить ее в какую-нибудь отдаленную живописную местность, где никто не будет знать о лежащем на Бидди темном пятне.
Когда она заходила повидать отца, он поднимал голову от письменного стола — причем казалось, что это сам письменный стол поднял голову, — и веско произносил:
— Зачем портить себе жизнь, девочка? Я беседовал с твоим дядей Оливером и с преподобным Ярроу, людьми, больше чем кто-либо склонными уважать святость брака — когда это настоящий брак. Но они оба согласны со мной, что нельзя считать брак настоящим, если женщина была хитростью вовлечена в союз с невменяемым отцеубийцей, дегенератом или же негром, а когда человек в какой-то степени и то, и другое, и третье… Мы даже не будем требовать для тебя развода с этим Кингсбладом, мы будем требовать, чтобы брак был признан недействительным.
— Чушь.
— Что ты сказала?
— Я сказала: чушь.
— Ты считаешь, что это подходящее слово для разговора с отцом?
— Я очень люблю Нийла. Он добрый и веселый — по крайней мере был таким, пока не превратился в ходячий митинг. И, кроме того, я не хочу предавать его.
— Но ты предаешь меня.
— Возможно.
— В таком случае прошу не рассчитывать на…
— Мы и не рассчитываем. Нам не нужно. Мы больше не возьмем у тебя ни цента. И, между прочим, Нийлу предложили замечательное место в… нет, я ничего не скажу, пока это не будет окончательно решено. Папа! Неужели ты хочешь погубить меня?
— Нет, я хочу спасти тебя.
И опять все сначала.
Что бы ни думал щеголь Элиот Хансен о Нийле Кингсбладе, этом классо— и расоотступнике, — жене Нийла он давал понять, что все происшедшее лишь увеличило его, Элиота, дружеское чувство к ней и что он смиренно готов служить ей советом, участием, мелкой монетой, разговором об опере, братскими рукопожатиями и вообще всем, что только может ей пригодиться. Такая неистощимая преданность в сочетании с элегантным худощавым изяществом Элиота и его манерой глядеть на нее, склонив голову набок, словно такса на задних лапках, создавала для Вестл более опасный соблазн, чем можно было бы ожидать.
В том кружке, который еще несколько недель назад представлял собой «компанию» Нийла и Вестл, мужчины, за исключением Элиота и Кертиса Хавока, не были развратниками. Они принадлежали к типу добропорядочных отцов семейства, способных смутиться, попав в чужую спальню, и спасовать при виде розового дессу. Слово «роман» (если бы они когда-нибудь задумывались над значением каких-либо слов, кроме «торговый баланс», «пропускная способность» или «этот, как его — фашизм») скорее могло вызвать у них представление о толстой книге, чем о любовных отношениях. Зато Элиот с лихвой искупал робость своих товарищей. Распутство было его специальностью, точно так же, как специальностью Джада Браулера была ловля форелей, а Тома Кренуэя — приготовление салата. Достаточно было какой-нибудь скучающей жене на людях обменяться улыбками с Элиотом, чтобы у нее появился новый интерес в жизни и пострадала репутация. В космосе, именуемом Гранд-Рипаблик, можно найти в миниатюре решительно все, и Элиот Хансен являл собой Казанову, царя Соломона и избранные места из похождений маркиза де Сада в обработке для массового чтения.
Даже посещение дома Элиота, хотя бы в качестве гостьи его жены Дэзи, уже давало повод к кривотолкам, и Вестл пришла туда лишь потому, что состояла в цветочном комитете приходской церкви вместе с Дэзи, Помоной Браулер и Вайолет Кренуэй. Они были приглашены к Дэзи на чашку чаю, и так как, к их возмущению, угощали их именно чаем, а кроме того, все они терпеть не могли друг друга, то добрые приятельницы сосредоточили свое внимание на Вестл и дали ей понять, что не прочь бы услышать кое-какие подробности о ее незадаче с Нийлом.
— Что это я слыхала, будто Нийл переходит в другой, более крупный банк? — осведомилась Вайолет, что следовало понимать так (во всяком случае, так поняла уязвленная Вестл): «Что ж теперь будет с бедным дурачком после того, как его уволили с работы?»
— А как его нога, сможет ли он летом играть в теннис? — участливо спросила Помона, очевидно, желая сказать: «Посмеет ли он сунуться в наш милый клуб, не опасаясь, что здоровые, сильные, оскорбленные в своих семейных чувствах аристократы вроде моего мужа измолотят его наглую черную физиономию!»
Дэзи Хансен продвинула зонд глубже:
— Ах, я просто без ума от вашего мужа. Интересно, вот вы постоянно находитесь в его обществе, так неужели для вас он так же привлекателен, как и для нас всех? — что Вестл перевела так: «Ну-ка, расскажите нам, как вы гоните от своей постели этого мерзкого обманщика теперь, когда всем уже известно, что он… ну, вы знаете кто».
Вестл в ответ на все это довольствовалась тем, что рисовала им Нийла по меньшей мере новым Аполлоном с отдельными чертами Аякса и св. Себастьяна.
Был ли такой скрытый смысл в вопросах собеседниц, таился ли за их участием злорадный интерес к ее трагедии или это только мерещилось ее больному воображению — Вестл все равно было не по себе от этого допроса, от эксцентрической роли жены негра, которую ей навязали, и она почувствовала облегчение, когда вошел Элиот и тотчас же воскликнул:
— Что это, девушки, вам даже не дали коктейлей! Пойдемте, Вестл, вы мне поможете исправить эту ошибку.
Отлично оборудованная буфетная этого изысканного, вполне современного особняка с ее белоэмалевым холодильником заменяла Элиоту кафе парижских бульваров, и здесь, над чуть липкой бутылкой итальянского вермута, зародилась не одна из его самых успешных интрижек. С важным видом встряхивая серебряный миксер с вмятиной, оставшейся от того раза, когда Дэзи запустила им супругу в голову, Элиот поглядел на Вестл, которая была на полдюйма выше его, и замурлыкал:
— Вы слышали анекдот про летчика, который установил у себя в самолете тахту?
— Нет — то есть да — то есть я не хочу его слушать.
— Не хотите? Вы лишаете себя удовольствия, детка. Скажите, а вы помните Брэдда Крайли, адвоката, который жил здесь, а потом переехал в Нью-Йорк?
— Да, я была знакома с ним.
— Док Келли был недавно в Нью-Йорке, и вот он рассказывает, что у Крайли сейчас любовница — настоящая профессиональная нью-йоркская актриса, и до чего ж он ее шикарно обставил! Кровать ей купил в шесть футов ширины с матрацем из губчатой резины — представляете?
Затем Элиот столь же последовательно упомянул о любовных похождениях американских офицеров в Европе и о домике, который он себе выстроил на Биг-Игл-Ривер и который среди его друзей на удивительном современном жаргоне именовался «приютом любви». В конце концов Вестл заключила, что он, со всей той изысканностью, какую вырабатывает оптовая торговля мороженым, старается намекнуть ей, что такие вещи бывали и бывают — так чем мы хуже других?
Она едва не задохнулась от сдавленного смеха и негодования.
«Никогда бы он не посмел, если б я не была женой цветного. Ну что ж, теперь я знаю подходец Элиота, знаю, как он действует, когда в его курином мозгу начинают звенеть любовные колокольцы… Мистер Хансен, если вы еще раз дотронетесь до моей руки, я проломлю вам череп вашим собственным миксером.
А самое смешное здесь то, что Борус Багдолл провел бы все это гораздо тоньше. Прохвост-то он прохвост, но лоску у него куда больше, чем у этого кабатчика-любителя; недаром он жил в Гарлеме.
А Нийлу я все выложу — пусть знает, чему мне приходится подвергаться из-за него. До сих пор я не жаловалась, но хватит — со всем этим надо покончить. Переехать в другой город и переменить фамилию, и тогда уж позаботиться о том, чтоб Нийл не затевал опять всю эту возню с доблестными негритянскими предками. Сегодня утром я проснулась с таким тяжелым чувством, точно у меня какой-то грех на душе, и только потом сообразила, что я замужем за негром и должна терпеть это. О господи боже!»
Так она думала, пока обворожительный Элиот встряхивал, пробовал, болтал и улыбался.
45
Он не знал до сих пор, что в жизни большинства людей поиски работы составляют занятие гораздо более постоянное, чем сама работа; занятие тягостное и унизительное и притом неоплачиваемое.
Пешком, чтобы сэкономить на автобусном билете, он тащился из учреждения в учреждение, с фабрики на склад, то и дело скользя на обледенелом тротуаре. В тот год февраль выдался такой морозный, что первая заповедь всякого благонамеренного гражданина и домовладельца — расчищай дорогу перед домом! — превратилась в свою противоположность, так как если сгребали снег, мягким ковром лежавший под ногой пешехода, то при малейшей оттепели, когда сугробы у обочины начинали таять, тротуар покрывался пластами прозрачного льда, на котором прохожий неминуемо либо ломал ногу, либо в лучшем случае хлопался с размаху оземь и сидел, поводя вокруг себя негодующим взглядом.
Ртуть в термометре спускалась все ниже — двадцать шесть, двадцать семь, тридцать два, — и горожане ходили в неуклюжих ботах с пряжками, пристраивали наушники под фетровые шляпы и горько сожалели, что в угоду моде отказались от котиковых шапок, завещанных им более благоразумными предками.
Чиппева-авеню, местное Корсо, в октябре почти по-столичному оживленная и нарядная, теперь представляла собой сплошной каток, по краям которого грязный, слежавшийся снег образовал сероватую насыпь, и через нее приходилось перелезать, расставшись с теплым уютом автобуса. Не было ярких маркиз над окнами, в витринах вместо пестрых летних платьев и красных байдарок были выставлены печки, фланель и лекарства от кашля. Гранд-Рипаблик утратил свой вид молодого, уверенно растущего города, дома стали низкими и убогими и одиноко жались под выцветшим небом, которое, казалось, никогда больше не засияет синевой. На улицах появились санки и лыжи и румяные ребятишки в красных вязаных шапочках, но ничего этого не было в унылых деловых кварталах, где в поисках работы скитался Нийл.
Никогда он не тосковал так по весне, по теплому воздуху, по благотворному солнцу. Он был точно старый старик, гадающий, много ли раз ему еще суждено увидеть цветущее лето.
Блуждая в этом царстве беспросветных сумерек от одной неприветливой двери к другой, он время от времени набредал на предложение работы, но предлагали ему все такие жалкие конторские должности, что принять одну из них значило (или во всяком случае так ему казалось) загубить свою дальнейшую карьеру. «Я теперь никакой работы не стыжусь, но это создаст невыгодный прецедент», — уверял он себя и плелся дальше.
Работы — работы — работы — зябни — броди — ищи.
Больше никаких высокомерных «могу принять солидное предложение». Никаких «ищу места на подходящих условиях». Никаких «оклад роли не играет». Оклад играет огромную, исполинскую роль! Оклад. Деньги, поступающие регулярно, каждую неделю, деньги!
Работы, работы, работы! С утра и до ночи, в холод и в грязь мерить тротуары, шагать больными ногами по неровному льду, черно-серому льду, ногами, уставшими от тяжести бот, устало вязнущими в рыхлом снегу, под нудный, назойливый ритм — работы, работы, работы.
И уже не для банковского дельца, но для усталого негра, вообразившего, что ему нужно жить.
Когда месяц назад он с тревогою думал, что нелегко будет стать нищим негром в этой христианской стране, что трудно будет вытерпеть хотя бы один день, когда угроза пренебрежения станет реальностью, он не представлял себе еще, какая боль его ждет, боль от зимнего холода, боль от оскорблений, боль при взгляде на тощий бумажник, тощий до того, что на завтрак берешь или кофе или суп, боль в натруженных мышцах раненой, искалеченной ноги, которой он едва не лишился, защищая право белых американцев отказывать черным американцам в работе.
Даже если бы когда-нибудь правительство расщедрилось и намного увеличило ему пенсию, едва ли он сможет примириться с праздной жизнью инвалида на пенсии, прозябающего в своем углу, где Вестл и Бидди, поникшие и молчаливые, будут делить с ним его покорное безделье.
Он спрашивал себя: «Бросил бы я этот вызов, объявил бы о своем негритянском происхождении, если б знал, как трудно мне будет получить работу, не скрывая того, что я негр?»
Но тут же гневное упорство овладевало им.
«Иначе я не мог поступить. Я должен был открыться. Работы… Я должен был открыться. Работы… Я должен был… Как болит нога, и как я промерз!»
И все же, заполняя очередную анкету, в графе «Раса» он ставил «Цветной».
В своих поисках он, разумеется, побывал и у Уоргейта, но к Люциану Файрлоку ему не хотелось обращаться, а незнакомый служащий в отделе найма мог предложить ему только место табельщика на двадцать шесть долларов — стариковская должность.
Рассказы приятельницы Вестл, миссис Тимберлейн, об игрушечном фабриканте Флигенде побудили Нийла сходить и туда, и старик принял его ласково, но, по-видимому, в игрушечном производстве не было для него никакого подходящего дела. Мало-помалу Нийл стал понимать, что он, считавший себя высокообразованным и полезным членом общества, в сущности, ничего не умеет, ни к чему не пригоден, кроме туристских походов, организации состязаний по гольфу и службы в банке. Да и в банковском деле он знал только самую простую конторскую рутину и служил украшением Второго Национального лишь потому, что обладал приятной улыбкой, приходился зятем Мортону Бихаусу и был известен всем как несомненный консерватор, христианин и белый.
Он умеет править лодкой, рассуждал он, но хуже любого индейца; умеет водить машину, но хуже любого шофера такси; а искусство жарить бифштексы на костре, в котором он действительно мастер, едва ли может дать ему заработок.
Аш и Софи представились ему в новом свете. При всей своей симпатии он еще недавно смотрел на них немножко сверху вниз. Теперь он понял, что в то время как сам он обречен чуть ли не на голодную смерть, Софи даже во вражеском белом мире не пропадет, найдет себе место, если не в больнице, так на эстраде, а доктор Аш Дэвис, если не получит работы в химической лаборатории, может быть упаковщиком, музыкантом, официантом, поваром, учителем, а пожалуй, — со вздохом подумал Нийл, — и актером шекспировского театра или председателем правления стального треста.
При ближайшей встрече с Софи, Ашем и Мартой бесхитростное дитя среднезападной природы, заметно сбавив тон, обратилось к умудренным опытом столичным жителям с вопросом — где найти работу.
— Деточка, придется мне, я вижу, заняться вами, — вздохнула Софи. — Отправляйтесь на Майо-стрит и берите в оборот Вандербильда Литча. Он и ростовщик, и страховой агент, и похоронных дел мастер, и вообще из тех, кому пальца в рот не клади, кроме того, он единственный у нас в черном городе шпион и сплетник, и он, пожалуй, не поскупится ради того, чтобы иметь у себя на службе цветного, состоящего в родстве с местной сквайрархией.
— Гм, вы так думаете? — сказал Нийл.
А про себя решил: «Нет, так низко я не паду», — и тут же с ужасом понял, что Майо-стрит и негры-дельцы для него все еще «низко» и что Хэк Райли был прав, когда упрекал его, что он просто играет в негра.
Но, хотя он еще не отдавал себе отчета во многом, эта непрестанная погоня за работой не была для него игрой.
Он наведался в типографию своего соседа Тома Кренуэя, но Том и не вышел к нему. На Лэвериковской Мукомольне Джей Лэверик, с которым он сыграл немало партий в покер, предложил ему выпить и спросил, есть ли на Майо-стрит подходящие девочки, но когда Нийл заикнулся насчет работы, Джей вскричал:
— Тебя? На работу? Ну уж, нет. Принципиально не нанимаем вашего брата.
И вот он поступил в «Beaux Arts», но вышло это чисто случайно.
Он брел мимо этого элегантного и дорогого магазина «дамских товаров» — платья, духи в золотых и хрустальных флаконах, поддельные драгоценности, джемперы, нежные, как дыхание непорочного младенца, — и вдруг ему пришло в голову попытать счастья у Харли Бозарда, давнишнего партнера по гольфу, толстого энергичного человека в очках, гордившегося тем, что его знают в нью-йоркских клубах, и кое-что смыслившего в живописи.
Нийл отказался от места продавца у Леви Тарра, но он еще наивно верил, что расхваливать качество нейлоновых чулок женам крупных лесопромышленников на палевых коврах «Beaux Arts» лучше, чем продавать те же чулки домохозяйкам в ситцевых платьях на голом паркете «Эмпориума».
Гранд-Рипаблик был, в сущности, небольшой город, и за исключением магнатов вроде Уоргейта владельцы местных предприятий обычно занимались наймом служащих сами, вместо того чтобы предоставить это какому-нибудь доктору философии, которому психотехнические тесты заменяли глаза. Харли Бозард в своем разделанном «под шелк» кабинете встретил Нийла мужественным, но весьма тактичным приветствием:
— А, здравствуйте, здравствуйте, дорогой! Не видел вас целых сто лет. Как дела?
— О делах-то я и хотел поговорить с вами, Харли. Как вам известно, я довольно хорошо умею считать…
— Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп!
Харли описал в воздухе магический круг своим фарфоровым мундштуком «и с трепетом веки смежил, ибо вспоен росою медвяною был» и давно одержим некоей Идеей. Он был похож в эту минуту на рекламного агента или специалиста по внутреннему убранству домов.
— Нийл! Я до сих пор не развернул как следует свой спортивный отдел, все ждал Человека с Инициативой — может быть, вы и есть этот человек? Поставить во главе отдела превосходного теннисиста, превосходного игрока в гольф, превосходного лыжника, превосходного рыболова, да еще притом заслуженного ветерана войны — ах ты черт! «Капитан Кингсблад овеян воздухом великих просторов — пользуйтесь его консультацией по вопросам спорта!» Потрясающе! Я мыслю себе вас в роли агента по закупкам и заведующего отделом, разворачивающего работу по своему вкусу и усмотрению, но для начала вам не мешает изучить на практике профессию продавца, и в период вашего ученичества я, пожалуй, не смогу платить вам больше чем сорок долларов в неделю — нет, хорошо, сорок пять! Но в дальнейшем вы, безусловно, будете зарабатывать не менее двухсот, и, кто знает, может быть, возникнет вопрос об участии б прибылях! Ну, Нийл, идет?
Нийл сказал:
— Да, идет, — и побежал звонить по телефону Вестл: — Нашел! Нашел работу!
— Милый, как я рада! ты так измучился, и… А что за работа?
— У Харли Бозарда, нечто вроде реорганизации спортивного отдела.
— О!
— Конечно, начать мне придется как бы продавцом…
— О!
Более минорного звука он в жизни не слышал. Не слишком жизнерадостным показался ему и последовавший вопрос:
— А что он сказал по поводу… ну, по поводу цветных кандидатур?
— Что? Ах, черт, он даже и не говорил об этом. И я сам начисто забыл, что я «цветная кандидатура».
— И правильно, потому что никакая ты не цветная кандидатура. Ты — знаменитый капитан К. и моя единственная любовь, и прости меня, что я сразу не выразила восторга. Просто это было для меня немножко неожиданно, вот и все. Мы всегда считали Харли грубоватым малым. Но я уверена, что все будет чудно.
Нийл теперь был уверен в этом гораздо меньше. Он вспомнил, что Харли никогда не вызывал у него особых симпатий. Грузная туша в сером костюме, неумело орудующая клюшкой, — вот как представлялся ему в свое время хозяин «Beaux Arts». Кроме того, Нийл сознавал, что сам он не такой уж знаменитый воин или путешественник, чтобы толпы вздыхающих дев искали его просвещенного совета относительно фасона корзинки для завтрака.
«Не справлюсь? Подумаешь! У меня снова есть работа. Вот что самое важное!»
Он приступил с понедельника. В воскресной газете среди объявлений «Beaux Arts» появился столбец, в котором мистер Харли Бозард почтительнейше уведомлял покупателей, что капитан Нийл Кингсблад, известный своими военными заслугами и спортивными достижениями, согласился принять участие в деятельности первоклассного Английского Магазина Игр и Спорта, входящего в систему «Beaux Arts», и готов предоставить свой богатый и разнообразный опыт в распоряжение всех любителей развлечений на свежем воздухе.
И в тот же вечер химик Коуп Андерсон и преподобный Ллойд Гэд, священник конгрегационалистской церкви, позвонили и сказали Нийлу о том, что Харли Бозард и его адъютанты носятся по городу и шепчут всем: «Приходите к нам посмотреть Негра-Джентльмена за прилавком. Можете задавать ему любые вопросы».
Придя в первый день своей работы в «Beaux Arts», Нийл не увидел уже ни кабинета «под шелк», ни улыбающегося Харли; в темном сыром подъезде для служащих его встретил облаченный в альпаковый пиджак пожилой мизантроп с сальными волосами, который злобно сказал ему:
— Кингсблад, вы должны приходить вовремя и отмечаться вместе со всеми. Ступайте в спортивный отдел, там мисс Гарр покажет вам, как выписывать чеки, и научит вас вежливому обращению с покупателями — поскольку вы на это способны. Вот это будет ваш шкафчик, и, пожалуйста, чтобы он у вас всегда был заперт. И чтоб вы как можно дальше держались от чужих шкафчиков. Понять не могу, как это допускают черномазого одеваться и раздеваться рядом с порядочными людьми, но имейте в виду, если у нашей администрации мозги набекрень, это еще не значит, что и у нас всех тоже.
Его взгляд словно говорил: «А ну, ударь, если посмеешь!»
Мисс Гарр, инструкторша Нийла, сухощавая, раздражительная особа, заставила его десять минут дожидаться, пока она окончит беседу с тремя другими продавщицами. Все они то и дело оглядывались на Нийла и хихикали, и он явственно слышал слово «ниггер». Когда мисс Гарр принялась наконец обучать Нийла высшей математике чеков и умению отличать теннисный мяч от уключины, она все время заботливо отодвигалась, чтобы избежать его нечистого прикосновения.
Негры умеют молчать.
Если персонал магазина отнесся без внимания к прославленным заслугам Нийла, то чудовище, известное под названием Покупательницы, напротив, отнеслось к нему с величайшим вниманием, которое проявлялось в форме гримас и кокетливых взвизгиваний. Казалось, все женщины Гранд-Рипаблик, включая даже кое-кого из знакомых, прибежали в «Beaux Arts» поглядеть на него и сказать какую-нибудь фразу, слова которой имели отношение к спорту, но подразумеваемый смысл был примерно таков: «Верно ли, что вы негр, и верно ли, что вы наделены такой необыкновенной мужской силой, как мне говорили, и неужели все, что я тут могу, — это строить вам глазки и быть готовой закричать: «На помощь?!» Их вздымающиеся груди, остановившиеся глаза, отвратительно подергивающиеся плечи — все выражало суеверное и непристойное любопытство.
Они разглядывали его негритянскую шевелюру (каштаново-рыжую), его негритянское лицо (докрасна выдубленное морозом), его крепкие негритянские руки (золотистые, в веснушках), его длинные негритянские ноги и крепкий негритянский торс. И поскольку все негры, как известно, туповаты и любят насмешки, они разбирали его по косточкам, не дав себе даже труда отойти, чтобы он не мог их слышать.
Его забросали кучей самых диких вопросов. На какую наживку лучше идет лосось в Новой Шотландии? Мог бы Джо Луис победить Джека Демпси? Какое место по теннису занял мой двоюродный брат Уильям В.Гетч из загородного клуба Милуоки? Похожи ли китайские шашки на ма-джонг? Сколько стоят шахматы с доской — ну-ну, такие, — все равно какие. Во сколько обойдется будущим летом семейству, состоящему из меня, мужа, двух мальчиков (девять с половиной и одиннадцать лет), девочки (шесть лет седьмой) и свекра, который любит играть в подкову, неделя жизни в рыболовном лагере «Нипписаг» на озере Уиннигигонабаш? Дороже, чем в 1939 году?
Но его настороженные уши пропустили в мозг один только вопрос, заданный сорокалетней матроной из породы меня-не-проведешь голосом, напоминающим колокольчик симментальской коровы: «Скажите-ка, вы все, цветная солдатня, очень были рады, когда дорвались до французских девочек?»
А одна престарелая молодая дама, довольно причудливой архитектуры, потребовала, чтобы он показал ей свитер, хотя они продавались совсем на другом прилавке, и кидала на него игривые взгляды, поглаживая рукой выпуклость, сооруженную, как он заподозрил, из носовых платков. Но его все же не стошнило.
В прежней своей жизни белого банковского дельца, персоны с весом и с положением, он никогда не встречал таких отвратительных женщин. Он уверял себя, что это исключения, — есть же категория людей, которые жадно сбегаются посмотреть на дом, где произошло убийство. Но быть в дальнейшем приманкой для их нездорового любопытства сулило ему мало радости.
Многие из них старались придвинуться к нему поближе; другие отскакивали в испуге, стоило ему взять в руку крокетный молоток. Но в одном все сходились: ни разу никто не назвал его «мистер». Он был Капитан, он был Послушайте, он был Эй-Вы.
Не лучше женщин были их мужья, которые нередко заглядывали в отдел и довольно громко бурчали: «Нет, не желаю я разговаривать с этой черной тварью!» — а еще хуже был добрый дружище Харли Бозард, похаживавший вокруг, мысленно потирая руки. Но несносней даже, чем Харли, были демобилизованные рядовые, которые приходили со своими девицами и, наслаждаясь возможностью унизить бывшего офицера, изощрялись: «Эй, капитан, помогите подобрать лыжные штаны для моей красотки. Только смотрите, чтобы хорошо сидели, не морщили сзади, понятно?»
В какие-то мучительные моменты он замечал в последних рядах Вайолет Кренуэй, Розу Пенлосс и Дайанту Марл, которые нарочито старались держаться подальше от его прилавка, а уж в самом крайнем случае торопливо шмыгали мимо, словно бы подобрав юбки. Один раз, следя глазами за Дайантой, он увидел майора Рода Олдвика; майор стоял у высокой белой колонны, выпятив грудь, скрестив руки, и наблюдал за ним даже без усмешки, просто с интересом. В эту минуту Нийл познал ту слепящую ярость унижения, которая добронравного раба обращает в свирепого убийцу.
Но ярость растворилась в тоске. Что ж, теперь всю жизнь стоять за прилавком и продавать свитеры и рыболовные снасти? Он не почувствовал гнева, только вялое безразличие, когда дома Вестл встретила его холодным: «Ну?»
Поток алчной до сенсаций толпы через день-два схлынул. Нийл теперь все время без дела простаивал за прилавком, отчего нестерпимо ныли ноги.
В субботу утром Харли Бозард напустился на него:
— Нельзя ли торговать побойчее? Я видел, какой был наплыв благодаря поддержке, которую мы так великодушно оказали вам нашей рекламой, — и тем не менее ваши цифры совершенно неудовлетворительны. Вам нужно поменьше думать о своей красоте, Кингсблад, и побольше о том, как угодить покупателям.
Нийл вернулся домой и застал Вестл уже не в тревоге, а в неистовстве.
— Оказывается, ты очень весело проводишь время там, в магазине, заигрываешь со всякими языкатыми дурами, хохочешь с ними и вдобавок пачкаешь меня разговорами о своей семейной жизни! — начала она.
— Откуда ты…
— Мне сообщил человек, который отлично знает нас обоих, вот откуда. Я тебе не скажу кто. Ей стало обидно за меня. Она тебя видела в магазине.
— Ты вот ни разу не пришла в магазин взглянуть, как я там…
— Еще недоставало!
— Ты даже не подумала, что, может быть, мне нелегко привыкать к…
— Ох, пожалуйста, только не читай мне лекцию о социальной несправедливости, которая кроется в торговле носками!
Он встал и вышел, не говоря ни слова. Он не вернулся домой к обеду. Он устремился в объятия Софи Конкорд.
Но пока он шагал по заснеженным улицам, его возмущение против Вестл, возмущение изгоя, улеглось.
«Ей тоже нелегко. Она очень дорожит так называемым «общественным положением». Как и я когда-то. Может быть, для нее лучше было бы оставить меня, взять Бидди и вернуться к отцу. Он удалится от дел, уедет с ними в Калифорнию или еще куда-нибудь, и никто ничего не будет знать. Что ей и Бидди до моей борьбы? И лучше поспешить с этим, пока Вестл не ожесточилась еще больше, не сказала чего-нибудь еще страшней. Вестл, дорогая, я так любил тебя!»
Дом, где жила Софи, похож был на маленький шумный отель, где за каждой дверью гудели веселые голоса негритянского семейства, коротавшего вечер вокруг миски с гороховым супом. В холле черный дородный негр с увлечением читал проповедь пастве, состоявшей из него самого; это был Элдер Майес, пророк-одиночка, сапожник по ремеслу и основатель храма Наития Святейшего Синклита Божией Благодати, пока, к сожалению, не располагавшего помещением для молитвенных сборищ. В коридоре Нийлу попалось навстречу несколько прожигателей жизни, которые днем были дворниками и грузчиками зерна, а теперь, в шесть часов вечера, щеголяли в бежевых модных пальто и зеленых шляпах.
Он постучал и, услышав в ответ протяжное «войдите!», ввалился в одинокое холостяцкое обиталище Софи. Он уже бывал здесь раньше, но только в неловкие минуты прощаний.
Комната была угловая, квадратная, и следы нищеты смешивались в ней с остатками былой роскоши. Роль тахты исполняла колченогая койка, накрытая куском красной замши, опущенной потертым и облезлым леопардовым мехом от какого-то старого театрального костюма. На длинном столе соседствовали двухконфорочная керосинка, чепец медсестры, миниатюрная батарея флакончиков с косметикой и избранные сочинения Джона Дьюи. Стены украшал вермонтский пейзаж Лучони, какая-то заковыристая абстракция, фотография девушки-негритянки в бесстыдной сияющей наготе и большой табель-календарь с изображением котенка в корзине, испещренный отметками больничных дежурств. Посреди этого беспорядка, красноречиво говорящего о том, что владелица комнаты слишком занята, чтобы подумать о своем быте, слишком полна интереса ко всему живому, чтобы заботиться о создании обстановки, которая выгодно оттенила бы ее женские достоинства, — сидела Софи и полировала ногти перед туалетом, сооруженным из картотечного шкафчика.
При виде Нийла она поднялась, спокойная, безмятежная, такая же высокая, как Вестл, в распахнутом на груди длинном халате, лиловом с золотыми прожилками. Она сдвинула брови, заметив, что он почти шатается, она сказала шепотом:
— Ах, бедный ребенок! — и раскрыла ему объятия, и он спрятал лицо у нее на груди.
Когда они уселись на тахте, доверчиво обнявшись, она заговорила с нежностью в голосе:
— Досталось вам, бедняге, в этой попугайной лавке, а? Я нарочно не заходила, боялась, что вам будет еще тяжелее. Но зато вы уже достигли предела и ниже падать вам не придется. Вы первый раз заглянули людской злобе в глаза. В другой раз это будет уже не страшно. Теперь я могла бы полюбить вас, могла бы. Но — вы ведь сами сказали — слишком мало во мне осталось от диких джунглей. Со всем этим я покончила ради миссионерского долга. Да ведь и вы тоже. А потому поцелуйте меня и отправляйтесь домой. О господи, до чего ж я устала быть добродетельной и работящей! До чего устала!
Этому типичному представителю мужского пола до сих пор не приходило в голову, что и у Софи могут быть свои минуты уныния. Слегка удивленный, он положил ее голову к себе на плечо, вместо того чтобы сделать наоборот, и ласково погладил ее:
— Вы просто разнервничались.
Она из богоматери превратилась в младенца. Она протянула жалобно:
— Разнервничаешься… За что вы так любите эту женщину?
— Ну, во-первых, вы же сами сказали: она красива, как скаковая лошадка.
— Таких ног у нее нет! — Софи говорила без задора, но вытянула вперед блестящую бронзовую голую ногу, по-балетному выгнув подъем.
— У нее не хуже!
— Нет, серьезно, за что?
— Мне кажется, самое подходящее слово для Вестл — «молодец». Она очень честная; она всегда за то, чтоб каждый получил, что ему причитается.
— В том числе и она сама.
— А почему же нет?
— Слушайте, дурачок вы мой маленький, я совсем не сержусь, что вы так обожаете Вестл. Уж если она должна отнять вас у меня, — а, видимо, так оно и будет, — так я хочу, чтобы она была как можно лучше. Я не желаю знать, что меня оттерла какая-то бесхвостая мартышка. — Софи теснее прижалась к его плечу. — Ладно, ладно. Она — восьмое чудо света. Ее единственный недостаток в том, что она ходила в школу, вместо того чтобы учиться у жизни. Она никогда не принимала ребенка в такси, никогда не должна была думать о том, как бы выгнать из своей спальни хозяина кафе и при этом не потерять у него работу. Может быть, для вас она именно то, что надо, и…
Софи помолчала; потом сказала почти робко:
— Нийл, мне, правда, хотелось бы когда-нибудь с ней познакомиться. Едва ли это удастся, но бог с ней и бог с вами, и оставайтесь при ней… вы, плоть от плоти белых банкиров!.. питомец Йеля!
— Я вовсе не учился в Йеле.
— О господи!
— Софи, но что, если она не захочет со мной остаться?
— Так сумейте заставить ее, черт вас возьми! И не бегайте за советом и утешением к тетушке Конкорд! А то в ней есть еще очень много от легковоспламеняющейся девицы Софи. Возвращайтесь к своей маме Вестл, наследнице пилигримов, и пусть вас выберут в члены общества Сыновей Американской Революции! Чучело!
Он поцеловал ее сдержанным, пристойным поцелуем. По дороге домой он с чисто мужской неблагодарностью думал не о Софи, и не о Вестл, и не о женщинах вообще, а о хорошей, честной, зверской драке с мужчинами вроде Харли Бозарда, Уилбура Федеринга и орденоносного майора Роднея Олдвика.
Когда он пришел, Вестл сказала ему серьезным тоном:
— Я вела себя непростительно и очень жалею об этом — честное слово, жалею. Но не могу я со всем этим примириться. Что-то тут надо изменить.
Недавно повзрослевший Нийл ответил ей торопливым поцелуем, но разговаривать не стал. Его ждали не терпевшие отлагательства боевые подвиги.
46
В воскресенье он весь день раздумывал о своей работе в «Beaux Arts», об этой неделе унижений, которую он провел, точно большая хохлатая птица в тесной золоченой клетке, выставленная на посмешище любопытным. Он решил, что как негр-рабочий он не должен ни плыть по течению, ни мириться с вызывающей наглостью. Он отыщет путь и сумеет пойти этим путем.
В понедельник утром, не заходя в табельную, он сразу отправился к Харли в кабинет и сказал ему почти весело:
— Это была несерьезная затея, Харли. Позвоните мне летом, если захотите, чтобы я потренировал вас в гольф, а пока — всего хорошего.
В то время каждому негру, даже такому новоиспеченному, как Нийл, пора было делать выбор — бунтовать или дать себя сломить. В штате Теннесси уже разыгрались первые после окончания второй мировой войны серьезные расовые беспорядки — самые настоящие боевые действия одетых в форму полисменов против перепуганных темнолицых граждан, их жен и детей.
Нийл решил, что у него будет легче на душе, если он хоть раз со вкусом позавтракает, прежде чем вновь начнет гранить обледенелые мостовые в погоне за работой. Он отправился в «Пайнленд», в «Фьезоле», мысленно убеждая себя: «Я вовсе не ищу неприятностей; я просто отстаиваю свои права». Другими словами, он именно искал неприятностей и бравировал своими правами.
Дрексель Гришпо явно заколебался, допускать ли его в помпейское святилище, но в конце концов, ограничившись легким кивком, повел Нийла к третьеразрядному столику за колоннами, в глубине, из тех, что были отведены для фермеров, провинциального духовенства, святых и тому подобного сброда. Но негр-официант прислуживал ему проворно и вежливо, и Нийл, благодушествуя, подумывал уже, не спросить ли хорошую сигару. В это время он увидел Глена Тартана, управляющего, который, должно быть, появился из затейливого восточного сосуда и теперь стоял рядом, учтиво осведомляясь:
— Как вы, всем довольны? Жалоб нет?
Нийл сердечно ответил:
— Нет, Глен, все в порядке, спасибо.
— Тогда прошу вас отметить, что мы в точности выполнили предписания закона. Наши постоянные клиенты энергично протестуют против того, что вы, цветные джентльмены, являетесь сюда завтракать и портите им аппетит, но тем не менее мы вас приняли и обслужили. А теперь наша убедительная просьба — больше никогда сюда не являться.
Глен повернулся и быстро пошел прочь.
Нийл еще не успел опомниться, как Дрексель Гриншо, тот самый Дрексель Гриншо, который еще недавно с таким подобострастием кланялся молодому банкиру мистеру Кингсбладу, шагнул к нему и сказал весьма решительно:
— Позвольте дать вам добрый совет, Нийл. Найдите себе постоянную работу, будьте почтительны с белыми людьми, знайте свое место, не лезьте, куда вас не просят, и держитесь подальше от таких заведений, как наше. У белых власть и сила, и неразумно восстанавливать их против себя. Вот я отлично знаю, как себя вести с ними; у меня и неприятностей не бывает. Меня никогда не уволят с работы — как вас из «Beaux Arts».
— Откуда вы знаете?
— Мы, негры, все должны знать, чтобы как-то ужиться в этом подлом белом мире. Образумьтесь, сынок, и оставайтесь там, где вам положено оставаться. Может, если вы прослывете благоразумным негром, со временем ваша дочка опередит вас, как мои меня опередили, и сможет найти себе чистую приличную работу. Конечно, положение цветных должно измениться, но сейчас для этого не время. А все эти революционные разговоры и бессмысленны и вредны — и кстати, перестаньте вбивать всякие крамольные идеи в голову Филу Уиндеку. Фил — мой будущий зять, и я не хочу, чтобы вы его совращали!
— Я его совра…
— Да, вот именно. Вы себя ведете очень неразумно. Поймите, Нийл, — чем вы были раньше, теперь роли не играет. Сейчас вы негр, такой же, как все негры. Берите с меня пример и не искушайте судьбу. А сейчас ступайте. И так уже я рискую многим, стоя тут и разговаривая с вами.
«Моя дочь, моя ясная, быстроногая Бидди на «чистой, приличной работе» — может быть, в кухне у Рода Олдвика!»
Повинуясь настояниям Софи, он в конце концов отправился на Майо-стрит, к мистеру Вандербильду Литчу, влиятельному цветному члену ордена Лосей, успешно занимавшемуся погребальным делом, страхованием и рулеткой. Мистер Литч принял его в красном с никелем кабинете, в присутствии изящной цветной стенографистки, и холодно разъяснил, что не расположен принимать на работу белых, которые нарочно прикидываются неграми, чтобы пролезть в страховой бизнес.
«Ну что ж, тем лучше, если кое-кто из цветных достиг уже такой высокой ступени культуры, что может отшить просителя с не меньшим блеском, чем дядюшка Оливер Бихаус».
Он все же нашел в Файв Пойнтс кое-какую сдельную счетную работу, которой с грехом пополам пробавлялся. Работодателями его были два самых преуспевающих чернокожих дельца в городе: Аксель Скагстром, глава компании Лодка-Молния, и Альберт Вулкейп, хозяин прачечной Нек-Плюс-Ультра, люди, никак не подходившие под федеринговское представление о незадачливом негре.
Мистер Скагстром, женатый на белой женщине, финке, сам наполовину швед, на четверть негр, на четверть китаец, с примесью индейской и мексиканской крови, — а следовательно, стопроцентный эфиоп, — изготовлял великолепные лодки. Он был набожный лютеранин и весьма неодобрительно относился к «распущенности и лени, чем так часто страдают цветные». Он умилялся собственному великодушию, побуждавшему его держать у себя на фабрике негров наравне с белыми рабочими. Это был типичный американский бизнесмен, отличавшийся от других американских бизнесменов разве только тем, что его меньше интересовали расовые проблемы, и он охотно предоставил Нийлу возможность каждую пятницу работать в его бухгалтерии за самую низкую плату.
Альберт Вулкейп был братом Джона и дядей Райана, но особой приязни не питал ни к тому, ни к другому. Они для него были чересчур радикальны. Он не отказывался давать неграм работу в своей постоянно загруженной прачечной на Чикаго-авеню, но так как большинство клиентов у него были белые, то в шоферы и инкассаторы он нанимал только белых. Договариваясь с Нийлом о сдельной бухгалтерской работе, Альберт рассуждал:
— Понимаете, все эти идеи о расовом равенстве — вещь, конечно, хорошая, но каждый прежде всего должен думать о себе, верно? Сравните-ка мой текущий счет с текущим счетом Джона! А Райан — учился, учился, а теперь батрачит на ферме!
Работая над счетными книгами Альберта или Скагстрома в комнате, где за спиной постоянно трещал телефон, а свет никогда не падал, как нужно, Нийл чувствовал себя совершенно так же, как в бухгалтерии Второго Национального Банка, с той только разницей, что теперешние его работодатели были более предупредительны с ним, видя в нем человека, который еще может оказаться «белым». Впрочем, он, пожалуй, предпочел бы подозрительность мистера Вандербильда Литча.
Когда он возмущенно рассказывал Дэвисам о недоверии своих хозяев к неграм, Марта и Аш только смеялись. Аш сказал:
— Как этнолог, вы подаете надежды. Единственное, что ускользнуло от ваших наблюдений, — это самая суть. Мы ведь вам уже давно говорили, что никакой разницы нет. Это только вы да гарлемские радикалы настаиваете, что черное дерево всегда лучше березы. Расстаньтесь со своей расовой романтикой! Тем более что и среди наших белых друзей многие считают, что мы тем скорей добьемся популярности и приглашения в члены Федерального клуба, чем больше наших соплеменников сумеют разбогатеть и стать владельцами доходных домов. Правда, ирландцы и евреи веками практиковали этот метод, и без особого успеха, но это еще ничего не доказывает.
Всего лишь месяц провел Нийл в поисках работы, но за это время он стучался во столько дверей, что месяц показался ему годом. И все-таки у них оставался хотя бы дом, священный и неприкосновенный — и оплаченный до последнего цента. Нийлу особенно приходилось ценить это теперь, когда у него не было ни службы, ни клуба, ни кружка друзей, где его ждал бы радушный прием, и он часто думал, что если б не дом, Вестл, наверно, не выдержала бы и ушла от него.
Почти все вечера они сидели дома, а если шли куда-нибудь, то потом обычно жалели об этом. Так, например.
Луиза Уоргейт, миссис Уэбб Уоргейт, всегда казалась Нийлу олицетворением традиций Большого Света — образованная, выдержанная, вдумчивая, она как бы возвышалась над уровнем смертного человечества. (Она была урожденная Остхек из Ютики и познакомилась с Уэббом, когда он учился в Гарварде. Ее положение в обществе было так высоко, что она могла позволить себе ходить как простая фермерша: в садовых перчатках, с веснушками, с ненакрашенными губами. Она парила в сфере, где никогда не слыхали о медсестре Конкорд, или Альберте-прачечнике, или о беленьких коттеджах, купленных в рассрочку.) Как мать Экли, товарища его детских игр, миссис Уоргейт всегда вызывала в памяти Нийла ровную улыбку, прохладную руку и серебряную бонбоньерку с мятно-шоколадными лепешками, но не песни, не домашние булочки, не катание с гор, ничего такого.
И вот именно теперь, когда общество заключило Нийла и Вестл в моральный концлагерь, они вдруг получили от миссис Уоргейт любезное приглашение к обеду, чего никогда не бывало раньше. Остынув от первых восторгов по этому поводу, Нийл понял, чем было вызвано приглашение Луизы Уоргейт: она чувствовала себя виноватой, что не сделала для негров всего, что намеревалась сделать, когда уговаривала Уэбба шире применять негритянский труд на своих предприятиях. Нийл уже научился распознавать это беспокойное чувство вины у лучших представителей духовенства и адвокатского сословия.
Вестл заметила:
— Не могу сказать, чтобы мне до смерти хотелось идти.
— Я тоже. Это будет вроде файв-о-клока в морге. Но, пожалуй, мы все-таки должны оценить ее старания. Я знаю, как тебе тяжело, что мы с тобой оказались за бортом так называемого лучшего общества…
— Так называемого?
— …и стали отшельниками. Тебе не приходит в голову, что в меру своих жалких способностей я и сам страдаю за тебя?
— Нет, нет, я знаю. И я совсем не хочу быть христианской великомученицей на костре. Я справлюсь с этим. Только иногда я думаю, не лучше ли было бы для тебя, если бы… Нийл, нет ли какой-нибудь милой, хорошей цветной девушки, которая могла бы поддержать тебя лучше, чем я?
— Может быть, и есть, но я дал обет посвятить свою жизнь тебе и как-нибудь постараюсь не нарушить этого обета.
У нее засияли глаза, но так как дело происходило в Гранд-Рипаблик, то вслух она сказала только:
— Ладно, Ромео, пойдем!
Дом Уэбба Уоргейта на бульваре Варенн над самой долиной Соршей-ривер, построенный в стиле туреньских замков, был еще обширнее Хилл-хауза Берги Эйзенгерца, и в нем было больше башенок, карнизов, фронтонов, декоративных труб на крыше, подъездов, почти-мраморных почти-фавнов, бассейнов, наполненных всяким мусором, контрфорсов настоящих, контрфорсов ложных, висячих садов, флюгеров и окон-фонарей, но меньше книг и картин. В общем — вполне европейский и аристократический дом с украшениями в колониально-лесорубском стиле.
Нийла и Вестл принимала с серошелковой грацией миссис Уоргейт и с взволнованной подозрительностью сам Уэбб, как всегда смахивающий на второго могильщика, счетовода или собирателя бумажных ярлыков и резиновых ленточек — недоуменно безмолвного и постоянно объятого тревогой, как бы у него не отняли его сокровища.
Они пили коктейли в малой гостиной, и когда Уэбб передавал гостям бокалы, вид у него был неестественно напряженный, словно он боялся, — а вдруг эта черномазая деревенщина кусается. Он веками играл с отцом Вестл в бридж, но на лице у него, казалось, было написано: «Я так мало имел дела с вами, цветными, что даже не знаю, принято угощать вас коктейлями или нет».
Столовая Уоргейтов была большая, длинная комната с обнаженными балками, выкрашенными в пурпур и золото, и пестрым плиточным полом. Подавала к столу пожилая горничная-шведка, которой, очевидно, было сделано соответствующее предупреждение, и она подносила блюда Нийлу и Вестл с таким видом, как будто держала в руках корзинки с горячими угольями. Меню состояло из разных окаменелостей, залитых мучными соусами. Гостей, кроме них, не было. Отсутствие Экли и его супруги, о которых подчеркнуто не упоминалось, было ощутимее самого назойливого присутствия.
Беседа велась по окольным путям, в обход негритянской темы. Сама Вестл вдруг решительно дернула занавес:
— Ужасно смешно, знаете — столько есть чудаков, которые утверждают, будто я вдруг, как по волшебству, превратилась в цветную — да, да, представьте себе, и это наши знакомые, люди, у которых как будто хватает ума подписывать чеки и ходить с маленькой. Бедняжки из Лиги Образованных Молодых Женщин в полном смятении, такого еще не бывало по эту сторону Большого Каньона. Просто взять и выставить дочь Мортона Великолепного они не решаются, и, пожалуй, самым безболезненным выходом будет распустить лигу. Вы со мной не согласны, мистер Уоргейт?
— Да… д-да — я понимаю вашу мысль, — пролепетал Уэбб.
Он смутно подозревал, что она шутит, а у могущественного Уоргейта, не знающего себе равных в искусстве сбыта сухой штукатурки и щеток из пластмассы в Чикаго, в Венеции и на горе Каймакишалан, всегда начиналось головокружение и боль в глазах при малейшем намеке на шутку. Однако у него были свои обязанности, как у одного из руководителей Национальной Ассоциации Промышленников, и раз уж эти морские свинки сами затронули щекотливый вопрос о вивисекции, он счел своим долгом поддержать этот разговор, чтобы получить Информацию о Новых Веяниях. Он повернулся к Нийлу и сказал доверительным тоном:
— Скажите — я, вероятно, проявляю непростительную неосведомленность, — значительно ли усиливается сейчас стремление к политической деятельности среди — э-э, гм — цветного населения?
— Право, я не очень в курсе дела, сэр, но думаю, что да.
— Вы хотите сказать, что ваш личный опыт позволяет вам в общем и целом прийти к такому заключению?
— Да, я… гм… я мог бы сказать, что кое-что я в этом смысле слышал.
Больше до таких ораторских высот беседа за весь вечер не поднималась.
Спускаясь по мраморным ступеням парадного крыльца, Вестл со вздохом сказала Нийлу:
— Вот и еще одно место, где нам больше никогда не бывать.
— Да, похоже.
— Ну и пусть. Дедушка Уэбба пилил дрова для моего дедушки в Мэне.
— Это в самом деле было?
— Нет, но вполне могло быть.
— Интересно, как Уоргейту удалось нажить столько денег и завести такой дом? — сказал Нийл.
— А мне интересно, с чего они взяли, что людей можно кормить брюссельской капустой… Милый, ты не думай, Уэбб даже не хотел принизить тебя. Он просто надутый невежественный дурак. И это неважно, все вообще неважно, кроме того, что есть ты и я.
47
Он был один во всем доме после очередного дня, проведенного в поисках работы. Вестл с Бидди и Принцем ушли к Тимберлейнам — один из немногих домов, где их принимали охотно и без елейной приветливости, которая хуже издевки. Он стоял у западного окна веранды и думал.
Почему не уехать отсюда — в столицу или в глушь, где их никто не знает? Нет, Вестл и Бидди (и Принц) слишком привыкли к обществу, их не загонишь в лесную глушь, а Нью-Йорк и Чикаго для них слишком суровы, прямоугольны, мрачны. Всякая квартира покажется тесной после этого дома, где можно и потанцевать и покричать во весь голос, где из окна виден холм Эйзенгерца в последних всепрощающих лучах морозного мартовского вечера.
На фоне закатного золота гордо высилась кирпичная громада Хилл-хауза со стрельчатыми окнами и плоской, обведенной балюстрадою крышей вместо уоргейтовских шпилей и башенок. Силуэты сосен чернели на ярко-зеленой полоске неба, над которой повисли оранжево-лиловые облака. Закат и сосны напомнили ему юность и путешествия в лодке по Северным озерам, так близко отсюда, от его родного города. Если прежние друзья и ненавидят его, все же это знак внимания с их стороны, а в Нью-Йорке некому даже послать его к черту. Нет, нужно выстоять здесь, в Гранд-Рипаблик.
Он вспомнил, что когда-то мечтал купить Хилл-хауз. В те времена считалось, что его ждет блестящее будущее сверхбанкира. Бидди приезжала бы домой из Фармингтон-колледжа или из Брин Мора, и в Хилл-хаузе вечно толпились бы ее сверстники — молодые Пратты, Уоргейты, Спарроки, Дроверы. Да, как странно, когда-то он мечтал обо всем этом! Что же, теперь его ждут дела поважнее! Хорошо, если удастся отстоять свой коттедж. И он поклялся отстаивать его с упорством и свирепостью своих предков чиппева, чьи вигвамы всего сто лет назад стояли на этих самых склонах.
Вестл пришла домой веселая, принялась собирать ужин. Всем было хорошо. После ужина Нийл стал рассказывать Бидди о том, как давным-давно жили необыкновенные люди — назывались они оджибвеи, или чиппева, и устраивали свои становища вон там, на нашем холме, а здесь, где мы сейчас сидим, они, может быть, прятались между скал и стреляли из лука. Бидди пришла в такой восторг, что усадила в кружок всех своих кукол, трехколесный велосипед и слегка упиравшегося Принца, чтобы они тоже слушали.
Пока Вестл под страхом самых суровых репрессий укладывала Бидди спать, он снова вышел на веранду. В ярком лунном свете ветви деревьев отбрасывали иссиня-черные тени на снег, испещренный следами Бидди. Все это его собственное, его, и Вестл и их дочки. Здесь им и оставаться из вечера в вечер, всю жизнь.
Впрочем, еще один выход они совершили — на сверхинтеллектуальный прием в целях пропаганды расовой терпимости, который Дайанта Марл устроила в студии Брайана Энгла. После этого они окончательно засели дома.
В качестве жены Грегори Марла, которому принадлежали обе газеты, выходившие в Гранд-Рипаблик, Дайанта была видной фигурой. Независимо от мужа, она в сорок пять лет считалась авторитетом по части Китая, где никогда не бывала, Джемса Джойса, которого никогда не читала, а также по части пригодности разных кандидатов на политические посты, в особенности тех, которые были совершенно непригодны, и сульфамидов, которые она иногда путала с витаминами. В качестве Говорящей Женщины она умела расправиться с аудиторией не менее энергично, чем любая лидерша в Нью-Йорке или Вашингтоне.
В вопросе расовых взаимоотношений ей не было равных. Однажды она завтракала за одним столом с цветной женщиной и так ободрила бедняжку, что та даже заговорила, и притом вполне разумно. (Кроме них, присутствовало еще шестнадцать гостей, а объектом милосердия Дайанты явилась высококвалифицированная лекторша из Антропологического института по изучению Нигерии.) Стоило заговорить о неграх, как Дайанта рассказывала об этом эпизоде, подтверждающем широту ее взглядов; она рассказывала о нем раз сто, не меньше.
Газеты ее мужа занимали весьма либеральную позицию по отношению к неграм, в передовых неоднократно проводилась мысль, что нет никаких оснований отказывать неграм в какой бы то ни было работе, лишь бы они сумели ее выполнить не хуже белых.
На работу в этих газетах негров никогда не принимали.
Дайанта задумала свой вечер, чтобы доказать, что белые и негры могут безо всякого вреда встречаться в обществе, однако она была не столь опрометчива, чтобы устроить его у себя в доме. Она вторглась в студию Энгла, который воплощал в себе местный мир искусства и все еще не терял надежды, что Дайанта когда-нибудь закажет ему свой портрет.
Не была она и столь безрассудна, чтобы нарушить правила хорошего тона, а посему не пригласила никаких негров низкого звания, вроде Джона Вулкейпа, служившего всего-навсего дворником в «Таверне наяды» — том самом здании, где была студия мистера Энгла и где помещались также фотоателье, нотный магазин, несколько преподавателей дикции и книжная лавка Ритф Камбер.
Дайанта пригласила только таких негров, на приличное поведение которых могла твердо рассчитывать. То были Аш Дэвис и Нийл Кингсблад.
Она звала также и Марту Дэвис, которую никогда не видела. Но та отклонила приглашение, чем и доказала, какой, в сущности, неблагодарный народ эти чернокожие. Дайанта мужественно снесла отказ и потом объясняла всем, кто соглашался ее слушать:
— Я думаю, что это к лучшему. Мало ли какую неграмотную бабу мог подцепить такой полуобразованный цветной карьерист, как этот Дэвис.
Решив даровать Нийлу своего рода светский habeas corpus[8], Дайанта горячо взялась за дело. В свою бытность белым дельцом он не пользовался ее вниманием, но теперь интересовал ее не меньше, чем горилла «Гаргантюа», и в том же плане. Нийлу не хотелось идти, но Дайанта пристыдила его капризно-кокетливым тоном:
— Ах, бросьте ломаться! Не захотите же вы упустить такую возможность быть полезным вашей расе. Подумайте только, Кингсблад, ведь вы встретитесь с лучшими людьми в городе!
Вестл сказала:
— Будь покоен, Нийл, я тоже пойду! Я желаю быть на месте и защищать тебя, если Дайанта вздумает совать нос в нашу так называемую «интимную жизнь».
В длинной студии, обставленной преимущественно штабелями непроданных картин, собралось шестьдесят человек гостей. Те из них, кто не был знаком с Нийлом и Ашем, допустили несколько досадных промахов, выискивая негров, на которых им надлежало глазеть, и по их милости подполковник Кренуэй отбыл домой раньше времени и в полном негодовании.
Их хозяин поневоле, Брайан Энгл, был молодой человек с неудавшейся артистической бородкой, маменькин сынок, но неплохой художник. Нийла он счел заурядным, но Ашу сказал, что он похож на сурового молодого дожа. Вертлявый брюнетик, фотограф Лоренцо Гристад, шепнул Ашу:
— Все равно никакой пользы нет от этих белых, разве что работу дадут, верно?
Доктор химических наук Коуп Андерсон и его жена Пэйс, к удивлению любознательных туристов и безграмотных богачей, разговаривали с Ашем и Нийлом так, будто они — разумные человеческие существа; такую же позицию заняли доктор Камбер с женой и Ллойд Гэд, священник конгрегационалистской церкви, хотя они все же считали, что негры — это люди, которых встречаешь на заседаниях комитетов. Но пятьдесят из шестидесяти гостей только приглядывались к Нийлу и Ашу и ждали, когда они сделают что-нибудь гадкое и смешное.
Не утешила Нийла и первая встреча Вестл с Ащем.
Она его ни разу не видала; она знала о нем только то, что Нийл его уважает. Но человека, которому Нийл так горячо пожимал руку при встрече, она могла бы описать примерно так: «симпатичный негр, очень опрятно одетый, возможно — превосходный лакей». Она страшно удивилась, когда Нийл обрадованно сообщил:
— Вестл, это мой большой друг — доктор Дэвис.
Она подумала: «Доктор? Впрочем, возможно. Говорят, что среди цветных есть и доктора».
Она сказала: «Добрый вечер», — не скрывая от Аша, что ей решительно все равно, добрым или недобрым окажется для него этот вечер, и вообще — с какой стати знакомить ее с цветными массажистами?
Аш поклонился, не слишком низко, и на том закончилось первое знакомство жены Нийла с его лучшим другом.
Виски подавалось в изобилии, куриного салата было вполне достаточно, но посетителям надоело разглядывать экспонаты. Вечер совсем было застыл на мертвой точке, и сдвинул его с этой точки, притом очень энергично и не в ту сторону, куда следовало, только Уилфрид Спод.
Вот имя и личность, достойные внимания: Уилфрид Спод, известный тысячам, и притом с самой нехорошей стороны, как Фридди Спод — человек, запросто якшавшийся с самыми неистовыми гениями, самыми непотребными пьяницами и самыми убежденными лесбиянками Таоса, Такско, Вудстока, Минорки, Мюнхена, Кармела, Челси, Гринвич-Вилледжа и Левого берега Сены. Человек, который в Гранд-Рипаблик чужероден, как ехидна, по сравнению с которым Кертис Хавок кажется порядочным, а доктор Дровер — мягкосердечным.
Фридди Спод родился в Канзас-Сити, но был писателем. И заметьте, он был не из тех писателей, которых не печатают. Его романы, — прейскуранты адюльтеров, по стилю весьма напоминавшие прейскуранты конторы «Товары почтой», причем все непечатные слова фигурировали в них в полном виде, — эти романы вплоть до второй мировой войны выходили в Париже в издании автора и на средства его жены.
У Фридди было испитое грязное лицо, лицо противной старой лошади; шея у него всегда была грязная, под ногтями залежи грязи, а волосы не то чтобы длинные, но никогда толком не подстриженные. Обычно он ходил в плисовой куртке, выглядевшей несколько молодо для сорокалетнего мужчины, а живописную черную шляпу с широкими полями не носил лишь потому, что от него этого ждали, а он любил все делать наперекор. Но он придумал нечто получше: он носил кепку, грязную-прегрязную.
А между тем его жена Сьюзен, моложе его на пять-шесть лет, была толстенькая и чистенькая, как курочка. Она была художницей, только не писала картин и не умела их писать. Кроме того, она была двоюродной сестрой Вестл Кингсблад — законной дочерью адвоката Оливера Бихауса.
С Фридди она познакомилась в Париже, где «изучала искусство» — занятие увлекательное, но мнимое. У нее не было друзей, по-французски она не говорила и вообще говорила немного. Фридди подцепил ее в кафе «Селект». Он жил тем, что занимал деньги; писал он спустя рукава, зато клянчил добросовестно; он не стеснялся ни выпрашивать самые крупные суммы, ни принимать самые мелкие. У американских дельцов, наезжавших в Париж, он просил пятьсот долларов и брал пятьдесят; у бедных девушек, обучавшихся пению, он просил десять франков и получал пятнадцать.
У Сью он при первом знакомстве занял сто франков и в тот же вечер от нечего делать овладел ею. Потом узнал, что она дочь богатого отца, и, не скрывая скуки, женился на ней. После этого он не испытывал к ней ни интереса, ни особого отвращения, а она обожала его, не замечала грязи и считала его завистливое критиканство проявлением ума, а его заборную лирику — литературой.
Перед самым вступлением немцев в Париж Споды бежали и с тех пор жили в Калифорнии, шантажируя Оливера Бихауса постоянными угрозами, что, если он будет скупиться, они приедут домой. Время от времени они и в самом деле приезжали, чтобы ему стало ясно, какой будет ужас, если они навсегда поселятся в Гранд-Рипаблик.
Сейчас они уже месяц как занимали квартиру-студию в здании «Таверны наяды». Сью бодро стряпала, и добывала деньги, и убирала постель в тех случаях, когда ей удавалось стащить с нее Фридди.
Именно потому, что у него был такой зять, как Фридди, Оливер взволновался, когда зять его брата Мортона оказался негром. Просвещенный юрист Оливер не делал разницы между неграми, индусами, американскими индейцами и преступниками, и на его взгляд, хуже и опаснее Фридди был только Нийл.
Фридди и Сью собирались вернуться в Париж, как только там станет полегче с питанием. Пока же они терпели отвратительные американские ванные и развлекались, как могли. Сегодня им повезло с развлечениями: представился случай заняться беззащитными черными варварами — Нийлом и Ащем.
До негров Фридди не было никакого дела, но он решил не отказывать себе в невинном удовольствии позлить гостей Дайанты.
Сегодня он был, как никогда, в форме. Он выпил стаканчик и попытался поцеловать в щеку свою кузину Вестл. Выпил еще стаканчик и во всеуслышание поздравил свою веселую и всегда довольную жену Сью с тем, что хотя бы в лице негра Нийла у нее есть родственник с головой на плечах. Потом выпил еще стаканчик, и еще несколько, и выступил с не предусмотренной расписанием публичной лекцией.
Он заявил, что в музыке, скульптуре, сценическом искусстве, боксе и сексуальном магнетизме негры оставили белых далеко позади, и закончил так:
— Если вы перестанете драть глотку, может быть, мне удастся уговорить одного из наших цветных гостей объяснить нам, почему люди его расы настолько тоньше и восприимчивее, чем вы, белые буржуа.
Аш тихо сказал Нийлу:
— Этот болван знает свое дело. Обычно такие сюрпризы нам преподносят женщины. Самый безошибочный способ повредить нам — это перехвалить нас устами какого-нибудь фигляра. Он, кажется, и мне способен внушить отвращение к неграм!
Однако Фридди Споду не суждено было безраздельно терзать уши гостей. Хозяйка дома, миссис Марл, правда, не получала закалку на Левом берегу Сены, но врожденная способность высказывать самые здравые мысли так, что людям становилось тошно, была у нее еще сильнее, чем у Фридди. Она просто немного запоздала сегодня, но, выпив малую толику, быстро наверстала упущенное.
В Гранд-Рипаблик не говорят про светскую даму, что она — горькая пьяница. Говорят, что она «изредка пропускает рюмочку». Пропустив изрядное количество рюмочек и рюмок, Дайанта вмиг обскакала Фридди.
Она умудрилась спугнуть двух своих гостей — судью Кэсса Тимберлейна и миссис Шелли Бансер, которые еще сохранили здравый рассудок, потому что тихо беседовали в уголке и не слушали Фридди. Дайанта подошла к ним и затянула, вложив в свой голос скорбь всего мира:
— Право же, я думала, что хоть вы-то проявите минимум вежливости к нашим бедным почетным гостям! Вон мистер Кингсблад и бедный доктор Даш, оба стоят, а вы тут расположились в креслах.
Кэсс отыскал свою жену и сейчас же уехал домой. Миссис Бансер обогнала его на две ступеньки и один негодующий возглас.
Тогда Дайанта завладела Ашем и стала ласково пенять ему в присутствии двадцати посторонних:
— Доктор Даш, я на вас в претензии! Почему вы не запретите цветным женщинам подражать в разговоре нам? Это страшно неудобно. Когда ваша жена подошла к телефону, — кстати, она довольно долго заставила меня ждать! — я подумала, что это какая-нибудь белая женщина, и совсем запуталась. Вы ведь знаете, я обожаю негритянок, они, по-моему, очень артистичны, но зачем, зачем они нас так подводят!
Потом она принялась за Нийла:
— Все вы, цветные, так изумительно поете спиричуэлс. Это вершина американского искусства. Вот вы, мальчики, и спойте нам какие-нибудь спиричуэлс… Замолчите все, тише! Сейчас наши цветные гости исполнят нам несколько спиричуэлс.
— Я их не знаю, — буркнул Нийл.
Аш Девис нежно любил негритянские песни и не собирался угощать ими подвыпивших белых. В этих песнях оживали для него те из его предков-индейцев и негров, что устало плелись по старой тропе жажды и страха и тихо пели, чтобы не плакать. Он сказал:
— Благодарю вас, миссис Марл, но едва ли я что-нибудь припомню, да к тому же мне пора домой.
Дайанта вдруг преисполнилась пьяной жалости к самой себе и стала всхлипывать, не замечая, что съезжает на речь своих предков из лачуги на городской окраине:
— А я-то, я-то нынче так старалась угодить вам, черненьким!..
Люциан Файрлок с женой тоже были среди гостей, и она первая не выдержала:
— Я настоящая южанка, мистер Кингсблад, но я хочу сказать, чтобы все слышали: доктор Дэвис — самый приятный из наших соседей в Гранд-Рипаблик, лучше всех относится к нашим детям, и меня просто бесит… Сама не знаю, в чем я оправдываюсь, но, честное слово, мне так стыдно!
Нийла больше всего беспокоило то, что Вестл и Аш ни слова не сказали друг с другом. По дороге домой он тревожно спросил Вестл:
— Ну как тебе понравился доктор Дэвис?
— Кто? Доктор Дэвис? Это который?
Единственным последствием Случая с Пьяной Благотворительницей было то, что Нийл весь без остатка отдался своей борьбе. Это была его любовь, его меч, его венец, его кара, его победа, его поражение. Это была его прихоть, и это была его молитва и его безумие, его крест и его слава.
48
Они сидели дома, надежно укрывшись от мартовской непогоды, в детской Бидди убаюкивала себя песенкой, и тут раздался звонок и в гостиную вступила Делегация Домовладельцев. То были четверо примерных граждан, всем своим решительным видом показывавших, что они постараются держаться в рамках вежливости, но мягкость проявлять не намерены.
В состав делегации входили бывший мэр Стопл, бывшие друзья Дон Пенлосс и Джад Браулер и, наконец, мистер У.С.Вандер, экс-лесоруб, применявший в оптовой торговле лесом испытанные методы дубины и подкованного сапога, — человек настолько же грубый и прямолинейный, насколько Уильям Стопл был нечестный и скользкий.
Все они пристроили на лица улыбки, и каждый, кроме плотного мистера Вандера, осторожно уселся на краешке стула. В этой веселой, уютной комнате они выглядели не у места, точно блестящие черные рыбины. Нийл стоял у камина, Вестл, сидя у своего белого столика, с невозмутимо холодным видом вертела в пальцах лиловую авторучку.
В качестве группенфюрера почтенный Стопл откашлялся и изрек:
— Я тут недавно говорил вам, друзья, что у меня есть для вас на примете домик в Кэну-хайтс. Не домик, а игрушечка, и какой вид!
— Что вам нужно? Говорите толком! — резко перебила его Вестл.
— К вашим услугам, мэм, и разрешите мне сказать, что я, как никто, ценю и уважаю вашего отца.
— Разрешаю, если вам непременно этого хочется.
Почтенного Стопла такая неблагодарность начинала сердить. Ведь он самоотверженно явился сюда ради общего блага. Никто не ставил общее благо выше, чем почтенный Стопл, но ему хотелось, чтобы люди это ценили. Однако внешне он сохранял исполненное достоинства спокойствие человека, который постоянно охотится за голосами избирателей и за выгодными сделками.
— Всегда готов слушаться вас, мэм. Так вот, последнее время меня тревожит то обстоятельство, что вы, может быть, не вполне хорошо чувствуете себя здесь. — Вандер выразительно кашлянул. — Мне кажется, что Сильван-парк можно без преувеличения назвать образцовым пригородом, но я должен с сожалением констатировать, что здесь очень сильны общественные предрассудки. Сам я следую девизу: «Живи и давай жить другим». Не берусь сказать, чем вызваны эти предрассудки, может быть, виной тому какой-то изъян в нашем религиозном воспитании. Я мирянин и чувствую, что нам не понять задач, стоящих перед духовенством, поэтому нам едва ли пристало…
— Довольно философствовать, переходите к делу, — отрезала Вестл. Нийл мысленно примеривался к большой, массивной вазе.
— Сию минуту, мэм! Многие в нашем районе не желают иметь соседями цветных, в этом вся соль, или, вернее, вся суть дела. Они не могут понять, что если Нийл цветной, то не по своей вине. И вот результат: растет, я бы сказал, неприязненное чувство по отношению к вам. Так что в другом районе вы, возможно, чувствовали бы себя лучше… и в большей безопасности!
Голос его звучал так убедительно, что Вестл перестала дерзить, и он продолжал уже мягче:
— Мистер Бертольд Эйзенгерц, некогда владевший всем этим районом, человек в высшей степени достойный, предлагает вам ту же цену, которую Нийл заплатил в свое время, считая, что амортизация дома примерно уравновешивается возросшей стоимостью участка. Я бы сказал, что это очень великодушное предложение, и разрешите мне дать вам совет…
— Мистер Стопл, все это мы уже слышали, — сказала Вестл. — Стоит ли опять повторять то же самое?
Заговорил Дон Пенлосс:
— Знаете, Вестл, мы пришли к вам скорее как ваши друзья, чем как уполномоченные домовладельцев. Но и как таковые тоже.
Джад Браулер выпалил:
— Нийл, ты представить себе не можешь, каких трудов нам стоит предотвращать — гм — демонстрации со стороны некоторых соседей. Они дошли до точки. Ты играешь с огнем. Они просто не потерпят, чтобы неариец жил здесь и портил общественное лицо всего района.
Почтенный Стопл сказал:
— Даже подумать страшно, что могут затеять некоторые буяны — устроят вам такой кошачий концерт, что напутают вашу милую дочурку, — а то и хуже.
— Мэр, я не люблю шантажа. И шантажистов тоже, — сказал Нийл, а Вестл кивнула.
Тогда за дело взялся Вандер. Мистер Вандер не учился с Нийлом в школе, не встречался с ним на вечеринках и не играл в хоккей. Он был старше Нийла на двадцать лет, юность его прошла в лесной глуши, где он питался солониной с фасолью и либо мерз, либо согревался драками, в которых оружием служили топорища. Он любил свою семью и свои капиталовложения, и он не любил негров, а также всех, кто не носил фамилию Вандер. У него был приплюснутый череп, грозный подбородок, жесткие голубые глаза и никаких сентиментальных предубеждений против дубинок, веревок, костров и острых щепок под ногти. Это был дельный лесоторговец, который с таким же успехом мог бы быть дельным капитаном корабля, премьер-министром, палачом или генерал-лейтенантом, и теперь он залаял так авторитетно, что Принц, спавший под диваном, проснулся и залаял в ответ, а Вестл поднялась и, перейдя к камину, стала рядом с Нийлом.
— Кой черт шантаж! — сказал мистер Вандер. — Тут не шантажом пахнет, а кое-чем похуже. Вам, видно, и невдомек, до чего люди обозлены, что у них под самым носом разгуливают ниггеры. Взять хотя бы меня. Хорошенькое дело — платишь налоги, как честный человек, а тут оказывается, что какие-то богом проклятые португашки, итальяшки, жиды или черномазые…
— Поаккуратнее надо бы выбирать слова, милейший, — пискнул Стопл.
— Да ну, эти ниггеры ко всяким словам привыкли.
Вестл за руку удерживала Нийла и вдруг, рассмеялась — в тоне мистера Вандера зазвенела грусть.
— Честное слово, сил больше нет, меня в городе совсем засмеяли! «Так вы, оказывается, живете в негритянском районе, может, вы и сами ниггер?» — этакие, знаете, милые шуточки. Я раз в Чикаго слышал, как один рабочий жаловался — он работал землекопом, а счетоводами у них были ниггеры, — так он говорил: «С души воротит, — ниггер сидит себе за столом, а ты изволь спину гнуть с лопатой!» И я его понимаю, ей-богу! Действительно, с души воротит, и неправильно это, чтобы вы, негры, жили не хуже меня, когда мне таких трудов стоило выбиться в люди. Как хотите — несправедливо это, и, как хотите, — я этого не потерплю!
Стопл опять заколыхался — надутый воздушный шар, который все взлетает и падает и сам этому удивляется:
— Полно, полно, брат Вандер, вы, верно, встали сегодня с левой ноги. Но и вам, Нийл, не стоило говорить о шантаже. Где это видано, чтобы шантажист сам навязывался с деньгами?
Вы, я вижу, не цените нашего расположения. Я еще сегодня говорил жене: «Полина, не ожидал я от мистера Эйзенгерца такого великодушия. Конечно, он дипломат и светский человек, но все ж таки, — говорю, — в глубине души всякий Эйзенгерц дрожит за свои денежки, сколько бы он ни покупал французских картин». Да сказать вам по правде, Нийл, я думаю, что здесь не обошлось без моего влияния, но я был просто поражен, когда он выразил готовность полностью вернуть вам покупную цену, наличными, немедленно, без всяких там «но» и «если». Таким образом, согласившись на его предложение, вы не теряете ни цента. Но помните, если к вам еще раз придет делегация, состав ее может быть иной и отношение не такое дружелюбное, — и тогда вы скорей всего рады будете продать дом куда дешевле.
Вандер проворчал:
— Скорее всего рады будете ноги унести, не то что еще о деньгах думать.
Нийл сообщил Вестл:
— А все-таки я его ударю!
— Не надо! Ведь он этого и добивается!
Вандер сказал со смешком:
— Правильно, Кингсблад, разомнемся малость, а?
Вестл крепко держала руку Нийла.
Стопл умасливал их:
— Успокойтесь, друзья, успокойтесь. У нас же деловой разговор. Так вот, Нийл, по истечении суток я вам предложу гораздо более низкую цену, но до тех пор вы можете известить меня по телефону в любое время дня и ночи… Что ж, джентльмены, кажется, все ясно, но я хотел бы перед уходом заверить Нийла и его женушку в наших самых теплых чувствах. Всего хорошего! Сюда, джентльмены.
Вестл бросилась ему на шею:
— Милый мой, милый Нийл! Я начинаю понимать своей глупой головой, что все это значит. Плюнь ты на этих доморощенных нацистов. Мы никуда не уйдем.
— Но ты понимаешь, чем это грозит?
— Ну и пусть!
Тень Софи Конкорд печально улыбнулась Нийлу, и благословив его, растаяла.
Нийл сокрушался:
— Почему ты не дала мне побить Вандера?
— Тебя бы арестовали, дело попало бы в газеты, и это был бы прекрасный козырь против нас. А кроме того, — добавила она рассудительно, — я думаю, что мистер Вандер одолел бы тебя, а я вовсе этого не желаю. Ты мне нужен. Ну, Нийл, теперь мы будем жить по-настоящему, хоть бы это и стоило нам жизни!
49
Но на следующее утро Нийл снова брел по улицам, стараясь не поскользнуться, и ему было холодно и тошно. Сейчас он не мог себе позволить роскошь ломать ноги, — они должны были носить его, пока он не найдет работу.
И совсем неожиданно в этот мартовский день он получил работу.
Он зашел в садоводство Брандля на Белтрами-авеню купить Вестл пучок крокусов. Уютный маленький баварец Ульрих Брандль, который продавал ему орхидеи в дни былого величия (белое кашне и белые лайковые перчатки, улыбка и вечерний туалет Вестл и «все, чем белый человек живет»), встретил его приветливо:
— Ах, капитан, доставьте мне удовольствие, позвольте подарить вам этот букетик. Я слышал о вашем мужестве. Я это понимаю, потому что родился немцем, и хотя я ненавидел Гитлера и всяческое угнетение и тридцать пять лет был добрым американцем, все же, заходя в бар выпить кружку пива, я часто слышу: «Единственный хороший немец — это мертвый немец». Предрассудки всегда одинаковы. Разрешите пожать вашу руку.
— А работы у вас случайно для меня не найдется?
— Возможно, что и найдется. Мне было бы очень лестно, если бы вы у меня работали.
Так Нийл стал продавцом в цветочном магазине, хотя в цветах и обращении с ними знал толк меньше, чем кто бы то ни было, кроме разве Хэка Райли с Майо-стрит. Но он очень старался, и покупатели, казалось, не приходили в ужас оттого, что их обслуживает негр. Влажная жара, золоченая фольга, стопки гладкой папиросной бумаги — все это давало отдохновение после многомильных хождений по заводам и жестких стульев перед дверью хозяйского кабинета.
Целыми днями он вел дружелюбные споры с мистером Брандлем, который поносил всякие предрассудки и нетерпимость и сам, как выяснилось, относился терпимо ко всему на свете, кроме англичан, евреев, бразильцев, ирландцев, мормонов, жевательной резинки, цветов подсолнуха, Генриха Гейне и двухместных автомобилей.
Но на свою пенсию и на жалованье, которое ему предстояло получать у Брандля, Нийл не мог содержать дом, ставший для него последним символом независимости и самоуважения. Нужно было заняться — чем?
И тут его предали в собственном доме.
Последнее время он совсем перестал понимать, как ему быть с родственниками, и в его отношении к ним своеобразно мешались юмор и глубокое сознание вины. Раза два-три в неделю он навещал мать и Джоан и видел, что они превращаются в отшельниц. Он говорил себе, что не он, глупые предрассудки сделали их неграми, но для него это было слабым утешением, а для них и подавно.
Сестра Китти Сэйворд теперь не находила для него других слов, кроме: «Да, что такое?» Из всей семьи только в кузине Пат Саксинар великое событие пробудило задор, а может быть, и радость. Она переселилась в учительское общежитие в Саутвест-энд, много работала и, видимо, не жаловалась на судьбу — она была хорошая женщина — только порядочная женщина может быть такой хорошей.
А брата Роберта ему приходилось избегать — очень уж враждебно относилась к Нийлу Элис, во всем слушавшаяся своего брата Харолда В.Уиттика. Она была скверная женщина — только порядочная женщина может быть такой скверной. В марте она начала дело о разводе, обвинял Роберта в жестокости, оскорблении и обмане, поскольку он до женитьбы не сообщил ей, что он «цветной».
Когда Нийл пришел с этой новостью к Вестл, та отозвалась не сразу. С мужской точки зрения она была недостаточно возмущена, но все же высказалась:
— Эта Элис всегда искала в браке только выгоды. И все ее родственники донимают ее, чтобы она от него ушла. Я-то знаю. Послушать моего отца и сестру, так я их предала тем, что не хочу от тебя уйти. Но до сих пор мне удавалось от них отбиваться. Не могу я вырвать тебя из сердца, из души, из тела. Ох, Нийл!
Так бывало в начале их брака, когда их внезапно, посреди разговора, бросало друг к другу. Он чувствовал, что она натянута, как струна, ее глаза улыбались ему, ничего, кроме него, не видя, губы были полуоткрыты, дыхание прерывалось. Он шагнул вперед, и они приникли друг к другу, словно их тела жили своей особой жизнью, над которой они не были властны.
Он понял, что бессознательно она впитала в себя легенду о том, что все негры, даже конторские служащие и усталые, нервные мужи науки, наделены исключительной мужской силой, и что эта новая вспышка страсти — плод самовнушения, будто ее сжимает в объятиях потомок Ксавье Пика, к тому же никогда не существовавшего. Но сейчас психологические изыскания были не ко времени, и он поцеловал ее, а она глубоко вздохнула.
Раз она решила остаться с ним, подумал он, ей следует занять свое место рядом с Мартой Дэвис и Коринной Брустер. Преданность жены, обожание дочки, дружба Аша, да если Вестл подружится с Мартой, — чего еще желать человеку?
Он сказал, что хотел бы пригласить Аша и Марту к обеду. Вестл поморщилась:
— Ты думаешь, это будет правильно? Я не сомневаюсь, что они прекрасные люди, но, может быть, им будет неловко? Может, это нетактично по отношению к ним?
— Аш — известный химик, в Париже они обедали у Рица с профессорами Сорбонны, так, авось, как-нибудь выдержат нашу роскошную обстановку!
— Не кричи на меня. Пожалуйста, приглашай их, если тебе так хочется. Но откуда ты знаешь, что они обедали с профессорами у Рица? Они что, хвастаются такими вещами?
— Аш и Марта никогда ничем не хвастаются! А насчет Рица я просто думаю…
— Что за интерес сорбоннским профессорам приглашать на обед доктора Дэвиса? Разве он такой уж знаменитый химик? А если так, что ему за интерес обедать у нас? Мы-то из химии только и знаем, что в кофе лучше не класть соли.
— Я говорил тебе, для меня он не только химик.
— Ты этого не говорил, но пусть будет так.
— Для меня он прежде всего — самый обаятельный человек, какого я знаю.
— Ты забываешь, что я с ним знакома. Он как будто очень приятный и воспитанный, но никакой такой особой обаятельности я в нем не заметила.
— Заметила бы, если б посмотрела внимательно.
— Возможно, возможно. Что ж, пригласим их сюда, и я на них обоих посмотрю очень внимательно.
Нет, добра этот разговор не предвещал. И Аш в ответ на приглашение сказал по телефону:
— А вы уверены, что миссис Кингсблад это будет по душе?
Дэвисы явились — прекрасно одетые, безупречно любезные, но до того сдержанные, словно присутствовала только их внешняя оболочка. Почти все время они ограничивались ответами на замечания Вестл, а поскольку замечаний было мало, то и отвечать почти не требовалось. Нийлу одному пришлось поддерживать разговор, а он не отличался изобретательностью.
Вестл была ужасна. Ее вежливость не знала границ, она соглашалась со всем, не слушая того, с чем соглашается.
— Вероятно, президенту доставляют немало хлопот все эти забастовки, — начал Нийл.
— Ну, конечно… Ты что сказал — забастовки? — пробормотала Вестл.
— Да, уж эти забастовки… — заключил Аш.
Перед обедом Аш и Марта послушно взяли по коктейлю, но так и не допили. «Точно бедные родственники, подлаживаются», — злобно шепнула Вестл Нийлу. Он сам обдумал меню и накрыл на стол, но обед сготовила Вестл, и хотя Марта робко предложила ей свою помощь, подавала одна, взглядом говоря Нийлу:
— Ну что, мой господин, довольны вы тем, как смиренно я прислуживаю этим темнокожим втирушам?
Когда разговор совсем замер и никто не подхватил реплик Нийла относительно воздушных сообщений и студенческой баскетбольной команды, Аш встрепенулся и со знанием дела заговорил о будущем пластмасс.
— В быту они находят себе почти безграничное применение, — сказал он. — Скоро появятся пластмассовые спальни, как для сказочных принцесс, — скрытый свет, прозрачные кровати и шкафчики, — по сравнению с этим нынешняя кричащая роскошь покажется мещанской.
— Вам, значит, не нравится, когда у людей есть красивые вещи? — сказала Вестл, и эта тема разговора тоже отпала.
Когда они пили кофе в гостиной и все мучились, нетерпеливо ожидая конца неудачного фарса, в нарушение всех запретов появилась Бидди в пижаме. Она остановилась перед Ашем и протянула вежливо и озабоченно:
— Ой, у вас лицо грязное!
Даже Вестл вздрогнула, но Аш только улыбнулся:
— Нет, дружок, это у меня просто загар.
— Вы ездили загорать во Флориду? Мои куклы только что вернулись из Флориды. Они жили в Палм-Бич, они говорят, что там очень дорого. А может, вы пили слишком много кофе? Мама говорит, если я буду пить кофе еще до шестнадцати лет, я тоже вся стану коричневая. А мне не хочется. Вам ничего, что вы весь коричневый?
Она спросила это с живейшим интересом, а потом, не замечая укоризненной мимики матери, забралась на колени к Марте и прилегла головкой ей на плечо.
Вестл ничего не осталось, как изобразить на лице умиление.
Аш посмотрел на нее внимательнее, чем прежде, потом бросил на Бидди взгляд, в котором светилась настоящая любовь, и сказал:
— Нет, малышка, я бы ничего не имел против моего загара, если б не было на свете стольких людей, которые не выносят солнца. Они предпочитают погреб и анемию.
— Что такое немия? — спросила Бидди.
С игривостью, достойной венской оперетты, Вестл прощебетала:
— Ну, деточка, беги в постельку и не приставай к доктору и миссис… мм… Дэвис.
Гости сумели распрощаться до кровопролития.
Вестл рыдала:
— Я знаю, знаю, что держала себя безобразно, но я просто не могу, Нийл. Что ты негр — это мне ничего, потому что я все-таки не совсем в это верю, наверно, тут что-то не так. Но этих людей и вообще цветных я не перевариваю, и лучше мне не стараться.
— Послушай, ты!
— Не ори!
— Ты сама виновата. Таких умных и воспитанных людей, как Аш и Марта, редко встретишь, если бы ты только дала им возможность…
— В том-то и горе! Меня с детства приучили считать, что негры смешные, всегда танцуют, улыбаются и говорят: «Ах, дай вам бог здоровья, мисс Вестл, вы, белые господа, так добры к нам, черным». Но этот Дэвис видит во мне только глупую бабу, которая ничего не смыслит в химии и в экономике. Погреб и анемия, скажи пожалуйста! Ох, я знаю, что говорю не то, но не лежит у меня к ним душа. А раз не лежит душа, я сейчас ничего не могу, потому что у меня опять будет ребенок.
Когда неумеренные восторги Нийла ясно показали всю глубину его тревоги, Вестл сказала очень серьезно:
— Не будем притворяться, что появление этого нового человека мы встретим с радостью. Для меня это ужасно, просто ужасно! Мне сегодня весь день хотелось убежать куда-нибудь, где меня никто не знает. Думать не могу о том, что произведу на свет негритянского младенца! Бидди — совсем другое дело, я почему-то уверена, что она не такая. Но черный ребенок — нет, это выше моих сил. Я хочу аборт, и не хочу, и не буду делать, и — я с ума сойду!
Она проплакала всю ночь. Испуганная Билли приходила узнать, «чем полечить бедную мамочку», а Нийл лежал на своей кровати, провожая глазами скользящие по потолку полосы света от проезжающих автомобилей.
50
То была Маленькая Женщина Всех Времен, очень милая и добрая женщина, помощница мужу и сыновьям во всех их честолюбивых начинаниях, среди которых было очень много вредных. Она пекла булочки для соседских ребят и любила слушать по радио глупые рассказы с продолжениями, она была доброй прихожанкой и приветливой соседкой. Она верила всему, что ей говорили ее священник, ее депутат и тот безымянный оракул, что выдумывает моды на обувь и косметику, и не кто иной, как она, испокон веков санкционировала и оправдывала существование всех прожорливых армий, всех пышных церквей, судов, университетов и «хорошего общества», все войны и бедствия на земле.
Маленькая Женщина Всех Времен заговорила и сказала так:
«Я ничего не смыслю в антропологии, этнологии, биологии и прочей скучной ученой материи, и что бы вы ни утверждали, сколько бы ни ссылались на всякие толстые книги, я скажу одно: в конце нашей улицы, в том доме, где козы, живет негритянская семья, так вот я знаю и вам говорю, что негры безусловно хуже нас, и я не потерплю, чтобы они работали в тех магазинах, конторах и банках, где мне приходится бывать. Я, конечно, желаю им всяческих благ, лишь бы они знали свое место. А если кто и говорит, что цветные точно такие же люди, как мы с вами, так стоит ли слушать этот безграмотный вздор, — они сами не верят ни одному своему слову!
Я — Маленькая Женщина Всех Времен, и под моим изящным каблучком пребывают все троны, и сабли, и митры; для моего приятного голоска слагаются все песни, и все сказки сочиняются для того, чтобы мне не было скучно по вечерам; везде, где народ собирается на совет, а мужчины и женщины любят и трудятся, властвуют узы, обряды и толкования, одобренные священными законами, которые поведал мне отец — весьма достойный человек; будь он жив, он не потерпел бы всей этой чепухи, которую распространяют всякие безответственные люди, а ему эти законы поведала его мать, а ей — ее пастор, а ему — его епископ, а ему — его мать, а ей — медиум, узнавший о них во время спиритического сеанса из разговора с самим господом богом.
Что ни говорите, а итальянцы — жулики, безработные — лентяи, негры — бездельники, евреи — ловкачи, а всемирное государство противно человеческой природе и принципам, которые провозгласил Джордж Вашингтон, и не хочу я больше слушать этот вредный вздор, и я — Герта, Изида, Астарта и технический секретарь ДАР — утверждаю, что когда всякую цивилизацию сгладит всеобъемлющая благопристойность смерти, тогда повсюду все будет мило и прилично и никто больше не будет задаваться и умничать, а сейчас давайте выпьем еще чашечку кофе и кончим этот разговор».
51
Аш сказал по телефону:
— Нет, что вы, ваша жена очень тронула меня вчера, она так старалась держать себя с нами непринужденно. Вы будьте готовы к тому, что она еще не скоро увидит в неграх обыкновенных людей. Я вот сорок лет стараюсь, а до сих пор не совсем свыкся с мыслью, что я не американский гражданин, не отец семейства, не химик, а негр. А теперь забудьте об этом, потому что затевается нечто очень серьезное.
Так Нийл впервые узнал от Аша про Сант Табак.
Он примчался с работы домой, расспросил, как себя чувствует Вестл (она чувствовала себя вполне нормально и рассердилась, что ей предлагают чувствовать себя как-то особенно), потом позвонил Ивену Брустеру и Коупу Андерсону и собрал следующие сведения.
Организация Сант Табак была только что создана в Гранд-Рипаблик и имела все шансы распространиться на другие города Севера. Ее тайной целью было прогнать возможно больше негров обратно на Юг. Будущим ее членам, полагавшим, что она похожа на Ку-клукс-клан, основатели разъясняли: «Нет, никаких насилий не будет. Напротив, мы хотим защитить цветных от их же безответственных вожаков, которые подстрекают их к беспорядкам по указанию Кремля. Мы не допустим линчеваний и даже избиений, разве что эти идиоты сами умудрятся обозлить полицию. Наша программа вполне благожелательная и конструктивная: добиться, чтобы всех негров, захвативших на Севере работу белых людей, уволили, а новых не нанимали».
В эту пропаганду экономического убийства было вложено много остроумной выдумки. Название Сант Табак было составлено из первых букв девиза «Сомнем авангард негритянского террора, трави агитаторов, бей агентуру красных». Руководящие должности распределили между собой мистер Уилбур Федеринг — «Большая Гавана», мистер Уильям Стопл — «Малая Гавана», мистер Рэнди Спрюс — «Панатела»; казначеем был «Кожаный кисет» — мистер Нортон Трок из Национального Банка «Блю Окс». В правление входили мэр Эд Флирон, доктор Кортес Келли и его преподобие доктор Джет Снуд.
Вдохновителем крестового похода был Федеринг, но шутливые титулы изобретали Рэнди и поборник Рекламы как Новейшего Искусства мистер Харолд В.Уиттик, которым пришла в голову забавная мысль — выдумать португальский остров Сант Табак, где были впервые найдены кусты табака и не разрешалось жить ни одному цветному.
Многие из крестоносцев носили жетон с изображением монаха, курящего трубку, однако деятельность их была серьезнее, чем их ритуал, потому что все они были солидные дельцы, а местная аристократия, представленная членами Федерального клуба, хоть и считала ниже своего достоинства вступать в организацию, охотно помогала ей деньгами. Во главе ее стояли надежные, энергичные люди, умеющие молчать, понимающие толк в стратегии, и тем не менее каждый их шаг становился известным в негритянском мире раньше, чем о нем узнавали участники. Контора Рэнди Спрюса, где разрабатывались планы, помещалась в здании банка «Блю Окс», а Клот Уиндек, отец Фила, служил в этом заведении лифтером и ведал очисткой всех корзин для бумаг.
Ивен Брустер высказал Рэнди Спрюсу соображение, что негров выгоднее принимать на работу, чем бесплатно содержать в больницах и тюрьмах, но Рэнди было некогда слушать какого-то горлана-проповедника.
Нельзя сказать, чтобы Сант Табак, при всем его размахе, явился единственным виновником увольнений негров в Гранд-Рипаблик. Большую роль здесь сыграло возвращение демобилизованных, забастовки, переход военных заводов на изготовление подтяжек и распространенное мнение, усердно подогреваемое комиксами и радио, будто негры забавны, но непроходимо глупы; все это вместе, в полной гармонии, привело к эпидемии увольнений рабочих-негров, которая вспыхнула 1 апреля.
Началось с Уоргейта, где выбросили на улицу двести темнокожих рабочих.
Администрация объяснила им, что их оставляют без куска хлеба исключительно потому, что с прекращением военного производства несколько цехов на заводе Уоргейта закрываются на неопределенное время.
Две-три недели спустя некоторые из этих цехов снова заработали под новыми названиями и целиком укомплектованные белыми рабочими.
В Файв Пойнтс не сомневались, что к концу года Уоргейты не оставят у себя ни одного негра. Увольнение не вызвало демонстраций протеста. Безработные собирались кучками на углах улиц, стояли бездомные, испуганные, рассказывали друг Другу о каком-то мифическом городе, где — «мне один тут говорил — берут на работу нашего брата».
Среди шестисот негров, работавших у Уоргейта, был и химик по имени Аш Дэвис.
Аш весело сказал Марте и Нийлу:
— Если меня уволят, двадцать монет в неделю я, наверно, смогу заработать — буду живой рекламой какого-нибудь средства для выпрямления вьющихся волос.
Простодушный Нийл изумился:
— Не отпустят они вас. Да ваши открытия дадут им сотни тысяч долларов!
— Верно, только они этого не понимают. Они думают, что я просто развлекаюсь чистой наукой. Юг нажил десятки миллионов на работах Карвера о земляном орехе, а Карвера все же не пустили с парадного хода. Вы, белые, идеалисты. Вы ставите принцип выше наживы, принцип ненависти ко всему неизвестному. Впрочем, как знать. Меня могут оставить у Уоргейта мести помещения. Я очень чисто подметаю пол.
— Или еще, — весело подхватила Марта, — ты можешь стать рассыльным, как большинство наших, у кого есть высшее образование.
— Ну, это едва ли. Доктора философии, которых берут на должность рассыльных, должны говорить по крайней мере на семи языках, а я говорю только на трех.
Тут к ним зашел Дрексель Гриншо.
— Слышали об увольнениях у Уоргейта? — спросил Аш.
Дрексель принял важный вид.
— Слышал, конечно, но я не так волнуюсь, как вы, молодежь. Наш народ много чего пережил, даже на моей памяти. Да точно ли это несчастье, как некоторые говорят? Вспомните, ведь те, кого увольняют, — это по большей части цветные батраки, прямо с Юга, из захолустья — грубые неучи, деньгам цену не знают, я бы сказал — типичные иммигранты. Здешним старожилам, вроде Альберта Вулкейпа и меня, очень повредило, что белые нас равняют с этой скотиной. Жаль их, конечно, но лучше пусть уезжают к себе на Юг.
— Я ведь тоже иммигрант, — заметил Аш.
— Вы другое дело. Вы здесь нужны.
— Кому, хотел бы я знать?
Дрексель горделиво поднял голову.
— Таких цветных джентльменов, как мы с вами, белые рады держать на работе. Мистер Тартан мне часто говорит: «Мистер Гриншо, просто не знаю, как бы мы без вас справлялись тут, в «Физолии», и обслуживали наших лучших клиентов». А я ему говорю: «Делаю все, что могу, сэр», — а он говорит: «Знаю, и мы это ценим».
Да у меня среди белых сколько угодно друзей. Только я-то не какой-нибудь дядя Том. Мною помыкать нельзя. Вы, нынешняя молодежь, не понимаете белых. Сумеете вы быть им полезны, так и обращение с вами будет хорошее, а если у них появилось вроде как предубеждение против вас, так виновата вся эта черная сволочь. Мы вот здесь в прежнее время как хорошо жили с белыми. Дочки мои росли вместе с самыми приличными белыми детьми, и в церкви меня встречали не хуже других прихожан. А теперь белым опротивело, что всякие скандалисты и нахалы держат себя так, будто они не хуже белых. От нас одного хотят — смирения, а смирение — главная добродетель, ведь так и в библии сказано.
Они не слушали: они слышали рассуждения Дрекселя Гриншо уже много раз. Им был дорог этот представительный старик, отец их приятельницы Синтии Вулкейп; благородный лакей благородных господ, южный денщик полковника-южанина.
В те дни на Крайнем Юге подвергся линчеванию демобилизованный негр.
С низовьев Миссисипи к Хауордскому юридическому колледжу, к ночным клубам Гарлема бежала волна ужаса: «В другой раз это может случиться и со мной», — и по ночам негры — будь они коммунисты или ревностные католики — с опаской озирались на улице. Аш Дэвис и Шутар Гауз, Дрексель Гриншо и доктор Дариус Мелоди, так же как и Хэк Райли, услышали страшную новость в тот же день, и в их стоне «Доколе, о господи?» звучала не только жалоба. А негр по имени Нийл Кингсблад растерянно смотрел на свою жену и содрогался: «Это могло бы случиться с нами, вот здесь, сейчас».
Увольнения негров с заводов Уоргейта и с других более мелких предприятий продолжались изо дня в день. С каждым днем все больше народу толпилось на углах Майо-стрит, все громче раздавался ропот, и власти предусмотрительно направляли туда больше полисменов — и время от времени в полисменов летели камни — тогда полисменов посылали еще больше — и одного негра пристрелили, а четверых арестовали — и тогда с третьего этажа на голову полисмену свалился кирпич — и Федеринг сказал: «Что я говорил? Вступайте в Сант Табак», — и негров стали быстрее увольнять с заводов Уоргейта, из коксовой компании «Аврора», с трикотажной фабрики Киппери, с элеваторов, из железнодорожного депо — и толпы на углах становились все беспокойнее — и на Майо-стрит посылали еще и еще полисменов per omnia saecula saeculorum[9].
Среди лидеров белых профсоюзов одни протестовали, другие помалкивали, третьи бурно радовались.
Потом Аш Дэвис получил от Дункана Браулера прекрасную характеристику и сообщение, что он уволен.
Ему ничего не сказали заранее. В пятницу вечером он вернулся с работы и нашел у себя дома письмо. Прочитав его, Аш на целый час потерял выдержку светского скептика и превратился в растерянного и воинственного безработного.
Он послал запросы в несколько фирм в восточных штатах, где знали его квалификацию. В ответах говорилось, что с фронта возвращается очень много белых химиков, а кроме того, есть опасения, что нынешний персонал откажется работать с неарийцем.
Ну что ж, доказывал он Марте, пожалуй, лучше ему заняться преподаванием, чем снова работать на какого-нибудь хозяина.
Он не получил работы ни в одном белом колледже, даже в том, где ему когда-то собирались дать почетную степень. Среди университетских преподавателей попадались негры, пожалуй, даже чаще, чем раньше, но Ашу это счастье не досталось. Ректоры колледжей ласково отвечали — если вообще удосуживались ответить, — что, хотя сами они свободны, абсолютно свободны от предрассудков, весь их штат просветителей, вероятно, откажется работать с темнокожим.
Через много месяцев, уже после отъезда в Нью-Йорк, Аш продался в рабство захудалому негритянскому колледжу на Крайнем Юге, оклад 1800 долларов в год и дом для жилья, только дома еще не было.
Потом Фила Уиндека уволили из гаража.
Потом уволили Дрекселя Гриншо.
52
Глен Тартан вызвал к себе Дрекселя Гриншо и забубнил:
— У меня для вас плохие новости, друг мой, но предупреждаю: моей вины тут нет. Хозяева решили изменить курс и впредь держать в ресторанах только белый персонал, так что вы понимаете… Но мы все от души желаем вам счастья, и я продиктовал такое рекомендательное письмо, что у вас прямо-таки дух захватит.
Если многоречивый Дрексель и сказал что-нибудь в ответ, никто этого не слышал.
Он хотел повидать владельцев отеля «Пайнленд», но у них не нашлось для него времени. Это были доктор Генри Спаррок и миссис Уэбб Уоргейт, широко известная как Искренний Друг Негров. Доктор Спаррок был по горло занят сбором средств в пользу Красного Креста, а миссис Уоргейт — в пользу лиги «Пустите детей приходить ко мне».
Дрексель забился в трехкомнатный домик, где он жил со своей дочерью Гарнет, и от стыда неделю не выходил на улицу. Он знал, что неучи из Техаса и Арканзаса, вышвырнутые с заводов Уоргейта и слоняющиеся возле закусочной, будут смеяться над ним.
Гарнет простилась с Филом Уиндеком и уехала работать в Чикаго. Дрексель продал дом и перебрался к другой своей дочери, жене Эмерсона Вулкейпа.
Ему все не нравилось: как она готовит, как стелет постели, ухаживает за ребенком, — и он не мог удержаться от замечаний. Он решил — без подсказки с ее стороны, — что днем ему лучше не бывать дома. Он поступил лакеем в скверный ресторанчик, откуда его через неделю уволили, потому что он критиковал решительно все, вплоть до непомерно высоких цен. Альберт Вулкейп предложил помочь ему открыть собственную столовую, но Дрексель вдруг убоялся ответственности.
Несколько месяцев он просидел на крыльце у Эмерсона, размышляя о том, запомнят ли безмозглые белые лакеи, которые теперь работают в «Фьезоле», что мистер Рэнди Спрюс кладет в кофе четыре куска сахару и прочие вещи в том же роде, понятные только ему, Дрекселю.
Дрексель умер один, скоропостижно, во время летней грозы. Гарнет приезжала на похороны и окончательно отказалась от мысли вступить в брак с Филом Уиндеком, который теперь в компании с Шугаром Гаузом переправлял в Оклахому виски. Сейчас Гарнет — стенографистка в Чикаго и живет одиноко и целомудренно, — это она-то, женщина, созданная для любви!
Когда последнего лакея-негра в «Фьезоле» заменили белым, Рэнди Спрюс с довольным смешком сделал новую запись в сант-табакских анналах. Бедный скудоумный Рэнди, который вскоре после того попал в скверную историю с молоденькой телефонисткой и скрылся из города. Он стольким людям причинил вред, и все по недомыслию. Если б он хоть раз спросил себя, за что он ненавидит негров, вероятно, оказалось бы, что он их вовсе не ненавидит. Он ни одного негра не знал лично. У него были самые благие намерения. Сейчас он, говорят, занимает отличное место в парфюмерной фирме «Атомная бомба».
В тот год в апреле выдавались дни, которые даже в Гранд-Рипаблик можно было назвать весенними. Нийл, насвистывая, возводил в витрине пирамиды из горшков с ранними нарциссами и чувствовал себя так, будто всю жизнь был энтузиастом-садоводом.
Лицо мистера Брандля выражало тревогу, когда он просматривал утреннюю почту и вел по телефону таинственные разговоры, во время которых отвечал только: «Да» и «Понимаю». Потом он долго тер руки, ерошил свою седую шевелюру и наконец решился:
— Нийл, я слышал, что вы дружите с неким доктором Дэвисом, а он опасный агитатор, негр. Не хочется мне обижать вас, но я со времени войны знаю, к чему приводят сплетни и слухи. Все мое дело может пойти прахом, а у меня на руках старуха жена.
Нийл вздохнул:
— Хорошо, Ульрих, я ухожу. Дайте знать в Сант Табак, что вы меня уволили.
Мистер Брандль горевал:
— Я вам напишу прекрасную рекомендацию для представления на новое место.
— Какое?..
Вестл не очень удивилась, когда он вернулся домой около одиннадцати часов утра, безработный отец семейства.
— Не грусти. Я этого ждала. Теперь я сама поступлю на работу и буду работать до самого рождения Букера Т.
— Где?
— Я уже говорила с Леви Тарром, в «Эмпориуме». Сначала я буду не за прилавком, а в подсобной. И не вздумай разыгрывать оскорбленную мужскую гордость и отговаривать меня. Нам деньги нужны.
— Я и не собираюсь ничего разыгрывать. Я знаю, что нужны.
Во время войны он видел стольких женщин в военной форме и в комбинезонах, что отпускал жену на работу без того чувства стыда, какое испытал бы на его месте отец, но все же он заботливо осведомился, как подобает белому джентльмену:
— А Букеру Т. это не повредит?
(Они не сговаривались об этом условном обозначении для будущего младенца, и, в сущности, оба были против такого эксцентричного имени. Оно выбралось само и держалось крепко.)
— Нет, он у меня здоровущий. И у них там при магазине есть врач.
— Продавцы будут изводить тебя как жену цветного.
— Не будут. Я их сама изведу. Я не такая терпеливая, как вы, капитан! А твоя мама — она, когда нужно, герой-женщина — обещала брать Билли из детского сада и оставлять у себя до моего возвращения. Ничего, будет не так плохо. А когда-нибудь… Я все думаю: эта свистопляска вокруг тебя не может не прекратиться. Разве мы не живем в Стране Свободных? Мне так говорили. Пройдет год-другой, ты опять будешь зарабатывать кучу денег, а я смогу оставаться дома с Билли и Букером и, полулежа на новой тахте, очень томно говорить моей горничной: «Анзолетта, принесите мне лак для ногтей и, будьте добры, взгляните в окно, как там маленький мистер Букер играет со своим вертолетом». Ах, Нийл, ведь когда все это кончится, он будет белый-белый, правда?
Она и в самом деле пошла работать к Тарру. Очевидно, она работала быстро и с умом, потому что вскоре уже продавала мебель, по которой считалась специалистом — в масштабах Сильван-парка. Очевидно, никто не решался дразнить ее (больше одного раза).
Нийл вставал до семи, готовил ей завтрак, энергично внушал Билли, что пора взваливать на плечи бремя дневных забот, провожал до порога нового кормильца семьи, мыл посуду, убирал комнаты, отводил Бидди в детский сад. Но это не казалось ему унизительным и позорным, напротив, он был доволен, что хоть чем-нибудь помогает Вестл, доволен, что есть на свете место, где он может работать, не слыша попреков за свою черную кожу.
Зато когда он выбирался на поиски работы, более достойной мужчины, — например, вписывать цифры в толстые книги и говорить: «Учетная ставка — 1 1/4 процента», — его охватывало уныние; когда родственный долг выгонял его из-под защиты его дома к кому-нибудь из членов семьи, им овладевало чувство беспомощности. Брат Роберт ненавидел его, он ушел из хлебопекарной компании и собирался, не дожидаясь развода, покинуть город и затеряться среди многомиллионного населения Чикаго.
Иногда Нийлу в порядке самозащиты удавалось разжечь в себе немножко злости. Почему его родичи не могут признать, что, по их же собственному критерию, они негры, и смотреть в лицо жизни с мужеством негров, а не пережевывать сказки белых о прелестях изысканных клубов, аристократических церквей и приглашений в скучные дома? Неужели этот мирок мелких интриг, это «приличное общество» так уж им нужно, что изгнание из него оказалось для всей семьи трагедией?
Иногда все родные, кроме матери, казались ему совершенно чужими. Несравненно ближе были ему не только Аш, Фил, Софи, но и юнец Уинтроп Брустер, который изучал в университете электричество, правила хорошего тона и музыку Сибелиуса, преуспевал в телеологии, баскетболе и танцах с девушками всех оттенков, а на диспутах выступал так же смело, как любой студент, будь он священным потомком норфолкских землевладельцев, ирландских огородников, уэльских горняков или французских скупщиков пушнины. Почему Китти и Чарли Сэйворд не могут смотреть на вещи так же трезво, как этот мальчик?
Но как ни трезво он смотрел на вещи сам, он не мог настаивать, чтобы Вестл примирилась с тем, что оба ее ребенка будут «цветные», и научилась в каждом «цветном» видеть человека. Он воспрянул духом, когда однажды в воскресенье утром Вестл сказала оживленно:
— Знаешь, что я надумала? Я схожу с Бидди в гости к доктору и миссис Дэвис (Ашем и Мартой она их так и не стала называть). Я хочу, чтобы их девочка пришла как-нибудь поиграть с Бидди.
— Но ведь Нора чуть не на десять лет старше.
Вестл обиделась:
— Ну, если ты не хочешь, чтобы я бывала у твоих…
— Да нет же, что ты, я страшно рад, я так надеюсь, что ты их полюбишь. Ты, конечно, знаешь, что Аша уволили?
Она явно не представляла себе, что для Аша увольнение означало больше, чем для любого белого химика. Аша удерживала в городе только продажа дома, на которой его либо должен был обмануть Фрэнк Брайтвинг, либо объегорить Уильям Стопл — по его собственному выбору. Он вполне мог оказаться не в настроении принимать покровительство Вестл, но она так радовалась своей затее, что Нийл решил поддержать ее.
Ему она велела сидеть дома. Она была полна энергии и доброй воли, хоть и не могла скрыть легкого раздражения, когда Бидди слишком уж восторженно заявляла, что идет в гости «к дяде Ашу, тете Марте и душечке, душечке Норе». Бидди успела придумать, что летом Нора (которую она никогда не видела) будет представлять с ней пьесу и оперу, и когда Нийл заметил, что к лету Нора уже уедет, Бидди пропустила это несущественное возражение мимо ушей с надменной беззаботностью, достойной ее матери.
«Вероятно, это к лучшему. Бидди будет такая же, как Уинтроп. Она будет говорить: «Конечно, я цветная. И один палец на ноге у меня кривой. Ну, а дальше что?»
В тот холодный апрельский день после второго завтрака Вестл бодро двинулась к автобусной остановке, а Бидди, как собачонка, носилась вокруг нее под голыми кленами. Они обещали быть дома в пять. В четверть пятого они вернулись молчаливые, словно воды в рот набрали.
— Ты уже не маленькая, снимай сама пальто и беги наверх играть, — приказала Вестл, и Нийл сжался.
Его «Ну как?» прозвучало очень осторожно.
— Если уж тебе обязательно надо знать, было не очень хорошо. То есть они были очаровательны, и дом у них интересный, но… Может, это не потому, что они цветные, может, они просто слишком умные для меня, но мне вдруг ужасно захотелось посидеть у Джада Браулера, поговорить об огородах. И Нора была просто до противности добра и снисходительна к нашему бедному отсталому ребенку. Нийл, тебе, правда, нужно, чтобы я старалась освоиться с твоими сверхинтеллектуальными друзьями — всеми этими индусами, корейцами, сионистами, неграми? Я не выношу пропаганды. Боюсь, что это не для меня, милый. Боюсь, что ничего не получится. Очень боюсь.
Нийл и сам этого боялся.
Аш еще не получил места учителя (он уже не называл это кафедрой в колледже), но дом свой продал через Фрэнка Брайтвинга, который отнесся к «черномазому клиенту» очень благосклонно и охотно уговорил покупателя заплатить почти половину настоящей цены. Аш рассчитывал быстрее найти работу на педагогическом невольничьем рынке в Нью-Йорке и теперь покидал Гранд-Рипаблик — вероятно, навсегда, думал Нийл с болью в сердце.
Вестл нахмурилась — нет, ей что-то не хочется ехать с ним провожать Дэвисов. Да и неудобно отлучаться с работы! Хотела она того или нет, Нийл услышал в ее словах намек, что она, несчастная белая женщина, трудится от зари до зари, чтобы содержать безработного негра, и что надолго у нее такого стеснительного героизма не хватит.
Гранд-Рипаблик гордился своим новым вокзалом, особенно огромным, отделанным серым известняком залом ожидания, со стен которого смотрели знаменитые пионеры Радиссон и Грозелье, Дэвид Томпсон, Ле Сюэр, лейтенант Пайк и сеньор Дулут. Нийл мысленно хорохорился: «Такой же был и Ксавье Пик. Нам с Бидди эти герои ближе, чем Пратты и Уоргейты — жалкие выскочки!»
В толпе негров, собравшейся на вокзале, у Аша и то не было столько добрых знакомых, как у Нийла. Вот они, все, с кем он успел сдружиться за эти шесть месяцев: Вулкейпы в полном составе, Дэвисы, Тэрустеры, Фил Уиндек — одетый с дешевым шиком, подобающим бутлегеру, — Аксель Скагстром, Борус Багдолл, Уош, Хэк Райли, доктор Дариус Мелоди, Шугар Гауз. Что касается Софи, то Нийл и сам не заметил, как взял ее под руку, до того это казалось естественным.
Дэвисам кричали: «Будем по вас скучать, профессор!», «Привет от меня Гарлему, Аш!», «Марта, милая, как жаль, что вы уезжаете!», «Возвращайся скорее. Нора!» Но когда Аш двинулся от них прочь, к выходу на перрон, к воротам, которые уже никогда не впустят его обратно, в глазах его не было надежды. Он покидал не только друзей, но единственное место — в Америке, — где белые на короткое время разрешили ему считать себя полноправным гражданином и ученым.
Держа за руку Нору, Аш стал спускаться по лестнице к поезду, и последнее, что запомнилось Нийлу, было виноватое выражение его лица, когда какая-то белая толстуха обругала его за то, что сама же его толкнула.
За спиной у Нийла один белый объяснял другому:
— Этот тип, которого провожали, это тот образованный ниггер, что служил у Уоргейта — чертежником или еще кем-то, не помню. Значит, одним ниггером меньше стало в городе — все-таки легче будет дышать.
Оба засмеялись, потому что не чувствовали, как под ними колеблется земля.
В тот же вечер он услышал по телефону незнакомый женский голос:
— Нийл?
— Да.
— Итак, ваш друг Аш смылся из города, а вашему другу Гриншо дали по шее. Скоро и ваша очередь, мое золото!
— Кто это говорит?
— А вам ужасно хочется знать? Ну, нет, мне неинтересно, чтобы всякие ниггеры и дегенераты знали мое имечко. Скажите, а правда, что в Вестл тоже есть черная кровь — с материнской стороны? И чего вы, подлые обманщики, не уезжаете отсюда? Никому вы здесь не нужны!
Нийл положил трубку; Вестл он ничего не сказал.
Позже, когда они оба читали в гостиной, Вестл вдруг сказала тихо и тревожно:
— Не поднимай голову, кто-то смотрит с улицы в окно.
Он вскочил с места, вприпрыжку выбежал на крыльцо, но никого не увидел.
Мистер Седрик Стаубермейер спросил своего соседа, доктора Кортеса Келли:
— Вы не согласны со мной, что Кингсблад попросту убил отца своим безобразным поведением?
Тот самый Келли, который в свое время опровергал эту остроумную гипотезу, ответил:
— Да, пожалуй, вы правы.
Долголетняя ненависть к евреям воспитала в мистере Стаубермейере опытного и самозабвенного Специалиста по Распусканию Слухов. Каждый вечер, когда другие жители Сильван-парка говорили: «Не вижу, что в этом Кингсбладе плохого, — как будто славный, тихий человек», — мистер Стаубермейер заводил свое:
— Вы разве не знаете, его не только выгнали из банка за растрату, он на родного отца поднял руку и так бессовестно кричал на него, что бедный старик тут же умер от разрыва сердца. Мне это говорила ассистентка старого дока Кингсблада — она сама видела.
— Да ну? Неужели? Ай-яй-яй!
53
Эпидемия увольнений продолжалась, но не все было худо для Израиля в земле Египетской. Нашлись среди ветеранов такие, которые утверждали, что если человек мог идти с ними на смерть в Европе, он может сесть с ними за стол в Миннесоте, и их усилиями Фил Уиндек был избран в Американский легион.
Однако они проявляли меньше сочувствия, чем проявили бы в подобных обстоятельствах их отцы. Тридцать лет назад казалось, что неграм кое в чем удалось добиться своего, — вероятно, потому, что добивались они гораздо меньшего. В то время они требовали только крыши над головой, солонины на обед и чтобы их не линчевали. Теперь они требовали всех человеческих прав, и те же белые, которые, умиляясь собственной добротой, давали им миску холодной картошки, отнюдь не склонны были дать им место у станка или у избирательной урны и ворчали: «Избаловали мы их. Нужно стукнуть этих обезьян по голове, не то они, чего доброго, заявят, что могут работать не хуже нас». Никогда еще агитация в пользу негров не была связана с таким риском, но зато каждая удача была действительно победой человеческого достоинства, а не розовым бантом, нацепленным на кандалы.
Нийл мог бы порадоваться скромным лаврам Фила Уиндека — он не знал, как мало они прельщали самого Фила, — но Нийла мучили домашние неурядицы. Вестл так успешно подвизалась у Тарра, что с полным основанием стала считать себя не скромной помощницей мужа, а женщиной, самостоятельно делающей карьеру в «искусстве коммерции», как она выражалась. Из приятной молодой дамы она превращалась в человека. Она с увлечением сообщала Нийлу свои планы: после рождения Букера Т. она наймет няню, а сама станет у Тарра агентом по закупкам или заведующей отделом, у нее будет свой кабинет, командировки в Нью-Йорк в салон-вагоне, шикарные номера в отелях, деловые обеды.
«Может, она когда-нибудь откроет и собственное дело, а меня, как цветного, возьмет к себе швейцаром. Хорошо ли я поступаю, что не расстаюсь с ней? Может быть, отказаться от этого дома, от этой жизни? Сумею я прожить один? Сумею я выучиться чему-нибудь, чтоб быть независимым, хотя бы как Шугар Гауз? Что ж, уйти? Я уйду, если так будет лучше для нее».
Но это самоотверженное решение не вспомнилось ему, когда он спустя несколько дней застал дома интересную картину: Мортон Бихаус при поддержке Оливера и сестры Вестл, приехавшей из Дулута, делал последнюю попытку спасти свою несчастную дочь.
— А-а, Нийл, добрый вечер. Садитесь, — сказал Мортон Нийлу, хозяину дома. — Нам сегодня предстоит выполнить тяжелую обязанность, но, хотя вы и доказали, что вам не хватает чувства ответственности, я верю в ваши добрые намерения. Вы, как нам кажется, не понимаете, в каком позорном положении оказались по вашей милости Вестл и Бидди.
Вестл слушала молча. То ли она была согласна с отцом, то ли обещала не перебивать.
— Если бы вы это понимали, — продолжал Мортон, — вы приняли бы меры, чтобы немедленно с этим покончить. В том, что вы цветной, они не виноваты, так с какой же стати им за это страдать?
Нийл изумился:
— По-вашему, я должен просить, чтоб они ушли от меня?
Дядя Оливер не выдержал и вмешался:
— Дорогой мой, а как же иначе? Сейчас еще не поздно спасти их репутацию. Но если вы будете тянуть…
— Нет.
— Что?
— Я сказал — нет. Вестл мне дороже всего; я прекрасно понимаю, что ей трудно; я не буду пытаться влиять на нее: пусть поступает по своему желанию, которое, между прочим, может не совпасть с вашим желанием. Я не на вас женился.
— К счастью! — ответил Оливер столь же неизящно.
— Но я решил, что раз я негр, то и Бидди и тот ребенок, который должен родиться, — негры, и хватит нам стыдиться этого, хватит слушать вас, белых людей.
— Так, — сказал дядя Оливер. — Понятно, — сказал дядя Оливер. — Значит, вы намерены выместить на этих двух невинных младенцах свое — мм, — ну, будем называть это печатью…
— Нет, не будем. Вы одного не хотите понять — я теперь вовсе не считаю, что они были бы счастливее на положении белых детей. Я не считаю, что мои негритянские друзья хуже такого сухаря и тупицы, как вы. Не сочтите за грубость, конечно.
— Так, так. Понятно.
Нужно заметить, что контора Оливера одно время ведала земельными делами Эйзенгерца, и Оливер был подробно осведомлен о правах на недвижимость в Сильван-парке и о так называемых «ограничительных условиях», представлявших собою джентльменское соглашение, по которому белые, покупая участок, обязывались ни в коем случае не перепродавать его негру, будь он хоть Александром Дюма или св. Августином. Во всех районах Гранд-Рипаблик, кроме Файв Пойнтс, Суид-холлоу, Кэну-хайтс и нескольких заболоченных пустырей, уже действовали эти ограничительные условия, в которых для чистоплотных и честолюбивых негров содержался намек, что, по мнению лучших представителей белой расы, им следует быть грязными, забыть о честолюбии и держаться подальше.
Был Оливер осведомлен и о деятельности организации Сант Табак и не раз обсуждал ее с Буном Хавоком и Роднеем Олдвиком, хотя никто из них официально в ней не числился.
В то воскресенье под вечер Нийл и Вестл услышали, как хлопнула входная дверь, а потом из столовой раздался громкий плач Бидди. Когда они бросились к ней, она подняла голову и сердито посмотрела на них скорбными, покрасневшими от слез глазами. Потом всхлипнула:
— Мама, миссис Стаубермейер говорит: я ниггер.
— Ой…
— Я разве ниггер?
— Не больше, чем пала и мама, — поклялась Вестл, — а ты посмотри на нас, разве мы плохие?
— Я такая, как Черный Самбо? Или как тот противный мальчишка на банке с гуталином?
— Нет, совсем не такая, как Черный Самбо. Скорее, как дядя Аш Или как Нора.
— У, они-то хорошие!
— Бидди! Ну-ка рассказывай. Что случилось?
— Я играла с Тедди и Тесси Стаубермейерами, и Тедди сказал, что я ниггер, а я сказала, что нет, а он говорит, его папа и мама все время смеются над моим папой, потому что он ниггер, и я, значит, тоже, а потом он сказал, что если я хочу с ними играть, так чтобы я разделась, а я не хотела…
— Что такое? — Нийла душила холодная злоба.
— Он сказал, и Тесси сказала: раз я ниггер, значит, я раба, а рабе полагается ходить перед своими хозяевами совсем без всего. А потом миссис Стаубермейер, она все время стояла на крыльце и слушала.
— Ах так?!
— …она сказала: нет, не надо говорить, чтобы я разделась, сегодня слишком холодно, но мне поделом, потому что мой папа очень задается, а на самом деле он всего-навсего ниггер, и она сказала, чтобы я убиралась оттуда и шла домой. Я и пошла.
Они успокоили и развеселили Бидди, прежде чем уложить ее спать, и она заявила, что будет негритянкой, как Нора Дэвис, и еще — индейской принцессой по имени Розмэри Киска Солнечный Луч. Она уже вкладывала в эти романтические фантазии увлечение, на какое ее отец не чувствовал себя способным.
Выйдя из детской, Нийл проворчал:
— Жаль, что она узнала не от нас, а от этих выродков. Пошли. Мы сейчас поговорим со Стаубермейерами.
По дороге он бросил взгляд в открытую дверь «кабинета» и заметил на стене свой любимый винчестер. Без прямой связи с происходящим он все же вспомнил, что стреляет как снайпер и что для этого вида спорта хромота не помеха.
Седрик Стаубермейер, торговец коврами и красками, не был похож на своего соседа — крепко сколоченного, решительного мистера У.С.Вандера. Он был пухлый, надутый, истеричный, но в своей неуравновешенности мог быть опасен. Увидев у своей парадной двери Нийла и Вестл — дверь была светлого дуба, с ромбовидным окошечком, затянутым изнутри кисейной занавеской, — он как будто смутился и угрюмо буркнул:
— Войдите.
Каминная полка в гостиной тоже было светлого дуба, с зеркалом, а на столе, покрытом скатертью в псевдовосточном стиле, лежала брошюрка Джета Сну да.
Миссис Стаубермейер являла собой зрелище более воинственное, чем ее муж, — это была мегера с растрепанными седыми волосами. Она стояла молча, лихо подбоченясь.
Нийл заговорил первым:
— Я не буду грозить, что пожалуюсь в полицию и все такое, но предупреждаю: если еще раз повторится то, что случилось сегодня с моей дочерью, я этого так не оставлю.
— А что же вы сделаете? — спросила миссис Стаубермейер.
Ответить на этот вызов было трудно, так что Нийл даже обрадовался, когда Седрик пронзительно заорал:
— Вы не оставите? Скажите лучше — вас самих тут не оставят. Да вы знаете, как весь район мечтает от вас избавиться? Я первый жду не дождусь. Я давно подозревал, что вы ниггер или что-то в этом роде, очень уж вы всегда ладили с жидами и с итальяшками!
Вестл сказала:
— А знаете вы, культурные христиане, что ваш сын предложил моей дочери раздеться догола?
Смех миссис Стаубермейер напоминал скрежет пилы по железу:
— О да, он в этом смысле взрослый мужчина. Стаубермейеры все развиваются рано. И разрешите сказать вам, сударыня, что мы больше не желаем видеть вашу дочь у себя во дворе, так что можете не беспокоиться!
Еще долго после этого Бидди и боялась и слегка гордилась, вспоминая свое приключение, а во сне часто вздрагивала. Слухи о происшедшем распространились среди соседей в нескольких более или менее гнусных вариантах, по которым почти всегда выходило, что Бидди вела себя крайне непристойно. Родители старались не выпускать ее за ворота и радовались:
— Слава богу, есть хоть свой двор, где она всегда сможет играть спокойно.
54
Мистер Оливер Бихаус пришел к выводу, что, поскольку в 1941 году, когда Нийл Кингсблад подписывал контракт на покупку дома, Сильван-парк уже находился под защитой «ограничительных условий», вышеозначенный Нийл Кингсблад, утаив свою принадлежность к «цветным», совершил тяжкое преступление против мистера Эйзенгерца, мистера Стопла, Законов о Здравоохранении, Конституции США, Библии и Великой Хартии Вольностей. По расчетам Оливера, его племянница Вестл должна была наконец уйти от мужа, когда он лишится не только работы, но и дома. Оливер хорошо знал налоговое законодательство, но плохо знал женщин.
Удивительно плохо знал их и еще один человек, а именно Нийл. Он решил, что раз Вестл готова вместе с ним дерзить дяде Оливеру, раз она внушает Бидди, что ее родители оба «цветные», значит, он всегда и во всем может положиться на ее преданность и поддержку.
Но однажды вечером, когда она вернулась с работы, выяснилось, что она вовсе не являет собой неиссякаемого источника терпения и любви. Она неодобрительно оглядела его и поморщилась:
— Ты, кажется, совсем перестал обращать внимание на то, как ты одет. А тебе бы нужно особенно следить за собой, если ты еще надеешься когда-нибудь получить приличное место.
— Нового костюма я себе не могу позволить, но этот я все время чищу и утюжу.
— И на галстуке у тебя какое-то пятно.
— Я не такой щеголь, как Пратт!
Это была старая семейная шутка, но Вестл продолжала наступление, даже не улыбнувшись:
— И вообще ты начал сдавать, и это меня беспокоит. Я вижу это по тому, что тебе так часто хочется уйти от меня. Ты столько времени проводишь со своими злосчастными агитаторами, вроде Брустера, — так, кажется, зовут твоего проповедника?
— Да, так, и ты это знаешь. И позволь тебе сказать, что я уделяю людям моей расы вчетверо меньше времени (что, кстати сказать, очень нехорошо), чем раньше уделял Джаду и его компании, когда играл с ними в покер или ездил на охоту и вообще коптил небо. То, что меня сейчас увлекает, тебе кажется скучным, а в моих дилетантских занятиях спортом ты видела нечто мужественное и благородное.
— И сейчас вижу. Во всяком случае, это не сравнить с митингами, на которых ты и другие такие же дураки занимаетесь переустройством мира.
— Вестл!
— Ну да, и мне это надоело, смертельно надоело. Я, пожалуй, ненадолго прилягу до ужина. Все мне надоело. И самое трудное для меня, Нийл, — это что в тебе теперь два человека: тот, за которого я выходила замуж, и негр, интересы которого мне совершенно непонятны. И кто же из них мой муж?
Потеряв надежду уследить за настроениями Вестл, он отправился за советом к матери. Стоял ясный весенний день, белые облака играли в пятнашки с солнцем, но мать его сидела над пасьянсом в комнате со спущенными шторами, — призрак женщины, бледный и туманный, как душа неродившегося младенца.
Он взмолился:
— Мама, как мне убедить Вестл, что ей живется не хуже, чем миллионам негритянских женщин?
— Боюсь, что это невозможно, милый, да ей, и правда, живется хуже, если она сама так думает. И, может быть, твой долг — после рождения маленького уговорить ее уехать от тебя, уехать как можно дальше. Ты будешь одинок — до какой степени, ты и представить себе не можешь, — так же одинок, как мы с Джоан стали из-за тебя. Но думаю, что с Вестл у тебя ничего не выйдет. Она женщина с характером. Может быть, лучше, чтобы она уехала до того, как отношения у вас совсем испортятся.
— Может быть.
К концу весны, когда с неба время от времени еще сыпался редкий снежок, припудривая сирень, цветущий миндаль и бутоны на сливовых деревьях, но листва зеленела уже почти по-летнему, тучный экс-дипломат Бертольд Эйзенгерц покинул свою флоридскую виллу и отбыл домой, словно удаляясь в изгнание.
Устремив взор на портрет с автографом его превосходительства достопочтенного сэра Реджинальда Уайдскома, кавалера ордена Михаила и Георгия первой степени, водруженный на столе красного дерева в библиотеке Хилл-хауза, сложив вместе кончики пальцев, каждый из которых был словно миниатюрной копией его холеной лысой головы, мистер Эйзенгерц слушал, а мистер Уильям Стопл разъяснял, что, продав участок Нийлу Кингсбладу, известному негритянскому агитатору, они нарушили «ограничительные условия» и посягнули на права ни в чем не повинных белых домовладельцев в Сильван-парке. То, что они не были осведомлены о расовой принадлежности этого субъекта, едва ли послужит им оправданием в глазах закона, а главное — и это много серьезнее, чем любой юридический промах, — если не будут предприняты экстренные меры, можно опасаться, как бы остальная земельная собственность мистера Эйзенгерца, еще подлежащая продаже, не упала в цене.
— Может быть, уже упала? — обеспокоился мистер Эйзенгерц.
Нет, пока еще нет, но, безусловно, упадет, ибо всем известно, что где негры, там грязь и шум, и, хотя он, мистер Стопл, свободен от предрассудков, так же как и он, мистер Эйзенгерц, все же факты остаются фактами. Не так ли?
Берти Эйзенгерц очень нежно относился к мулатке, которая два года была его любовницей, когда он состоял членом дипломатической миссии в Португалии, и вся эта тупость его раздражала, но ему нужны были деньги, ему всегда нужны были деньги для поддержания в себе непрочного убеждения, что он большой человек. И хотя он искренне любил своего Ренуара и собрание сочинений Генри Джеймса с авторской надписью, все же не следует забывать, что дедом его был Саймон Эйзенгерц, самый ловкий и беззастенчивый захватчик лесных угодий индейцев в Северной Миннесоте.
И в итоге:
Нийл получил письмо от юридической конторы, где одним из компаньонов был Родней Олдвик, с кратким приглашением зайти.
Он с опаской вошел в кабинет Олдвика, но тот непременно хотел пожать ему руку и вообще был чрезвычайно весел и мил.
— Понимаешь, Нийл, я лично считаю, что все это дело — совершеннейшая чепуха, но, к несчастью, на основании «ограничительных условий» и твои соседи и фирма бедняги Стопла могут подать на тебя в суд за обман при покупке дома, поскольку ты все время знал, что ты — ну, скажем, цветной.
Он посмотрел на Нийла ясными глазами, словно предвкушая, как тот рассердится и начнет орать, что вовсе он не «все время знал». Но Нийл, глубоко уйдя в свое кресло, молчал, и Олдвик, слегка разочарованный, добавил:
— Мистер Эйзенгерц и сейчас еще готов выкупить у тебя дом по прежней цене. Но теперь он не просто предлагает, он настаивает. Он требует, чтобы ты немедленно выехал. В конце концов что тут плохого? Купишь другой дом с другим участком, вот и все. Если ты откажешься, он будет действовать через суд, и, конечно, все судебные издержки, на какие мистеру Эйзенгерцу придется пойти, будут взысканы с тебя. А они составят не маленькую сумму. Об этом я позабочусь, ха-ха. Ну, что скажешь, дорогой? Подумай, стоит ли упираться!
— Дом мой, я его купил на законных основаниях, деньги за него выплачены, и я никуда не уйду.
— Да брось, Нийл, мы же с тобой практические люди.
— Я — нет.
— Ты отлично понимаешь, что логика и законность здесь ни при чем. Если обыватели Сильван-парка решили, что их скучнейший район должен остаться белым, как снег, они этого добьются, будь уверен, а ты будешь гораздо лучше чувствовать себя в какой-нибудь более космополитической части города. Сужу по себе.
— Я свое слово сказал.
— Да, да, мой милый, сказал. Так позволь и мне сказать тебе, что мы подадим на тебя в суд и вышвырнем тебя из дома незамедлительно. Если добром не уйдешь, тебя арестуют за неуважение к суду. Все. До приятного свидания.
Нийл пошел со своим делом к Суини Фишбергу, а это значило, что дело его правое и что он, по всей вероятности, его проиграет. Суини являл собой помесь еврея с ирландцем, коммуниста с католиком, агитатора против всяческих предрассудков со скептиком, не верящим ни в какую агитацию. Он любил поговорить с Клемом Брэзенстаром, но предпочитал охотиться в обществе Буна Хавока.
Он стал прикидывать:
— Вы могли бы бороться на том основании, что ваша принадлежность к неграм недоказуема, или на том основании, что по законам нашего штата столь незначительная примесь негритянских генов не позволяет причислить вас к неграм.
— Нет, — упрямо возразил Нийл. — Я хочу бороться против системы «ограничительных условий» в целом. Мы докажем, что они противозаконны. Раз меня заставили быть негром, я и буду негром.
— Заставили, сколько я понимаю, не без вашей помощи? Так. Значит, вы тоже из породы добровольных мучеников. А я думал, что вы для этого слишком хорошо играете в гольф. Все надеетесь спасти Джона Брауна от виселицы? И почему все вы, свихнувшиеся аболиционисты, идете ко мне? Я не только католик, я член республиканской партии. Поскольку за Родом стоят Бихаусы, тяжба будет стоить вам кучу денег, которых у вас нет, и мои услуги обойдутся вам дороже, чем можно подумать, судя по этой обшарпанной конторе. Нет, уж вы лучше соглашайтесь на предложение старика Берти, а ночью проберитесь к его дому и намалюйте на стенах свастики и… Ну ладно, ладно, ладно! Не приставайте ко мне. Дело ваше я возьму и сверну шею этому белоручке Олдвику.
Минуя бдительного Рода, Суини Фишберг пробрался прямо к Берти Эйзенгерцу и получил его согласие отложить предъявление иска до осени, — видимо, Суини, подобно всем радикалам его типа, надеялся, что в ближайшие три-четыре месяца господь бог проснется и увидит, как обращаются друг с другом его чада.
Весть об отсрочке, о том, что еще целое лето придется терпеть соседство этих ужасных Кингсбладов, вызвала в Сильван-парке настоящий пожар. У.С.Вандер и Седрик Стаубермейер, содрогаясь от пагубной близости Бидди, визжали: «Не станем мы дожидаться суда! Мы сами выгоним этих ниггеров, пока они нас вконец не разорили!»
Поскольку их рвение было направлено в другую сторону, никто из них и не подумал о матери Нийла, в которой, пожалуй, было больше «негритянской крови», чем в ее сыне.
В тот теплый вечер Принц весело носился по двору — счастливый пес и большой романтик, если учесть его почтенный возраст. В доме было слышно, как он благодушно напевает свою собачью любовную песенку. Но что-то его встревожило, и он, подбежав к открытому окну, затянутому сеткой, негромко пролаял какой-то вопрос. Нийл вышел во двор успокоить его, потрепал по шелковистой голове, и Принц, на минуту разомлев от любви к хозяину, снова умчался выяснять, не белка ли выбрала их двор местом своих похождений.
Нийл только что уселся читать газету, когда совсем близко прозвучал оглушительный выстрел из дробовика. Он вскочил с места и, не слушая жалобного возгласа Вестл: «Не выходи — ой, не выходи!» — в два прыжка очутился на крыльце.
У тротуара лежал Принц — груда сырого мяса, уже начавшая остывать. Нийл словно прирос к месту, и вдруг мимо него пронеслось какое-то дуновение, — это Бидди в пижаме выбежала из дома и уже стояла на коленях возле затихшей собаки, последнего и единственного своего товарища. В полутьме Нийлу почудилось, что голова собаки приподнялась и глаза укоризненно обратились на него.
Вестл стонала:
— Трусы, подлецы! Нийл! Ведь так и ты в опасности — и Бидди!
Два дня спустя он нашел свою газету на лужайке, разорванную в клочки, а на следующее утро на стене гаража оказалась огромная надпись: «Ниггер, катись отсюда». В тот же день, хотя считалось, что в Гранд-Рипаблик ку-клукс-клан умер, Нийл получил предостережение по всей форме: «Убирайся вон из этого района да поживей не воображай что мы шутим направляем тебе сие послание от имени Христова креста, всех порядочных женщин и американской цивилизации».
В эти тихие, настороженные вечера им ничего не оставалось, как сидеть и ждать, сидеть, насторожившись, и ждать.
Мистер Джозефус Ловджой Смит — подписывался он Джоз. Л.Смит — родился на севере штата Нью-Йорк и частенько говорил: «Нет, я не родственник мормона Джозефа Смита, хоть он и беседовал с ангелами в тех самых местах, откуда я родом. Зато я немного сродни Герриту Смиту, тому, что всю жизнь боролся против рабовладения и пьянства и все же оставался почтенным землевладельцем».
Джоз. Л.Смит был толстый, неповоротливый, тихий человек лет шестидесяти, владелец прекрасного книжно-игрушечно-писчебумажного магазина близ Чиппева-авеню. Он принадлежал к евангелической церкви и скорее к правому, чем к левому крылу республиканской партии, однако, в силу аболиционистских традиций и от стыда за Геррита Смита, в последний час отрекшегося от своего союзника Джона Брауна, постоянно чувствовал себя виноватым в том, что «так мало помогал бедным черным братьям». Но как им нужно помогать, он не знал и только возмущался, читая в газетах о случаях линчеваний, и старался продать возможно больше книг Мюрдаля, Кейтона и Дюбуа.
Нийлу и Вестл случалось покупать у него журналы и рождественские открытки. Он жил недалеко от них в темно-коричневом доме, похожем на большую распушившуюся наседку, и в дождливые дни они часто видели, как он прогуливается под зонтиком. Но личное их знакомство ограничивалось такими фразами, как «Доброе утро» и «Есть ли у вас акварельные краски?»
Когда он пришел к ним и, запыхавшись, опустился на стул в гостиной, они не знали, что и подумать.
Он пропыхтел:
— Вам это, может быть, неинтересно, но мой отец мальчишкой участвовал в Гражданской войне, в последний год. Отец моей матери командовал одним из вермонтских полков и приходился родственником Оуэну Ловджою, который, насколько я знаю, был ярым аболиционистом. Так вот — вы, надеюсь, не посетуете, что я вмешиваюсь не в свое дело, но я решил, что просто обязан сообщить вам то, что я слышал, — да не только слышал, меня самого пытались завербовать в эту банду, — тут некоторые ваши соседи сговариваются напасть на ваш дом и выгнать вас отсюда.
— Вы думаете, это серьезно? — спросил Нийл.
— Разрешите узнать, намерены ли вы защищать свой дом — намерены ли драться?
Нийл вопросительно взглянул на Вестл, и она ответила:
— До конца!
Нийл протянул:
— Лучше бы они ничего не затевали, но на крайний случай у меня здесь есть кое-какое оружие.
Мистер Смит сказал задумчиво:
— Вообще-то я противник всякого насилия, и в частности применения огнестрельного оружия. Я даже куропаток стреляю не чаще раза в год. Но все эти самосуды мне не нравятся. Если вы думаете, что вам может пригодиться дробовое ружье десятого калибра, я с удовольствием предоставлю его в ваше распоряжение. Ружье старое, заслуженное. Между прочим, я пробовал выяснить у этого, который приходил меня вербовать, — это был Кертс Хавок, ваш ближайший сосед, — я у него спросил, какой вечер они наметили, но он мне не сказал. И кстати, мистер Кингсблад… Нийл, вы бы не хотели работать у меня в магазине? Начать можно хоть завтра, если вам удобно.
— Знаешь, — сказала потом Вестл, — все-таки расовые различия — это не пустые слова. Никогда негры, даже самые распоследние, не будут так гадки, как Кертис, Федеринг или Стаубермейеры. Все это мне начинает порядком надоедать.
Первый день в магазине Смита прошел для Нийла спокойно, почти скучно. Никто не глазел на него, никто не отказывался принять из его черной руки дюжину черных карандашей № 2. Вестл забежала с работы, они вместе позавтракали, а потом поехали в автобусе домой, и никто не обращал на них внимания, так что им даже стало смешно, а потом им опять стало совсем не смешно, а очень страшно. Ибо вечером их посетил некий мистер Матозас, человек с усами велосипедиста 90-х годов, сыщик из Особого отряда комиссара общественной безопасности (иначе говоря — начальника полиции), и мистер Матозас закурлыкал, с хитрым видом крутя в руках свой котелок:
— Требуются кое-какие справки для комиссара.
Вестл, которой не понравился ни сам Матозас, ни его котелок, ни торчащая из бокового кармана дубинка в кожаном чехле, ответила резко:
— Доложите комиссару, что, по вашим наблюдениям, здесь ведут себя подозрительно: сидят у себя дома, слушают передачу «Страна Свободы» и читают речь президента Трумэна.
Матозас любил посмеяться, к месту и не к месту, что не мешало ему при случае пускать в дело свой красный кулак. Он рассмеялся и сказал:
— Непременно доложу. Он будет рад услышать, что хоть одна семья в этом хулиганском городе ведет себя прилично! А дочка у вас прехорошенькая.
— Представьте себе, мы тоже это замечаем. Но когда вы ее видели? Она уже полчаса как спит.
— О, я бываю в ваших краях. Особый отряд везде бывает.
Нийл подал голос:
— Что вам нужно?
— Комиссар считает, что вам следует кое о чем узнать. Вообще-то, поскольку ваша жена — родственница судьи Бихауса, комиссар, конечно, зашел бы к вам сам, но мистер Бихаус побывал у нас и прямо сказал, что не желает быть замешанным в эту историю и пусть все идет по закону, своим порядком.
— По какому закону? Каким порядком? Не можете ли вы выразить ваши угрозы в более ясной форме? — осведомился Нийл.
— Угрозы? А я-то к вам пришел по-дружески предупредить, что, если вы надумаете собрать пожитки и немедленно очистить помещение, наш отряд готов всячески вам помочь. Но если нет… Имейте в виду, я ничего не знаю ни о каких самосудах, но очень будет досадно, если соберется толпа и учинит незаконные действия, а мы вдруг не прибудем вовремя! Всего хорошего!
Когда дверь за ним захлопнулась, Нийл сказал:
— Этот комиссар, его начальник, мало того, что назначен мэром Флироном, но состоит с ним в дружбе, и с Федерингом тоже, и, как это ни странно, с Родом Олдвиком. Давай-ка переправим Бидди к маме, и поскорее.
Бидди даже не проснулась толком, пока ее поднимали и одевали, и Нийл понес ее на руках, а Вестл шагала рядом — Диана в пальто из верблюжьей шерсти. Обратно они почти бежали, так неспокойно было у них на душе.
Не зажигая в гостиной света; они дежурили у окна. Нийл принес сверху свою любимую винтовку. Ствол ее холодил пальцы. Вечер был теплый, после долгого плена северной зимы манило выйти на улицу, но Нийлу казалось, что мимо дома проходит что-то слишком много народу — и соседей и незнакомых — и каждый словно задерживается на секунду и смотрит на их окна.
Среди прочих мимо дома порознь и не спеша проследовали сыщик Матозас, мэр Флирон и мистер Уилбурн Федеринг.
Но ничего не случилось, решительно ничего, и они легли спать. Спали они неважно. Нийл несколько раз вставал и выглядывал в окно. Ничего подозрительного он не заметил… только сыщик Матозас всю ночь стоял под тополем во дворе Кертиса Хавока и курил папиросы. Может быть, он просто питал склонность к тополям и папиросам?
Утром, когда Нийл сказал:
— Ну, сегодня уж наверно, — Вестл кивнула, и он стал упрашивать: — Может, ту все-таки уйдешь?
— Ни за что!
— Я могу позвать кой-кого из мужчин, вот, например, у меня есть знакомый капитан из цветных, капитан Уиндек. Правда, может, ты переночуешь у отца, и нам бы не мешала.
— Ты хочешь, чтобы я ушла?
— Пожалуй, да.
— Никуда я не пойду. Я остаюсь, — сказала Вестл.
В тот день Пат Саксинар, покинув свою марксистскую обитель, забежала к Нийлу, в магазин Смита. От своего отца, насмерть разобиженного дяди Эмери, она слышала, что в дом Нийла собираются бросить бомбу.
Нийл позвонил Филу Уиндеку в гараж, где тот снова честно трудился за гроши, позвонил и Ивену Брустеру, но они ничего толком не знали. Он пожалел, что ни Аша, ни Райана Вулкейпа нет в городе. Он попытался разыскать Коупа Андерсона, зная, что толстяк-химик, который не делал разницы между своими негритянскими и белыми друзьями, — разве что к первым относился чуть получше — не сплоховал бы, если бы дело дошло до драки. Но оказалось, что Коуп Андерсон уехал с женой в Милуоки.
В магазине мистер Смит притащил ему два ящика с дробовыми патронами, но мистер Смит ограничился словами:
— Я — гм — нашел у себя немножко дроби. Может, вы осенью надумаете поохотиться.
Для Нийла эти патроны имели цену лишь как музейная редкость и как доказательство дружеских чувств. Они были десятого калибра, а дробовые ружья десятого калибра вышли из употребления чуть ли не сразу после Гражданской войны.
Он снова вернулся домой автобусом вместе с Вестл. Оба были напряженно спокойны, как перед боем, и, не будучи расположены готовить обед, ограничились кофе с сандвичами. Нийл больше не предлагал Вестл дезертировать. Ничего определенного она не сказала, но вид у нее был боевой.
Они сбегали к Фэйт Кингсблад проведать Бидди, бегом прибежали домой. Нийл начал сносить в гостиную свои винтовки и боеприпасы.
Из окон гостиной, где они, как и вчера, не зажигали света, им было видно маленькое полукруглое крыльцо, и когда раздался звонок, они узнали в гостье Пат Саксинар и с радостью впустили ее в дом.
Через три минуты звонок зазвонил опять, и Вестл, стоявшая на часах, донесла:
— Какой-то очень милый молодой человек, по виду военный, кажется, в мундире Американского легиона. Прямо красавец. О, да он, кажется, цветной.
В комнате появился Фил Уиндек, бравый и подтянутый, как в былое время, с торчащим из кармана револьвером. Вестл держалась с ним так же просто, как с Пат, — проще и естественнее, чем со следующим волонтером, который был не кто иной, как Суини Фишберг.
Этот лохматый ворчун был язвителен и колок, а военной выправкой обладал примерно в такой же степени, как профессор Эйнштейн. Он пробурчал:
— Такую услугу мы оказываем всем нашим клиентам, и обычно она приходится как нельзя более кстати.
Оружие Фила он осудил как незаконное, ненужное и располагающее к насилию. Однако вернул его владельцу.
Затем в полумраке улицы возникла новая фигура: толстый и сутулый, с кроличьим носом, но с глазами, как у старого сокола, шагая посреди мостовой, открыто и даже с вызовом, совсем не по-военному взвалив на плечо огромный дробовик, к дому подошел Джозефус Ловджой Смит, в прошлом — член окружного комитета республиканской партии. А следом за ним, нервной походкой и опустив голову, словно погруженный в глубокое раздумье, с магазинной винтовкой «Марлин» в аккуратном чехле, по ступеням поднялся Люциан Файрлок и сказал Пат, открывшей ему дверь:
— Добрый вечер. Скажите, мистер Кингсблад дома? А, добрый вечер, Нийл. Добрый вечер, сестра.
Сестра, нагнавшая его на крыльце, была Софи Конкорд в больничном халате под темным пальто.
Едва кивнув Нийлу, она весело обратилась к Вестл:
— Я подумала, что смогу вам быть полезной, миссис Кингсблад, если понадобится помощь по хозяйству — или медицинская.
И последним, в пасторском воротничке и черном жилете, которые он носил только в исключительных случаях, с ружьем под мышкой пришел доктор философии, преподобный Ивен Брустер.
Люциан Файрлок сказал ему:
— Слышали вы что-нибудь о предвыборных собраниях в Миссисипи, мистер Брустер?
Обращение «мистер» далось ему труднее, чем если бы он назвал Ивена «генерал» или «ваше преосвященство».
Джоза Л.Смита познакомили с Ивеном и Филом. Он крепко пожал им руки, а позднее сказал Нийлу:
— Я, кажется, впервые встречаюсь с цветными джентльменами в частном доме. Они, оказывается, говорят почти без акцента.
Компания развеселилась. Это был обычный летний вечер в Сильван-парке, — на улице мирно пели птицы и играли дети, — оружия и боеприпасов набралось достаточно, Вестл и Софи разносили горячий кофе. Нийл обучал обращению с винтовкой Софи, которая считала нужным крепко зажмуриваться, нажимая на спуск, и Вестл смеялась вместе с ними. Поскольку почти никто из них не обедал, Вестл затеяла было яичницу с ветчиной, но Ивен прогнал ее от плиты и стал демонстрировать, как повара в вагоне-ресторане переворачивают омлет, подкидывая его в воздух.
— Это сочетание дружеской атмосферы и оружия, — сказал Ивен, — напоминает мне время, когда я начинал изучать греческий язык под руководством одного священника-конгрегационалиста в Массачусетсе. Рабочим кабинетом ему служил шалаш в огороде, и греческую библию он, бывало, клал перед собой на столик, а под рукой держал винтовку двадцать второго калибра на случай, если кролики заберутся в грядки с морковью…
Вдребезги разлетелось стекло веранды, разбитое камнем. Они бросились в гостиную и увидели, что на другой стороне улицы, в сером полумраке, собралась кучка людей… Но Ивен, прежде чем облачиться в боевые доспехи, аккуратно завернул в кухне газ и прихватил с собой тарелку с готовыми омлетами. Осажденные разобрали их прямо руками и съели, пока Нийл гасил во всех комнатах свет. В соседних дворах двигались люди, бесшумно, как тени, не слышно было смеха. Мысль об опасности казалась нелепой, но Нийл незамедлительно расставил часовых.
Вестл твердила:
— Позвони в полицию, Нийл.
— Думаю, что это ни к чему.
— Может пригодиться в случае суда, — сказал Фишберг.
Полицейский сержант, дежуривший у телефона, вилял и отшучивался:
— Народ собрался у вашего дома, мистер? А у вас там что? Зверинец?
— Нам угрожают. Я — ну, в общем, я негр, и нас пытаются выгнать из дома.
— Нет, вы подумайте, вот бессовестные! Так вы, говорите, ниггер? А живете где? На Майо-стрит?
— Я вам уже сказал.
— Знаю, знаю я про вас, Кингсблад. У нас есть сведения, что в вашем районе молодежь вздумала побаловаться. Да вы-то кто, черт возьми, старая баба? Недаром говорят, что вы, черные, собственной тени боитесь. Неужели людям и пошуметь нельзя без того, чтобы вы не беспокоили полицию? У нас (зевок) есть дела поважнее.
Нийл сообщил своему отряду:
— Очень интересно. Полиция, оказывается, знала об этом, еще до того, как началось. Ведь один из соседей, которые хотят меня выселить, — сам мэр Флирон. Ну и народ эта полиция.
— А вы думали! — сказал Суини Фишберг. — Постояли бы в пикете, так знали бы.
Теперь никто не смеялся. Нийл выбрал себе позицию у одного окна гостиной, у другого поставил Фила Уиндека. Он накричал на Вестл:
— Ты уйди подальше, уйди в столовую! Тебе нельзя рисковать, помни о ребенке.
Суини пришло в голову позвонить в канцелярию шерифа Алекса Сноуфлауэра, который обычно не плясал под дудку Флирона. В темноте он долго возился с телефоном, а потом сказал смущенно:
— Провод перерезан.
Люциан Файрлок сам не понимал, как вышло, что он оказался по эту сторону баррикады, и был даже несколько смущен этим. Однако он храбро обратился к Филу:
— Мистер Уиндек, куда нужно целить, если хочешь остановить человека, но не убить его и не очень изувечить, а, Фил?
Трудно было представить себе более мирный фон, чем эта улица пригорода, тихие освещенные окна в домах напротив, за чуть колышущейся завесой ветвей. Но на этом фоне быстро сгущалась угроза. Кучки возбужденных людей росли, заполняли дворы, просачивались на улицу. Самые азартные проталкивались вперед, и кровожадность, написанная на их лицах, казалась еще страшнее в сочетании с их щегольскими галстуками и почти безукоризненными костюмами.
Это были уже не люди; это были брызги темного потока ненависти. Со своего поста в гостиной Нийл разглядел, что возглавляет толпу Уилбур Федеринг, преподобный доктор Джет Снуд, Харолд В.Уиттик и Седрик Стаубермейер, а военачальником у них низколобый, но крепко сколоченный У.С.Вандер. Армию их составляли семь-восемь десятков наэлектризованных маньяков — бедные соседи, богатые соседи, несколько молодчиков бандитского вида, совершенно незнакомых Нийлу, и разъяренные изуверы из скинии Снуда.
Но разглядел он немало и таких людей, которые размахивали руками, бегали взад и вперед, видимо, уговаривая и протестуя: среди них были Чарли Сэйворд, С.Эшиел Денвер, Норман и Рита Камбер; а прелестная Вайолет Кренуэй разжигала человекоубийственные страсти своими воплями: «Осторожнее, ах, ради бога, осторожнее!» — и ее нежное лицо разрумянилось от сладострастного ужаса. И, как стена, стояли в ряд пять священнослужителей — Бансер, Гэд, Ленстра, отец Пардон и раввин Сарук, воздев руки, увещевая толпу — с опозданием на двадцать лет.
При свете карманного фонарика Суини Фишберг наскоро записывал имена для будущих свидетельских показаний. Ни Рэнди Спрюс, ни мэр Флирон, ни Родней Олдвик на улице не показывались, но на крыше дома Джада Браулера маячили какие-то неясные фигуры.
Сначала толпа оставалась на улицах, окаймлявших участок Нийла, и во дворах у Кертиса Хавока и Орло Вэя — видимо, с полного согласия владельцев. Но постепенно она подступала к ограде, и представителей церкви уже оттеснили в густую тень, под деревья.
— Вы знаете, что он убил своего отца! — крикнул незнакомый голос.
И десяток незнакомых голосов отозвался:
— Еще бы, и мы ему за это покажем!
Тут произошло какое-то замешательство, — Нийл не сразу разобрал, в чем дело. Три человека врезались в толпу, направляясь к его двери, шагая, как ополченцы 1776 года: Джон Вулкейп, Альберт Вулкейп, Борус Багдолл. Книжник-домосед, прижимистый содержатель прачечной и кабатчик горели одинаковой яростью, но именно Альберт, который так всегда старался не ввязываться в борьбу за права негров, крикнул во весь голос:
— А ну, пропустите!
По цвету кожи Боруса в толпе поняли, кто они такие, и их окружили. Больше Нийл их не видел. Он видел только множество спин, видел занесенные дубинки, услышал один резкий вскрик.
А потом толпа мутной волной хлынула во двор к Нийлу. Возмущенный вторжением, не раздумывая, почти не испытывая страха, Нийл заковылял к парадной двери, отпер и отворил ее, и стал на пороге с винтовкой в руках. Он почувствовал приятную свежесть ночного воздуха, почувствовал, что позади него стоят Фил и Вестл, вооруженная огромным пистолетом.
Он крикнул:
— Первого, кто сделает шаг, уложу на месте!
Толпа застыла.
Из передних рядов Вандер-лесоруб гаркнул грубым, решительным голосом:
— Довольно валять дурака! Сегодня же выметайтесь из этого района, не то мы разнесем к черту весь дом, и несдобровать ниггерам, которые в нем засели!
Нийл сказал ледяным тоном:
— Мистер Вандер!
— Ну?
— Мы обычно говорим не «ниггер», а «негр».
Джет Снуд сорвался с цепи:
— Вперед, братья! За дело! Труды наши угодны господу! Вперед!
Нийл вскинул винтовку, и Федеринг взвизгнул:
— Берегитесь!
Но Вандер прорычал:
— Не посмеет!
И вот Вандер, Снуд и Федеринг вместе двинулись к Нийлу.
В эту минуту из толпы раздался выстрел, и пуля, просвистев над плечом Нийла, попала в Вестл. Он услышал, как она ахнула; на секунду оглянулся. Она крикнула:
— Пустяки, только оцарапало руку. Дай им как следует!
Но Нийл целился тщательно, потому что был снайпером и потому что взвешивал, кого выбрать первой мишенью — Вандера, Снуда или Федеринга. Надо было начать с Вандера, но и посланец дьявола заслужил свою порцию…
Он стал стрелять. Первая пуля попала преподобному доктору Джету Снуду в правое бедро, и он свалился наземь. Вторая впилась в правое колено Уилбура Федеринга, но третья (может быть, Нийлу изменило хладнокровие), на беду, миновала Вандера и только оторвала палец на ноге у Седрика Стаубермейера, который с воем пустился наутек.
Толпа подалась назад, защелкали выстрелы. Тогда из верхнего окна — из окна бело-розовой комнатки Бидди — заговорила десятикалиберная пушка мистера Джоз. Л.Смита, поливая охотничьей дробью осаждающих, — и те обратились в бегство, громко взывая о помощи.
Полицейская машина, видимо, стояла наготове в каких-нибудь двух кварталах. Грохот артиллерии мистера Смита смешался со звоном колокола, автомобиль осторожно пробрался сквозь отступающую толпу, и полисмены, соскочив на землю, побежали к двери, где стояли Нийл, Фил и Вестл.
Во главе их шел сыщик Матозас. Очевидно, он и его подручные получили весьма точный приказ. Они схватили Нийла и Фила Уиндека, но увидев Вестл, которой Софи только что начала перевязывать руку, Матозас проворчал:
— Уходите в дом да поживей. Вы нам не нужны. Нам нужны только вот эти ниггеры, что затевают беспорядки, — да еще стреляют в почтенных граждан!
Вестл ласково отстранила Софи и ясным голосом сказала мистеру Матозасу:
— Значит, вам придется забрать и меня. Вы разве не знали, что я тоже негритянка?
Один полисмен шепнул другому:
— А я не знал, что она с дегтем.
На что его товарищ ответил:
— Ну и дурак. По зубам сразу видно.
Матозас рявкнул:
— А мы вас и не подумаем забирать, на черта вы нам нужны, уходите отсюда и не пытайтесь нас разжалобить.
Он потянулся к ее пистолету.
— А все-таки вы меня заберете! — очень ласковым голосом сказала Вестл и тяжело опустила приклад пистолета на голову сыщика.
Когда ее вместе с Нийлом поволокли к машине, она вцепилась в его рукав:
— Тебе тоже страшно? Ты будешь держать меня за руку в машине? Там так темно, но если ты будешь держать меня за руку, мне будет не очень страшно. Интересно начинает жизнь маленький Букер Т.! Нийл! Слушай! Слышишь, как Джозефус Смит орет на полисменов? Наверно, и среди белых немало хороших людей, правда?
— Ну, идите, идите! — сказал один из полисменов.
— Мы идем, — сказала Вестл.
Рассказы
ПРИЗРАЧНЫЙ СТРАЖ
Сорок четыре года прослужил Дональд Патрик Дорган полицейским в Нозернаполисе, и тридцать девять из них его участком был район Форест-парка.
Дон Дорган мог бы стать сержантом и даже капитаном, но начальство очень скоро поняло, что Форест-парк — его страсть. Туда он привез свою молодую жену, там они построили дом, там его жена умерла, и там же ее схоронили.
Среди водоворота расчетливых карьеристов человек, довольный своим местом, был такой отрадой, что полицейские тузы благоволили к Доргану и предоставляли ему из года в год предаваться любимому занятию — совершать обходы Форест-парка.
Дело в том, что Дон Пат Дорган обладал удивительным даром: он любил людей, всех людей. В Нозернаполисе никто еще и понятия не имел о научной криминалистике, а Дорган уже твердо знал, что долг полицейского с чистой совестью и в чистых перчатках — удерживать людей от поступков, за которые попадают в полицию. Он терпеливо уговаривал пьяных спрятаться где-нибудь в кустах и проспаться как следует и арестовывал лишь тех, которые непреклонно ковыляли домой в намерении до полусмерти избить любимую жену. Любой бездомный бродяга мог получить у Доргана немного мелочи и план окрестностей с обозначением ночлежных домов. Драчливых хулиганов он увещевал спокойно и бил их дубиной хоть больно, но безвредно. На его участке малыши могли играть в бейсбол, лишь бы они не били стекол и не совались под машины. В карманах его мундира таились настоящие залежи: не только бутерброды, которые он съедал в полночь, револьвер, наручники, юмористический журнальчик, но и фунтик с дешевыми конфетами и красный резиновый мяч.
Когда сын вдовы Маклестер пристрастился к выпивке, Дон Дорган убедил его пойти служить во флот. Все это было работой Дональда, его искусством. А наградой для него было, что Китти Сильва, раскаявшись, стала порядочной женщиной или что Микки Конорс, которого Дорган знал еще плаксивым сироткой, выучился на врача и обзавелся большой стеклянной вывеской и медицинской сестрой, которая торжественно впускала бедняков на прием к великому доктору Конорсу!
Но были двое, к кому Дорган питал тайную нежность, и она была сильнее всех добрых чувств, которые он питал к остальным людям. То был Поло Магента, паренек англо-итало-датского происхождения, чей отец, жокей, умер, отравленный кокаином, и Эффи Куглер, дочь того еврея — хозяина закусочной, который знал талмуд лучше всех в еврейском квартале, хорошенькая толстушка Эффи с черными кудрями и лукавыми главками — такая любому красавцу под стать!
Поло Магента рос настоящим мужчиной. Мальчик обожал моторы, как его отец обожал лошадей. После смерти отца он в четырнадцать лет стал мойщиком машин в гараже Мак-Мануса; а когда ему исполнялось восемнадцать, во всем городе не было водителя такси искуснее, чем он. Ему шел двадцатый год, когда он однажды забежал позавтракать в закусочную Куглера; сосиски и крекеры ему подала Эффи.
С тех пор он каждый вечер торчал в закусочной, и старик Куглер недовольно косился на дочь и на Поло, самого бравого парня в Литтл-Хелле, такого ладного в шоферской тужурке, подтянутого, как его дед, английский сержант, и белокурого, как датчанин, любо-дорого посмотреть. А Поло шептался через стойку со смущавшейся Эффи.
Куглер прятался за дверью, и Поло не мог даже заехать и пригласить Эффи покататься. И вот, тоскуя о любимом, Эффи день ото дня бледнела, а Поло приохотился к виски, что совсем не дело для шофера, который гоняет на вокзалы к приходу поездов. Он попал в аварию, правда, всего лишь смял крыло у другой машины; но еще один такой случай — и таксомоторная компания выставила бы его вон.
И тут в игру включился полицейский Дон Дорган. Поло Магента должен жениться на Эффи, решил он. Он сказал Поло, что сам шепнет девушке словечко, и, дотошно выбирая кусок колбасы для бутерброда, передал ей, что Поло ждет ее в машине около Миннис-плейс, в аллее. А вслух проворчал:
— Эффи, дьяволенок, пойдем, прогуляемся немного, если разрешит папаша. Мистер Куглер, Дон Дорган не часто приглашает с собой на прогулку дам, да ведь на дворе весна, и вы знаете нас, злодеев-полицейских. Похоже, девочке не вредно глотнуть свежего воздуха.
— Пожалуй, — протянул Куглер. — Пройдись квартал с мистером Дорганом, Эффи, да, смотри, сразу же возвращайся.
Как лев, стоял Дорган на страже у входа в аллею, где около своего такси ждал Поло Магента. Подбежав к возлюбленному, Эффи вскрикнула, и Доргану вспомнились те далекие вечера, когда он встречался со своей милой в кленовой роще, где теперь эта золотушная площадь Миннис-плейс.
— Ах, Поло, я чуть не умерла с тоски — все высматривала тебя.
— Плохо мне, маленькая. Утром встаешь — и кругом пустота: ведь знаю, что тебя не увижу. Я готов пустить машину под откос, и конец — так тоскливо мне без тебя.
— Ах, Поло, правда?
— Слушай, времени у нас в обрез. Я надумал устроиться компаньоном в ремонтную мастерскую в Нью — Торнвуде. Если дело выгорит, мы удерем и поженимся, и когда твой старик увидит, что я пошел в гору.
Голос Поло зазвенел, оживившись надеждой, но тут вдруг Дорган вздрогнул и помрачнел: через Миннис-плейс двигался Куглер. Гонимый подозрениями, он зорко всматривался в глубь аллей. Дорган не смел повернуться, чтоб предупредить влюбленных, не мог даже крикнуть им. Он улыбнулся.
— Еще раз, вечер добрый. Славно я погулял с Эффи. Разве она еще не вернулась?
Руки в боки стоял Дорган, загораживая от Куглера вход в аллею.
Куглер пронырнул у него под рукой и увидел Эффи. Она сидела с Поло в обнимку на подножке его автомобиля.
— Эффи, иди домой, — сказал старик. Спокойствие стариковского голоса выдавало страшный гнев.
Пристыженные влюбленные вскочили.
Дорган вразвалку подошел к ним.
— Послушайте, мистер Куглер, Поло — отличный парень, с будущим. Дурными привычками не страдает — так, пустяки. Он обещал мне больше не пить.
— Мистер Дорган, — сказал Куглер, — я много лет с уважением относился к вам, но… Эффи, немедля иди домой.
— Что же мне делать, мистер Дорган? — взмолилась Эффи. — Послушаться папу или уйти с Поло?
Дорган уважал божественные права любви, но в то же время он питал старомодное уважение и к правам родителей.
— Пожалуй, ты лучше иди с папой, Эффи… Я с ним поговорю…
— Ну да, вы поговорите, и другие поговорят, а мне — крышка! — вскричал юный Поло. — Прочь с дороги, все прочь!
Прыгнув на сиденье, он уже выводил машину задним ходом из аллеи. Автомобиль, накренившись, свернул за угол.
Дорган узнал, что таксомоторная компания уволила Поло: он превысил скорость и разбил задний фонарь другой машины; потом Поло служил где-то на окраине частным шофером, но его выгнали за дерзость, потом он устроился где-то еще, а теперь его арестовали, когда он катал в хозяйском автомобиле компанию пьяных молодчиков из Литтл-Хелла. Его обвиняли в краже машины и должны были судить.
Дорган почистил щеткой свой штатский костюм, в парикмахерской ему вымыли голову и постригли по высшему разряду, и он отправился к хозяину Поло, но тот не стал даже слушать полицейского, смущенно попытавшегося заступиться за юношу.
Дорган пошел к Поло в камеру.
— Все в порядке, — сказал Поло, — я рад, что меня сцапали. Уж так было нужно, чтоб меня что-то остановило. Я было совсем рехнулся, и не нажми за меня кто-нибудь на тормоза, я бы не знаю до чего докатился. А теперь вот сижу тут, читаю и раздумываю, и опять я в порядке. Я всегда так, на всю катушку, и в хорошем и в плохом. А теперь мне надо крепко подумать, и я рад случаю посидеть в покое.
Дорган унес с собой коротенькую записку, полную ошибок и нежных заверений. Поло клялся Эффи в вечной любви.
Чтобы доставить записку по назначению, Доргану пришлось прибегнуть к подкупу, а потом незаконно вторгнуться в частный дом.
Поло присудили к трем годам тюрьмы — за крупное воровство.
В этот вечер Дорган, задыхаясь, взобрался по ступеням кафедрального собора и больше часу простоял перед алтарем на коленях. Губы его шептали молитву, спину ломило от холода, он представлял себе, как молодой Поло, уничтоженный, сгорает от стыда в тюрьме, и вдруг понял, что ненавидит закон, которому служит.
А месяц спустя Дорган достиг предельного возраста службы в полиции и был автоматически уволен на пенсию. Он протестовал, но правила ухода в отставку были незыблемы.
Дорган обратился с прошением к самому комиссару. Впервые за пять лет, если не считать ежегодных смотров, появился он в полицейском управлении, и ему оказали торжественный прием. Инспекторы и капитаны, репортеры и члены муниципалитета, и сам комиссар жали ему руку и поздравляли с сорокапятилетним юбилеем безупречной службы. Но к просьбе его остались глухи. Найти ему место было невозможно. Все сердечно советовали ему в полную меру наслаждаться заслуженным отдыхом.
Дорган продолжал упрашивать. Снова и снова приходил он в управление, пока всем не надоел, и наконец комиссар отказался его принять. Дорган не был дураком. Пристыженный, вернулся он в свое убогое жилище и больше никуда не обращался.
Два года грелся он у камелька и постепенно заболел меланхолией. Серое лицо, седые волосы — он стал похож на призрак.
За эти годы затворничества он изредка навещал своих старых знакомых. Ему были рады, угощали вином и новостями, но за советом к нему не обращались. Так, не прошло еще двух лет, а он уже стал живым привидением и разговаривал сам с собой вслух.
За эти два года полицейские части были реорганизованы на столичный лад. Появились новый щеголеватый комиссар, и новые щеголеватые инспекторы, и новая щегольская форма — синий, военного покроя прилегающий мундир, плоское кепи, краги. Увидев эту форму на параде, Дорган, вернувшись домой, снял со стены за печкой фотографию десятилетней давности — полисмены тех времен гордо выстроились на гранитных ступенях ратуши. Тогда они выглядели эффектно и внушительно, но, приходится признать, по сравнению с теперешними орлами они казались жалкими провинциалами.
Тогда он достал из комода свой собственный мундир, но у него не хватило духу надеть мешковатый серый китель и брюки, серую каску и белые, чисто выстиранные перчатки. Однако на душе у него полегчало: ведь старая форма доказывала, что, как это ни странно, но и он, одинокий старик, стоял некогда в полицейских рядах.
Большими грубыми руками он бережно подштопал обветшавшие обшлага брюк и аккуратно уложил все обратно. Потом достал свою дубинку, с которой выходил на ночные дежурства, револьвер и украшенную сапфирами звезду, которой департамент полиции наградил его за спасение жизни двух человек при обвале в доме Энтони. Задумчиво перебирал он эти вещи. Как ему хотелось снова носить их… И всю ночь, и во сне, и в полудреме, и лежа без сна, он видел, как обходит опять свой участок, где все были ему словно родные дети.
Наутро он снова достал из комода старый мундир, дубинку, револьвер и полицейский значок и повесил их в шкафу, как они висели в те дни, когда он, будучи полицейским, был свободен от дежурства. Весело напевая, он бормотал себе под нос:
«Уж я присмотрю за сорванцами с Десятой улицы, эдакую сколотили шайку».
Вскоре до газетных редакций стали доходить слухи, что будто в районе Форест-парка появился «призрак». Какой-то старик, выглянув в полночь из окна, увидел мертвеца в мундире прошлых лет, он висел прямо в воздухе — ног под ним не было. Приезжий, оказавшийся в городе в два часа ночи, на пути в гостиницу «Форест — Армс», что неподалеку от Литтл-Хелла, остановился спросить дорогу у какого-то странного полисмена — словно зыбкий туман окутывал горящие неземным огнем глаза патрульного. Он вежливо объяснил, как пройти через Форест-парк, и на прощание отдал честь, и было что-то жалкое в его выпрямившейся фигуре. Потом приезжий с удивлением увидел, что полицейские в городе носят синюю, а совсем не серую форму.
После этого десятки людей видели «призрачного стража», как шутливо окрестила это видение газета «Кроникл», некоторые с ним даже разговаривали и авторитетно заявляли, что он толстый, тонкий, высокий, низкий, старый, молодой, что это сгусток тумана, клубок теней, оптический обман и обыкновенный человек из плоти и крови.
А потом произошел великосветский скандал, разразилась война, и призрачного стража забыли.
Однажды вечером в начале лета в полицию позвонили из самого богатого квартала Форест-парка, и взволнованный женский голос сообщил, что только что там видели грабителя, который влез в окно закрытого на лето соседнего дома. Сам начальник полиции, захватив с собой шестерых молодцов, прикатил в Форест-парк, и дом окружили. Обладательница взволнованного голоса гордо вышла на соседнее крыльцо и сообщила, что, когда она уже позвонила в полицию, она увидела, как вслед за грабителем в окно влез кто-то еще, кажется, у этого второго был револьвер и полицейская дубинка.
И вот шеф и его помощник храбро влезли через явно взломанное окно прямо в кладовку. Они двинулись вперед и при свете своих электрических фонариков увидели разгромленную столовую — повсюду битое стекло, ящики буфета на полу, занавески сорваны.
— Была потасовка! — отметили полицейские и крикнули в глубь дома:
— Кто там ни есть, выходи! Дом окружен. Ты там, Кендал? Скрутил голубчика?
Ответом им была неземная тишина, словно кто-то в ужасе затаил дыхание, тишина более плотная и жуткая, чем простое отсутствие звуков. Полицейские прошли на цыпочках в гостиную, и там на тахте, связанный, лежал небезызвестный Бенни-Бочка.
— Господи, шеф! — взвыл он. — Заберите меня отсюда! Тут водится нечистая сила. Я и оглянуться не успел, как чертов призрак навалился на меня и скрутил по рукам и ногам. Вот, ей-богу, шеф, это был мертвец, и одет в старую полицейскую форму и не вымолвил ни словечка. Я попробовал отбиваться, да он меня пристукнул и так меня, шеф, отделал, но только он был мертвее моего прапрадедушки и просвечивал насквозь. Поскорее уйдем отсюда — забирайте меня, и я подпишусь под протоколом. Спрячьте меня понадежнее в родную камеру!
— Какой там призрак! Лопни мои глаза, тут руку приложил сыщик-любитель! — сказал начальник полиции. А сам оцепенел от страха и, не в силах удержаться, все поглядывал с опаской по сторонам.
— Уйдем отсюда, шеф! — сказал лейтенант Саксон — самый храбрый из всей команды. И, взяв Бенни-Бочку с собой, они бежали через парадную дверь, так и оставив отворенным окно кладовки. Наручники на Бенни не надели — куда он мог деваться?
На другое утро, придя на место происшествия, чтобы установить размеры нанесенного ущерба, капитан увидел, что в столовой все кое-как расставлено по местам, а окно кладовки закрыто.
Когда потерялась дочка Симмонса, водопроводчика из Литтл-Хелла, двое отчетливо видели, как человек с серым лицом и в полицейской каске вел потерявшуюся девочку по дальним, безлюдным аллеям парка. Очевидцы хотели догнать их, но загадочная личность, видно, лучше их знала все входы и выходы в парке, и им осталось лишь доложить о виденном в полицию. А тем временем у дверей Симмонса раздался звонок, и Симмонс увидел на пороге дочку — она плакала, но была невредима. В кулаке она крепко сжимала белую перчатку полицейского.
Благодарный Симмонс отнес перчатку в участок. Это была обычная полицейская перчатка, вся неумело штопанная-перештопанная белыми нитками, перчатка была побелена трубочной глиной, а от слишком горячего утюга осталось коричневое пятно. На изнанке стоял поблекший несмываемый штамп: «Дорган, патрульный 9-го участка». Дежурный отнес перчатку начальнику, и между этими суровыми, грубыми людьми воцарилось молчание, полное жалости и почтения.
— Надо нам позаботиться о старике, — сказал наконец начальник.
Следить за призрачным стражем отрядили детектива. Детектив увидел, как в три часа утра Дон Дорган вышел из своей лачуги, развел длинными руками, понюхал предутренний туман и улыбнулся, как человек, который приступает к привычной, любимой работе. Он стоял прямо, старый мундир был отменно вычищен, полотняный воротничок сверкал белизной; в руке он держал уцелевшую перчатку. Он посмотрел направо и налево и, нырнув в аллею, начал свой обход, двигаясь в темноте так быстро и бесшумно, что сыщик едва не потерял его. В пути он один раз остановился, прикрыл длинной дубинкой устаревшего образца дощатую ставню. Потом, все так же крадучись, возвратился к своей лачуге и исчез за дверью.
На другое утро начальник полиции, полицейский комиссар и добровольный комитет из нескольких инспекторов и капитанов посетили Дона Доргана в его лачуге.
Во фланелевой рубашке с открытым воротом и стоптанных шлепанцах старик выглядел неряшливо. Но когда к нему вошли, Дорган выпрямился и встретил гостей, как старый солдат, вновь призванный на службу. Депутация в смущении расселась вокруг Доргана, а комиссар попытался объяснить ему, что высокое начальство прослышало, как Доргану одиноко живется и власти хотят неофициально отправить его к доктору Бристоу в его частный приют для престарелых и душевнобольных — комиссар, прибегнув к эвфемизму, назвал его «домом доктора Бристоу».
— Нет, — отвечал Дорган, — это же заведение для психов. Я туда не хочу. Может, комнаты там и шикарные, да я не хочу, чтобы меня упрятали вместе с идиотами.
В конце концов пришлось ему сказать, что своими ночными обходами он пугает жителей, и предупредить его, что если он будет продолжать свои обходы Форест — парка, его заберут куда надо.
— Но я же должен быть на посту, — сказал Дорган. — Тут девчонки и мальчишки, я нужен им — присматривать за ними. Я сижу и слышу, говорю вам, все время слышу голоса, и они велят мне идти в дозор. Ладно, прячьте меня в этот клоповник с психами. Может, оно и лучше. Только вот что: скажите доктору Бристоу, чтобы он не проделывал со мной никаких штучек, пусть оставит меня в покое, а то недолго до беды. У меня еще удар, как у малолетнего преступника, честное слово, шеф.
Комитет в смущении удалился, оставив с Дорганом капитана Люсетти, чтоб он запер лачугу и отвез старика на такси в приют. Капитан посоветовал Доргану не брать с собой старый мундир.
Доктор Дэвис Бристоу был человек честный, но с фантазиями, нуждавшийся, пожалуй, в лечении не меньше любого из своих пациентов. Начальник полиции как следует застращал его, и он поначалу обращался с Дорганом вполне уважительно.
По доброте сердечной шеф устроил все так, чтобы Дорган «отдыхал» — ему не надо было работать на ферме, и день-деньской Дорган маялся от безделья, притворяясь, будто читает, на самом же деле он все сокрушался о своих детях.
После него на участке сменилось два полицейских, теперешний, хоть и хороший служака, был переведен из богатого квартала и не мог понять всех горестей Литтл-Хелла. Дорган был уверен, что он не уследит за Матти Карлсон, когда ей снова взбредет на ум сбежать от своего доброго, терпеливого мужа.
И однажды ночью, снедаемый беспокойством, Дорган вылез в окно, спотыкаясь и чертыхаясь, пустился в путь и добрался, миновав пригород, до Литтл-Хелла. Но он утратил прежнее искусство патрулировать секретно. Его увидел полицейский, когда он в гражданском платье обходил свой участок и, напевая себе под нос, проверял, заперты ли двери. Когда его забрали и в карете скорой помощи повезли обратно в приют, он плакал и умолял, чтоб ему позволили вернуться на службу.
Доктор Бристоу позвонил начальнику полиции и потребовал, чтобы ему разрешили дать Доргану работу. Дорган стал работать в саду.
Это подействовало как нельзя лучше. Весь остаток лета и ползимы, сначала в большом саду, а потом в оранжерее, Дорган копал и обливался потом и запоминал названия цветов. Но в начале января его вновь охватило беспокойство. Он объяснил директору, что, по его подсчетам. Поло Магенту должны, если он хорошо себя вел, уже выпустить из тюрьмы, и теперь надо за ним присматривать.
— Да, да, только сейчас я занят, а как-нибудь потом ты все мне расскажешь, — буркнул доктор Бристоу, — сейчас я ужасно занят.
Однажды в середине января Дорган целый день беспокойно проходил из угла в угол, а тут еще налетел буран, и пелена беснующегося снега заслонила весь мир. Он рано ушел к себе в комнату. Санитарка зашла взять башмаки и пальто и приветливо пожелала ему спокойной ночи.
Едва оставшись один, Дорган аккуратно разорвал на полоски тканьевое одеяло и обмотал ими свои ноги в легких комнатных туфлях. Поверх рубашки он обернулся газетами и простыней, а потом надел жилет. Отыскал самую теплую свою шапку, в которой работал в саду. Осторожно открыл окно. Высадил здоровенным кулачищем тонкую деревянную решетку. Спустил с подоконника ноги, прыгнул в буран и пошел через лужайку. Громоздкая, бесформенная фигура — руки засунуты глубоко в карманы пиджака, громадные ноги, точно обутые в мокасины, обмотаны тряпками — неторопливо, уверенно ступая, вышла на улицу и тяжело зашагала по направлению к Литтл-Хеллу.
Дон Дорган понимал, что из-за бурана начальство приюта день-другой не сможет его отыскать, но он понимал также, что его может занести снегом. Он сворачивал из аллеи в аллею, пока не вышел к конюшне, около которой стоял занесенный снегом прицеп для доставки грузов. Он принес из конюшни сена, навалил его в прицеп, зарылся с головой — и сразу уснул. На другой день в полдень, когда Дорган проснулся, буран уже стих. Он вылез из прицепа и отправился дальше.
Он добрался до Литтл-Хелла и, пройдя переулками, проник с черного хода в гараж Мак-Мануса.
Мак-Манус, хозяин гаража, выпускал машины в затихающую вьюгу: движение автобусов было еще парализовано, и на такси был большой спрос.
Завидев Доргана, он воскликнул:
— Хэлло, Дон! Откуда тебя принесло? Полгода уж тебя не было видно. Я думал, ты спокойненько живешь себе где-нибудь в доме для престарелых.
— Нет, — строго сказал Дорган, давая понять, что такие шутки неуместны. — Я… я вроде бы часовой. Скажи-ка, я слыхал, будто молодой Магента вышел из тюрьмы…
— Да, вышел щенок. Еще когда он у меня работал, я всегда говорил, что он плохо кончит…
— Где он теперь?
— Он, когда освободился, имел наглость заявиться сюда — надумал снова работать у меня, видно, хотел разбить и у меня парочку машин! Слыхал я, что он устроился чернорабочим в паровозном депо. Работка неважнецкая, да для таких, как он, и то хорошо. Знаешь, Дон, с тех пор как ты ушел, тут такая скучища, эти вонючие агитаторы все рыщут и требуют, чтоб запретили продажу спиртного.
— Пока, Джон, мне еще много куда надо поспеть, — сказал Дорган.
Три грубых, ничего не желавших слушать человека выставили Доргана из трех различных входов в депо, но он все же проник туда, взобравшись на тендер паровоза, и увидел Поло Магенту за работой — парень чистил медные поручни. Вернее, то была тень Поло Магенты. Он страшно похудел, большие глаза сверкали. Заметив Доргана, Поло кинулся к нему навстречу.
— Отец, господи, это ты, старый мушкет.
— Конечно, я. Ну как, мальчик, дела?
— Плохо.
— Что такое?
— Все то же самое. Они хотят, чтобы бродяга бродяжил и дальше. Тюрьма пошла мне на пользу, и я думал, что, отсидев, искупил свои мальчишеские выходки, и я пришел в Литтл-Хелл с двумя монетами в кармане и кучей добрых намерений. А как меня встретили? Одни только жулики мне и обрадовались. Мак-Манус предложил мне одну работенку — верный ход обратно в тюрьму. Я отказался и стал искать честную работу, да она-то меня не искала. На твоем участке теперь новый полицейский. Генри-бдительное око — вот как я его зову. Подходит ко мне и сообщает потрясающую новость: я, мол, закоренелый преступник, он с меня глаз не спускает; и коли я вздумаю душить старух или избивать грудных младенцев, он будет тут как тут — щелкнет наручниками, и готово; так что лучше мне забыть про душегубство.
Я устроился на работу в Милдейле, водил грузовик, так он капнул им на меня: я, мол, фальшивомонетчик, и поджигатель, и уж не знаю, что еще, — и они выставили меня с кучей добрых советов в придачу. Так же было и в других местах.
— Эффи как?
— Еще не видел ее. Но знаешь, отец, я получил от нее письмо — такое письмо! — пишет, что будет ждать меня, пока не загнется ее папаша, а тогда, хоть гори все огнем, будет со мной. Письмо у меня тут, на груди, только оно меня и поддерживает. И карточку свою прислала, цветную. Понимаешь, я хотел заскочить и повидаться с ней, пока папаша еще не узнал, что меня выпустили из кутузки, да этот полицейский, о котором я тебе говорил, предостерег Куглера, и старик торчит теперь у дверей с допотопным мушкетом, уж не знаю, чем он его заряжает — булыжниками или подковами. Видишь, какое дело! Но я пересылаю ей письма с одним парнем.
— Ну и что же ты собираешься делать?
— Не знаю… Некому нас, парней, наставить на ум, с тех пор как ты, отец, покинул пост.
— Я не покинул… Сделаешь, как я скажу?
— Конечно.
— Слушай. Ты правильно поступил, что сюда вернулся. Тебе надо начинать все сначала здесь, в Нозернаполисе. Считай, что тебя приговорили не к трем годам, а к шести — три ты должен прожить тут и чтобы люди снова стали тебе доверять. Это несправедливо, но это так. Понимаешь? В тюрьме-то у тебя была решетка. А вот сможешь ли ты быть настоящим мужчиной и держать себя сам в узде, не рассчитывая на других?
— Попробую.
— Молодец! Знаешь ведь, как в тюрьме — камеру и работу выбираешь не ты. Теперь слушай — у меня есть кое-какие средства: мои сбережения и пенсия. Мы заведем себе на пару отличный гаражик и натянем нос Джону Мак-Манусу; он мошенник, мы отобьем у него дело. Но ты должен быть готов ждать, а это — самое тяжелое для человека. Сможешь?
— Да.
— Когда освободишься, приходи в галерею позади, игорного дома Маллинза. До свидания, мальчик.
— До свидания, отец.
Когда Поло пришел в галерею за игорным домом, Дорган строго сказал ему:
— Я тут все думал. Видел ты старика Куглера?
— Не смею, отец, даже на глаза ему показаться. И так неприятностей хватает. Стараюсь дипломатично…
— Я все обдумал. Другой раз самое дипломатичное — это пойти да и взять сразу быка за рога, чтобы никто и опомниться не успел. Пошли.
Без страха и сомнения вошли они в лавку Куглера. Дорган с каменным лицом, как и положено полицейскому на дежурстве, распахнул дверь и рявкнул испуганному талмудисту и его дочери:
— Вечер добрый!
Положив ладони на прилавок, Дорган произнес речь.
— Куглер, — начал он, — вы должны меня выслушать, не то я все тут разнесу. Вы загубили четыре жизни. Вы сделали преступником этого мальчика, запретив ему любить чистой, благородной любовью, а теперь хотите, чтоб он и дальше ходил в преступниках. Вы убили и Эффи — посмотрите, сколько страдания на лице милой голубки! Меня вы сделали несчастным стариком. И себя вы, думая, что поступаете хорошо и порядочно, сделали несчастным, — вы восстали на собственную плоть и кровь. Говорят, Куглер, что я немного тронулся — но я просто повидал такое, что научился все понимать и все прощать. И я узнал, что гораздо труднее быть плохим, чем хорошим; что вам было гораздо труднее сделать нас всех несчастными, чем теперь — счастливыми.
Исхудалый, оборванный громадина Дорган, казалось, заполнил всю лавку: голос его гремел, и в глазах горела непреклонная воля.
Тиран Куглер молчал и почтительно слушал Доргана, а тот продолжал уже гораздо мягче:
— Вы праведник среди грешников, но из-за этого вы вообразили, будто вы всегда правы. Неужели вы хотите всех нас погубить, только чтобы доказать, что вы не можете ошибаться? Жестоко это, вот что я вам скажу. И куда легче вам посторониться и дать этому бедному, замерзшему парнишке войти в дом и обогреться у огня, о котором он так давно мечтает, — ведь на улице бушует буран и все люди ополчились против него. Вы только взгляните на бедных детей!
Куглер посмотрел и увидел Поло и Эффи-их все еще разделяла мраморная стойка, но руки их соединились, и они, не отрываясь, смотрели в глаза друг другу.
— Да я… — нерешительно начал Куглер.
— Так-то оно лучше! — сказал патрульный Дорган. — Ну, мне надо обратно на свой участок — в приют… И там надо следить за порядком!
— Да. Тогда я и обнаружила, что я женщина. Но не… не его!
— Значит, моя! Моя! Подумайте, дорогая, невероятно, но город не убил в нас романтики. Мы все-таки нашли друг друга. Какой сегодня день? Среда? Слушайте! В четверг вы пойдете со мной в театр.
— Хорошо.
— В пятницу вы под каким-нибудь благовидным предлогом придете в контору Цветущих Холмов и помашете мне рукой из окна, и моя контора снова станет раем. Потом мы встретимся с вами и пойдем ужинать к моим друзьям Пэришам.
— Хорошо.
— В субботу мы вместе позавтракаем и отправимся прямо в Ван Кортленд-парк, и я превращусь в деспота и сделаю вам предложение, и вы его примете.
— Боюсь, что приму. Но остается воскресенье. Что мы будем делать в воскресенье?
1919
ЮНЫЙ КНУТ АКСЕЛЬБРОД
Тополь — неряшливое, невоспитанное дерево. Он стряхивает свой седой пух на холеные газоны садиков, возбуждая раздоры между соседями. Но это — могучее дерево, наша защита и надежда: солнечные блики мелькают среди его высоких ветвей, и слышится веселое стрекотание цикад, нарушающее тишину нашего знойного лета; от пшеничных полей Айовы до полынных степей между отрогами гор и Йеллоустоном один лишь тополь укрывает своей благодатной тенью обливающихся потом фермеров.
У нас в Джоралмоне Кнута Аксельброда прозвали Старый Тополь. Сказать по правде, прозвище это дали ему не за какие-то особые качества, а потому, что вокруг унылого белого дома и кирпичного амбара у него растет целая роща тополей. Насадил он этих красавцев и по обе стороны проселочной дороги, так что теперь всякий, даже самый простой человек, проезжая под ними на своей телеге, может воображать себя владельцем собственного парка.
В шестьдесят пять лет Кнут был похож на старый тополь: глубоко в землю ушли корни; дождь, снег, палящее августовское солнце закалили ствол; днем крона ветвится до самого горизонта, ночью уходит в огромное небо прерии.
Этот швед-переселенец был настоящим американцем даже по языку. Кое-что он выговаривал не совсем чисто, но в остальном его речь ничем не отличалась от гнусавого говора соседей-янки. Он был настоящим американцем и потому, что Америка, еще когда он жил в Швеции, была для него лучезарной страной просвещения и свободы. Через многие годы трудов и разочарований он пронес эту веру, по-прежнему считая свою новую родину колыбелью справедливости, гордясь ею как страной, создавшей большие прекрасные города, вырастившей энергичный народ. И по-прежнему юной оставалась его душа, дерзко стремившаяся к прекрасному.
В молодости Кнут Аксельброд мечтал стать знаменитым ученым; его влекла романтика истории, приветливое общество умных книг, языки других народов.
Приехав в Америку, он нанялся на лесопильный завод. Днем работал, а вечерами учился. Приобретенных знаний оказалось достаточно, чтобы поступить преподавателем в школу; когда ему было всего восемнадцать лет, он, движимый добротой и жалостью, женился на маленькой бесцветной Лине Висселиус. Ехать через прерии в фургонах на новые земли было весело, но там Кнут сразу же попал в тенета нужды и семейных забот. И от восемнадцати до пятидесяти восьми лет он только и делал, что либо вырывал детей у смерти, либо спасал ферму от заклада.
Ему оставалось довольствоваться чужим счастьем: вот он и жил счастьем и удачами своих детей. Себе он мог позволить лишь чтение. В немногие украденные от сна часы Кнут читал большие, толстые, скучные тома по истории и экономике, которым отдают предпочтение те, кто на старости лет занимается самообразованием. Кнут по-прежнему не оставлял мечты побывать в чужих странах, увидеть величавые зубчатые башни, а сам трудился на ферме не покладая рук. Он купил около ста тридцати гектаров хорошей земли. Ферма была не заложена, отлично оборудована и украшена цементной силосной башней, птичьим двором и новой ветряной мельницей. У него появился достаток, уверенность в завтрашнем дне, и тут, пожалуй, ему можно было бы и умирать, потому что к шестидесяти трем годам всю работу он сделал, а сам оказался одинок и никому не нужен.
Жена его умерла. Сыновья разъехались кто куда: один был зубным врачом в Фарго, другой жил на своей ферме в Голден-Валли. Кнут передал хозяйство дочери и зятю. Они звали его жить с ними, но Кнут отказался.
— Нет, — сказал он. — Учитесь стоять на собственных ногах. Ферму я вам даром не отдаю. Платите мне четыреста долларов в год за аренду. На эти деньги я буду жить и посматривать с моей горы, что у вас получается.
На горушке возле одинокого тополя, своего любимца, Кнут соорудил из толя лачугу и зажил тут по-холостяцки: сам варил себе пищу, убирал постель, грелся на солнце, перечитал множество книг из Джоралмонской библиотеки, чувствуя себя наконец совершенно свободным от ярма гражданских обязанностей.
Широкоплечий, белобородый, неподвижный, часами сидел он на табуретке перед хижиной — философ в смешных, мешковатых брюках и рубашке без воротничка. Устремив взгляд на колокольню церкви в Джэкрэбит-Форкс, видневшуюся за далекими просторами сжатых полей, он размышлял о том, для чего человеку дана жизнь.
Сначала Кнут не мог преодолеть силу установившихся привычек: он, как и раньше, вставал в пять часов, работал в доме и на огороде, обедал ровно в двенадцать и ложился спать, когда садилось солнце. Некоторое время спустя его осенило, что, если он разрешит себе кое-какие вольности, никто его за это в тюрьму не посадит. Он стал вставать в семь, даже в восемь часов. Завел себе большую ленивую трехцветную кошку и играл с нею в разные игры; назвал ее Принцессой, позволял ей лакать молоко на столе и поделился с нею одной своей тайной «мыслишкой»: дураки люди, что так много работают. А в душе этого старого фермера, на чьих могучих плечах болталась расстегнутая, вся в пятнах жилетка, среди убожества жалкой лачуги — кое-как убранная постель, простой сосновый стол, покрытый засаленной газетой, — жили пламенные, юные мечты о прекрасном, о красоте минувших веков.
Кнут начал совершать по ночам далекие прогулки. Всю его полную лишений жизнь ночи были отданы тяжелому сну в душной комнате. Впервые Кнут открыл таинственную прелесть мрака, увидел широкие, окутанные туманом прерии в лунном свете, услышал голоса травы, тополей и сонных птиц. Он уходил за много миль от дома. Сапоги у него промокали от росы, но он этого не замечал. Он взбирался на холмы и в волнении останавливался, широко раскинув руки, благословляя дремлющую нагую землю.
Кнут старался сохранить в тайне свои ночные походы, но о них узнали. Его видели соседи, солидные, добропорядочные люди, которым уж никогда бы не взбрело на ум гулять ночью по росе, — когда они пьяными поздно возвращались домой, выбрасывая пустые бутылки из бешено несущихся повозок, и вовсю настегивали лошадей. Соседи-то и распространили слух, что Старый Тополь свихнулся с тех пор, как передал ферму зятю, а сам ушел на покой. «Своими глазами видели, старик бродит по ночам. Ему хорошо, спи, когда захочешь, не то что наш брат. Нет, меня затемно на сырость из дому не выманишь».
Сельские жители смотрят косо на всякого, чье поведение отличается от принятого в их деревне стандарта, и проявляют жадный интерес ко всему, в чем усматривают малейшие признаки безумия. В округе начали следить за Кнутом, расспрашивать его, глазеть с дороги на его хижину. Он болезненно чувствовал эту перемену и подчас был резок с любопытными соседями. Именно тогда и пришла ему мысль о великом паломничестве.
Одним из последствий его морального падения — старый Кнут Аксельброд дошел до того, что однажды закричал испуганной Принцессе: «Провались я на этом месте! Не буду сегодня чистить зубы! Всю жизнь чищу, и всю жизнь охота разбирает пропустить хоть раз», — было то, что он с большим удовольствием деградировал в выборе книг. Он нарочно бросил недочитанной «Завоевание Мексики» и принялся за легкие романы, которые брал в Джоралмонской библиотеке. Они открыли перед ним пленявший его воображение мир — балы, изысканные ужины. Он все еще читал книги по экономике и истории, но каждый вечер, удобно устроившись на стуле из бизоньих рогов и положив ноги на кровать, а Принцессу на колени, Кнут шел на приступ замка Зенда или влюблялся в Трильби. Среди этих книг ему попался в высшей степени оптимистический рассказ из жизни йельских студентов, в котором описывалось, как один достойный молодой человек «окончил колледж на свои трудовые гроши», был загребным университетской сборной, состоял членом общества «Фи Бета Каппа» и вел чрезвычайно интересные, но высоконравственные беседы, сидя по традиции на изгороди, окружающей спортивную площадку.
Под впечатлением этой глубоко правдивой истории однажды в три часа ночи — Кнуту Аксельброду было тогда уже шестьдесят четыре года от роду — он решил, что поедет учиться в колледж. Всю жизнь он мечтал об этом. Почему бы ему не поехать?
Утром у Кнута уже не было той решимости, что ночью. Он посмотрел на себя со стороны: смешной, неуклюжий старик среди стройных юношей, как седой тополь среди белых березок. Так продолжалось несколько месяцев: Кнут то отказывался от своей мечты, то снова строил планы великого паломничества к Храму Муз; он искренне верил, что колледж подобен обиталищу муз. Он думал, что все студенты, за исключением богатых бездельников, обуреваемы жаждой знаний. Он рисовал себе Гарвард, Йель и Принстон в виде античных рощ, украшенных мраморными храмами, перед которыми греческие юноши, стоя большими группами, тихо беседуют об астрономии и справедливом правлении. Студенты, созданные его воображением, никогда не ели и никогда не удирали с лекций.
И вот, мечтая о музыке, о книгах, об изящных искусствах, как не мог бы мечтать самый пылкий юноша, этот груболицый фермер посвятил себя служению прекрасному и бросил вызов непобедимой силе старости: он выписал программы колледжей и учебники и начал прилежно готовиться в университет.
Неправильные латинские глаголы и причуды алгебры показались ему адскими измышлениями. В его жизни эти знания были неприменимы, но Кнут овладел ими. В былое время он трудился в поле по восемнадцати часов, теперь он так же упорно сидел за книгами по двенадцати. С историей и английской литературой было легче. Многое Кнут знал из чтения. Немецкий дался ему без труда, потому что он давно научился разговорному языку у соседей-немцев. Постепенно к нему возвращалось умение заниматься; недаром он сорок пять лет назад работал учителем в школе. Он начал верить, что в самом деле поступит в колледж. А в университете, твердил он себе, где ему помогут добрые знающие преподаватели, не будет таких мучительных трудностей, такого напряжения.
Однако отвлеченный характер предметов в конце концов расхолодил Кнута, и ему прискучила его затея. Он не бросил заниматься главным образом потому, что всю жизнь привык делать тяжелую, неприятную работу, к которой не питал никакого интереса. Но к осени он совершенно потерял надежду.
Однажды Кнута остановил на улице бакалейщик, любитель всюду совать свой нос, и принялся насмешливо расспрашивать о его занятиях, к великому удовольствию членов импровизированного клуба, который всегда собирается у дверей пивной. Кнут промолчал, но гнев его был страшен. К счастью, он вовремя вспомнил, как однажды опустил гневную длань на провинившегося батрака и у того оказалась сломанной ключица. Он повернулся и зашагал прочь, но, даже пройдя семь миль до дома, все еще кипел от гнева. Он посадил мяукавшую Принцессу себе на плечо и отправился любоваться закатом.
Остановившись около заросшего камышом болота, Кнут уставился невидящими глазами на прыгавшую невдалеке ржанку и вдруг воскликнул:
— Поеду поступать в университет! Занятия начинаются на следующей неделе. Думаю, я выдержу экзамены!
Два дня спустя Кнут переправил Принцессу и свою рухлядь к зятю, купил шляпу с широкими опущенными полями, целлулоидный воротничок и солидный черный костюм; всю звездную ночь он единоборствовал с господом в страстной молитве, а утром сел в миннеаполисский поезд, держа путь в Нью-Хейвен.
Глядя из окна вагона, Кнут предупреждал себя мысленно, что сыновья миллионеров будут смеяться над ним. Он велел себе бежать этих сынов дьявола и прилепиться к людям, простым, как он, к тем, «которые учатся на собственные трудовые гроши»…
В Чикаго Кнутом овладел великий страх: от стремительных потоков людей в глазах вспыхивали сверкающие молнии; батареи машин, стоявших рядами, целились прямо в него… Кнут прочитал молитву, опрометью бросился на вокзал и сел в поезд, уходивший в Нью-Йорк. Наконец он прибыл в Нью-Хейвен.
Йельский университет встретил Кнута не издевкой, но иронически-вежливо поднятыми бровями; устроил ему экзамены, которые он еле-еле сдал, обливаясь потом и тяжело водя пером по бумаге, и подыскал ему товарища по комнате. Это был некий Рэй Грибл — большелобый и бледный, малосимпатичный субъект. До поступления в университет он был школьным учителем в Новой Англии и стремился получить университетский диплом главным образом, чтобы ему больше платили. Рэй Грибл был предприимчивый человек, он немедленно подыскал себе работу — репетировал неудачного сынка стального короля и служил официантом в ресторане, где его за это кормили.
Кроме Грибла, Кнут почти никого не знал в университете. Он все старался уверить себя, что его неприятный сосед — славный парень, но Рэй не удержался от искушения залезть в душу Кнута своими липкими руками. Он выпытал с ловкостью профессионального учителя-исповедника, что привело Кнута в университет, и, выведав его сокровенную мечту вкусить от изящной словесности, вознегодовал:
— Кажется, пожилому человеку вроде вас надо бы больше думать о спасении души, чем о всяких глупостях! Предоставьте стихи и прочий вздор богеме, а сами лучше занимайтесь латынью и математикой да читайте библию. Можете мне поверить, я работал в школе и знаю, что нужно.
Кнут и Рэй Грибл обитали в неопрятной комнате, среди скудости и убожества: рваные одеяла, вонючая керосиновая лампа, словари, логарифмические линейки. Неторопливые беседы у камелька были не для них. Они жили в корпусе Вэст Дивинити, где находят приют богословы, менее интересная часть юристов, два-три чудаковатых гения, орды не определивших своего места студентов-первокурсников и разные неудачники-выпускники.
Не это ожидал Кнут встретить в университете, но их комната была его единственным прибежищем, вне ее его охватывал страх. Он понимал, что в колледже он гротескная фигура — седоголовый великан, с трудом помещающийся за столом в аудитории, слушающий лекции преподавателей, которые моложе его собственных сыновей. Однажды Кнут сделал попытку посидеть на изгороди. Оказалось, что теперь это уже не принято: сидели на изгороди только спортсмены, которые выступали в соревнованиях. При виде старика, старавшегося казаться бравым молодцом, двое старшекурсников насмешливо хихикнули, и Кнут потихоньку убрался домой.
Он возненавидел Рэя Грибла вместе со всеми его разглагольствующими приятелями — этими «честными тружениками учебы». Можно с уверенностью сказать: в нашей демократической стране лучше оскорбить государственный американский флаг, чем усомниться в той общепризнанной истине, что молодые люди, «добывающие образование на свои трудовые гроши», обязательно тверже характером, мужественнее духом и вернее добьются успеха, чем расслабленные неженки, болтающие у камина. Такова мораль любого романа из жизни студентов. Но автор с дрожью признается, что, как это обнаружил Кнут, работа официанта в ресторане столь же мало пригодна для воспитания героя, как и футбол или блаженное бездельничанье. Многие их тех, кто «добывал образование собственным трудом», были славные парни, веселые и смелые, умевшие разговаривать с богатыми однокурсниками без подобострастия, но многие надевали личину раболепного добронравия, потому что считали это выгодным. Такие люди ловили на лету падающие крошки, заискивали перед товарищами, которых натаскивали в науках; пресмыкались перед комиссией по распределению стипендий; принимали набожный вид на собраниях Христианской Ассоциации Молодых Людей, чтобы произвести впечатление на людей серьезных, и выпивали в баре кружку пива, чтобы доказать людям несерьезным, что они вовсе не хотят задеть кого-либо своей набожностью. Мстя грубым спортсменам, которых они репетировали, за свои же собственные унижения перед ними, эти люди плакались в безопасной компании себе подобных на «отсутствие демократизма в колледжах». Разумеется, бороться они не пытались — они были люди осторожные. Из таких бунтовщики не выходят. Кнут слушал их и изумлялся: вот так же, бывало, у него на ферме брюзжали в страдную пору молодые батраки за сараем.
«Неимущие» ненавидели своих товарищей, интересовавшихся искусством, еще больше, чем фатов и прожигателей жизни. Особенно яростно они изливали свой благородный гнев на некоего Гилберта Уошбэрна, богатого эстета, у которого были более изящные манеры, чем полагается первокурснику. Они так много рассуждали о серьезном отношении к делу и о трудолюбии, что Кнут, хотя поначалу и не прочь был дружить с такими юношами, как Уошбэрн, устыдился самого себя — эдакий он несерьезный, бессовестный старый грешник.
Кнут смиренно искал и не находил дружбы и помощи товарищей. Он был белой вороной, и однокурсники, за исключением дружков Рэя, боялись, что уронят себя в глазах остальных, если их увидят в обществе этого старого чудака.
Так как Кнут сохранил еще свою физическую силу — он мог положить себе на колени целый бочонок с солониной, — он сделал попытку найти друзей среди спортсменов. Он шел на стадион смотреть на футбольные тренировки и старался завести знакомство с кандидатами в сборную команду. Эти дюжие молодцы удивленно смотрели на него, неохотно отвечали на вопросы, не скрывая в простоте душевной, что считают его полоумным.
Магическая дымка, сквозь которую Кнут видел университет вначале, рассеялась. Земля есть земля, видишь ли ее в Камелоте, Джоралмоне, на спортивной площадке Йельского университета или даже во дворе Гарвардского! Здания уже не казались Кнуту храмами — они превратились в обыкновенные кирпичные и каменные постройки, из окон которых, лениво развалившись на подоконниках, молодые люди с усмешкой смотрели на него, когда он пытался незаметно прошмыгнуть мимо.
Огромная студенческая столовая стала для Кнута местом пытки, где его каждодневно подвергали мучениям утром, днем и вечером. Среди сидевших за его столом было двое юнцов, обладавших сверхъестественной наблюдательностью, которая позволила им разглядеть, что у Кнута, оказывается, есть борода, и они мужественно оповестили об этом мир. Один из них, по фамилии Атчисон, был человек недюжинный, он прилежно работал, много знал и отличался математическими способностями и хорошими манерами. Он презирал Кнута за то, что тот приехал в колледж, не имея определенной цели. Другой был завзятый шутник, остряк и выдумщик, одаренный удивительным умением тонко высмеять человека. От его шуточек над бородой Кнута их стол три раза в день сотрясался от хохота. Таким способом эти благородные юноши вскоре выжили неуклюжего грустного старика из университетской столовой, и Кнут теперь обедал за стойкой закусочной «Черная кошка».
Без дружеской поддержки Кнуту было еще труднее справляться с огромными заданиями. То, что он со вкусом прочитывал в своей лачуге за неделю, теперь ему небрежно отмечали как задание на один день. Но напряженный труд не испугал бы Кнута, если бы у него был друг, такой же юный, как он сам. Какими старичками были все эти люди, «получающие образование на свои трудовые гроши», эти труженики спорта, эти преподаватели, посвятившие жизнь выставлению отметок в журнале успеваемости!
Но однажды, в тяжелый, мучительный день, Кнуту все же посчастливилось встретить человека, юного душой.
Кнут как-то услышал, что один из профессоров, кумир колледжа, разбранил за чрезмерную серьезность студентов, у которых вел семинар по Браунингу, и велел им прочитать «Алису в стране чудес». Кнут долго рылся на пыльных полках в лавке букиниста, пока не нашел себе «Алису». Он унес книгу домой и взялся за чтение, жуя булку с сосиской — свой обед. Серьезные нелепицы этой книжки пришлись ему по душе, и Рэй Грибл, войдя в комнату, увидел, что Кнут сидит и давится от смеха над раскрытой страницей.
— Гм! — произнес мистер Грибл.
— Такая славная, занятная книжка, — сказал Кнут.
— Гм! «Алиса в стране чудес»! Слыхал. Ерунда! Почему вы не читаете настоящих, хороших книг, например, Шекспира или «Потерянный рай»?
— Да вот… — промямлил Кнут. Это было все, что он мог сказать.
Чувствуя на себе стеклянный взгляд Рэя Грибла, Кнут уже не мог хохотать и веселиться от души, читая книгу. Он подумал, что, может быть, и впрямь следовало бы приняться за напыщенные сомнительные антропологические рассуждения Мильтона. Грустный, пошел он на занятия по истории. Этими занятиями отлично руководил доктор философии Блевинз.
Кнут восхищался доктором философии Блевинзом. Он был всегда так чисто вымыт, всегда в очках и всегда абсолютно прав. Однако большая часть паствы не любила Блевинза. По мнению студентов, он был «чудила». На его занятиях они читали газеты и потихоньку пинали друг друга ногами.
Кнут сидел в чисто побеленной аудитории, тяжело опираясь на широкий подлокотник стула, и внимательно слушал, стараясь не пропустить ни одного из иронических аргументов Блевинза, доказывавшего, что точная дата второго брака Фемистокла приходится на два года и семь дней позднее, чем это утверждает безграмотный осел Фрутари из Падуи. Кнут восхищался ловкостью молодого Блевинза и чувствовал себя ужасно добродетельным человеком, заучивая эти неопровержимые истины.
Вдруг он услышал, что какие-то недостойные молодые люди играют за его спиной в покер. Его ухо жителя прерий уловило сказанные шепотом слова: «Два», — а затем: «Два сверху!». Кнут повернулся и посмотрел, сдвинув брови, на юношей, не уважающих серьезную науку. Когда он отвернулся, нарушители дисциплины захихикали и снова взялись за карты. Доктор философии Блевинз как будто тоже заметил что-то неладное. Он нахмурился, но ничего не сказал. Кнут сидел в раздумье. Для него Блевинз был просто мальчик. Кнуту стало жаль его. Надо помочь мальчику.
Когда занятия окончились, Кнут задержался около стола Блевинза, подождал, пока студенты выйдут из аудитории, и прогудел:
— Вы замечательный парень, профессор. Я хочу вам помочь. Ежели кто из ребят что устроит, вы мне только скажите, я его отколочу, сукина сына.
Доктор философии Блевинз промолвил в ответ учтиво и ядовито:
— Весьма благодарен, Аксельброд, но думаю, что это излишне. Считают, что я неплохо справляюсь с дисциплиной. До свидания! Да, одну минуту. Я все хотел сказать вам… Было бы лучше, если бы во время опросов вы поменьше старались блистать своей эрудицией. Вы отвечаете до такой степени обстоятельно и так при этом улыбаетесь, как будто видите во мне что-то чрезвычайно смешное. Я ничего не имею против того, чтобы вы считали меня комическим персонажем про себя, но в аудитории необходимо соблюдать условности, кое-какие маленькие условности, знаете ли.
— Да что вы, профессор! — взмолился Кнут. — Я и не думал над вами смеяться. Даже не знал, что улыбаюсь! А ежели и улыбаюсь, так потому, что рад, коли моя глупая старая башка запомнила урок.
— Ах так! Весьма похвально. И если вы впредь будете немного сдержаннее…
Доктор философии Блевинз ощерился ледяной улыбкой и затрусил в Преподавательский клуб, чтобы там потешиться, рассказывая со свойственным ему остроумием о старике и его неправильной речи. А Кнут сидел один в опустевшей аудитории, раздавленный, одряхлевший. В окна светило яркое солнце погожей осени; со спортивной площадки доносились звонкие, молодые голоса. Но Кнут, так любивший золотую осень, сидел, разглаживая мятый рукав и устремив взгляд на классную доску, а сам видел перед собой только серую осеннюю стерню вокруг своей далекой лачуги. Когда он представлял себе, как наблюдают за ним в колледже, как исподтишка смеются над ним, над его глупой улыбкой, он то сгорал от стыда, то приходил в ярость. Он затосковал по своей кошке, по стулу из бизоньих рогов, по теплому солнечному крылечку хижины и по земле, которая его понимала. К этому времени Кнут проучился в колледже уже около месяца.
Уходя из аудитории, он встал за кафедру и посмотрел на воображаемых слушателей.
— И я мог бы стоять вот тут, как наставник, если бы начал учиться раньше, — тихо сказал он себе.
Потоки расплавленного золота, заливавшие осенние улицы, внесли умиротворение в его сердце. Кнут пошел по Уитни-авеню к крутому холму, который назывался Ист-Рок. Он увидел, как ласково ложится солнечный свет на отвесную скалу, услышал нежную музыку листьев, вдохнул воздух, насыщенный древними сказаниями Новой Англии. Он вскричал в упоении:
— Написал бы сейчас стихи, если б… ну, если б я умел писать стихи!
Он взобрался на вершину Ист-Рока, откуда были видны здания университета, поднимавшиеся вверх, подобно башням Оксфорда, пролив, отделяющий Лонг-Айленд от материка, и сам Лонг-Айленд, сверкавший ослепительной белой полосой. Кнуту не верилось, что Аксельброд из края тополей смотрит через пролив Атлантического океана на штат Нью-Йорк. На скамейке над самым обрывом он вдруг увидел студента-первокурсника и рассердился. Это был Гилберт Уошбэрн, тот самый сноб, любитель искусства, о котором Рэй Грибл сказал однажды: «Этот парень позорит наш курс. Ни в грош не ставит ни мнения преподавателей, ни Христианской Ассоциации Молодых Людей, вообще ничего. Считает себя, черт его побери, настолько выше всех, что и знаться ни с кем не желает! Говорят, воображает себя писателем, а сам даже в «Литературном листке» не участвует. Терпеть не могу таких вот праздных мечтателей и зазнаек».
Уставившись на ничего не подозревавшего Гила, красивый профиль которого четко вырисовывался на фоне неба, Кнут мысленно обличал и порицал его с позиций высокой гражданственности и морали. Гил был прекрасно одет, а между тем Кнуту показалось, что лицо его выражает сумрачное недовольство жизнью.
— Поработал бы на молотьбе да поспал бы на сене, — ворчал про себя Кнут в стиле добродетельного Грибла, — ценил бы тогда хорошую жизнь, а не кис. Тьфу!
Гил Уошбэрн встал, подошел к Кнуту, взглянул на него и сел рядом на скамейку.
— Изумительный вид, — сказал он и улыбнулся восторженно.
И в этой улыбке Кнут вдруг узнал свою мечту о прекрасном, которая привела его в колледж. Он с космической быстротой скатился с высот своей добродетели и, широко улыбнувшись, отчего каждая морщинка на его обветренном лице обозначилась еще заметнее, проговорил в ответ:
— Да, мне думается, в Акрополе вот так же, как тут.
— Знаете, Аксельброд, я давно о вас думаю.
— Правда?
— Нам надо подружиться. Мы с вами белые вороны в колледже. Мы мечтатели и сюда приехали мечтать. Пронырливые бестии, вроде Атчисона и Гиблета, или как там фамилия вашего соседа по комнате, считают нас дураками оттого, что мы не гоняемся за отметками. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но я нахожу, что мы с вами совершенно одинаковые люди.
— А почему вы думаете, что я приехал сюда мечтать? — взъерошился Кнут.
— Ну как же, я часто сидел неподалеку от вас в столовой, слышал, как вы затыкали рот Атчисону, когда он принимался рассуждать о том, с какой целью люди едут учиться. Старая, изъеденная молью тема! Пожалуй, еще Каин и Авель обсуждали ее в Райском Сельскохозяйственном колледже. Знаете, Авель — этакий первый ученик, очень набожный и отличного поведения, а Каин любит поэзию.
— Верно, — сказал Кнут, — а, небось, профессор Адам говорил ему: «Каин, брось стихи, это тебе не поможет изучать алгебру».
— Вот именно. Послушайте, хотите взглянуть на этот томик Мюссе, который я, сентиментальная душа, притащил сюда? Купил его за границей в прошлом году.
Гил вытащил из кармана книгу, каких Кнут никогда не видывал. Это был изящный томик стихов на незнакомом ему языке, в переплете из тисненого сафьяна — очаровательная дамская безделушка. Фермер из прерий только ахнул от восхищения. Маленькая книжечка почти исчезла в его огромных руках. Он робко погладил пальцем сафьян, перелистал страницы.
— Я не умею прочесть, что тут написано, а вот всегда думал, что должны быть на свете книги вроде этой, — сказал Кнут, вздохнув.
— Знаете что? — воскликнул Гил. — Сегодня в Хартфорде концерт Изаи. Поедем, послушаем его. Я звал ребят, да они подумали, что я спятил.
Кто такой или что такое Изаи, Кнут Аксельброд не имел понятия, однако пробасил в ответ:
— Ладно.
Приехав в Хартфорд, они обнаружили, что денег у них с собой хватит только на обед, билеты на галерке и обратный проезд до Меридена. В Меридене Гил предложил:
— Пошли пешком до Нью-Хейвена. Дойдете?
Кнут не имел представления, сколько миль было до колледжа — четыре или сорок четыре, — но опять сказал:
— Ладно.
Последние месяцы он чувствовал, что, несмотря на свое богатырское здоровье, начинает сдавать, но сегодня он полетел бы куда угодно, как на крыльях.
Когда играл Изаи — первый настоящий музыкант, которого Кнуту довелось услышать, — становилось явью все то, о чем, медленно разбирая строки. Кнут прочел у Уильяма Морриса и в «Королевских идиллиях». Пред ним предстали стройные рыцари, изящные принцессы в белых парчовых одеждах, призрачные стены заброшенных городов, блеск и слава рыцарства — вымысел поэтов.
От Меридена шли пешком по освещенной луной дороге, весело смеясь и болтая, останавливаясь, чтобы стащить яблок в чужом саду, шумно восторгаясь холмами, залитыми серебром, с искренним, чисто мальчишеским удовольствием гоняясь за какой-нибудь нечестивой собачонкой. Говорил Гил, Кнут больше слушал. Но потом и он стал рассказывать о первых переселенцах, о метелях, об уборке хлебов, о зеленом пламени первых всходов пшеницы. Про атчисонов и гриблов своего курса оба говорили с юношеским высокомерным негодованием. Но негодовали они недолго, ведь сегодня они были анахронизмом: двое бродячих менестрелей — трубадур Гилберт в сопровождении своего оруженосца. Они добрались до университета в пять утра. С трудом подыскивая слова, чтобы выразить свой чувства, Кнут сказал, запинаясь:
— Ну, очень даже было прекрасно. Сейчас пойду спать и увижу во сне…
— Спать? Чепуха! У меня правило: ни в коем случае не отпускать гостей рано, если вечер оказался интересным. Слишком редко это бывает. К тому же наш вечер еще в самом разгаре. К тому же мы хотим есть. К тому же… Подождите минутку! Я сбегаю к себе за деньгами, мы чего-нибудь купим поесть. Подождите! Пожалуйста, прошу вас!
Кнут был готов ждать хоть целую ночь. Ведь он прожил почти семьдесят лет, проехал тысячу пятьсот миль, вытерпел Рэя Грибла для того, чтобы встретить Гила Уошбэрна.
Полицейские с удивлением смотрели на старика в целлулоидном воротничке и юношу в дорогом костюме, шедших под руку по Чепел-стрит в поисках ресторана, достойного принять поэтов. Все рестораны были закрыты.
— В еврейском квартале сейчас уже все на ногах, — сказал Гил. — Пойдем, купим там чего-нибудь и поужинаем в моей комнате. У меня есть чай.
Кнут с невозмутимым видом пробирался по темным улицам, как будто всю жизнь колобродил до рассвета, презирая деревенскую привычку спать ночью в постели. На Оук-стрит, в районе захудалых лавчонок, тусклых фонарей и глухих тупиков жизнь уже кипела. Гил ухитрился купить коробку печенья, творожных сырков, куриный паштет и бутылку сливок. Пока он торговался, Кнут смотрел на улицу, тускло освещенную дрожащим светом газовых фонарей и первыми слабыми лучами дня: на вывески еврейских кошерных лавочек, на объявления, написанные русскими буквами, на женщин, закутанных в шали, на бородатых раввинов. Смотрел, и в душе его росло счастье осуществленной мечты, которое останется с ним навсегда: сегодня он совершил странствие в чужие земли.
Именно такой и хотел видеть Кнут комнату Гила Уошбэрна — полной изящных, бесполезных вещей. Все в комнате свидетельствовало скорее о том, что Гил бывал за границей, чем о том, что он учится, в колледже: персидские ковры, серебряный чайный прибор, гравюры, книги. Кнут Аксельброд, вся жизнь которого прошла в поле да на скотном дворе, удовлетворенно озирался. Он сидел, длиннобородый, глубоко утонув в кресле, добродушно покряхтывая, пока Гил разжигал камин. За ужином они говорили о великих людях и высоких идеалах. Интересная была беседа и к тому же недурно приправлена разными острыми замечаниями по адресу Грибла, Атчисона и Блевинза, благовоспитанно почивавших в своих постелях. Гил декламировал отрывки из Стивенсона и Анатоля Франса, а потом читал свои стихи.
Хороши они были или плохи — не имеет значения. Кнуту вообще казалось чудом, что он собственными глазами видит живого поэта.
Разговор становился менее оживленным, они начали позевывать. Кнут почувствовал, что светлое упоение уходит, и поспешно встал. Когда он прощался, ему казалось, что стоит поспать час-другой — и эта долгая необыкновенная ночь вернется снова. Но на улице его встретил день. Была половина седьмого; кирпичные стены зданий освещал жесткий трезвый свет.
«Буду часто ходить к нему. Я нашел себе друга», — думал Кнут. Он крепко держал томик Мюссе, который Гил уговорил его взять в подарок.
Пройдя несколько шагов, отделявших его от Вэст Дивинити, Кнут почувствовал страшную усталость. В лучах утра его приключение стало казаться все более и более невероятным.
Войдя в общежитие, он тяжело вздохнул. «Старость и юность, сдается мне, не могут бегать в одной упряжке».
Взбираясь по лестнице, он подумал: «Пожалуй, если встретиться с мальчиком еще раз, ему будет со мной неинтересно. Я ведь рассказал ему все, что знаю». А открывая дверь в свою комнату, Кнут заключил: «Вот для чего я приехал в колледж — для этой одной ночи. Я должен уехать, пока не испортил все».
Кнут написал Гилу записку и начал укладываться. Он даже не разбудил Рэя Грибла, звучно храпевшего в душной комнате.
В вагоне пятичасового поезда, шедшего на запад, сидел какой-то старик и неизвестно почему улыбался. Спокойная радость была в его глазах, а в руках он держал маленький томик французских стихов.
ИВОВАЯ АЛЛЕЯ
1
Джэспер Холт вынул из ящика стола квадратное стекло. Положил на стекло лист бумаги и написал: «Настало время, когда все честные люди должны прийти на помощь своей партии». Он внимательно рассмотрел свой округлый канцелярский почерк и переписал фразу мелкими, витиеватыми буквами, как пишут старые ученые-схоласты. Десять раз он переписал эти слова тем же искаженным, убористым почерком. Потом мелко-мелко разорвал листок, сжег обрывки в большой пепельнице и вымыл пепельницу под умывальником. Удовлетворенно побарабанив пальцами по стеклу, он убрал его в ящик. Если подложить стекло под бумагу, отпечатков не остается.
Как и его комната, обставленная креслами с бахромой и украшенная пестрыми подушечками-булавочницами, — лучшая комната в аристократическом пансионе миссис Лайенс, — Джэспер Холт имел вид почти аристократический. Он был стройный, уже лысеющий брюнет лет тридцати восьми, в элегантном светлом костюме с белой гвоздикой в петлице. У него были удивительно крепкие, гибкие пальцы. Он походил на агента по продаже акций или младшего партнера юридической фирмы. В действительности же он служил старшим кассиром в Национальном Лесном банке в городе Верноне.
Он посмотрел на дорогие плоские золотые часы. Была половина седьмого, за окном начинали густеть сумерки теплого весеннего дня. Сегодня среда. Он взял трость, серые шелковые перчатки и стал спускаться по лестнице. Внизу он встретил хозяйку и поклонился. Хозяйка ответила ему длинной тирадой о погоде.
— Я сегодня не буду к обеду, — приветливо улыбаясь, предупредил ее Джэспер Холт.
— Хорошо, мистер Холт. Я знаю, вас ждут ваши высокопоставленные друзья! Я читала в «Геральде», что вы опять играете главную роль в новой постановке «Общественного театра». Не служи вы в банке, мистер Холт, вы были бы замечательным артистом.
— Не думаю. У меня, знаете ли, не тот темперамент. — Голос его звучал приветливо, но улыбался он одними губами. — Вот у вас сценическая внешность. Из вас вышла бы вторая Этель Барримор, если бы не мы, ваши подопечные.
— Ах, мистер Холт, ну и льстец же вы!
Джэспер Холт, откланявшись, вышел на улицу и, не торопясь, зашагал к местному гаражу. Кивнув дежурному, но не сказав ни слова, он сел за руль своего автомобиля и выехал на улицу. Он поехал в противоположную от центра Вернона сторону к предместью Роузбэнк. Но, не доехав до предместья, он свернул и вскоре остановился на Фэнделл-авеню — этой типичной маленькой Главной улице бедного квартала, на которой есть свои кинотеатры и закусочные, магазины, прачечные и похоронные бюро. Холт вышел из автомобиля и сделал вид, будто проверяет, хорошо ли надуты шины. Он тыкал их носком ботинка, а сам незаметно оглядывал улицу. Не увидев ни одного знакомого лица, он вошел в кондитерский магазин «Парфенон».
Магазин «Парфенон» специализировался на продаже конфетных коробок, которые по виду походят на книги. Крышки сделаны под кожу, как переплет, на них тиснеными буквами словно бы название книги. Боковые стенки изображают обрез. Но страниц под фальшивым переплетом нет. Внутренность коробки заполняется конфетами.
Джэспер пересмотрел несколько коробок и выбрал две, с названиями попристойнее: «Дамское счастье» и «Любимое — любимой». Он попросил продавца-грека наполнить коробки недорогими шоколадными конфетами и завернуть.
Из кондитерской он зашел в соседнюю лавку, торговавшую между прочим книгами, и выбрал себе два романа с чувствительными заголовками под стать тем, что были на конфетных коробках. Их он тоже приказал завернуть. Выйдя из лавки, он нырнул в соседнюю закусочную, заказал у мраморной грязной стойки бутерброд с салатом, пару пончиков и чашку кофе, отнес все на дальний столик и торопливо поел. Вернувшись к своему автомобилю, он еще раз огляделся по сторонам.
Ему показалось, что он знает приближавшегося к нему человека. Но уверен он не был. Голова, плечи и грудь — то, что видит через окошечко кассир в банке — были как будто знакомы. Но, встречая человека на улице, Холт никогда не мог с уверенностью сказать, знает он его или нет. Было очень странно видеть, что у его клиентов, которые были для него только лица с руками, предъявлявшими чеки и получавшими деньги, имелись еще ноги, своя походка и манера держаться.
Он подошел к обочине тротуара и принялся, задрав голову и поджав губы, с деловым видом разглядывать карниз кондитерского магазина. А сам уголком глаза продолжал следить за опасным прохожим.
— Привет кассиру! — кивнув, проговорил подошедший.
— Ах, это вы… здравствуйте! — Джэспер сделал вид, будто только сейчас его заметил, и пробормотал: — Вот осматриваю собственность банка.
Человек прошел мимо.
Джэспер сел в машину и выехал с Фэнделл-авеню опять на улицу, ведущую в предместье Роузбэнк. Взглянул на часы. Было без пяти семь.
В четверть восьмого он с главной улицы Роузбэнка свернул в проулок, который почти совсем не изменился с тех пор, как был простым проселком. Правда, кое-где на него выходило несколько плохоньких домов с облезлой краской, но в основном с обеих сторон тянулись болота, да там и сям курчавились ивовые рощицы, и зыбкая почва была усеяна сухими листьями и струпьями коры.
За ветхими воротами виднелась заглохшая, почти не езженная колея, терявшаяся среди ив в глубине участка. Джэспер провел машину между двумя покосившимися столбами ворот и затрясся по ухабистой колее. Он круто повернул к некрашеному сараю и, не сбавляя скорости, въехал внутрь, так что чуть не врезался передним бампером машины в заднюю стенку сарая. Он выключил зажигание, выскочил из машины и бегом вернулся к воротам. Спрятавшись в ольшанике у забора, он выглянул на дорогу. Мимо, оживленно разговаривая, шли две женщины. Они замедлили шаги, заглядывая в ворота.
— Вот где живет этот отшельник, — сказала одна.
— Это который пишет книгу о божественном и выходит из дому только по вечерам? Проповедник какой-то?
— Да, да, он самый. Его, кажется, зовут Джон Холт. По-моему, он немножко не в себе. Он поселился в старом доме Бодеттов. Дом отсюда не виден — он в дальнем конце участка, выходит фасадом на ту улицу.
— И я слыхала, что он не в себе. Но кто это въехал сюда сейчас в автомобиле — вы видели?
— А-а, это его брат, не то родной, не то двоюродный. Он живет в городе. Говорят, богатый. И симпатичный.
Женщины прошли дальше. Джэсперу не слышно было уже, что они говорят. Стоя в кустах, он пальцами одной руки тер ладонь другой. Ладонь была совсем сухая от волнения. Но он улыбался.
Он вернулся к сараю и пошел по выложенной кирпичом ивовой аллее, тянувшейся чуть ли не на целый квартал. Ивы росли с обеих сторон, образуя как бы стены и потолок. Когда-то это была красивая аллея, вдоль нее стояли резные деревянные скамьи, в конце она расширялась, образуя двор, посередине которого был фонтан с каменной скамьей и альпийский садик. Альпийский садик давно превратился в руины, поросшие буйными побегами плюща и дикого винограда; краска с фонтана облезла, железных купидонов и наяд съедала ржавчина. Мостившие аллею кирпичи поросли мхом и лишайником. Неубранные сухие листья и комья запекшейся грязи свидетельствовали о полном запустении. Кирпичи кое-где были выбиты, по неровной дорожке трудно было идти, не спотыкаясь. От ив, кирпичей и земли тянуло сыростью и холодом. Но Джэспер, по-видимому, этого не чувствовал. Он быстро шел по аллее к дому — серому каменному сооружению, которое на этих недавно заселенных землях Среднего Запада по праву могло считаться старинным. Оно было построено в тысяча восемьсот тридцать девятом году одним французом, торговцем мехами. Когда-то во дворе его индейцы-чиппева даже сняли с кого-то скальп. Массивная дверь черного хода запиралась неожиданно дорогим новейшим замком. Джэспер отпер его плоским ключом и захлопнул за собой дверь. Пружина щелкнула, и дверь заперлась. Джэспер очутился в маленькой, просто обставленной кухне. Окна были завешаны шторами. Он прошел кухню, затем столовую и попал в гостиную. Уверенно, словно у себя дома, обходя в темноте стулья и столы, он подошел по очереди к каждому из трех окон и, только убедившись, что шторы опущены, зажег лампу на колченогом столике. Неяркий огонь осветил унылые коричневые стены, и Джэспер, обведя глазами комнату, довольно кивнул: с того времени, как он был здесь в последний раз, ничего не изменилось.
В комнате пахло затхлостью от старого зеленого репса, которым была обита мебель, и кожаных переплетов книг. Здесь давно не убирали. Всюду лежал слой пыли: на высоких с красными плюшевыми спинками стульях, на жесткой кушетке, на холодном белом мраморном камине, на дверцах огромного застекленного книжного шкафа, занимавшего целую стену.
Вся обстановка не вязалась с обликом Джэспера Холта — этого делового, энергичного человека. Но Джэспера она не смущала. Он ловко развернул оба пакета — с настоящими книгами и с конфетными коробками, похожими на книги. Положил один лист оберточной бумаги на стол и разгладил его. Потом высыпал на него конфеты из обеих коробок. Второй лист и бечевку он бросил в камин и тут же сжег. Подойдя к книжному шкафу, он отпер ключом одну из книжных полок. На ней стояли десятка два дешевых романов и среди них по меньшей мере полдюжины были такие точно конфетные коробки, какие он купил сегодня в «Парфеноне».
Только одна полка в этом шкафу была отведена под эту легкомысленную литературу. На остальных плотно стояли унылые, в черных переплетах, с пятнистыми обрезами труды по истории и богословию, жизнеописания великих людей — убого-благородные произведения, какие можно у любого букиниста купить по пятнадцати центов за штуку. Джэспер несколько минут смотрел на них, словно заучивал наизусть названия. Затем взял «Житие преподобного Иеремии Бодфиша», открыл наугад и прочитал вслух: «Во время таких задушевных бесед в кругу семьи, которые мы вели после вечерней молитвы, брат Бодфиш заметил однажды, что Филон Иудей, чья ученая карьера всегда напоминала мне рассуждения Меланхтона о сущности рационализма, был всего-навсего софист». Джэспер захлопнул книгу и удовлетворенно проговорил:
— Филон Иудей так Филон Иудей. Сойдет для начала.
Он запер шкаф и пошел наверх. Дверь справа в верхнем коридоре вела в маленькую спальню. Там горел свет. Дом до появления Джэспера был, по-видимому, пуст, но горевшая на втором этаже лампочка должна была убедить всякого непрошеного гостя, который мог бы проникнуть во двор, что в доме есть люди. Мебель в спальне была самая спартанская — железная койка, один стул с прямой спинкой, умывальник, громоздкий дубовый комод. Джэспер повозился с замком, рванув, выдвинул нижний ящик, достал оттуда черный мятый, лоснящийся костюм, пару черных ботинок, небольшой черный галстук бабочкой, белый стоячий воротничок, белую рубашку с накрахмаленной грудью, коричневую фетровую шляпу, всю в пятнах, и парик — отличный дорогой парик, грязно-рыжий и непричесанный.
Он сбросил с себя свой элегантный фланелевый костюм, воротничок с высокими уголками, синий галстук, сшитую на заказ шелковую сорочку, изящные туфли из мягкой кожи и, прежде всего поспешив натянуть парик, облачился в мрачное, черное одеяние. Он переодевался, а углы его рта уныло опускались. Бросив на кровать свое платье и оставив свет, он сошел назад в гостиную. Но теперь это был совсем другой человек — слабее здоровьем, слегка не от мира сего, менее располагающий к себе и, без сомнения, куда больше знакомый с долгими грустными думами одиночества. Приходилось согласиться, что это не Джэспер Холт, а его брат-близнец, Джон Холт — религиозный фанатик и отшельник.
2
Джон Холт, брат-близнец Джэспера Холта, старшего банковского кассира, протер глаза, как будто только что оторвался от многочасовых ученых занятий, и, горбясь, пошел в прихожую к парадному выходу. Он отпер дверь, подобрал два-три рекламных проспекта, брошенных почтальоном в узкую щелку для писем, вышел и запер за собой дверь. Ступеньки вели во двор, не такой запущенный, как ивовая аллея на задах. Двор выходил на улицу предместья, гораздо более оживленную, чем тот проулок, по которому Джэспер Холт подъехал к дому отшельника.
Уличный фонарь освещал двор и входную дверь, на которой белел приколотый листок. Джон провел ладонью по листку, ногтем попробовал, крепко ли он держится. Сейчас он не мог разобрать надпись, но хорошо знал, что там мелким, витиеватым почерком было написано: «Просьба не беспокоить, на звонок никто не выйдет, хозяин пишет книгу».
Джон стоял на крыльце, пока не разглядел за забором справа своего соседа-счетовода, большого, грузного человека, который расхаживал перед домом и курил послеобеденную сигару. Тогда Джон стал ходить по двору, понемногу приблизился к забору и стоял там, нюхая сирень, до тех пор, пока сосед не заметил его и не крикнул:
— Добрый вечер!
— Да, вечер как будто неплох.
Голос Джона походил на голос Джэспера, только был немного ниже по тембру, и тон был не такой уверенный.
— Как подвигается книга?
— Это очень, очень нелегкое дело. Трудно проникнуть в тайный смысл всех пророчеств. Однако мне пора на собрание духовного братства «Спасение». Искренне надеюсь видеть вас у нас в одну из наших сред или в воскресенье вечером. Желаю вам всего наилучшего, сэр.
Джон вялой походкой вышел на улицу. Зашел в мелочную лавку. Купил пузырек чернил. В бакалейной лавке, торговавшей по вечерам, купил два фунта кукурузной и два фунта пшеничной муки, фунт бекона, полфунта масла, полдюжины яиц и банку сгущенного молока.
— Прикажете доставить на дом? — спросил продавец.
Джон удивленно взглянул на него. Но оказалось, что продавец новый, он не мог знать его привычек.
— Нет, — сказал он укоризненно. — Я всегда отношу свои покупки сам. Я пишу книгу. И не могу позволить, чтобы меня беспокоили.
Расплачиваясь, Джон передал кассиру почтовый чек на тридцать пять долларов и получил сдачу. В бакалейной лавке привыкли к таким чекам-переводам на имя Джона Холта — отправителем на них всегда значился некий Р. Дж. Смит из Южного района Вернона. Джон взял пакет с провизией и вышел из лавки.
— Тронутый, что ли? — спросил новый продавец.
— Да-а, — покачал головой кассир. — Он даже свежего молока никогда не покупает. Сидит на сгущенном. Что вы на это скажете? Соседи говорят, что он сжигает весь свой мусор. В его мусорном ящике, кроме золы, никогда ничего нет. Если постучаться к нему, он ни за что не откроет. Так мне рассказывали. День-деньской строчит свою книгу. Чудак, каких мало. Религиозное помешательство, по-моему. Но какой-то доход к нему поступает, видно, он из состоятельной семьи. Изредка выползает вечером из своей норы и бродит по городу. Сперва над ним подсмеивались, а потом привыкли. Он живет у нас, думаю, около года уже.
А Джон тем временем невозмутимо шагал по главной улице предместья Роузбэнк. В самом темном конце улицы он свернул в подъезд, над которым корявыми буквами, освещенными электрической лампочкой, было написано: «Духовное братство «Спасение». Приглашаются все желающие. Вход свободный».
Было восемь часов вечера. Члены духовного братства собрались, как всегда, в своем помещении над булочной. Это была крошечная секта, державшаяся самых строгих принципов. Ее члены были убеждены, что только они истинно следуют догматам священного писания, и что только они одни спасутся, что все остальные секты и вероисповедания обречены вечной погибели за противное христианству пристрастие к роскоши, что грешно иметь священников и органы в храмах, а равно и самые храмы, а не пустые помещения с голыми стенами. Свои богослужения они проводили сами, по очереди вставая и обращаясь к присутствующим с толкованием какого-либо библейского текста или просто с хвалебным приветствием собранию благочестивых, которое отвечало возгласами: «Аллилуйя!» и «Аминь, брат наш, аминь». Были они люди тощие, строго одетые, по большей части пожилые и весьма собой довольные. Из них самым почитаемым был Джон Холт.
Джон Холт поселился в предместье Роузбэнк всего одиннадцать месяцев назад. Он купил дом, выстроенный французом Бодеттом, вместе с библиотекой, принадлежавшей последнему владельцу дома — удалившемуся от дел священнику, и заплатил за все новенькими стодолларовыми купюрами. Но он уже успел заслужить глубокое уважение членов братства. Он жил отшельником, почти никуда не выходил, проводя, как видно, дни в молитвах, в чтении и работе над книгой. Последнее вызывало у братии восхищение. Его просили, чтобы он прочитал им свою книгу. Ко времени описываемых событий он прочел им несколько страниц, содержавших главным образом цитаты из древних авторов, толкующих пророков. Он не пропускал почти ни одного собрания и в самой ученой, но абстрактной манере рассуждал перед братьями о «мирском» и «плотском».
В этот вечер он долго распространялся о том, что некто Филон Иудей был попросту софистом. Спасающиеся братья не очень-то понимали, ни кто такой Филон Иудей, ни что такое софист, но все они одобрительно кивали головами и подхватывали:
— Ты прав, брат. Аллилуйя!
Незаметно Джон перешел к своему брату Джэсперу, погрязшему в мирских пороках. Он говорил о нем печально и строго. Рассказывал, как борется с пагубной страстью Джэспера к деньгам. По его просьбе братья помолились за Джэспера.
Собрание окончилось в девять.
— Прекрасно прошло сегодня собрание. Такое свободное изъявление духа! — вздыхая, пожимал Джон руки старейшинам братства.
Он сказал несколько назидательных слов вновь обращенной сестре — служанке, недавно приехавшей в Роузбэнк из Сиэтла. Захватив пузырек с чернилами и пакет с провизией, он мерными шагами спустился по лестнице. И в семь минут десятого покинул молитвенный дом.
В девять часов шестнадцать минут Джон Холт был в своей спальне и стаскивал с себя рыжеватый парик и траурный костюм проповедника. А в девять часов двадцать восемь минут Джон Холт снова превратился в Джэспера Холта, энергичного служащего Лесного банка в Верноне.
Джэспер Холт оставил в спальне своего брата зажженную лампу, быстро сбежал по лестнице, проверил замки парадной двери, запер ее еще на засов, проверил, закрыты ли ставни на окнах, взял пакет с продуктами и кулек конфет, которые привез в коробках, похожих на книги, погасил свет в гостиной и торопливо зашагал по ивовой аллее к машине. Он бросил на сиденье конфеты и пакет, вывел машину задним ходом со двора, уверенно лавируя между кустов, и поехал по безлюдному проулку.
Проезжая мимо болота, он нашарил на сиденье кулек с конфетами, одной рукой развернул его и вытряхнул конфеты из окна. Они так и посыпались дождем в густую придорожную траву. Бумагу с маркой кондитерского магазина «Парфенон» Джэспер сунул к себе в карман. Затем из пакета, на котором тоже стояла марка магазина, он вынул и сложил на сиденье свертки с провизией, а пакет тоже сунул в карман.
Возвращаясь из Роузбэнка в город, он еще раз свернул и остановился у жалкой лачуги, в которой жил старый хромой норвежец. Джэспер просигналил. Из дома выбежал внук норвежца.
— Возьмите, я тут кое-что привез вам, — сказал Джэспер, подавая свертки.
— Да благословит вас бог, сэр. Я не знаю, что бы мы без вас делали, — прошамкал из-за двери старик.
Но Джэспер не стал его слушать.
— На днях заеду опять! — крикнул он и уехал.
В четверть одиннадцатого он остановился у дома, где помещался «Общественный театр» — последняя выдумка высшего вернонского света. Обитатели фешенебельных кварталов чуть не все были членами Театрального клуба, во главе которого стояла дочка самого управляющего железной дорогой. Джэспер Холт, воспитанный и холостой, был радушно принят в среде «лучших людей города», хотя, кроме того, что он отличный кассир и родом из Англии, никто ничего о нем не знал, зато как актера его прямо-таки на руках носили: он был признан как самый талантливый актер-любитель во всем Верноне. Его ничем не примечательное лицо могло вытягиваться в трагическую маску или раздуваться толстощекой шутовской физиономией; его спокойные манеры словно скрывали вулкан страстей. В отличие от других любителей он не «представлял» — он просто перевоплощался. Он забывал о существовании Джэспера Холта и становился то бродягой, то судьей, то лощеным денди Ноэля Кауарда, то странным порождением фантазии Бернарда Шоу или символом из драм лорда Дансейни.
Все другие одноактные пьесы из нового репертуара «Общественного театра» уже отрепетировали. Джэспера ждали любители-актеры, занятые в пьесе, где он играл главную роль. Еще его хотели видеть дамы-постановщицы, чтобы узнать, во-первых, как он отнесется к синим шторам на сцене, а во-вторых, какой, по его мнению, заключается высший смысл в роли пажа, состоявшей всего из двух строчек, но доставшейся зато самой очаровательной любительнице самого юного поколения. Когда все обсудили и утихомирили двух крупно поспоривших членов репертуарного совета, то, наконец, приступили к репетиции. Джэспер Холт был все в том же фланелевом костюме с увядшей гвоздикой в петлице; но это был уже не Джэспер Холт, это был старый герцог де Сан Саба, циничный, щедрый, великолепный, с изысканными манерами, с вкрадчивым голосом и снедаемый самыми низменными страстями.
— Ах, если бы мне побольше таких талантов, как вы! — восклицал нанятый театром профессиональный режиссер.
Репетиция окончилась в половине двенадцатого. Джэспер отвел машину в гараж и пешком вернулся домой. Дома он изорвал и сжег бумагу с маркой кондитерского магазина и пакет, в котором были продукты.
Спектакль состоялся в следующую среду. Джэсперу Холту аплодировали без конца. А на банкете, устроенном после окончания пьесы в Лейксайд-клубе, он танцевал с самыми красивыми девушками города. Он говорил мало, но зато танцевал без устали. Джэспер Холт был в зените славы.
В среду вечером Джон Холт не пришел на собрание духовных братьев в Роузбэнке.
А через пять дней в понедельник на совещании у директора Национального Лесного банка Джэспер Холт пожаловался на головную боль. На следующий день он позвонил директору и сказал, что не придет в банк: он попробует отоспаться, дать отдых глазам, может быть, тогда пройдет его мучительная головная боль. Это было некстати, потому что именно в этот день его брат Джон приехал в Вернон и зашел в банк навестить Джэспера.
Директор видел Джона Холта всего один раз. И так уж совпало, что и в тот раз Джэспера не было в банке — он уезжал за город. Директор пригласил Джона в свой кабинет.
— Ваш брат сегодня остался дома. У бедняги страшная головная боль. Надеюсь, она скоро пройдет. Мы очень ценим вашего брата. Вы можете им гордиться. Не хотите ли сигару?
Директор говорил с Джоном, а сам незаметно разглядывал его. Как-то во время обеда (директор иногда угощал обедом своего старшего кассира) Джэспер обмолвился, что они с братом похожи как две капли воды. Но сколько ни всматривался директор в Джона Холта, он не замечал такого разительного сходства. Черты, были, пожалуй, те же. Но у Джона на лице застыла такая гримаса хронического духовного несварения, взгляд был так угрюм, рыжие космы такие спутанные, неряшливые — то ли дело черный лоснящийся зачес Джэспера над просвечивающей плешинкой, — что директор почувствовал к Джону неприязнь, столь же сильную, как и его симпатия к Джэсперу.
А Джон тем временем говорил:
— Я, знаете ли, не курю. Я решительно не понимаю, как это человек может отравлять сосуд божий наркотиками. По-видимому, я должен был бы радоваться, что вы так цените моего бедного брата. Но меня куда больше заботит его полное равнодушие к духовной стороне жизни. Он иногда приезжает ко мне в Роузбэнк. Я пытаюсь наставить его на путь истинный. Но признаюсь, мне это плохо удается. Легкомыслие его поразительно!
— Мы не замечали в нем легкомыслия. Он образцовый работник.
— Но он занимается актерством! И читает любовные романы! Конечно, я помню заповедь: «Не судите, да не судимы будете». Но я глубоко скорблю о том, что мой брат готов отдать вечное блаженство за преходящие радости земные. Однако я должен идти навестить его. Я верю, что мы встретимся с вами на собраниях нашего братства «Спасение» в Роузбэнке. Будьте здоровы, сэр.
Возвращаясь к прерванной работе, директор пробормотал:
— Скажу Джэсперу, что лучший комплимент, какой я могу ему сделать, — это что он совсем не похож на своего братца.
На следующий день, в среду, когда Джэспер пришел в банк, директор и в самом деле повторил ему свою шутку насчет сходства с Джоном, но Джэспер, — вздохнув, ответил:
— О, Джон, по существу, славный малый. Но он так давно занимается метафизикой, восточным мистицизмом и бог знает еще какой чертовщиной, что живет теперь как в тумане. Но, право же, он гораздо лучше меня. Если я вдруг убью мою домохозяйку или, скажем, ограблю ваш банк, шеф, пойдите к Джону — и я ставлю лучший обед в городе, что Джон не успокоится, пока я не окажусь в руках правосудия. Вот какие высокие принципы у моего брата!
— Такие высокие, что простому смертному до них и не дотянуться! Так, значит, если вы нас ограбите, то я должен обратиться к вашему брату? Но, прошу вас, воздержитесь от этого. Я содрогаюсь при мысли, что придется иметь дело с детективом, который к тому же еще религиозный фанатик в крахмальной манишке.
Оба рассмеялись, и Джэспер пошел в свою кабину. Он признался, что голова у него все еще болит. И директор посоветовал ему взять недельный отпуск. Джэспер не соглашался: в связи с войной в Европе стала расти военная промышленность, и все больше поступает заводских платежных ведомостей, которыми как раз занимается Джэспер.
— Лучше неделю отдохнуть, чем потом болеть месяц, — настаивал директор.
И Джэспер поддался на уговоры. Он решил уехать и отдохнуть денька два-три. Он отправится в пятницу на озеро Уэкамин, день-другой порыбачит и не позже вторника будет обратно. Перед отъездом он успеет подготовить ведомости к оплате и передаст их второму кассиру. Директор поблагодарил Джэспера за его добросовестное отношение к своим обязанностям и, как нередко бывало, пригласил в четверг вечером к себе домой на ужин.
В эту среду вечером Джон, брат Джэспера, был на собрании духовного братства в Роузбэнке. Вернувшись домой и чудесным образом превратившись в своего брата Джэспера, он не стал убирать парик и костюм Джона в нижний ящик комода, а уложил в чемодан. Чемодан он отвез к себе в Верной и запер в шкаф.
За ужином в гостях у директора он был, как всегда, любезен, но несколько молчалив: у него еще болезненно стучало в висках — и он ушел из гостей рано, в половине десятого. Он степенно шагал к центру Вернона по фешенебельному бульвару, держа в одной руке свои серые шелковые перчатки, а в другой — трость, которой он величаво помахивал. Так он дошел до гаража, где стояла его машина.
— Страшно болит голова. Хочу проехаться за город, подышать свежим воздухом, — сказал он дежурному.
Он выехал со скоростью не больше пятнадцати миль в час, держа путь на юг. За пределами города он перешел на двадцать пять миль в час. Вся его спокойная, удобная поза говорила о том, что он едет далеко: он сидел неподвижно, только чуть шевелилась нога на акселераторе и правая рука на руле. Левый локоть покоился на мягком подлокотнике, и ладонь снизу только чуть касалась руля.
Он проехал к югу пятнадцать миль, почти до самого городка у Уонагуши. Затем по довольно плохой дороге круто свернул на северо-запад и, описав большую дугу вокруг Вернона, взял курс на Сен-Клер, который, как и предместье Роузбэнк, лежит к северу от Вернона. Сделано это было не случайно. Уонагуши находился в восемнадцати милях к югу от Вернона; Роузбэнк, наоборот, в восьми милях к северу. Сен-Клер же стоял от Вернона на двадцать миль, почти так же, как и Уонагуши, только в противоположном направлении.
По пути в Сен-Клер, проезжая в двух милях от Роузбэнка, Джэспер съехал с шоссе в рощу, где росли вперемешку дубы и клены. Он остановил машину на заброшенной лесной дороге. Вылез из машины, размялся и пошел вверх по склону лесистого холма, который круто обрывался над заглохшим лесным озером. Каменная стена почти отвесно уходила в воду. Стоя на самом краю обрыва, Джэспер разглядывал в слабом свете звезд темное, заросшее тростником озеро. Оно так затянулось тиной, что в нем никто никогда не купался. Жили в озере склизкие мордастые голавли, но редкий рыбак заглядывал сюда.
Джэспер стоял, задумавшись. С этого обрыва однажды сорвалась в воду упряжка лошадей, и вязкое дно озера засосало ее.
Он пошел вниз, ведя тростью по земле, как бы прочерчивая дорогу от обрыва до того места, где под деревьями ждал его автомобиль. Один раз он остановился и вырубил большим карманным ножом целый ореховый куст, росший на этом воображаемом пути. Дойдя до машины, он удовлетворенно ухмыльнулся, потом вышел на опушку леса и взглянул вправо и влево по шоссе. Приближалась какая-то машина. Он подождал, пока она проедет и скроется из глаз, и бегом вернулся к своему автомобилю. Вывел его задним ходом на шоссе и помчался дальше на север, в сторону Сен-Клера со скоростью почти что тридцать миль в час.
На окраине Сен-Клера он остановился, вынул сумку с инструментами, вывернул свечу и стал бить ею по картеру. Кусок фарфорового изолятора откололся. Тогда он ввернул свечу на место и сел за руль. Мотор застучал с перебоями, один цилиндр не работал.
— Не иначе, как что-то случилось с зажиганием, — сказал он весело.
Он кое-как дотянул до гаража в Сен-Клере. Там никого не было, кроме старика негра, ночного рабочего, который мыл губкой и поливал из шланга большой черный лимузин.
— У вас есть дежурный механик? — спросил Джэспер.
— Нет, сэр. Боюсь, что вам придется оставить машину до утра.
— Черт! У меня что-то случилось с зажиганием. Или с карбюратором. Ну, делать нечего, придется, видно, оставить. Ты будешь здесь завтра, когда механик придет?
— Да, сэр.
— Тогда скажи ему, что я приеду за машиной в полдень. Нет, лучше сговоримся на девять утра. Не забудь, смотри. — Он протянул старику монету в двадцать пять центов. — Это поможет тебе не забыть.
— Поможет, поможет, очень поможет, — радостно закивал старик. Потом спросил, привязывая к машине Джэспера номерок: — Ваша фамилия, сэр?
— Фамилия? Э-э… Хэнсон. Так запомни. Завтра в девять утра я приеду за машиной.
Из гаража Джэспер пошел на вокзал. Было без десяти час. Джэспер не спросил дежурного о ближайшем поезде на Вернон. По-видимому, он знал, что в час тридцать семь в Сен-Клере останавливается нужный ему поезд. Он не остался в зале ожидания, а сел в темноте на багажную тележку возле камеры хранения. Когда подошел поезд, он проскользнул в последний вагон и сел на последнюю скамью. Надвинув на глаза шляпу, он заснул или сделал вид, что заснул. В Верноне он сошел и отправился в гараж, где всегда стояла его машина. Он вошел внутрь. В коридоре, служащем одновременно въездной дорожкой, притулившись к стене, дремал на большом табурете ночной мойщик.
— Вот не повезло так не повезло! — с деланным весельем воскликнул Джэспер. — Что-то стряслось с зажиганием. Думаю, что с зажиганием. Оставил машину в Уонагуши.
— Д-да, не повезло, — проснувшись, откликнулся мойщик.
— Ничего не поделаешь, оставил машину в Уонагуши, — еще раз повторил Джэспер, уходя.
Джэспер был несколько неточным. Он оставил машину не в Уонагуши, что на юге Вернона, а в Сен-Клере — прямо в противоположной стороне.
Затем он вернулся домой, прекрасно выспался, принял, весело напевая, ванну, однако за завтраком жаловался на головную боль и объявил, что едет на озеро Уэкамин, по северной дороге, будет ловить там окуней и даст отдых своим больным глазам. Хозяйка пожелала ему счастливого пути и спросила, не нужно ли ему помочь собраться.
— Нет, нет, благодарю вас. Я беру с собой всего два чемодана — кое-какая старая одежда, ну, и рыболовные снасти. Я уже все уложил. Если управлюсь в банке пораньше, выеду с одиннадцатичасовым. У нас сейчас дел по горло со всеми этими платежами военных заводов. Оружие союзникам, знаете ли. Что там пишут сегодняшние газеты?
Джэспер появился в банке с двумя небольшими чемоданами и элегантным шелковым зонтиком с серебряной ручкой, на которой было выгравировано его имя. Швейцар, он же и сторож, помог Джэсперу отнести чемоданы в его отделение.
— Осторожно с этим чемоданом. В нем мои рыболовные снасти, — сказал Джэспер, показывая на один чемодан, который был довольно тяжел, но чувствовалось, что в нем много свободного места. — Просто не верится, что я сегодня буду ловить окуней в Уэкамине.
— И я бы не отказался от такой поездки, сэр. А как ваша голова сегодня?
— Голова-то лучше, а глаза все болят. Видно, уж очень я их натрудил. Знаете, Коннорс, я хотел бы успеть на поезд в одиннадцать ноль семь. Вызовите для меня такси в одиннадцать. Впрочем, не надо, лучше я потом попрошу, а то вдруг не управлюсь до одиннадцати. Очень мне хочется уехать с этим поездом.
— Хорошо, сэр.
Директор, второй кассир и старший клерк — каждый спросил у Джэспера, как он себя чувствует. И каждому он повторил в ответ, что глаза у него болят и что он собирается в Уэкамин ловить окуней.
Второй кассир, чья кабина примыкала к кабине Джэспера, весело крикнул через стальную сетку:
— Надо же, какое некоторым везение! Ну, подождите! Вот разыграется у меня летом сенная лихорадка, я на целый месяц закачусь рыбу ловить!
Джэспер поставил оба чемодана к себе и, предоставив второму кассиру выплачивать по чекам, занялся подготовкой субботних платежей. Он, как обычно, прошел в подвал — узкое, скучное, освещенное одной лампочкой без абажура, непроветриваемое помещение, где пол бы покрыт линолеумом, а всю заднюю стену составляли стальные дверцы сейфов. Дверцы, выкрашенные в бледно-голубой цвет, были ничем не примечательны, но за ними хранилось несколько миллионов долларов наличными и в ценных бумагах. Верхние дверцы — на мощных стальных петлях, каждая имеет два циферблата. Их могут открыть только два старших служащих банка, причем каждый из них знает только свою комбинацию цифр и не знает второй. Внизу несколько сейфов поменьше, и один из них находится в распоряжении Джэспера, как старшего кассира. Это небольшой стальной сейф, в котором лежало сейчас сто семнадцать тысяч долларов бумажными деньгами и четыре тысячи золотом и серебром.
Джэспер входил в подвал и возвращался в свою кабину с пачками денег. От второго кассира, который работал в трех шагах, его отделяла только стальная сетка.
Работая, Джэспер иногда перекидывался с ним несколькими словами.
Одни раз, отсчитав девятнадцать тысяч долларов, он заметил:
— Большие платежи на этой неделе для вагоностроительного «Хеншель». Они, кажется, поставляют союзникам лафеты и кузова грузовиков.
— Угу, — безразлично отозвался второй кассир.
Быстро и четко шла у Джэспера привычная работа. Он отсчитывал деньги, сверяя с отпечатанными на машинке платежными ведомостями. Взгляд его, казалось, ни разу не оторвался от денег и колонок цифр. Кредитные билеты он складывал в пачки, скрепляя каждую бумажной лентой. Рядом лежали черные кожаные мешки, куда он как будто клал готовые пачки денег. Но он их туда не клал.
Оба чемодана стояли у его ног. Предполагалось, что они заперты. На самом деле один был отперт. И хотя он был довольно тяжел, в нем ничего, кроме чугунной болванки, не было. Время от времени рука Джэспера, державшая пачку долларов, опускалась. Легким движением ноги он приоткрывал чемодан, и пачка бесшумно падала на дно чемодана.
Нижняя часть кассы была отгорожена от наружного помещения толстой стальной плитой, так что никто, кроме второго кассира, не мог видеть этих подозрительных действий. Но Джэспер опускал пачки долларов в чемодан, только когда второй кассир был занят с посетителями или поворачивался к нему спиной. Выжидая подходящий момент, Джэспер иногда пересчитывал пачки по нескольку раз и усиленно тер глаза, чтобы все видели, как он устал.
Каждый раз, уронив украдкой в чемодан пачку долларов, Джэспер демонстративно, не спеша запихивал в кожаный мешок завернутые в синюю бумагу столбики монет на остальную сумму, указанную в ведомости. Именно в эти минуты он и заговаривал со вторым кассиром. Потом запечатывал мешок и деловито отставлял его в сторону.
Джэспер так долго возился, что, когда он кончил, было без пяти одиннадцать. Он крикнул швейцара и попросил вызвать такси.
У него оставался незапечатанным еще один мешок. И все могли видеть, как Джэспер пачку за пачкой укладывает в мешок деньги, давая второму кассиру последние наставления.
— Я сложу все мешки в мой сейф, а вы потом перенесете их к себе. Только не забудьте запереть сейф. Ну, я должен бежать, а то опоздаю на поезд! Вернусь самое позднее во вторник. Будьте здоровы.
Он поспешно отнес мешки в подвал и набил ими свой сейф чуть не до отказа. Но все они, кроме последнего, были пусты, если не считать нескольких столбиков монет, завернутых в синюю бумагу. Хотя он и поручил запереть свой сейф второму кассиру, но впопыхах сам набрал нужную комбинацию цифр — досадная оплошность, из-за которой второму кассиру, чтобы открыть сейф, пришлось дожидаться директора.
Джэспер схватил зонтик, чемодан, задержавшись над одним не более десяти секунд. Махнув рукой второму кассиру в окошечке кассы, он быстро побежал к выходу, так что швейцар не успел даже поднести ему чемоданы. Вскочив в такси, он громко, чтобы швейцар услышал, велел шоферу ехать на Северный вокзал.
На вокзале, отказавшись от услуг носильщиков, он купил билет до Уэкамина — курортного городка на берегу озера, находившегося в ста сорока милях от Вернона, а стало быть, в ста двадцати от Сен-Клера. И только-только успел вскочить в вагон, как поезд тронулся. Поехал он не первым классом, а сел на лавку возле задней двери в вагоне третьего класса и, аккуратно отвинтив серебряную ручку зонтика, где было выгравировано его имя, сунул ее в карман.
Когда поезд остановился в Сен-Клере, Джэспер вышел с обоими чемоданами на площадку, оставив на сиденье зонтик без ручки. Его лицо было непроницаемым и абсолютно спокойным. Поезд тронулся, он соскочил на платформу и деловито зашагал к выходу в город. Только на миг по его лицу пробежало азартное выражение и тут же исчезло.
В гараже, где с вечера стоял его автомобиль, он спросил механика:
— Моя машина готова? Я оставил ее у вас вчера вечером. Что-то с зажиганием.
— Какое там! — ответил механик. — Знаете, сколько перед вами было машин. Я к вашей еще и не притрагивался. Думаю, после обеда за нее возьмусь.
Джэспер в сердцах облизнул губы. Со стуком опустил чемоданы на пол и, прижав согнутый указательный палец к нижней губе, стал соображать, как быть дальше.
— Ну что ж, придется, видно, ехать так. Я очень спешу. Надо вовремя попасть в соседний городишко, — пробормотал он.
— В наши дни, мистер Хэнсон, торговые агенты почти все разъезжают на машинах, — вежливо заметил механик, прочитав фамилию на гаражном номерке.
— Да, на автомобиле куда быстрее можно обернуться.
Он беспрекословно расплатился, хотя, по справедливости, платить было не за что, ведь машину не починили. Вообще он вел себя сдержанно и был совершенно такой, как все. Чемоданы он сунул на сиденье, сел за руль и уехал. Мотор, как и ночью, работал с перебоями. В другом гараже он купил новую свечу, ввернул. И мотор стал работать нормально.
Он поехал из Сен-Клера обратно в направлении Вернона и Роузбэнка, где жил его брат Джон. В двух милях от Роузбэнка он свернул с шоссе в ту самую дубовую рощу, где накануне наметил дорогу к обрыву над заросшим осокой озером. Съехал с проселка в густую траву и остановился. Он сложил под кустом и прикрыл чемоданы, из-под сиденья извлек куриные консервы, коробку печенья, жестянку с чаем, котелок и спиртовку и все это разложил на траве — чем не пикник?
Так он сидел на траве с часу дня и до тех пор, пока не стемнело. Иногда он даже делал вид, что ест, — сходил на родник за водой, вскипятил чай, заварил, открыл коробку печенья, консервы. Но большую часть времени он сидел просто так, куря сигарету за сигаретой.
Только один раз его уединение было нарушено: швед-фермер шел ближней дорогой на свое поле. Увидев Джэспера, он окликнул его:
— Пикник, а?
— Да, пикник. Выходной день у меня, — скучно ответил Джэспер.
И фермер, не оглянувшись, пошел своей дорогой.
Когда стемнело, Джэспер докурил сигарету, раздавил коротенький окурок и вслух произнес непонятную фразу:
— Ну, это, должно быть, последняя сигарета Джэспера Холта. Ты, Джон, конечно, не куришь, чтоб тебе пусто было.
Потом спрятал в кустах оба чемодана, сложил в машину еду, котелок, спиртовку, опустил верх машины и, крадучись, вышел на шоссе.
Вокруг ни души. Он вернулся к машине. Достал из сумки с инструментами молоток и зубила, открыл капот и в несколько ударов так сплюснул заводской номер мотора, что его стало невозможно различить. Он снял передние и задние номерные знаки и спрятал их в кусты рядом с чемоданами. Потом почти в полной темноте он запустил мотор, повел машину между смутными массами кустов, вверх по склону холма, и, не выключая мотор, остановился почти над самым обрывом.
От машины до края обрыва оставалось метров сорок — ровная полянка, поросшая красный клевером. Джэспер измерил шагами расстояние, вернулся в машину, сел за руль, как-то бочком и явно нервничая, и двинулся с места, включив вторую скорость, потом рывком переведя на третью. Машина ринулась в пропасть. Джэспер уже был на подножке. Стоя, он левой рукой направлял машину точно к обрыву, а правой все дальше отводил ручной дроссель, прибавляя и прибавляя газ. И в самый последний миг успел соскочить на землю.
Оставленная человеком, машина на ходу взревела и сорвалась в пропасть. Метров пять она еще летела по воздуху, как бескрылый аэроплан. Потом два раза перевернулась на лету и отвесно рухнула в воду. Раздался сильный всплеск, поднялся столб воды, и сразу стало очень тихо. Круги разбежались и пропали. В сумерках поверхность озера блестела, словно молоко. Машины как не бывало. Озеро лежало таинственное, зловещее и спокойное.
— Боже мой! — прошептал Джэспер, стоя на краю обрыва. И, помолчав, добавил: — Зато они не найдут ее года два, а то и больше.
Он вернулся к тому месту, где были спрятаны чемоданы. Присев на корточки, вынул из одного парик и черный потрепанный костюм Джона Холта. Разоблачился, надел платье Джона, а костюм Джэспера уложил в чемодан. Взяв чемоданы и номерные знаки, он пошел, держась леса, в сторону Роузбэнка. Скоро он был в полумиле от предместья. Теперь еще немного по открытому месту — и вот он уже в ивовой аллее. Он черным ходом проскользнул в дом, сжег в камине платье Джэспера, расплавил в печке номерные знаки. Двумя камнями разбил вдребезги дорогие часы Джэспера и авторучку и бросил обломки в бочку под водосточной трубой. Серебряную ручку зонтика он долго царапал стамеской, пока имя Джэспера Холта стало неразличимо.
Он отпер нижнюю секцию книжного шкафа, где стояли под видом книг пустые конфетные коробки. Вынимая из чемодана пачки однодолларовых, пятидолларовых, десятидолларовых и двадцатидолларовых бумажек, он набивал ими коробку за коробкой. Пряча деньги, он сосчитал их. Всего было девяносто семь тысяч пятьсот тридцать пять долларов.
Оба чемодана были новые, без единой царапины. Он отнес их на кухню, там обил им углы, тер куском черного гуталина, поцарапал бока и крышки, пока не стало казаться, что чемоданы были в долгом и безжалостном употреблении. Тогда он отнес их на чердак и там бросил.
В спальной он, не спеша, разделся. Раздеваясь, сказал с усмешкой:
— Я презираю этих самодовольных глупцов: администрацию банка и полицию. Я не подвластен их дурацким законам. Никогда им меня не разоблачить — только я сам мог бы это сделать!
Он лег в постель.
— А, черт побери, — раздраженно буркнул он. — Надо думать, Джон каждый вечер молится, несмотря на ледяной пол.
Он вылез из-под одеяла и стал молить непостижимого владыку вселенной о прощении, но не Джэсперу Холту, а тем, которые не разделяли истинной веры его духовного братства.
Потом снова лег в постель и проспал до следующего утра, подложив руки под голову и спокойно улыбаясь во сне.
Так кончилось без таинственных мук смерти земное существование Джэспера Холта и возник из небытия не как призрак, являющийся лишь по средам и воскресеньям, а как человек во плоти и крови, живой все двадцать четыре часа в сутки, все семь дней в неделю — его брат Джон Холт.
3
Обитатели Роузбэнка привыкли к чудаковатому затворнику Джону Холту. И когда он в субботу вечером — на другой день после описанных выше событий — выполз из дому и побрел в магазин почтовых и канцелярских товаров на Главной улице, они только посмеивались ему вслед.
Джон Холт купил вечернюю газету и сказал продавцу:
— Прошу доставлять мне домой каждое утро «Морнинг Геральд». Адрес — Хамберт-авеню, 27.
— Я знаю ваш адрес. Но, мне помнится, вы терпеть не могли газет, — дерзко заметил продавец.
— Право? Так, пожалуйста, каждое утро «Геральд». Плачу за месяц вперед, — сказал Джон, в упор посмотрев на продавца. И тот потупился под его взглядом.
В воскресенье вечером Джон, как обычно, посетил собрание своего братства. И опять его два дня не было видно на улицах Роузбэнка.
Первое сообщение об исчезновении Джэспера появилось только в среду. Местная газета поместила на первой полосе большую статью под кричащим заголовком: «Бегство банковского кассира — любимца общества».
Газета писала, что Джэспер Холт исчез четыре дня назад. Администрация банка на первых порах отрицала преступление. Но потом вынуждена была признать, что вместе с Холтом из сейфа банка исчезло — по одним сведениям — сто тысяч долларов, по другим — двести тысяч долларов. Он купил в пятницу билет до Уэкамина. Кондуктор — клиент банка — видел, как он садился в поезд. Но до Уэкамина Джэспер Холт, по-видимому, так и не доехал.
Одна женщина утверждала, что в пятницу к вечеру видела Холта в автомобиле на шоссе между Верноном и Сен-Клером. Но она, по всей вероятности, ошиблась. Джэспер не мог появиться в тот час возле Сен-Клера. Наш проницательный начальник полиции имеет неоспоримые доказательства, что Холт поехал не в северном направлении, к Сен-Клеру, а в южном — за Уонагуши, в Де-Мойн или даже Сент-Луис. Точно известно, что в четверг вечером, накануне своего исчезновения, Холт оставил свою машину в Уонагуши, и наша полиция с присущей ей основательностью и проворством уже ведет в Уонагуши расследование. Начальник полиции связался с полицейскими отделениями во всех городах к югу от Вернона. Так что поимка дерзкого грабителя ожидается с минуты на минуту. Пока на посту шефа полиции стоит этот верный человек нашего всеми уважаемого мэра, горе тому, кто хотя бы помыслит о злодеянии.
На вопрос, каково его мнение о гипотезе, согласно которой преступник бежал на север, начальник полиции ответил, что, безусловно, Холт сперва действительно поехал в северном направлении, но только затем, чтобы сбить полицию со следа. Он очень скоро повернул на юг в Уонагуши, где остался его автомобиль. Начальник полиции дал понять, что человек, скрывавший в Уонагуши автомобиль Холта, будет, вероятно, арестован.
На вопрос, не считает ли он Холта помешанным, начальник рассмеялся и сказал:
— Его помешательство стоило банку двести тысяч долларов. Я не злословлю, но среди наших политических противников немало найдется таких, что согласятся прослыть сумасшедшими и за гораздо меньшую сумму.
Директор банка, однако, был очень расстроен и уверял всех, что Холт — человек, пользовавшийся расположением «лучших людей города», прекрасный актер и добросовестнейший работник, не иначе как помешался в уме; последнее время его мучили сильные головные боли. Страховая компания, которой пришлось выплатить банку по страховому полису двести тысяч долларов, тем временем послала на розыски преступника в помощь полиции своего детектива.
Как только Джон Холт прочитал в газете об исчезновении Джэспера Холта, он немедленно сел в трамвай и приехал в Верной. Он явился к директору банка с поникшей от стыда и горя головой. Директор принял его. Он нетвердыми шагами вошел в кабинет и через силу выговорил:
— Я только что узнал из газеты ужасную новость о моем брате. Я пришел…
— Мы надеемся, что это просто временная потеря памяти. Мы уверены, что он придет в себя и скоро вернется, — упорствовал директор.
— Я бы хотел этому верить. Но я знаю брата. Это испорченная натура. Пьет, курит, актерствует. Суетно поклоняется моде.
— Помилуйте, это еще не дает оснований считать его вором.
— Молю бога, чтобы вы оказались правы. Тем временем я хотел бы оказать вам всякое посильное содействие. Отныне дело моей жизни — предать правосудию моего брата. Если, конечно, он виновен.
— Очень похвально, очень похвально, — промямлил директор.
Несмотря на такую потрясающую честность, директор не мог побороть своей неприязни к Джону. Тот сидел подле него, подавшись вперед и почти вплотную приблизив свое тупое лицо к его лицу.
Директор отодвинул кресло и сухо сказал:
— Мы, между прочим, собирались произвести у вас обыск. Вы живете, насколько я помню, в Роузбэнке?
— Да. И я буду счастлив показать вам каждый закоулок, каждую щелку в моем доме. Я сделаю все, что потребуется. Я чувствую, что вина моего брата в полной мере падает и на меня. Вот вам ключ от моего дома. За домом есть еще сарай, где Джэспер оставлял машину, когда приезжал ко мне. — Он вынул из кармана и протянул директору большой, заржавленный старинный ключ. — Мой адрес: Роузбэнк, Хамберт-авеню, 27.
— Право, это ни к чему, — сказал директор, устыдившись, и в раздражении отвел руку Джона.
— Но я должен как-то вам помочь! Что я могу сделать? Кто, выражаясь языком газеты, ведет дело? Я окажу ему содействие…
— Вот что я вам посоветую: поезжайте к мистеру Скэндлингу в страховую компанию и расскажите ему все о своем брате.
— Хорошо, так и сделаю. Я разделю с братом ответственность за содеянное им. Иначе я возьму на душу грех Каина. Вы даруете мне возможность искупить нашу общую вину. А как говорил, бывало, преподобный Иеремия Бодфиш, искупление греха — великая благодать, как бы тяжело и мучительно ни было наказание для тела. Как я, возможно, уже говорил вам, — я член духовного братства «Спасение». И хотя мы свободны от ханжества и догматизма, наша непоколебимая вера…
И тут Джон Холт разразился проповедью, он цитировал позабытые книги и словеса старцев-изуверов, сплетая злобную гордость и нелепые мистические формулы в липкую паутину исступления. Директор пережил десять ужасных минут. Он ходил в церковь, постоянно жертвовал на миссионерскую деятельность, сорок лет его семье принадлежала скамья в церкви святого Симеона, но сейчас его прошиб холодный пот и била дрожь от ярости при виде этого самодовольного святоши.
Наконец он не выдержал и довольно грубо выпроводил Джона Холта. «Проклятие, — пробормотал он, когда захлопнулась дверь. — Я понимаю, что это нехорошо, но, признаюсь, я предпочитаю грешного Джэспера благочестивому Джону. Фу! От него несет подвальной сыростью. Как будто он целыми днями сидит в подполье и перебирает картошку. Черт! А ведь Джэспер имел наглость когда-то мне сказать, что если он ограбит банк, то мне лучше всего обратиться к его брату. Теперь мне все понятно. Джон — из тех назойливых болванов, которые способны запутать любое дело. Так что, прошу прощения, Джэспер, с вашим братцем я впредь иметь дело не намерен!»
А Джон отправился в страховую контору к Мистеру Скэндлингу и долго терзал его подробными, никому не нужными рассказами о юношеских и совсем недавних прегрешениях своего порочного брата. Мистер Скэндлинг послал его к детективу, который по поручению компании занимался розысками Джэспера Холта. Детектив был человек общительный, простецкий — ему Джон показался еще невыносимее. Джон требовал, чтобы детектив обыскал его дом в Роузбэнке. Детектив с ним поехал, но осматривал дом кое-как, думая только об одном: как бы скорее улизнуть. А Джон целых пять минут показывал ему сарай, куда Джэспер ставил машину. Он пытался также вызвать у детектива интерес к своим бесценным засаленным книгам. Отпер одну секцию, достал четырехтомное собрание проповедей и начал читать вслух.
— Да, да, — прервал его детектив, — это здорово интересно. Но ведь ваш братец не мог спрятаться на полке за книгами!
И поспешил убраться оттуда, заверив Джона, что, если понадобится его помощь, за ним пришлют.
— Если бы только я мог искупить…
— Да, мистер, ясное дело! — взвыл детектив и бросился без оглядки к воротам.
В тот день Джон еще раз съездил в Верной. Он навестил начальника полиции. И сообщил ему, что приглашал к себе в дом для обыска детектива страховой компании. Так не будет ли и полиция любезна обыскать его дом? Он должен искупить… Начальник полиции похлопал Джона по спине и посоветовал не терзаться совестью из-за преступления брата.
— Поезжайте-ка лучше домой. У меня, знаете ли, дел по горло. — И выпроводил Джона.
Когда в тот вечер Джон Холт направлялся на собрание в молитвенный дом, люди на улице шептались о том, что это его брат ограбил Национальный Лесной банк. Джон шел, понурив от стыда голову. Своим духовным братьям он объявил, что берет грех Джэспера на себя, молился вместе с ними о том, чтобы Джэспер был пойман и сподобился благодетельного наказания. Братья умоляли, чтобы Джон не чувствовал себя виновным, — ведь он принадлежит к братству, которое одно в этом грешном и жестоком мире спасется.
В четверг, в субботу утром, во вторник и в пятницу Джон ездил в Вернон к директору банка и детективу страховой компании. Дважды директор принимал его и чуть не умер с тоски от его проповедей. На третий раз он велел сказать, что его нет. На четвертый Джона все же допустили к директору, но директор резко сказал ему, что если он хочет быть полезным, то лучше всего пусть не вмешивается куда его не просят.
Детектив страховой компании все четыре раза «отсутствовал».
Джон кротко улыбнулся и перестал предлагать свои услуги. Конфетные коробки на нижней полке в его шкафу стали покрываться пылью — все, кроме одной, которую он время от времени доставал. И всякий раз после того, как он брал с полки эту коробку, в почтовом отделении южного района Вернона появлялся человек с рыжеватыми волосами, в черном давно не глаженном костюме и, подписавшись Р. Дж. Смитом, посылал на имя Джона Холта в Роузбэнк почтовый перевод, как он это делал уже на протяжении полугода. Переводы эти были всегда на скромную сумму — не больше двадцати пяти долларов в неделю. Но их с лихвой хватало такому аскету, как Джон. Иногда он получал деньги на почте Роузбэнка, но чаще разменивал почтовый чек в своей любимой бакалейной лавке, когда выходил вечером подышать свежим воздухом.
В разговоре со своим соседом-счетоводом, который каждый вечер прогуливался у себя перед домом, выкуривая послеобеденную сигару, Джон, не кривя душой, признался, как мучает его эта плачевная история с братом, наверное, он, Джон, слишком уж погрузился в свои занятия и мало внимания уделял брату Джэсперу. Сосед уговаривал Джона почаще выходить из дому. Джон дал себя убедить — во всяком случае, он стал ежевечерне совершать недалекие прогулки и позволил нарушить свое ученое уединение молочнику и посыльным из мясной и бакалейной лавок. Он стал похаживать в библиотеку и в зале справочной литературы читал книги о Центральной и Южной Америке — как будто собирался в один прекрасный день туда уехать.
Но богословских занятий он не оставил. Можно было бы подумать, что до бегства Джэспера Джон не очень усердно трудился над своим исследованием Апокалипсиса. Во всяком случае, до сих пор свет был знаком только с небольшими отрывками, представлявшими собой беспорядочную смесь цитат из сочинений святых отцов. Потрясенный преступлением брата, он стал трудиться с гораздо большим усердием и постоянством. Весь год, в течение которого страховая компания мало-помалу отказалась от поисков Джэспера, придя к выводу, что его нет в живых, в душе Джона шла интенсивная, но загадочная работа. Дни и ночи он проводил в размышлениях, стал терять чувство реальности. И за тучами физического бытия ему стали мерещиться башни и стены духовного града.
Про Джэспера Холта говорили, что он не играет роль, а воплощается в своего героя. Но истинных размеров таланта этого артиста, погибшего в скромном банковском служащем, никто не узнал. Ему не рукоплескала толпа, зато он не остался без материального вознаграждения. Сыграв свою самую трудную роль, он получил за это наличными девяносто семь тысяч долларов. И, пожалуй, он их заработал. Право же, это было справедливое вознаграждение за весь риск, с каким сопряжена такая работа. Ведь Джэспер прикоснулся к тайне человеческой индивидуальности. И теперь ему грозила опасность совсем потерять себя, душой уподобиться Вечному Жиду, блуждать по земле живым мертвецом.
4
Узкие, длинные листья ив пожухли и опали после проливных октябрьских дождей. Кора полопалась и кое-где отвалилась, оставляя длинные глубокие раны, влажно желтевшие на темных стволах. За голыми деревьями подымались серые каменные стены дома, где жил Джон Холт. На черной мокрой земле рыже-бурой щетиной торчало былье. Кирпичи, вымостившие аллею, никогда не просыхали. Все в природе съежилось, поникло под холодным, сырым дыханием осени.
В серых сумерках по ивовой аллее прохаживался человек, такой же унылый, как все вокруг. Бессильная походка, шевелящиеся губы — знак постоянных одиноких размышлений. Поверх неглаженого черного пиджака и изжелта-серой манишки на нем было поношенное пальто с позеленевшим от старости бархатным воротником. Человек думал:
«Во всем этом что-то есть. Я начинаю прозревать, но я еще не понимаю смысла того, что является моему духовному взору! Я вижу свет сверхъестественного мира, и мысли о еде и сне кажутся мне смешными. Я сам себе закон! Я… я выше всех законов! Почему же мне не подняться над законами зрения и не заглянуть в тайны бытия? Да, я совершил грех и должен испытать раскаяние — когда-нибудь. Я не буду возвращать деньги. Я понял теперь: деньги посланы мне, чтобы я вел эту жизнь мыслителя. Но такая неблагодарность по отношению к директору банка, к людям, которые доверились мне… Может быть, я всего-навсего самый ничтожный из грешников, жалкий слепец? Голоса — я слышу противоречивые голоса, одни превозносят меня за мою дерзость, другие упрекают…»
Он встал коленями на черную мокрую доску низенькой садовой скамьи под ивами и в сгущавшихся осенних сумерках начал молиться. Ему казалось, что он молится не словами, а огромными смутными образами — словами языка, более могучего, чем все человеческие языки. Когда молитва совсем обессилела его, он медленно побрел домой. Запер за собой дверь на замок. Ему нечего было бояться. Но ему всегда было неприятно, когда дом был не заперт.
При свече он приготовил свой скудный ужин: гренки, яйцо, дешевый зеленый чай со снятым молоком. Как всегда, после еды ему захотелось выкурить сигарету, и, как всегда в эти полтора года, он не закурил, а пошел в гостиную и весь долгий тихий вечер читал старинную книгу, читал подробно, со всеми сносками и примечаниями о нумерологии в Книгах пророков и о числе апокалиптического зверя. Потом делал выписки для своей книги об Апокалипсисе — набралась уже целая стопка листов, исписанных витиеватым мелким почерком ученого-схоласта. Этим почерком он исписал уже тысячи страниц. Иногда он целыми ночами не выходил из-за письменного стола, но всегда ему казалось, что его перо не успевает угнаться за мыслями. И он безжалостно сжигал большую часть написанного.
Но придет день, и он создаст настоящий шедевр! Он ощупью продвигается к величайшему в истории открытию. Все в мире, установил он, решительно все физические явления, а не только тот или иной священный предмет являются символами. С ужасом и восторгом стал он испытывать новый способ предсказания. Лампа под потолком гостиной едва заметно качалась. Он прошептал:
— Если этот светлый круг, качаясь, коснется книжного шкафа, это будет знак, что я должен превратиться в другого человека, уехать в Южную Америку и истратить там мои деньги.
Дрожь пробежала по его телу. Лампа двигалась невыносимо медленно. Вот светлое пятно подошло к самому шкафу. Он затаил дыхание. Пятно, не коснувшись шкафа, поползло обратно.
Неужели он до конца дней своих обречен жить в этом приюте скорби и страха, который всегда представлялся ему таким надежным убежищем? И вдруг он все понял:
— Ища спасения, я укрылся в тюрьме! Не правосудие ловит человека — он ловит себя сам.
Он решил попробовать еще раз. Если карандашей на столе больше пяти, тогда он грешник, если меньше — значит, в самом деле законы писаны не про него. Он обыскал весь стол, поднимал книги, бумаги, ища карандаши. Он обливался холодным потом, мучаясь неизвестностью.
— Что это? Я схожу с ума? — вдруг воскликнул он. И побежал в свою спартанскую спальню. Но он не мог спать. В его воспаленном мозгу плясали мистические числа, и во всех окружавших его предметах ему чудились скрытые предзнаменования.
Он очнулся от полузабытья, в котором видения теснили его еще безжалостнее, чем наяву.
— Я должен пойти и признаться! — воскликнул он. — Но я не могу! Не могу! Я в тысячу раз умнее их всех. Я не могу позволить им восторжествовать над собой! Чтобы эти дураки взяли меня, не шевельнув и пальцем!..
С тех пор, как исчез Джэспер Холт, минуло полтора года. Иногда Джону казалось, что прошло всего полтора месяца, а иногда — что целые столетия. Душевные силы Джона были подточены его таинственными занятиями, мистическими упражнениями с оккультными таблицами, долгими бессонными ночами, когда он слышал, как столы стучали, а потрескивающие в очаге угли говорили. И вот уже вторая осень его затворничества сменяется зимой, а он по-прежнему здесь, а не в Южной Америке. У него не хватает энергии приступить к исполнению задуманного. Еще летом он гордо говорил себе, что скоро покинет это проклятое место и уедет на юг, заметя за собой следы, как один только он умеет. Но боже! — столько хлопот… Он не испытывал больше радости от актерского перевоплощения, которая вдохновляла его брата Джэспера, когда тот готовил свой побег.
Он убил Джэспера Холта. И из-за жалкой кучки бумажек, именуемых «деньгами», превратился в заплесневелого отшельника.
Он ненавидел свое одиночество, но еще больше он ненавидел своих спасающихся братьев: визгливую святошу-швею, угрюмого плотника, домохозяйку с поджатыми губами, старого крикуна с криво подстриженными бакенбардами. Ах, это были люди без всякого воображения! Их собрания до тошноты походили одно на другое: те же самые люди в том же порядке поднимались с места и произносили одни и те же слова, внушая господу, что они единственные его избранники на земле.
Сперва их уважение забавляло его, потом прискучило. Он стал возмущаться, как они смели равнять себя с ним — с единственным человеком на земле, который сумел отринуть все мирские иллюзии и познать блаженство, доступное только немногим возвышенным душам.
Это случилось в среду, в конце ноября, когда один красномордый собрат на молебствии в течение получаса уныло мямлил о том, что он, как член братства «Спасение», заведомо непогрешим. Джону Холту стало невыносимо скучно. Он не выдержал и вскочил.
— Мне тошно от вас от всех! — не выговорил, а прорычал он. — Вы так уверены, что вас посетила благодать божия, что почитаете себя непогрешимыми. Я тоже так считал! Теперь я знаю, что все мы жалкие грешники. И только! Вы твердите: я грешен, грешен, — но сами ни на минуту не верите этому. Я говорю это вам, всем вам, которые только что тут, бия себя в грудь, завывали, и тебе, брат Джадкинс, с длинным любопытным носом, и себе, Джону Холту, самому несчастному из смертных. Мы должны покаяться, исповедаться в своих грехах. Мы должны искупить их! И вот сейчас… здесь… я покаюсь перед вами… Я… я… украл…
Как громом, пораженный своими словами, он бросился вон из зала и, как был, без шляпы, без пальто, помчался по главной улице Роузбэнка, не останавливаясь, пока за ним не захлопнулась дверь его дома. Ужас охватил его: ведь он только что чуть не выдал своей тайны, но еще большее терзание испытывал он оттого, что, испугавшись, остановился на полуслове, не признался и не обрел покоя, который еще мог бы обрести, — покоя, приносимого возмездием.
Он больше не приходил на собрания братства. Он вообще никуда не выходил из дому целую неделю, не считая ночных прогулок по ивовой аллее. Но однажды он вдруг почувствовал, что больше не в силах переносить молчание пустого дома. Он выбежал из дому, забыв запереть дверь и даже притворить ее. Он бежал в город, без пальто, в своем ветхом черном костюме и старой садовничьей кепке на рыжеватых, растрепанных волосах. Люди смотрели ему вслед, и он испытывал бессильное бешенство.
Он вошел в кафе, мечтая посидеть за столиком и чтобы кругом разговаривали нормальные люди, не обращая внимания на него. Но бармен у стойки, увидев его, обомлел. Из-за кассы раздалось:
— Глядите-ка, да это никак безумный отшельник!
Пять-шесть парней у стойки выпялили на него глаза. Ему стало так неуютно, что он не смог выпить молока и съесть сандвич, которые заказал. Оттолкнув поднос, он выбежал на улицу. Так печально закончилась его первая за полтора года попытка позавтракать и посидеть на людях — безнадежная попытка воскресить Джэспера Холта, которого он сам так хладнокровно убил. Потом он зашел в табачный магазин и купил коробку сигарет. Он испытывал наслаждение, попирая свой аскетизм. Но когда на улице он раскурил сигарету, у него так закружилась голова, что он чуть не упал и должен был сесть на обочину тротуара. Стала собираться толпа. Он с трудом поднялся на ноги и через силу побрел домой.
Он шел долго и всю дорогу строил самые противоречивые планы: то он решал пойти в банк и во всем признаться, то воображал, как будет жить, швыряя деньгами направо и налево, и никогда никому не признается.
Домой он добрался за полночь.
У дома он в изумлении остановился. Входная дверь была распахнута настежь. Вспомнив, что сам не запер ее, он успокоился и не спеша вошел в дом. Не заходя в гостиную, он направился к лестнице, ведущей в спальню. Неожиданно ему под ногу попался какой-то предмет размером с книгу, но по звуку пустой. Он поднял его. Это была похожая на книгу конфетная коробка. И совсем пустая. Он испуганно прислушался. В доме было тихо. Он прокрался в гостиную и зажег свет.
Дверцы книжного шкафа были сорваны. Все книги валялись на полу. Конфетные коробки, которые еще утром содержали девяносто шесть тысяч долларов, лежали стопкой. И все были пустые. Десять минут он шарил по комнате. Бумажка в пять долларов, завалившаяся под стол, — вот все, что он нашел. В кармане у него был один доллар и шестнадцать центов. Итак, у Джона Холта осталось всего шесть долларов шестнадцать центов и при этом ни друзей, ни работы, ни настоящего имени.
5
Когда директору Национального Лесного банка сказали, что его ждет Джон Холт, он нахмурился.
— О господи! Про него-то я совсем забыл! Он у нас не был пожалуй что с год. Пусть войдет. Хотя нет. Не надо. Скажите ему, что я сейчас очень занят и не могу его видеть. Если, конечно, у него нет новостей о Джэспере. Порасспросите его.
— Я очень сожалею, — нежно улыбнулась Джону секретарша директора, — но у директора сейчас совещание. У вас к нему какое-нибудь дело? Нет ли новостей о вашем брате?
— Новостей нет, мисс. Я пришел к директору, выполняя волю господню.
— Ох, вот оно что! Тогда, боюсь, я не смогу побеспокоить господина директора.
— Я подожду.
И он остался ждать. Он ждал все утро, ждал в обеденные часы — один раз директор быстро прошел мимо него и вернулся, — ждал до вечера, пока директор окончательно не потерял способность о чем-либо думать, кроме этого пугала у себя в приемной, и велел его позвать.
— Здравствуйте, Джон. Какое у вас ко мне дело? Я очень сегодня занят. Есть какие-нибудь новости о Джэспере?
— Новостей никаких, сэр. Есть зато сам Джэспер! Я Джэспер Холт! Его вина — моя вина!
— Да, да. Я помню всю эту чепуху. Родные братья, родные души, общая вина…
— Вы не поняли. Нет никакого брата. Нет никакого Джона Холта. Я — Джэспер. Я выдумал брата-близнеца, переоделся… Неужели вы не узнаете моего голоса?
Джон, упираясь ладонями, с выжидательной улыбкой перегнулся через стол, но директор только покачал головой.
— Нет, не узнаю, — мягко сказал он. — Это голос честного, благочестивого Джона. Джэспер был веселый малый и ловкий мошенник. Его смех…
— Послушайте, я засмеюсь, и вы сейчас же узнаете меня!
Хриплый смех Джона походил на крик больной выпи. Директор банка содрогнулся. Его пальцы искали сбоку стола кнопку, которой он вызвал секретаршу.
Но Джон убеждал:
— Посмотрите на мои волосы. Это парик. Теперь вы видите, что я Джэспер?
Он сдернул с головы рыжеватую копну. И боязливо выпрямился.
Директор в первую минуту растерялся. Потом покачал головой и вздохнул.
— Бедняга Джон! Парик париком. Но и ваши собственные волосы нисколько не похожи на волосы Джэспера.
Он указал на зеркало в углу.
Джон, пошатнувшись, шагнул в зеркалу. У Джэспера были жидкие, гладко прилизанные черные волосы. А Джон увидел влажные седые космы, примятые на желтом черепе.
— Неужели вы не видите, что я Джэспер? — в отчаянии взмолился Джон. — Я украл девяносто семь тысяч долларов из вашего банка. Я хочу понести наказание. Что надо сделать, чтоб доказать? Я бывал в вашем доме. Вашу жену зовут Эвелина. Я получил от вас…
— Мой дорогой Джон, все эти интересные факты вы могли узнать у вашего брата. Боюсь — вы уж простите меня за прямоту, — что от этой несчастной истории вы немножко повредились в уме, милый Джон.
— Нет никакого Джона! Нет! Нет! И не было!
— Я бы поверил этому, если бы никогда не видал вас до исчезновения Джэспера.
— Дайте мне лист бумаги. Вы знаете мою руку…
Цепкими скрюченными пальцами он схватил банковский бланк и попробовал писать округлым канцелярским почерком Джэспера. За последние полтора года он покрыл тысячи страниц мелким витиеватым почерком Джона. И сейчас, как он ни старался, выведя три слова большими дрожащими буквами, он перешел на густую, неразборчивую вязь Джона.
Джон еще не положил пера, а директор уже с облегчением говорил ему:
— Боюсь, что и это не поможет. Джэспер писал совсем по-другому. Послушайте, Джон, что я вам посоветую. Уезжайте из Роузбэнка, поселитесь где-нибудь на ферме. Физический труд, свежий воздух. Все ваши тревоги и беспокойства как рукой снимет. — Директор встал и ласково прибавил: — А теперь, боюсь, я должен вернуться к работе.
Он помолчал, дожидаясь, пока Джон уйдет.
Джон яростно скомкал листок бумаги и швырнул его на пол. В его перетруженных глазах блеснули слезы.
— Неужели я ничем не могу доказать, что я Джэспер Холт? — простонал он.
— Почему же нет? Можете. Верните то, что осталось от девяносто семи тысяч долларов.
Джон вынул из кармана старенькой жилетки пятидолларовую бумажку и горсть мелочи.
— Вот все, что от них осталось. Вчера вечером из моего дома украли девяносто шесть тысяч.
Как ни жаль было директору бедного безумца, он не мог удержать улыбки. Тут же справившись с собой, директор попытался выразить сочувствие:
— Да, вам здорово не повезло, старина. Ну что ж, может, у вас живы родители, какие-нибудь родственники, кто мог бы подтвердить, что у Джэспера не было брата-близнеца?
— Мои родители давно умерли. Родню всю я растерял. Я ведь родился в Англии. Отец приехал сюда, когда мне было шесть лет. Возможно, в Англии соседи или дальние родственники могли бы… Я не знаю. Сейчас, с войной, наверное, и не выяснишь. Пришлось бы ехать туда…
— Ну, значит, ничего не поделаешь, старина. — Директор нажал кнопку звонка. Вошедшей секретарше он мягко сказал:
— Проводите, пожалуйста, мистера Холта.
В дверях Джон еще успел крикнуть:
— Мою машину можно найти…
Дверь захлопнулась. Директор не слушал.
Он «отдал распоряжение никогда, ни при каких обстоятельствах не пускать к нему больше Джона. Потом позвонил в страховую компанию и предупредил их, что Джон Холт сошел с ума и что разговаривать с ним бесполезно.
Но Джон не пошел туда. Он отправился в городскую тюрьму. Прошел в канцелярию и спокойно сказал:
— Я украл большую сумму денег. Но не могу этого доказать. Не посадите ли вы меня в тюрьму?
— Убирайся отсюда! — закричал на него начальник тюрьмы. — Вы, бродяги, всегда что-нибудь такое придумаете, когда вам нужна теплая, бесплатная квартира на зиму. Почему, черт бы вас побрал, вы не хотите поработать лопатой на песчаных карьерах? Там платят в день два доллара семьдесят пять центов.
— Слушаю, сэр, — кротко ответил Джон. — Скажите только, как туда проехать?
1918МОТЫЛЬКИ В СВЕТЕ УЛИЧНЫХ ФОНАРЕЙ
1
Бейтс лежал и пристально смотрел на стоявшую на письменном столе лампу под зеленым абажуром, и вдруг с отвращением сообразил, что несколько часов проспал на кожаном диване в своей конторе. Глаза у него болели, во рту пересохло. Он встал пошатываясь и взглянул на часы. Было три часа утра.
— Идиот, — сказал он себе.
Он доплелся до окна; двенадцать этажей отделяло его от нью-йоркских мостовых. Сонная одурь, словно ватой окутывавшая его сознание, развеялась при виде красоты ночного города. Было очень тихо, насколько это вообще возможно в Манхэттене. Смолкли трамваи, не слышно было скрежета стальных балок на строительстве в соседнем квартале. Только одинокий таксомотор глухо прошумел внизу на темной мостовой. Бейтс смотрел поверх моря крыш в сторону Ист-ривер, туда, где линия топазовых огней дугообразно изгибалась над мостом. Небо было не темным — оно сияло синевой, той ослепительной, чистой, необыкновенной синевой, на фоне которой звезды кажутся золотыми.
— А впрочем, почему бы мне и не переночевать здесь? Досплю на диване, а утром еще до завтрака возьмусь за нью-бедфордские спецификации. Мне ведь ни разу не случалось провести в конторе целые сутки. Вот и попробую!
Он произнес это самодовольным тоном, свойственным преуспевающим людям, но потом, усевшись на диван и сняв пиджак и ботинки, добавил:
— А все-таки жаль, что ни одну живую душу на свете не интересует, вернусь я ночевать домой или исчезну на целую неделю.
Когда в контору пришла первая стенографистка, она застала Бейтса за работой. Но ведь он часто приходил раньше всех. Он никому не рассказал о том, что в предрассветный час этот обуянный торгашеским духом город превращается в сине-золотое видение. Не было никого, кто мог бы вызвать его на такую откровенность.
Тридцатипятилетнему Бейтсу мир представлялся сооружением из железобетона, где роль материков и морей исполняли перегородки конторы и чернильницы, которые служили лишь для того, чтобы подписывать письма, начинающиеся словами: «В ответ на Ваш запрос от седьмого числа сего месяца…». Целых пять лет он не видел, как за грядой холмов сгущаются грозовые тучи и как в сумерки над лугами мелькают белые мотыльки. Ему казалось, что мотыльки вьются только вокруг уличных фонарей и цветы растут не на полях, а в вазонах, украшающих ресторанные столики. Он был истый горожанин и деловой человек. Самым естественным пейзажем, на его взгляд, были бумаги, телефонные звонки и двенадцатый этаж, где он находился с восьми тридцати утра до шести вечера, а величайшее торжество цивилизации заключалось в том, чтобы заставить еще одну компанию городского транспорта ввести стоп-сигналы.
Но он принадлежал к новому поколению деловых людей. Он ничем не напоминал дельцов старой школы, которые любили похваляться, что не очень-то разбираются в книжной премудрости, и которых невозможно себе представить без традиционного котелка, где бы они ни находились: в конторе, в машине или у себя в постели. Стройный, всегда безупречно одетый, с усиками, похожими на подведенные брови, он был вежлив, как самая благовоспитанная дама, но вместе с тем тверд в своих решениях, как скала.
Когда Бейтс по окончании колледжа приехал в Нью-Йорк, он думал, что будет вращаться в изысканном обществе и посещать оперу. За четырнадцать лет он был в опере шесть раз, время от времени обедал с приятелями в Йельском клубе, знал по именам двух соседей по дому, ходил на платные балы и ухаживал за девушками, которые уже успели всем примелькаться. Но Нью-Йорк — это похититель друзей: за один вечер в ресторане нетрудно познакомиться с двадцатью новыми людьми, и за один день легко потерять двадцать старых знакомых. У вас есть добрый приятель; он женится и переезжает в Грейт-Нек; отныне вы встречаетесь с ним раз в два года. Когда Бейтсу перевалило за тридцать, его стала все больше и больше поглощать контора — там он всегда был нужен, и там его ценили.
Бейтс перешел из одной автомобильной компании в Компанию Тормозных Устройств. Он пробыл год в Лонг-Айленде, на заводе, производящем стоп-сигналы для Восточных штатов, и усовершенствовал механизм включения. К тридцати пяти годам Бейтс добился успеха. Но всякий раз, обедая в одиночестве, он жалел, что нет девушки, которая настолько бы ему нравилась, чтобы хотеть к ней зайти.
Наблюдая в течение четырнадцати лет дочерей Нью-Йорка, падких на конфеты, кабаре и завидных женихов, Бейтс сделался дьявольски осторожным. К любой дебютантке он относился, как летчик к снаряду зенитной артиллерии. Не лучше чувствовал он себя и с более зрелыми женщинами. Те рассуждали об экономике. Бейтсу после окончания колледжа как-то довелось тоже прочитать книжку, целиком посвященную вопросам экономики, но, поскольку он никак не мог вспомнить ее названия, это не слишком помогало ему вести глубокомысленные разговоры.
Он предпочитал беседовать со своей стенографисткой. С ней он никогда не заводил речь об ужинах с вином или о ее больших черных глазах. «Прислал чертежник синьки для Кэмдена?» или «Надо поспешить с ответом Мак-Гульдену». Вот это настоящий разговор. В нем есть какой-то смысл.
Потом собеседницей Бейтса стала девушка в здании напротив. Это здание заменяло ему сцену, и он наблюдал за ним, совсем как старая дева, которая, прячась за кружевной занавеской, следит за всеми, кто проходит по деревенской улице. Здание покоряло той архитектурной осмысленностью, благодаря которой американские города начинают приобретать особую прелесть, уже не заимствованную у французских замков и английских гостиниц. Архитектор знал, что проектирует не отель и не голубятню, а дом, где разместятся конторы. Он решительно покончил с лепными капителями, которые ничего не поддерживают, и с мраморными украшениями, которые якобы воспроизводят геральдические щиты, а на деле больше всего напоминают гигантские тазики для бритья. Он создал здание чистое, прямое и честное, как клинок шпаги. Глядя на этот дом, Бейтс радовался, что он деловой человек.
Здание почти сплошь состояло из стекла, и конторы были так же доступны обозрению, как клетки на выставке собак. Бейтс знал по виду всех мужчин и женщин в двадцати комнатах. Сидя за своим столом, он, правда, ничего не видел, но отдыхать он любил, стоя у окна. Он наблюдал, как в половине девятого или в девять в конторы приходят служащие, как они курят и болтают, прежде чем приняться за работу, как усаживаются за столы, как в час обеденного перерыва встают с мест, разминая затекшие ноги, а вечером, обалдевшие и молчаливые, выключают свет, прежде чем уйти домой. Когда Бейтс поздно засиживался в конторе, ему не бывало тоскливо, потому что он знал: у настольных ламп в конторах напротив непременно сидят два-три человека.
Он сочувствовал мальчишке-рассыльному, на которого постоянно кричал рыжеусый хозяин конторы на одиннадцатом этаже, и возмущался мальчишкой с тринадцатого этажа, который воровал марки. Он потешался, глядя, как некий клерк на одиннадцатом этаже ровно в шесть часов вечера облачается в парадный костюм, прыгая на одной ноге, чтобы не волочить по полу брюки, а после этого торжественно достает из верхнего ящика письменного стола крахмальный воротничок и галстук. И он был искренне опечален, когда на его «деревенской улице» случилось большое несчастье: бойкая, хорошенькая секретарша управляющего из конторы на двенадцатом этаже, как раз напротив его окон, несколько дней не приходила на работу, а потом на ее столе появился траурный венок.
Новая секретарша, сменившая умершую, по всей вероятности, появилась сразу же, но Бейтс заметил ее только через неделю. Это была одна из тех недель, когда он разрывался между неотложным делом А и неотложным делом Б, кидался от дела Б к делу В, когда не успевал он подумать, что наступила минутная передышка, как уже раздавался телефонный звонок или приносили телеграмму, когда каждый вечер он переписывал перечень дел, которые должен был выполнить еще позавчера, и рай представлялся ему в виде стального склепа без единого телефона. Но вот буря кончилась, и единственным его занятием стало бродить по конторе и, пытаясь сохранить назидательно-деловой вид, наблюдать, как трудятся стенографистки и бездельничают мальчишки-рассыльные.
Строгий и подтянутый, он праздно сидел в кресле у окна, курил сигару и, сам того не замечая, разглядывал здание на противоположной стороне улицы. Он видел и не видел, как управляющий в конторе напротив диктует новой секретарше, тоненькой девушке в платье из синей тафты с накрахмаленным белым воротником и манжетами. Она не распластывалась над настольным блокнотом, но и не сидела с неумолимо-мрачным лицом, как пожилая машинистка этажом выше. На расстоянии она казалась на редкость деловитой. В этом улье, доступном обозрению Бейтса, она выделялась прелестными прямыми плечами и решительной походкой, которую Бейтс имел возможность наблюдать, когда она, встав из-за стола управляющего, направилась за перегородку — нелепо тонкое, на взгляд Бейтса, сооружение из дуба и стекла — и там, не теряя ни минуты, села за машинку и принялась печатать.
Бейтс забыл о ней, но, когда наступили сумерки, весенние сумерки, и он, задержавшись без особой нужды в конторе, стоял у окна и слегка грустил, потому что не было такого места, куда ему хотелось бы пойти в этот вечер, он вновь ее заметил. Ее шеф и она тоже засиделись в конторе. Бейтс видел, как они разговаривают, как шеф подписывает бумаги, передает их ей, потом прощается, берет свой котелок, зевает, выходит из кабинета в приемную и, по-видимому, направляется к лифту. Секретарша проворно собрала бумаги, но, подойдя к своему столу, стоявшему у самого окна, остановилась, прижала ладонь к глазам, потом резким движением отвела руку, совсем как медиум, выходя из транса.
— Бедные усталые глаза! — неожиданно для себя пробормотал Бейтс.
Ни аромат цветущих яблонь, ни веселый щебет птиц не доносился из пригородов, где победно правила весна, до этих одетых цементом улиц. Но в неумолчном городском шуме было что-то неспокойное, и пока Бейтс смотрел, как темнеет здание напротив, выделяясь силуэтом на фоне закатного неба, его грусть сменилась щемящим чувством одиночества. Он стремился к этой волнующе независимой девушке и представлял себе свой разговор с ней. Через пять минут она ушла; он помедлил у окна, потом побрел в Йельский клуб обедать.
Спору нет, жизнь постепенно делала Бейтса эгоистом. Но в этот вечер, слушая смертельно скучную оперетку, он вдруг поймал себя на утешительной мысли, что глаза у девушки теперь, наверно, отдохнули.
На следующее утро, едва придя на работу, он сразу стал высматривать девушку и остался недоволен расположением небесных светил, потому что утром в конторе напротив было гораздо темнее, чем днем.
Только в три часа он окончательно разглядел, что на девушке блузка из плотного золотистого шелка и что, несмотря на некоторую нервность движений, шея у нее округлая и нежная. Накануне вечером он думал, что ей лет двадцать восемь. Теперь он дал бы ей двадцать три. Он вздохнул: «Видно, способная девушка, и походка у нее грациозная. Если бы моя секретарша проявляла такой же интерес к работе… Кого бы мне пригласить сегодня пообедать?»
2
Он видел, как она приходит в контору в девять утра, откалывает шляпку и, глядя на свое отражение в матовом стекле перегородки, мгновенно приводит в порядок волосы. Он видел, как по утрам она стенографирует, проводит посетителей к управляющему. Видел, как в полдень, всегда одна, она выбегает позавтракать, как к концу рабочего дня ее быстрые, уверенные движения становятся вялыми, как по вечерам она собирается домой или засиживается допоздна, и даже ее прямые плечи сутулятся, когда она медленно отстукивает на машинке последние фразы. На протяжении всего дня он наблюдал за ней, и, хотя не знал ни ее имени, ни семьи и никогда не слыхал ее голоса, он понимал ее лучше, чем большинство мужчин понимают женщин, на которых они женятся.
Служащие конторы относились к ней с уважением. Они раскланивались с ней утром и вечером. Они никогда не позволяли себе подшучивать над ней, как подшучивали над вертлявой телефонисткой. Все это занимало Бейтса, но прошло много недель, прежде чем эта девушка вошла в его жизнь.
Как-то к вечеру, в начале лета, когда руки у него дрожали от усталости, а глаза превратились в раскаленные угли оттого, что он переусердствовал, изучая спецификации, когда все на свете словно сговорились играть на его обнаженных нервах и он жаждал, чтобы кто-нибудь любовно позаботился о нем, промыл его глаза и отвлек внимание от бесконечных кроваво-красных цифр, выпрыгивавших из черноты, как только он закрывал воспаленные веки, он поймал себя на том, что отыскивает взглядом окно, страстно желая еще хоть раз мельком увидеть ее, единственное человеческое существо, которое он по-настоящему знал.
«Неужели она посмела уйти? Я… да я просто с места не сдвинусь, пока не увижу ее!»
Она стояла у окна — читала какое-то письмо. Она подняла голову и поймала его взгляд. Мистер Бейтс нахлобучил шляпу и с достоинством прошествовал к двери. Он явно был не способен на такую низость, как подглядывание в окна чужих контор. Его покоробило от этого слова. Да, разумеется, он никогда и не подглядывал, высокомерно заявил он себе, ковыряя бифштекс, который ничем не отличался от десяти тысяч бифштексов, покорно съеденных им в ресторанах. Впредь он будет вести себя осмотрительнее, чтобы никто, случайно войдя к нему, не мог превратно истолковать его привычку отдыхать, стоя у окна. Он никогда и не посмотрит больше в сторону этого дома!
А наутро, когда на столе у него лежали три нераспечатанные телеграммы и пришедшее с опозданием письмо из Бирмингамской Транспортно-Энергетической Компании, он стоял у окна и с восхищением рассматривал в окне напротив новую шляпку — затейливый рог изобилия из голубой соломки, — которую девушка снимала с гладко зачесанных волос.
Существует несколько способов бросить курить. Можно держать табак в ящике стола в соседней комнате, запирать ящик и прятать ключ. Можно ограничить количество сигарет и курить строго по расписанию. Можно самому не покупать сигарет и курить только те, что удастся выпросить у друзей. Все эти способы апробированы авторитетами, и единственный их недостаток заключается в том, что ни один из них не поможет вам бросить курить.
Точно так же существует много способов, чтобы удержаться от изучения архитектуры здания на противоположной стороне улицы. Можно уверить себя, что служащие чужих контор вас не интересуют и вы знать о них ничего не желаете. Можно отдыхать, сидя на диване, а не стоя у окна. Единственный недостаток всей этой умственной гимнастики заключается в том, что вы продолжаете искать глазами девушку в здании напротив и…
И вы чувствуете себя последним негодяем, когда невольно оказываетесь свидетелем ее минутной слабости, от которой у вас сжимается сердце. Вот она твердым шагом выходит из кабинета управляющего, хладнокровная, сильная, уверенная в себе, затем, подойдя к своему столу, как-то вся сникает и несколько напряженных мгновений сидит, прижав тонкие пальцы к пульсирующим вискам.
Всякий раз при виде этого жеста он забывал про свою наивную игру. Через глубокое ущелье улицы его мысли устремлялись к ней и витали вокруг нее, свободные от всяких мелочных забот: конторских дел, бифштексов, оперетт, составлявших для него в последние годы смысл жизни.
С волнующей ясностью он ощущал, как кончики его пальцев ласково гладят ее лоб, ощущал на ладони холодок испаряющегося спирта, когда мысленно смачивал одеколоном ее затылок.
Он отказался от попытки не подсматривать и вести себя, как приличествует джентльмену. Он стал задумываться над тем, что во всяких метафизических теориях, возможно, и в самом деле есть какой-то смысл и, может быть, он, Бейтс, шлет в дом напротив токи доброжелательства, чтобы подбодрить эту хрупкую, мужественную девушку, которая выбивается из сил, стараясь стать деловой женщиной. При этом он забыл, что, стоя у окна, он так же хорошо виден ей, как и она ему. И вот однажды вечером, когда он не таясь смотрел на девушку, она поймала его на месте преступления и резко отвернулась.
Бейтс был огорчен, потому что огорчил ее. Он, привыкший все воспринимать с позиции холостяка Бейтса, неожиданно для себя стал смотреть на мир ее глазами, словно его душа растворилась в ее душе. С внезапной болью он как бы услышал ее сетования: мало того, что приходится целый день напряженно работать, — в этом стеклянном доме некуда спрятаться от нескромных взглядов. Он хотел защитить ее — защитить от самого себя.
Целую неделю он ни разу не подходил к окну, даже чтобы бросить взгляд вниз, на улицу, за которой он привык наблюдать, точно отшельник, созерцающий суетливую жизнь долины из своей хижины на высокой горе. Ему недоставало знакомого зрелища, и он этому радовался. Он жертвовал чем-то ради кого-то. Он снова чувствовал себя человеком.
Да, Бейтс уже не стоял у окна, но просто удивительно, сколько раз в день он проходил мимо него и как поневоле замечал все происходящее в конторе напротив. Часто он видел, что девушка смотрит на него. Как только она отрывалась от работы, их глаза встречались, словно ее притягивал взгляд Бейтса. Но никакого кокетства в этом не было, считал он. Издали она казалась недоступной, как маленькая холодная зимняя луна.
Снова наступил день, похожий на безумный вихрь. Бейтса рвали на части. Телеграммы летели вслед за телеграммами. На заводе не хватало сырья. Две стенографистки поссорились, и обе ушли, а бюро, куда он обратился, никого не могло порекомендовать, кроме каких-то несуразных чучел, не умеющих пишущую машинку отличить от стиральной машины. Когда контора опустела, а ему оставалось просидеть за письменным столом еще каких-нибудь семь часов, он вдруг обессилел. Руки беспомощно опустились, он тяжело дышал. Все поплыло перед глазами, и голова склонилась на грудь.
— А ну, не раскисать! — пробормотал Бейтс. Он с усилием встал, похлопал себя по плечам и вдруг очутился у окна. Там, напротив, девушка собиралась домой. Непроизвольно, в надежде, что единственный сотоварищ по работе ответит на его приветствие, он помахал ей.
Она заметила его жест. Она стояла с поднятыми руками, прикалывая шляпку, и смотрела на Бейтса. Затем отошла от окна, так и не ответив ему. Неожиданно Бейтса взорвало. «Я заставлю ее заметить меня. Я не какой-нибудь оконный любезник и не желаю, чтобы обо мне так думали!»
Злость вызвала у него прилив энергии, и он снова начал работать. Отрываясь каждые четверть часа, чтобы дать отдых усталым глазам, он изучал судебный иск и делал заметки. Пробило восемь… потом девять… десять… Бейтс чувствовал слабость, хотя не был голоден. Он встал и с удивлением убедился, что ему хорошо. Он принялся отыскивать источник своей радости и нашел его. Он спустит к себе на землю эту девушку, эту замороженную луну.
Утром Бейтс вошел в свой кабинет и остановился у окна, ожидая, пока она поднимет голову. Он помахал рукой — это было коротенькое, скромное, дружелюбное приветствие. С тех пор каждое утро и каждый вечер он посылал в окно напротив свою мольбу о дружбе. Девушка никогда не отвечала, но наблюдала за ним и… ну, в общем, ни разу не опустила шторы.
В июле у Бейтса был отпуск. Сам не зная почему, он не захотел на этот раз ехать в чопорный приморский отель, где обычно проводил три недели, вежливо беседуя с пожилыми тетушками, которые, судя по их туалетам, желали сойти за собственных племянниц, и неизменно убеждаясь, что как игрок в гольф он мелко плавает. Неожиданно он взял курс на Лебанон-Вэлли — тихий и мирный уголок — и там обнаружил, что на свете все еще существуют густые сливки, лесная смородина, цветы калужницы и что одышка совсем не обязательна при быстрой ходьбе. Он носил рубашки с мягкими воротничками и сильно загорел. Его перестало волновать то обстоятельство, что Междугородная Транспортная Компания прекратила платежи, и порой он даже смеялся, слушая рассказы хозяина гостиницы.
По крайней мере десятая часть его мыслей была занята тем, как лучше обставить отдых девушки из здания напротив. Она будет лежать, погрузив свои нервные руки в высокую траву; синее, как васильки, небо и смешные пухлые облака принесут ей исцеление. Устроив все наилучшим образом, Бейтс всякий раз вспоминал, что ей, поскольку она работает в этой конторе недавно, полагается, вероятно, всего лишь пятидневный отпуск. Обливая себя ядовитым презрением, он говорил, что только последний дурак может думать о девушке, о которой ему известно лишь то,
что она, по-видимому, хорошая стенографистка,
что она грациозна,
что издали кажется, будто у нее изящный овал лица,
что ей от шестнадцати до сорока лет,
что она не мужчина.
Последний пункт не вызывал у него сомнений.
Бейтс был полон такого неколебимого благоразумия, что к концу отпуска девушка почти испарилась из его памяти. Он вылечился от сентиментальных настроений. Теперь ему казался забавным его роман на фоне железобетона — этот танец мотыльков в холодных лучах уличного фонаря. После отпуска он… он непременно побывает у Кристин Пэриш. Кристин была сестрой его одноклассника; она хорошо танцевала и говорила все, что полагается говорить об особняках на Парк-авеню и новых спектаклях на Вашингтон-сквер.
Он вернулся в город в понедельник, к концу рабочего дня, и сразу помчался в контору, чтобы оповестить о своем возвращении. Бросился к себе в кабинет, подошел к окну. Девушка в конторе напротив водила пальцем по странице какой-то книги, вероятно, отыскивая номер телефона. Она взглянула в окно, поднесла палец к губам. Шляпа мигом слетела с головы Бейтса, и вот он уже кланяется и машет ей. Она замерла с наполовину поднятой рукой, потом вскинула ее, посылая ему приветствие.
Бейтс сел за письменный стол. Служащие конторы, которые явились с докладом или просто для того, чтобы тактично напомнить о своем существовании, впервые видели его таким жизнерадостным. Когда они ушли, Бейтс попытался вспомнить, как он собирался провести вечер. Ах да, повидать Кристин Пэриш. Бог с ней! Успеется. Он подошел к окну. Девушка ушла, но в темном окне, казалось, мерцал бледный призрак ее приветствия.
Бейтс пообедал в новом Йельском клубе, а потом сидел на крыше в обществе двух соломенных вдовцов и младшего брата Бэнка Селби — юнца, который только весной окончил колледж. Город внизу пылал огнями, как лесной пожар. Бродвей казался огненной полосой; вдали за Ист-ривер изрыгала языки пламени доменная печь. Отели «Билтмор», «Риц», «Белмонт», здания оперы и центрального вокзала с их ослепительно сверкающими нижними этажами и темными массивами и кое-где вдруг взметнувшейся вверх белой стеной казались более таинственными, чем венецианские палаццо в карнавальную ночь. Бейтс любил огненную красоту этого города; он радовался своему возвращению, и вдруг, непонятно откуда, у него возникло ощущение, что осень и зима принесут ему бесчисленные победы и нескончаемое счастье. Только когда Бейтс впервые приехал в Нью-Йорк, он смотрел вперед с таким же ликующим нетерпением. И вот опять будущее не было заранее расписано, казалось туманным, исполненным духа приключений.
— Здорово отдохнул… Побездельничал вволю… Купили медные акции? — Вот и все, что услышали от него мужчины, которые с ним курили.
Но они смотрели на него с любопытством.
— Похоже, что ты неплохо провел время. Чем ты там занимался? Обставил, что ли, Мак-Лефлина в теннис?
Юный брат Бэнка Селби, только что окончивший колледж и не успевший окончательно отупеть и потерять воображение, отважился сказать:
— Послушай, Бэнк, держу пари, что твой друг, мистер Бейтс, влюбился…
— Чушь! — сказал Бэнк, толстокожий, как все женатые люди. — Бейтси? Как бы не так! Он на женщин и не смотрит.
3
На следующее утро без двух минут девять Бейтс стоял у окна. Вошла стенографистка с письмами и телеграммами.
— Оставьте все на столе, — сказал он раздраженно.
В полминуты десятого в окне напротив вырисовалась фигура девушки. Бейтс помахал ей. Она кивнула в ответ. Затем повернулась к нему спиной. Тем не менее, разбирая почту, он что-то мурлыкал себе под нос.
С тех пор она всегда отвечала на приветствие Бейтса и, более того, иногда в течение дня бросала на него быстрые взгляды. Она смотрела на него лишь какую-то долю секунды, но теперь, просыпаясь по утрам, он уже нетерпеливо ждал этого. Его заржавевшее воображение, скрипя, заработало, он начал придумывать про нее всякие истории. Он был убежден, что при всех обстоятельствах она должна быть совершенно непохожей на заурядных, добродушных женщин из его конторы. Она была окутана тайной. Бейтс наградил ее семьей: у нее сухощавый и изысканный отец с орлиным носом, классическим образованием и ошеломляющей способностью менять профессии, поскольку, по одной версии Бейтса, он был епископ, по другой — ректор колледжа, по третьей — разорившийся миллионер.
Бейтс назвал девушку Эмили, ведь в этом имени заключалось все то, что невозможно выразить с помощью пишущих машинок и картотек. С Эмили воображение связывало пахнущие лавандой ящики комода, старинную парчу, вечерние сады с кустами алых роз, окропленных росой, просторные залы, белые панели стен и книги у камина. И не кто иной, как Бейтс, всегда возвращал ее в эти просторные залы со старинной парчой и в объятия ее отца — профессора-епископа-миллионера. Но как раз из-за этих фантазий Бейтс боялся встретиться с ней лицом к лицу, он боялся услышать ее голос, — вдруг первые незабываемые слова этой дамы с алыми розами будут: «Эй, вы, послушайте! Вы не тот ли парень, который пялит на меня глаза? Надо же, какой нахал!»
Однажды, когда Бейтс — хладнокровный и преуспевающий — степенно выходил из подъезда, он вдруг увидел, что и она выходит из подъезда напротив, и тут же нырнул обратно в вестибюль. Избежать встречи с ней было нетрудно. Два этих дома были подобны двум городам. В здании Бейтса работало две тысячи человек, в здании напротив — тысячи три, и в людских потоках, которые бурно изливались по вечерам на улицу, отдельные люди были так же неразличимы, как неразличимы солдаты в стремительно отступающей армии.
Только в конце октября он впервые разглядел выражение ее лица и впервые сквозь разделяющее их холодное, пустое пространство уловил ее улыбку. Дни становились короче, и электричество включали задолго до окончания работы, а при искусственном свете он видел ее яснее, чем при дневном.
С последней почтой Бейтс получил письмо из управления фирмы, в котором его уведомляли, не скупясь на похвалы, что впредь он будет получать на тысячу долларов в год больше. Всем на свете известно, что, когда вице-президентам повышают оклад, они в отличие от мальчишек-рассыльных ведут себя вполне благопристойно. Но как бы то ни было, Бейтс сначала помчался к двери, чтобы проверить, не идет ли к нему кто-нибудь, а потом несколько раз прошелся фокстротом вокруг стола. Он бросился к окну. Ему пришлось проделать это путешествие четыре раза, прежде чем она взглянула на него. Он стал размахивать письмом, чтобы привлечь ее внимание. Она сидела к нему вполоборота, и ему был виден только ее профиль, позолоченный светом лампы. Он протянул к ней руку с письмом и стал водить пальцем по строчкам, как бы читая вслух. Окончив чтение, он захлопал в ладоши и издал ликующий возглас.
Ее изящно очерченное, спокойное лицо дрогнуло, губы приоткрылись, она улыбнулась, закивала, захлопала в ладоши…
— Она… она… она все понимает! — задохнулся от радости Бейтс.
Он заметил, что иногда она не уходит в кафе, а тут же, за своим столом, съедает принесенный в коробочке завтрак — какой-нибудь пирожок, который она жует, задумчиво поглядывая на улицу; что по пятницам — потому ли, что в эти дни много работы, или потому, что ее недельное жалованье подходит к концу, — она всегда остается в конторе и что завтракает она ровно в двенадцать. Как-то в начале зимы, в одну из пятниц, он попросил хозяйку приготовить ему сандвичи и налить в термос кофе. Он знал, что его подчиненные с их неугасающим интересом к любым чудачествам шефа будут недоумевать, почему он завтракает в конторе… «Ладно, это их не касается», — подумал он неуверенно и как бы между прочим сказал своей стенографистке:
— Дел по горло! Пожалуй, не пойду сегодня завтракать! — Он прошел мимо стола бухгалтера Крэкинза, который, как подозревал Бейтс, был присяжным остряком конторы и коллекционировал промахи шефа в качестве материала для восхитительных сплетен: — Что, Крэкинз, некогда вздохнуть? Мне тоже не легче. В общем, наверно, не придется идти завтракать. Перекушу здесь.
Как только пробило двенадцать, он убавил слишком яркий свет над стеклом письменного стола, подвинул к окну стул и разложил свои яства на широком подоконнике. Эмили ела пончик и запивала его молоком. Бейтс поклонился, однако он скромно сжевал полсандвича, прежде чем справился со своим смущением и осмелился предложить ей кусочек. Она не шелохнулась, пончик как бы в раздумье замер в воздухе. Потом она вскочила и бросилась прочь от окна.
— А, будь я проклят! Болван! Скотина! Не дал ей даже спокойно позавтракать! Пристаю к ней, отравляю единственные свободные минуты!
Эмили вернулась к окну. Она показала ему стаканчик. Налила в него до половины молока из собственного стакана и нерешительно предложила ему. Он вскочил и протянул руку. Сквозь гудящее от ветра пространство он принял ее дар и ее приветствие.
Он рассмеялся и представил себе, что и она рассмеялась в ответ, хотя вместо ее лица видел лишь золотистое пятно, расплывающееся в слабых лучах осеннего солнца. Они сели и продолжали завтракать вместе. В тот момент, когда он уговаривал ее выпить еще чашечку кофе, он услышал, как открывается дверь и кто-то входит в комнату. Он лихорадочно стал рассматривать воображаемые пятнышки на чашке. Он не осмеливался обернуться и посмотреть на непрошеного гостя. Подняв чашку, он провел пальцем по краю и пробормотал:
— Грязная!
Непрошеный гость подошел ближе. С невинным видом Бейтс взглянул на него. Это был зубоскал Крэкинз. И Крэкинз ухмылялся:
— Муха в супе, мистер Бейтс?
— В су… Ах, да! Муха в супе. Да, грязная… очень грязная чашка… Придется поговорить… поговорить с хозяйкой, — пробурчал Бейтс.
— Простите, я не помешал вам? Мне только хотелось узнать, будем ли мы продлевать кредит Фермерской Железнодорожной Компании. Они на три недели просрочили платежи…
Показалось ли это Бейтсу, или Крэкинз в самом деле покосился в окно на Эмили?
С порывистостью, которая была ему так же к лицу, как мандолина — ирландцу-подрядчику, Бейтс вскочил с места и увлек Крэкинза в приемную контору. Ему пришлось задержаться там минут десять. Когда он вернулся, Эмили стояла, прислонившись к оконному косяку, а он представил себе, что она мечтает у венецианского окна во дворце епископа — мечтает, глядя на солнечные часы и кусты мальвы.
Она знаками показала, что пикник окончен: перевернула вверх дном черную коробочку и разочарованно развела руками, как бы говоря: «Пусто!» Он предлагал ей кофе, сандвичи, шоколад, но она все отвергала, застенчиво покачивая головой. Она указала на машинку, помахала рукой и села работать.
Близилось рождество, и Нью-Йорк был обуреваем таким дружелюбием, что люди, которые жили в одном доме всего семь лет, при встрече кивали друг другу. Бейтс гадал, неужели Эмили проведет рождество в одиночестве? Он хотел как-то поздравить ее, но ничего не мог придумать. Все же в канун рождества он притащил в контору огромный букет и с нетерпением стал ждать, чтобы Эмили взглянула на него. Только в половине пятого, когда включили электричество, он, наконец, добился успеха. Бейтс пристроил букет у самого окна и, прижав руку к сердцу, отвесил поклон.
Снег кружился в разделяющем их холодном пространстве, поток ледяного декабрьского воздуха омывал железобетонные и стальные утесы, но в эту минуту они были вместе, и улыбка преобразила ее лицо, словно сошедшее с обрамленной золотом миниатюры на желтоватой слоновой кости, лицо немного грустное и усталое, но озаренное нежной рождественской улыбкой.
4
Эмили исчезла, а ему так ее недоставало. Она не появлялась уже неделю, и однажды вечером к нему коварно подкралась тоска. Зима тянулась и тянулась и с каждым днем становилась все скучней и невыносимей. Снег, который был таким нарядным в декабре, к февралю превратился в грязное месиво. Не верилось, что когда-то было лето, что когда-то перекрестки улиц не утопали в слякоти, а на поворотах не сбивал с ног ветер. Бейтсу надоели театры, осточертели балы, и он всей душой ненавидел людей, которые на зиму съезжаются в город и вытесняют нью-йоркцев из их любимых местечек в маленьких кафе и ресторанчиках.
А тут еще Эмили исчезла. Он не знал, перешла ли она на другую работу или лежит больная, всеми заброшенная в какой-нибудь комнатенке с вытертым ковром и предается отчаянию. И он был тут бессилен. Он не знал ее имени.
Отчасти потому, что он страшился за ее судьбу, отчасти потому, что ему так недоставало ее, но в этот вечер, глядя на пустое окно напротив, он был особенно мрачно и нервно настроен. Внизу безумствовала улица — это была пляска сумасшедших на мокрых мостовых, залитых багряным светом уличных фонарей. Неистовые звонки трамваев, нетерпеливые грузовики, бешено несущиеся таксомоторы, изголодавшиеся по дому люди, которые, спотыкаясь, пробираются сквозь потоки транспорта или же стоят в самом водовороте, дрожа от холода, притоптывая мокрыми ногами и каждую минуту ожидая, что их раздавят. Неутомимая дрель била по нервам Бейтса — р-р-р-р, словно гигантская бормашина. Небо было яростным, по нему метались рваные облака в тускло-красных пятнах закатного зарева. И только свет в окне Эмили казался мирным, но Эмили там не было.
«Я так не могу. Я без нее измучился. Я не подозревал, что могу так тосковать. Да я и не жил раньше. Что-то со мной случилось. Я не понимаю! Не понимаю!» — говорил он себе.
На следующее утро она появилась в конторе. Бейтс глазам своим не поверил. Он все время подходил к окну, чтобы удостовериться, и каждый раз она махала ему рукой. Он сам удивлялся своей смиренной признательности за это приветствие. Эмили изобразила кашель, потом, прижав ладонь ко лбу, объяснила, что у нее был жар. Он задал немой вопрос — склонился щекой на руку, что на общечеловеческом языке означает лежать в кровати. Она утвердительно кивнула — да, она болела.
Бейтс отошел от окна, уже понимая, что рано или поздно должен познакомиться с ней, даже если она окажется из тех, что говорят: «Послушай, миляга!» Не может же он идти на риск снова ее потерять. Только… зачем спешить. Он хотел окончательно убедиться, что не будет смешон. В той среде, где он вращался, первой заповедью считалось: никогда не быть смешным.
Он отскочил от окна в припадке нелепой ревности, потому что служащие в конторе напротив пожимали руку Эмили, поздравляя ее с выздоровлением. Он начал думать о них и о ее конторе. Он не имел ни малейшего представления о том, что это была за контора: торгуют ли там нефтяными акциями или почтовыми голубями или занимаются шантажом. Контора была слишком современна, чтобы оповещать о своей деятельности надписями на окнах. Правда, по стенам были развешаны какие-то чертежи, но они могли иметь отношение к архитектуре, к машинам… к чему угодно.
Бейтс начал внимательно присматриваться к сослуживцам Эмили, и у него появились весьма определенные симпатии и антипатии. Шеф Эмили был вполне приличный малый, но девчонка-регистраторша, которая, по наблюдениям Бейтса, вечно хихикала над чуть надменной манерой Эмили, — эта девчонка была настоящей трущобной кошкой, и Бейтсу захотелось, как это водится в трущобах, надавать ей оплеух.
Желание защитить Эмили превратило Бейтса в какого-то наивного мистика. Прощаясь с ней, он посылал самую сокровенную частицу своей души незримо охранять Эмили, бодрствовать над ней в ночи. Он наблюдал за ее сослуживцами не как какой-нибудь досужий сплетник: нет, он пытался пробудить в них теплое чувство к Эмили.
Но не слишком теплое!
Бейтс относился с неодобрением к новому молодому служащему, который поступил в контору спустя неделю или две после возвращения Эмили. Молодой человек расхаживал без пиджака, но рубашка на нем, по-видимому, была шелковая; он носил большие интеллигентские очки в черепаховой оправе и с независимым видом курил отдававшую колледжем трубку. Он так вымуштровал свою черную, как вакса, шевелюру, что каждый устрашенный волосок твердо знал свое место и покорно оставался там целый день. Это был самоуверенный, легкомысленный, современный молодой человек, видимо, занимавший пост по меньшей мере заместителя управляющего. Он непринужденно беседовал с шефом Эмили, поставив ногу на стул и пуская из трубки облака серого дыма.
Этому молодому человеку, очевидно, нравилась Эмили. Хотя у него в клетушке, крайней слева, была своя стенографистка, он постоянно околачивался возле стола Эмили, и она заметно оживлялась в его присутствии. Он болтал с ней перед уходом, и тогда она поворачивалась спиной к окну, а там, напротив, Бейтс, позорно забросив все свои дела, стоял и бормотал себе под нос, что щенков надо топить.
Эмили по-прежнему махала ему рукой на прощание, но Бейтсу казалось, что она делает это слишком небрежно.
«Ну да, я просто верный старый пес. На сцене появляется некий юнец… и меня приглашают на свадьбу. Держу пари, ни один человек в Нью-Йорке не был столько раз шафером, сколько я. Я знаю свадебный марш не хуже, чем органист церкви святого Фомы, и могу нюхом определить, куда закатилось оброненное в ризнице кольцо. Конечно, только для этого я им и нужен», — роптал Бейтс.
И он продиктовал сардоническое письмо, адресованное компании, которая делала чертежи стоп-сигналов, и с горькой иронией осведомился у мальчишки-рассыльного, не сможет ли он урвать несколько минут от посещения кинематографа и когда-нибудь в ближайшие месяцы налить в чернильницы чернил.
Однажды вечером Эмили и новый молодой человек вместе ушли из конторы, и с высоты двенадцати этажей Бейтс видел, как они выходят из подъезда и идут по улице. Спутник Эмили слегка наклонился к ней, а она кокетливо смотрела на него снизу вверх. Потом их поглотила толпа.
Одинокий человек наверху у окна вздохнул:
— Я всегда желал ей счастья. Но этот щенок… Вздор! Вероятно, он вполне порядочный малый. Господи помилуй, я становлюсь старым брюзгой, которому до всего есть дело! Я сам себе противен. Но… я должен познакомиться с ней. Я не допущу, чтобы она досталась ему! Не допущу!
Легко сказать! Бейтс был скован многолетней привычкой поступать так, как поступают все приличные люди: он боялся показаться смешным и презирал чудаков, социалистов, поэтов и влюбленных, не скрывающих своей любви.
Неделю спустя, думая все о том же и ничего не замечая вокруг, Бейтс вошел в кафе и сел за белый смешной столик, на котором с одной стороны был нарисован ярко-красный кролик, очевидно, взбесившийся. Он рассеянно просматривал меню, предлагавшее сандвичи с грецкими орехами, сандвичи со сливочным сыром и рагу из цыплят.
Внезапно он понял, что смотрит поверх меню прямо на Эмили, которая сидит одна, за таким же красивым белым столиком, только в другом конце комнаты.
А вдруг она подумает, что он ее преследует, что он какой-нибудь наглый уличный прилипала? Чудовищно!
Бейтс съежился на стуле, стараясь стать незаметным, и вполголоса сказал нетерпеливой официантке:
— Будьте добры, рагу из цыплят и чашку кофе.
Его страх рассеялся, как только он убедился, что Эмили его не заметила. Она сидела спиной к нему, так что ему был виден только ее профиль. Она читала книгу, рассеянно отщипывая кусочки от белой, пухлой, добротной булочки — дежурного блюда всех кафе. Бейтс жадно ее разглядывал.
Она оказалась старше, чем можно было подумать, глядя из окна на ее быстрые движения. Ей было лет двадцать семь. Гладкая кожа ее бледных щек казалась шелковистой. Все в ней было изящно, во всем чувствовалась порода. Она была подлинная Эмили.
Прежде Бейтс не обращал внимания на женские туалеты, но сейчас он внимательно оценивал каждую мелочь: изысканную простоту синего платья с шифоновыми рукавами, коричневые узкие туфли, ничем не отделанную синюю шляпку, круто сдвинутую набок. Но почему-то больше всего его поразило перекинутое через спинку стула пальто — обыкновенное коричневое пальто, отделанное полосками искусственного меха; довольно дешевое пальто и не очень теплое. Оно висело подкладкой наружу — Бейтсу видны были крохотные морщинки на плечах, такие же женственные, как слабый запах пудры; и он обнаружил, что в пройме подкладка заштопана. Охваченный состраданием к ее бедности и жаждой что-то для нее сделать, он сжал кулаки.
Эмили шевельнулась и стала рассеянно нащупывать пальцами счет, одновременно дочитывая последние строчки, прежде чем вернуться на работу. За это время Бейтс успел выловить только несколько сочных белых кусочков цыпленка, малодушно отложив напоследок мокрый, размякший гренок. Он был голоден. Но он не знал, как ему себя держать, если, проходя мимо, она заметит его.
Схватив пальто, шляпу и счет, он, не оглядываясь, бросился к выходу.
Бейтс пошел в хороший ресторан и как следует позавтракал. Он то сиял от восторга, потому что она в самом деле оказалась той восхитительной, нежной, изящной девушкой, какой представлялась ему в мечтах, то проклинал себя за то, что не подошел и не заговорил с ней. Остроумно. Дерзко. Разве не бывал он остроумен и дерзок с директорами Бингемптонской Компании Городского Транспорта?
И теперь он твердо знал, что не уступит Эмили легкомысленному молодому человеку в совиных очках.
В тот же день в 3 часа 37 минут Бейтс без всякой видимой причины вдруг сорвался с места, схватил шляпу и решительно направился к дверям. Он степенно вошел в лифт. Лифтерша — грузная добродушная ирландка в черной юбке — знала всех в лицо. Бейтс подумал, не сказать ли ей: «Я собираюсь перейти через дорогу и влюбиться».
Когда он впервые вошел в дом, который столько времени изучал снаружи, у него началось такое сердцебиение, словно он до одури накурился. В лифте он хрипло произнес:
— Двенадцатый.
Обычно погруженный в мысли о делах Бейтс проходил по зданиям, ничего не видя, но на этот раз, совсем как деревенский мальчишка, впервые попавший в странный мир, где вместо дорог туннели, он замечал все: широкий коридор двенадцатого этажа, мраморные ступеньки, пол, похожий на окаменелый фруктовый торт, лампочки из небьющегося стекла и алебастровые плафоны, струящие рассеянный свет. По совершенно непонятной причине он отчаянно трусил перед некоей тоненькой девушкой.
Когда он отошел от лифта шагов на пятьдесят, ему вдруг пришло в голову, что он понятия не имеет, куда идти дальше.
Бейтс заблудился. Он не знал, с какой стороны расположена ее контора, а два лифта, находившиеся в противоположных концах здания, не могли служить ему ориентиром. Напустив на себя необычайно деловой вид, он бродил до тех пор, пока в конце коридора не наткнулся на окно. Он увидел башню «Нью-Йорк таймс», и ему сразу все стало ясно. Ее контора должна быть где-то справа. Но где?
Он только сейчас сообразил, что со стороны коридора не сможет определить, сколько в каждой конторе окон. Старательно отсчитав окна из своего кабинета, Бейтс пришел к выводу, что ее окно — шестое справа. Но оно могло принадлежать и Агентству по Застройке Цветущих Холмов и Горнорудной Корпорации Краса Аляски С. Смит. (Надпись не разъясняла, что такое С. Смит — Краса или Корпорация.)
Бейтс замер на месте. Из конторы Цветущих Холмов шумно выкатился рыжий волосатый толстяк и уставился на него. Бейтс с независимым видом отступил в конец коридора и стал сердито смотреть в окно. Вдруг его сразила еще одна страшная мысль. Допустим, что в конце концов он разыщет нужную контору и очутится в замкнутом пространстве приемной. Нельзя же сказать мальчишке-рассыльному: «Передайте, пожалуйста, молодой леди в синем платье, что ее ждет человек из здания напротив».
Это было бы смешно.
Ну и черт с ним, пусть он будет смешон! Бейтс помчался по коридору, вошел в дверь с надписью «Горнорудная Корпорация Краса Аляски» и очутился среди красного дерева и тисненого сафьяна конторы-будуара. Девица с алой улыбкой, затянутая в черное платье, услужливо протянула:
— Да-а?
Кажется, это была та самая кокетливая особа, которая, по его наблюдениям, работала в конторе, смежной с конторой Эмили. Он ляпнул:
— М-могу я посмотреть ваши проспекты?
Прошло минут двадцать, прежде чем ему удалось ускользнуть от чрезвычайно приветливого молодого человека (сейчас он блистал великолепием нового в клеточку костюма, но два дня назад Бейтс видел, как он чистит лацкан старого костюма жидкостью из какой-то склянки), который пытался продать Бейтсу акции двух золотых приисков и учредительные акции потрясающе богатого медного рудника. Наконец Бейтса отпустили, предварительно дав ему почувствовать, что он предает лучшего друга. Он ушел, унося с собой целую библиотечку рекламных брошюрок с высокохудожественными фотографиями рудоносных жил, медеплавилен, речных барж и просто видов Аляски.
Бейтс аккуратно спустил их одну за другой в желоб пневматической почты и возвратился в свой излюбленный коридор.
На этот раз он вошел в кремово-синюю приемную Агентства по Застройке Цветущих Холмов. У него возникла сумасбродная идея выдать себя за строительного инспектора, под этим предлогом пройти по всей конторе и, таким образом, в конце концов оказаться у стола Эмили. План был романтичный и весьма рискованный, и Бейтс отказался от него, как только увидел циничного мальчишку-рассыльного в гольфах, рыжеволосого, с холодными глазами, которые видят вас насквозь.
— У вас тут, кажется, продаются загородные участки?
— Угу.
— Я хотел бы повидать управляющего конторой. (Ведь это Эмили проводит посетителей к управляющему.)
— По какому делу?
— Я собираюсь купить участок!
— А я-то думал, вы пришли за деньгами от той фирмы, что всучила нам полотенца.
— Неужели я похож на торгового агента, мой юный друг?
— Такие времена пошли, что и не угадаешь, — вы, ребята, нынче денег на одежу не жалеете. Ладно, хозяин, старик куда-то вышел, я пригоню вам мистера Симмонса.
Оказалось, что мистер Симмонс — это заклятый враг Бейтса. Он был тем самым легкомысленным молодым человеком с лакированной прической и очками в черепаховой оправе, который осмелился поднять глаза на Эмили. Он вошел, заранее открыв шлюзы красноречия и возведя себя в сан врача и исповедника Бейтса. Он разливался соловьем о прелестях Цветущих Холмов на берегу Хакенсака, где из водопроводных кранов льется шампанское, где все младенцы весят при рождении пятнадцать фунтов, где бетонные гаражи растут на деревьях, а цены на участки за ночь повышаются вдвое.
Бейтс бежал, унося с собой еще одну библиотечку роскошно изданных проспектов и глянцевитую открытку, изображающую ослепительно зеленую траву Цветущих Холмов и ослепительно красное бунгало Дж. Дж. Кина. Бейтс принес открытку в контору и отправил ее тому единственному однокласснику, которого терпеть не мог.
5
Четыре дня Бейтс игнорировал Эмили. Конечно, он по-прежнему махал ей рукой на прощание — не мог же он так грубо ее обидеть. Но он уже не наблюдал за ней весь долгий рабочий день. И он побывал у Кристин Пэриш. Бейтс говорил себе, что атмосфера праздности, царящая в доме Кристин, аромат белых роз, болтовня хозяйки о теннисных состязаниях и о Пайпинг-Рок, ее манера все время упоминать в разговоре каких-то мужчин, называя их Сурок, Пудель, Джорджи, что все это мило его сердцу и он чувствует себя как дома. Но когда сидевшая рядом с ним на тахте Кристин сквозь дым сигареты подарила его притворно-застенчивым взглядом, он словно услышал канонаду Свадебного Марша и метнулся к спасительному камину.
На следующий день, когда Эмили — ясная, как сталь, Эмили — помахала ему рукой и усталым движением выключила свет, Бейтс бросился сломя голову к лифту и оказался у выхода раньше, чем она появилась в подъезде напротив. Но его все еще сковывала многолетняя привычка соблюдать приличия. Он стоял и смотрел, как она идет по улице и сворачивает за угол.
Бухгалтер Крэкинз, который, насвистывая, выходил из здания, был потрясен, увидев, как Бейтс выскочил из подъезда и, нелепо размахивая руками, спотыкаясь с непривычки, стремглав помчался по улице, пробежал квартал и исчез за углом.
Бейтс нагнал Эмили в ту минуту, когда она вошла в метро и ее поглотил людской водоворот. Он протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча, потом, совсем как кошка, попавшая лапой в холодную воду, с дрожью отдернул руку.
Эмили спустилась на две ступеньки. Она его не видела.
— Эмили! — закричал он.
Несколько бегущих вниз пассажиров оглянулись на него. Эмили повернула голову и нерешительно посмотрела на Бейтса, затем снова отвернулась.
— Эмили!
Он ринулся вниз и очутился рядом с ней.
— Влюбленная парочка поссорилась, — не преминула заметить пожилая женщина, протискиваясь мимо них.
— Прошу прощения… — запротестовала Эмили.
Голос был чистый, тон — резкий. Таковы были первые слова его далекой принцессы.
— Нет, это я должен просить у вас прощения, но… я пытался привлечь ваше внимание. Я вел себя страшно глупо, понимаете, я не знаю, как вас зовут, и когда… когда я смотрел на вас из окна, я всегда… всегда называл вас Эмили.
В отчаянии он солгал:
— Мою мать звали Эмили.
— О, тогда у меня нет основания на вас сердиться, но…
— Вы ведь знаете, кто я, правда? Человек из дома напротив…
— Да, хотя я не сразу вас узнала. Человек из дома напротив такой уравновешенный!
— Я знаю. Не посыпайте рану солью. Я всегда надеялся, что, когда мы встретимся, мне удастся быть самоуверенным, остроумным и так далее, словом, поразить ваше воображение.
Стоя на шершавых, выложенных стальными плитками ступеньках, которые вели в подземные пещеры метро, получая со всех сторон толчки от налетающих на него с размаху людей, он, запинаясь, продолжал:
— Но все получилось как-то нескладно. Понимаете, я сегодня чувствую себя дьявольски одиноким. С вами так бывает?
— Всегда.
— Мы ведь стали такими добрыми друзьями, ну вот когда завтракали вместе и вообще.
Ее губы дрогнули, она сжалилась над ним:
— Вы правы. Вам тоже на метро? Мы можем проехать вместе хотя бы до Семьдесят второй улицы.
В те времена в метро еще не было поперечных соединительных линий, и десятки людей прекрасно ориентировались там и с уверенностью могли сказать, что доберутся до нужной станции.
— Нет, мне не на метро. Я хочу, чтобы вы со мной пообедали. Ну, пожалуйста! Если вы свободны. Я… я не какой-нибудь уличный волокита. Я еще никогда не заговаривал с незнакомыми девушками. Право же… Черт побери, я добропорядочный гражданин. До противного добропорядочный. Моя фамилия — Бейтс. Я управляющий конторой. Живи мы не в Нью-Йорке, мы бы уже давно познакомились. Пожалуйста! Как только мы пообедаем, я сразу же провожу вас домой.
Молодые женщины из фешенебельных кварталов, чьи отцы ворочали делами на бирже или занимались оптовой торговлей шелком, юные хозяйки слишком многочисленной прислуги, владелицы гостиных, украшенных столиками маркетри и картинами в роскошных рамах, чувствовали себя польщенными, когда Бейтс приглашал их обедать. Но эта женщина, которая работала секретаршей, у которой между бровей залегла усталая морщинка, слушала и не делала ни шагу навстречу.
— Здесь невозможно разговаривать. Пожалуйста, пройдите со мной хоть один квартал, — молил он.
Она пошла, но продолжала внимательно наблюдать за ним. Как только они выбрались из сутолоки метро, болезненное смущение Бейтса улеглось, и, очутившись в квартале старых, отслуживших свой век домов из песчаника, забытых среди высоких зданий, он остановился и рассмеялся.
— Я разговаривал с вами, как идиот. Меня ошеломила эта толпа. И потом я всегда совсем иначе рисовал себе нашу первую встречу. Могу ли я изредка как благонравный холостяк посещать ваш дом и, соблюдая приличия, приглашать вас обедать? Постарайтесь забыть, что я вел себя так нелепо!
Она ответила очень серьезно:
— Нет, вы не вели себя нелепо. Вы вели себя мило. Вы говорили со мной так, словно действительно хотели что-то выразить. С тех пор как я в Нью-Йорке, ко мне еще ни разу не обращались со словами, которые бы хоть что-нибудь выражали, разве что когда диктуют.
Он чуть было не сказал: «А что хочет выразить этот чурбан в дурацких очках?»
Но он не успел совершить этот промах, так как мысленно подпрыгнул от восторга, услышав от нее:
— И мне нравится ваш смех. Если хотите, я пойду сегодня с вами обедать.
— Не знаю, как вас благодарить. Куда бы вы хотели пойти? Может быть, отправимся сначала в кино, чтобы скоротать время до обеда?
— Вы не… я ведь не делаю ничего дурного? У меня, правда, такое чувство, словно мы давно знакомы. Вы не презираете меня за то, что я так покорно принимаю ваше приглашение?
— О! Презираю… Вы оказываете благодеяние одинокому человеку! Куда…
— Куда угодно, только чтобы это не очень напоминало кафе. Я хожу в кафе два раза в день. Мне становится не по себе всякий раз, как я вижу вареное яйцо, и я подсчитала, что, если связать узлом все японские салфеточки со столиков, за которыми я обедала, их хватило бы от Элкхарда до Раджпуваны.
— Я вас понимаю. Жаль, что мы не можем пойти пообедать в какой-нибудь семейный дом, пусть не очень фешенебельный, но непременно старомодный, где к обеду подают брюквенное пюре и мама говорит: «Сперва нужно доесть овощи, детки. Маленьким девочкам, которые привередничают, не полагается сладкого пирога».
— О, к сожалению, таких домов не осталось. Какой вы милый!..
Она улыбнулась, глядя ему прямо в лицо. Ему захотелось прижать к себе ее локоть, но он не посмел, и они пошли в кино и пробыли там до семи часов. Во время сеанса они не разговаривали. Эмили отдыхала, сложив на коленях свои маленькие усталые руки. Бейтс решил, что они пообедают в отеле «Гранд-Ройял», на верхней галерее Флорентийского зала, где можно, наслаждаясь покоем и уединением, наблюдать веселую публику и слушать приглушенную музыку. Он заказал обед, состоящий из самых экзотических закусок, каких не подают в кафе. Вина он заказывать не стал.
Когда официант ушел, и они остались вдвоем, и уже их не отвлекала ни ходьба, ни кино, ни уличная толчея, воцарилось молчание. Бейтс старался что-нибудь из себя выдавить, но не придумал ничего лучше бесспорной истины, что зимой холодно. Эмили поглядывала поверх перил на пышнотелую девицу в серебристо-розовом, которая обедала в обществе трех мужчин во фраках, проявлявших слоноподобную игривость. Эмили держалась гораздо непринужденнее, чем Бейтс. Ему никак не давался уверенный тон. Он изучал монограмму на вилке, и старательно чертил треугольники на скатерти, и теребил цепочку от часов, и ерзал на стуле, и старался возвести из вилки и двух ложек немыслимые фортификации вокруг стакана с водой, и легонько почесывал ухо, и завязал узлом цепочку от часов, и со страшным звоном уронил вилку на пол, и, наконец, выпалил:
— Э-э-э… Черт побери, давайте разговаривать. А то я нем, как сто рыб или жареная устрица.
Она положила локти на стол, вопросительно улыбнулась и сказала:
— Хорошо. Но сначала расскажите мне, кто вы такой. И чем занимается ваша контора? Я решила, что вы торгуете рождественскими открытками. У вас столько всяких картонных штучек по стенам.
Рассказывая о стоп-сигналах, Бейтс обрел красноречие. Выходило, что это приспособление может служить чем угодно — от путеводителя по городу до профилактического средства от инфлюэнцы. Все магнаты городского транспорта, не пожелавшие ввести стоп-сигналы, были…
— А теперь я буду продавать вам участок на Цветущих Холмах, — прервала его Эмили.
— Ох, простите. Я буквально помешался на своей конторе. Но это и вправду стоящее дело. В моем ведении весь Восточный район. Я окончил… Ну вот, теперь я познакомлю вас со своей биографией и попытаюсь пробудить в вас теплое чувство к моему прошлому. Я окончил технический колледж Шефилда при Йельском университете. Отец мой был инженером-химиком; одиннадцати лет от роду я написал свое единственное стихотворение, а мой дядюшка заключен в Синг-Синг за подлог. Итак, теперь вы знаете обо мне решительно все. А мне хотелось бы знать, действительно ли вы Эмили?
— То есть?
— Я… э-э-э… я выразился не совсем точно, говоря, что назвал вас Эмили в честь моей матушки, просто это имя вызывает в памяти старые сады и милую семью. Я решил, что ваш отец либо епископ, либо банкир в Хартфорде.
Она сосредоточилась было на закусках, потом ровным голосом сказала:
— Нет, мой отец служил управляющим на фабрике в Фолл-ривер. Он был никудышный человек: пил, играл в карты и умер. Мама была очень милая. Ничего романтичного в моей жизни нет. Я проучилась три года в колледже, а теперь работаю, потому что нужно. Предел моих мечтаний — стать старшей стенографисткой в какой-нибудь крупной конторе. Я хорошо знаю свое дело, но у меня скверный характер. Мне страшно одиноко в Нью-Йорке, но, наверно, это моя вина. Я нравлюсь одному человеку в нашей конторе, но он смеется над моим служебным честолюбием. Я несчастлива и не знаю, что меня ожидает, — может быть, в один прекрасный день я покончу с собой, и я терпеть не могу, когда меня жалеют. Ни с кем я еще не была так откровенна, и напрасно я разоткровенничалась с вами.
Она внезапно замолчала и стала смотреть вниз на публику. У Бейтса было такое ощущение, словно он грубой рукой коснулся ее души. С неуклюжей сердечностью он осмелился спросить:
— Вы живете одна?
— Да.
— А вы не могли бы поселиться вместе с какими-нибудь славными девушками?
— Пробовала. Но они меня раздражали. Они были такие же изверившиеся, как я.
— А нет у вас более жизнерадостной приятельницы, с которой вы могли бы куда-нибудь пойти, развлечься?
— Есть. Но у нее никогда нет времени: она занимается общественной деятельностью. Да и куда пойти? Изредка на концерты или просто прогуляться. Как-то мы рискнули отправиться в ресторан. Знаете, в одно из этих богемных местечек. Трое пьяных мужчин один за другим лезли к нам знакомиться. Нью-Йорк не очень деликатный город.
— Эмили, Эмили… скажите же в конце концов, как вас зовут?
— Имя такое же неромантичное, как я сама, Сара Парди.
— Послушайте, мисс Парди, я встречаюсь в этом городе с самыми разными людьми, прожил здесь немало лет… есть даже школьные друзья. Вы не позволите мне что-нибудь для вас сделать? Познакомить вас с людьми, которых я знаю, ввести в семейные дома и…
Она отложила вилку, осторожно опустила на стол руки ладонями вниз, внимательно посмотрела на них, сдвинула плотнее пальцы и проговорила:
— Кое-что вы могли бы для меня сделать.
— Да? — встрепенулся Бейтс.
— Найдите мне работу получше.
У Бейтса вырвался хриплый стон, как будто его совершенно неожиданно чем-то больно стукнули.
— Мне нравится работать в конторе Цветущих Холмов, но у меня там нет никаких перспектив. Мистер Рэнсон не допускает мысли, что женщина может быть не только секретаршей. Я хочу дослужиться до управляющей конторой какого-нибудь большого концерна или чего-нибудь в этом роде.
Бейтс взмолился:
— Но… конечно, я с удовольствием помогу вам, но разве вы… А что будет с вашей личной жизнью? Разве вы не хотите узнать поближе нью-йоркцев?
— Нет.
— Дома, куда можно заглянуть в воскресенье и поболтать за чашкой чая?
— Нет.
— Ваших сверстниц, и танцы, и…
— Нет. Я деловая женщина и ничего больше. Боюсь, ни на что другое я не способна. У меня не очень много сил. Приходится ложиться спать в десять часов. Спартанка. Все это совсем невесело, но иначе мне не выдержать.
— Хорошо. Я выполню вашу просьбу. Завтра в двенадцать я вам позвоню.
Бейтс старался говорить неприятно вежливым тоном, но, видимо, его голос звучал жалобно, потому что на ее лице промелькнула улыбка.
— Спасибо, — сказала она. — Мне бы только было с чего начать. Ведь я почти никого не знаю из здешних предпринимателей. Несколько лет я работала в бостонской конторе.
На этом — так удивительно похоже на лекцию о калькуляции цен и проверке отчетности — закончились его поиски высокой романтики.
Бейтс был ужасно уязвлен и, стараясь держаться с достоинством, пустился рассуждать об авторах, которых, как ему казалось, он читал, поскольку всегда собирался прочитать их на досуге. Но на душе у него было скверно. Он сказал себе, что все это время был круглым дураком, что Эмили — нет, мисс Сара Парди — просто покрытый эмалью механизм и что он больше не желает ее видеть.
Прошло целых шесть минут до того, как он спросил:
— Вам приятно было, что я каждый вечер желал вам доброй ночи?
— Да-а, — сказала она неуверенно.
— А вы тоже придумывали про меня всякие небылицы?
— Нет. Выслушайте меня. — Она говорила тихо, но веско. — Я поняла, что смогу как-то тянуть лямку в этой малопривлекательной жизни, только если у меня не будет ни сердца, ни воображения — одни лишь мысли о работе. В юности у меня была бурная фантазия, я зачитывалась Китсом и, конечно, Киплингом и в каждом мужчине с хорошей осанкой видела Стрикленд-саиба. Многие стенографистки так всю жизнь и живут в мире вымысла. Замученные, несчастные, они мечтают о муже и детях, а шифры картотек только затуманивают им мозги. Ну, а я хочу добиться успеха. Поэтому я должна работать, и хорошо соображать, и быть пунктуальной, и знать факты. Никаким фантазиям я не позволяю отвлекать себя от работы. Я могу с абсолютной точностью сказать, сколько футов и дюймов в канализационной системе Цветущих Холмов. И я запрещаю себе умиляться при виде голубей, когда они прилетают и воркуют на моем подоконнике. Думаю, что ни при каких обстоятельствах я уже не способна быть чувствительной. Возможно, я сделала ошибку. Но я в этом не уверена. Мой отец был преисполнен самых высоких чувств, особенно когда приходил домой пьяный. Как бы там ни было, я такая, как есть. Не женщина, а деловая женщина.
— Жаль!
Он проводил ее домой. По ее просьбе они возвращались пешком, шагая по зимней слякоти. Они прошли мимо ребенка, который плакал, сидя на ступеньке третьеразрядной закусочной.
Бейтс заметил, что какое-то мгновение Эмили смотрела на ребенка с материнским волнением, потом ускорила шаг.
«Я уже не сержусь на нее. Но если бы даже мне и захотелось снова с ней встретиться, я бы этого не сделал. В ней нет ничего человеческого», — размышлял Бейтс.
На Семьдесят четвертой улице, у дверей ее дома — чопорного дома, где сдают меблированные комнаты, — Бейтс, стараясь как-нибудь подостойнее с ней попрощаться, вдруг выпалил:
— Не очень-то увлекайтесь этим молодым человеком в очках. Пускай подождет, пока вы лучше узнаете нью-йоркцев. Ваш мистер Симмонс приятный малый, но пустой.
— Откуда вам известно, что я знаю мистера Симмонса? — изумилась она. — Откуда вам известно его имя?
Бейтс в первый раз застал ее врасплох; и это позволило ему укрыться за вполне достойным ответом:
— Я наблюдателен. Спокойной ночи. Будет у вас превосходное место, можете не беспокоиться.
Пройдя два дома, он украдкой оглянулся. Она, должно быть, вошла в подъезд, даже не посмотрев ему вслед.
Хотя Бейтс говорил себе: «Я рад, что этот вечер уже позади», — он бросился со всех ног в Йельский клуб. Там он допросил поочередно пятерых знакомых, не могут ли они порекомендовать куда-нибудь молодую женщину, которая, утверждал он (не имея на то никаких оснований), прекрасно печатает на машинке, быстро стенографирует, умеет по всем правилам подшивать копии документов и даже способна, в случае надобности, разыскать их потом и так очаровывает клиентов, что они готовы вручить деньги еще до появления агента по продаже.
По этому же поводу он звонил по телефону своему приятелю, живущему в пригороде. Ему пришлось некоторое время сидеть в душной телефонной будке и кричать: «Нет, нет, нет! Я вызываю Пелем, а не Чатам!» А когда он лег в кровать и уже было задремал, ему неожиданно пришла в голову такая волнующая мысль, что сон как рукой сняло. Он встал, закрыл окна, дрожа от холода, влез в халат, потом сел, неизящно задрав ноги на радиатор, и закурил сигарету. Почему бы не предоставить Эмили место в своей конторе?
Он нехотя отказался от этой мысли. Его контора недостаточно велика, чтобы дать ей возможность выдвинуться. И Эмили — мисс Парди — скорее всего не согласится. Он с горечью потушил сигарету о радиатор, открыл окна и снова забрался в кровать. Он пришел в ярость, обнаружив, что, пока он предавался размышлениям, кровать успела остыть. Под одеялом образовались ледяные, арктические зоны.
— Бр-р-р, — поежился Бейтс.
Наутро он помахал Эмили рукой, но не очень приветливо, и она ответила ему довольно небрежно. В семнадцать минут двенадцатого, позвонив предварительно раз пять по телефону, Бейтс нашел наконец для нее место. Он снял трубку и назвал ее номер.
— С вами говорит мистер Бейтс из здания напротив.
Он вскочил с места, подошел к окну, натянув до предела зеленый шнур, и увидел Эмили, которая разговаривала по телефону.
Бейтс улыбнулся, но продолжал говорить суровым тоном:
— Если вы обратитесь в Промышленно-Бытовой Синдикат — новое издательское объединение — и спросите мистера Хайдена, Хай-де-на из отдела рекламы, он позаботится о том, чтобы вам предоставили место. Учреждение крупное. Очень перспективно. Со временем сможете возглавить целый штат машинисток, и, возможно, представится случай попробовать силы в отделе рекламы. Сошлитесь на меня. Э-э-э…
Она бросила взгляд на его окно, увидела его, вздрогнула. Бейтса захлестнула горячая волна нежности.
Но голос Эмили звучал безучастно, когда она ответила:
— Вы очень любезны.
Бейтс оборвал разговор решительным:
— Желаю удачи!
Он прошествовал к своему столу. Весь этот день он разговаривал со своими подчиненными чрезвычайно мягко и нерешительно.
— Верно, у старика умер какой-нибудь приятель, — сказал регистраторше бухгалтер Крэкинз. — На нем лица нет. Он малый с душой, наш Бейтси.
Через неделю Эмили исчезла из конторы напротив. Она не позвонила, чтобы попрощаться. Спустя месяц Бейтс случайно встретил Хайдена из Промышленно-Бытового Синдиката, и тот сообщил:
— Эта мисс Парди, которую вы мне прислали, — чистое золото. Внимательная, толковая. Я поручил ей вести переписку. Она далеко пойдет.
Вот и все. Бейтс остался один. Он больше не видел ее лица из своей двенадцатиэтажной башни, не получал больше вечернего прощального благословения.
6
Бейтс говорил себе, что она высокомерна, что она неинтересна, что она ему не нравится. Он вынужден был признать, что контора потеряла для него всю свою волнующую романтику, и он устал от всех контор на свете. Однако упорно считал, что Эмили тут ни при чем. Он сам придумал все ее очарование.
Как он ни внушал себе это — каждый раз, когда он смотрел в окно или сидел за письменным столом, сгорая от желания посмотреть в окно, его охватывало болезненное ощущение пустоты, похожее на тоску по дому. Когда ему случалось поздно засидеться в конторе, он часто поднимал голову со смутным чувством, что ему чего-то недостает. Дом напротив стал просто домом напротив. Никого он не видел в нем, кроме обыкновенных рабочих муравьев, погруженных в будничную конторскую работу. Даже мистер Симмонс в эстетских очках не вызывал в нем теперь воодушевляющего гнева. Зато преемницу Эмили Бейтс просто ненавидел. У нее была идиотская жеманная улыбка и прическа, как воронье гнездо.
Наступил март, улицы потемнели от пыли. Бейтс опять поплелся к Кристин Пэриш. Очутившись среди приветливых ваз с нарциссами, сафьяновых кресел и тисненых безделушек ручной работы, украшающих письменный стол в библиотеке Пэришей, он как-то стряхнул с себя апатию, готовую поглотить его, словно густой туман. Бейтс размышлял о том, что у Кристин он всегда найдет сочувствие, а Эмили — это всего лишь эгоистическое подобие мужчины. Но Кристин раздражала его. Она была уклончива. Она журчала:
— О, наверно, так интересно осматривать трамваи в этих забавных городках!
Забавные городки! Хм! Разве не благодаря им в Нью-Йорке жизнь бьет ключом? У Кристин вялый ум. Да и кожа ее мягких, атласных рук тоже скоро увянет, а его привлекает свежесть и душевная ясность.
Когда Бейтс брел домой, все тот же туман, колыхаясь, заслонял от него будущее. Что ждет его впереди? Одинокая холостяцкая жизнь?.. Болтаться по вечерам в клубе и упрашивать неоперившихся юнцов сыграть с ним партию в покер?
Все в конторе выводило Бейтса из себя, и он старался там не задерживаться. Его не покоробило и он не вознегодовал, когда невольно подслушал, как Крэкинз доверительно сообщил секретарше: «У старика злокачественная брюзгливость. Мы будем настаивать на операции. Сколько вы можете на это пожертвовать, графиня? О! Мы чрезвычайно вам признательны».
Как-то в пасмурный, сырой апрельский день, когда все идиоты Нью-Йорка и окрестностей словно сговорились звонить ему по телефону, Бейтс был особенно раздражен. Он помянул недобрым словом Александра Грэхема Белла. Завод запрашивал, следует ли выполнить вне очереди заказ Бенгора. И это после того, как Бейтс раз шесть давал им разъяснения. Некий торговый агент звонил по междугородному телефону и требовал от Бейтса сведений о театральных кассах и портновских мастерских. Телефонистка коммутатора ошиблась номером, и жирный голос с немецким акцентом задиристо спросил: «Этта што? Бутылочный завод? Што — ви мне не нужен! Повесьте трубку!»
— А вы мне тем более не нужны, — огрызнулся Бейтс. Но от этого ему не стало легче.
— Тр-р-р! — заливался телефон.
Бейтс не обращал внимания.
— Тр-р-р! Р-р-р-р! Тр-р-р-р!
— Да? — рявкнул Бейтс.
— Мистер Бейтс?
— Да?
— Говорит Сара Парди.
— Кто?
— Ну… ну, Эмили! Боюсь, я не вовремя. Я не буду…
— Погодите! Погоди-и-те! Ради всех святых! Это, правда, вы? Как вы поживаете? Как вы поживаете? Страшно рад слышать ваш голос! Как вы поживаете? Мы так по вас соскучились.
— Мы?
— Ну я! Некому пожелать доброй ночи. Видел Хайдена, вы молодец. Страшно рад. Как э-э… как?..
— Мистер Бейтс, не пригласите ли вы меня пообедать? Все равно на этой неделе или на следующей…
— Сегодня! Согласны?
— А вы ни с кем не уславливались?
— Нет, нет. Собирался обедать один. Я очень вас прошу. Давайте встретимся… Вы не хотите пойти в «Бель Шик»?
— А мы не могли бы опять пойти в «Гранд-Ройял»? И, если можно, пораньше, в половине седьмого.
— Конечно. Я вас буду ждать в вестибюле. В половине седьмого. До свидания.
Бейтс тянул слова, словно не желая с ними расставаться. Но она оборвала разговор отрывистым телефонным «пока».
Немного погодя Бейтс позвонил приятелю, с которым четыре дня тому назад условился вместе пообедать. Лгал он неумело, и приятель дал ему это понять.
Целых полчаса Бейтс был охвачен блаженной, идиотской радостью, но потом в его душу вкралась глумливая мысль. Она угнездилась там и ехидно спрашивала Бейтса: «А может быть, мисс Парди просто угодно, чтобы я нашел ей другую работу?» Это несколько охладило его пыл. В вестибюле отеля «Гранд-Ройял» он поздоровался с мисс Парди скупым кивком… Она пришла ровно в половине седьмого. У Кристин Пэриш минимальное опоздание было двадцать минут.
Они стали спускаться по винтовой лестнице в Флорентийский зал.
— Где вы предпочитаете: внизу или на галерее?
Она повернулась к нему.
Она как будто совсем не изменилась. То же коричневое пальто, отделанное искусственным мехом, которое Бейтс знал лучше любого другого одеяния на свете, тот же взгляд стороннего наблюдателя. Стоя на ступеньках, нервно теребя воротник пальто, она опустила глаза, потом умоляюще посмотрела на Бейтса:
— Вы не сочтете меня очень глупой, если я попрошу, чтобы мы сели за наш прежний столик?.. Он… он приносит счастье.
— Конечно. Так и сделаем.
— Я потому и просила вас прийти пораньше, чтобы столик не оказался занятым. Мне нужен ваш совет в одном очень серьезном деле.
— Серьезном?
— О нет, ничего страшного. Но я как-то растерялась.
Бейтс шел за ней, терзаясь неизвестностью. Их столик был свободен. Он суетливо снял с нее пальто и отодвинул стул.
Когда он кончил заказывать обед, ее глаза снова стали ясными и проницательными, и она сказала:
— Пожалуйста, сделайте вид, что вы рассматриваете монограмму на вилке, хорошо?
— Зачем?
— Затем, что вы это делали в прошлый раз. Вы вели себя восхитительно нелепо. И были очень милы, когда старались не смутить незнакомую девушку.
Он покорно взял в руки вилку, но сразу же отбросил ее и властно спросил:
— Почему вы растерялись?
Ее рука на перилах балкона заметно дрожала. Она тихо ответила:
— Я вдруг обнаружила, что я женщина.
— Я не совсем…
— Я хотела удержаться и не говорить вам, но не могу. Мне… мне очень недостает наших вечерних прощаний и наших завтраков. Я хорошо зарекомендовала себя в Промышленном Синдикате, но мне это безразлично. Я думала, что совсем убила в себе всякую чувствительность. Я ошиблась. Я размазня! Нет! Это неправда! Мне все равно. Я рада.
Она залилась румянцем — будто розовая тень от бокала с вином упала на белую скатерть — и единым духом проговорила:
— Оказывается, мне наша наивная игра дороже успеха. Никто теперь не улыбается мне в окне напротив. Там вывеска какого-то гаража, и я смотрю на нее по вечерам, прежде чем уйти домой. О, я просто жалкая неудачница. Я не могу больше бороться, одна, всегда одна.
Он схватил ее за руки, словно не было вокруг ни официантов, ни публики. Но она высвободила руки:
— Не надо! Пожалуйста! Просто дайте мне выговориться. Я не знаю, радует это меня или огорчает, но у меня нет ни капельки здравого смысла. И мужества нет! Все, что мне нужно… пожалуйста, приглашайте меня раз в месяц обедать, на товарищеских началах…
— О дорогая!
— …и иногда в театр! Тогда я не буду чувствовать себя одинокой. Я смогу работать, и добьюсь успеха, и, может быть, перестану… Только не думайте, что я сверхженщина Бернарда Шоу, которая охотится за мужчинами. Просто… Вы первый человек в Нью-Йорке, проявивший ко мне доброту. Пожалуйста, простите…
— Эмили, не надо быть такой смиренной! Я предпочел бы, чтобы вы заставили меня молить вас, как тогда. — У него перехватило дыхание, и он замолчал. Потом спокойно произнес: — Эмили, будьте моей женой!
— Нет.
— Но вы сказали…
— Я знаю. Мне вас очень недостает. Но вы просто меня жалеете. Поверьте, я не из тех, кто ищет, на кого бы опереться. Я смогу выстоять и одна… почти одна. Вы очень деликатны и великодушны. Но я просила не об этом. Просто время от времени продолжайте нашу игру.
— Но, правда же, я этого хочу. Ужасно хочу! Все это время я каждую минуту думал о вас. Вы согласны выйти за меня замуж? Вот сейчас же?
— Нет.
— Когда-нибудь.
— Не знаю… Месяц назад я бы своими руками убила девушку, которая так малодушна, что молит мужчину о дружбе. Я не знала! Я ничего не знала! Но… Нет! Нет!
— Послушайте, Эмили, вы свободны? Вы разобрались в своих чувствах? Вам по-прежнему нравится мистер Симмонс?
— Он у меня бывает.
— Часто?
— Да.
— Вы ему отказали?
— Да. Тогда я и обнаружила, что я женщина. Но не… не его!
— Значит, моя! Моя! Подумайте, дорогая, невероятно, но город не убил в нас романтики. Мы все-таки нашли друг друга. Какой сегодня день? Среда? Слушайте. В четверг вы пойдете со мной в театр.
— Хорошо.
— В пятницу вы под каким-нибудь благовидным предлогом придете в контору Цветущих Холмов и помашете мне рукой из окна, и моя контора снова станет раем. Потом мы встретимся с вами и пойдем ужинать к моим друзьям Пэришам.
— Хорошо.
— В субботу мы вместе позавтракаем и отправимся прямо в Ван Кортленд парк, и я превращусь в деспота и сделаю вам предложение, и вы его примете.
— Боюсь, что приму. Но остается воскресенье. Что мы будем делать в воскресенье?
ПОХИЩЕННАЯ ПРОЦЕССИЯ
Уэкамин — городок, у которого есть душа. Некогда это была сентиментальная душа, благоговевшая перед верной дружбой первых поселенцев и «Звездным знаменем», но теперь городок растерянно замер между двумя поколениями, чуждый буйным и неразумным помыслам и того и другого. Поколение первых поселенцев постепенно вымерло, а из молодых людей добрая сотня отправилась во Францию в качестве пионеров уже другого рода. Теперь им предстоит увидеть мир, постигнуть его благость и силу, так что вряд ли они захотят вернуться к скаредности кривых улочек Уэкамина.
Те, кто остался — властители мертвой души Уэкамина, — ходят в кино, играют в бридж по маленькой и лелеют только одну заветную мечту: обзавестись автомобилем, ибо собственная машина — это высший признак респектабельности.
Мистер Гейл почувствовал, как пресен городок, не пробыв в нем и десяти минут. Он приехал на Север, чтобы распорядиться наследством, оставшимся от его родственника, покойного владельца уэкаминской сыроварни. Мистер Гейл родился среди сосновых лесов Алабамы, но ничем не напоминал южанина из бесчисленных комедий и мелодрам. Его мощный багровый подбородок свидетельствовал о решительном и деятельном характере. Он говорил так, как говорят жители Нью-Йорка и Сан-Франциско, а не растягивал слова и не повторял то и дело «с вашего разрешения, сударь!»; он не носил ни большой белой шляпы, ни маленькой седой бородки клинышком; он не именовался ни судьей, ни полковником. Его звали мистер Гейл, он был юристом и мятному шербету предпочитал лимонад. Однако всю Гражданскую войну он сражался за Южную конфедерацию и однажды серым туманным утром перед кавалерийской атакой даже разговаривал с самим Джебом Стюартом.[10]
Пока мистер Гейл приводил в порядок имущественные дела покойного, он успел испробовать в качестве собеседников редактора местной газеты и мирового судью, после чего отказался от попыток поддерживать знакомство с уэкаминянами — исключение составила только миссис Тиффени, у которой он в конце концов снял комнату. Миссис Тиффени была дочерью и вдовой первых поселенцев здешних мест. Она сама с молодым мужем приехала сюда из Сент-Пола в фургоне после Гражданской войны. Покойный капитан Тиффени был последним командиром уэкаминского поста Великой армии республики,[11] а миссис Тиффени много лет возглавляла местное отделение Женского вспомогательного корпуса. После похожей на сарай гостиницы «Уэкамин» мистер Гейл чувствовал себя очень уютно в этом домике, столь же аккуратном и почти столь же маленьком, как белая морская раковина, украшавшая газон у его калитки. И глухая тоска, которая еще неделю назад овладевала им, когда он гулял в голубом холоде долгих апрельских сумерек, совсем рассеялась. Теперь он каждый вечер сидел на крыльце домика и согласно кивал, выслушивая рассуждения миссис Тиффенн о политике, выращивании кукурузы, религии и приготовлении оладий.
Как-то вечером, когда мистер Гейл стоял у калитки, через улицу осторожно прокрался мальчишка, сделал вид, будто он не изображает батальон храбрых солдат, почесал пяткой одной ноги щиколотку другой, занялся большим жуком, который, лежа на спине, глупо дергал лапками, кинулся в отчаянную погоню за пустотой, вернулся и приветствовал мистера Гейла отрывистым «здрасте!».
— Добрый вечер, сэр.
— Вы у миссис Тиффени гостите?
— Да, пока.
— А вы откуда?
— Я из Алабамы.
— Из Алабамы? Так вы, значит, южанин?
— Южанин, старина.
Мальчишка оглядел его с головы до ног, расковырял носком кучку прошлогодних листьев у обочины, свистнул и заявил:
— А вот и нет! Где же тогда ваш серый мундир? И своего черномазого у вас нет. Я ведь видел конфедератов в кино, и они всегда ходят в серых мундирах, и почти всегда со своим черномазым и с большой саблей с кисточкой. А у вас сабля с кисточкой есть?
— Чего нет, того нет. Но зато есть дома серый конфедератский мундир.
— Вправду есть? А в рейды вы ходили?
— Нет. Но я о них много знаю. А один раз я обедал с полковником Мосби.
— Взаправду? А как вас зовут? А вы были генералом?
— Нет, я был капралом. Зовут меня Гейл. А как зовут вас, если я возьму на себя смелость задать вам такой вопрос, как мужчина мужчине?
— Джимми Мартин. Я живу вон тут, напротив. У моего папаши есть большущий граммофон и семьдесят пластинок. А вы были капралом? А почему не офицером? Расскажите про рейды!
— Но объясните мне, Джеймс, почему такого верного северянина, как вы, вдруг заинтересовали мятежники-южане?
— Ну, я вожак скаутов. А у нас нет скаут-мастера. То есть он был, только уехал, и теперь мне надо придумывать игры, а нам всем до чертиков надоело открывать Северный полюс и перевязывать раненых в Бельгии. А потом еще я всегда попадаю в эскимосы, когда мы открываем полюс, а то они не хотят играть. Ну, я и подумал, что мы отправимся в рейд и захватим у янки поезд.
— Что же, давайте сядем на крыльцо, Джеймс, и потолкуем. Пожалуй, и я не прочь найти свежего слушателя для своих историй. Так будем же оборонять Ричмонд и отправимся в глубокий рейд по тылам Иллинойса, к нашему обоюдному удовольствию. Вас это устраивает?
Джимми это вполне устраивало, и он сидел на крыльце и слушал, и вышедшая к ним миссис Тиффени тоже слушала, и трое поклонников героической эпохи, улыбаясь друг другу, сидели так до тех пор, пока с другой стороны тихой улочки не донесся длинный, визгливый и сонный зов: «Джи-и-имми Маа-артин!»
А затем мать Джимми обнаружила, что ее отпрыск возглавляет рейд южан, и успокоилась, только когда ее убедили, что это очень хороший рейд: руководил им генерал Грант,[12] а все его участники уже давно добровольно отпустили своих рабов на волю.
Потом Джимми сманил мистера Гейла пойти бить острогой щурят, и весь субботний день в ивовых зарослях на берегу речки бродили неторопливый грузный мужчина и маленький мальчик, который то и дело пускался вприпрыжку, чтобы не отстать от своего широко шагающего спутника.
По завершении ловли Джимми весело объявил, что его здорово выпорют — дров-то он не наколол! Чтобы выручить его, мистер Гейл придумал сложный стратегический план и, пробравшись вслед за Джимми через конюшню в сарай Мартинов, целый час колол дрова, а Джимми складывал их в поленницу.
Дружба Джимми и рассказы миссис Тиффени о днях ее девичества в штате Вермонт и о пионерских временах Миннесоты пробудили у мистера Гейла те светлые воспоминания юности, которые он, отправляясь на Север, надеялся оживить в товарищеских беседах с ветеранами уэкаминского поста Великой армии республики.
Но в Уэкамине не было В.А.Р. На протяжении последнего года местный пост был стерт с лица земли. Из четырех ветеранов, в прошлом году украшавших здесь могилы в День памяти павших, трое умерло, а четвертый переехал дальше на запад к сыну, как это водится на Среднем Западе. Еще десять лет назад пятьдесят крепких стариков торжественной процессией отправлялись в этот день к Лесному кладбищу, а теперь из них не осталось ни одного.
Однако они продолжали жить в речах миссис Тиффени, которая без конца просила мистера Гейла подтвердить, что и в этом году могилы будут украшены, пусть старые товарищи по оружию и не примут уже участия в церемонии. И мистер Гейл неизменно подтверждал, хотя, наведя тайные справки в парикмахерской, он установил, что в этом году День памяти вряд ли будет отмечен процессией. Городской оркестр развалился, когда парикмахер, он же дирижер, приобрел автомобиль. А директор школы пришел к заключению, что в этом году не стоит тратить времени и обучать школьниц в красно-бело-синих ситцевых одеяниях петь «Алмаз океана, Колумбия!», стоя в украшенном цветами фургоне.
Мистер Гейл попробовал обрадоваться тому, что День памяти ушел в небытие. Он сказал себе, что очень доволен, — ведь все его былые враги умерли. Однако он никак не поддавался на собственные уговоры. И слушая, как миссис Тиффени робко высказывает надежду, что День памяти не будет забыт, он и себя ощущал никому не нужным обломком прошлого. Для нее День памяти павших был самым ярким днем года, когда все ее друзья, и живые и мертвые, встречаются вновь. И она с неколебимым упорством верила, что он будет как — то отмечен.
Она обновила отделку на синей шляпке, которую всегда надевала, когда шла в процессии во главе Женского вспомогательного корпуса. Только накануне праздника она узнала правду. Вечером она не спустилась к ужину, и мистеру Гейлу по ее просьбе прислуживала дочка соседки. Девица хихикала и задавала мистеру Гейлу нелепые вопросы о сливках южного общества, пока его седые брови не сошлись в неприступную линию обороны. После ужина он отправился погулять и сердито зашагал по дороге, убегавшей от городка на восток, — в те минуты, когда щемящая тоска немного его отпускала, он ворчал себе под нос:
— Что-то мне так скверно, словно завтра они забудут помянуть меня и моих товарищей, а не тех, против кого я дрался. Эти ребята-янки были молодцы хоть куда. Они задали-таки мне жару. И вот теперь они лежат там, на кладбище, забытые, и ждут, и верят, что мы… что проклятые янки помянут их. Послушай, Дж. Гейл, эсквайр, сентиментальная развалина, почему это ты вдруг из-за них расхныкался? Ты ведь прекрасно знаешь, что ненавидел всех янки — они же убили твоего отца и брата. Только… эти старики там, на кладбище, ждут, бедняги…
Вдруг он увидел перед собой обнесенное забором поле. Он заглянул за ограду. Там смутно белели каменные столбики. Перед ним было кладбище. Мистер Гейл остановился и поежился. Ему почудилось, что из темноты доносится леденящий душу ропот. Каждый белый могильный камень казался укоряющим призраком старого солдата, которого лишили положенной ему награды. Мистер Гейл пошел прочь спокойной, размеренной походкой, которая была более панической, чем самое беспорядочное бегство.
Утро забытого Дня памяти было лучезарным, как солнечный зайчик на стволе бука. Но нигде не суетились школьницы в платьях расцветки национального флага, матери семейства не укладывали в корзины лимонад и бутерброды, робкие старички в поношенных штатских костюмах не преображались в бравых солдат. Лишь некоторые домохозяева по привычке вывесили флаги. Но среди них не было миссис Тиффени. Спустившись к завтраку, мистер Гейл увидел, что она нежно поглаживает ветхий шелк старого флага. Но она тут же сунула флаг в чулан, заперла дверь и засеменила на кухню. Завтрак она подавала медленно, с отсутствующим видом, и часто прижимала ладонь к боку. Мистер Гейл попросил разрешения помочь ей. Но она и слушать об этом не захотела. Казалось, она старается держать себя в руках назло всем.
Мистер Гейл поспешил уйти. В праздничный день он не мог заниматься делами и бесцеремонно навязал свое общество Джимми Мартину, который пребывал в блаженном упоении по случаю того, что начались летние каникулы и его горячо любимые учителя разъехались кто куда. Семейство Мартинов не собиралось участвовать ни в одном из намеченных на этот день пикников, и Джимми с мистером Гейлом принялись обсуждать вопрос, не отправиться ли им на рыбную ловлю. Они удобно расположились в шезлонгах на крохотном газончике и совсем забыли о некоторой разнице в возрасте.
Вдруг в доме громко хлопнула дверь. Они умолкли и прислушались. Взволнованные шаги простучали по ступенькам крыльца и, приближаясь, заскрипели по песку дорожки. Они оглянулись. К ним бежала миссис Тиффени. Она не надела шляпки, и жиденькие пряди седых волос падали на морщинистый лоб, как лохмотья флага, разорванного шрапнелью. Ее неподвижные глаза лихорадочно блестели, дрожащие руки цеплялись за воздух. Она простонала:
— Мистер Гейл, я не могу, не могу! Неужели они не понимают, что они делают! Там лежит мой муж… и я слышу, как он зовет меня, чтобы я пришла, чтобы показала, что помню его. Да-да, я слышу его — словно ветер плачет под дождем. Я сказала ему, что пойду на кладбище одна, сказала, что принесу корзинку цветов, — ведь яблони уже зацвели. А он сказал, что нужно, чтобы и другие пришли — процессия, как положено в День памяти, чтобы почтить все могилы. Я слышала его, слышала…
Мистер Гейл давно уже вскочил на ноги. Теперь он обнял ее за плечи и крикнул:
— Сегодня будет процессия, сударыня! Мы помянем их всех — всех до одного, почтим каждую могилу. Идите домой, голубушка, наденьте шляпку и приготовьте корзиночку, чтобы нам с вами было чем перекусить после окончания церемонии. Может, вы даже успеете испечь лепешки, но помните: через час или полтора вы услышите, что процессия приближается, так что будьте совсем готовы.
Голос мистера Гейла звучал внушительно и неопровержимо, как далекая канонада. Он пригладил растрепавшиеся волосы миссис Тиффени и, тихонько похлопывая ее по плечу с неуклюжей нежностью старого преданного пса, подвел к облупившейся двери ее дома.
Потом он подошел к шезлонгу, сел, покачивая головой, и поскреб в затылке. Джимми, который предпочел на время исчезнуть, теперь вернулся и сказал со вздохом:
— Я бы помог ей, только вот как?
— Еще бы, Джеймс, конечно, помог бы, будь ты постарше, а пока беги-ка поиграй где-нибудь еще. Старый мятежник должен пораскинуть отупевшими мозгами и превратить вон тех воробьев в процессию северян с оркестром и с двадцатью флагами, не меньше. Ну, беги.
Минут пять, а может быть, десять мистер Гейл поглаживал подбородок, а потом вдруг улыбнулся. Он торопливо зашагал к аптеке, вошел в телефонную будку и позвонил в три гостиницы трех городков, отстоявших от Уэкамина не больше, чем на десять миль.
Затем он бросился к прокатной конюшне, где давались напрокат автомобили-два на весь город. Одного автомобиля уже не было. Второй как раз собирался выехать, когда он тяжелой рысцой подбежал к воротам.
— Я беру этот автомобиль, — сказал он конюху-шоферу.
— Ничего не выйдет. — И конюх взялся за заводную ручку.
— Почему?
— Потому что я обещал покатать одну крошку, понятно?
— Послушайте, я мистер Гейл, и…
— Я знаю, что вы мистер Гейл. Ну и что? Видел вас на улице. Вы, приезжие, воображаете, что мы тут спим и видим, как бы вам услужить…
Мистер Гейл, пыхтя, надвинулся на него, как паровой каток, и ласково сказал:
— Сынок! Я всю ночь не ложился и, пожалуй, хлебнул чуток лишку. И вот вздумалось мне прокатиться. Сынок, такое мирное сердце, как мое, еще не билось в человечьей груди; я просто котеночек, ловящий свой хвостик, но у меня в заднем кармане револьвер с пулькой сорок четвертого калибра — с преподлейшей пулечкой на всем Юге. Может, ты, слышал, что мы, южане, народ вспыльчивый, а? Сынок, мне этот автомобиль нужен на часок-другой, не больше. Понял?
Он ревел. Он широко и неопределенно размахивал руками, а его вспотевшие ладони побагровели. Он схватил конюха за плечо. Кадык бедняги судорожно заходил вверх и вниз.
— Ладно, садитесь, — прохныкал конюх.
Мистер Гейл умиротворенно забрался в автомобиль.
— В Джоралмон, сынок, и побыстрее, сынок, как можешь быстрее, — пророкотал он.
Автомобиль мчался по дороге, а мистер Гейл размышлял:
«Погодите-ка! Уже лет сорок прошло с тех пор, как я в последний раз держал в руках огнестрельное оружие, и двадцать лет я никого не называл сынком. Ну, что делать!»
Потом он начал думать о другом.
«Дайте-ка взвесить. Я буду майором. Нет, полковником — полковником Гейлом десятого нью-йоркского полка. Поздравляю с повышением, капрал Гейл. Даже негры вас так не величали — ну, там «капитан» или просто «хозяин». Вы делаете карьеру, любезнейший. Бедная женщина! Бедное верное сердце…»
Когда они добрались до городка Джоралмона, мистер Гейл высунулся из автомобиля и спросил у бездельника, томившегося скукой на углу:
— Где процессия Дня памяти? Где ветераны?
— На Гринвудском кладбище.
— На Гринвудское кладбище, сынок, — рявкнул он, и конюх нажал на акселератор.
У кладбищенских ворот мистер Гейл сказал вкрадчиво:
— Ты уж дождись меня, сынок. Хмель у меня повыветрился, и я зол, сынок, чертовски зол.
— Ладно уж, — проворчал конюх. — А как насчет платы?..
— Вот пять долларов, держи. Когда я вернусь со своими друзьями, получишь еще пять. Я собираюсь похитить всю здешнюю процессию.
— Это как же?
— Я их окружу.
— Ах ты… черт! — пробормотал конюх.
Увидев среди кладбищенских деревьев флаг полка северян, южанин ощетинился. Но тут же пожал плечами и неторопливо замешался в толпу. На могилах в мутно-зеленых стеклянных вазах ярко пылали красные и желтые цветы, оттененные жарким сиянием утра. На зеркально-коричневых плоскостях полированных гранитных надгробий с пронзительно-белыми надписями вспыхивали ослепительные блики. В воздухе висел густой запах пыли, молодых кленовых листьев и большого скопления людей. Рядом со священником в белом облачении стояли ветераны, еще оставшиеся в Джоралмоне, — восемь стариков, чьи морщинистые лица обрели благодаря символическим одеяниям суровое достоинство. Сейчас их глаза очистились от мелочной хитрости житейских забот. Рука янки с козлиной бородкой, у которого рядом со значком В.А.Р. был пришпилен английский флажок, лежала на плече человека с тевтонской внешностью, носившего эмблему дивизии Зигеля.[13]
Вокруг ветеранов В.А.Р. стояли «Сыновья ветеранов», пожарные, Женский вспомогательный корпус и джоралмонский оркестр, а дальше беспорядочной толпой теснились горожане. Дорога рядом с кладбищем была забита автомобилями и конными экипажами, и постукивание копыт (лошадей донимали мухи), врываясь в паузы, которые делал священник, придавало его речи какой-то деревенский оттенок.
Тихий городок, далекий от суматохи большого мира, обновлял свою страстную веру в единство Штатов.
Мистер Гейл пробрался в первый ряд. Спину развязного незнакомца жгли негодующие взгляды. Голос седого священника с запавшими щеками на миг зазвенел негодованием. Мистер Гейл притворился, что ничего не замечает. Но ему стало жарко. В горле першило от пыли. В бока ему упирались острые локти. Ему было очень нехорошо. Но он только упрямо поклялся: «Нет, я своего добьюсь, хотя бы мне пришлось похитить их всех до единого!»
Едва священник закончил, как мистер Гейл бросился к ветеранам и бодрым, громким голосом начал:
— Господа!
Священник смерил его взглядом с высоты переносной кафедры:
— Как вы смеете нарушать церемонию?
Толпа, всколыхнувшись, придвинулась к ним — так уличные зеваки бросаются вперед, чтобы скорее увидеть труп убитого. Голоса сливались в угрожающий ропот, разинутые рты были страшны. Но мистера Гейла переполнял тот гнев, когда человек уже не способен бояться толпы и видит в ней лишь одного ничтожного противника.
— Слушайте! — рявкнул он. — Я намерен пригласить вас еще на одно поминовение павших! Может, вам будет интересно узнать, что меня зовут полковник Гейл и что я командовал десятым нью-йоркским полком почти всю войну!
— Ах, так, — промурлыкал священник. — Значит, вы полковник… простите… Гейл?
— Да! — Священник облизнул губы, и мистер Гейл с вымученной шутливостью добавил: — Что же вы не приветствуете старшего по чину? Ну, да служитель божий — это не то, что мы, старые солдаты. Так вот, ребята, слушайте меня! Одна бедняжка…
Голос священника вошел в это добродушное рокотание, как нож в масло:
— Простите, дорогой сэр, я не вполне понимаю, почему вам вздумалось разыгрывать этот фарс. Я, конечно, «служитель божий», как вам угодно было выразиться, но, кроме того, я и старый солдат. Сейчас я командую этим постом, но, «может вам будет интересно узнать», что я всю войну прослужил в десятом нью-йоркском! И если память мне не изменяет, вы даже и дня не были нашим полковником!
— Да, не был! — взревел мистер Гейл. — Не был! Я-южанин. Из Алабамы. А после нынешнего дня, пожалуй, уже и не замиренный южанин! И рад, что не был синебрюхим янки — как подумаю, что эта бедняжка умирает сейчас в Уэкамине от разбитого сердца!
И самыми обыденными фразами, иногда даже трогательными, самыми простыми словами и уже без бодрого добродушия мистер Гейл рассказал им историю миссис Тиффени, вдовы капитана армии северян, но он не скормил жадным ушам толпы ее имя.
Его голос становился все более злым.
— Вот почему, — закончил он, — я хочу, чтобы вы поехали в Уэкамин почтить и тамошние могилы. И мне решительно все равно, дорогой сэр, отдаете вы мне честь или нет. Если вы, ребята, поедете в Уэкамин, значит, не перевелись еще настоящие мужчины шестидесятых годов. Но если вы, восьмеро здоровенных молокососов — янки, испугались одного старика мятежника, значит, черт побери, я выиграл еще один бой за Американскую конфедерацию!
Молчание. Побагровевший мистер Гейл стоял между ними, словно гранитная скала. Его глаза были такими же суровыми, как и твердо сжатые кулаки. Но верхняя губа, усеянная капельками пота, дрожала.
Медленно, словно в бредовом забытьи, священник снял облачение и отдал его стоявшему рядом мальчику. Черный сюртук сразу придал его худому лицу казенную сухость. Когда он обратился к мистеру Гейлу, его голос был голосом вежливого и усталого старика.
— У вас есть автомобиль, чтобы отвезти нас в Уэкамин?
— Он вместит только пятерых.
Священник сказал своему соседу:
— Можем мы воспользоваться вашим автомобилем? — и вдруг рявкнул: — В две шеренги становись! Сми-ирно! Кру-угом! Шаго-ом марш!
Еще не договорив, он встал на свое место, и ветераны строем направились через расступившуюся толпу к воротам кладбища. Их лица посерели от утомления, пыли и старости, но они смотрели прямо перед собой и шли размеренным шагом, словно только что получили приказ занять опасную позицию и слишком устали, чтобы бояться.
Строй замыкали флейтист и барабанщик. Флейтистом был весьма толстый банкир, но он дул в свой инструмент с усердием мальчишки. Барабанщик, высохший старичок, выбивал пергаментными руками «Когда Джонни вернется домой», но его желтоватые, устремленные в одну точку глаза были полны боли, а подбородок дрожал.
— Стой! — скомандовал священник. — Ребята, я считаю, что в этом походе командовать должен полковник Гейл. Полковник, прошу вас принять команду над постом.
— Н-но ведь это против устава?
— Дорогой мятежник, все, что сейчас происходит, против устава!
— Правда, — согласился мистер Гейл. — Сми-ирно!
Старик барабанщик, выпучив глаза, вдруг обмяк и осел, упершись дрожащими пальцами в землю. От толпы отделились два человека и подхватили его.
— Идите дальше, — простонал он, и барабанные палочки, глухо стуча, покатились по дорожке.
Остальные старики ждали, обмениваясь тревожными взглядами. На каждом лице было написано: «Опасная затея. День слишком жаркий. Того и гляди мы тоже…»
Священник накинул ремень барабана на шею и подхватил палочки.
— Играйте же, Ланс, черт вас возьми! — буркнул он величественному банкиру-флейтисту, и они вдвоем соорудили нечто вроде марша «Наступая через Джорджию».[14]
Отряд подравнялся и пошел вперед, не дожидаясь команды мистера Гейла, который, шествуя во главе процессии, дивился про себя: «Вот уж не думал, что мне придется маршировать под этот мотив!»
Два автомобиля помчались из Джоралмона в Уэкамин. Из-под колес брызгал песок, машины швыряло на ухабах, и старики испуганно цеплялись за сиденья и борта. Они остановились перед домом миссис Тиффени.
Она сидела на крыльце в пришпиленной к седым волосам синей шляпке с коричневой вуалью и держала на коленях корзину цветов, а рядом стояла коробка из-под туфель со съестными припасами. Увидев автомобили, она бросилась навстречу, бессвязно бормоча слова приветствия. Старики ответили ей с изысканной галантностью. Один из них, который когда-то был знаком с капитаном Тиффени, попробовал произнести речь. Но говорить ему было не о чем. И вдруг все происходящее утратило смысл. Мистер Гейл привез их сюда, но дальше-то что?
Их затопили волны царившей вокруг тишины. Это была не процессия. Просто девять стариков и старуха разговаривали на пыльной улице. Не было музыки, не было толпы, не было зрителей — ничего, что могло бы превратить обычных, будничных людей в единое марширующее упоение. Они были стариками — усталыми, немного голодными, и никто не видел в них героев. Мимо проехал маленький автомобиль — пассажиры даже не взглянули на них.
Процессия, переставшая быть процессией, почувствовала неловкость, попыталась поддержать бодрый разговор и скисла.
Равнодушная невозмутимость городка поглотила их. После маленького автомобиля ничто не нарушало пустынности улицы. Лениво кивали клены. Где-то вдали прокукарекал петух. С соседнего пустыря на них тупо смотрела жующая жвачку корова. Тихий треск кузнечиков в траве сонной одурью пронизывал тишину. Уходящая в пшеничные поля улочка становилась все жарче, и их старые глаза видели ее как сквозь дымку. Они стояли возле автомобилей, трогая ручку, поглаживая верхний край дверцы, и думали, что нужно отказаться от этой детской затеи и признать себя дряхлыми развалинами. Около их ног беззаботно прыгал воробей.
— Ну? — спросил священник:
— Ну-у… — сказал мистер Гейл.
И тут из своего дома вышел Джимми Мартин.
Он увидел их. Он остановился как вкопанный. Он в восторге трижды подскочил и кинулся к ним со всех ног.
— Будет процессия? — взвизгнув от радости, спросил он мистера Гейла.
— Боюсь, что нет, Джимми. Пожалуй, ничего не выйдет. Молодежи это неинтересно. Пожалуй, мы не пойдем на кладбище.
— Нет, нет, нет! — завопил Джимми. — Скауты хотят пойти!
Он стремглав бросился к себе в дом, а рассыпавшаяся процессия смотрела ему вслед с тихим стариковским удивлением. Он выскочил из двери в скаутской форме с красным шарфом. В руке он держал жестяной горн.
С сияющими глазами он остановился у калитки и протрубил единственный известный ему сигнал — побудку. Сначала хриплые, неуверенные звуки робко пробирались среди деревьев, потом налились силой, загремели отчаянной мольбой, затрепетали мальчишеским преклонением перед героями.
Из калитки соседнего дома выбежал еще один мальчишка, огляделся и кинулся к ним, пыхтя и спотыкаясь. Он был без шапки, плисовые штанишки не были застегнуты под коленкой, но его лицо дышало той не знающей возраста преданностью идее, которая позволила ушедшим на войну юнцам 1864–1865 годов творить чудеса. Он отсалютовал Джимми. Джимми что-то сказал ему, и плечом к плечу, с глубоким достоинством, в котором не было ничего смешного, они, печатая шаг, прошли мимо стариков и стали по стойке «смирно», устремив глаза туда, где в жаркой дымке лежало кладбище с забытыми могилами.
С клена дальше по улице соскользнул еще один мальчишка, другой вынырнул из плодового сада, еще десяток материализовался из сонной дали. Они метались, как муравьи в потревоженном муравейнике, перекликались, сломя голову летели домой и выбегали, одетые в скаутскую форму. А потом мчались по улице и становились в строй.
Они стояли, расправив детские плечи, глядя вперед, ожидая приказа. И мистер Гейл почувствовал, что в один прекрасный день Уэкамин вновь обретет душу.
Джимми Мартин, чеканя шаг, подошел к мистеру Гейлу. Жиденьким, дрожащим, но полным восторженного напряжения голосом он отрапортовал:
— Бой-скауты построены, сэр!
— Сми-ирно! — крикнул мистер Гейл.
Сгорбленные спины стариков разогнулись, разочарование и простудная краснота исчезли из их глаз. Они построились позади мальчиков. Даже уэкаминский конюх не выдержал. Он выскочил из своего автомобиля, усадил в него миссис Тиффени и, развернув машину, стал позади процессии. Ниоткуда, отовсюду вдруг собралась толпа и, вытянувшись вдоль тротуара, еще негромко выкрикивала приветствия. Две женщины поспешили добавить цветов в корзинку миссис Тиффени. Отупевший городок пробуждался, обретая энергию, веру и надежду.
Мистер Гейл сказал священнику:
— Может быть, этот сводный оркестр барабанщиков и флейтистов янки разок сыграет «Дикси»?
И сразу же священник-барабанщик и банкир-флейтист громко заиграли «Далеко на Юге, в хлопковой стране». Знаменосец поднял флаг.
Мистер Гейл рявкнул:
— Шаго-о-ом…
Его перебил вопль миссис Тиффени:
— Погодите! Силы небесные! В День памяти павших — и ни одной сабли! Вы, мужчины, никогда ни о чем не подумаете…
Она побежала в свой дом и тут же вернулась, словно дарохранительницу, неся на вытянутых руках саблю капитана Тиффени.
— Мистер Гейл, может быть, вы согласитесь взять оружие северянина? — спросила она.
— Нет, сударыня!
Она ахнула.
Мистер Гейл пристегнул саблю и воскликнул:
— Это уже не сабля северянина, сударыня, и не сабля южанина. Это сабля американца! Шаго-о-ом марш!
1919Примечания
1
King's blood (англ.) — королевская кровь
(обратно)2
Здесь: служащий компании по торговле пушниной, водивший караваны на отдаленные фактории и посты (фр.)
(обратно)3
траппер, охотник (фр.)
(обратно)4
«В пути» (фр.)
(обратно)5
В пути я повстречал трех всадников // на добрых конях… (фр.)
(обратно)6
с совершенным почтением (фр.)
(обратно)7
Положение обязывает (фр.)
(обратно)8
гарантия личной неприкосновенности (лат.)
(обратно)9
и так до скончания века (лат.)
(обратно)10
Стюарт, Джеймс Юэдл Браун, по прозвищу Джеб (1833–1864) — один из видных генералов армии южан.
(обратно)11
Великая армия республики (В. А. Р.) — организация ветеранов армии северян, основанная в 1866 году с целью увековечения памяти павших и помощи их семьям, а также неимущим членам организации. Ее отделения называются «постами».
(обратно)12
На самом деле генерал Грант был главнокомандующим армии северян, а в 1869–1877 гг. — президентом США.
(обратно)13
Зигель, Франц (1824–1902) — немец, социалист и деятель рабочего движения. Во время Гражданской войны в США — генерал в армии северян.
(обратно)14
«Наступая через Джорджию» — боевая песня прославляющая поход генерала Шермана из штата Джорджия к морю (1864), в результате которого восточные районы территории южан оказались отрезанными от западных, снабжавших их продовольствием.
(обратно)
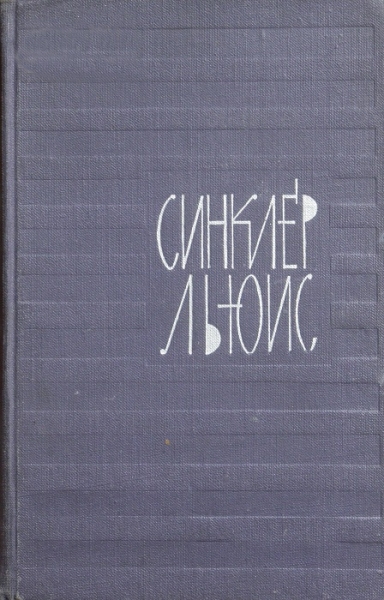

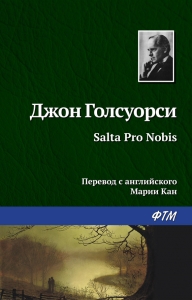
Комментарии к книге «Том 8. Кингсблад, потомок королей. Рассказы», Синклер Льюис
Всего 0 комментариев