Синклер Льюис
ГИДЕОН ПЛЕНИШ
1
Тревожный свисток манхэттенского экспресса разбудил мальчика, и улыбка тронула его квадратное лицо, потому что он давно уже смутно верил, что когда — нибудь сядет на этот поезд и умчится туда, где в высоких, просторных залах его будут ждать миллионеры, поэты, актрисы. Он, как равный, войдет в их круг, и все будут восторгаться им.
Он и сейчас, в 1902 году, десятилетним школьником не мог жаловаться на жизнь. У его отца, ветеринара и вдобавок набивщика чучел, дела шли недурно для такого городка, как Вулкан — седьмой по величине город благословенного штата Уиннемак, насчитывавший 38 тысяч жителей. Красный кирпичный дом Пленишей был одним из самых щеголеватых на Сикамор-террас, в нем имелся телефон и полный комплект «Американской энциклопедии» в кожаных переплетах. Дух культуры и предприимчивости не был чужд этому дому. Но, прислушиваясь ночью к манящему свистку, маленький Гидеон Плениш твердил себе, что его ждут дела поважнее, чем набивка чучел и лечение желудочных расстройств у спаньелей.
Он станет сенатором или знаменитым проповедником, одним из тех, кто произносит звучные, высокопарные речи, и он заставит аудитории в двести и триста человек слушать залпы его громовых прилагательных к словам «свобода» и «Плимут-Рок».[1]
Но последний отголосок свистка, донесшийся из-за болот и фабричных предместий, прозвучал так затерянно и тоскливо, что к мальчику вернулись его обычные сомнения в себе, в своем ораторском даре; и маленькое квадратное лицо приняло напряженно тревожное выражение, словно у пророка, который жаждет вдохновения свыше и в то же время — пищи более пряной, чем дикий мед и акриды.
У Гида уже слегка кружилась голова на крутой тропе, уводившей его вдаль и ввысь от чучельной мастерской отца. Его томило скорбное предчувствие, что жизнь обречет его на величие и на приступы горной болезни.
В кабинет декана Адельбертского колледжа ворвался коренастый молодой человек с шевелюрой, похожей на шерсть кота тигровой масти. Он сверкнул глазами на изумленного декана, выкинул вперед увесистую руку, точно регулировщик уличного движения, и заревел:
— «Если они осмелятся пойти в открытый бой за золотой стандарт,[2] мы будем драться с ними до последнего вздоха!» А?
— Да, да, — умиротворяюще произнес декан.
Это был человек почтенных лет и солидных знаний, вполне достойный руководитель Адельберта — небольшого пресвитерианского колледжа с отличной репутацией. И он привык иметь дело с первокурсниками. Но Гид Плениш продолжал с яростным пылом:
— «Опираясь на производящие массы в Америке и во всем мире и при поддержке промышленных кругов…»
Декан перебил его:
— «Коммерческих кругов», а не «промышленных кругов». Если уж вы желаете цитировать Уильяма Дженнингса Брайана,[3] мой юный друг, цитируйте точно.
Гид явно огорчился. Всю свою долгую, полную честолюбивых стремлений жизнь — ему недавно минуло восемнадцать — он страдал вот от такого грубого непонимания. Но речь Брайана он знал наизусть до самого конца, и в нем жил прирожденный лидер, который немедленно пускает в оборот всякую крупицу приобретенных знаний. Он снова зарычал:
— «…при поддержке коммерческих кругов, рабочих кругов и прочих трудовых элементов везде и повсюду мы ответим на их требования золотого стандарта словами: «Вам не удастся надеть на чело трудового человечества этот терновый венец, вам не удастся распять человечество на золотом кресте», — в общем, сэр, я хочу посещать судебную риторику и импровизацию, мне нужно, я для того и поступил в Адельберт, а я спросил профа…
— Профессора.
— Ну да, профа, а он говорит, что первому курсу не полагается судебная риторика, а мне все равно нужно.
— А может быть, вы удовлетворитесь основами риторики и английского языка — Вордсвортом с его нарциссами?
— Нет, сэр. Вам, верно, покажется нахальством, но у меня есть своя программа, с которой я желаю выступить.
— Что ж это за программа такая?
Гид выглянул в приемную. Никого там не было, кроме секретаря декана. Тогда он начал, распаляясь собственным красноречием:
— Мне представляется, что нашей стране в ее политической жизни нужны молодые люди, обладающие более высокими моральными принципами и более глубоким знанием истории, а также… гм… основ гражданского права, чем ее сегодняшние политические деятели; эти люди возьмут на себя осуществление еще не завершенной задачи, которая состоит в том, чтобы вести страну вперед… гм… к высотам Свободы, Равенства, Братства, Свободы и — ну, в общем, к высотам…
— Демократии.
— Вот-вот. Демократии. Так что видите, мне непременно нужно посещать риторику.
— Как пишется «риторика», молодой человек?
— По-моему, так: р-и-т-о-р-е-к-а. Значит, можно?
— Нет.
— Что вы сказали, сэр?
— Я сказал «нет».
— Вы не разрешаете мне посещать риторику?
— Нет.
Гид растерялся. Видимо, путь будущего лидера тернист и извилист. И тут он заметил, что в приемную вошел другой первокурсник, долговязый, тощий тип, явно не из породы идеалистов, стоит и прислушивается. Гид понизил голос, но продолжал настаивать:
— Я был украшением ораторской команды в школе Линкольна в Вулкане, а это пятая по величине средняя школа в штате.
— Все равно. Есть правило. Публичные выступления входят в программу старших курсов.
— У нас был диспут с командой школы У эбстера из Монарка на тему «Аэропланы не имеют военного будущего», и мы выиграли.
— Мой юный друг, ваше рвение весьма похвально, и…
— Значит, можно? Я буду посещать! Урра!
— Нет, нельзя, и вы не будете посещать. Ступайте.
Гид поплелся из кабинета с чувством недоумения — это чувство ему не раз предстояло испытать в жизни, когда он видел, как люди не умеют ценить тех, кто хочет принести им пользу.
Долговязый первокурсник ехидно покосился на него, когда он проходил через приемную.
Под конец своего второго дня в Адельберт-колледже Гид подкреплялся в закусочной Дока. К его утреннему разочарованию прибавилась еще трудность выбора между двумя студенческими братствами: Клубом Филоматиков и Тигровой Головой. Временно он поселился у миссис Джонс и рисковал испортить свое превосходное пищеварение ветеринарского сына, питаясь колбасой и пикулями в заведении Дока.
Рядом со своим креслом, широкие ручки которого заменяли ему обеденный стол, он вдруг увидел тощего типа, того самого, что утром заходил в приемную декана.
— Ну, как дела? — спросил тип.
— Дела? Дела ничего.
— Удалось записаться на уурс публичных выступлений?
— Да, как бы не так!
— А почему бы вам не вступить в ораторскую команду?
— Черта тут вступишь! Я уже пробовал говорить с капитаном, но он мне сказал, что в команду принимают только со второго курса. Здесь просто считается, что у первокурсников не должно быть ни интеллекта, ни идеалов! Впрочем, вам-то, верно, на это наплевать.
— Почему вы так думаете?
— Такой у вас вид… Кстати, как вас звать?
— Хэтч Хьюит.
— А меня Гидеон Плениш.
— Очприятно!
— Очприятно!
— Так почему же вы решили, мистер Плениш, что мне наплевать, разрешается ли в этой лавочке первокурсникам иметь идеалы?
— Могу вам сказать, мистер Хыоит, у вас такой вид, словно вы не прочь посмеяться над возвышенными натурами.
— Я, может быть, и в самом деле не прочь, мистер Плениш. Но именно потому, что я идеалист.
— Вот это здорово, Хэтч! Честное слово, это здорово! Ох, и рад же я! Вы себе даже представить не можете, как мало находится собеседников-идеалистов в фабричном городе, вроде нашего Вулкана.
— Да и в Чикаго не больше.
— Чи-каго? — Гид преисполнился почтения. — Вы из Чикаго?
— Мгм.
— Ух ты! Что же вас занесло в эту дыру?
— Здесь плата за обучение ниже.
— Вот бы мне повидать Чикаго! Мать честная! Там, говорят, есть зал на шесть тысяч человек. Представить себе только: ты стоишь на эстраде, а перед тобой такое скопище народу! А еще говорят, там крепкая организация сторонников женского равноправия. Это — большое дело, я считаю. Женщины должны иметь право голоса, согласны? Нам нужны женщины для облагораживающего влияния в политике.
— На мой взгляд, женщины больше нужны для другого.
— Хэтч, вы, кажется, назвали себя идеалистом!
— Я, пожалуй, скорее негативный идеалист. Ненавижу все это жульничество. Ненавижу богатых барынь, которые покрикивают на продавщиц в магазинах, и жирных боровов с сигарой, торчащей во рту, точно разросшаяся бородавка. И еще ненавижу книги вроде «Четок» миссис Баркли,[4] которые расходятся в сотнях тысяч экземпляров. Понятно вам?
— У меня такой ненависти нет. Вот о чем я слышать не могу спокойно, так это о том, как маленькие ребятишки работают на текстильных фабриках. Но я скорей позитивного склада, так сказать. Я бы хотел, чтоб люди, так сказать, доросли до мысли, что нашей стране самим богом определено стать колыбелью новой свободы.[5] Вам, верно, кажется, что все это возвышенный вздор?
— Нет, нет, ничуть! Я только не люблю, когда люди цитируют Линкольна или библию и водружают национальный флаг или крест там, где больше подошла бы чековая книжка или три золотых шара.[6] Но я вам завидую. Я хотел бы верить в искренность людских восторгов. Я ведь из низов, знаете ли. Папаша у меня был ломовой извозчик, хороший старик, мастер петь песенки Гарри Лодера[7] и исправный член профсоюза, но, бог ты мой, и заливал же он за ворот! Я пошел работать с двенадцати лет, был рассыльным в Вестерн Юнион — помню, раз в сочельник бегал с поздравительными телеграммами до четырех часов утра, — а дотянулся до южночикагского отделения «Кроникл».
— Ух ты! Репортером?
— Репортером. Но я же много старше вас. Мне уже внаете сколько — двадцать один!
Оба вздохнули, сокрушаясь о его старости, и Хэтч продолжал:
— Все свое образование я почерпнул из книжек, которые брал в городской библиотеке. Я не бог весть какого высокого мнения о колледжах, но все-таки, может, тут удастся подзаняться по экономике и расширить свой словарь. Нельзя же вечно пробавляться «грандиозными пожарами» и «кошмарными убийствами».
— А может, придет время, когда мы с вами вместе чего-нибудь добьемся в политике?
Гид ликовал: он почувствовал, что, кажется, у него первый раз в жизни появился друг.
Он был из тех щенят, что по любому поводу рады вилять хвостом, и в школе всегда состоял в какой-нибудь привилегированной компании, но там разговоры шли только о бейсболе, пирожных, танцах и плаванье, а ему хотелось иметь Настоящего Друга, которому можно было бы поверять свои мечты о красноречии, о справедливости и о том. Как Попасть в Законодательные Органы. Однако он так и осел, когда Хэтч Хьюит, покачав головой, буркнул:
— Никакой политики, никаких речей. Я репортер. Хотя мне нравится Суинберн — приятные, круглые, гладкие мраморные слова.
— Мой идеал — Брайан. Но вам, наверно, Брайан кажется чересчур напыщенным.
— Он любит собак и матерей.
— А чем плохо любить собак и матерей?
— Не знаю. У меня никогда не было ни матери, ни собаки. Я, наверно, просто завидую вам, Гид. Наверно, мне тоже хотелось бы уметь завораживать аудиторию. Действуйте! Глушите! А я время от времени буду писать для вас речи.
— Есть, Хэтч! Договорились.
Итак, он приобрел друга. Но речи для него никто не будет писать, даже Хэтч Хыоит. Пусть сам он не мастер на всякие там поэтические штучки, но даже такому опытному журналисту, как Хэтч, не написать ничего лучше, чем его вулканский шедевр:
«Дары семи морей и дары наших обширных нив от легендарного Востока до широкогрудого Запада собираются воедино славными королями нашего транспорта, посвятившими себя интересам просвещенного товарообмена, — не для того лишь, чтобы приумножить свои истинно королевские богатства, от которых, впрочем, немало уделяется больницам и школам, но прежде всего и больше всего, чтобы утолить голод взывающих к ним толп».
Лучше этого?
Хэтч сказал:
— Давайте выйдем отсюда. Пойдем ко мне. У меня явилась одна идея, а тут кругом слишком много длинных ушей.
И в самом деле, маленькая закусочная с блеклым зеленым потолком, блеклыми голубыми стенами и галереей плакатов, рекламирующих жевательную резину, постепенно наполнялась молодыми людьми, громко перекликавшимися: «Эй, Билл!», «А что, этот курс истории искусств стоит послушать?». И в воздухе уже стоял густой запах ветчины, капусты и жареного лука. Они вышли на улицу, и Гид рядом с Хэтчем Хыоитом был похож на толстенького спаньеля, семенящего бок о бок с волкодавом. Но именно Гид, сравнительно обеспеченный, был одет с нарочитой студенческой небрежностью: поношенный синий шерстяной свитер, вельветовые штаны и башмаки на толстой подошве, тогда как Хэтч казался подчеркнуто аккуратным в дешевеньком сером костюме, простой белой сорочке и строгом синем галстуке — наряде, который ему предстояло носить бессменно четыре года.
Комната Хэтча, к восторгу романтически настроенного Гида, оказалась бывшей конюшней — старая маленькая конюшня для упряжки неказистых лошадок, покосившаяся и шаткая, с приставшей к подоконнику сенной трухой. Но порядок в ней был, точно во вдовьей гостиной: в одном стойле-койка-раскладушка, в другом — ржавая железная печка и деревянный стол, на котором аккуратными стопками лежало десятка полтора книг.
— Я стряпаю себе сам на печке, а к Доку хожу только выпить чашку кофе и повидать народ. Немного сбережений у меня есть, и я еще подрабатываю в газетном синдикате, даю заметки для отдела студенческой жизни, — в общем, как-нибудь протяну, — сказал Хэтч. — Правда, конура у меня незавидная.
— Замечательная комната! Богема! Настоящая vie сlе богема.
— Я ненавижу богему!
— О-о!
— Я люблю порядок и точность.
— Вот как! — У Гида это не встретило сочувствия.
— Вы-то, наверно, живете в хорошей квартире с креслами мореного дуба.
— Ничего подобного! Я живу в пансионе, в комнатушке, в которой повернуться негде. Я еще не решил, в какое братство записаться.
— Значит, вы собираетесь вступить в один из этих фешенебельных клубов для светских молодых людей?
— Ну и что? — Гид уже не на шутку сердился; он не привык бояться кого-нибудь, разве что самого себя. — Я и есть светский молодой человек. А если вам это не нравится, очень жаль.
— О, я не хотел…
— Вы будете на себя любоваться, какой вы ненавистник рода человеческого, а я должен сидеть у ваших ног и…
— Да нет же. Гид! Это у меня так, моральное несварение желудка. Вы молодец! Вы ведь тоже недовольны этим дурацким миром и тем, что в нем делается; вы не обыватель. Я знаю, что нет. Простите меня.
Так у Гида впервые появился друг; они сидели за столом, попивая кофе собственноручной варки Хэтча, жидкий и горьковатый, и тут Хэтч, оглянувшись на высокое окошечко конюшни, чтобы убедиться, что там не подслушивают агенты секретной службы, доверил другу свою опасную тайну.
— Гид, если вас не берут в Дискуссионный клуб, вы бы могли… Я собираюсь основать Социалистическое Объединение.
— Что-о? Да ведь социалисты против семьи и брака!
— Ну так что ж!
— Правда, у них есть Джин Дебс.
— Правильно.
— А он, говорят, парень что надо.
— Правильно. Мы будем вести очень много дискуссий, и вы можете выступать в них сколько захотите. Может быть, мы вызовем на диспут весь колледж.
— Вот это здорово! Ох, и прописал бы я этим голубчикам, которые меня принимать не хотели! Надолго бы запомнили! Когда вы думаете открыть ваше объединение?
— Оно уже открылось — вот только что. Двум таким смельчакам, как мы с вами, ничего не стоит перевернуть вверх дном один маленький колледж.
— Пошли!
Так, без долгой борьбы, совершилось обращение Гидеона Плениша в социалистическую веру. Его отход ог социализма занял больше времени — немножко больше.
Вдали засвистел паровоз. Гидеон Плениш лежал в постели и думал.
Он думал о том, что теперь у него есть друг, не просто спутник для прогулок, а друг. С его, Гида, головой да с воображением Хэтча Хьюита горы своротить можно. Кто знает, может быть, он и не сделается президентом Соединенных Штатов, но если бы сделался, как приятно было бы назначить Хэтча государственным секретарем или в крайнем случае почтмейстером в Зените.
Но раньше всего, разумеется, надо подумать не о своей блестящей карьере, а о той пользе, которую можно было бы принести.
Прежде чем оборвался свисток, он успел построить в каждом американском поселке больницу из мрамора и стекла, насадить христианство в Китае, навсегда прекратить войны с помощью арбитражных судов и дать женщинам право голоса, тем заслужив их глубокую благодарность. Тут он вспомнил студенточку в облегающей блузке, которая повстречалась ему у библиотеки, и сразу забыл о своих монарших милостях.
2
Первое заседание Социалистической Лиги Адельбертского колледжа при участии всех пяти ее членов состоялось в конюшне у Хэтча. Все понимали, что было бы опасно устроить собрание в разлагающей обстановке общежития Тигровой Головы, где Гид Плениш, недавно принятый в это братство, имел в своем распоряжении кровать, стол, два стула и портрет Лонгфелло.
Дело происходило 20 сентября 1910 года, и колледж уже две недели, как возобновил свою бешеную погоню ва культурой. В те времена учебный год в Адельберте начинался на первой неделе сентября, и о царившей в колледже первозданной патриархальности можно судить по тому, что студенты приезжали туда поездом, а не в собственных автомобилях.
Пятеро социалистов, задавшись высокой целью спасти мир, отказались от топания ногами на лекциях и прочих ребячеств, по общему мнению, свойственных первокурсникам. Они сидели вокруг стола на двух стульях и трех ящиках: Хэтч, Гид, юный Фрэнсис Тайн, собиравшийся идти в священники, сурового вида студент постарше, в прошлом профсоюзный организатор, и Дэвид Трауб, красивый, корректный юноша из Нью-Йорка, предшественник тех искренних и, пожалуй, отважных людей, которые впоследствии, не выдержав бесконечных обсуждений расового вопроса, целым караваном покинули Нью-Йорк и эмигрировали, подобно своим предкам.
Фрэнсис Тайн был худенький серьезный мальчик с большой головой и бесцветными жидкими волосами. Он предложил, чтобы члены Лиги называли друг друга «товарищ», но из этого ничего не вышло. Гида и Хэтча до сих пор бросало в дрожь при воспоминании о елейном обращении «брат» в устах громогласных евангелических пасторов.
Гид окинул всех взглядом прирожденного председателя. Вероятно, он еще в царстве неродившихся душ председательствовал на заседаниях Младо-Херувимской Ассоциации по борьбе с противозачаточными мерами. Он бодро сказал:
— Что-то я не вижу среди нас девушек. А нужно бы, по нашим-то временам.
— Вздор! — сказал бывший профсоюзный организатор, крепкого сложения человек, которого звали Лу Клок.
— Почему? — спросил Фрэнсис.
Клок пробурчал:
— Женщины очень полезны в левых движениях, когда выступают на заводских митингах и надписывают адреса на конвертах, но допусти их к руководству — и кончено: займутся красными галстуками и загородными пикниками, вместо того чтобы добиваться повышения заработной платы.
— Постой, постой! — перебил его Гид примирительно-фамильярным тоном профессионального председателя. — Сейчас не 1890 год! Нет, Лу, сейчас 1910 год!' Революция уже победила, осталось только доделать кое — какие мелочи. Бои кончились, теперь возможны разве демонстрации протеста, и мыслящие люди все признают, что женщина ровня мужчине… почти.
— Вздор, — сказал Лу.
— Ну ладно, пока оставим это. Фрэнк Тайн — товарищ Тайн — наметил, что, по его мнению, нам следует предпринять, и я предлагаю его выслушать.
Хэтч Хьюит заметил:
— А кстати, нам, пожалуй, следовало бы избрать председателя.
Гид был глубоко уязвлен: ему и в голову не приходило, что председателем может быть кто-нибудь, кроме Гидеона Плениша. Его престиж, завоеванный с таким трудом, уже берут под сомнение, и кто же? Единственный человек, которому он столько лет доверял как другу и стороннику. Кто-то-кажется, Лу Клок-язвительно хмыкнул, и до конца жизни Гид, как бы смело и страстно он ни выступал перед заведомо враждебной аудиторией, всегда чувствовал слабость в коленях, если в публике раздавались смешки.
— Не дури, Хьюит, — оборвал Дэвид Трауб. — Конечно, председатель — Плениш. Или, может быть, тебе самому хочется?
— Нет, нет, что ты!
— Ну, значит, это дело решенное.
Гид торжествовал. Он отдал команду.
— Валяй, Фрэнк, выкладывай свой план.
Фрэнсис Тайн достал из кармана пачку густо исписанных карточек. Настала великая минута его жизни. Годами, еще в воскресной школе, в деревушке, где верхом свободомыслия считалось мнение, что женщинам позволительно работать сельскими почтальонами, он мечтал об этом часе, когда он пойдет рука об руку с отчаянно смелыми, талантливыми друзьями. Он поднял глаза, и в них было столько собачьей преданности, что нежное сердце Гида растаяло, и он почувствовал, что хоть сейчас готов идти с Фрэнсисом строить баррикаду, лишь бы успеть построить ее до ужина.
— Так вот, все это очень разумно и просто, — сказал Фрэнсис, — но я думаю, что привилегированные классы будут возражать против моей программы. Прежде всего, разумеется, правительство должно реквизировать все шахты, гидростанции, пахотные земли и все промышленные предприятия, где занято больше ста рабочих.
Никто как будто не нахмурился, а новообращенный коллективист Гидеон Плениш — тот даже просиял.
— Но, по-моему, товарищи, этого недостаточно, — сказал Фрэнсис. — Это обычные требования европейских социалистов, да и наших иностранцев тоже. Я считаю, что для специфически американского социализма нужна государственная церковь.
— Что? — вскричали остальные, а Дэвид Трауб спросил:-А как же евреи?
Фрэнсис горячо возразил:
— Нет, нет, товарищ Трауб. Ты не судья в этих вещах. Наш Спаситель дал миру совсем новые заповеди. Но я хочу сказать насчет истинно революционной церкви: конечно, католическая церковь, «Христианская наука» и мормоны отпадают; баптисты — те уж вовсе зара… зарапортовались со своим погружением, а иметь епископов, как в методистской и епископальной церкви, противно священному писанию, а конгрегационалисты — это уж просто какая-то ересь и толчение воды в ступе; в общем, мне кажется, что настоящая американская церковь — это Пресвитерианская Церковь, кстати, я и сам к ней принадлежу, но это совершенно случайное совпадение.
— Что он, собственно, плетет? — спросил Клок.
— Одному богу известно, может быть, — сказал Хьюит.
— Нет, погодите! Мне это раньше не приходило в голову, но он безусловно прав. Я ведь тоже пресвитерианец, — сказал Гид.»
Все они были молоды — даже Лу Клоку едва исполнилось двадцать шесть лет, — и в ходе бурной двухчасовой дискуссии ими было попеременно установлено, что:
Христианство исчерпало себя и должно быть сдано на слом.
Христианство еще не имело случая проявить себя.
Церковь — это ловушка, в которую капиталисты заманивают рабочих.
Церковь — это единственная платформа, объединившись на которой все рабочие могут бросить вызов безбожию капиталистов.
Русские первыми придут к социализму.
Русские ленивы: они пьют чай, читают романы и никогда не придут к социализму.
Адельбертский колледж стоит в одном ряду с Авраамом Линкольном, наукой, футболом и автомобилями марки паккард.
Адельбертский колледж погряз в снобизме и с 1882 года не породил ни единой новой идеи.
С каждым из этих мнений Гид упоенно соглашался. Слова, которые он слышал, казались ему прекрасными, свободными, поучительными, но в конце концов он постучал по столу дешевыми часами Хэтча и объявил:
— Теперь многое нам уже ясно. Недаром мы с вами собрались, так сказать, за круглым столом. Но прежде чем идти дальше, нужно заняться организационными вопросами. Нужно решить, кто выработает план наших мероприятий в той или иной области.
— Разумно, — сказал Хэтч.
Фрэнсис взмолился:
— Ах нет, еще рано! Лучше бы хоть месяц посвятить тому, чтобы взаимно изучать и, так сказать, вдохновлять друг друга.
Как истый профессионал, Гид был оскорблен в своих лучших чувствах.
— Иными словами, говорить на все эти важнейшие темы впустую, не-ор-га-низованно?
— Ну да. Организационные формы должны естественно вырасти из наших мыслей и решений.
Гид стал разъяснять, очень терпеливо и ласково:
— Ни в коем случае! От характера организации и расстановки людей в комиссиях зависит то, что можно сделать, а от того, что ты делаешь, зависят твои мысли. Честное слово, так оно и есть; это новейшая психология. Я по себе знаю. Уж будьте покойны. — Ветеран умудренно покивал головой. — Так всегда получается, и я это наблюдаю уже много лет, еще с шестого класса. Мы как-то стали собирать мусор на школьном участке, и, понимаешь, у нас была такая активная организация, что мы углубили основную идею и создали оборотный кооперативный фонд для покупки засахаренных кукурузных зерен. Вот видишь! Да и как нам собрать нужные средства, если у нас не будет правильной организации — крепкой, но гибкой?
— А к чему нам собирать средства? — удивились все.
— Чтобы рассылать письма, и пропагандировать наше дело, и вербовать новых членов.
Выступил Хэтч:
— А когда у нас будет больше членов, мы можем собрать больше денег и навербовать еще больше членов?
— Ну, разумеется! А потом, когда у нас будет очень много денег, мы сможем развернуть настоящую кампанию и завербовать очень, очень много членов. Вот что значит организация! Вот как нужно действовать в наших условиях!
Дэвид Трауб остался недоволен.
— Я не понимаю. По-моему, если добиваешься к а* кой-нибудь реформы и не хочешь увязнуть во всяких интригах и махинациях, надо избегать организации как самоцели.
— О, я вполне с тобой согласен, — сказал Гид.
В тот же вечер были проведены выборы правления. Гид не сомневался, что его изберут председателем Лиги. Его избрали. Мало того, он тут же, не растерявшись, произнес тронную речь:
«Каковы бы ни были их расхождения по таким второстепенным вопросам, как значение христианства и роль женщин, они пойдут плечом к плечу сквозь все преграды и происки врагов, — небольшой, но стойкий отряд, непобедимый в своей преданности делу, сильный своим раскрепощенным сознанием и общей решимостью разорвать свои цепи, и они заставят слепое чудовище — Капитализм — в страхе разжать когти и выпустить жертву, и будут беспощадно разоблачать капиталистическую тиранию обязательной латыни, и требовать снижения цен на теннисные мячи в студенческой лавке.
Он, их глава, намерен уединиться для размышления и уточнить свои планы. Никому Ни Слова. Чтобы склонить на их сторону всю массу студентов, потребуется время, но хотя в принципе он против фабианской тактики, лучше, пожалуй, сначала заняться студентами, а потом уже взяться за профессуру и ректора, а главное, декана, черт бы его побрал, и поставить их перед выбором — присоединиться к революции или подать в отставку. Что касается ближайших тактических шагов, нужно решить, начать ли с массового митинга в церкви колледжа или с выпуска иллюстрированного еженедельника со статьями Юджина В. Дебса и Дж. Бернарда Шоу. Он сам берется написать товарищам Дебсу и Шоу, и написать так, чтобы они поняли, что статьи нужно выслать немедленно. Но как бы ни развернулась деятельность Лиги, уже сейчас можно сказать, что в добром старом Адельберте социализм одержал победу!»
После этого бурного словоизвержения товарищи Трауб, Клок и Тайн, совершенно подавленные, гуськом удалились.
Гид нервничал:
— Хэтч, как ты думаешь, сумеют эти олухи сохранить наш заговор в полной тайне до того времени, когда мы будем готовы преподнести миру социализм?
— Гид, неужели ты думаешь, что такое ничтожество, как я, может иметь собственное мнение? Неужели твой радикализм простирается так далеко?
— Конечно.
— Скажи честно, что ты задумал? Хочешь заткнуть за пояс официальный Дискуссионный клуб?
Гид ответил с улыбкой, перед которой Хэтч не мог устоять:
— Понятия не имею! Ты как думаешь, Хэтч, что бы нам такое устроить? От Фрэнка Тайна, во всяком случае, нужно отделаться. Этот болван с удовольствием разгромил бы республиканскую партию! Но ведь ты у нас самый умный. Скажи, что нам делать с Лигой?
— Я подумаю, — сказал Хэтч, покоряясь воле человека, который вызывал в нем и любовь, и зависть, и презрение.
3
Декан Адельбертского колледжа произнес слабым голосом:
— Опять вы?
На лице у Гида было написано, что они с деканом старые, испытанные друзья, что он искренне любит этого пожилого приятеля и всегда рад подсказать ему новые, освежающие идеи.
— Да, сэр. Я полагал, вам следует знать о том, что я основал тайное социалистическое объединение.
— Ну и что же?.
— Просто я полагал, может быть, революционные объединения не разрешаются, так я лучше сообщу, чтоб все было в порядке. Хо-хо, тайный политический клуб в Адельберте — дело необычное, надо думать!
— Да нет, не слишком; докучливое, пожалуй, но довольно обычное. Бывали у нас тут клубы анархистов, потом атеистов, нигилистов довольно часто, один раз было даже общество «Долой стыд» — тут уж мне пришлось поговорить с основателем, очень милым молодым человеком, сейчас он помощник ректора в Сент-Димити — колледже в Филадельфии. Но, как правило, мы не вмешиваемся в деятельность подобных организаций, разве только их члены вздумают разгуливать в ночных сорочках или топтать газоны. Правда, я не припомню, чтобы главный зачинщик сам пришел к нам с таким сообщением.
— Может, вы хотите, чтоб я свернул этот клуб, сэр? Я с охотой, если только вы мне разрешите посещать судебную риторику. И раз уж на то пошло, пусть меня и в Дискуссионный клуб примут.
— Ступайте вон! Сейчас же!.
— Что ж, сэр, мое дело было предупредить вас.
— Прошу только заранее ставить меня в известность, когда вы будете замышлять какую-нибудь особенно разрушительную диверсию или террористический акт. Я могу тут не предусмотреть чего-нибудь: моя специальность, знаете, теология и ихтиология. Гак что уж вы меня ставьте в известность, хорошо?
— Нет, сэр, этого я не могу обещать. Я должен быть лоялен по отношению к своим ребятам. Но, конечно, я пользуюсь большим влиянием и посмотрю, чтобы они ничего особенно опасного не затевали. А если вы надумаете насчет судебной риторики…
— Ступайте вон!
* * *
По предложению Гида Социалистическая Лига вызвала Дискуссионный клуб колледжа на диспут по вопросу о переходе железных дорог в государственную собственность, и официальная организация вызов приняла, считая, что это послужит ей неплохой тренировкой перед традиционным ежегодным состязанием с Уиннемакским университетом.
Хэтч Хьюит, который, строго говоря, одобрял государственную собственность разве только на плевательницы в конгрессе и для которого смысл социализма заключался в том, что при социализме интеллигентный молодой человек может позволить себе послать к черту редактора отдела хроники; Гид, который стал одобрять государственную собственность только с этого дня, и Фрэнсис Тайн, который ее всегда одобрял, сидели втроем в библиотеке колледжа, подбирая статистические данные о государственной системе железных дорог в Германии. В 1910 году, при просвещенном и мудром правлении кайзера Вильгельма, немцы были повсеместно признаны самой умной нацией в мире.
Гид, как это с ним нередко бывало впоследствии, когда насаждение всевозможных идей сделалось его профессией, почти убедил самого себя в целесообразности предпринятого похода. Он был готов сейчас же национализировать все железные дороги, он уже начинал верить в то, что коллективизм-его изобретение, как вдруг разразилась катастрофа.
2 октября разнесся слух, что в типографии лос-анжелосского «Таймса», который вел непримиримую войну с профессиональными союзами, произошел взрыв[8] и девятнадцать человек убито. От этого взрыва взлетела на воздух и Адельбертская Социалистическая Лига.
Лига к этому времени насчитывала девять членов. Большинству из них скорей пришлась бы по вкусу конспиративная сходка на конюшне у Хэтча под покровом ночной темноты, но приходилось считаться с действительностью. Они теперь не только бросали вызов богу и дому Морганов, они рисковали получить выговор от декана. Исполнительный комитет собрался в три часа дня, при ярком солнечном свете, в уголке помещения ХАМЛ.
Гид начал, задыхаясь:
— Внимание! Вот что, товарищи: по-моему, распустим к черту этот социалистический клуб или реорганизуем его в литературный кружок.
— Вот как? Значит, поджать хвост и покориться? Значит, мы не осмеливаемся выступить против правящих классов и бросить вызов тогда, когда есть из-за чего его бросать? — спросил Хэтч.
— Вовсе нет! Мы назовем свой кружок Литературным Объединением имени Уолта Уитмена. Это ли не вызов! Ведь Уитмен никогда не учился в колледже! — объяснил Гид. — Я первый готов громить тиранов, но сейчас не время.
И всю свою жизнь в критические минуты Гидеон Плениш твердил: «Сейчас не время». Это лозунг осторожного либерализма, столь же глубокомысленный, как заповедь св. Франциска «Земные твари — братья мои» или боевой клич губернатора Альфреда Э. Смита[9] «Как ни верти, все дрянь».
Хэтч Хьюит спросил:
— А почему не время?
— Потому что, может быть, эти профсоюзные агитаторы, братья Макнамара,[10] и в самом деле взорвали «Тайме».
— Не может этого быть! — запротестовал Хэтч, а Лу Клок вызывающе крикнул:
— А если даже и так? Разве мы не обязаны все-таки оказать им поддержку? Да знаете вы, что такое борьба? — Не получив ответа, он покинул собрание и покинул Социалистическую Лигу, а немного спустя — и Адельбертский колледж.
Хэтч размышлял вслух:
— Я не согласен с Лу — пока. Но я понимаю его. Что ж, Гид, беги опять к декану и скажи ему, что мы нырнули в кусты! — И он вслед за Лу вышел из комнаты, а вдогонку ему неслись жалобные вопли Гида:
— Я? Мне бежать к декану? Мне?
Так кончила свои дни Адельбертская Социалистическая Лига, и похороны состоялись без отпевания, без цветов и без знаков христианского смирения, кроме как со стороны Фрэнсиса Тайна.
Целый месяц Хэтч кидал на Гида мрачные взгляды, и в конюшне не слышалось философского ржания. Но Хэтч Хьюит был одинок; он слишком любил людей и слишком их презирал, чтобы заводить случайные и неглубокие дружеские связи. Когда Лу Клок уехал, а Дэв Трауб перешел в Чикагский университет, Хэтч остался один, и к концу первого учебного года между ним и Гидом вновь возникла зыбкая, непрочная дружба. Иногда они украдкой уезжали в соседний городок, пили там пиво и обсуждали перспективы войны с Мексикой.[11]
— По-моему, такое большое государство, как наше, не должно обижать соседнюю страну, — говорил Гид, старый либерал.
— Вот как? — удивлялся Хэтч.
На другой день после кончины Социалистической Лиги Гид разыскал секретаря Дискуссионного клуба, напомнил ему, что на всех щитах расклеены объявления о предстоящем диспуте клуба с социалистами, теми самыми, которые взорвали «Тайме», и намекнул, что единственный выход из этого щекотливого положения — избрать Гида членом клуба. Тогда, возможно, он подумает о том, чтобы отмежеваться от Лиги или же вообще распустить ее.
Члены Дискуссионного клуба спешно собрались, внесли в устав новый пункт, позволявший принимать первокурсников, избрали Гида и поблагодарили его за то, что он сделал-что именно, они и сами точно не знали-для спасения адельбертских ораторов от позора. Весной он уже был включен в команду, которая осадила и штурмом ззяла Эразмус-колледж; и имя Гидеона Плениша обещало занять такое же почетное место в адельбертских анналах, как имя Курносого Пэга, одиннадцать лет успешно поддерживавшего честь бейсбольной команды.
Эразмус-колледж находился в восточном Огайо, а Гид ни разу еще не заезжал так далеко на восток — чуть ли не до самого штата Нью-Йорк.
Вместе со своими товарищами по ораторской команде, среди которых был верзила-третьекурсник, распевавший оперные арии на диалекте штата Дакота, он сел в дневной поезд, идущий в Эразмус. На чемоданах у них были наклеены огромные ярлыки «Адельбертские Ораторы-Чемпионы», и в вагоне они зычными голосами беседовали о налогах в назидание прочим пассажирам.
На вокзале их встретила ликующая толпа из девяти человек и проводила в шикарный отель: двадцать два номера, двадцать два кувшина и двадцать два таза. Гид еще никогда не останавливался в отеле, если не считать одной поездки в детстве с родителями, которые все время ахали и толковали про пожарную лестницу. Теперь ему отвели отдельный номер, и он с независимым видом поднял штору на окне, пощупал матрац, как когда-то при нем делала мать, велел нахальному коридорному подать подставку для чемодана и выложил свои две рубашки, учебник химии и бархотку для наведения глянца на башмаки.
Все уже одевались к диспуту; в темно-синем, как и у всех, костюме Гид чувствовал себя почти как во фраке. Он сел просмотреть еще раз свои заметки, не испытывая особого волнения. Он не мнил себя Уильямом Дженнингсом Брайаном, но он основательно поработал, был преисполнен сознания серьезности своей задачи и величия тех истин, которые собирался возвестить студенческой аудитории Эразмуса, а потому не было никаких причин сомневаться, что господь бог целиком на его стороне.
Их пригласили в колледж на обед, и когда герои Адельберта вступили в столовую, весьма скромно, лишь с небольшим плакатом, на котором значилось ПОБЕД ДдЕЛЬВЕРТУ! студенты зааплодировали во все шестьсот рук, а некоторые в знак приветствия стали бросать в гостей хлебом, и Гидеон Плениш вкусил пьянящего яда широкого признания и заслуженного успеха.
На диспут в церковь колледжа публики собралось меньше, чем он ожидал; не было и ста человек — пожалуй, даже и семидесяти пяти не набралось бы. Хозяева объяснили это тем, что одновременно происходил баскетбольный матч. Но когда Гид начал говорить, ему почудилось, что толпа увеличилась во много раз, и вся она подчинялась ему, вся слушала его и вся была в его власти.
I На мгновение ему показалось забавным, что говорить придется обратное тому, что он говорил бы, выступая от Социалистической Лиги. Но в следующее мгновение это уже была правда, единственная правда, и эту правду он сам выдумал. Он утверждал, что государственная собственность на железные дороги не только не полезна, но даже вредна. Он играл на цифрах, словно на струнах виолончели, и закончил с торжественностью бетховенского финала:
— На основе статистических данных по железным дорогам Новой Камчатки мы показали всю пагубность государственного контроля на транспорте. Но есть и другая сторона дела, едва ли не более важная: я говорю о моральной стороне этого экономического преступления против страждущего человечества.
Вообразите, что вы один из наших славных честных тружеников, — ну, скажем, кондуктор на местной линии, достойный семьянин, аккуратный плательщик налогов, а также благотворительных и профсоюзных взносов, верный слуга штата, родины, господа бога и железнодорожной компании; и вот вы узнаете, что какой-то вполне невинного вида пассажир — на самом деле не кто иной, как соглядатай, правительственный шпион, подосланный боссами и политическими интриганами с тем, чтобы посмотреть, отмечает ли кондуктор на счетчике всю получаемую им проездную плату. Можно ли, по-вашему, работать как пристало славному честному труженику нашей свободной страны в подобной атмосфере недоверия и политических происков? Ответ заключен в самом вопросе! Так знаете ли вы, что в конце концов кроется за всем этим? Не что иное, как самая страшная, самая гибельная, самая европейская опасность — СОЦИАЛИЗМ!
И Гид, господь бог и адельбертская команда вышли из диспута победителями.
Он быстро шагал по коридору эразмусского отеля, крепкий, уверенный, сияющий молодостью и победой.
Ночная дежурная была немка лет тридцати, незамужняя, хоть и не совсем девица; она только недавно приехала с фермы и скучала по своему Отто. У нее была молочно-белая кожа, и для героя, возвращающегося с поля битвы, нашлась улыбка.
— Гулять ходили? — спросила она.
— Нет. Я участвовал в диспуте и победил.
— В диспуте. Вон как!
Впервые в жизни он повстречал существо, столь умудренное житейским опытом. Марта смотрела на вещи трезво, как женщина, которая многое видела на своем веку: продажу фермы за просрочку закладной, смерть отца, напоровшегося на косу, рождение сотен телят и ягнят, любезности десятков поклонников. Он был ошеломлен и сказал, повинуясь больше ее воле, чем своей:
— А поцеловать меня за победу не надо?
— Ну что ж!
Губы ее были сладки, как свежеиспеченный медовый пряник. Он расстегнул пуговицы ее лифа, еще раз поцеловал ее и трясущейся рукой отпер свою дверь. Она бодро вошла вслед за ним и много спустя сказала ему, что он прекрасный молодой человек — точь-в-точь ее Отто.
Но когда Гид, довольный, засыпал под тревожный свисток экспресса, проносившегося мймо, он думал не о темном, слепом угаре Мартиных ласк, а о том, как все его слушатели дружно рукоплескали ему, и он прошептал:
— Ну, теперь ничто не остановит меня. Сенатор США — и никак не меньше!
4
Все лето после первого курса Гид провел в плавании и знался с бородатыми людьми, изведавшими туманы и кораблекрушения. Он беседовал с пассажирами, для которых сезон в Кейптауне, или встреча с австрийской графиней, или рыбная ловля на Саскачеване были таким же обычным делом, как для иного партия в шашки.
Он работал официантом на пароходе, курсировавшем по Великим озерам от Буффало до Дулута, и почерпнул там кое-какие сведения о навигации, а больше — о пиве и всяких диковинных сортах сыра. У него было время подумать и о девушках, и о религии, и о том, как наживают деньги, и о том, как организовать неупорядоченные порывы и благородные задатки своих однокурсников. Стоя в темноте на самой нижней из четырех широких открытых палуб и размышляя под плеск рассекаемой пароходом воды, он дал два романтических обета.
Он станет Хорошим Человеком, он принесет благую весть бедному, старому, исстрадавшемуся миру — о братстве и демократии и необходимости употреблять в пищу сырые овощи. Он докажет людям, что все эти разговоры о пороке алчности не многого стоят. Он сообщит им, что у официантов и матросов, которые пьют и дуются в карты, нет счетов в банк* и вообще жизнь у них незавидная.
С другой стороны, он убедился, что у большинства Хороших Людей, как, например, у его преподавателя в колледже, при всей их добродетельности жизнь тоже не слишком интересна. Причину этой беды он усматривал в том, что, не имея должного руководства, они живут без всякого смысла.
Для себя он избрал путь добродетели, но добродетели организованной.
Прирожденных организаторов мало: редко кто, подобно ему, обладает столь счастливым сочетанием воображения, энергии и деловитости. Может быть, у него организаторские способности даже большие, чем ораторские. Среди всех Хороших Людей он будет Самым Хорошим Человеком и их председателем.
С благоговейным трепетом он подумал, что это говорит в нем голос Судьбы, а не просто его смиренная готовность служить человечеству.
Что касается девушек, бога, красот природы, а также семейной жизни и гимнастики, он с удовольствием отметил, что все это не вызывает у него никаких возражений. Если ему случится упомянуть о них в какой-нибудь речи, он всегда присовокупит: «Да благословит их бог!» Но, конечно, для вдохновенного творца, вроде него, они важны лишь постольку, поскольку их можно организовать и поставить на службу человечеству.
Колледж встретил его благосклонно. Декан был с ним почти что вежлив, а члены ораторской команды советовали ему запастись терпением: через год они выберут его капитаном. Капитан футбольной команды осведомился у него, правда ли так хороши эти классики, о которых им вечно твердят на лекциях, а главный местный контрабандист подарил ему коробку турецких сигарет.
Послушный голосу господа бога, первого из Великих Организаторов, Гид приступил к осуществлению своих планов.
В Адельберте очень неблагополучно обстояло дело с утюжкой брюк. Утюжка производилась без всякой координации портновской мастерской, сторожем одного из общежитий и двумя студентами. Твердых сроков не существовало, а цены колебались от пятнадцати до пятидесяти центов, причем оплачивалось, по подсчетам Гида, не более 67 % всех заказов.
Портновскую мастерскую он не жаловал — однажды у него вышли там неприятности по поводу счета — и сразу исключил ее из числа достойных претендентов на почетное право гладить брюки. Затем он устроил совместное заседание со сторожем и гладильщиками-студентами, заговорил их до одури и с их участием организовал в подвале у сторожа «Адельбертский Брючный Салон для Щеголей. Плата Наличными». Он расширил их клиентуру, убедив капитана футбольной команды публично осудить мужественную небрежность в одежде и высказаться за отутюженность, он добился того, что шестнадцать студенток подписали обязательство не назначать свиданий неотутюженным молодым людям, он уговорил редакцию «Адельбертского еженедельника» поместить написанную им статью, в которой упоминалось, что гости из Йельского и Гарвардского университетов были шокированы видом адельбертских брюк; он даже старался, ложась в постель, помнить, что не следует швырять на пол собственные брюки.
Он провел много счастливых часов в подвальной мастерской, вдыхая душно-влажный воздух, глядя, как портновские утюги обращают смятую ткань в безупречно гладкое великолепие, и с видом первого Ротшильда проверяя бухгалтерскую книгу. И Брючный Салон процветал, в то время как портновская мастерская, не выдержав конкуренции, вполне своевременно обанкротилась. Не менее двадцати пяти процентов выручки Салона удавалось инкассировать. К апрелю второго учебного года дело так разрослось, что Гид задолжал двести долларов и оказался под угрозой временного исключения из колледжа.
В период организации дела ему пришлось приобрести усовершенствованные утюги и печь, внести аванс за помещение, а главное, оплатить рекламу — его первое обращение через печать к ошеломленной публике. Едва ли когда-либо в последующей жизни красноречие его достигало подобной убедительности. «Ну, друзья, как вы хотите выглядеть — как студенты колледжа или как городская шпана? О человеке платье нам вещает. Стоит ли вещать всем и каждому, что вы не принадлежите к бонтону? Утюжка по последнему слову науки и техники. Принимаются также костюмы студенток. Заходите, девушки. Брючный Салон открыт. Плата наличными».
Для своего предприятия, достойного подлинно американской традиции Джима Хилла,[12] Рокфеллеров и Джесси Джеймса,[13] Гид занял триста долларов у тетки, которая ничего не читала, кроме «Бостонской поваренной книги», и была глуха и набожна, хоть и проживала в таком большом городе, как Зенит. Он обещал отдать ей долг в течение месяца.
Но клиенты Салона толковали выражение «плата наличными» точно так же, как истолковал бы его на их месте сам Гид, — как нечто среднее между неудачной шуткой и угрозой гнусного насилия. За пять месяцев Гид уплатил в счет долга всего сто долларов, и его нежная тетушка перестала нежничать. Она написала его отцу в тот самый день, когда адельбертский магазин спортивных товаров уведомил декана, что Гид должен им семьдесят два доллара.
Приехал отец Гида — унылое ветеринарное ничтожество с жидкими седыми усами — и долго объяснял декану, слушавшему его с холодной полуулыбкой, что самый тяжкий грех после государственной измены и небрежного отношения к заболеваниям домашних животных — это влезать в долги. В заключение инцидента Гидеон воскликнул, как Гидеону Пленишу предстояло восклицать еще много раз в жизни: «Выходит, люди просто не ценят, когда стараешься принести им пользу!»
Гораздо лучше были встречены его другие начинания, не потребовавшие и половины того размаха, с каким он создавал Брючный Салон, и, казалось бы, сулившие колледжу меньше славы, чем идеальная складка на брюках. Он организовал первый в истории Адельберта бал второк›рсников. Правда, бал так и не состоялся, но зато несколько недель подряд происходили увлекательные организационные совещания, после которых Гида выбрали старостой группы. Затем он объединил в одну организацию постоянно враждовавших между собой Студентов — Волонтеров и Общество по Изучению Миссий, а также устроил экскурсию студентов, слушавших курс «Условия труда», на завод Зенитской компании электрического освещения с бесплатным проездом и лимонадом за счет Компании.
Казалось, он вновь завоевал расположение Хэтча Хьюита, который однажды сказал ему нечто не совсем понятное, но, по-видимому, лестное: «Надо мне держаться поближе к тебе, тогда я пойму, что такое американское просвещение и американское благодушие».
Гиду было приятно это услышать, потому что кто-то в колледже недавно жаловался, что хоть он и полезен как инициатор важных культурных начинаний вроде вечерних лекций о Великих Женщинах Библии, но в сущности он плохой руководитель, и кампании его быстро выдыхаются.
Черт возьми, размышлял Гид, если он сумел сохранить уважение старика Хэтча, значит, не такой уж он, черт возьми, плохой руководитель!
Так он проскочил и второй и третий курс — староста группы, заместитель председателя Танцевального общества третьекурсников, импрессарио бейсбольной команды, вице-президент отделения ХАМЛ и студент, чьи отличные отметки по судебной риторике и ораторскому искусству с лихвой окупали скверные отметки по всем другим предметам. Теперь он был на четвертом курсе, и настало время ему и Хэтчу подумать, какие из золотых плодов мира, лежащего за стенами колледжа, им будет предпочтительнее срывать.
Преподаватель, читавший ораторское искусство в группе Гида, как-то намекал, что, если Гид «возьмется за работу и перестанет корчить из себя Моисея и обучать всех и каждого, как держать нож и вилку», из него может выйти неплохой педагог. Но Гид уже видел себя во всеоружии вдохновенных Посланий, перед более широкой аудиторией.
— Ты, наверное, по-прежнему думаешь вернуться к газетной работе? — спросил Гид.
— Конечно. А какая у тебя на сегодня очередная программа благих начинаний? — спросил Хэтч Хьюит.
— Не понимаю, что тебе за охота меня изводить.
— Я тобой восхищаюсь, Гид. Когда ты смотришься в зеркало и болтаешь о «служении человечеству», что обычно означает изобретение новых поводов для войны, ты мне кажешься дурак-дураком. Но после четвертой кружки пива в тебе просыпаются великие таланты. Так к чему же ты думаешь их приложить?
— Больше всего меня все-таки прельщает политика. Уверяю тебя, в политике нужны люди с интеллектуальной подготовкой. Я мог бы стать врачом, но я не выношу больных. Или юристом, только очень противно целый день сидеть в конторе. Или священником. Да, я подумывал о клерикальной карьере. Но я люблю иногда побаловаться пивом и не знаю, может быть, я бы не сумел вызывать в себе чувство непосредственной близости к богу, если бы пришлось часто молиться на людях. Так что выходит, мое призвание-политика. Ух, чего только я бы не наворотил! Пенсии за выслугу лет независимо от пола и возраста, и научная организация свободной торговли, и мощная оборона, которая была бы лучшей гарантией всеобщего мира, и…
— Да, да, понятно. Какую же партию ты собираешься осчастливить?
— А мне плевать, лишь бы не социалистическую. Я очень ценю обе наши главные партии. Я, конечно, горой за Джефферсона, но и Линкольн, по-моему, молодец.
— В самом деле?
— Да, я так считаю.
— Послушай, Гид, сейчас как раз заседает конгресс штата. Давай отпросимся на денек и съездим туда. Я и сам думал заняться политическим репортажем.
(Много лет спустя Гид говорил своей жене, что, не повези он тогда Хэтча в Галоп де Ваш, столицу штата, тот никогда не стал бы журналистом.)
Декан разрешил поездку и на этот раз почти не упомянул о пиве. Он успел проникнуться ощущением, что юный Плениш — полезный человек в колледже и — хоть профессор психологии и называет его «пустозвоном» — живо и серьезно интересуется вопросами христианства.
Декан начинал стареть.
Галоп де Ваш представлял собой небольшой городок, теснившийся вокруг Капитолия штата,[14] а Капитолий представлял собой лабиринт мраморных коридоров, ониксовых колонн, витрин с флагами времен Гражданской войны и мраморных экс-губернаторов в сюртуках, а также восьми или десяти комнат, в которых вершились дела штата. В самой пышной из них заседал сенат; и когда Гид с Хэтчем пробрались по крутой лесенке на хоры, они широко раскрыли глаза.
Зал был отделан панелями красного дерева, и только переднюю стену сплошь занимала огромная мозаика розовых, алых и золотистых тонов, изображавшая эпизоды из истории штата: пионеры у запряженных быками фургонов, лодки с охотниками в кожаных штанах, Стивен А. Дуглас,[15] держащий речь к народу, женщины в ярких ситцах и мужчины в касторовых шляпах — все на том самом месте, где теперь стоял Капитолий. Перед этой фреской, на возвышении из желто-черного мрамора, стояло кресло помощника губернатора, а огромное окно в потолке украшали цветные гербы всех сорока восьми штатов.
Вот где великолепие, вот где высокая политика, вот где мрамор! Гиду сразу захотелось вознестись на этот пьедестал.
Но когда он уселся и стал высматривать недостатки — студент-выпускник ко всему должен относиться критически, — он заметил, что все тридцать шесть сенаторских мест — не более как школьные парты, только красного дерева. А классы и парты ему до смерти надоели!
Он ожидал образцов высокого красноречия — об орлах, и флагах, и мускулистой руке труда, а здесь какой — то лысый толстяк, которого никто как будто не слушал (один сенатор ел сандвич, другой швырял в соседей хлебными шариками), монотонно бубнил себе под нос:
— Этот билль… этот, 179-й… я знаю, он встретил кое — какое противодействие… вот хотя бы почтенный депутат от округа Гролиер выступал против него… но его основательно обсудили в комиссии, и, я бы сказал, это нужный билль, я-то не очень в курсе… это насчет того, чтобы не водить собак без намордников в южных округах.
Гид простонал:
— О господи! Вот на что теряют время сенаторы, которых мы избираем, чтобы они оберегали наши свободы!
Внизу, в зале, человек с серебристыми волосами и в очках, как у школьного учителя, зевнул, угостил выступающего сенатора китайским орешком, зашагал к выходу и, остановившись у двери, снова зевнул.
— Этому старикану, видно, так же скучно, как нам, — одобрительно сказал Гид.
— А я знаю, кто это, — сказал Хэтч. — Это видная фигура — сенатор Кертшо, лидер меньшинства.
Человек на возвышении, видимо, помощник губернатора, быстро проговорил нечто совершенно непонятное насчет билля о намордниках; сенаторы в своих клетках хором проворчали что-то, и каким-то чудом билль оказался утвержденным. Будь он сенатором, он бы этого не допустил, волновался Гид. Но на его глазах были проведены еще более вопиющие законодательные мероприятия, о которых он узнал из неразборчивого бормотания клерка:
— Внести поправку в закон о рынках в пункте о спецификации лимбургского сыра.
— Внести поправку в закон о просвещении в пункте о летних лагерях для школьников.
— Возродить и расширить Объединенную пивоваренную компанию «Изящная Жизнь» в городе Монарке.
В этом месте чтения среброкудрый сенатор Кертшо зевнул совсем уже немилосердно и вышел из зала.
— Нашелся-таки один народный представитель, который понимает, какая всему этому цена! — сказал Гид. — Эх, хорошо бы с ним потолковать и спросить, есть ли надежда добиться чего-нибудь при таком косном политическом аппарате.
— Что ж, давай попробуем.
Гид с одобрением отметил нахальство и предприимчивость своего друга-журналиста. Когда-нибудь он, возможно, сделает Хэтча издателем газеты.
По мнению швейцара, сенатор Кертшо скорее всего находился в комнате финансовой комиссии. Не догадываясь, что сенаторы ездят вверх и вниз в маленьких душных лифтах, наши юные искатели спустились по сверкающим ступеням парадной лестницы, которой до этого дня пользовались только уборщицы, воробьи и генерал Лью Уоллес.[16]
Гид ораторствовал:
— Ну, конечно, наши поборники свободы забавляются тут всякой законодательной чепухой, в то время как вдовы голодают, а мирмидоны, или как их там, расправляются с возмутившимися рабами наемного труда! Скоро выдумают еще красить носы продавцам пива в красный цвет, чтобы трассировать… то есть нет, форсировать сбыт Роверского эля и портера, и особый налог введут для этой цели. Теперь мне ясно, что я должен посвятить себя политической деятельности и расчистить эту мусорную яму.
В комнате финансовой комиссии их глазам представились голые оштукатуренные стены и стальные картотечные шкафы. Сенатор Кертшо, сидя у массивного стола, читал зенитскую «Адвокат тайме»-страницу спорта.
— Здравствуйте, сенатор, — сказал Гид.
— Э?
— Мы студенты из Адельбертского колледжа.
— Ну и что же?
— Я заметил, как вас рассмешил этот билль о пивоварне «Изящная Жизнь».
— То есть как это «рассмешил»? Очень своевременный билль. Что вам от меня нужно?
— Да сказать откровенно, я хотел поговорить о том, чтобы мне начать политическую деятельность.
— Двадцать один год есть? Вы гражданин Соединенных Штатов? Так за чем же дело стало? При чем здесь я?
— Я боюсь, не окажется ли это сложновато для человека, окончившего колледж.
— Почему? Вот я окончил колледж и занимаюсь политикой. Было время, я даже преподавал на юридическом факультете и, верно, так же совал всюду свой длинный нос, как вы — свою толстую физиономию.
— Я не толстый.
— Еще растолстеете. А как именно вы намерены использовать в политике ваши познания из области фольклора доисторического человека?
В Гиде накипал благородный гнев.
— Я бы стал отстаивать права народа, вот что, и добиваться сокращения рабочего дня и удлинения… то есть, конечно, повышения заработной платы, но, конечно, не допуская тирании профсоюзов. И бы ополчился на эти объединения хищнических интересов, которые…
— Какие именно хищнические интересы вы имеете в виду? Фермерский блок, или Медицинскую Ассоциацию, или Методистскую Церковь, или вашу Адельбертскую Атлетическую Ассоциацию?
— Вы отлично понимаете, что я имею в виду! Во всяком случае, я предпринял бы что-нибудь в области правосудия и просвещения и… в общем, Основных Проблем, а не стал бы тратить общественное время на всякую ерунду, вроде намордников и лимбургского сыра!
— А кому, по-вашему, народ поручает следить за тем, чтобы у нас был доброкачественный лимбургский сыр и чтобы наши инспектора умели отличить сыр от Эвклида? Вы думаете, это делается само собой или для этого нужно молиться богу, перечитывать Геттисбергскую речь Линкольна[17] и слушать лекции Эммы Гольдман? Если вас обсчитывает трамвайный кондуктор, или мэр назначает начальника полиции, который берет взятки, или вам продают тухлые яйца, или у вас ломается рессора на скверной дороге, кто виноват? Законодатели штата! И тогда вы нас больше не избираете. Мы вам не актеры, разыгрывающие «Юлия Цезаря». Мы служащие, и притом плохо оплачиваемые, и стараемся делать то, что нужно гражданам, или что они считают нужным, или что объявил нужным какой-нибудь мальчишка-оратор с берегов Платты, вроде вас. Хотите заниматься политикой — прекрасно! Ступайте в комитет своего округа, где вас сумеют оценить, и скажите, что вы решили в ближайшее время спасти страну. Они там, наверно, зарыдают от счастья, а меня уж вы оставьте в покое! Я ушел с заседания не потому, что мне было скучно или смешно, а потому, что у меня зуб разболелся. И болит все сильней и сильней.
Первые десять миль в поезде, уносившем их в Адельберт, Гид ни слова не сказал безмолвному Хэтчу. Потом его прорвало:
— Вот что я тебе скажу. Он тысячу раз прав. Я просто студентишка-дилетант. И я действительно толстею. Я ни черта не смыслю в том, как управляют государством. Этот сенатор посбил с меня спеси. И мыслить философски я не умею. Вот сегодня я прочел в зенитской газете вопрос: «Если бы случился пожар, что вы бросились бы спасать — Джоконду или двухлетнего ребенка?» А я не знаю.
— Тот шутник, который придумал этот вопрос, тоже не знал.
— Но это доказывает, что мне недостает глубины суждений. Пожалуй, верно говорит мой профессор: лучше мне удариться в педагогику, преподавать литературную речь и всякую такую ерундистику. — Гид сразу повеселел. — Может, буду когда-нибудь ректором колледжа, удвою количество студентов, налажу поступление добровольных взносов от окончивших. На это я способен, как «ты думаешь?
— Не сомневаюсь, — сказал Хэтч.
5
У него была небольшая пышная каштановая бородка, довольно солидная для его двадцати девяти лет. Он отпустил ее, чтобы сделать более интересным свое лицо, страдавшее некоторой банальностью черт, и он также выработал себе особую манеру острым взглядом впиваться в собеседника, а затем равнодушно отводить глаза, словно он все уже в нем высмотрел. На нем был коричневый костюм, ярко-голубая рубашка и небрежно завязанный галстук пурпурного оттенка. Он рассчитывал, что все почтенные пассажиры спального вагона будут смотреть на него с интересом и удивлением и молча гадать, кто это — профессор колледжа или англичанин во вкусе Уэллса, утонченный интеллигент, разводящий альпийские цветы в Сэррее, у живописного домика, перестроенного из старой мельницы.
И в двадцать девять лет, в 1921 году, он действительно был профессором колледжа: профессор Гидеон Плениш, доктор Плениш, доктор философии университета Огайо, преподаватель риторики и ораторского искусства в Кинникиникском колледже, штат Айова.
Это был небольшой колледж под чудесными старыми вязами, где слегка чувствовался епископальный дух — эстетство пополам со здравомыслием — и все внушало приятное сознание, что ученость и благочестие — добродетели, проверенные в веках, но что все хорошо в меру. Обучались в колледже сыновья и дочки фабрикантов и врачей Айовы, Миннесоты и обеих Дакот, увлекавшиеся понемногу футболом и музыкой и в границах приличий — флиртом.
Профессор Плениш пользовался в Кинникинике всеобщим уважением. На спортсменов и гимнастов, на девушек-студенток, умильно просивших исправить им отметку-вместо тройки с минусом поставить тройку, на попечительский совет и нового ректора, назначенного о прошлом рождестве, он смотрел так, словно он видит насквозь их милые плутни, но лишь забавляется этим и потому не возражает.
Вел он и кое-какие занятия, по старинке, без затей.
С большим успехом проходили его лекции в дамских клубах Центральной Айовы, за которые ему платили до двадцати пяти долларов плюс возмещение расходов и с непременным чаепитием в доме банкира. Клубные дамы приходили в восхищение от него, от его бородки, от его веселых глаз, от его манеры декламировать У. Б. Йитса[18] «со слезой» и от того, как он потом добродушно посмеивался и над собой и над их восторгами.
И все же вполне счастлив он не был. Он чувствовал в себе слишком много молодости и сил для того, чтобы всю свою жизнь просидеть в аудиториях. Он был холост, и его смущали девушки, смущали их ноги, волновали их колени, раздражали и не давали покоя их матросские блузки. Он боялся признаться себе, что еще больше, чем власти над толпой и славы, жаждет сжимать в объятиях такую гибкую, нежную девичью фигурку. Справедливо ли, думал он, что по неисповедимой воле божией прилежный и непорочный молодой человек, каждый день принимающий холодный душ, играющий в теннис и готовый послужить своему народу в качестве сенатора США, должен поддаваться грешным мыслям при виде того, как девица, сидящая напротив, закидывает ногу на ногу.
Конечно, тут был один выход, и притом выход, освященный библейскими канонами в лице старейшего члена ХАМА апостола Павла, — женитьба. Но профессор Плениш еще ни разу не встретил девушки, которая обладала бы тремя качествами, для него обязательными: молодостью и округлостью форм, умением ценить его гуманистические устремления и его зажигательное красноречие и талантом светской обходительности, чтобы помочь ему подняться еще выше. Такой девушки он пока не встретил, но с чувствами своими умел справляться, в чем ему помогали с детства внушенные христианские устои и постоянная доступность его любовницы.
Ее звали Текла Шаум, она была добрая женщина и имела собственные средства.
Лето 1921 года он провел в библиотеке Йельского университета, терпя надменность тех профессоров, которые не уехали на каникулы в Вермонт терпеть надменность оксфордских профессоров. Ему казалось, что он работает над книгой «Гениальные ораторы Америки»: об Уэбстере,[19] Линкольне, Кэлхуне,[20] Брайане, Игнациусе Доннели[21] и всех, носивших фамилию Рузвельт.[22] Только две главы из этой книги были написаны. Много лет спустя он разыскал их на дне сундука и переделал в весьма полезную брошюру, где доказывалось, что под Истинным Американизмом следует понимать щедрое субсидирование благотворительных организаций. Но он имел успех у дочери своей квартирной хозяйки на Орэндж-стрит и оценил прелесть омаров, минеральной воды и танцев щека к щеке. Неделю он провел в Нью-Йорке, где хорошо изучил дорогу от Центрального вокзала до Публичной Библиотеки и от Публичной Библиотеки до тайного кабачка Билли в Гринвич-Вилледж.
Он готов был занять свое место в ученом мире Восточного Побережья, но проклятые снобы из Колумбии, Гарварда, Принстона и Йеля, эти академические фарисеи, отнеслись к нему без сочувствия. Быть может, ему не хватало именно любящей женщины, которая, подобно домашней Жанне д'Арк, указала бы ему путь.
Профессор Плениш пришел к заключению, что пассажиры вагона Чикаго — Кинникиник даже не заметили его. Он мрачно поглядывал на свой новый ярко-желтый кожаный чемодан с большими золотыми буквами Г. П. Не стоило, пожалуй, так дорого платить за него.
Он вздохнул, отмахнулся от услужливо подскочившего проводника и сам вынес свой чемодан на площадку.
Мимо поезда бежал уже Кинникиник: две пузатые нефтяные цистерны, двор, загроможденный старыми, ломаными автомашинами, два элеватора, один выкрашенный в кричащий красный цвет, другой серый, оцинкованного железа, одиноко возвышающиеся на блеклом фоне выгоревшей прерии. Профессору Пленишу после тенистой солидности Нью-Хейвена все это показалось беспорядочным и убогим, но, слезая со ступенек с тяжелым чемоданом в руке, он мог утешиться приветливым восклицанием начальника станции:
— С приездом, проф!
Он был дома. На дощатой платформе, у маленького красного станционного здания, хорошенькая студентка третьего курса указала на него стайке еще более хорошеньких первокурсниц — указала и зашептала что-то, после чего все девушки посмотрели ему вслед внимательно, без хихиканья. Он был дома, и он был здесь важным лицом, и шофер ветхозаветного такси окликнул его при выходе:
— Вернулись, проф? Поедем, что ли?
В те времена и в тех местах у молодых людей была мода малевать на своих дедовских автомобилях надписи вроде: «На край света и обратно» или «Садись, детка, не бойся». Но все подобные любительские попытки стушевывались перед этим такси — открытым прогулочным фордиком, на котором значилось: «Кинникиникская Контора Круговых Катаний», а рядом изображены были молодые люди в белых галстуках и дамы в нескромных вечерних туалетах на загородной пирушке, где вся закуска состояла из бананов и крутых яиц. Профессору Пленишу после вязов Хиллхауз-авеню подобная безвкусица показалась унизительной; он сидел в фордике, бросая по сторонам гневные взгляды, и его пышная бородка угрожающе топорщилась.
Все приняло более отрадный вид, когда они подъехали к колледжу. На крутом берегу реки Кинникиник, изгибавшейся в виде вопросительного знака, несколько серых зданий в тюдоровском стиле окаймляли четырехугольный двор, осененный листвой дубов и кленов, — место, созданное для раздумий. Молодой профессор Плениш, глядя на него, радовался: «Поменьше Йеля, конечно, но архитектура гораздо строже и постановка преподавания разумнее, а главное — души больше!»
Фордик остановился у его резиденции — две комнаты, кабинет и спальня в белом домике миссис Хилп, вдовы, которую никто никогда не замечал и никто никогда не мог бы описать. Миссис Хилп выбежала на широкое крытое крыльцо и воскликнула:
— Добро пожаловать, профессор! — от чего в нем еще усилилось сознание собственной значительности. Он распаковал чемодан, то есть выбросил из него все на кровать, чтобы миссис Хилп убрала. Профессор не отличался особой аккуратностью.
Было еще достаточно тепло для того, чтобы продемонстрировать новый полотняный костюм, купленный в Ныо-Хейвене, и, облачась в эти светлые ангельские ризы, он отправился по своим делам, вновь чувствуя себя человеком, которого ждут и который нужен. Он заглянул в свой служебный кабинет — мрачную клетушку с шиферным полом в цокольном этаже Административного корпуса-и поздоровался со своей секретаршей, обожавшей его, но чрезмерно поджарой и целомудренной. Она уже ответила за него на все письма, и ему решительно нечего было с нее спросить; он только потрепал ее по плечу в знак того, что дружески расположен к ней, но все же следит за тем, чтобы все было в порядке.
Он прошел под мемориальной аркой, украшенной гербами девяти колледжей Новой Англии, и двинулся вдоль Уоллес-авеню; зашел в магазин «Все для студентов», где купил ярко-зеленый галстук, который ему не нравился, а затем в «Книжную и Табачную Кооперативную Торговлю», где купил красную чернильную резинку, которая ему не была нужна. Зато он имел удовольствие услышать от продавщицы:
— А уж мы по вас соскучились, профессор. Рады вас опять видеть.
Свой визит к мистеру У. К. Придмору, директору Национального банка скотопромышленников и председателю попечительского совета Кинникиникского колледжа, он наметил на половину четвертого — час, когда банк закрыт для публики, категории людей, которую старик упорно именовал плебсом. В пять он нанесет визит новому ректору колледжа. Такой продуманный график деловых встреч оставлял ему в промежутке три четверти часа на запросы сердца, в данный момент сосредоточивавшиеся на изящной особе доктора мисс Эдит Минтон.
Мистер У. К. Придмор сидел неподалеку от входа в зал, где дубовым барьером было отгорожено для него нечто вроде свиного закутка, только чище. Гораздо чище. Это был мягкосердечный человек с щетинистыми усами, который всякий раз огорчался, когда приходилось отказывать в праве выкупа просроченной закладной. А так как он полагал, что профессор Плениш женится на его вдовой дочери Текле, и так как он считал профессора Плениша самым начитанным и самым красноречивым из всех известных ему молодых людей, и притом со здравыми взглядами на республиканскую партию и с приличным окладом жалованья, он поднялся из-за своего стального бюро, один вид которого вызывал у просителей ссуды головную боль, протянул трясущуюся руку и воскликнул:
— Ну, наконец, наконец! Мы с Теклой по вас соскучились, Гидеон. Очень, очень рад вас видеть!
Профессор Плениш подумал, что, может быть, ему и не потребуется целых десяти лет, чтобы сделаться ректором колледжа.
Он рассказал мистеру Придмору, что в Нью-Хейвене много красивых банковских зданий и больших заводов, есть и университет, разбросанный по нескольким помещениям, но что до него, так он рад очутиться снова среди друзей.
Без пяти минут четыре профессор Плениш, слегка нервничая, входил в корпус Ламбда-Ламбда-Ламбда, чтобы повидать мисс Эдит Минтон, проктора этого корпуса и преподавательницу английского языка. Он думал о ней все лето, и она представлялась ему то кристаллом кварца, то ланью с большими глазами и крохотными изящными копытцами. Какая ошибка, что он так мало встречался с ней в прошлом учебном году!
Ему пришлось подождать в приемной, где висели гравюры Максфилда Парриша и стояли похожие на троны кресла, такие прямые, твердые и неудобные, что при виде их невольно закрадывалась мысль, точно ли «монаршья голова не ведает покоя».
Эдит Минтоп скользнула в комнату, и екнувшее сердце сказало ему, что именно здесь ждет его истинная любовь, что Эдит всегда будет делать ему честь и украшать его званые обеды, на какие бы высоты ни вознесла его судьба. Он умилился собственной памяти, которая, оказывается, так верно сохранила ее образ: такая она и есть — бледная, тонкая, прямая и, должно быть, очень мягкая и податливая под броней серого костюма с накрахмаленным кружевным жабо. Он подумал: «А не поцеловать ли ее?», но из неведомых глубин вдруг прозвучало предостережение. Он пожал ей руку, сильную, тонкую руку, и пригласил ее сесть, словно хозяином был тут он, а не она.
— Вы прелестно выглядите, Эдит. Хорошо провели лето?
— Недурно. Я две недели прожила на озере в Висконсине, а большую часть каникул сидела в Чикаго и занималась Чосером.[23]
— Ах, я даже вас не поблагодарил за вашу открытку. Очень рад был получить ее. Да… Так вы прелестно выглядите. Сразу видно, что вы хорошо провели лето.
— Да.
— Ну, а теперь опять за лямку?
— Не понимаю.
— Опять за работу?
Она подумала.
— Да, вы правы, теперь опять за работу.
— Вот именно. Опять за старое дело.
— Вам, верно, в Нью-Хейвене больше понравилось, чем здесь?
— Ничуть! Там с тобой не поздороваются, не потребовав паспорта и свидетельства о благочестии за подписью трех священников. Нет уж!
— Но ведь и своей жизнью здесь вы тоже недовольны!
— Человек должен двигаться вперед, не правда ли? Что это вы все на меня нападаете, дорогая?
— Ах, простите, Гидеон! Я все забываю, что вы мое начальство.
— Глупости, глупости, глупости! Мы за академический демократизм: все равны, даже студенты — в известных отношениях. Отчего вы так дурно настроены?
— Ах, я целый день провозилась с первокурсницами, которые никак не могут решить, кем им быть: учеными женщинами, деловыми женщинами или просто женщинами. Боюсь, у меня характер портится.
— Ну ничего, это пройдет! — Он встал с несколько покровительственным видом и потрепал ее по плечу почти так же бесстрастно, как раньше секретаршу. — Отдыхайте. До скорого свиданья!
«Нет, эта меня едва ли сумеет оценить и способствовать моей карьере. Просто холодное, бесполое, самовлюбленное существо. Нет, нет, она все-таки ничего. А может быть, она меня видит насквозь? Может быть, во мне и ценить нечего, кроме умения красно говорить? Надо подумать об этом и сделать вывод — больше читать, усиленно размышлять на досуге», — рассуждал молодой профессор Плениш.
Он шагал обратно, к Административному корпусу, и в его бородке играли лучи сентябрьского солнца. Чувствуя, как возвращается к нему апломб и решимость произвести впечатление на новое руководство, он смело вступил в устланную зеленым ковром, увешанную портретами приемную перед ректорским кабинетом.
Он был профессор с ученой степенью, поэтому он ждал всего пять минут, по прошествии которых мог насладиться пылким дружелюбием преподобного доктора Т. Остина Булла, нового кикникиникского ректора.
Бывают люди простецкого и неуклюжего вида, длинноносые верзилы с растрепанными волосами, которые на поверку оказываются завсегдатаями нью-йоркского или лондонского света, чемпионами игры в поло или редакторами салонных журналов, авторитетно рассуждающими о новых веяниях в музыке и морали. И, напротив, бывает, что человек подтянут, строен, четок в движениях, обладает вьющейся шевелюрой и тонкими чертами, умением носить костюм, как на сцене, молодцеватостью кавалерийского капитана и осанкой пехотного майора, а на самом деле это скромный пастор, ученый богослов или же инструктор ручного труда.
Такой обманчивой элегантностью отличался Т. Остин Булл, который вырос в методистской семье, десять лет подвизался в качестве велеречивого и преуспевающего служителя епископальной церкви, некоторое время состоял секретарем одного гигантского университета и, наконец, в сорок четыре года сел ректором в Кинникиник.
Теперь во всем чувствовалась новая рука: вводились новые методы рекламы и вербовки; насаждались самые высокие идеалы американской деловитости, благочестия, учености и мужественности. Доктор Булл был противником лени, долгов, греческого языка (кроме как для аспирантов) и обольщения студенток.
Его рукопожатие было энергичным и крепким, несмотря на его малый рост, и он приветствовал профессора Плениша музыкальнейшим тенором:
— Очень вам благодарен, профессор, что вы не стали откладывать свое посещение, впрочем, иначе я сам посетил бы вас. Я ведь здесь новый человек и, признаться, рассчитываю опереться на ваш опыт.
Вы… позвольте, да, вы работаете в Кинникинике уже три года. Не стоит говорить о том, какие превосходные отзывы я имею о вашей превосходной педагогической методе, и о… гм… вашем превосходном моральном влиянии на студентов. О, да, да, безусловно. Но… Есть одно обстоятельство, одна маленькая частность, по поводу которой я хотел бы поговорить с вами, — о… скорей в плане вопроса, чем совета.
Сигару, профессор? Я, как бывший священник, разумеется, курю мало, но я нахожу, что хорошая сигара радует душу и проясняет мысли, если только это действительно хорошая сигара, не пятицентовая. Прекрасно! Теперь устраивайтесь поудобнее в кресле, запаситесь терпением и выслушайте меня.
Вопрос, который я позволю себе затронуть, — разумеется, лишь косвенно, — сводится к следующему: я убежден, что вы так же тщательно стараетесь уберечь наших милых студенток от опасности увлечься вами, как и любым другим мужчиной; но случалось ли вам когда-либо задумываться над несколько щекотливым положением полного сил, молодого, неженатого мужчины среди такого множества прелестных девушек?
— О да, случалось, и не раз!
— Я так и думал. А могу ли я, не будучи нескромным, спросить, собираетесь ли вы жениться?
— Сейчас я не в состоянии ответить вам что-либо определенное: только опрометчивые глупцы, говорят, искушают небеса прорицаниями.
— Как это мудро сказано!
— Но я надеюсь в ближайшее время сообщить вам нечто весьма интересное.
— Прекрасно, прекрасно. Вы меня очень порадовали, профессор.
Мысленно профессор Плениш проворчал: «Да, это и в самом деле весьма интересно — на ком я, собственно говоря, собираюсь жениться? И старому дураку было бы тоже весьма интересно, если б он пошпионил за мной несколько часов и выяснил, почему я не опасен для хорошеньких студенток!»
С этими мыслями он направился к серому вдовьему домику, где жила Гекла Шаум.
Он постучал, а не ворвался сразу, как делал обычно. Приятно будет посмотреть, как она выглядит, трепеща от волнения. Она, конечно, дома — ведь он звонил по телефону! Она не захочет испортить продуманный эффект встречи.
Он постучал, потом позвонил, и ровно через столько секунд, сколько он мысленно назначил, она приотворила дверь и сейчас же широко распахнула ее с криком: — О Гид! Ты вернулся!
— Я? Нет, что ты! Я еще в Нью-Хейвене. Знаешь — штат Коннектикут.
Он затворил за собой дверь, отгораживаясь от всевидящего Кинникиника, и крепко поцеловал ее, прижимая к себе ее маленькую, хрупкую фигурку, чувствуя под рукой ее упругую спину.
— Я так стосковалась по тебе, — вздохнула она.
— И я по тебе. Даже поговорить не с кем было.
— Но ведь ты, верно, массу интересных людей встречал в Ныо-Хейвене?
— Ну, конечно. Там есть крупные ученые — специалисты по английскому языку, настоящие художники слова. Самого Беовульфа[24] положили бы на обе лопатки. А какие там дома! Какие старинные церкви, какой чудесный старый город Гилфорд — троллейбусом совсем недалеко! Но все-таки, Текла, голубка, мне тебя недоставало, очень иногда хотелось поговорить с тобой. Знаешь, так это, по душам.
Он испытывал облегчение от того, что мог без натяжки говорить ей правду. Он подумал, что при всем своем таланте, может быть, даже гениальности, он человек простой и ему претят кисейные разговоры с Эдит Минтон и ректором Буллом. Он подумал: может быть, он и в самом деле немножко влюблен в Теклу? Было только одно возражение против этой гипотезы: Текла ему не слишком нравилась.
Текла Придмор Шаум, дочь председателя попечительского совета, была старше профессора Плениша на четыре года. Около двух лет она прожила с мужем, подававшим надежды молодым городским деятелем, председателем Электрической компании, который потом погиб при автомобильной катастрофе. Ее постоянно томила тоска по запаху мужской трубки, по глухому громыханью мужской воркотни. Всю прошлую зиму она жила с профессором Пленишем, но знала она его плохо. Он ей казался простодушным молодым человеком, заботящимся о пользе своих студентов. Она была худа, на четыре года старше его и не отличалась ни хорошим цветом лица, ни какими-либо особыми достоинствами по части волос, или формы носа, или остроумия — ничем, кроме упорной страсти к нему и умения находить радость в том, чтобы утешать его и уверять в его превосходстве над другими. Она знала, что он в нее не влюблен, но убеждала себя, что рано или поздно милый мальчик оценит сокровище, которым она его дарила.
— Какой прелестный костюм! — восторженно пропела она.
— Нравится? Из Нью-Хейвена. Бешеных денег стоит.
— Такой элегантный!
— Хо! Наверно, по-твоему, ректор Булл одевается лучше меня. Я его только что видел. На нем был двубортный серый пиджак в талию, как у опереточного фигуранта, и, честное слово, красна* гвоздика в петлице — каков пижон! Что ты на это скажешь?
— Мы с отцом считали его очень умным человеком. Но после твоих слов мне уж и самой кажется, что он немного фатоват. Ты так проницателен, так хорошо разбираешься в людях!
— Просто я много толкался в свете.
— Милый, ты бы снял пиджак. Сентябрь, а жара страшная.
— Да, пожалуй, ты права.
— И я уж знаю, что ты не откажешься от коктейля.
— Над этим предложением стоит подумать.
Так они развлекались, мешая любовный лепет с академическим обменом мнениями.
В Кинникинике в отличие от других мест сухой закон не способствовал распространению пьянства; город, хоть и епископальный, отличался чистотой нравов. Там не было ни одного салуна, для причастия употребляли виноградный сок, а на публичных банкетах за здоровье епископа и местной футбольной команды пили кока-кола. Студенты в своем воздержании доходили до того, что никогда не выпивали в общежитиях, разве только вечером, да еще, пожалуй, после обеда. От ректора требовалась репутация трезвенника, и только в домах у тех профессоров, которые женились на деньгах, можно было найти достаточно солидный винный погреб.
Профессор Плениш, капли во рту не имевший с тех пор, как вышел из дома миссис Хнлп, по-братски помог Текле наколоть льда, откупорить бутылку минеральной воды и произвести ревизию сухому запасу: четыре бутылки бурбонского виски, две шотландского, двадцать семь джина и одна мятного ликера, похожая на экспонат анатомического музея.
Текла не держала прислуги, но в кухне у нее все было автоматическое и все угрожающе красивое. Электрическая плита походила на шифоньер для приданого; раковина была из нержавеющей стали, буфет тоже стальной, покрытый голубой эмалью, а за кухней был уголок для завтрака: два вишневых креслица по сторонам никелированного столика, а на стенах обои с узором из земляники и синих птичек.
Профессор Плениш и его Аспазия[25] безмятежно напились в этом металлическом приюте любви, где розовые электролампочки заменяли бутоны роз. Но сначала профессор сказал, предвкушая удовольствие: — Ты даже не спросишь про подарок, который я тебе привез.
— Ты мне привез подарок?
— Хо-хо, а кому же мне еще подарки привозить?
Он вприпрыжку понесся в гостиную, голубую с серебром, с гравюрой Артура Рэкхэма[26] на стене, и из кармана своего пиджака извлек изящнейший картонный футляр, снаружи гладкий и холодный, как лед, внутри приятно подцвеченный палевым атласом. Склонившись над нею, положив левую руку ей на плечо, он вынул блестящий стразовый браслет, купленный с замиранием сердца на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке (11.99 наличными).
— Ах, милый, какая прелесть, какая прелесть! Сверкает, точно бриллианты! Ну зачем это!
Он поцеловал ее и несколько секунд был почти уверен, что любит ее. Но ему хотелось пить, а лед и янтарная влага в его бокале манили сесть в кресло напротив.
— Гидеон, а я этим летом сделала кое-что очень полезное для тебя.
— Что же?
— Я для тебя читала Троллопа.
— Кого? Ах, да, Троллопа.
— Знаешь, что? «Барчестерские башни».
— Как же, помню. Я его однажды пробовал читать, но оказалось не по силам. Даже не стреляют ни разу. Слишком тягуче для меня.
— А я тебе скажу, в твоих лекциях по риторике., когда ты говоришь, что автор может быть и остроумным и увлекательным, не впадая в безнравственность и дурной тон, как наши современные писатели, Троллоп послужит отличным примером. Я тебе подготовила заметки о его сюжетах и нравственных принципах.
— Вот и чудно! Когда человек с утра до вечера должен вколачивать в головы всяким тупицам основы искусства красноречия да еще при этом состоять в десятке комиссий, ему неоткуда взять время на то, чтоб читать все, что хочется. Знаешь, иногда это очень меня печалит. Нет лучше друга, чем хорошая книга, я всегда говорил.
— Да, да, я с тобой вполне согласна, Гидеон! У Троллопа есть один герой, который очень похож на тебя — то же сочетание мужественности с ученостью. Он священник, но у него такая же бородка, как у тебя.
— Как, по-твоему, не сбрить ли мне бороду? Мне кажется, что ректор Булл смотрел на нее неодобрительно.
— И думать не смей! Она тебе так идет! Ты совсем как тот священник из книги.
— Знаешь, мне подчас не дает покоя мысль: не следовало ли мне избрать духовную карьеру вместо педагогической? Правда, я всегда говорил, что, наставляя молодежь в ораторском искусстве, можно принести не меньше пользы, чем наставляя ее в нравственной чистоте, но я, понимаешь, по натуре в некотором роде подвижник-чудно, не правда ли? — и я стремлюсь только к самому возвышенному и благородному и без компромиссов, да, да, и сколь ни обыденны наши интересы, мы должны взять себе за образец жития святых и без колебаний приносить все в жертву для блага человечества и… ух ты! До чего же мне хорошо сейчас!
Он опрокинул еще бокал, прямо так, без льда и содовой. Уж не… он мысленно ущипнул себя, чтобы проверить, больно или нет, — уж не пьян ли он? Да ну, к черту, подумаешь! Надо же отпраздновать, как-никак возвращение домой. А Текла глядит на него с таким восторгом и готовностью! Как жаль, что она настолько старше его!
Она нежно нашептывала:
— Разве я не знаю, как ты стремишься помочь бедному, заблудшему человечеству? Но право же, я не вижу, чем миссия священника плодотворней твоей замечательной работы в колледже, где ты учишь студентов так прекрасно излагать свои мысли вслух и на бумаге, и это так много даст тем из них, которые впоследствии найдут свое призвание в том, чтобы поучать других.
— Во всяком случае, я не убежден, что у меня подходящий голос для священника.
— Знаешь, какой голос для тебя самый подходящий?
— Какой?
— Именно такой, какой есть, милый!
— О-о… Ты считаешь, что он у меня достаточно звучный?
— Он не гулкий, как из бочки, если ты это имеешь в виду, — и слава богу, что нет! Но послушай, милый, ты мне ничего не рассказал о Нью-Хейвене. Я, конечно, понимаю, ты был занят, у тебя не оставалось времени для писем. Но расскажи хоть сейчас. Предложили тебе там место?
— Есть вещи поинтереснее Нью-Хейвена. — Он встал. — Пойдем.
Она молча последовала за ним в гостиную, примостилась у него на коленях, ласково терлась щекой о его жилет, а он рассеянно гладил ее ногу.
Вздыхая, профессор думал: «Она хорошая женщина. Одна она ценит меня по-настоящему. Какая жалость, что она так провинциальна и ограниченна! Просто нечестно было бы взять ее в Нью-Йорк или Вашингтон и отдать на съедение тамошним снобам и интриганам».
Она сказала, словно вкладывая в каждое слово совсем другой смысл:
— Ты проголодался. У меня для тебя приготовлен вкусный бифштекс.
— Пожалуй, с этим можно подождать, как ты думаешь, голубка?
— Пожалуй, — шепнула она.
6
Профессор Гидеон Плениш был не вполне доволен тем, как о нем позаботилось провидение в начале текущего 1921–1922 учебного года. Он не был доволен Теклой Шаум. О, разумеется, по-своему, по-женски, она восхищалась им, но она не понимала всей сложности карьеры государственного деятеля, не понимала даже проблему его бородки — борода придавала ему простоватый вид, а между тем, если бы он теперь сбрил ее, все стали бы над ним смеяться.
Она не могла научить его, как прыгнуть из колледжа в сенат, минуя утомительную процедуру бесчисленных рукопожатий. Она даже находила, что он может продолжать свою педагогическую деятельность, и не учитывала, как неудобно ему иметь на своем отделении соперником нового лектора по английскому языку, который был настоящим англичанином и ловко использовал это преимущество.
Да, он совсем один со своими грандиозными замыслами, некому помочь ему, некому держать его за руку на крутом пути к звездам.
Черт побери, он даже не уверен, следует ли ему оставаться любовником Геклы. Может, это не вполне нравственно.
Особенно его раздражало то, что в их небольшом колледже, где преподавательский штат состоял всего из тридцати человек, его заставили читать огромной группе первокурсников обязательный курс «Введение в риторику и стилистику». Он охотно удовлетворился бы узкими семинарами по нескольким увлекательным предметам: «Аргументация», «Толкование драмы», «Ораторская техника» и «Психология речи», — но обрабатывать столь неблагодарное сырье, как сотня первокурсников разного пола и разной степени невежества, означало тяжелый и напряженный труд у некоего интеллектуального конвейера. А Текла только и знала, что повторять: «Тебе должно доставлять большое удовлетворение будить все эти юные умы!»
И вот с неотвязным ощущением, что его эксплуатируют, он отправился читать первокурсникам вступительную лекцию.
Когда он вошел через боковую дверь в аудиторию имени Аткинсона,[27] в руках у него была только тоненькая записная книжка. Он гордился тем, что благодаря своей организованности не нуждался ни в пухлом портфеле, ни в стопке темных потрепанных томиков, которыми старые ветераны-профессора безнадежно портили эффект своего появления на кафедре.
Властно и выжидательно он окинул взглядом огромную аудиторию — девяносто семь человек, все зеленая молодежь. Почти никто из них даже не побывал у него на консультации. Девяносто семь отпрысков гордых, но провинциальных семейств, и все увлечены яблоками, шоколадом, теннисными ракетками, газетами и друг другом, юноши тянутся к девушкам уже сейчас, на первой неделе учения, — кипит молодая жизнь, которой нет дела до профессоров, даже если у них пышные бородки. Он стоял, глядя на своих слушателей чуть иронически, как воплощение холодной, уверенной мудрости, но это была игра, и он был актером. Сердце у него тоскливо ныло, и он надеялся в лучшем случае не показаться им очень смешным или невыносимо скучным.
Он важно раскрыл перед собой записную книжку, постучал по кафедре и заквакал:
— Юные леди и джентльмены, разрешите мне положить начало этому консорциуму, в который мы вступаем на ближайшие девять месяцев, девять долгих, долгих месяцев (на лицах, как и следовало ожидать, замелькали улыбки), установив ряд основных принципиальных положений. Среди вас, несомненно, есть Шекспиры, «что в песнях душу изливают», но для большинства из нас волшебное искусство риторики не что иное, как правила, правила и еще раз правила.
Это дисциплина. Это — смиренное и добровольное следование гениальным формулам, давно уже выработанным для нас великими мастерами. Мы собрались здесь не для того, чтобы хвалиться друг перед другом или воображать, что мы можем все делать по-новому. Я расскажу вам, и вы, надеюсь, выслушаете с величайшим вниманием то, что я вам расскажу, о решениях, к которым пришли великие мастера в вопросе о высоких тайнах стиля, красоты, лаконизма, стремления к божественному, о правильном соотношении в художественной литературе между анализом и повествованием, описанием и диалогом, о законах разбивки на абзацы, о пробуждении благородных чувств, например, любви и патриотизма, о принятой пунктуации и — ах, черт…
Последнее не было произнесено вслух.
Можно было только предполагать, что ее фамилия начинается на А или Б, вот этой девушки на правом конце первой скамьи в среднем ряду, потому что группу еще не рассадили по алфавиту. Может быть, она села так близко, чтобы лучше его слышать. Но с какой бы буквы она ни начиналась — А, Б, В или Ю, — она его любовь до гроба.
Правда, плечи у нее, как и у него, обнаруживали опасную склонность к полноте, но ноги были стройные, щиколотки не толстые, а лапки с переплетенными пальцами, которые она, слушая его, положила на пюпитр, хоть и не маленькие, но белые, изящные и милые.
И мордочка у нее была потешная, как у обезьянки, круглая и задорная. Глаза умные, живые, необыкновенно умный и решительный взгляд для девушки не старше девятнадцати лет, а приветливые губы, в меру крупные, в меру полные, чуть шевелились от волнения. Лучшее ее украшение составляли темные волосы, блестящие, как полированный орех, и вопреки моде и местному обычаю не стриженые, а почти вызывающе женственные.
Мысленно он уже говорил ей под кленами, на залитом луной дворе колледжа, что она должна быть осторожной в еде, чтобы не слишком полнеть — она такая очаровательная, — а вслух между тем продолжал:
— …и возьмите, для примера, писателя, который менее знаменит, чем Диккенс, или Теккерей, или Гарриет Бичер-Стоу, но в моих глазах всегда останется одним из властителей языка, — Эндрю, ах, что это, я, конечно, хотел сказать Энтони, Энтони Троллопа. Вы думаете, что такой выдающийся писатель, как Троллоп, считал, обязательным жить в мансарде со всякими французами и прочей богемой и выдумывать всякие новые правила? Вовсе нет! Он был сама дисциплина. При постоянных разъездах в качестве… ээ… школьного инспектора по… по разным местам в Англии он каждый день заставлял себя садиться и писать… и писать… и писать, и все согласно принятым правилам!
Девушка в переднем ряду кивнула головкой. Вот это — действительно серьезное и отзывчивое юное существо. Легко представить себе, как она шутит у стойки с фруктовыми водами или подпрыгивает на месте, увлекшись бейсбольным матчем, — веселая егоза, душа общества, но с золотым сердцем, способным оценить идеальные устремления и честолюбивые мечты.
Он разъяснял аудитории, что в совершенстве владеть языком должны не только проповедники и авторы передовых статей, но также деловые люди. Он привел им пример: что лучше поможет продать пылесос — плавное, закругленное, ласкающее слух обращение к покупателю (и он изобразил в лицах сценку между коммивояжером и умиленной домашней хозяйкой) или набор бессвязных, грубых слов, какими пользуются люди, не учившиеся в Кинникинике и не прослушавшие с должным вниманием курса риторики.
Глаза девушки в переднем ряду безоговорочно с ним согласились.
А если кто из них думает посвятить себя политической деятельности… Что помогло Вудро Вильсону стать президентом? Его колоссальные познания в истории? Нет и нет! Исключительно его умение выбирать слова и соединять их в предложения согласно правилам.
Конец лекции профессора Плениша получился немного похожим на сцену суда в «Венецианском купце». Он сделал паузу, он вперил в слушателей пристальный взор, он поднял руку, он возгласил: «Разрешите мне закончить словами Горация». Он заглянул в листок бумаги, исписанный почерком Теклы Шаум.
Не первым Цезарь или Ньютон Свершали славные дела, Но был забвением окутан Их путь; его сокрыла мгла. Ведь лишь когда поэтов лира Благое дело возвестит, Великий станет знаменит; Узнают все: закон для мира Тем установлен, тем открыт! Кто не воспет — тот позабыт!Как знать, может, ему все же следует стать знаменитым актером, а не сенатором или ректором колледжа? Может быть, тогда эта девушка еще больше оценила бы его. Ему казалось, что она чуть не плачет. Он посмотрел на нее понимающе, глазами проникая в ее глаза, сердцем порываясь к ее сердцу. Когда студенты разошлись, задав ему всего каких-нибудь полсотни дурацких вопросов о расписании и домашних работах и о том, в какого рода учреждении совершается столь сверхъестественный подвиг, как покупка книги, он увидел, что она стоит у стены и ждет.
Она подошла к кафедре. Кто сказал, что у нее слишком полные плечи? Они круглые и нежные, и если положить голову…
Профессор Плениш мысленно одернул себя. Ведь он как-никак не мальчишка. Эта молодая девица очень миловидна, но все же она не Теда Бара.[28] Стоя на кафедре, отделенный от нее спасительным барьером, он посмотрел на нее сверху вниз взглядом судьи.
— Можно вас побеспокоить, профессор?
— В чем дело?
(Именно таковы были первые слова, которыми обменялись кинникиникские Ромео и Джульетта.)
— Я хотела спросить, можно мне посещать занятия по толкованию драмы?
— Это предмет для старших курсов.
— Я знаю. Я просто хотела посещать как вольнослушательница.
— Разве у вас есть пустые часы?
— Ох, что вы! — Она страдальчески поморщилась.
— Так зачем вам еще добавочные занятия?
— Я, может быть, пойду на сцену и…
— И что?
— И я очень хотела бы слушать еще один курс у вас!
Она была застенчиво бесстыдна, и он замер от любопытства.
— Но почему?
— Ах, сегодня было так интересно, а на днях я слышала вас в коридоре — я ждала, чтобы узнать, когда будет прививка, и слышала, как вы говорили с профессором Икинсом. Он какой-то сухарь и брюзга, все они такие, все, кроме вас, — я облазила все аудитории и везде слушала, все читают так скучно, просто перечисляют факты — ой, профессор, может, это невежливо, но спорю на миллион долларов: остальные профессора находят, что вы слишком увлекательно читаете, что вас просто опасно слушать…
— Вот что, моя дорогая… — И тут с напыщенно академического тона он сорвался на мальчишеский вопрос: — Как вас зовут?
— Пиони Джексон. Из Фарибо, штат Миннесота. Я была на платформе, когда вы сошли с поезда.
К нему вернулся профессиональный апломб. Тон превосходства, как средство самозащиты. Броня против опасной веселости молодых особ женского пола.
— Так вот, мисс Пиони Джексон из Фарибо, штат Миннесота, я не сомневаюсь, что вы хотели сказать мне приятное, но дело в том, что педагогический персонал, несмотря на возможные расхождения…
Никогда больше в разговорах с глазу на глаз с нею — с Пионине изображал он такой пародии на самого себя. Снова почувствовав себя молодым и бодрым, вспомнив, что он всего на десять лет старше ее, он воскликнул:
— Давайте посидим в переднем ряду, все ваши юнцы уже разошлись, идемте!
Они смеялись; они сидели рядом. Вероятно, даже ректор Т. Остин Булл не нашел бы в их поведении ничего предосудительного, но профессору Пленишу казалось, будто он держит ее за руку.
— Пиони… мисс Джексон… Толкование драмы вам посещать ни к чему. Сплошной разбор и, в общем, чепуха.
— Но ведь я приехала сюда, чтобы получить образование.
У него защемило сердце.
— Разве?
— Так говорят.
— А вы не верьте.
— Не буду. — Они рассмеялись, как два первокурсника или два старичка профессора. — Честное слово, профессор, вы замечательно обращаетесь со студентами: то внушаете им, что все они будущие Сократы, то ругаете на все корки. Этак, пожалуй, даже тупица вроде меня чему-нибудь выучится. М-А-М-А, МАМА, ЕЛА К-А — Ш-У, КАШУ. Такой наберусь учености, что мне даже позволят замуж выйти.
— За кого же это вы собираетесь выйти замуж?
Тон был очень холодный.
— Понятия не имею.
Она как будто оценивает его взглядом. Или ему так только показалось?
— Послушайте, мисс Джексон… Пиони… Я вот что придумал. О толковании драмы вы забудьте. Известно ли вам, что в мои обязанности входит четыре раза в год ставить спектакль?
— Ну-у? Чудно!
— Через несколько дней будет пробная читка первой пьесы, «Папочкина премия».
— Чудно!
— Хотите принять участие?
— Чуд… Вы хотите сказать, чтобы я попробовала, могу ли я играть какую-нибудь роль?
— Это и называется пробной читкой.
— Я с удовольствием. — Часики у нее были довольно дорогие. — Ой, мне нужно бежать.
— Не уходите!
— Меня ждут.
— Наверно, какой-нибудь молодой человек?
— Угу.
Его трясло. Его мутило. Первокурсники, болтливые мальчишки! Это вообще еще даже не люди.
— Знаете, Пиони, я бы хотел иметь возможность… понимаете, сейчас, в начале года, когда мы, так сказать, намечаем план… понимаете, на весь год… меня очень интересуют… понимаете, ваши реакции на различные… ну, различные методы и стили преподавания …так интересно изучить ваши реакции и…
— Бросьте, профессор, какие могут быть реакции у трудного ребенка?
— А вот вы реагируйте, а я посмотрю.
— Чудно.
— Где вы живете?
— Корпус Ламбда.
— Гм! Так вот. Сегодня я ровно в десять часов зайду в аптеку Постума выпить содовой. — Он вспомнил, что вечер у него занят, но тут же выкинул эту мысль из головы. Не мог он ждать сорок восемь часов, пока снова увидит Пиони. — Ровно в десять. Что, если бы вы заглянули туда и выпили со мной стаканчик?
— Я думала, что студенткам не полагается ходить на свидания с профессорами.
— Совершенно верно. Но если бы вы случайно зашли туда купить пудры…
— У меня есть пудра.
— Придете вы или не придете?
— Не знаю. Возможно. Всего хорошего!
Он нервничал. Неужели он позволил студентке — представительнице враждебного лагеря — забрать над ним власть?
Он ревновал. Пионн отправилась на свидание с нахальным, никому не известным мальчишкой, у которого явно бесчестные намерения, в то время как ему, Гиду, предстоит всего-навсего невинная встреча с миссис Теклой Шаум.
У отца Теклы, банкира и попечителя колледжа, был в шести милях от города, на озере Элизабет, домик в одну комнату с печкой и двухъярусной койкой, к которому вела песчаная колесная дорога. Придморы дали Гидеону ключ от домика и предложили пользоваться им, когда ему только вздумается; здесь он спокойно писал свою книгу об Ораторах Америки, — мало где можно было так хорошо отоспаться. И здесь, пользуясь тем, что погода еще стояла теплая, он сговорился провести вечер с Теклой.
Дорога к озеру шла среди густых зарослей дубняка, орешника и сумаха; в запоздалом луче солнца кружились мухи; престарелая лошадка Придморов не спеша трусила вперед. Все располагало к душевному довольству, но профессор Плениш, сидя в тарантасе плечом к плечу с Теклой, чувствовал себя человеком, который пропадает зря. Его не радовало даже озеро, поблескивавшее в просветах между деревьями, оно отвлекало его от мыслей о Пиони Джексон. А Текла, как нарочно, болтала без умолку, поглядывая на него так, словно он ее собственность, словно она его мать, его настоящая возлюбленная.
— Как сошла риторика на первом курсе, Гидеон? Очень было тяжко?
— То есть почему это «тяжко»?
— Ты всегда говоришь, что первокурсники такие тупицы!..
— Я не говорил ничего подобного. Я говорил, что среди них есть тупицы… А есть и очень способные, очень! Свежие, неиспорченные умы. Они так живо реагируют, не скучают, не брюзжат, как многие, кто постарше.
— Да, пожалуй… Ты использовал мой материал о Троллопе?
— Нет.
— То есть использовал частично. Я сегодня был у зубного врача.
— Ой, бедненький! Больно было?
— Нет.
— Ты, видно, устал сегодня, милый, и чем-то недоволен.
— Я? Я не устал. И я всем очень доволен.
Гробовое молчание, пронизанное тоненькими голосами мушиного хора и стуком ленивых копыт.
Профессор Плениш не был жестоким человеком; во всяком случае, ему не доставляло удовольствия причинять боль даже тем, кого он любил. Он сказал виновато:
— Прости, пожалуйста, мой раздраженный тон. Просто меня беспокоят студенты.
— Чем они тебя так особенно беспокоят?
— Своей безнравственностью! Первокурсницы назначают свидания незнакомым мальчишкам, молокососам! Это очень опасно!
— Вот как?
— Разумеется! А потом мне нужно подготовиться к… Между прочим, мне сегодня необходимо быть в городе ровно в 9.30.
— О, как жаль! Такой чудесный мягкий осенний вечер. Я думала, мы переночуем на озере.
— Я бы с радостью… чего же лучше… но сегодня никак не могу. Должен быть дома в 9.30, не позже.
Молчание.
Она медленно проговорила:
— Интересно, скоро ли ты уйдешь от меня к какому-нибудь очаровательному юному созданию, много моложе, чем я?
Он было разразился ложными клятвами, но потом почувствовал прилив честности. Это с ним случалось. Он ваговорил ласково, как ребенок с матерью:
— Не знаю. Когда-нибудь — возможно. Будем надеяться, что не скоро. Но если это и случится, ни одна женщина не будет так терпима ко мне и к моим глупым разговорам о всяких глупых планах.
— Это верно. Поцелуй меня!
Домик Придморов, некрашеный, но чистенький и веселый, был того же осеннего, золотисто-серого цвета, что и высокая, буйная трава на обрыве над озером, яастывшим в дремотном тумане. Мир снизошел на профессора, и минутами он даже забывал о Пиони Джексон и своей тоске по ней. Сняв пиджак и оставшись в тонкой нижней сорочке, со своей темной бородкой, словно сошедший с картины Манэ, изображающей пикник художников на берегу Сены, он бегал по пляжу и закидывал плоские камешки в перламутровую воду озера, лихо разбивая его покорную гладь. Текла оживилась, видя, что его раздражение улеглось, и весело раскладывала закуску на красной с черным скатерти, расстеленной на траве перед домиком. Озеро теперь отливало медью и пурпуром, и небо на западе пылало.
Когда она позвала его ужинать, он чувствовал себя молодо и бодро. Но она смотрела на него так, точно имела на него какие-то права. И вечно она о нем заботится! Ему, конечно, приятно, когда о нем заботятся, но вовсе не приятно, что кто-то все время помнит, что ему следует помнить, что о нем заботятся.
Она вынесла ему из домика складное кресло, а сама уселась на траве.
Он внутренне бесился: вот этим она и постарается удержать его-будет проявлять такую заботливость, что рука не поднимется ее обидеть. А она такая устоявшаяся, однообразная. Он жаждал нового. «Уеду отсюда!» — поклялся он и тут же, к своему удивлению, услышал, как орет на нее: — О черт, неужели опять крутые яйца?
Ему хотелось капризно броситься в складное кресло, но кресло было не из тех, в какие бросаются, да еще капризно. Он осторожно опустился в него и продолжал:
— Ты очень добра ко мне. Текла, но у тебя нет ни на грош воображения.
Ну разве не стыдно так обижать ее? Конечно, стыд но, но лучше уж покончить с этим раз и навсегда.
— Неужели нельзя придумать что-нибудь новое? Ты какая-то сплошная рутина, точь-в-точь Кинникиникский колледж. Проснись.
Она молча отвела глаза и сидела, немая и безвольная, потом забралась к нему на колени, легонько поцеловала в щеку, прося прощения за ужасный проступок, который, должно быть, совершила.
Он думал: о черт, ведь кресло не выдержит нас двоих, но разве скажешь ей, бедняжке, сентиментальной дуре: слезай к чертям?
Он думал: она горячая и липкая, руки липкие, как бумага для мух, и просто удивительно, до чего она тяжелая, хоть и худая.
Он думал: эта Пиони Джексон такая свежая, веселая, прохладная. Хотя довольно полненькая. И какая умница! С ней-то не нужно все время объяснять и оправдываться.
Он сказал вслух:
— Прости, что я сегодня не в духе. Я всегда такой в начале учебного года. Ну, давай закусим, а то холодные яйца остынут!
В аптеке Постума он был в 9.56.
Мисс Пиони Джексон появилась там в 9.59. Не глядя на него, она подошла к прилавку с парфюмерией и спросила:
— У вас есть рисовая пудра в маленьких коробочках?
Она была еще более свежая, и нежная, и неповторимо чудесная, чем ему помнилось.
Когда она оглянулась, он сказал:
— А, это вы, мисс Джексон, добрый вечер!
Она сказала:
— А, это вы, профессор, добрый вечер!
— Разрешите предложить вам стакан содовой?
— Содовой?
— Ну да.
— Ах, содовой. Боюсь, не очень ли поздно, профессор.
— Нет, ничего. Садитесь и выпейте содовой. Или мороженого. Я хочу узнать ваше мнение о темах для еженедельных докладов.
— Ну что же… — Голос ее звучал спокойно, но глаза завлекали его.
7
Для джентльмена, состоящего профессором Кинникиникского колледжа, считалось предосудительным смотреть на девушку-студентку как на человеческое существо, а поглощать в ее обществе смородинное желе, земляные орехи, тянучки и два сорта мороженого было так же опасно для нравственности, как и для пищеварения.
Однажды подвергнувшись этой опасности, он теперь не решался глядеть на мисс Джексон иначе, как с кафедры в аудитории.
Студентов рассадили по алфавиту, и она очутилась в средних рядах; начиная свою вторую лекцию, он робко поискал ее глазами и сразу успокоился, встретив ее улыбку, говорившую: «Да, я здесь». Во время лекции он угадывал одобрение в ее внимательной позе, но после звонка она предательски ускользнула с другими студентами, и он испытал все муки неуверенной любви.
Он знал, что в первый раз влюблен по-настоящему. За всю жизнь можно встретить лишь пять-шесть людей, которые бы тебя полностью поняли и приняли. Текла Шаум не принадлежала к их числу. Сколько он ни убеждал ее в своем высоком назначении, она в глубине души считала, что он прирожденный отец семейства и подстригатель газонов и что любовью и терпением она в конце концов заставит его мирно осесть в домашнем уюте. Среди этих пяти-шести доподлинных знатоков Гидеона Плениша могла быть только одна обольстительная девушка, и он скорее согласился бы расстаться с жизнью, чем упустить Пиони.
Случай поговорить с нею представился в день Приема Новичков, церемонии, состоявшейся в гимнастическом зале, который был украшен полотнищами красной и зеленой материи и огромным плакатом: «Привет первокурсникам 1921 года!»
Мужские костюмы на приеме отличались большим разнообразием — от фрака и белого галстука ректора Булла до рискованной белой фланелевой пары и красного галстука старого профессора Икинса; профессор Плениш в смокинге занимал благоразумную середину.
Сто новых студентов первого курса, выполняя старинный ритуал Представления Новичков, дефилировали перед ректором, деканом мужского отделения, и деканом женского, и всеми профессорами, а также их женами, и каждому пожимали руку с такой серьезностью, словно и впрямь черпали в этом волшебном прикосновении богатырскую силу. Сами жрецы просвещения поддались гипнозу: словно во сне, они выбрасывали вперед руку и каркали: «Очень приятно!» Бодрствовал один только профессор Плениш, и то лишь пока не почувствовал в своей руке теплую твердую лапку Пиони.
Однако весь вечер он оказывал усиленное внимание миссис Булл, супруге нового ректора. Ей было лет на десять больше, чем профессору Пленишу, но выглядела она ослепительно в туалете, выписанном из Чикаго, и прическе, сделанной в Сидар-Рапидс, и кроме того, она питала склонность к молодым профессорам.
Профессор Плениш чувствовал, что скоро ему могут понадобиться связи при дворе, а потому он дважды танцевал с миссис Булл, ступая с носка, виляя плотным задом и поводя бородкой в избытке светской элегантности, и при этом нашептывал ей, что на всем Атлантическом побережье он ни разу не встречал дамы с такой грацией в движениях и такими интересными мыслями о преподавании домоводства. В ответ она подробно рассказала ему о своем одиннадцатилетнем сыне Эдди.
Один раз он танцовал с Пиони, держась степенно, куда степенней, чем с миссис Булл. Но он украдкой следил за ней и раньше, когда она в своем веселом желтом шелковом платье с золотым пояском выделывала озорные фигуры, танцуя со всякими молодыми нахалами.
Кружа Пиони, он разговаривал с нею; но на этот раз он говорил с женщиной, а не отбывал светскую повинность.
— Почему вы убежали тогда после лекции?
— Не желаю, чтобы обо мне сплетничали.
— О нас сплетничали, вы хотите сказать?
— О, профессор Плениш!
— Для вас я не профессор Плениш. Я Гид.
— Гид! — Это было произнесено с насмешкой.
— Мы должны увидеться.
— Это очень трудно. Я бы с удовольствием, но за вами следят. Вы слишком популярны, Гид!
— Глупости! Просто я не женат. Вот что! Знаете скверик у вокзала, за линией? Туда никто из колледжа не заглядывает.
Она снова с насмешкой:
— Это там вы всегда назначаете свидания студенткам?
— Никаких свиданий я там не назначаю, и вы это отлично знаете.
— Почему же я знаю?
— Потому что я так говорю, а я никогда не лгу вам. Разве вы не чувствуете, что это правда? Разве вы не понимаете?
— Н-ну, может, и понимаю.
— Так вот, завтра в десять вечера приходите в этот сквер.
— Постараюсь.
— Я вам нравлюсь, мисс Джексон?
— Я пока не могу ответить на этот вопрос, профессор Плениш. Мне еще не ясно, как вы относитесь к золотому стандарту.
Они засмеялись. Смех был единственным подозрительным моментом этого безупречно чинного разговора, и профессор Плениш торопливо оглянулся — не смотрит ли Текла, ректор или миссис Булл. Но нет, никакая опасность пока не грозила.
С Теклой он танцевал только раз. Она томилась в кружке профессорских жен, пожилых дам, у которых на лицах застыла одинаковая напряженная, кислая улыбка.
— Как, по-твоему, бал, Гекла? — спросил он, сияя.
— Ничего, но мне не очень-то весело весь вечер подпирать стенку.
— Мы с тобой еще потанцуем, и я провожу тебя домой. А сейчас я тебе принесу земляничного морса. Я ведь знаю, как ты любишь земляничный морс.
Танцевать он ее больше не приглашал, но бутылку обещанного пойла принес и домой проводил. Он всегда оберегал себя от сплетен — а случалось, думал и о том, что нужно оберечь от сплетен ее, — и потому обычно не входил к ней в дом поздней, чем в час ужина. Когда она сказала: «Зайди, посиди немножко», — он пробормотал: «Не знаю, стоит ли. Нам нельзя забывать о твоей репутации».
Умно. Вполне по-профессорски.
Она прикрикнула: «Ничего. Зайди!»
В доме она положила ему руки на плечи и притянула к себе.
— У тебя сегодня что-то случилось, Гидеон?
— Ничего подобного!
— А то если… Гидеои, ты на меня даже не взглянул ни разу. Танцуя с тобой, я словно танцевала с чужим мужчиной — и притом с мужчиной, которому я не особенно нравлюсь. Милый, это очень больно, когда близкий человек вдруг прямо в твоих объятиях становится чужим, совсем по-другому касается тебя и двигается. Я сразу заметила, что ты чем-то отвлечен, и мне вдруг стало страшно.
— Ах, тебе просто показалось…
— Зачем ты пытаешься лгать мне? Я ведь всегда знаю правду. Даже профессорам и проповедникам не следует лгать, если они не умеют… 1 ак она тебе очень нравится? Говори, очень?
Он замер от ужаса.
— Я это видела. Гидеон, она по крайней мере на десять лет старше тебя. Если не больше.
— Она красива, это верно, но, Гидеон, нельзя забывать и того, что миссис Булл — жена ректора…
Его охватил буйный приступ веселья, он поцеловал ее почти с братской нежностью. Приятно было не только знать, что опасности не существует, приятно было чувствовать, что душа его от Теклы скрыта. «Ничего она не знает обо мне. Она никогда меня не понимала. Есть только одна женщина, которая способна меня понять, которая поймет», — радостно твердил он себе, а вслух лицемерно произнес:
— М иссис Булл? Да я не помню даже, как она выглядит. Ты просто смешна со своей ревностью, Текла. По совести сказать, я повинен в худшем грехе, чем ухаживание за замужней женщиной, — мой грех в том, что я через нее рассчитывал втереться в близость к ректору, а это не очень красиво!
— Совсем некрасиво, гадкий ты мальчишка! — Она была в восторге; она верила ему. — Ну садись, я тебе приготовлю чашку кофе.
— Нет, нет, мне пора идти.
— Почему? Еще не поздно. Работать ты уже сегодня все равно не будешь.
— Нет, я просто…
— Гидеон, я так тебя люблю! Сама не знаю, за что я тебя люблю так. Но я совсем не требую, чтоб и ты меня любил. Просто будь со мной, как друг, как свой… Если бы ты знал, что значит для вдовы, для молодой вдовы, которая была так счастлива с мужем, не иметь своего мужчины в доме, на которого можно опереться, который закрывает ставни и раскупоривает бутылки и немножко командует. Ужасно, когда никто тебя не любит настолько, чтоб командовать тобой… Ах, боже мой, извини, что я расчувствовалась. Но только никогда не будь ко мне равнодушен и невнимателен, как сегодня.
(Он думал: «Ах, все женщины несносны, кроме одной. Они глушат самые побуждения, которые должны вести мужчину вперед, на широкий путь. Почему я не могу быть честным с этой женщиной? Ну-ка, доктор Плениш, попробуй быть честным! И попробую, ей-богу!»)
— Текла! Здесь в Кинникинике ты спасла мне жизнь, — начал он.
— И я тебя угощаю кофе.
— Чудеснейшим кофе! Только я сейчас говорю серьезно, и, может быть, мой вопрос покажется тебе смешным, но скажи: ты веришь, что я когда-нибудь смогу занять видное место в сенате CIJJA или даже пойти дальше — стать министром, например?
— Откуда мне…
— Скажи: веришь?
— Нет! По правде говоря, нет. Я считаю тебя прекрасным педагогом: у тебя есть темперамент, и это возмещает недостаток эрудиции…
— А, так мне недостает эрудиции!
— …но, по-моему, у тебя нет ни терпения, ни запаса идей, необходимых политическому деятелю.
— Ах ты, моя милая! Нет, нет, я не обижаюсь. Но значит, у тебя действительно нет веры в меня.
— У меня есть любовь к тебе!
— Это — совсем другое дело. Ты устала. Тебе не хватает пыла юности. Я, конечно, постараюсь, чтобы этого не случилось, но — кто знает! — в один прекрасный день, как ты сама недавно пророчила, я могу влюбиться в девушку, молодую, которая — ну, если хочешь — способна верить.
— Может быть, ты уже влюбился?
— Да ну что ты! Разумеется, нет! (Он мысленно поздравил себя: «Единственное, в чем я ей солгал».) Но это возможно. И если бы это случилось, я знаю, что мы оба пришли бы к тебе, как к самой разумной и самой доброй женщине в мире, к такой женщине….
— Погоди, погоди! Мне ведь все-таки только тридцать три года, а не семьдесят три. Хотя, да, конечно, пришлось бы мне быть доброй и разумной, черт возьми!
Оставалось еще только выдержать минут шесть прощания.
Он возвращался домой с чувством, что только что одержал победу, хотя ему и не ясно было, какую именно. Но как-то это имело отношение к его праву свободно посвятить себя деятельности на благо человечества. Он окружил свою голову ореолом и любовался его сиянием, покуда не уснул — мальчик из Вулкана, прислушивающийся к шуму далекого поезда.
В этот октябрьский вечер не было ни луны, ни винно — красных отсветов заката на небе, только мгла и неверное мерцание привокзального дугового фонаря. Профессор Плениш ерзал на скамье в чахлом скверике за железной дорогой, чувствуя себя чуть-чуть глупо и в то же время блаженно в ожидании встречи. Он пытался смотреть на унылую вереницу товарных платформ, на щеголеватый служебный вагончик, но все расплывалось у него перед глазами, пока на путях не возникло волшебное видение Пиони, аккуратно переступавшей через рельсы. Он знал, что это она, но не мог поверить, такая она была взрослая и большая и нарядная в широком белом пальто с воротником стойкой, вышитым золотом.
Тоненьким голоском она окликнула:
— Хелло!
Он просунул руку под ее пальто; он прошептал:
— Девочка моя, моя девочка! — Он поцеловал ее в губы. — Вы знаете, что я вас люблю?
Она сказала безмятежно:
— Не может быть.
— Да вот, представьте себе!
— Что ж, очень мило.
— Ну, а вы меня хоть немножко любите?
— А как же. Еще с прошлого года. Верно, верно. Я приезжала с папой из Фарибо выяснить насчет моего зачисления, и мы пробрались на вашу лекцию по риторике. Папа сказал, что вы классный оратор.
— А вы?
— А я решила, что вы душка. Ну, ну, ладно, не смотрите на меня так сердито. Я решила, что вы чудо.
— Как все это удивительно вышло. Но что же нам теперь делать?
— Что делать, профессор? Поскольку я вас, очевидно, покорила — и даже без особенных хлопот, — мы могли бы пожениться.
— Да, конечно. Пожениться.
— Вам знакомо такое слово?
— Очень хорошо знакомо, и в свое время мы непременно поженимся, но я хочу, чтобы вы хоть два года проучились в колледже.
— Зачем?
— Чтобы быть подготовленной для видной роли, которую вам придется играть в мире. Я не собираюсь всю жизнь сидеть в такой дыре, как Кииникиник.
— Еще бы! Но почему я не могу выйти замуж и продолжать учиться?
— По правилам колледжа студенткам не разрешается выходить замуж.
— Вот гады старые! Но хоть помолвленной-то можно быть по правилам? Ох, и буду же я форсить своим обручальным кольцом! (Я знаю, где можно взять напрокат прелестное колечко, если у вас с деньгами туго.) И буду же я пялить на вас глаза в аудитории и смущать вас! «Знакомьтесь — Пи Джексон, невеста очаровательного профессора Плениша!» Бедненький профессор! Миленький профессор! А как мне вас звать: Гидеон или Гид?
— Лучше Гид. Но послушайте, дорогая…
Ему пришло в голову, что если Текла узнает о его помолвке, она очень расстроится, а отец Геклы — председатель кинникиникского совета попечителей — может сделать так, что под профессором земля загорится еще задолго до срока его контракта. Он взял руку Пиони и поцеловал, потом бережно опустил ее и рассказал ей всю-то есть более или менее всю-историю своих отношений с Теклой. Впервые в жизни он почти без усилий говорил почти одну правду. Он распространялся о доброй душе и преданном сердце Теклы, а Пиони в ответ только шипела:
— Все равно, ни одной женщине не верю!
А когда он кончил, она спросила:
— Но теперь уже вы не будете ходить к этой особе пить чай, если это у вас называется пить чай!
Конечно, он не будет. Как ей могло прийти в голову что-либо подобное!
Гидеон! Если ее отец и попечители могут навредить вам — ославить или еще что, — зачем нам, собственно, оставаться здесь? Может, вам пора уже плюнуть на Кинникиник и двигаться дальше? Все вперед и вперед?
— Может быть. Я бы не прочь получить место в Колумбийском университете.
— А я мечтаю для вас о чем-нибудь поживей педагогики, Гидеон. Вы такой молодой…
— По-вашему, я еще молод? — * Совсем еще младенец! Чего только вы не могли бы! Из вас вышел бы, например, чудный банкир, если бы вы пустились в финансы, или хозяин фермы в пятьдесят тысяч акров. У вас такой дар красноречия, просто восторг; но все-таки, что бы вам вместо риторики специализироваться на экономических науках? Вдруг вы когда-нибудь станете сенатором или губернатором штата?
— Как удивительно, что вы об этом заговорили! Мне всю жизнь не дает покоя мысль, что я мог бы с успехом заняться политикой — сделать карьеру — и, конечно, принести много пользы людям.
— Ну, конечно, очень много пользы.
— Вы в самом деле думаете, что я на это способен?
— Еще бы! Я не думаю, я знаю! Ах, Гидеон, вот будет замечательно! А я стану вам помогать, увидите! Когда мы будем давать обеды в губернаторском доме, я заставлю всех старых хрычей болтать и веселиться до упаду. Вы думаете, я сумею?
— Еще бы! Я не думаю, я знаю! А самое главное, верьте в меня, ваша вера даст мне силы и вооружит меня для новых успехов. Она будет пришпоривать меня, понятно?
— Да, да! Теперь мне это понятно.
— Брать везде только самое лучшее, о чем бы ни шла речь: о славе, о деньгах, о влиянии, о возможности приносить пользу; водить дружбу со всеми большими людьми, вроде Рокфеллеров; гнать полным ходом вперед к вершинам успеха и раз навсегда покончить с крохоборством в разных Кинникиниках! Вот моя программа!
— Правильно, профессор!
— И с вами я сумею осуществить ее! Милая!
Она поцеловала его так, что даже дух захватило.
— Значит, мы помолвлены, — сказал он. — Сумеете ли вы только хранить тайну?
— Не беспокойтесь, я настоящая Мата Хари[29] — только, конечно, добродетельная.
Он не сразу отважился, но вопрос был серьезный, и он спросил шепотом:
— Очень добродетельная?
Она так же шепотом ответила:
— Смотря когда. Может быть, и не слишком. — И тут же засуетилась и завизжала, как настоящая первокурсница: — Ах ты господи! Уже поздно! Мне надо бежать.
Он хотел схватить ее за полу развевающегося белого пальто, но она уже исчезла, и неизвестно было, когда они увидятся снова.
Еще много недель ему суждено было мучиться, всякий раз не зная, когда они увидятся снова, и только на лекциях она поглядывала на него из студенческих рядов глазами добренькой обезьянки.
8
Прошло две недели: наступил октябрь и день его рождения, ему минуло тридцать лет. Гекла устроила праздничный ужин на двоих, с тортом и мороженым, и подарила ему бутылку маисовой водки. Он все еще не сказал Текле — если не считать недомолвок, которые говорили яснее слов, — что его любовь отлетела от нее и унеслась на поиски новых побед.
Впрочем, больше, чем Теклы, он боялся доктора Эдит Минтон. Ему вовсе незачем было проходить мимо корпуса Ламбда, где доктор Минтон правила твердой рукой и где в прискорбной безопасности обитала Пиони, но он проходил, да еще по два раза в день. Он старался припять самый профессорский вид, деловито шагал, поглощенный абзацами и суффиксами, но его голодный взгляд невольно обращался к деревянным ионическим колоннам корпуса Ламбда. Как знать, думал он, может, ему хоть разок посчастливится увидеть Пиони в окне ее комнаты, в ночной сорочке, сверкающей белизною, — но чаще взгляду его являлись очки доктора Минтон.
Вероятно, в один прекрасный день она выскочит из дверей, схватит его и потащит к ректору Буллу. Бедный молодой профессор измучился вконец.
Он ненавидел доктора Эдит Минтон, ненавидел ректора Вулла, боялся Теклы Шаум и ее отца и испытывал отвращение к колледжу — одно глупое чириканье да отметки. Он жаждал выйти на широкую дорогу, бежать по ней рука об руку с Пиони, и теперь ему уже было все равно, какая подвернется дорога — пусть хоть должность страхового агента. В чаянии более интересной работы он разослал запросы в несколько колледжей, но в письмах его не чувствовалось уверенности, что он действительно способен заботливо и нежно вести молодежь по вертоградам знания.
Он, столько раз внушавший студенческой аудитории, что «вдохновенное деловое письмо может разбередить сердце клиента ничуть не хуже, чем любовная лирика Шелли или Джеймса Уиткомба Райли»,[30] для собственных писем не мог придумать ничего более оригинального, нежели «будьте добры, мне хотелось бы переменить службу».
Он почувствовал, что ему не хватает протекции и связей. Один только ректор Булл и мог дать ему рекомендацию. Как он догадывался, влиятельные лица в Адельбертском колледже и университете штата Огайо не сохранили нем светлых воспоминаний; вернее, они попросту вычеркнули его из памяти. Кто-то говорил ему, что Хэтч Хьюит, его саркастически настроенный однокашник, уже стал крупным журналистом в Нью-Йорке, но как его разыскать?
Профессор Плениш вздохнул и записал в своей книжечке: «В дальнейшем культивировать знакомства, гл. обр. влият. крупн. банкиры, журналисты, — ю; спросить мнение П., она так практична».
Нельзя допустить, чтоб тебя засосала академическая рутина, предостерегал он себя. В порыве увлечения современной наукой он прочел почти целиком номер «Нейшн» и только в конце по не слишком лестным высказываниям о предвыборной кампании мистера Гардинга понял, что номер прошлогодний.
Профессор Плениш убеждал себя, что следит за текущими событиями с бдительным вниманием гробовщика. Но за эту осень, проходившую под знаком Пиони, он успел заметить только, что мистер Гардинг — красивый, внушающий доверие мужчина и что после беспокойного президента Вильсона «приятно вернуться к нормальной жизни».[31] Это мнение он часто высказывал на обедах, где собирались профессорские жены двух сортов: те, что вечно вздыхали, одевались неряшливо и говорили о пеленках, и те, что наряжались, холодно кокетничали и говорили о новых премьерах в нью-йоркских театрах. Последние были еще более провинциальны, и в их присутствии его еще более неудержимо тянуло к Пиони.
Подготовка и режиссура студенческого спектакля, сулившая ему оргию высокого искусства, не стесненного академическими рамками, и почву, на которой гораздо легче, чем в аудитории, подружиться с хорошенькими девушками, превратилась из-за Пиони в какую-то нелепую игру в прятки.
Ставили на этот раз пустяковую пьеску «Папочкина премия» (3 акта, 6 женск. ролей, 5 мужск., павильон, перемены декор, не треб.), фарс с бесконечными остротами насчет тещи и провинциальных родственников, из того репертуара, что в 1921 году еще составлял утеху провинциальных колледжей, которые через двадцать лет, возгордившись, стали признавать только Сарояна и Андерсонов, Шервуда[32] и Максвелла.[33] В то время, да и много позже, в колледжах считалось, что всякий, кто ведет курс риторики и ораторского искусства, тем самым является экспертом в таких сложных и специальных вопросах, как освещение, грим и кража досок для декораций, и что человек с положением профессора Плениша — это почти Беласко[34] или Линкольн Дж. Картер.
Со всем этим он охотно соглашался, а «Папочкину премию» приравнивал к комедиям Аристофана. Он усматривал высокий комизм в той сцене, где оказывается, что папочкина премия — это десять тысяч, но не долларов, а плиток жевательного табака. Его не смущали ни мизансцены, ни мимика, но, несмотря на всю свою изобретательность, в одном он потерпел фиаско: даже при самом лицеприятном отношении он не мог втиснуть в число актеров Пиони Джексон.
Она аккуратно приходила на читки, веселая и красивая, в самом лучшем зеленом свитере, какой можно было найти в Фарибо, штат Миннесота. Она читала одну за другой роли инженю, матери, комической старухи тетки и комической служанки-шведки, читала их с одной и той же довольной улыбкой, с одной и той же интонацией, с одним и тем же полнейшим отсутствием выражения. Сидя в неосвещенном зале, надвинув шляпу на глаза и вытянув вперед ноги в позе заправского режиссера, профессор Плениш жалел и любил ее за то, что у нее нет таланта.
Однажды, дочитав роль, она заглянула в темный партер, виновато улыбнулась и сказала:
— Ой, ничего у меня не выходит, правда? Как вы думаете, профессор Плениш, может, мне заняться реквизитом?
— Правильно! Чудесно! — вскричал он.
Но реквизит еще нужно было раздобывать комбинированным методом хищения и нахального выпрашивания, и доктор Плениш, только и мечтавший о том, как бы уютно посидеть с нею в темноте, редко видел ее на репетициях. Это его злило. Он ругал актеров, они возненавидели его, а тут еще одно за другим приходили письма из разных колледжей в ответ на его запросы, и все они говорили о том, что и теперешняя его должность ему явно не по плечу.
Так профессор Плениш познал все оттенки горьчайших мук, уготованных юным влюбленным.
Она забежала в зал после репетиции, чтобы покрасить фанерный ящик, которому надлежало изображать старинные часы, и тут он преподнес ей свой первый подарок. В окне аптеки Постума он как-то увидел «Новейший набор косметики для подарка», задевший все молодые и романтические струны его души: розовая кожаная шкатулка, и в ней лак для ногтей, и крем, и всякая дамская ерунда, непонятная, но роскошная, а в крышке зеркальце, формой напоминавшее не то щит, не то туз червей, а больше всего карту Африки. Стоила шкатулка 5 долларов 65 центов, то есть, если не считать браслета Теклы, на 2 доллара 65 центов больше того, что он даже под натиском неодолимой страсти когда-либо платил в счет дани любви. Он купил ее, но попросил завернуть в простую белую бумагу. Профессору Пленишу не хотелось, чтобы его видели на улице с «Новейшим набором косметики» под мышкой.
После репетиции в глубине сцены ему удалось незаметно передать пакет Пиони. Она сорвала обертку, бросила ее на пол — он тотчас же поднял — и раскрыла шкатулку.
— Ой! — взвизгнула она с восторгом, который явился ему радостью и наградой. Будь ее лицо худее и темнее, из нее вышла бы чудесная обезьянка — так бы и смотрел на нее и улыбался. Она вытащила все хорошенькие флакончики, с видимым удовольствием рассмотрела их, понюхала, а потом поцеловала его в упоении любовью и косметикой.
Каждый вечер они, не сговариваясь, направлялись в полутемный уголок за бутафорским камином, каждым вечер до того дня, как он, перелезая к ней через козлы и целый штабель софитов, увидел доктора Эдит Минтон, наблюдавшую за ними из густой тени около распределительного щита.
Импровизаторский талант у него, несомненно, был. Почти естественным голосом он окликнул:
— Хелло, мисс… мисс… Джексон, вы скоро соберетесь помочь мисс Смидли со световыми эффектами? Ох, дети мои, когда вы только поймете, какая важная вещь освещение!
Пиони импровизировала, пожалуй, еще талантливее. Хотя в поле ее зрения не было ничего более угрожающего, чем свернутые холсты и борода профессора Плениша, она ответила громко, наивным тоном испуганной первокурсницы:
— Я просто не успела, профессор, последнее время было столько занятий! (А затем едва слышно, нежным голоском, долетавшим только до него: — Ой, какой бы молодчина! Кто там еще мешается? Задайте ему как следует.)
Он повернулся к ней спиной, повернулся спиной ко всему радостному, светлому, живому и тут с хорошо разыгранным удивлением обнаружил справа от зрителя доктора Минтон.
— Ах, это вы, Эдит! (Чертов айсберг! Наверно, хочет за что-нибудь меня отругать. Как бы не так! Я ее начальство.)
Но доктор Минтон улыбалась странной, робкой улыбкой, пока он пробирался к ней, и ответила не сразу.
— Я слушала репетицию из последнего ряда. По — моему, вы просто чудеса творите, Гидеон. На сегодня вы кончили? Нам с вами случайно не по пути?
— Разумеется! Пошли!
Профессор граф Калиостро[35] умчался прочь с красавицей принцессой. Временами ему становилось жаль, что он шарлатан, пусть даже гениальный, но жажда успеха, погоня за острыми ощущениями неизменно увлекали его вперед.
Пока они с достоинством трусили по дороге к корпусу Ламбда, доктор Минтон говорила:
— Я прямо любовалась, как вы сумели научить этого глупого студентика ирландскому акценту для его роли. Вы знаете, Гид, я не признавалась в этом никому в Кинникинике, в юности я мечтала быть актрисой.
— Да ну?
— У меня было большое желание, а может быть, и кое-какие способности. Но нужно было заботиться о матери, и я поступила в аспирантуру, а потом столько сил потребовала диссертация, и как-то не представилось случая и… Ну, в общем, вероятно, лучше так, как есть… Гидеон!
Он вздрогнул.
— Да, Эдит?
— Вы что-то давно не заглядывали в корпус Ламбда. Заходите как-нибудь, хорошо?
— Ну, конечно, обязательно.
— И еще, Гидеон!
— Д-да, Эдит?
— Дайте мне знать, если мои девочки, которые заняты в пьесе, вздумают лениться или дерзить, я их проберу как следует. Право, мне, кажется, еще никогда не приходилось иметь дело с такой недисциплинированной оравой сорванцов женского пола! Вам-то хорошо, вы не встречаетесь с ними вне аудитории.
— Гм, да, конечно.
— Что поделаешь — послевоенное поколение, да еще сухой закон. Но я умею с ними справляться. Не давайте им отнимать у вас слишком много времени. Спокойной ночи. Так приятно было пройтись!
Он был ошеломлен. «Оказывается, я нравлюсь ей гораздо больше, чем я думал. Под снежной шапкой дремлет вулкан. Как это вышло, что я нравлюсь и Гекле и Эдит? Впрочем, у них здесь выбор невелик — только студенты, а педагоги все женатые, кроме меня, одного педераста да одного пьяницы.
Только студенты — но вот они-то и нужны Пиони. Сейчас ей еще в диковинку, что я в нее влюбился, а чуть это пройдет, увлечется каким-нибудь кривлякой-футболистом с волосатой грудью. О господи, конечно, я потеряю ее!
А Эдит Минтон — она тоже красива, этакая Диана. У меня, пожалуй, были бы шансы, если бы я раньше сообразил… нет, нет, не следует думать о таких вещах. Я свято верен Пиони — кошка противная, как скалит зубы, кокетничает напропалую, а все-таки я пока еще ей нравлюсь… Но ради нее самой я бы должен от нее отказаться. В конце концов ведь она первокурсница: ей еще нет двадцати. Совсем малышка, прелесть моя. Да заподозри эта мегера Эдит, что какой-то профессор хотя бы погладил Пиони по руке, кончено, ее отослали бы домой, и за нею потянулась бы скверная сплетня, и никто не знал бы толком, в чем дело, а сплетня росла бы и росла, как снежный ком.
Если бы я мог жениться на ней сейчас… нет, сначала ей нужно окончить колледж. В наше время это совершенно необходимо. Высшему образованию придают такое значение. О черт, а как же иначе? Разве я не потел три года, чтобы получить докторскую степень? А когда она окончит колледж, я мог бы жениться на ней, если бы она захотела, но я тогда буду слишком стар, а она успеет перезнакомиться со столькими мальчишками… О черт!»
Так он бредил, возвращаясь домой, и дома, шагая по своей комнате с белеными стенами, и в результате ясно понял одно: ради блага милой, милой Пиони он, как честный человек, должен отказаться от нее.
И он честно отказался от нее ради ее блага; невероятным усилием он принудил себя сделать то, чего не хотел.
До премьеры пьесы, которая не сходила со сцены целых два вечера, избегать Пиони было нетрудно. Когда он чувствовал, что она за кулисами, а он это чувствовал безошибочно, он не ходил туда. Но его страшило, что как — нибудь после лекции по риторике она подойдет к нему и осведомится, почему он перестал обращать на нее внимание. Во время лекции он всячески старался не смотреть на нее и с ужасом предвидел ее упреки.
Но самое ужасное заключалось в том, что она, даже не взглянув на него, спокойно выходила из аудитории вместе с другими студентами. «Вот как, — мысленно стонал он, — значит, она тоже решила порвать».
Это затрудняло дело.
Вечер, когда состоялся спектакль, должен был бы за многое вознаградить его. Зрительный зал был полон, шестнадцать человек стояли в проходах, присутствовали ректор Булл с супругой, и мистер Придмор, и один гость из Буффало, штат Нью-Йорк, и было представлено шестнадцать газет в лице двух студентов-корреспондентов.
Но, кроме Теклы Шаум, Эдит Минтон и миссис Булл, никто не поздравил профессора Плениша, режиссера спектакля. Большинство зрителей вообще не знали, что такое режиссер, и, как истые профаны, аплодировали актерам и студенческому оркестру. Когда студент, игравший комическую роль слуги-ирландца, старался быть комичным и подражал ирландскому говору, «культурная» публика (как с горечью отметил профессор Плениш) хлопала и кричала, словно и не он, режиссер, вколотил все ирландские словечки и интонации в эту бездарную глотку из округа Поттаваттами.
Зал был украшен флагами колледжа и душистыми ветками кинникииика; свет ламп ласкал актеров, резвившихся в волшебной рамке сцены, и даже старый профессор Икинс вытянул вперед шею, презрительно сощурившись. Но никто не бросил благодарного взгляда на профессора Плениша; никто не знал.
В антракте он заставил себя пройти за кулисы и поздравить актеров. Они почти не слушали — они сами хорошо знали достоинства своей игры, хоть и оставались в счастливом неведении относительно ее недостатков. Он старательно игнорировал Пиони, но она помогала менять декорации и не заметила этого. Он ускользнул через служебную дверь и пошел в обход здания в вестибюль, поеживаясь от холода темного ноябрьского вечера, а больше — от холода человеческой неблагодарности. Он повертелся в вестибюле, но это не помогло. Ректор Булл сказал только: «По-моему, у них очень недурно получается». У них!
Миссис Булл, Текла и Эдит Минтон по крайней мере дали понять, что где-то когда-то его встречали, а остальное стадо и не поглядело на него. Поле Ватерлоо расстилалось перед ними, и сам Веллингтон ехал мимо них на коне, а они болтали о мундирах мальчишек-барабанщиков.
После спектакля он ушел домой, более чем коротко поблагодарив актеров и рабочих сцены. И у Пиони хватило дерзости улыбнуться ему, словно ничего не случилось!
Он был чрезвычайно зол на Пиони. И ему уже казалось, что не стоило смотреть два настоящих спектакля в Нью-Йорке и один в Нью-Хейвене для приобретения навыков профессионального режиссера.
Он сидел у себя в комнате и нарочно не звонил Пиони в корпус Ламбда. Могла бы, кажется, догадаться об этом и позвонить ему сама. Разве не так?
Впервые в жизни профессор Плениш узнал, что такое бессонница, дотоле бывшая для него чисто абстрактным понятием. Ему случалось пролежать без сна минут пять, но потом лицо его, глубоко ушедшее в подушку, становилось по-детски безмятежным и кротким. Теперь он лег усталый и сонный, но сон бежал от него. Сна не было. Это удивило его так, как если бы он, протянув руку, не нашел на привычном месте собственных ног.
Все это ерунда. Нужно лежать спокойно и не думать о Пиони, Гекле, Эдит; нужно дать отдых нервам. И он старался так добросовестно, что скоро готов был на стенку лезть от нервного напряжения.
Ну так ладно же, к черту! Просто не нужно ничего делать. Надо схитрить, постараться забыть о себе, и тогда сон придет сам.
Но и эта тактика не помогла, — он не мог забыть. Спать хотелось, а сна не было. Механизм, непогрешимый, как свет и воздух, вдруг отказал.
С удивлением и не без гордости при мысли о сложности своей натуры он понял, что это бессонница, то самое, чем всегда хвалится миссис Булл. Подумать только, у него бессонница! Безнадежная любовь, самопожертвование, премьера спектакля и бессонница — и все в один вечер!
Потом и собственная необыкновенность ему надоела. Было очень интересно думать, что душевная боль довела его до бессонницы, но вместе с тем хотелось и поспать. Усталость его явно возрастала, но столь же явно убывала сонливость. Ну почему бы не отогнать бессонницу, не отложить ее на завтра? А сейчас ему необходимо поспать, чтобы утром со свежей головой вести занятия по «Ораторской технике».
Бессонница не желала отгоняться. Она спокойно продолжалась, и профессору Пленишу стало скучно.
Ну что ж, ведь он человек, умудренный опытом, и психолог. Сейчас он встанет, выкурит папиросу, даст отдых нервам и опять ляжет. Вот и все. Он всегда умел направить свою мысль в нужное русло.
Он выкурил папиросу и снова лег, и в ту же минуту им снова овладело безмолвное бешенство.
Казалось, он попал в незнакомый и неприютный мир, где все краски были холодные и все ощущения не те, что в надежном дневном мире. Ничто не поддавалось определению. Слышался какой-то грохот — не то очень далеко, на улице, не то совсем рядом, за стеной, — словно грохотал фургон молочника, или кто-то шел, прихрамывая, или щелкал револьвер. Полузадернутая штора чуть шевелилась от ветра, и по ней скользила едва заметная тень, точно кто-то мелькал между нею и уличным фонарем. Ночные звуки так переплелись, что грубому дневному слуху не под силу было различить их.
Сначала его преследовал образ Пиони — ее молодая грудь, ее дружески-насмешливая улыбка, но теперь он ни о чем не думал, ничего не чувствовал. Он парил в каком — то туманном пространстве, где не было ни четких мыслей, ни реальных ощущений.
Его разбудил тревожный свисток чикагского экспресса, летевшего на Восток, в страну чудес, и его квадратное лицо осветилось улыбкой, потому что он смутно верил, что когда-нибудь уедет в этом поезде туда, где его ждут в просторных залах миллионеры, поэты, актрисы. Но они для того нужны ему, чтобы он мог сложить их дружбу и весь этот блеск к ногам Пиони, думал он, снова засыпая.
9
Бессонница изводила его три ночи подряд. Три ночи он говорил себе, что оберегает Пиони и ее репутацию, и три ночи возражал, что просто дрожит за свое место, которого непременно лишится, если его уличат в шашнях со студентками. Под конец он решил, что это его комнаты со всеми атрибутами профессорского бытия, с комплектами «Анналов Северного и Средне-Западного Общества Семасиологов»[36] нагоняют на него бессонницу. В другой, простой и здоровой обстановке он бы спал.
После третьей ночи пыток под вечер короткого ноябрьского дня он пешком вышел из города и направился к домику Придморов на озере Элизабет. Никому, кроме миссис Хилп, он о своих планах не сказал. Он вовсе не был настроен принимать материнские заботы Теклы.
Шестимильная прогулка оказала живительное действие. Первые две мили он пыхтел и злился, но зато остальной путь прошел энергичным, ровным шагом, вдыхая бодрящий вечерний воздух, полный запахов прелого листа, и кукурузных стеблей, и озерной прохлады. Он нес внушительный профессорский портфель, но весело помахивал им на ходу.
У него был свой ключ от летнего домика. Насвистывая, он отпер дверь, ощупью пробрался в единственную дощатую комнатку, засветил фонарь, разжег огонь в печурке. В комнате приятно пахло свежесрубленным деревом и горящей смолой, и от этого все проникалось целительным чувством лесного покоя. Из своего солидного портфеля рыжей глянцевитой кожи, с золотыми буквами гп, он достал внушительную свиную отбивную.
Отбивная шлепнулась на раскаленную сковороду и зашипела, и от этого шипения сердце профессора взыграло мужественным задором. Безусловно, он не только кабинетный ученый, он вольный сын природы, когда-нибудь он даже срубит дерево. Ну, может быть, не очень толстое для начала.
Он уплел отбивную, едва дав ей поджариться, потом, уже без спешки, закусил плиткой шоколада, потом сел в кресло у печки, уронил руки между колен и рассеянно замурлыкал знакомую с детства песенку:
Ты руку ей жмешь, и она жмет твою, И уж это к тому, поверь, Что она подружкой станет твоей В чудесный летний день.Да. Все обойдется волею господа бога, и ректора Т. Остина Булла, и доблестного профессора Плениша. Он засмеялся, отворил дверцу печки и сплюнул в огонь с шиком заправского лесоруба. Потом зевнул… Минутку можно понежиться, прежде чем углубиться в «Американизацию» Эдварда Бока, которая лежит у него в портфеле и только чуть-чуть просалилась от соседства отбивной.
Не раздеваясь и продолжая мурлыкать, он вытянулся на нижней койке, занятый своими мыслями. Как, собственно говоря, все обойдется, он точно не знал, но уж что-нибудь он придумает — миссис Булл поможет, Пиони поможет, она ведь умней всех профессоров колледжа… чудесный летний день, и уж это к тому, поверь… летний день, летний луг, в густой луговой траве с Пиони…
Входная дверь скрипнула на петлях. Тысячелетие спустя дверь захлопнулась, и несметные полчища хлынули в комнату, шумно стараясь прикинуться мышами.
Нужно лежать неподвижно в глубоком темном провале сна, тогда они уйдут и не будут мучить его.
Целую эру спустя началось наваждение — ему показалось, будто он слышит смешок Пиони. Смешок — хихиканье — тихий смех, — какой из синонимов выбрать? Наваждение, чистое наваждение. Но вечность спустя он вдруг сразу проснулся оттого, что кто-то сел на край его койки. Беспомощный, ошеломленный, он приподнял тяжелую голову — господи боже, это и в самом деле Пиони Джексон сидит перед ним!
— Здравствуйте! — сказала Пиони.
— Что за… Каким образом?
— Пешком, так же, как и вы, мой повелитель. Ах ты господи, довольно неприятно было шагать так долго по темному лесу, хоть я и выпросила у миссис Хилп карманный фонарик. Два раза я сбивалась с пути, а сколько раз вламывалась не туда, куда нужно! Вы себе представить не можете, как много домиков на этом противном озере, и все одинаковые!
— Но какого…
— Ваша хозяйка сказала, что вы, наверно, пошли сюда. Я-то примерно дорогу знала. Мы раз устраивали на озере пикник, и все девушки показывали друг другу Тайный Приют Любви Вдовушки Шаум и Профессора Плениша.
— ?!
— Но просто удивительно, как все меняется в темноте, да еще когда противные хитрые деревья нарочно подставляют корни, чтобы ты споткнулась и упала.
— Приют любви! Да вы понимаете, что…
— Конечно, понимаю. Это одна из причин, почему вам придется жениться на мне. Как вы могли, профессор Плениш! Другая причина — то, что сейчас семь минут первого.
— Что-о?
— Совершенно точно, дорогой. Так что придется мне переночевать здесь… Ну, ну, не расстраивайтесь, бедняжечка. В конце концов можете и не жениться на мне. Я не настаиваю. — Она наклонилась и легонько поцеловала его. — Я хочу, чтобы вы больше не мучились из-за этой ничтожной девчонки — первокурсницы Джексон. «Профессор, я считаю, что, если девушка, получившая хорошее воспитание, дочь самого крупного бакалейщика — оптовика во всей юго-восточной Миннесоте, если эта девушка способна на такой поступок — преследовать и настигнуть бедного мужчину в летнем домике, куда он бежал, чтобы спастись от нее, и это после того, как он проявил такую осторожность, и даже после спектакля ни слова с ней не сказал, — эта девушка наказана по заслугам, потому что она должна была знать, что делает». А может, она не знала?
Пиони спрыгнула с койки и побежала к столу, где лежал его священный портфель, а он все еще ерошил волосы и тер глаза, прогоняя остатки сна.
— Знала, чертовка, отлично знала! — сказала Пиони.
С обычным своим проворством и деловитостью — веселая маленькая обезьянка — она рылась в портфеле, извлекая из него целомудренные принадлежности туалета холостяка.
— Гм. Головная щетка в серебряной оправе. Ничего, чувствуется вкус… Зубная паста Сквибба. Колпачок недостаточно плотно завинчен. Придется заняться вашим воспитанием… Книга. Зачем это вам вдруг книга понадобилась? Вы и так все знаете… Пижама. Ой, какая миленькая голубенькая пижамка! Ой, Гидеон! Ну что за прелесть! И монограмма вышита на карманчике! Воображаю, как мне пойдет!
Он наконец стряхнул свою неимоверную усталость и, вскочив на ноги, шагнул к ней.
— Дитя мое, вы должны сейчас же отправиться домой. Я провожу вас.
— Вы думаете, если я пройдусь с вами по Кинникинику в два часа ночи, это спасет мою репутацию?
— Но…
— И потом я сейчас в Давенпорте. Ночую у тети. Так я объяснила доктору Минтон. Черт, придется мне поработать над этой тетей! Как вы думаете, сколько ей положить лет?.. Гидеон, я остаюсь здесь. Вы же знаете, что я всегда права. За все годы нашего знакомства не было случая, чтобы я оказалась неправа!
Он готов был согласиться, что такого случая не было за все годы их знакомства, да и потом, ну что толку проявлять рыцарские чувства по отношению к молодой особе, которая их ни в грош не ставит? Героическим усилием профессор Плениш попрал мелкобуржуазные представления о долге чести, которых он, как ему казалось, исправно придерживался все годы их знакомства. Он поцеловал ее, тесно прижав к себе, и, спеша спастись от соблазна, приказал — но только приказание его прозвучало скорее как мольба:
— Хорошо. Пожалуй, вам действительно лучше до завтра не показываться. Забирайтесь, как вы есть, на нижнюю койку и спите, а я лолезу на верхнюю. И буду благоразумен.
— Ну, конечно, вы будете благоразумны, профессор Плениш. Тем более с бедной глупенькой первокурсницей!
— Замолчите! Туфли можете снять.
— Вы вполне уверены, что я могу снять туфли? Это не опасно?
— Детка, ради бога, замолчите! Спокойной ночи!
Он с достоинством подтянулся на верхнюю койку.
Она прикрутила огонь в лампе, но не задула ее. Как в спальном вагоне, он, извернувшись, вылез из пиджака, жилета и галстука, попытался повесить их на край койки, потом в ярости швырнул вниз на пол.
Лежа неподвижно, он услышал заполнивший комнату шорох: глухо щелкали пуговицы, пряжки подвязок, прошелестела «молния», что-то шелковое мягко шлепнулось на стол. Он скосил глаза и увидел собственную пижаму, фантастически развевающуюся в воздухе: она ее надевала. Он отвернулся, нахмурясь, и услышал, как она задула лампу, как в темноте под приглушенный рокот озера протопали по полу маленькие босые ножки и нижняя койка заскрипела.
За двадцать секунд в нем промелькнул миллион ощущений, которые он принял за мысли. Он перестал бояться ее и ее настойчивости. Он понял, что дело не в том, что она ему «доверяет», но в том, что по какой-то непостижимой причине она настолько любит его жалкую особу, что ей все равно, заслуживает он доверия или не заслуживает. Он понял, что он женат уже, связан самыми старомодными нерасторжимыми брачными узами.
И вдруг, к величайшему своему ужасу, он услышал всхлипывания там, внизу, в темноте. Он взвился, как ракета, и в следующее мгновение сидел уже возле нее и спрашивал:
— В чем дело, что случилось, маленькая моя?
— Мне так стыдно!
— Что вы, бог с вами!
— Так стыдно, и страшно, и тоскливо. Там, в городе, мне казалось, — это такой замечательный план. Я думала: «Может, он обо мне тоскует». Я думала: «Может, ему ужасно, ужасно хочется, чтобы я была с ним». И я так спешила сюда, и спотыкалась, и песку полные туфли набрала, и сбивалась с пути, и так мне было весело, что я даже ни разу не подумала — только вот сейчас, — а может, я вам вовсе и не нужна тут. Страшно даже сказать, может, я для вас просто еще одна дура-девчонка…
Тогда он стал настолько взрослым, насколько это было возможно для Гидеона Плениша. Он проворчал:
— Подвиньтесь.
Он положил ее голову себе на плечо, и скоро ее слезы утихли, и она доверчиво уснула, шевелясь только затем, чтобы поглубже уткнуться в его плечо носом, а он лежал и лежал с открытыми глазами, но это была не бессонница, а только покой и счастье.
Они посмеялись, когда ей пришлось одеваться утром, — она проявила скромность, но умеренную, без фанатизма. Они позавтракали остатком шоколада и чистой студеной водой. Потом, обнявшись, — причем он широко размахивал портфелем на ходу — они пешком пропутешествовали две мили до ближайшей фермы, где наняли фордик. В городе, на вокзале, он получил из камеры хранения чемодан, с которым она якобы отправилась к тетке, — она в это время сидела в машине на полу, чтобы никто не увидел. Потом они поехали в Элужу, и там он усадил ее вместе с чемоданом в поезд, чтобы возвращение из Давенпорта выглядело совершенно правдоподобно.
К этому времени они уже успели пожениться, совершить шестимесячное свадебное путешествие по Европе, произвести на свет четырех сыновей, а также отпраздновать переизбрание сенатора Плениша и были чрезвычайно довольны своей судьбой.
В то же утро он явился к Текле Шаум — в половине двенадцатого, что для нее было довольно рано. Вдовство приучило ее к позднему вставанию — одно из средств разрешить проблему скуки, которая возникает перед одинокой женщиной вместе со светом дня.
Его поразило, что он почти ничего не почувствовал, увидя Геклу в неглиже, тогда как вид Пиони в таком костюме заставлял его чувствовать очень многое. Ему даже стало жаль себя оттого, что приходится так жалеть Геклу, но мысль о Пиони вдохнула в него мужество, и он сразу бросился в воду:
— Дорогая, я думаю, самое лучшее будет, если я открыто и честно…
Она взмолилась:
— Самое лучшее будет, если ты дашь мне напиться кофе, прежде чем выкладывать ту неприятность, которая у тебя подразумевается под «самым лучшим». Хочешь рюмку чего-нибудь?
— Так рано? Нет, что ты!
— Ну, ну, ладно, не пугайся. Сядь, почитай газету; я ровно пять минут.
Он почувствовал, что Текла настроена довольно легкомысленно. Легкомыслие вполне пристало такой девушке, как Пиони, но миссис Шаум должна бы являться олицетворением трагедии в черных одеждах… Что ж, пусть бедняжка несколько лишних минут наслаждается своим призрачным счастьем, пусть.
С его лица еще не сошла презрительная усмешка, вызванная чтением утренних передовиц, когда Текла, в розовом халатике, снова впорхнула в комнату. Совершенно спокойно она сказала:
— Гид, ты, очевидно, пришел сообщить мне, что в конце концов влюбился в кого-то. Верно?
— Боюсь, что ты угадала. Но выслушай, дорогая: это ты приучила меня, одинокого служителя науки, к нежной женской ласке, и именно потому я стал присматриваться…
Он думал: сойдет ему это с рук или нет? Он думал: почему это с Пиони он всегда прост и правдив — в пределах разумного, конечно, а вот с другими женщинами приходится заниматься подобной акробатикой?
Она пропустила его увертки мимо ушей.
— Не знаю. Гид, поймешь ли ты меня, но вот что я хочу тебе сказать: я когда-то была такой гордой, чистой и суровой, что никто ко мне и подступиться не смел, и если я сблизилась с тобой, так только потому, что была тогда надломлена смертью Макса; но я сохранила достаточно гордости, чтобы теперь не возненавидеть тебя. Я ничего не хочу знать про твою девушку, твои дела меня не касаются. Иди, и желаю тебе счастья, если мое пожелание еще чего-нибудь для тебя стоит.
— Очень многого стоит, Текла, и оно очень нужно мне. Я не забочусь о своем самолюбии…
— Это что, намек?
— Нет, нет, честное слово, нет! Я, понимаешь, я не могу заботиться о своем самолюбии, потому что, если твой отец, главный попечитель, на меня рассердится, это может погубить меня, тогда как если он будет думать, что это ты… Ну, неужели ты не понимаешь?
— Да, пожалуй, ты прав. Он может решить, что ты воспользовался беспомощностью бедной вдовы. Он сам, при всей своей простоте, одиночестве, чудаковатости, человек настолько сильный, что ему и в голову не придет, что ты вовсе не развратник и не соблазнитель, а просто слабый человек, который охотно согласился играть у меня роль домашней кошки. Придется мне сказать, что я тебя вышвырнула…
Он сказал, что убьет ее, если она посмеет. Какое-то мгновение он готов был отказаться и от Пиони и от скромной чести ношения профессорского крахмального воротничка, только бы не терпеть ее издевательств. Но она вдруг поцеловала его обычным ласковым поцелуем и задумчиво произнесла:
— Может быть, ты еще станешь человеком. Может быть, я достаточно люблю тебя, чтобы желать этого. Может быть, эта твоя девушка — провались она! — сумеет сделать из тебя человека. Я не сумела. Ну, иди, а папашу Придмора я беру на себя… Ох, Гид, только будь уж верен этой девушке, слышишь? Женщинам так нужна верность; так им трудно, если ее нет, — всем без различия, молодым и старым, знаменитым и незаметным.
— Я буду верен. — сказал профессор Плениш.
Он всегда владел искусством Правильного Подхода к Нужным Людям. В пять часов он сидел в гостиной у жены ректора, пил чай без особого отвращения и блистал красноречием.
Миссис Булл была первой из серии влиятельных дам, которых ему предстояло величать «Дорогая леди!»
Он объяснил дорогой леди, что вверяет свою судьбу ее снисходительности и прибегает к ней как к единственному человеческому существу, способному понять. Он любит (но чистой любовью). Она вольна не поверить ему (хотя пусть лучше поверит, если не хочет разбить ему сердце), но первое, что привлекло его в этой девушке (нет, нет, как ее зовут, он скажет после), было ее необыкновенное сходство с миссис Булл: те же аристократические манеры, та же отзывчивая женская душа, тот же проницательный ум, и — да не покажется это дерзостью — те же агатовые глаза.
Но повторяются горести Абеляра и Элоизы, Резерфорда Б. Хэйса[37] и почтмейстерши: его возлюбленная — студентка здесь, в Кинникинике, и, согласно правилам колледжа, а также, возможно, библейским заветам и конституции штата Айова, если они поженятся, ей придется бросить занятия, и, более того, у некоторых грубых людей может зародиться подозрение, что тут имели место поступки, несовместимые с достоинством профессора риторики. Наконец, что подумает такой возвышенный пуританин, как ректор Т. Остин Булл, о преподавателе, откровенно признающем, что его больше волнуют женщины, похожие на миссис Булл, чем вопрос об употреблении двоеточия?
— Старика Ости вы предоставьте мне! — сияя, произнесла миссис Булл. — А теперь скажите, как зовут девушку?
На рождественских каникулах он впервые в жизни почувствовал себя членом настоящей семьи.
В кирпичном доме его отца в Вулкане семейные связи ощущались мало — разве только в глухой вражде, отделявшей детей от родителей и брата от брата. У профессора Плениша было двое братьев и сестра, но с тех пор, как он покинул родной дом, они для него существовали только теоретически.
На этот раз, на рождество, Пиони повезла его в Фарибо, к своим, к Уипплу Джексону, приходскому старосте и оптовому торговцу бакалеей. Дом был переполнен братьями, сестрами, тетками, собраниями сочинений Вальтера Скотта и Вашингтона Ирвинга, сливочной помадкой, плумпудингом, игрой на мандолине, ромовым пуншем и общими молитвами, за которыми немедленно следовал общий смех. Большой белый дом, от которого, как брызги от фонтана, разбегались во все стороны флигельки и крылечки, стоял близ церкви Непорочного Зачатия над величавой Кэннон-Ривер, на другом берегу которой теснились башенки целого выводка начальных школ.
Ректор Булл простил Пиони и профессора Плениша; по-видимому, он даже усмотрел в этом отличный выход. Он и престарелый декан согласились на том, что Пиони допустят к посещению лекций в качестве вольнослушательницы, а впоследствии найдут законный способ обойти закон и выдать ей диплом об окончании.
Текла пригласила Пиони на чашку чая и дала ей ряд полезных советов, как покупать филейную вырезку. Но доктор Эдит Минтон посмотрела на профессора Плениша с недоумением и даже страхом в глазах. Это было единственное обстоятельство, которое требовалось забыть, чтобы не портить веселого рождества. Он так и сделал, и все обошлось как нельзя лучше.
Прием, оказанный ему в доме Джексонов, был таким же сердечным, как прощение, дарованное в Кинникинике. Уиппл Джексон был жилистый подвижной человек, добродушного нрава и с идеями.
— Гидеон, мой мальчик, — сказал он. — Я слышал от Пиони, что у вас есть желание заняться политикой.
— Как вам сказать… Во всяком случае, я не собираюсь учительствовать всю жизнь.
— Ну что ж, если надумаете основаться в наших краях, дайте мне знать, я вам и дело найду и познакомлю с настоящими людьми. Вам понравится Фарибо: наши начальные школы — лучшие в округе, а потом знаете ли вы, что Фарибо-мировая столица пионов? Оттого я и дочке такое имя дал. Но если вы собираетесь заняться политикой… Как у вас насчет религии, Гид?
— Я пресвитерианец.
— Что ж, это неплохо. Избирателям нравится, когда человек либерален в вопросах морали и строг в вопросах религии. Ну, а в какой-нибудь ложе вы состоите? Масонов? Тайных братьев?[38] Лосей?[39] Новых Дровосеков? Рыцарей Пифии?[40] Нет? Мой совет — вступите во все сразу: приобретете много друзей, и все они будут голосовать за вас, а я, как патриот и добрый христианин, скажу вам: единственное, о чем следует заботиться политическому деятелю, — это голоса. М-м?
— Совершенно верно, совершенно верно! — горячо согласился профессор Плениш, радуясь тому, что у него появилась семья, где он может рассчитывать на поддержку и руководство.
В 1922 году во время пасхальных каникул состоялось их бракосочетание, с епископом в главной роли. Но если на свадьбе Пиони выступала всего лишь на амплуа инженю, то по возвращении в Кинникиник она сразу же перешла в премьерши, и это она выбрала китайский, красный с золотом шкафчик, чтобы оживить общий вид их гостиной, а профессор Плениш был так полон своей любовью, что тут же одобрил его.
10
Декан Кинникиникского колледжа, декан Гидеон Плениш (он был еще зеленым деканом — осенью 1926 года исполнился всего год, как он занял этот высокий пост) благополучно заканчивал просмотр и утверждение индивидуальных расписаний студентов — унылая процедура, повторяющаяся из года в год. Добродушно усмехаясь, он поглядывал на худенькую девушку с кудряшками, смущенно прятавшую от него глаза.
— Так не годится, мисс Джейнс. Очень уж однобокое у вас получилось расписание. Три курса по литературе! Где же это видано? «Новая английская поэзия», «История романа» и «Чосер и Спенсер». Что вы собираетесь делать после колледжа? Хотите стать педагогом?
— Нет, вряд ли.
— Тогда что же? Работать в газете? Писать рассказы?
— Я помолвлена и, как только окончу, выйду замуж.
— Так, боже мой, зачем же вам столько книжной премудрости? Чтобы вести хозяйство, она не нужна. Какие у вас, собственно, соображения?
— Да никаких. Я просто люблю читать.
— Ну, если это доставляет вам удовольствие, пожалуйста, занимайтесь литературой, я не возражаю.
Оставшись наконец один в своем новом кабинете с перегородкой из дуба и матового стекла, с портретами профессора Эдварда Ли Торндайка[41] и президента Кулиджа, он похвалил себя за то, что был с ней так великодушен и обходителен. А между тем даже сейчас, после летнего отпуска, проведенного на озере Галл, он ощущал некоторое утомление от назойливых приставаний не в меру бойких студентов, явно воображавших, что они знают больше, чем он.
Декан Гидеон Плениш относился к литературе с уважением. Он был специалистом по всем ее разделам и, хотя сам больше всего любил в литературном ландшафте сверкающие утесы риторического красноречия, мог при случае заменить преподавателей и метафизической поэзии, и коммерческой корреспонденции, и композиции драмы, а также был автором интереснейшей теории — что Шекспира написала королева Елизавета.[42] Он досконально изучил преподавание литературы в обоих ее аспектах — как стимула для нравственного развития и как средства зарабатывать деньги. С карандашом в руке он доказывал, что за девять месяцев может увеличить словарный запас первокурсников на 39,73 процента.
Но, как он заявлял на заседаниях Кинникиникского Ротариаиского Клуба, преподавание литературы должно проводиться на столь же суровых и практических началах, как преподавание физики или футбола. Эту доктрину он усвоил еще в 1918 году, когда, отбыв три месяца лагерного сбора в Иллинойсе, приступил к педагогической деятельности с непросохшим еще кастовым знаком доктора философии на лбу. В то время немало надежд возлагалось на то, что литература наряду с искусством рекламы и проповедью евангелия займет подобающее ей скромное место среди факторов, содействующих росту американского процветания.
А между тем сейчас, в 1926 году, несмотря на шесть с лишним лет сухого закона, результатом которого должны были явиться стопроцентная эффективность и патриотизм, повсюду слышатся отголоски крамольных мыслей, очевидно, занесенных в Америку «большевиками», вроде Эммы Гольдман, Г. Л. Менкена и Кларенса Дэрроу, от руки которого год назад пал кумир декана Плениша — Уильям Дженнингс Брайан. И если литература не даст самого решительного отпора всем этим скудоумным подрывателям основ, он лично, заявлял декан Плениш, предпочтет делать ставку на неученого поселянина (сиречь фермера).
В качестве декана и самого универсального из кинникиникских лекторов ему сплошь и рядом приходилось просвещать публику по таким вопросам, как недавно утвержденный конгрессом закон о женском равноправии, процесс Сакко и Ванцетти, судьбы Веймарской республики,[43] геройский дух замученного президента Гардинга,[44] земельный бум во Флориде (на котором декан потерял сто долларов, совершенно необходимых для уплаты взносов за новый рояль Пиони), а также ущерб, наносимый педагогике тем обстоятельством, что в женском колледже Брин Мор студенткам разрешается курить; но чаще всего ему приходилось выступать на больную тему о нашей Бурливой Молодежи: фляжки с джином, и сдавленный смех в закрытых автомобилях по вечерам, и танцы, каких не видели со времен Змия и прародительницы Евы.
Декан Плениш, как нередко сообщал представителям прессы его хозяин, ректор Булл, был философом и гуманистом. Декан утверждал без обиняков, что, как ни прискорбно все это бурление, и бутлеггерство, и поцелуи в темных углах, потакать им менее опасно, чем говорить и писать о них. Он терпеть не мог студентов, которые глумятся надо всем, что есть в литературе положительного и возвышающего, а их нещадную критику называл «экспериментами». Иногда он говорил, что предпочел бы видеть свою дочь в гробу, чем за чтением бесстыдных новаторов, вроде Драйзера и Шервуда Андерсона,[45] а поскольку дочери его было всего три года, можно заключить, что он принимал этот вопрос близко к сердцу.
Он оглядел свой стол и улыбнулся. Да, его по праву можно назвать «воинствующим философом». Но зачем он пропадает здесь, в Кинникинике, слушая год за годом одно и то же унылое блеяние сменяющихся студенческих стад, когда его место в широком мире, в рядах бойцов за гражданскую доблесть? Этот вопрос постоянно задавала ему его жена Пиони, и, черт возьми, размышлял декан, она совершенно права.
Размышления его прервала очередная представительница Бурливой Молодежи. Она влетела в кабинет, похожая на тощего мальчишку или на ощипанного цыпленка, завернутого в посудное полотенце. Волосы у нее были коротко острижены, рукава много выше локтя, несуществующая грудь сильно открыта, а коленки над закатанными чулками не безупречно чистые. Это был и призыв и отказ в одном лице. Она была старшекурсницей по положению, младенцем — по умственному развитию и Гекатой — по коварству.
В свою бытность скромным молодым педагогом декан, пожалуй, взволновался бы, но теперь эту сторону его жизни заполняла Пиони, а Пиони отнюдь не была тошей. И он ограничился тем, что пробурчал:
— Ну, зачем пришли, Гвинн?
Она улыбнулась от бьющей через край молодости.
— В чем вы провинились, моя милая? Выпили лишнего? Тайные кабачки?
Она фыркнула и подала нелепейшую реплику:
— Профессор Плениш, вы — просто прелесть!
— Моя милая, так с деканом не разговаривают.
— Да я вас знала сто лет до того, как вы стали деканом.
— Неправда, всего два года! Но и за этот короткий срок вы добились того, что моя борода поседела от забот.
— Да в ней ни одной сединки нет. Она точь-в-точь такая же, как была. Она просто прелесть!
— У вас остались неиспользованными еще пять определений: роскошь, дуся, чудный, шикарный и паршивый. Уж не перестали, ли вы их употреблять? Нет, серьезно, Гвинн, мы с вами старые друзья, и мне бы не хотелось, чтобы весной, при окончании этого учебного заведения, ваш словарный запас состоял всего из ста семи слов. Доведите его хоть до ста десяти.
Он подумал о том, как далеко под его влиянием ушла от этой девчонки Пиони. В словаре Пиони не менее ста двадцати слов.
— Ей-богу, декан, я не затем к вам пришла, чтобы вы меня изругали. Я хочу изменить свой учебный план. Хочу сдавать искусство, архитектуру и географию, а гимнастику и Платонаристотеля — побоку.
— Что?
— Вы знаете, в моей группе есть студент-китаец Ли?
— Ну?
— Так вот, я с ним, то есть мы с ним, ну, вы понимаете, мы летом вместе были на озере. Ли говорит, что Китай и Индия стоят на пороге великого возрождения, он так и сказал, и я хочу ехать в Азию архитектором.
— То есть своего рода христианским миссионером? Просвещать меньших братьев?
— Ах, нет! Ли говорит, что, когда Китай и Индия объединятся, не мы их, а они нас будут просвещать. Это самые древние и самые замечательные страны в мире, он так и сказал, и они решили выгнать вон всех чужаков, так что еще неизвестно, пустят ли меня туда. Что вы скажете, декан?
— Что я скажу? А вот что: я вам скажу, что мне не страшно, когда вы, вундеркинды Потерянного Поколения, неженки-мальчишки и вертушки-девчонки, изображаете из себя проституток и бутлеггеров. Я свято верю, что к концу этого варварского десятилетия вы придете в себя, если, заметьте, если сохраните нетронутыми основы своего мировоззрения. А одной из основ остается, что белые нации — Америка и Англия, Франция и Испания, Италия и… да, и Германия, теперь, когда немцы поняли свое заблуждение и отказались от войны как от стимула прогресса, — что мы являемся высшей расой и что некое начало, чье божественное происхождение и сущность должны остаться для нас тайной, предназначило нам заботливо, но твердо править всеми желтыми, коричневыми и черными ордами и что все они — включая вашего друга мистера Ли — были, есть и будут лишь понятливые лети, которые отлично имитируют нашу цивилизацию, но…
Нет! Архитектуру сдавать вы не будете! И, пожалуйста, Гвинн, в этом году ведите себя прилично, а то, хоть мы и старые друзья, вы у меня вылетите в два счета, и еще раз повторяю — постарайтесь следить за своей речью и приобрести хотя бы запас слов нормального шестилетнего ребенка, и… и вы прекрасно знаете, черт возьми, что я, как декан, не вижу большого греха в том, чтобы молодежи выпить и пофлиртовать, и, надеюсь, мыслю вполне современно и являюсь последовательным либералом, и вы, мне кажется, должны согласиться, что я иду в ногу с веком, а может, и обгоняю его, но когда вы в своем маразме доходите до того, что ставите знак равенства между нами и низшими народами, у которых черепные швы облитерируются раньше, чем у нас, и этим обрекаете на гибель все мировое устройство, я говорю: НЕТ!
И теперь декан мог наконец умчаться домой, чтобы излить душу жене.
Плениши снимали первый из построенных в Кинникинике очаровательных белых домиков, чистеньких, веселых и удобных, с нефтяным отоплением и гаражом под той же крышей. Позже такие домики оживили ландшафт всего Среднего Запада.
Утомленный декан, приближаясь к дому, любовался ровным газоном маленькой лужайки — Пиони подравнивала его по утрам перед завтраком; восторгался узором дорожки — камни для нее выбирала Пиони; умилялся крепкой белой дубовой дверью — Пиони сама перекрасила ее, после того как рабочие только напортили. Приоткрыв дверь, он произнес:
— Ку-ку!
Жена его ответила:
— Ку-ку!
— Как малышка?
— Малышка? Чудно. Она такая дуся, она прелесть, она просто роскошь! Хочешь взглянуть на нее? Но сначала…
Пиони за руку повела его через маленькую гостиную. По дороге она остановилась перед их главным сокровищем — китайским шкафчиком чиппендэйлевской работы, красным, с золотом и с резными фигурками мандаринов — они купили его в Чикаго во время свадебного путешествия, заплатив за него приблизительно в десять раз больше того, что могли себе позволить. Как и всегда, она вздохнула: «Ну не прелесть ли! В жизни не видела такого чудного шкафа!»-И он, как всегда, подтвердил: «Еще бы! От него вся комната оживает».
Она провела его в спальню, где обои изображали зеленое море с серебряными парусниками и стояли парные кровати — одна более пролежанная, чем другая. Она провела его в дальний угол, словно в тайный альков, и там страстно поцеловала. В их молодой супружеской любви было что-то скрытое, темное и неистовое, что растворяло его без остатка.
Она провела его во вторую спальню. Первоначально здесь намечалась комната для гостей, где могли бы всегда останавливаться папа и мама Джексон. Но спустя поразительно короткое время папе и маме Джексон пришлось останавливаться в гостинице, ибо эта комната была безраздельно предоставлена Кэрри.
Кэрри Плениш в трехлетнем возрасте была бодра и деятельна, настоящий младенец с рекламы бакалейщика, о котором так и хотелось сказать — и часто говорили: «Ну что за жизнерадостный ребенок, просто удивительно!»
Кэрри обещала вырасти более смуглой и стройной, чем ее родители.
Бросив без присмотра свое имущество — девять оловянных солдатиков, древнюю куклу и акварельный портрет кошки, — она взвизгнула «папа» и помчалась к нему.
— Умна девчушка, ничего не скажешь, — изрек декан, возвратившись с женой в гостиную. — Будет когда — нибудь деканом женского колледжа.
— Ну, конечно, держи карман! Она будет счастливой женой и матерью. Как я.
— А ужин сегодня предполагается? Ты мне не давала никаких поручений.
— Нет. Кухарка сегодня выходная, и мы едем кутить. Я сговорилась с миссис Хилп, она придет посидеть с Кэрри. Мы поедем в Мэйбл-Гроув и будем ужинать у Эплтона.
— Чудно! Здорово! Совсем шикарно, — сказал кинникиникский ревнитель чистоты языка.
Автомобиль у них был новый, максвелл, развивающий скорость до сорока восьми миль в час. Декан уже просрочил платежи за него, но всего на месяц или два.
Они покатили на юг среди полей кукурузы.
Декан пребывал в блаженной уверенности, что при всем своем красноречии, энергии и такте он все же только благодаря Пиони стал деканом, в связи с чем его жалованье увеличилось на двести долларов в год, власть над студентами возросла и почти отпала необходимость делать вид, будто ты читал последние произведения миссис Уортон,[46] мисс Кэсер[47] и этого нового — как его? — Хемингуэя.
Вскоре после свадьбы Пиони посетила Теклу Шаум, была встречена в штыки, а затем стала лучшим другом Теклы и получила приглашение на обед к ее отцу. Нарушив этикет колледжа, требовавший, чтобы жена ректора первая нанесла визит, Пиони явилась к миссис Булл, была встречена с распростертыми объятиями и стала ее лучшим другом. Затем она пришла к доктору Эдит Минтон, была встречена с холодным удивлением, причин которого так никогда и не поняла, и стала единственным явным врагом доктора Минтон; но поскольку доктор Минтон не пользовалась любовью в колледже, такая позиция молодой жены профессора Плениша была оценена как свидетельство недюжинного ума.
Пиони с самого начала убедила мужа предложить свои услуги ректору Буллу для работы во всевозможных комитетах, и через год уже стало привычным, что всякий раз, как нужно было принять какого-нибудь знатного гостя или составить расписание, в котором гармонично сочетались бы органическая химия и кулинарное искусство, обуза эта ложилась на плечи профессора Плениша. Когда старый декан умер — умер на посту, но отнюдь не от поста, — Плениш почти автоматически занял освободившийся трон, и его крошка жена, по общему мнению, была вполне достойна носить порфиру.
Сейчас, сидя в машине, въезжавшей в окружной центр Мэйбл-Гроув (население 11 569), она казалась весьма почтенной молодой матроной. Зная ее высокое положение, всякий подумал бы, что она обсуждает расовые проблемы или вопросы социальной гигиены, на самом же деле она говорила декану:
— Пропустим по стаканчику пива у Эплтона, по — моему, не страшно, никто не увидит, только сначала я хочу тебе что-то показать — это, конечно, неслыханное безумие, но мне так хочется его купить! Можно, Гидеон?
— Ну зачем спрашивать? — отвечал он нежно.
Она велела ему остановиться перед старым, потемневшим домом со скромной вывеской «Антикварный магазин». Подходя к двери, она нервничала; рванула дверь, словно хотела поскорее покончить, и, крепко стиснув руку мужа, указала на предмет своего вожделения. То был огромный китайский ковер, синий, как озеро в июне, с шафранно-зелено-лимонным бордюром из драконов и длинногривых львов.
— Ну разве не красота? — проворковала Пиони.
— М-м.
— Как он нам пригодится, когда ты будешь сенатором от Айовы!
— Радость моя, а не подождать ли, пока я в самом деле стану сенатором?
— Ему, наверно, тысяча лет-ну, может быть, сто, — и он раньше стоил полторы тысячи долларов, а сейчас его отдают за триста.
— Радость моя, клянусь богом, у нас нет трехсот долларов, и долгов не меньше, чем на двести… я, право, не знаю… так не хотелось бы еще набирать в долг.
— Но сейчас нужно внести только двадцать пять долларов, а ему цена не меньше пятисот. Мне продавщица сказала. В этом ковре есть шик. Неужели он тебе не нравится?
— Да нет, очень нравится, но совершенно невозможно…
Когда они подъезжали к ресторану Эплтона, китайский ковер покоился на дне машины.
Они отпраздновали покупку не пивом, а старомодными коктейлями, и за ужином, удовлетворенно поглядывая на маринованную дынную корку, маслины, ореховый торт и прочие деликатесы — символы богатства, светской жизни и тонкого вкуса, — Пиони сказала:
— Ты не забудь, папа совершенно не выносит долгов. Если мы запутаемся, до тысячи он нам, безусловно, даст, чтобы мы могли расплатиться, а к тому времени ты и сам, может быть, будешь загребать побольше. Ах, да, у меня для тебя есть еще один сюрприз, не хуже китайского ковра.
Декан испуганно пискнул:
— Еще триста долларов?
— Ни цента, милый. Даю тебе честное слово. Я прекрасно тебя понимаю. Я ненавижу тратить деньги и ненавижу влезать в долги, ненавижу. Я просто люблю, чтобы у меня были всякие вещи, понимаешь?
— Да, — сказал декан и добавил: — Ну что ж…
У обоих отлегло от сердца.
— А дело вот в чем, Гидеон. Мы столько говорили о том, что тебе нужно продвигаться и занять в жизни достойное место, так теперь пора действовать. Сейчас только что ушел в отставку председатель Цензурного комитета, и на его должность кого-то нужно найти. А знаешь, какой этот комитет влиятельный! Официально он как будто нигде не числится, но его боятся правления всех кино и библиотек в округе. Так что сегодня мы побываем у миссис Уильям Басвуд, а там, глядишь, мой муженек станет председателем комитета.
— Миссис Уильям?..
— Это вдова одной фабрики зубоврачебных инструментов, живет здесь, в Мэйбл-Гроуве. Посмотреть на нее — мраморная статуя, а на самом деле ой-ой. Нравственна до того, что готова кошек обрядить в трусики. Ты смотри, будь умником, веди себя, как будто ты основатель ХАМЛ.
Мэйбл-Гроув, как часто бывает на Среднем Западе, из придорожной деревушки сразу превратился в небольшой город, не успев задержаться на промежуточной стадии дачного поселка. Там были асфальтированные тротуары, семиэтажное здание, занятое конторами и принадлежащее банку, и десятка полтора неказистых доходных домов. Позже, к 1940 году, городу предстояло обогатиться еще радиостанцией, баром с никелированной стойкой, общественным бассейном для плавания и всем известным, но не подлежащим оглашению скандалом, героем коего был школьный учитель. В общем, этот город — живое доказательство того, что прерии за восемьдесят лет могут шагнуть дальше, чем Европа — за восемьсот.
Миссис Басвуд по ее характеру пристал бы коттедж, утонувший в кустах сирени, но жила она в тесной квартирке с электрическим камином и портретами Мэри Бейкер Эдди, Тенесси Клафлин[48] и миссис Хэтти Грин.[49] У нее было радио — новинка для 1926 года, но торс ее, усыпанный стеклярусом, чтобы замаскировать проклятие пола, поскрипывал вполне старомодно.
— Ах, доктор Плениш, я так рада, что вы заинтересовались нашей борьбой за исправление нравов, вы и ваша милая жена, я вас познакомлю с мистером Педерсоном, знаете — его преподобие Чонси Педерсон, пастор лютеранской церкви, она раньше называлась норвежской церковью, но теперь она в ведении английских лютеран. Я, конечно, не говорю, норвежцы — прекрасный, честный, богобоязненный народ, но… ах, да, я сейчас позвоню мистеру Педерсону.
— Говорит миссис Басвуд… — Она продолжала говорить все время, пока они ждали его преподобие. Она не умолкала ни на минуту.
Мистер Педерсон был объемистый, среднего роста человек килограммов на девяносто чистого весу, по виду свободный от греховных мыслей и вообще от каких бы то ни было мыслей. В частной жизни он занимался разведением спаржи и сахарной кукурузы и действовал всегда попросту и без затей. Он приветствовал декана от имени Цензурного комитета. Он объяснил, что кандидатуру декана полагалось бы проголосовать с участием остальных членов, но, поскольку оба эти субъекта не являются даже добрыми протестантами, декан может считать себя уже избранным; более того — и тут они обменялись с миссис Басвуд кивками, взглядами и набожными улыбками, — он не ошибется, если скажет, что декан Плениш уже состоит председателем!
— Я знаю, он сочтет за честь помочь вам бороться за дело нравственности, хотя он ужасно занят и его всюду приглашают выступать, но я уверена, что он согласится! — протараторила Пиони, чтобы не дать миссис Басвуд времени заколебаться, а декану — раскрыть рот.
Мистер Педерсон возгласил:
— Вот это дело! Вот это, если можно так выразиться, здорово! Разрешите сказать вам, декан: мы все почтем за честь работать с таким ученым, таким известным человеком, как вы. Но прежде всего я хочу задать вам вопрос. Согласитесь ли вы со мной и с миссис Басвуд в том, что самой мощной силой или фактором, порождающим страшные пороки, столь распространенные в наше время, пороки, которые вызвали бы краску стыда у Нерона и у любого из известных в истории развратников, сейчас, когда вокруг нас властвует царь Алкоголь и женщины, даже молодые женщины преследуют мужчин (тут Пиони скромно потупилась) и позволяют себе дела и поступки, которые я не решусь назвать в присутствии дам, — готовы ли вы признать, что никакой фактор не способствует такому положению вещей сильнее, чем так называемые популярные и ходкие романы, полные бесстыдных описаний голых женщин (он облизнулся, у миссис Басвуд появился в глазах голодный блеск, декан покраснел, и только Пиони сохранила выражение полной невинности) и содержащие дерзкое оправдание самого гнусного порока и злобное глумление над теми, кто мужественно отстаивает нравственную чистоту в церкви и у домашнего очага? Позор!
Декан сказал, что об этом стоит подумать.
Еще до того, как состоялось первое заседание Цензурного комитета под председательством декана, Пиони сообщила ему:
— Я кое-что нашла для тебя — «Татуированная графиня», роман Карла ван Вехтена,[50] вышел года два тому назад. Вот ты как цензор возьми и разделай его ко всем чертям.
— Невозможно! Насколько я помню, мистер ван Вехтен родился здесь, в штате Айова. Он здешний уроженец. — В устах декана слово «уроженец» звучало так, словно имело непосредственное отношение к рождеству Христову.
— Это-то и хорошо. Все, кто знал его с детства или уверяет, что знал, завидуют ему, потому что он переехал в Нью-Йорк.
— А книга достаточно безнравственная, чтобы заинтересовать публику?
— Я не читала. Я так занята, совершенно недостает времени читать романы. Но там, говорят, одна женщина и один молодой человек очень интересуются друг другом, а не женаты. И все происходит в Айове.
— Понятно.
— Ив книге очень много забавных мест и всяких умных рассуждений — от этого она еще более безнравственная.
— Что ж, попробовать можно.
Когда собрание состоялось, все члены комитета выразили полную готовность изничтожить земляка-дезертира и, объявив крестовый поход, изгнать «Татуированную графиню» из пределов округа Гарфилд. Но хотя, по слухам, в больших городах вроде Дюбюка и Де-Мойна эта книга имелась в изобилии, во всем округе она нашла#ь только у одного владельца газеты, у одного врача, у двух адвокатов и у семи священников. В округе числилось пять книжных магазинов, из которых три на рождество даже торговали книгами, но в них не удалось обнаружить ни одного экземпляра.
Пиони не унималась:
— Где-нибудь она да продается. Округ у нас передовой — одни янки и скандинавы. Есть же люди достаточно культурные, чтобы читать безнравственные книги.
Она объездила на машине все киоски, торгующие журналами и игрушками, и тут же в Мэйбл-Гроуве, в каких-нибудь десяти кварталах от обиталища миссис Уильям Басвуд, нашла два экземпляра «Татуированной графини» в табачной лавочке некоего мистера Руда.
Все пятеро членов Цензурного комитета, а с ними две умиленные супруги посетили мистера Руда в его лавке.
Он был худ, любезен и несговорчив. Нет, он не читал «Графини». Он вообще ничего не читает, кроме модных журналов, да иногда Луизу Мэй Олкотт.[51] Нет, он не знает, откуда у него два экземпляра «Графини», скорее всего их прислали вместе с партией журналов, проспектов и пасхальных открыток. Нет, совершенно определенно, он не обещает не продавать «Графиню». Он ведет торговлю, как ему нравится, а не по указке всяких толстомордых проповедников и всяких… — он взглянул на Пиони, — безмозглых куриц. Ну и пусть арестуют, пожалуйста. Прибыль одна — что сидеть в тюрьме, что сигарами торговать.
Декан заявил:;
— Об этом мы позаботимся! — и со всем достоинством, которое придавали ему бородка и золотые очки, вывел своих крестоносцев из притона греха.
Преподобный мистер Педерсон подал мысль посоветоваться с мистером Биллом Пеннистоном, председателем совета уполномоченных округа Гарфилд.
Мистер Пеннистон сообщил:
— Юридически вы бессильны, но почему бы нам, членам республиканской партии, время от времени не ударяться в нравственность, чем мы хуже демократов? Я договорюсь, чтобы мэйбл-гроувская полиция разрешила вам устроить митинг в Хокай-парке, и сделайте одолжение, сотрите этого Руда в порошок. А что, декан, книжка очень забористая? Надо купить, пока Руд еще не расторговался.
— Я не успел ее прочесть, то есть дочитать, — пояснил декан.
Декан Плениш был человек, преисполненный чувства собственного достоинства, воспитатель молодежи и в потенции государственный деятель. Он бы с удовольствием выступил перед несметной толпой, если бы она толпилась в снятом для этого случая зале, освященном библией, национальным флагом, графином с водой и плетеными стульями. Но драть глотку в парке, уподобившись уличному оратору-евангелисту… Он признался Пиони, что «до смерти трусит».
— Но, Гидеон, дуся, на тебя рассчитывают газеты! Будут репортеры из Кинникиника и Мэйбл-Гроува, а может, даже из Ватерлоо и Сидар-Рапидс.
— Ты думаешь? — усомнился декан, сладко замирая от гордости и страха.
— Я почти уверена.
Не удивительно, что Пиони была почти уверена. Она сама звонила по телефону во все эти газеты.
— А ректор Булл и попечители, по-твоему, одобрят эту затею?
— Они, безусловно, найдут, что это очень похвально.
И опять она говорила не наобум, ибо сама разъяснила упомянутым высоким лицам, что Кинникинику не помешает немножко рекламы по линии нравственности, а они в ответ вздохнули: «Что ж, может, и так».
Когда пятеро цензоров появились на эстраде в Хокай-парке, их ждало там не более пятидесяти человек, вполголоса спрашивавших друг друга:
— Кто они такие? Мормоны или адвентисты седьмого дня?
В кратком вступительном слове, занявшем семнадцать минут, преподобный мистер Педерсон представил декана Плениша.
Декан чувствовал себя прескверно. Ему чудилось, что все двадцать три слушателя, которые еще не разбежались, еле удерживаются от смеха.
— Д-друзья мои! — простонал он, и кто-то засмеялся. Он напряг все силы, стараясь выдумать что-нибудь получше, и разразился громовым: — ДРУЗЬЯ мои!
Но Пиони смотрела на него, и глаза ее обещали, что, если он как следует разогреет публику, она сегодня ночью будет с ним очень нежна. Без усилия и словно помимо его воли речь его вдруг полилась плавно, уверенно и твердо, полная нравственного чувства, эпитетов и придаточных предложений. Пять минут спустя он гремел:
— Не будем, если дозволено педагогу употребить такое выражение, не будем втемяшивать себе в голову, что рассадниками всех пороков являются Уолл-стрит, Париж и Голливуд. Уроженец штата Айова Карл ван Вехтен и Ал Руд, сосед, которого вы все знаете, — вот кто преподносит нам такой шедевр безнравственности, двусмысленности и греховного соблазна, что у каждого из нас поневоле являются мысли, не приличествующие жителям Среднего Запада. И как же мы поступим с этими людьми?
Он оставил этот вопрос без ответа и заключил упоминанием о Марте Вашингтон и первых поселенцах.
Когда все кончилось, Билл Пенистон крепко пожал ему руку и воскликнул:
— Ну, док, выступление что надо! Вам бы пойти по политической части. Загляните как-нибудь ко мне, потолкуем.
Выходя из Хокай-парка, декан вздохнул:
— Бедный Руд! Я уверен, что в душе он неплохой человек. Даже совестно губить его торговлю.
Доехав до табачной лавки Руда, он затормозил машину. Мистер Руд стоял на ящике перед своей лавкой, на другом ящике рядом с ним высилась стопка книг, и он выкрикивал:
— Налетайте, друзья, кто еще не купил «Татуированную графиню»? Графиня и шейх в Аравийской пустыне, ночные похождения на берегах Конго — самая пикантная повесть со времен соломоновой «Песни песней». Не верите мне, послушайте декана Кинникиникского колледжа!
Книгу покупали.
Пиони спохватилась:
— Ой, Гидеон, нужно взять несколько экземпляров, ректор Булл говорил, что очень хотел бы прочесть, и папе можно послать к рожденью.
Подобно многим более славным предшественникам — актерам и боксерам, генералам и убийцам, — декан приготовился к самому худшему и был болезненно поражен, когда ни худшего, ни лучшего не последовало. Газеты штата поместили заметки о походе за нравственность, в которых книга упоминалась под заглавиями «Ату его!», «Татуированный граф» и «Декольтированная графиня», а в качестве автора фигурировали по очереди Карл ван Дорен, Мария ван Ворст, Хендрик ван Лун[52] и Эптон Синклер, но о декане Плените не было сказано ничего более сенсационного, чем то, что он был «в числе выступавших».
Правда, демойнская «Реджистер» напечатала коротенькую передовицу, намекавшую, что, если бы декан поменьше разъезжал, ему было бы известно, что в тот самый вечер вверенные его попечению студенты разбили девять уличных фонарей и привели козу в кабинет преподавателя библейской литературы. Передовицу прислали декану двадцать семь старых приятелей, которых он не встречал со времени окончания колледжа. Но этим взрывом дружеских чувств инцидент и закончился.
А затем на душу его пролился бальзам в виде письма от губернатора одного из соседних штатов. Его превосходительство писал, что всегда с удовольствием отмечает в преподавателях высших учебных заведений умение вырваться из замкнутого круга и поставить свои знания на службу Простому Человеку. Декан Плениш помчался показать этот лавровый венок ректору Буллу, и ректор Булл сказал: «Вот и хорошо, теперь вся эта история не будет меня так угнетать». Он помчался домой показать письмо Пиони, и Пиони сказала: «Чудно. Напиши губернатору, что мы как-нибудь заглянем к нему и его жене и осмотрим его дворец, чтобы решить, какую комнату отвести Кэрри, когда мы туда въедем».
— Ты хочешь сказать, что я буду губернатором какого-нибудь штата?
— Ну, этого я не знаю, но я хочу сказать, что я буду губернаторшей какого-нибудь штата… Ой, бедненький, ну не огорчайся, будешь, будешь губернатором!
Билл Пенистон приехал к Пленишам обедать, и Билл Пенистон сказал:
— Если вы думаете заняться политикой, декан, пора бы вам познакомиться с избирателями. У вас есть шансы через два года попасть в конгресс штата Айова. В следующую пятницу мы силами республиканской партии устраиваем в Мэйбл-Гроуве, в здании арсенала, праздник урожая. Приезжайте с вашей женкой, захватите закусок и слоеных пирожков с бананами, я вас познакомлю с кем нужно.
Когда он ушел, декан сказал Пиони, что можно, не откладывая, заказывать билеты в спальном вагоне и ехать в Вашингтон. Пиони возразила, что лучше ехать в салон-вагоне — это немногим дороже, а к тому же придется везти с собой Кэрри, так ведь?
Он ликовал:
— Вот посмотришь, как я в пятницу заведу дружбу с фермерами округа Гарфилд. Я перецелую всех ребятишек по-шведски, по-чешски и по-саксонски, и буду просить у всех старушек рецепты бузинной настойки, и выслушивать рассказы каждого старого хрыча о том, как он белил свой амбар. Нет, серьезно, там, на этой политической ярмарке, очень нужен человек с моими знаниями и опытом. Поди сюда, моя радость, и поцелуй сенатора Плениша.
По неизвестным причинам малолетняя Кэрри в соседней комнате залилась громким плачем.
Как и ожидали горожане Плениши, зал Арсенала Национальной Гвардии был украшен гирляндами из тыкв и кабачков, ветвями сумаха и мозаикой из желтых, красных и лиловых зерен кукурузы, изображавшей индейцев верхом на конях. Длинные деревянные столы, напомнившие декану его евангелическое детство, ломились от яств: тут были пироги семи сортов, печенье девяти сортов и три сорта мясного паштета. Плениши испытали некоторое разочарование оттого, что фермеры были так хорошо одеты-мужчины в выписанных по почте синих костюмах, женщины в коричневых шелковых платьях, но шеи у них были загорелые, под цвет сигар, и в морщинах, как размытые ручьями горы, и при виде этого к декану вернулось чувство превосходства.
Против ожидания Билл Пенистон не предложил им пожимать сотни рук и восторгаться детишками. Он сказал:
— Я вас посажу с комитетом округа, вы сможете приглядеться к ним, а они к вам.
Пленишей пригласили к столу, за которым сидело человек десять, проявивших обидное равнодушие к знатным гостям: врач, школьный инспектор, владелица шляпного магазина, содержатель аукционного зала, оказавшийся депутатом, палаты представителей штата, и фермер-скотовод, оказавшийся сенатором штата.
Декан думал было произнести Речь, но что могло заинтересовать такую толстокожую аудиторию? Уж, конечно, не построение абзацев и даже, вероятно, не Бурливая Молодежь. Стараясь сочинить что-нибудь про новоявленного мученика Уильяма Дженнингса Брайана, он в то же время прислушивался к. беседе этих захолустных политиков.
Они говорили о налогах. Декан Плениш и не знал, что существует столько разных налогов: налог федеральный, и налог в пользу штата, и в пользу округа, и в пользу города, налог на дороги, и строительство, и развлечения, патенты на торговлю табаком и на торговлю шипучкой. Они говорили о кандидатах в конгресс на предстоящих осенних выборах, и они говорили о фракциях. Декан всегда считал, что понимает слово «фракция» точно так же, как и слово «ихтиозавр», но теперь он вдруг осознал, что не представляет себе ясно ни того, ни другого.
Они говорили об инспекторах по строительству шоссе и строительству пакгаузов и о железнодорожном управлении штата, — все для декана китайская грамота. Они даже говорили, и притом благожелательно, о молодом Генри Агарде Уоллесе — издателе «Уоллесовского листка фермера».
— Вы как будто хорошего мнения о нем, — робко вмешался декан.
— А то как же! — сказал сенатор штата.
— Но мне казалось, что он близок к демократической партии?
— Да видите ли что: по-нашему считается, что республиканец из Айовы лучше, чем демократ из Айовы, но демократ из Айовы лучше, чем республиканец из Иллинойса.
— Ах, вот как, — сказал декан Плениш.
По дороге домой в Кинникиник декан высказывался решительно и твердо:
— Поздно мне начинать политическую карьеру. Эти партийные лидеры все время поминали какого-то Джорджа, послушать их — он первый человек в округе, а я даже не решился спросить, как его фамилия. Наверно, Джордж Вашингтон.
— Я думала, он умер, — сказала Пиони.
— И это очень показательно. Слишком многого я тут не понимаю. Фракции. Что за фракции? Кто их выдумал? С чем их едят? Черт бы побрал эти фракции! Стар я, чтобы притворяться, что разбираюсь во фракциях. А жаль, потому что… Я тебе рассказывал, как сенатор Кертшо уговаривал меня записаться в его партию, когда я еще был в колледже?
— Рассказывал, и не раз.
— Ах, так… гм… Вот губернатором я бы мог быть. Губернаторам ничего не нужно знать, у них на это есть специальные люди. А чтобы заворачивать делами округа Гарфилд, нужно знать слишком много фактов, самых простых фактов. Да, ничего, вида, не остается, как до конца жизни твердить нашим младенцам в колледже, что мы не для того читаем им лекции, чтобы их мучить. А жаль. Какие идеи я мог бы развивать в политике — свобода, демократия, Нормальная Жизнь! Тут нужна высокая стратегия, а не стрельба в тире. Инспекция складов — брр!
— Гидеон, миленький, устроим тебе твою высокую стратегию!
— Каким это образом? Ты уж не Джордж ли?
— Мы разузнаем, что нужно сделать, чтобы занять высокий политический пост, а не какую-то жалкую выборную должность. Из тебя вышел бы замечательный министр финансов: ты так чудно подсчитываешь мои расходы, и почти всегда итог сходится. Или генерал — губернатор Филиппинских островов. Ух, как здорово было бы жить в генерал-губернаторском дворце: сплошные пальмы, попугаи, парады!
— Да, неплохо бы, — благодарно отозвался декан.
Декан обнаружил, что его деканской карьере сильно мешают его деканские обязанности. Ему надоело каждый год отвечать новой партии первокурсников на сотни дурацких вопросов, которые он раз и навсегда разрешил год назад. Зато его служебное положение позволило ему предпринять кое-какие шаги, приятные сердцу человека, делающего карьеру.
Пиони, которая раза два в месяц терзала Шопена, открыла ему нечто, называемое Музыкой. Он решил, что в Америке у этой затеи есть будущее, а следовательно, она нуждается в организации, и, немедленно созвав совещание, основал Кинникиникскую Музыкальную гильдию.
Члены ее должны были сочинять симфонии и детские песенки, составить оркестр и совершать концертные турне, создавая этим рекламу колледжу. Он гордился гильдией и продолжал гордиться еще много недель после того, как она без его ведома развалилась в результате яростного спора о том, может ли быть у аккордеониста столь же истинный талант, как у скрипача.
11
Это Пиони принадлежала мысль, что так как у них накопилось много долгов, то за лето и осень они должны навести экономию. Пиони всегда была любительницей сенсационных решений.
Она сказала:
— Я обожаю транжирить деньги, и ради китайского ковра и чиппендэйлевского шкафчика я бы, кажется, душу прозакладывала, но, если нужно, я могу быть бережливой, вот увидишь, какой я могу быть бережливой.
На время каникул она подыскала маленький трехкомнатный коттедж в Северной Миннесоте и сама стряпала, мыла, скребла, возилась с Кэрри. Декану разрешалось помогать ей только в мытье посуды; она заставляла его очень много читать по истории, антропологии, экономическим наукам, и оба они чувствовали, что совершенствуются и расширяют свой кругозор. Ни тот, ни другая не усматривали особой разницы между Лотропом Стоддардом[53] и Уильямом Грэхэмом Самнером.[54] Любая книга была для них хороша и полезна, если в ней говорилось об измерениях черепа, о воспитании молодежи в демократическом духе или об увеличении производства газовых плит.
С помощью советов и наставлений одного епископального священника, который курил трубку, а также откровенно и со знанием дела беседовал о половом вопросе и которого за это звали «отец мой», Пиони привела декана в лоно епископальной церкви. Она находила, что человеку, призванному, быть может, возглавить движение прогрессивной мысли в Нью-Йорке или Вашингтоне, не к лицу пресвитерианство; такой человек должен быть либо епископалом, либо атеистом, но для штатного преподавателя епископального колледжа разумнее, пожалуй, избрать первый вариант. Впоследствии декану предстояло убедиться, что это была ошибка и что, если вы рассчитываете сделаться великим Либералом или непримиримым Консерватором, а также если вы хотите наживать много денег, вам следует быть методистом, баптистом, конгрегационалистом, квакером или русским князем.
Осенью Плениши возвратились в Кинникиник и привезли с собой множество новых идей, первоклассный загар и всего двести долларов долгу.
Цензурный комитет округа Гарфилд продолжал громить хорошие книги и создавать им рекламу, а мистер Руд, сам того не ожидая, пристрастился к чтению и открыл первую в округе приличную книжную лавку. Имя председателя Плениша, «ученого, который не гнушается пылью мостовых» (ватерлооский «Курьер»), получило не менее широкую известность, чем названия упомянутых книг. Все население штата мало-помалу прониклось уверенностью, что доктор — человек, который не подкачает (хотя никто, кроме Пиони, не смог бы сказать, в чем, собственно, он не подкачает), и его даже избрали членом Консультативно-Директивного Комитета по Электрификации и Творческому Планированию.
Потом он вдруг сорвался с места и в течение двух с лишним месяцев разъезжал по городам штата: из Оттамуа — в Мейсон-Сити, из Мейсон-Сити-в Сиу-Сити и в Маскатин; имя его ежедневно появлялось в газетах, на странице седьмой; вместе с Пиони он посещал парадные банкеты на три сотни и более персон, с шестнадцатью застольными речами в программе. И когда эта славная кампания пришла к концу, у Пленишей было уже четыреста долларов долгу, для частичной уплаты которого Уиппл Джексон прислал им чек на двести, и Пиони купила на эти деньги люстру из горного хрусталя и пятьсот акций алмазных копей.
Декан Плениш впервые удостоился чести быть приглашенным в число «директоров» солидной общественной организации с центром в Нью-Йорке — Общество Сочувствия Пацифистским Устремлениям Новой Демократической Турции. Его заверили, что названная организация заинтересована лишь в его прославленном имени и ни денег, ни времени ему тратить не придется, если он сам этого не жаждет.
Он не жаждал.
Не раз впоследствии ему предстояло испытать это ощущение горячей волны в желудке — словно от стакана пунша — при виде собственного имени, отпечатанного на официальном бланке. Но сейчас он опьянялся впервые. Письмо Турецких Сочувствователей, под которым великодушно поставил свою подпись какой-то дартмутский профессор, представлялось ему символом культурного прогресса и международной информации. В центре заголовка красовалась голова турецкого рабочего без фески, а под ней, напоминая отдувшийся на ветру галстук, полукругом были расположены таинственные буквы ОСПУНДТ.
Адрес неизбежно должен был внушить уважение жителю Кинникиника: Нью-Йорк, Пятая авеню, угол 43-й улицы.
В верхнем правом углу бланка стояли имена членов правления, среди которых было три известных духовных лица, один чикагский юрисконсульт и в качестве казначея четырнадцатый вице-президент Шестнадцатого Национального Манхэттенского Банка. Декан еще не знал тогда, что во всех порядочных организациях национального масштаба, вплоть до таких, чьей деятельности хватает ровно на неделю, пост казначея непременно занимает нью-йоркский банкир.
Пониже списка членов правления значилось еще одно имя: «Директор-распорядитель Констэнтайн Келли», — набранное столь скромным шрифтом, что Плениши, новички в мире общественных организаций, не обратили на него внимания. Их больше всего интересовало левое поле бланка, где в списке сорока восьми директоров стояло:
Айова.
Гидеон Плениш, д-р философии.
Декан Кинникиникского колледжа.
Декан и Пиони посмотрели друг на друга, затем они оба посмотрели на Кэрри, и все трое вздохнули: родители от радости, Кэрри от скуки и, возможно, оттого, что ее беспокоили газы.
Известие о выпавшей на долю декана чести появилось в айовских газетах, и декан немедленно получил приглашение сделаться директором двух других организаций и вступить в качестве члена-жертвователя еще в шестьдесят три. Первые два приглашения он принял.
Его обязанности в ОСПУНДТ оказались не слишком обременительными. Избрав его, этот почтенный орган больше не вспоминал о его существовании, если не считать ежемесячных бойких посланий за условной подписью дартмутского профессора, в которых разъяснялось, почему в Европе и Азии больше никогда не будет войн, и предлагалось вербовать новых членов среди жителей своего штата. ОСПУНДТ готово было удовлетвориться тем, чтобы он проводил собрания и высылал по почте полученные взносы.
Обильные почести, которых удостоился декан, побудили его ступить на благодатную сгезю публичного ораторства и просвещения масс. Вот что писал по этому поводу кинникиникский «Рекорд»: «Как в нашем, так и в соседних округах названного джентльмена наперебой приглашают для произнесения речей на съездах, выпускных актах, встречах бывших однокашников, юбилейных банкетах Ротарианских клубов, словом, во всех тех случаях, где требуется культура и остроумие; и нет руки, которую мы пожали бы с большей гордостью, нежели руку декана «Гидди».
Приглашения выступать стали приходить по два раза в день, затем по три, и Пиони решила взять это дело в свои руки.
— Гидеон, родненький, ты все время произносишь речи даром, а ведь за это можно брать деньги. Увидишь, мы в два счета покроем пятьсот долларов долгу, и еще я себе сделаю настоящее вечернее платье из такой материи, чтобы шуршала. Давай-ка, я сама буду отвечать на пригласительные письма. Я с этих голубчиков сдеру по двадцать пять и по пятьдесят монет за каждое выступление, а когда и по семьдесят пять плюс путевые расходы, и пусть оплачивают вагон с откидывающимися креслами, даже если ты им не воспользуешься.
Декан призадумался:
— Я, конечно, сам получаю большое внутреннее удовлетворение, будя и стимулируя людские умы, но, честное слово, у всей этой публики, которая гонится за бесплатными ораторами, нет ни стыда, ни совести, особенно у дам из дамских комитетов. Они просто беспощадны. Дать им волю, так они заставили бы меня говорить по двадцать четыре часа в сутки и делали бы кислую гримасу, чуть я замолчу, чтобы высморкаться. Правильно. Возьмись за них и выжми все, что можно. У меня до сих пор просто духу не хватало.
— Еще бы! У тебя не хватило духу даже на то, чтобы соблазнить меня, хотя, видит бог, тут особых усилий не потребовалось бы.
— !!
— Слушай! Что, если я выберу тебе какую-нибудь специальную тему и немножко займусь рекламой — стану упоминать об этом во всех моих письмах?
— Ausgezeichnet![55] Пиони! Что, по-твоему, имеет больше шансов на успех — доказывать, что Послевоенное Поколение не внушает тревог и еще найдет свою дорогу в жизни или, наоборот, обрушиться на него с обличительной речью, называя его пьяной бандой озорников и проституток? Ты понимаешь, это очень важно. Оратор должен более или менее знать, что он хочет сказать, и уж если ему не хватает красноречия, так пусть хоть бьет в одну точку.
— Ох, ну, конечно, ставь в программу разлагающуюся молодежь. Никому не интересно услышать за свои деньги, что мальчики и девочки-просто люди, как все. На что вообще нужна трибуна, если с нее будут поучать публику слушаться здравого смысла и поступать согласно природе? И самое главное! Я придумала чудное название для девочек, которые себя в самом деле плохо ведут: «мартовские кошки»! Здорово, а?
— Пиони! Ты родилась для славы! Да на это все так и побегут. «Не Будьте Мартовской Кошкой». Есть! За дело!
Вот откуда взялось выражение «мартовская кошка», которое распространилось по всем Соединенным Штатам и вошло в сокровищницу американской мысли.
Намек на низменную материальную подоплеку несколько уменьшил поток приглашений, но и теперь раз восемь или десять в месяц декан Плениш предпринимал дальнее путешествие, иногда за полтораста миль от родного дома, и вскоре сумма семейного долга сократилась до трехсот долларов, а Пиони купила вечернее платье из материи, которая шуршала, и еще другое — из мягкой ткани и очень женственного покроя, к несчастью, несколько ее старившее.
Ректор Булл все больше и больше мрачнел, глядя, как его декан, дело которого — фактически руководить колледжем, оставляя на долю ректора представительство и рекламу, во-первых, пренебрегает своими обязанностями, а во-вторых, кладет в карман хорошенькие оранжевые чеки, которые по праву должны были бы доставаться Т. Остину Буллу.
В этот вечер декану Пленишу предстояло говорить речь на объединенном банкете Ассоциации Дочерей Пилигримов и Общества Упсальских Холостяков в Нью-Ипсвиче, в шестидесяти милях от Кинникиника. Ехать туда он решил на машине. Выпал снег, но дороги были в приличном состоянии, а кроме того, он недавно купил для своего максвелла новые цепи. Он вернулся из колледжа в половине пятого, поцеловал жену, дал ей дружеского шлепка, поцеловал дочку и принялся одеваться к-банкету.
Сорочка, решил он, еще один раз сойдет, но воротничок лучше надеть чистый. На старом было пятно — это он посадил в прошлый вторник, спеша перехватить стаканчик в баре отеля Грампион в Де-Мойне, куда приехал читать лекцию членам Хокайской Агрономической Лиги. Заплатили ему тогда шестьдесят долларов, и это еще было дешево, потому что лекцию пришлось готовить совершенно заново: дело касалось истории сельского хозяйства, о которой он не имел ни малейшего представления.
Он съел сандвич с копченым тунцом, торопливо проглотил порцию неразбавленного виски и облачился в кожаное пальто, меховые рукавицы и плюшевую кепку, под которыми личность ученого и философа скрылась почти без остатка. Остаток — короткая каштановая бородка, веселые карие глаза и пунцовый нос — скорей напоминал деревенского коновала.
Пиони напутствовала своего воителя: — Ну, будь умницей. Ключ не забыл? Хорошенько закутай шарфом шею. И не вздумай привезти домой какую-нибудь блондинку, а то я ей тут же глаза выцарапаю. Ах да, где те десять долларов, которые ты мне хотел оставить? Пожалуй, я еще до закрытия магазина успею купить себе серебряные туфли. Нет, нет, не стоит расстегиваться, я куплю в кредит. Обожаю покупать в кредит. Смотри, милый, замедляй ход на поворотах, и, пожалуйста, когда будешь говорить про типичную мартовскую кошку, назови ее «Мэйми», а не «Мэгги», а то помнишь, какой скандал тебе устроила одна живая Мэгги в Клинтоне? Ну, счастливого пути, миленький.
Закуривая сигару и включая мотор, декан Плениш говорил себе:
«Такой золотой женушки не было ни у одного мужчины со времен… — Он замялся. — Со времен Цезаря? Лорда Альфреда Теннисона? У. С. Гранта?[56]
Такой золотой женушки еще вообще ни у кого не было», — решил он наконец.
Он плавно, как по рельсам, катил по серой, открытой всем ветрам прерии. Его машина казалась маленькой проворной букашкой, затерявшейся в этих беспредельных просторах. Он думал о молодых людях, побывавших сегодня в его кабинете, о свеженьких девушках — впрочем, куда им всем до Пиони, — о получаемом жалованье, о том, как приятно было бы жить в Нью-Йорке и держать шофера, об ученом-исследователе, про которого профессор Икинс рассказывал, будто ему платят 750 долларов за лекцию, о том, что когда-нибудь он купит Пиони кровать, выкрашенную под слоновую кость, с резными позолоченными амурчиками, и, между прочим, о своем сегодняшнем выступлении.
Сегодня он искусным образом сочетает пикантные доказательства развращенности современной молодежи с утверждением, что она ничуть не развращена, и свою беседу назовет «Родители, все зависит от вас».
Десять миллиардов акров степных пространств проплыли мимо, пока наш профессор уютно предавался размышлениям:
«Не забыть бы выражение «мартовская кошка» приберечь к концу рассказа о туристском лагере, причем весь эпизод подать как можно тактичнее, чтобы никто не догадался, что речь идет о противозачаточных средствах. Ну, а потом произнести, с расстановкой и легким повышением голоса, вот так: мартовская КОШ-КА.
«Ах, чертов дурень! Что у него, глаз нет, что ли? Чуть не своротил меня в канаву, деревенщина!
«И совсем она не толста. Просто у нее хорошая фигура.
«А спальню в нью-йоркской квартире обставить по ее вкусу: резная кровать, шикарный туалетный стол, зеркало в целый дом величиной и всякие там баночки, скляночки, кремы, помады. Приятно будет все это устроить так, чтобы она не знала, а потом преподнести ей сюрприз… Но, но, док, не завирайся! Как будто ты не знаешь, что тебе и сунуться не дадут в отделку и меблировку комнат. Ну и что ж из этого! Так и должно быть. Я ученый, оратор, мастер слова, но по части энергии и изобретательности она мне сто очков вперед даст. Ах, с каким бы удовольствием я ее сейчас поцеловал!
«Хм! Из штата Миссури, по номеру видно. Что это его сюда занесло зимой? А хороша машина! «Ла-Салль», кажется. Ну и ход, черт возьми!
«Разъяснить, что внешняя распущенность еще ничего не значит, самое важное — способна ли молодежь, даже если она временно увязла в 1 рясине Порока, выйти на широкий путь единения с интеллектуальными лидерами (вроде меня)? И преподнести это в патетическом тоне: молодежь с развевающимися знаменами; а комья грязи на одеждах — лишь знак, что они побывали в этой самой — как ее? — трясине и сумели из нее выбраться. Побольше пафоса.
«Значит, на этой неделе, считая с сегодняшним, лишних сто долларов. Ого! Ну что ж, это по заслугам. Много ли есть лекторов, которые так умеют обработать аудиторию, как я? «Вот доктор Плениш — он все на свете знает, и притом кристальная душа. Честное слово, ему больше ничего и не нужно, только уверенность, что он вносит свою лепту в дело нравственного прогресса». Пусть ее покупает хоть три пары серебряных туфель, на здоровье!
«Ах ты, черт, вот уже и город виден. Неплохо. Я все — таки умею водить машину. Эти мальчишки-студенты, им лишь бы гнать во всю мочь. А на больших расстояниях решает опыт и выдержка.
«Любопытно все-таки, неужели кто-нибудь из студентов на самом деле проделывает то, о чем я говорю в своих лекциях?»
Нью-Ипсвич в штате Айова был в точности похож на Чикаго, только площадь в двести пятьдесят раз меньше, а отель Эмпайр в Нью-Ипсвиче был в точности похож на самые шикарные чикагские отели, только номеров вдесятеро меньше. Это было четырехэтажное здание из красного кирпича, отделанное серым известняком; вестибюль его был украшен росписью, изображавшей Ришелье, выхваляющего перед Людовиком XIII достоинства Новой Франции.
Упсальско-Пилигримское торжество должно было состояться в бельэтаже, в банкетном зале Бурбон-Ройяль, при котором имелась своя раздевалка, носившая название Фойе Помпадур. Но декан Плениш не счел возможным явиться в эти парадные апартаменты в затрапезном виде. Еще внизу, в общей раздевалке, он снял свое кожаное пальто и плюшевую кепку, там же приложился к карманной фляжке накладного серебра, расчесал волосы и бородку небесно-голубым карманным гребешком и оседлал нос золотым пенсне на широкой черной шелковой ленте. В оправу пенсне было вставлено простое стекло.
По лестнице, ведущей в бельэтаж, он взбежал уже настоящим маэстро, который не спасует ни перед идеологическими проблемами, ни перед крокетами из курицы.
Он сразу на глаз определил председательницу собрания. Без сомнения, это вон та остроносая, худощавая дама, которая то и дело меняется в лице от волнения. Декан прошествовал прямо к широким дверям банкетного зала, у которых она стояла с целой свитой раздающих программы дам, протянул руку и на самых своих бархатных нотах промурлыкал:
— Миссис Уиглмен? Я доктор Плениш.
И теперь можно было считать, что его часть обязательств в основном выполнена: он явился, он не опоздал, он был трезв, он был одет подобающим образом и даже не позабыл дома галстук — осталось только пообедать и произнести речь.
Он был не из тех конфузливых застольных ораторов, которые нервно ковыряют вилкой фруктовый маседуан, трясущейся рукой принимают чашку кофе и испуганно косятся на соседок справа и слева; не из тех, которые на вопрос, не жарко ли им, отвечают: «Леди и джентльмены!» — и все время томятся сомнением, сколько папирос можно выкурить без риска прослыть подверженным пороку. Декан Плениш ел с аппетитом и весьма одобрил пломбир-сюрприз, поданный на сладкое. Миссис Уиглмен, председательнице, своей соседке справа, он сказал, что да, безусловно, кино оказывает тлетворное влияние на молодежь. После этого он повернулся к соседке слева и сказал, что да, безусловно, кино развивает воображение и способствует улучшению манер у молодежи.
Все это он проделал наполовину автоматически.
Он не почувствовал волнения, даже когда миссис Уиглмен взяла слово, чтобы представить его собравшимся. При этом оказались нарушенными оба основных требования, которые докладчик предъявляет к вступительному слову: чтобы оно длилось не более сорока секунд и чтобы имя докладчика было произнесено без ошибок. Злополучная миссис Уиглмен ворочала своим неподатливым языком ровно две минуты и сорок три секунды по часам доктора Плениша и вместо «декана» назвала его «профессором». Но когда она, наконец, в изнеможении опустилась на место, продолжая еще верещать что-то себе под нос, он встал, элегантным жестом поправил бутафорское пенсне и уверенно повел свой самолет в заоблачные выси интеллектуализма.
— Госпожа председательница, преподобный отец, друзья мои, леди и джентльмены! Мы вправе усмотреть счастливое предзнаменование в том закономерном и утешительном обстоятельстве, что потомки первых янки, моих суровых, но благородных предков, сошлись здесь сегодня с сынами и дочерьми великого шведского народа и что мне выпала честь беседовать со всеми вами по столь животрепещущему вопросу, как вопрос о Современной Молодежи, ибо что может послужить лучшим залогом единения двух титанических рас, нежели свойственная обеим рачительность в деле воспитания потомства?
Он бросил свою смятую салфетку на истерзанную скатерть, напоминавшую географическую карту, и по — настоящему ринулся в полет. Его способность парить, оставаясь в одной плоскости со слушателями, была первым показателем его искусства, так как обычно «сила убедительности докладчика прямо пропорциональна числу футов, возвышающих его над аудиторией.
Ровно через шестьдесят две минуты он приземлился, испытывая легкое головокружение, и тотчас же вокруг закричали, захлопали, застучали по столам. Он наслаждался успехом, но при этом не забывал о подлинном кульминационном пункте вечера, который еще был впереди.
Каждый профессиональный лектор, будь он вдохновенный трибун, юморист или путешественник, должен придерживаться золотого правила: чек получать, не выходя из зала, иначе завороженные вашим искусством устроители могут позабыть прислать вам его на дом. Поэтому, обменявшись рукопожатием с сорока семью леди и пятью джентльменами, доктор Плениш повернулся к миссис Уиглмен и сказал тоном веселой шутки:
— Я, пожалуй, могу сэкономить вашему комитету расходы на почтовую марку, если захвачу чек с собой.
Миссис Уиглмен была явно шокирована, но все же, когда он спустился вниз, чтобы облачиться в свое кожаное пальто, чек уже покоился у него в бумажнике.
Теперь он чувствовал усталость. Весь обратный путь до Кинникиника он проделал в оцепенении, которое только дважды прервала живая мысль: один раз он отметил, что пошел снег, а другой — подумал о том, что надо будет поискать для Пиони не слишком дорогой пояс из змеиной кожи.
Когда он вошел, она спала, свернувшись на новой, обитой пестрым кретоном кушетке, но тотчас же встрепенулась, вскочила и поцеловала его.
— Ну, как речь? — спросила она. — Конечно, чудно, как всегда? Я тебе приготовила горячего бульону. А чек получил?
12
Мистер А. Дж. Джослин был в свое время и провинциальным учителем, и провинциальным банкиром, и редактором провинциальной газеты. Теперь он был владельцем превосходной типографии в Де-Мойне и издавал двухмесячный журнал «Сельские школы для взрослых», слава о котором доходила до самого Саскачевана, хотя экземпляры его редко попадали дальше Осцеолы.
Мистер Джослин дважды присутствовал на вдохновенных выступлениях декана Плениша и в январе 1927 года обратился к нему с просьбой написать для журнала несколько статей. Плата — два цента слово. Предложение это поступило как раз в тот момент, когда декан и Пиони разбирали свои рождественские счета. На этот раз Пиони сама набралась смелости их подытожить и теперь охала:
— Прямо не верится! Тут какое-то колдовство — выходит, что у нас семьсот долларов долгу.
Они посмотрели на письмо мистера Джослина, посмотрели друг на друга, и Пиони взяла мужа за лацкан, привела его в угол гостиной, именовавшийся «кабинетом», указала на пишущую машинку, а сама пошла приготовить ему коктейль и сказать по телефону владельцу мебельного магазина, чтобы он все-таки прислал ей тот кожаный пуф.
Через три часа у декана была готова статья об укрупненной сельской школе как подготовительной ступени к колледжу. Мистер Джослин принял статью и выслал чек на 52 доллара 60 центов, декан переписал чек на Пиони, а Пиони пошла и купила часы на камин — имитацию французской имитации фарфора. Две недели спустя декан составил остроумное наставление студенткам колледжей относительно преподавания в сельских школах; он получил 63 доллара 44 цента, и Пиони заплатила долг в красильню и купила пресмешную вещицу — художественно оформленную карту Айовы, на которой Джек-победитель великанов взбирался по кукурузному стеблю в сорок футов высотой, а в реке Де-Мойн резвился Нептун со свитой дельфинов.
Все это вдохновило декана сочинить статью подлиннее, о лучших книгах сезона (для этого ему пришлось прочесть все до одного объявления в воскресном выпуске нью-йоркской «Геральд тайме») и об обслуживании сельских жителей книгами из студенческих библиотек. Очередной чек — на 93 доллара 88 центов — Пиони, не разменяв, отнесла в банк. Оба они были в восторге от того, как ловко справляются с долгами, и декан, воодушевившись, накатал фантастический этюд о полной возможности для сельских батраков учиться в колледже, одновременно зарабатывая себе на жизнь.
Чек был всего на 25 долларов 94 цента. Пиони пошла и заказала новый автомобиль бьюик, и внесла задаток, и на этот раз, когда она подсчитала долги, итог составил 1 687 долларов 79 центов.
— Просто не понимаю, как это получается, — плакалась она.
— Пожалуй, тебе нужно прекратить покупки, хоть на время, — волновался декан.
— Ой, миленький, не сердись, не бей меня!
— Не буду. Но нам обоим следует сократиться.
— А я только что написала заказ на английскую корзинку для провизии, с серебряными замочками. Что ж, значит, придется разорвать письмо.
— Нет, нет, моя радость, не нужно. Она так подойдет к новому автомобилю. Но после этого непременно сделаем перерыв.
— Гидеон! А почему тебе не написать в «Сельские школы» статью о том, как экономить, живя на ферме?
— Я, собственно, не бывал на фермах…. Но статью я напишу.
— Ура! Вот все и разрешилось. А ведь это я придумала, верно?
В середине марта, когда в Кинникинике шло распределение курсов на следующий учебный год, мистер А. Дж. Джослин написал декану, что увольняет редактора «Сельских школ», который совершенно не справляется с публичными выступлениями, и не согласится ли декан занять его место. Вознаграждение (слово, которое в ходу среди учительской аристократии и редакторов — дилетантов и означает «плата», точно так же как плату лекторам называют «гонораром»), вознаграждение — 4 200 долларов в год.
Как декан он получал 3 800, и хотя совсем недавно тесть прислал ему чек на 500 долларов (с приложением сердитого письма), у него было около 1 200 долларов долгу. Он поспешил домой, к Пиони; они посовещались полчаса; декан по междугородному телефону дал согласие, а затем отправился с официальным визитом к ректору Буллу, спросить его совета, следует ли давать согласие.
Кудри Т. Остина Булла совсем поседели, хоть и выглядели по-прежнему эффектно, а лицо покрылось морщинами от административных забот.
«Бедняга, ему уж, наверно, за пятьдесят», — подумал декан. Преисполненный снисхождения к этому серенькому школьному учителю, которому никогда не предложат перебраться в Де-Мойн и занять ответственный пост, декан закончил свою речь так:.:.
— Разумеется, предложение это очень почетное, и я, возможно, смогу принести там еще больше пользы, поскольку буду распространять идеи просвещения среди тысяч, а не среди нескольких сот человек, как здесь. Но превыше всего я ценю лояльность, и если вы сумеете убедить совет попечителей повысить мой оклад с трех тысяч восьмисот до четырех с половиной, я еще подумаю и, может быть, останусь.
Ректор не стал тратить лишних слов.
— Я очень рад, что вы зашли, декан. Я сам хотел повидаться с вами до того, как мы утвердим штаты на будущий год. Откровенно говоря, мой вам совет — соглашайтесь.
— Как?
— Откровенно говоря, боюсь, что вы исчерпали свою полезность на ниве просвещения.
— Как?
— Вы хороший оратор, студенты вас любят, и вы ввели кое-какие интересные новшества — курс русского языка, музыкальная гильдия, запрещение изводить новичков. Но и русский и гильдия завяли на ваших глазах, а вы и пальцем не шевельнули. Вы, в сущности, не руководитель, вы прожектер, и прожекты ваши не всегда удачны. Вы мечтатель и даете своим мечтам растворяться в облаках дыма. Вы и бываете-то здесь немного. 1 ак что, пожалуй, это будет лучше для обеих сторон, и мы можем расстаться с самыми добрыми чувствами.
Ректор Булл поднялся с места и с улыбкой популярного актера или бывшего популярного священника протянул декану наманикюренную руку; но декан, несмотря на долголетнюю практику общения с учеными коллегами, не мог заставить себя улыбнуться.
Пиони сказала:
— Я давно этого ждала. Он просто завидует твоим докладам и с удовольствием сам получал бы твои двадцатки и пятидесятки. Я очень рада, что мы уезжаем, и надеюсь, что никогда не вернусь в эту дыру. Ненавижу Булла, и миссис Булл, и Теклу, и ее надутого папашу, и всех, кроме Эдит Минтон, — она меня никогда не любила и не скрывала этого. Вперед! Двинулись!
Так Гидеон Плениш твердо ступил своей толстенькой ножкой на путь, уводивший через гнилое болото учительства и холодные ветры редакционной рутины к миражам заоблачных высей, в славный мир комитетов, конференций, организаций и лиг, претворения в жизнь идеалов, и формулирования общественного мнения, и формирования и информирования общественного мнения, и нахождения наибольшего общего знаменатели: для мнений всевозможных оттенков…
В мир демагогических лозунгов, и либеральных мыслей, и штампованных фраз о демократии, и системы свободного предпринимательства, и необъятных армий, и необъятных империй, и необъятных кампаний по сбору средств, вперемежку с необъятными телеграммами о неизбежности кризиса и необъятными петициями конгрессу о политическом положении в Чили или Иране, в мир идеологических расхождений и идеологической войны, где «идеологией» именуется все, к чему не приложим» слова «необъятный» и «кока-кола», и где велика потребность служения, и необходимость обсуждения, в мир конституционных мер, и платформ, и девизов, и кризисов, несчетных кризисов, почти ежедневных кризисов, и насущных интересов, и духовных идеалов, и защиты домашнего очага, и директив, и язв нашей цивилизации…
В мир твердых убеждений, и исключительных событий, и исключительных личностей, и логики событий, и необходимости действовать без долгих разговоров, и ловить приливы и отливы истории, и противостоять давлению влиятельных организаций и групп, и организовать это давление, и укреплять нравственность, и опираться на принципы, и соглашаться в принципе, и изучать реакцию рядового избирателя, и проводить просветительные кампании…
В мир проспектов и воззваний о пожертвованиях, и циркуляров, отпечатанных в три краски и затейливо сложенных, — откройте картонную дверцу и узнаете, в чем суть, — и юбилейных банкетов, и учредительных банкетов, и круглых столов, и столов президиума, и микрофонов, и пресс-ассоциаций, и дрянной акустики, и «зон слышимости» в зале…
В мир организованной филантропии и взывания к лучшим чувствам, и счастливой возможности давать, и духовных благ, в этом заключенных, и необходимости давать немедленно, и давать побольше, и давать планомерно, и давать систематически, и распределения полученных даяний, и почтовых переводов — распишитесь на второй строчке, — и щедрых откликов, и неслыханного множества откликов, и радости давать, и святой обязанности давать и давать, пока хватит сил у дающего, и не давать, пока хватит сил у служащих организации…
И Условий и Положений, Условий и Положений в рейхс-канцеляриях Центральной Европы, Условий и Положений в Вашингтоне, и в АФТ,[57] и в КПП, и информации из осведомленных кругов, и фактов, все новых и новых фактов об Условиях и Положениях, чтобы их могли обсуждать с 8 вечера до 1.30 ночи узкие группы специалистов по международным вопросам, обсуждать Условия и Положения снова, и снова, и снова, и снова, и…
В мир учредителей, и филантрёпов, и преподобных дельцов, и ответственных администраторов, и ответственных секретарей, и почетных председателей, и директоров просто, и коммерческих директоров, и директоров — распорядителей, и поручителей, и попечителей, и консультативных советов, и национальных центров, и чикагских центров, и отделений, и филиалов, призывов к прессе, и необходимо привлечь широкое внимание к беспримерным нуждам этого великого дела, и вы, несомненно, найдете возможность поместить в иллюстрированном приложении этот портрет мисс Вив де Вир в купальном костюме, с кружкой для пожертвований в руке и, может быть, добиться пятиминутной передачи по радио, и выступления д-ра Гешвигхорста перед студентами всех колледжей нашей необъятной страны с речью о настоятельной необходимости давать, и об Условиях и Положениях…
Туда, в этот земной рай, карабкался новый Духовный Руководитель, чей свежий и звонкий голос должен был убедить филантрёпов давать, пока хватит сил, а ему принести возможность обеспечить свою жену Пиони сандалетами, и абонементом на симфонические концерты, и пятифунтовыми коробками конфет, и своей неубывающей любовью.
Он больше не был Деканом, но Доктором Пленишем он остался навсегда. Это было его имя: Доктор, и как таковой, подобно всем Полковникам, всем Докторам Богословия, всем Докторам Медицины, всем Монсиньорам, всем Раввинам, всем Геррам Гехеймратам,[58] всем Судьям, всем Лордам, всем Губернаторам, он был вознесен столь высоко, что являл собою уже не просто человека, а Звание.
13
— Когда переедем в Де-Мойн, снимем квартиру в большом доме. Я всегда мечтала жить в большом доме. В этом есть что-то столичное, — сказала Пиони.
— А не лучше ли нам снять отдельный домик, с садиком, где Кэрри могла бы играть целый день? — возразил доктор Плениш. — Право же, лучше! Мы снимем домик.
Они сняли квартиру.
Условия найма, как восторженно уверяла Пиони, были необычайно выгодны: всего пятьдесят долларов в месяц квартирной платы, хотя, правда, ремонт за счет жильцов; а главное, вся кинникиникская обстановка удивительно подходила к этой квартире. Синий китайский ковер, чиппендэйлевский китайский шкафчик, французские фарфоровые часы и кожаный пуф словно нарочно были сделаны для этой веселой, солнечной квартирки с застекленной верандой и электрическим камином — и невысоко, всего второй этаж. А расходы потребовались самые пустяковые: оклеить стены обоями в бледно-желтых тонах, отскоблить и покрасить полы, покрыть белой эмалью окна и двери, сменить кое-где прогнившие рамы и купить новый электрический холодильник — настоящую игрушечку, по беспристрастному отзыву Пиони.
Папаша Джексон поворчал немного, но выслал еще один чек.
В честь их переезда в Де-Мойн, совершившегося в июле, мистер А. Дж. Джослин устроил званый обед. Мистер Джослин был небольшого роста нервический джентльмен с живыми глазками и постоянно приоткрытым ртом. Обед состоялся в отдельном кабинете отеля «Граф Фронтенак»; к русской водке из Айовы подавали русскую икру с Миссисипи, а в числе гостей был один редактор отдела светской хроники и один член конгресса, а также глава среднезападного представительства крупной тракторной фирмы, который спел: «Выпьем за Гидди, дружка дорогого, он пьяницей будет не хуже другого».
Мистер Джослин выразил надежду, что вдохновенный гений, высокие гуманистические идеалы и неутомимая энергия нового редактора сделают «Сельские школы для взрослых» настольной книгой во всех гостиных от Калиспелла до Падуки.
После этого он отозвал доктора Плениша в сторону и объяснил, что забыл дома бумажник, так не может ли доктор одолжить ему до завтра пятьдесят долларов? (Впрочем, назавтра он, по-видимому, забыл об этом обстоятельстве.)
Так чета Пленишей вошла в русло элегантной, шумной и полной блеска столичной жизни.
— У тебя душа сельского жителя. Подозреваю, что ты охотно предпочел бы простой коттедж нашей чудненькой квартирке. Тебе бы нравилось подстригать газоны, выравнивать дорожки. Ты любишь землю, хоть она и пачкает. Ты родился в большом городе, не то, что я, но во мне есть эта городская жилка, а в тебе нет. Но это ничего, я еще сделаю из тебя самого настоящего горожанина, — говорила Пиони ласково, но решительно.
И, освободившись от постоянного соглядатайства студентов, став хозяином собственного времени, живя среди людей, причисленных Пиони к разряду заслуживающих знакомства — обладателей трех автомобилей, мужчин и дам, для которых Pension des deux Mondes в Каннах был таким же привычным местом, как для них самих — кафе-кондитерская Чарли, доктор Плениш стал находить вкус в городской цивилизации. Или, во всяком случае, он радовался тому, что в ней находила вкус Пиони… Правда, в кругу их знакомых не было пока ни одного обладателя трех автомобилей и кофров с иностранными ярлыками. Но они твердо знали, что рано или поздно будут плескаться в бассейнах для плавания вместе с миллионерами и с виднейшими общественными деятелями. Что же до Возможностей Большого Города, как выражался доктор, то это с первого дня было к их услугам.
Каждый вечер они могли пойти в любое из десятка городских кино или в любой из десятка ресторанов, среди которых был даже один с сафьяновыми диванчиками в нишах на парижский лад. Днем и ночью они могли слушать автомобильные гудки, радио, чужие любовные ссоры и стук клепальных молотков. Могли бродить по универсальным магазинам, таким огромным, что там никогда нельзя было найти то, что нужно. Могли, развернув газету, прочитать, что в этом самом городе, за каких-нибудь двадцать кварталов от них, настоящий живой художник устраивает пирушку в своей мастерской, что m-me Фитцингер, из Нью-Йорка и Штутгарта, открыла детскую балетную студию, а мистер Эдвард 3. Матц с супругой дают целую серию балов по случаю помолвки своей дочери, каковое событие позволило, видно, мистеру Матцу с супругой облегченно вздохнуть.
Итак, доктор и миссис Плениш делали успехи в духе лучших американских традиций: они переселились из маленького города в больший, у них завелось гораздо больше гораздо менее близких знакомых, особенно если считать всех трамвайных кондукторов, у которых им приходилось брать билеты; у них слегка увеличился доход и значительно возросли расходы. А потому Пиони теперь все чаще распевала песенки, а у Кэрри появилась к зиме новая шубка из белого поддельного меха, и только доктор Плениш сохранял несколько растерянный вид.
Его деятельность в качестве редактора «Сельских школ для взрослых» развертывалась не совсем так, как ему рисовалось. Он думал, что будет проводить время в чтении увлекательных рукописей, в интервью с газетными репортерами, интересующимися его взглядами на политику и на американскую женщину, и — вместо утомительных разговоров с мужланами-студентами — в элегантных беседах с остроумными и благодарными за внимание авторами.
Но авторы оказались довольно косноязычными субъектами, они постоянно приставали насчет платежей, не умели рассказать ни одного анекдота из своей жизни, который мог бы послужить материалом для рекламы, однако же настойчиво этой рекламы требовали. К своему великому огорчению, ему пришлось убедиться, что все они непомерно тщеславны, чудовищно завистливы и большей частью имеют довольно жалкий вид.
Куда более поучительно было разговаривать с наборщиками и стенографистками.
У своего помощника — пожилого человека, который сам давно сделался бы редактором, если бы не хронический запой, — ему пришлось терпеливо учиться томительной технике журнального дела: как определить содержание рукописи нюхом, не утомляя глаз; как втиснуть заметку размером в тысячу слов в место, рассчитанное на восемьсот; как выбрать статью для передовицы и в присутствии сумрачно дожидающегося наборщика переделать ее заголовок, а самое главное — как добывать фото для иллюстраций. Обычно он звонил рекламному агенту какой-нибудь фабрики или железной дороги и обещал ему гарантированный сбыт по меньшей мере десяти молотилок или покрытие 10 тысяч человеко-миль.
Особое внимание пришлось уделить изучению списка запретных тем, а также законов о клевете в печати. Выяснилось, что есть целый ряд предметов, о которых можно говорить только в уважительном тоне: материнство, охота на уток, ХАМА, Армия Спасения, католическая церковь, раввин Уайз, американский флаг, кукуруза, Роберт И. Ли,[59] карбюраторы и дети до одиннадцатилетнего возраста.
Все эти тайны ремесла были постижимы, и доктор постиг их; смущало его другое: он ни разу не получил больше чем половину своего солидного оклада.
Мистер Джослин разъяснял, что он тут не виноват: он гораздо сильней жаждет выписать чек на полную сумму, чем доктор и миссис Плениш получить этот чек. Виноваты наборщики, которые требуют, чтобы им каждую неделю выдавали жалованье; виноваты аионсодатели, которые не торопятся платить по счетам; виноваты бумажные фабриканты, столь несговорчивые в смысле кредитов; виноваты паразиты-подписчики; одним словом, виноваты все, кроме самого издателя.
Когда наконец наступал день платежа, мистер Джослин выкладывал доктору кучу смятых банкнот, долговых расписок, полученных от владельцев отелей в виде платы за объявления, нарядов на классные доски и кое-когда, в виде особой редкости, один серебряный доллар.
Впервые за время своей супружеской жизни чета Пленишей познала настоящие тревоги: хозяин преследовал их требованиями квартирной платы (50 долларов в месяц), бакалейщик на углу отказывал в кредите, а прислуга обнаглела до того, что пришлось заложить ручные часики Пиони. Доктора объял ужас. Пыл и вера Пиони были ему даже нужнее, чем хороший бифштекс к обеду, которого он давно уже не получал и который неотступно стоял перед его глазами в особенно голодные дни. И он еще сильнее страдал оттого, что и Пиони не получала этого сочного подрумяненного куска мяса. Но она ни в чем не упрекала его.
Она пробовала шутить: — Хороши мы, нечего сказать! Провинциальная парочка приехала в большой город искать хорошей жизни! Одна бутылка молока в доме, и ту нужно придержать для этого несчастного, вечно пищащего птенца — Кэрри. Ох, Гидеон, золотко, боюсь, это я во всем виновата. Слишком я жадная!
Она уткнулась ему в плечо и заплакала, время от времени поглядывая на него с жалобным видом напроказившей девчушки. Он поцеловал ее, и она затихла, только изредка потихоньку всхлипывала.
«Она виновата? — думал он, — она жадная? Господи, да она единственная живая душа на свете, которой совершенно чужда жадность. Ладно, он не он, если у нее не будет собственного дворца на Лонг-Айленде с мраморным бассейном для плаванья!»
На этот раз доктор сам написал Уипплу Джексону письмо, приложив к нему подписанный вексель, и вскоре у них опять появились бифштексы к обеду и сухой «Мартини».
Несмотря на половинный оклад, доктору все же нелегко было расстаться с «Сельскими школами для взрослых». Скромная честь быть настоящим редактором льстила ему, а кроме того, он, бывший декан и профессор, теперь невысоко котировался на рынке труда.
От ректора Т. Остина Булла вряд ли можно было ожидать особенно пылких рекомендаций, да и товар был не сезонный; лишь в конце зимы придет время рабам — философам стоять на упомянутом рынке, а попечители и ректоры различных колледжей станут проверять крепость их зубов, желудка и консервативных убеждений.
Так случилось, что доктор снова вернулся к коммивояжерской деятельности разъездного лектора.
На этот раз он обнаружил профессиональный подход к делу. Вместо того, чтобы полагаться на болтливые розовые записочки, которые Пиони рассылала различным комитетам, он препоручил себя, свою бородку и свое вдохновенное красноречие заботам некоей скромной особы, являвшейся агентом по устройству публичных лекций и не гнушавшейся приглашения от Лицея имени Костюшко[60] или Женского Клуба. Особа эта питала слабость к решению кроссвордов и среди собратьев по профессии была известна под кличкой «Саламандра».
Под ее умелым руководством доктор составил целую программу аттракционов, из которой каждый комитет волен был выбирать себе номер по вкусу:
У. Дж. Брайан — Святой Воитель
Не будьте Мартовской Кошкой
Молодежь — наша надежда
Опасный возраст
Домашнее образование для взрослых
Как удержать молодое поколение дома
Преимущества и недостатки колледжей
Должны ли девушки учиться в колледже?
В какую школу отдать своих детей?
Ответ на последний вопрос гласил: «В ближайшую». Эта лекция, согласно описанию, продиктованному Саламандрой, сулила слушателям «шестьдесят одну минуту веселья, расширения кругозора, остроумных шуток и здравых советов выдающегося педагога-профессионала». Перечень тем, украшенный фото самого доктора Плениша, с улыбкой косящегося на ленту своего пенсне, был увековечен в особом проспекте и разослан всем потребителям культурных ценностей. Когда этот проспект показали Кэрри, уже достигшей четырехлетнего возраста, она так долго и весело смеялась, что родителям это показалось подозрительным.
В течение всей зимы доктор Плениш из каждых шести недель две проводил на трудном пути странствующего лектора.
В 5.00 утра он приехал в Уошаут, в 5.45 пересел на другой поезд, тащился два часа в насквозь пропыленном сидячем вагоне и в 7.37 прибыл в Наполеон. Веки у него слипались, в горле пересохло от пыли, и самая радужная надежда, которую он возлагал на молодое поколение, была, что когда-нибудь оно подрастет и перестанет быть молодым.
На вокзале он был встречен делегацией комитета — три дамы и чей-то муж, — и его попросили минутку подождать, так как репортер и фотограф напутали и заехали не на тот вокзал. Сорок минут он провел на деревянной скамье в мечтах о кофе и в беседах о просвещении, все это время чувствуя взгляд чьего-то мужа, с ненавистью устремленный на его бородку.
В 8.17 решено было махнуть рукой на прессу, и чей — то муж повез доктора в отель. Охрипшим от усталости голосом доктор заказал по телефону кофе, сбросил все, кроме серых фланелевых подштанников — и бороды, — одним духом проглотил кофе, выставил посуду в коридор, чтобы пришедший за ней официант не побеспокоил его, уже полусонный, забыв запереть дверь и выключить телефон, повалился на постель, устремил равнодушный взгляд на картину, изображавшую «Маркизов на верховой прогулке с пажами» и в 8.58 спал мертвецким сном.
В 9.16 в номер без стука вторглись репортер и фотограф и весьма развеселились при виде подштанников доктора. Доктор, с трудом размыкая веки, нашел свой костюм и влез в него. Его усадили в кресло и велели подпереть висок указательным пальцем, и, когда вспыхнул магний, у него на миг мелькнула надежда, что в отеле пожар и это положит конец его мучениям.
Отвечая на вопросы репортера, доктор Плениш заявил, что считает Наполеон самым красивым городом во всем штате, присовокупив, однако, что в его родном штате Айова тоже есть красивые города; затем признал за женщинами полное право обучаться массажу, а также парашютизму, хотя и усомнился, могут ли эти ценные навыки заменить им счастье маленького уютного семейного очага; затем выразил мнение, что есть очень много студенток, которые остаются несоблазненными, и что президент Гувер[61] — еще более выдающаяся личность, чем президент Кулидж.
В 9.41, предусмотрительно заперев дверь, доктор Плениш снова лег и заснул. В 9.52 затрещал телефон.
— Угу, — невнятно пробурчал доктор в трубку.
— Держу пари, что ты не узнаешь, кто говорит.
— Д-да, пожалуй, действительно не узнаю.
— Ну говори, как жизнь течет?
— Спасибо, хорошо. Кто все-таки говорит?
— По твоему голосу не скажешь, что хорошо. Ты не пьян случайно?
— Нет, я не пьян. Кто это говорит?
— Так-таки и не догадываешься?
— К сожалению, не могу определить. Я не ожидал, что у меня в Наполеоне есть знакомые.
— Ну, конечно! Где уж нам, демойнским жителям, знаться с провинциалами!
— Да нет, совсем не в этом дело, но… Кто это говорит?
— Ну как ты думаешь?
— Ума не приложу.
— Ах ты, чучело гороховое, ведь это же Берт!
— М-м… Берт?
— Он самый.
— А кто это Берт?
— Господи помилуй! Твой кузен!
— Мне, право, очень совестно, но…
— Берт Твичинг, твой троюродный брат! Из Акрона!
— Троюродный брат… А-а… Скажите, а мы встречались когда-нибудь?
— Он еще спрашивает! У тебя что-от больших успехов память отшибло? Ты смотри, не шути с этим! Напоминаю: двадцать пять лет тому назад мы с папой проездом останавливались у вас в Вулкане — тебе тогда было лет десять или одиннадцать. Помнится, встретили нас не очень гостеприимно. Но я, знаешь, человек добродушный и незлопамятный. Ну, ну, ну, ну, чего же ты еще дожидаешься? Я ведь не могу целый день прохлаждаться в разговорах — меня язык не кормит, как некоторых. Живей нахлобучивай шляпу и беги ко мне в контору, так и быть, выставлю тебе бутылку.
— Боюсь, что сейчас не выйдет. У меня тут полно народу. Скажи мне свой номер, я тебе позвоню попозже. Или знаешь что-ты сегодня на моей лекции будешь?
— Конечно, нет! Думаешь, у меня на вечер другого дела не найдется, как только ходить на твои лекции?
Он позвонил телефонистке коммутатора, чтобы она больше никого с ним не соединяла; после этого ему удалось проспать до двенадцати. В двенадцать он встал, принял ванну, неумело выбранился вполголоса, так что брань вышла похожей скорей на жалобу, и сел за свою портативную машинку, писать передовицу для «Сельских школ». Он уже распорядился снова включить телефон, и ему несколько раз пришлось прерывать свое вдохновенное занятие, отвечая на звонки. Звонили: страховой агент, желавший знать, успел ли он уже подумать о своей жене и малютках-сыновьях, три юных репортерши из одного и гого же школьного журнала, неизвестная дама, вознамерившаяся осчастливить «Сельские школы» лирической поэмой во славу сухого закона, и еще другая дама, которая спросила: «Это Джозеф В. Снайдер?»- и, узнав, что нет, гневно осведомилась, почему.
Заходила в номер горничная, пришлепнула разок его подушку и попросила у него автограф для своего больного сыночка. Обрадованный доктор спросил, откуда она узнала, кто он такой. Выяснилось, что она и не узнавала. Он звался доктором и носил бороду, и из этих двух фактов у нее составилось смутное представление о нем, как о специалисте по удалению гланд.
В 12.49 безмолвный и неизвестно чей муж, встречавший его утром на станции, заехал за ним и повез его на завтрак Ассоциации Чулочных Торговцев, где ему предстояло выступить (бесплатно). Этого мужа после завтрака сменил другой, такой же сумрачный и недоброжелательный, и повез его в Мэплвуд-парк осматривать Хижину Пионеров (копня), седьмую за эти двенадцать дней.
От 3.30 до 8, то есть до начала лекции, его время, по счастью, оказалось незанятым, если не считать интервью со всеми тремя упомянутыми школьницами, поочередно пытавшимися выяснить, что он думает о просвещении, восемнадцати телефонных звонков, файф-о — клока, где он произнес пятиминутную речь, стоя под портретом Хью Уолпола с его собственноручной надписью, одевания к лекции и обеда на сорок персон — без коктейлей, хотя и в частном доме, во время которого ему пришлось разъяснять философию Плотина, которого он никогда не читал, хозяйке дома, которая его тоже не читала.
Устроителем его лекции был Дамский Клуб Текущих Событий при методистской церкви на Парсифаль-бульваре, и состояться она должна была в помещении церкви, а это значило, что нельзя будет выкурить папироску перед тем, как начать говорить, нельзя ни разу за всю лекцию чертыхнуться, нельзя упоминать об абортах и дамских подвязках, нельзя рассказать свой любимый анекдот о подгулявшем дьяконе и нужно выражать самые оптимистические взгляды на будущее Америки, которое сейчас, при двух неделях лекций в перспективе, рисовалось ему в мрачнейших тонах.
У бокового входа в церковь его встретила председательница клуба и пастор, преподобный доктор Баури, который пожал ему руку и прошипел:
— Вы нам оказали большую честь своим посещением, доктор. Позвольте, вы, кажется, были деканом Кинникиникского колледжа? Знаете ли вы профессора Ипопа из Боудоннского колледжа в штате Мэн, доктор?
— К сожалению, нет, доктор.
— Вы его не знаете, доктор?
Доктор Плениш отчетливо почувствовал, что это — серьезное упущение с его стороны. — Я с ним не знаком лично, но очень много о нем слышал. — Преподобный Баури все еще смотрел недоверчиво. — Я наслышан о нем с самой лучшей стороны. Большой ученый и настоящий джентльмен.
— Прохвост и пьяница, — сказал доктор Баури и подозрительно повел носом в сторону доктора Плениша.
Фотограф из местной газеты уже был тут и готовился к новой атаке, не потому, что газета или еще кто-нибудь жаждал увидеть портрет доктора Плениша, но просто потому, что, по глубокому убеждению любого комитета, лектор или докладчик не может приступить к делу, если предварительно не заставить его осоветь от чересчур обильной пищи, не истомить застольными речами и в заключение не ослепить магнием.
Между тем председательница выходила из себя, стараясь припомнить свое вступительное слово. Она кружила по ризнице, как сомнамбула, бормоча себе под нос:
— Который… которого… которому… которым…
Доктор Плениш схватил ее за плечо, тряхнул и крикнул ей в ухо:
— Перестаньте, моя милая, сейчас же перестаньте! Не заботьтесь о публике. Эти болваны должны быть счастливы уже тем, что такая женщина, как вы, вообще обращается к ним!
Она посмотрела на него с робким обожанием, и с этой минуты он был безраздельным хозяином ситуации и, худо ли, хорошо ли, дотянул привычную канитель до благополучного конца. Ровно в 9.17, ухватившись руками за края кафедры, устремив ясный взгляд на все эти нарумяненные щеки, красные шляпки и нафабренные усы и с удовольствием чувствуя себя центром внимания, он произнес свою заключительную фразу:
— Итак, друзья мои, надеюсь, мне удалось внушить вам мысль, что не искать совета и не дожидаться чуда должны мы, желая укрепить свою семью и обеспечить будущее своих детей, но лишь терпеливо, изо дня в день, поступать так, как мы считаем правильным.
Ему пришлось пройти через ритуал ответов на вопросы, включающий один неприятный момент — неизбежные придирки вездесущего коммуниста. После этого осталось только получить чек, и веселые поминки можно было считать оконченными.
Иногда за представлением следовал ужин. А иногда ничем не выдающиеся личности, которых он даже не заметил в зале, подходили и спрашивали, не желает ли он промочить горло, и везли его в частный дом, где он находил настоящий домашний бар и много пепельниц и, отведя душу в мужском разговоре, стряхивал с себя одурь эстрадного велеречия перед тем, как снова сесть в поезд и ехать дальше. Но сегодня, после церкви на Парсифаль-бульваре, нечего было надеяться попасть в подобный оазис, и, вернувшись в свой номер в отеле, он утешался созерцанием чека, который даже поцеловал, вынув из бумажника, и перспективой разговора с Пиони по междугородному телефону в одиннадцать часов — так у них было заведено, и он никогда не лишал себя этого удовольствия, разве что оказывался в этот час в поезде. Но и тогда он звонил ей, как только приезжал на место — в час ночи, в три часа, все равно. Она неизменно тотчас же просыпалась и радостно ахала, как будто меньше всего на свете ожидала услышать в трубке его голос.
Вот и сегодня…
— Хэлло, детка!
— О, Гидеон! Миленький! Откуда ты?
— Из Наполеона.
— Ну да! Чего ради тебя понесло в такое место?
— Ради восьмидесяти пяти долларов минус двадцать процентов Саламандре.
— Ах ты, моя куколка! Можешь считать, что они уже истрачены. Знаешь, Гидеон, я так по тебе скучаю, так скучаю. В доме так пусто без моего большого медведя, даже Кэрри не спасает, хоть и орет целый день. Как раз сегодня я сидела и думала: был бы ты здесь, пошли бы мы вечером бродить по городу и смеялись бы, как дураки, а потом зашли бы выпить чего — нибудь, а потом в кино и держались бы за руки в темноте. Скажи мне, миленький, как ты себя чувствуешь?
— Прекрасно. Даже горло ничуть не устало. Правда, не могу того же сказать о заде — знаешь, когда полдня приходится проводить в поезде…
— Фу, Ги-де-он!
— А ты как себя чувствуешь, детка?
— Чудно.
— А Кэрри?
— О, Кэрри просто дуся.
— Ну, надо кончать. Береги себя, моя радость.
— И ты себя береги.
— Обо мне не беспокойся, кошечка. Поцелуй Кэрри за меня. И, пожалуйста, береги себя, и… и… Ах ты, господи, как хотелось бы сейчас быть дома, с тобой! Ну до свиданья, детка, скоро увидимся.
Поезд уходил в 12.30, а в кино на последний сеанс уже нельзя было успеть. До двенадцати он просидел у себя в номере и, чтобы не заснуть, сначала читал журнал «Правдивые признания», затем взялся за биржевую страничку местной вечерней газеты, а после этого несколько раз перечел в том же номере интервью с собственной особой. И, наконец, наступила долгожданная минута, когда можно было запереть чемодан и крикнуть рассыльного, чтобы тот нес его вниз.
Позже, когда он раздевался в спальном вагоне, ему вдруг захотелось снова очутиться в Кинникинике, где каждый вечер он отходил ко сну в исполненном достоинства обиталище декана. Засыпая, он видел перед собой мирную картину обсаженного кленами двора, но вот уже проводник дергал его подушку, и пора было вставать и начинать все сначала, и он знал, что на вокзале уже дежурит очередной патруль культуры в составе трех милых, но решительных дам и чьего-то мужа, а может быть, и преподобный доктор Баури, скрывающийся под другим именем, а за каждой багажной вагонеткой стерегут школьницы-репортерши, и все ждут образцов его остроумия, будь оно проклято.
Он вернулся домой, к радости жены и к удивлению Де-Мойна, не заметившего, что он уезжал, и привез с собой целую кучу чеков, которые пестрым вихрем закружились в воздухе, когда он подбросил их перед восхищенной Пиони. До нового турне оставалось пять блаженных недель, и они решили, не теряя ни минуты, заниматься все это время любовью, играть с Кэрри, ходить по магазинам, пить коктейли и понемногу редактировать журнал — только чтобы не выгнали.
К следующему лету они уже имели на текущем счету тысячу сто долларов, выплатили все — почти все — за новую машину и новейший рояль и даже отложили некоторую скромную сумму для финансовых операций, предусмотрительно доверив ее солидной маклерской конторе. Ибо дело происходило в конце двадцатых годов, и благодаря своим познаниям в экономических науках, своей недюжинной прозорливости и силе воображения доктор и миссис Плениш предвидели экономический подъем,[62] который в ближайшие десять лет мог сделать их миллионерами.
— Не беда, что старый хрыч А. Дж. не доплачивает тебе жалованье, — щебетала Пиони. — Мы и без него получим свой мраморный бассейн.
Выбравшись из полосы финансового упадка, Плениши получили доступ в довольно высокие круги общества: консультанты по капиталовложениям, управляющие консервными заводами, директора средних школ, адвокаты, владельцы нотных магазинов и их жены, по большей части пожилые от рожденья. Они смотрели на доктора Плениша как на собственного представителя Интеллигенции, и у них он впервые познакомился с радостями игры в гольф, для которой завел себе короткие, мешковатые, шаровароподобные брюки, получившие свое название от этой игры.
— Наши дела опять пошли на лад, — щебетала Пиони. — Конечно, вся эта публика еще не бог весть что, но погоди, дай нам переехать в Нью-Йорк. Там мы будем водиться только с Рокфеллерами, с Мэри Пикфорд и с Николасом Мюррэй Батлером![63]
Один из их самых близких друзей в эту пору, владелец бензозаправочных колонок, недавно завел собственную радиостанцию. Он предложил доктору Пленишу в течение трех недель выступать по субботам у микрофона с речью, рассчитанной на пятнадцать минут, и даже платил ему по десять долларов за выступление.
Так доктор Плениш перестал быть старомодным школьным учителем, запертым в тесном классе с обшарпанной кафедрой, где ничего не изменилось за последние сто лет. Он сделался теперь хозяином последних достижений техники, владыкой эфира, утонченным и сверхсовременным, как безопасная бритва. Вместо жалких сотен слушателей, теснящихся в лекционном зале, каждое его слово слушали и воспринимали необъятные тысячные аудитории, которые скоро станут необъятными миллионными. Он осуществлял свое призвание, он облачался в ризы пророка, а он всегда знал, что эта одежда будет ему к лицу.
И чудодейные радиоволны со скоростью 186 тысяч миль в секунду несли во все концы поучения адепта обтекаемой философии, сообщавшего необъятным аудиториям, что читать библию похвально, что не в деньгах счастье, что только вчера оратор имел беседу с губернатором одного густонаселенного штата и что каждый сознательный гражданин должен участвовать в выборах — почетная обязанность, которую сам доктор Гидеон Плениш еще ни разу не удосужился выполнить.
14
В 1924 году в Америке вышла книга, которая, подобно «Капиталу», Шекспиру или корану, разбудила умы целого поколения и обогатила целую эпоху. То был труд мистера Брюса Бартона[64] «Человек, которого никто не знает», — трактат, доказывающий, что Иисус Христос был не бунтовщиком и не крестьянином, а светским человеком, добрым малым, пресс-агентом и основателем современного бизнеса.
Сие Послание к Бэббитам оказало на доктора Плениша воздействие, которого не понять буйным детям нашего века, больше интересующимся Гитлером и экспрессионизмом. Им не знаком тот благоговейный трепет, с которым доктор Плениш сказал:
— От мистера Бартона я узнал об этом самом писательском ремесле куда больше, чем от Уолтера Патера.[65]
Он доказал это, заведя в «Сельских школах» уголок юмора под названием «Корнфлекс и Рефлекс», который стал самой любимой страницей журнала. Здесь появился его очерк «Тяготы умственного труда» — маленький шедевр, который впоследствии цитировали чаще, чем какой-либо другой плод его вдохновения. Начинался он так:
«Стамески и молотки сами не прыгают в руку, — сказал столяр. — Так же и ваши книги не сползут сами с полок, чтобы забраться к вам в мозг. Не количеством прочитанных книг определяется ваше умственное развитие, но тем, как вы их читаете и перечитываете. Книги не выдают своих тайн человеку, который пренебрегает ими, не ведет с ними дружбу, не пытается склонить их на откровенность. Вошедшая в поговорку библиотека деревенского врача — Шекспир, да библия, да «Анатомия» Грея — достаточно богата для того, кто выкапывает из книги каждое слово, как самородок золота».
Этот изящный пустячок перепечатали многие журнальчики и журналы по всей стране, а отсюда его позаимствовало для заполнения свободного места несколько сот газет. Некоторые из них даже упомянули авторство доктора Плениша, и он стал получать письма, адресованные ему через самые разнообразные промежуточные инстанции — от мормонской «Манны», выходившей в Солт-Лейк-Сити, до департамента просвещения штата Алабама.
Одно из самых задушевных писем прислал ему преподобный Джеймс Северенс Китто, доктор богословских наук, пастор христианской церкви Абнера Джонса в Эвенстоне, штат Иллинойс, и президент знаменитого Хескетовского Института Сельского Образования в Чикаго.
Доктор Плениш знал его по переписке, но до сих пор не имел случая заглянуть в его румяную и приветливую шотландскую физиономию. Доктор Китто однажды сочинил для «Сельских школ» коротенький панегирик по поводу выхода нового иллюстрированного издания «Бен-Гура», классического произведения, которое, по его словам, не может устареть, так же как библия и алгебра Уэнтворта. В редакцию «Сельских школ» он написал, что ему даже неловко принять их щедрый гонорар в сумме 7 долларов 44 центов. Однако чека не возвратил.
А. Дж. Джослин как-то завтракал с доктором Китто в Чикаго и отзывался о нем как о человеке ученом, но простом в обращении, убежденном в том, что Кремль строит козни против деятельности сельских церквей в Небраске, Миссури и некоторых районах южного Иллинойса. Но доктора Плениша гораздо больше заинтересовало упоминание Джослина о том, что платные сотрудники Хескетовского Института Сельского Образования, известного всем профессиональным благотворителям как ХИСО, недостаточно используют обширные фонды института. Доктор Китто пригласил мистера Джослина осмотреть контору института, где они обнаружили только ответственного секретаря — старую деву по имени Бернардина Нимрок — и двух стенографисток, рассылавших красно-зеленые циркуляры для пополнения мусорных корзин нашей необъятной страны сведениями о преимуществах сельского просвещения с предупреждением, что если мусорная корзина не вышлет пожертвования немедленно, то здания всех школ, и мелких и крупных, будут обращены в кабаки.
По словам Джослина, старый Хескет, галантерейный король, владевший самой крупной сетью магазинов по продаже галстуков и других принадлежностей мужского туалета, завещал ХИСО три миллиона долларов, но институт не расходовал и половины процентов с этого капитала. Правда, он время от времени публиковал отчет со скудными цифровыми данными и выдал субсидию нескольким избранным школам, но все это делалось тихо, без надлежащего шума, сотрудники института попросту зарывали свои таланты в землю.
Доктор Кнтто, которому, как президенту, не полагалось жалованья, был занят другими возвышенными делами, и ему некогда было изыскивать новые способы тратить доходы института, а Бернардина Нимрок хотя и получала жалованье, но была слишком робка. И оба они, как с удивлением отметил доктор Джослин, были слишком ленивы, а может быть, слишком честны, чтобы устроить своих племянников, невесток, бывших любовниц и одноклассников на какую-нибудь малообременительную работу при институте, — вязать, переписывать стихи, разговаривать по телефону и пить чай.
— Эх. мне бы добраться до этих голубчиков! Я бы их там заставил позаботиться о порядочных людях… Да, кстати, док, эти две сотни, что я вам должен, к концу месяца я смогу их вам отдать, совершенно определенно, — сказал мистер Джослин.
Все это вспомнилось доктору Пленишу, когда он получил от преподобного доктора Джеймса Северенса Китто письмо с похвалами его очерку и с предложением войти в Совет директоров ХИСО и присутствовать на его Ежегодной Летней Конференции (Конференции, а не Съезде, ибо Съезд означает ревю с голыми хористками, незаконную выпивку и пение «С днем рожденья, милый Генри, милый Генри Гизенкамп», в то время как Конференция — это оголение лишь в интеллектуальном смысле).
Доктор Плениш принял приглашение и устроил свою, семейную конференцию с Пиони.
Ее отец почти каждый месяц бывал в Чикаго; в ближайшую свою поездку он там кое-что разузнал и написал доктору следующее:
«В Хескетовское заведение заходил, познакомился, даже завтракал в ресторане с добродетельной секретаршей Бенни: Нимрок. Я и не знал, что твой тесть такой сердцеед, она, бедняжка, совсем растаяла.
Мое мнение — не трогай ты ее, она воображает, что делает доброе дело — открывает городским жителям глаза на то, какая серьезная вещь сельские школы, и пытается помаленьку оказывать давление на конгресс штата, но если тебе обязательно нужно ее место — действуй, справиться с ней будет нетрудно, а ты, наверно, сумеешь развернуть здесь прибыльное дельце. Выяснил и, как ты просил, что, кроме преподобного Китто, нужно подъехать еще к одному проповеднику-преподобному Кристиану Стерну из Нью-Йорка, он ловкий политик, участвует во всех благотворительных лавочках и обязательно приедет в Чи на конференцию.
Еще я побывал на Северной стороне, заставил мою двоюродную сестру Люси угостить меня ужином и нарочно случайно познакомился с самим преподобным Китто, и, представь себе, разговор сам собой зашел о тебе, и я рассказал ему, что ты один из директоров этой самой турецкой петрушки и попечитель Общества английского языка или как оно там называется, и если б захотел, мог бы стать ректором Кинникиника. Взвинтил этого Китто до того, что он готов вручить тебе ключи от города, если у тебя есть охота туда ехать, зачем это тебе, не понимаю, я бы предпочел Фарибо, или даже Нортфилд, или Уинону.
Нимрокша получает всего 2 200, но я полагаю, что, ежели взяться с умом, можно выговорить 4 500. Ты не обижай Бенни Нимрок, устрой ей хоть пенсию, она ничего тетя, любит шашки и кошек, как и я грешный. Любящий тебя отец
У. Джексон».В точности неизвестно, Пиони или доктору Пленишу первому пришло в голову, что раз он так любит сельские школы со всем, что к ним относится, вплоть до жестяных умывальников, значит, его место в Институте Сельского Образования. Но не кто другой, как Пиони, по собственному почину слетала на воскресенье в Кинникиник. Возвратившись, она защебетала:
— Дорогой мой, могу тебе сообщить, что старик Булл решил прервать свой летний отпуск и поехать в Чикаго на Хескетовскую Конференцию, а Текла Шаум тебя по-прежнему любит, и она и ее папа — отныне члены — жертвователи ХИСО.
— Да ты о чем?
— Я сказала Буллу, что хоть ты и очень популярен среди бывших питомцев Кинникиника, но сам ты не одобряешь этой агитации за назначение тебя ректором…
— Какой агитации?
— …на его место, а он, как я и подозревала, член Хескетовского института, и обещал быть там в полном параде и поддержать твою кандидатуру на место ответственного секретаря. А Текле я сказала, что, честное слово, она была бы тебе куда лучшей женой, чем я, и что ты, кажется, сам так считаешь, и что… Ведь это неправда, Гидеон, правда? Я бы тебя убила, если б ты так думал! Скажи, что неправда! Ну хорошо. А теперь ступай к Джослину и пригрози ему, что, если он не приедет в Чикаго и не поддержит тебя вместе с Китто и доком Стерном, ты подашь на него в суд за неуплату жалованья. Я не шучу. Ну, мчись, дорогой.
Он помчался.
До начала ежегодной конференции Хескетовского института доктор Плениш узнал о нем все, кроме одной детали — зачем он вообще существует.
У всякой филантропической организации есть две тайны: кто ее настоящий хозяин и чем она занимается, если вообще занимается чем-нибудь, после того как заказана почтовая бумага с красивым печатным штампом и оборудован теплый кабинет, где главному администратору можно с удобством подремать.
В деловом мире термином «Институт» принято обозначать учреждение, которое целиком обеспечено за счет фонда, учрежденного каким-нибудь филантропом (то есть человеком, настолько богатым, что он не может истратить все свои деньги на дома и брильянты), и не рассчитывает на пожертвования, а, напротив, сам — правда, без лишнего рвения — оказывает финансовую помощь тем или иным особо удостоенным лицам или учреждениям. Бывает, однако, что организация называет себя институтом, не имея достаточно обширного или достаточно свободного фонда, и усиленно охотится за средствами, как всякая лига или комитет.
Хескетовский институт принадлежал к смешанному типу. Фонд у него имелся, но, кроме того, он предлагал людям благочестивым или мучимым совестью вступать в члены-жертвователи- 100 долларов в год, или даже в члены-учредители — 1 тысячу долларов наличными.
Смешанное впечатление производили и порядки института. Ни президент доктор Китто, ни председатель исполнительного комитета доктор Кристиан Стерн не получали ничего, кроме славы и мелочи на трамвай, и это, по мнению доктора Плениша, было естественно, но он с сожалением обнаружил, что институт не обеспечивает приличного прожиточного минимума даже ответственному секретарю — обыкновенному платному сотруднику.
Институт издавал тоненькими серенькими брошюрками речи о сельских школах — творения Китто, Стерна и некоего Г. Сандерсона Сандерсон-Смита, но ни один сельский учитель их, как видно, не получал. Они рассылались главным редакторам газет, которые передавали их редакторам театрального отдела, которые бросали их в корзину вместе с голливудскими проспектами об образцовой ферме мисс Сильвии Сильвы. Было известно, что институт даровал классные доски одной школе в Канзасе, два фильма учительскому колледжу в Дакоте и коллекцию турецких марок — гавайскому училищу, готовящему специалистов по разведению ананасов, но план этих благодеяний был неясен и существовал, по-видимому, только в голове мисс Бернардины Нимрок. Доктор Плениш изучал отчеты института, беседовал с сельскими корреспондентами своего журнала, но больше ему ничего не удалось обнаружить.
Ладно, сказал он своей жене Пиони, теперь все пойдет по-другому. Под его руководством институт, возможно, не расширит своей благотворительной деятельности, но выглядеть она будет эффектнее и вызовет не в пример больше откликов.
Вечером жаркого дня накануне отъезда в Чикаго Плениши засиделись в своей гостиной позже обычного — доктор в соломенно-желтой пижаме, расстегнутой на жирной груди, Пиони в ночных туфельках и рубашке-паутинке.
— Ну-с, похоже, что мы решили попытать чего-то новенького.
— Разве ты не рад, Гидди?
— Рад, конечно, но… Нехорошо все время переезжать, менять обстановку. Я привык к Де-Мойну, к здешним людям, мне даже гольф теперь нравится, а иногда меня тянет домой, в Кинникиник. Я так любил наш белый домик! Нам бы надо завести собаку для Кэрри.
— Пупсик мой, я тебя прекрасно понимаю. Мне тоже хочется иметь постоянный дом. Но сначала нам нужно попасть в Нью-Йорк. Через пять — десять лет ты будешь начальником бойскаутов, или Красного креста, или какого-нибудь большущего филантропического предприятия, и тогда мы купим дом где-нибудь в красивом пригороде с вязами и с каменной оградой и-нуда, и купим Кэрри собаку. Разве можно остановиться сейчас, когда у нас такие перспективы! Это… это было бы нехорошо по отношению к Кэрри!
— Может, и так… может, и так.
— А ты еще не видел, какое я себе купила красное бархатное манто! В Чикаго все так и ахнут.
— Не жарко ли в нем будет по такой погоде? Выдержат ли плечики у моей бедной девочки? — возразил он нежно и для вящей убедительности поцеловал ее в плечо.
15
Конференция Хескетовского института была назначена не в каком-нибудь отеле, где участникам нацепляют целлулоидные значки, где коммерческие агенты вздувают сумму взносов, суля счастливчикам золотого тельца, и целые скопища делегатов покорной вереницей тянутся в бар, а жены их — в дамскую комнату. Конференция состоялась в здании института, и делегатов было всего сто.
Доктор и миссис Плениш, которым их чемоданы и большой бумажный сверток придавали несколько провинциальный вид, направились в легендарный Голден — стрэнд-отель, на Северной стороне Чикаго — само собой разумеется, они остановились именно там, и, само собой, взяли номер в три комнаты, так как расходы делегатов оплачивал институт.
Пиони, притихшая и слегка ошеломленная, взирала на сиреневую тахту с серебряными парчовыми подушками, резной тиковый чайный стол под стеклом, супергетеродинный приемник в шератоновском шкафчике и русский бронзовый столик, на котором стоял швейцарский курительный прибор японской работы, а за ним — японский экран швейцарской работы; она взирала на все эти богатства и шептала:
— Вот это по мне! Вот так, черт возьми, мы теперь будем жить! Уверяю тебя, многие люди просто не понимают, какая великая вещь — сила воли, если уметь приложить ее к делу.
Он согласился с нею.
Здание Хескетовского института оказалось значительно менее роскошным: трехэтажный дом казарменного типа. Весь нижний этаж состоял из конторских помещений, сплошь завешанных увеличенными фотографиями несчастных учеников сельских школ, а второй был тем местом, откуда извергался поток брошюр и проспектов, но зато на третьем этаже находился зал, который, если потесниться, мог вместить сотни три человек, в особенности если это были деятели просвещения, не отличающиеся особой упитанностью.
— Как мило отделан этот зал, какие славные шелковые занавеси! — восхищалась Пиони.
Стены были украшены росписью: на одной изображалась школьная учительница, ведущая свою паству из темного свиного хлева к ярко освещенной горной вершине (трудно сказать, как бы все это выглядело, если бы хлев был освещен, а гора тонула во мраке); на другой — madame Монтессори[66] в беседе с Уильямом Пенном,[67] Сократом и Бронсоном Олкоттом.[68]
Пиони хихикнула.
— Бедная дамочка, все кавалеры у нее какие-то надутые, — сказала она.
— Не нужно насмешничать, деточка. Всякие серьезные усилия достойны похвалы, — мягко пожурил ее доктор.
— Я знаю, миленький. Я просто так… — протянула она.
— И потом, я уверен, что эта роспись обошлась не меньше чем в десять тысяч долларов, — заметил доктор с уважением.
— Ах ты, черт возьми! — восторженно воскликнула его жена.
Тут же у стола регистрации, которым заведовала секретарша мисс Бернардина Нимрок, состоялось их первое знакомство с заправилами учредительского мира. Такого количества рук они не пожимали и таких многоголосых приветствий не слышали со времени последнего приема новичков в Кинникинике.
Доктор Джеймс Северенс Китто поздоровался с ними с таким видом, точно он и в самом деле очень рад встрече. У него было широкое пухлое красное лицо и широкая пухлая белая рука. Особенно хорош был его голос: медоточивый басок, к которому так шел легкий шотландский акценг.
— Я убежден, доктор Китто, что мы с вами вдвоем можем вершить великие дела, — сказал доктор Плениш. — Прошу вас, познакомьтесь с моей женой, миссис Плениш.
Доктор Джеймс Китто, казалось, вовсе не намерен был выпускать из своей руки горячую лапку Пиони; он долго смотрел на нее, потом снова смотрел на доктора Плениша и наконец прогудел:
— Совершенно верно! ВЕЛИКИЕ дела!
Еще более многообещающей была встреча с преподобным Кристианом Стерном из Нью-Йорка, председателем исполнительного комитета. Это был человек лет под сорок, рыжий, сухонький и как будто весь наэлектризованный. Он отрекомендовался любителем Льва Толстого и гребного спорта, и его рыжие волосы были расчесаны на прямой пробор, но руку он жал энергично.
Доктор Плениш изощрялся в любезности:
— Мы на вас в претензии, доктор. Каждый, кто побывает в Нью-Йорке, потом только и говорит, что о вас. Невольно позавидуешь!
— Ну, ну, доктор! Уж будто! — отвечал доктор Стерн.
Был там ряд других лиц, менее осведомленных о целях и задачах Хескетовского института, но пользовавшихся еще большей славой во всем банкетном мире, и все они делали вид, будто страшно рады знакомству с четой Пленишей. Была Мод Джукинс, доктор медицины, которая любила повторять шутливо, но довольно часто, что женщины — лучшие врачи, чем мужчины, так как они менее склонны ударяться в поэзию. Была мисс Наталия Гохберг из Нью-Йорка, которая в данное время старалась приспособить ораву рабочих из потогонных мастерских к здоровому сельскому труду, чему они отчаянно противились.
Был мистер Г. Сандерсон Сандерсон-Смит; он родился в Новой Англии, но учился в Колумбийском университете, где приобрел изысканность вкусов, и потому переехал на жительство в Калифорнию, край бродяг и богемы, и там писал рецензии на книги, издавал тонкие журналы и основывал различные общества: общество «Долой стыд», общество последователей Фомы Аквината,[69] общество крикетистов, общество Черной Мессы. У него были огненные бачки, белесые глаза и веселая улыбка, и однажды его приняли за сына Бернарда Шоу. Он постоянно говорил, что не верит в демократию, но говорил это так мило, что вы сразу догадывались, что это шутка, только шутка и больше ничего. Пленишам он тут же сказал:
— Я, вероятно, единственный в этом почтенном собрании, кто сочетает в себе ницшеанца с кабалистом.
Они не поняли, что это означает, и вообще он им не очень понравился.
Происходило все это за чаем. Хескетовский институт и мисс Бернардина Нимрок были такие же охотники до чаю и кекса с изюмом, как любой полисмен — до пива и соленых булочек.
— Что я тебе говорила? — шептала Пиони. — Мы будем водить знакомство с Джоном Рокфеллером, и с епископом Маннингом,[70] и с принцем Уэльским, дай только срок.
Тут они вдруг увидели кинникиникского ректора Г. Остина Булла, который стоял один, точно одинокая береза среди прерий Айовы.
— Ах, мы так скучаем по вас и миссис Булл, — запел доктор Плениш, а ректор возопил в ответ: — А мы так скучаем по вас, мои дорогие!
Но истинно ценное приобретение чета Пленишей сделала в лице профессора Джорджа Райота.
Об этом блестящем и вдумчивом молодом ученом они уже слышали раньше. В тридцать один год Джордж Райот был профессором философии педагогики в женском колледже Уистирии и автором книги «Рождение Афрейдиты». В прошлом с ним случилась небольшая неприятность, что еще больше привлекло к нему сочувствие Пленишей: бульварные газеты приписали ему однажды утверждение, будто федеральному правительству следует издать закон, воспрещающий женщинам старше двадцати шести лет оставаться девственными. И вот уже два года бедняге приходится разъезжать по стране и публично доказывать (по сто пятьдесят долларов за сеанс), что он хотел сказать вовсе не то, а лишь нечто звучавшее похоже.
Наружностью — ростом и худобой — он напоминал английского лейб-гвардейца.
Плениши и он почувствовали мгновенное влечение друг к другу, так как все трое были много моложе остальных: доктору Пленишу было тридцать семь лет, Райоту — тридцать один, а Пиони — всего двадцать семь. Пиони шепотом предложила своим кавалерам:
— Давайте-ка смоемся из этой компании старых хрычей и пойдем пить коктейли.
— Великолепная мысль! — сказал профессор Райот.
За коктейлями доктор Плениш с тревогой присматривался к тому, как Пиони присматривается к профессору Райоту. Наконец она оглянулась на мужа и кивнула, и доктор тотчас же вступил со своей партией:
— Доктор Райот, мы с женой почти никого тут не знаем, кроме разве ректора Булла, и мне кажется, нам троим следовало бы объединиться. Позволю себе сказать без ложной скромности, что мы способны проявить больше практичности в подходе к вопросам просвещения, чем живые мумии вроде Булла и Китто, — вы меня понимаете? Практичности, но не цинизма, доктор.
— Ваша мысль мне ясна, доктор, — сказал доктор Райот.
— Больше здравого смысла, доктор.
— Да, да, пожалуй, больше урбанизма и реализма, доктор.
— Именно это я хотел сказать, доктор.
— Еще по коктейлю, мальчики, — вмешалась Пиони.
Три мушкетера возвратились в зал и мужественно претерпели до конца все испытания вечера, посвященного докладам преподобного доктора Китто на тему «Роль религии в просвещении» и преподобного доктора Стерна на тему «Роль просвещения в религии»; после этого они поспешно ретировались в номер Пленишей и пожелали друг другу спокойной ночи лишь в три часа утра.
К этому времени они уже перешли на «Джордж», «Гид» и «Пиони». Плениши теперь не только видели в Райоте полезное знакомство; они чувствовали к нему искреннюю симпатию, что в царстве филантропии случается нечасто.
Доктор Плениш дал понять, что он не прочь бы занять пост ответственного секретаря Хескетовского института. У него разработан проект блистательных нововведений в системе сельского образования, и, учитывая его богатый опыт, приобретенный за время работы в «Сельских школах для взрослых»…
— Заметано! Это я вам устрою, — сказал Джордж Ранот. — Мы с вами могли бы вместе разработать кое — какие планы. И потом, чего ради действительно допускать, чтобы Китто и Стерн вдвоем хозяйничали над всеми тремя миллионами? Кстати, вы уже познакомились с Гамильтоном Фрисби?
— А кто это?
— Такой коротышка-адвокат, еще у него привычка хмыкать в разговоре через каждые два слова: «Я, хм, считаю, что мы, хм, не должны, хм…»
— Кажется, я тут видел такого. А что?
— А то, что институт, в сущности, целиком зависит от него. Он поверенный наследников Хескета, они ведь все кто слабоумный, кто художник, а кто и то и другое вместе; живут в Италии или в Беркшире, а всеми делами заправляет Фрисби.
— Ф-р-и-с-б-и. — Пиони записывала имя. — Можете считать, что он уже обработан, Джордж. Но, но, подлейте-ка еще содовой!
На следующее утро Плениши завтракали с ректором Буллом, и доктор Плениш обнаружил неистощимый запас идей на тему о том, что может быть сделано. Днем доктор выступил на конференции с небольшим сообщением, в котором доказывал, что при отсутствии в школе канализации нельзя привить учащимся высокие духовные интересы. Перед вечером Плениши пили чай с доктором Кристианом Стерном и коктейли с мистером Гамильтоном Фрисби, который одобрительно отнесся к соображениям доктора по поводу игры в гольф. Преподобного доктора Китто доктор Плениш тактично предупредил заранее:
— Я знаю, доктор, как вы заняты — с одной стороны, конференция, с другой — ваши многочисленные пастырские обязанности, — а потому не согласились бы вы позавтракать с нами завтра утром?
Вечером у Пленишей были гости к обеду: миссис Гохберг, мистер Сандерсон-Смит, доктор Стерн с супругой, профессор Райот, мистер Гамильтон Фрисби, а также мисс Бернардина Нимрок, которую Пиони все уговаривала излить перед ней свою душу.
По-видимому, изливать было нечего.
Гости разошлись в десять часов, вежливо сославшись на срочные дела, как это принято у великих гуманистов и у всей породы знаменитостей в целом, и Плениши с Джорджем остались одни.
— Этот Сандерсон-Смандерсон — настоящая помесь кобры с домашней кошкой, — завопил Райот.
— Миссис Гохберг потому так богата, что никогда не дает ни цента на собственные благотворительные начинания, мне Булл говорил! — вскричал доктор Плениш.
— И где только эта несчастная Нимрок выкопала такую жуткую шляпу! — пропищала Пиони.
— Ох, кстати, — сказал Джордж. — Надеюсь, я не злоупотреблю вашей добротой, Пиони, если попрошу вас походить со мной завтра по магазинам — помочь мне купить пижаму для жены. Она бы, наверно, приехала со мной сюда, если бы знала, что вместо старых болтунов вроде Криса Стерна я буду проводить время в таком милом обществе.
Ну, конечно, она пойдет с ним.
Они выпили еще и заверили друг друга, что им очень весело. Потом выпили еще, и разговор перешел на культурные темы.
— Беда в том, что все эти истуканы вроде Стерна, Китто и вашего ректора Булла совершенно лишены артистического чутья, — сказал профессор Райот.
— Правильно. Вот, скажем, музыка, — подхватил доктор Плениш. — Еще бы! Я вот обожаю музыку. С удовольствием послушал бы иногда, если бы нашлось время.
— Я тоже. Например, Бетховена или Римского-Корсакова! — воскликнул профессор Райот.
— Да, да. Или Розу Бонэр,[71] — сказал доктор Плениш.
— А Роза Бонэр разве композитор? По-моему, она какая-то специалистка не то по радио, не то по радию, — забеспокоилась Пиони.
— Ах да, да, конечно! — Доктор Плениш чистосердечно рассмеялся. — Я было спутал ее с этой французской композиторшей… Ну, вы знаете, о ком я говорю, Джордж.
— Разумеется, знаю, Гид. Всегда помню ее имя, как свое собственное, только вот сейчас оно у меня вдруг выскочило из головы. Клодетт? Нет, что-то не то. Ну все равно… А вы играете, Пиони?
Доктор Плениш прочувствованно сказал:
— Знайте, Джордж, что ради меня Пиони отказалась от карьеры, которая, может быть, стяжала бы ей мировую славу… Как давно ты уже не подходила к роялю, цыпочка?
— Я не жалею об этом, — объявила Пиони.
— Слышите? Всем пожертвовала ради нас — нет, ради борьбы за… За что мы боремся, Джордж?
— За идолиэм, то есть… и-идеализм.
— Вот и неверно! За народное просвещение и это… как его… честную политику!
— А какая разница? Да здравствует идеализм! Темная наша страна — одни фермеры, мужланы. Что бы с ней было без нас, Гид?
— Да здравствуем мы! — вскричал доктор Плениш.
— Ой, мальчики! — пожаловалась Пиони. — Я, кажется, немножко пьяная.
Оба нежно поцеловали ее.
Исполнительный комитет Хескетовского института заседал на следующий день в 10.30 утра. Было постановлено: приобрести новый ковер для зала; назначить комиссию, которая изберет председателя, который даст указания секретарю, который составит резолюцию, которая информирует профессора Джона Дьюи[72] о том, что в принципе они разделяют его точку зрения; опубликовать сборник статей на тему об укреплении демократических основ путем введения в школах обычая салютовать национальному флагу; и избрать доктора Гидеона Плениша на пост ответственного секретаря Института с окладом 3 900 долларов в год.
Профессор Райот отправился выяснить, согласится ли доктор Плениш занять этот пост.
— Гид, я ужасно огорчен, что не удалось выжать из них больше, но эти скупердяи уперлись на трех девятистах — и ни в какую. А вы и сейчас получаете четыре двести! Но знайте, что это черепашье учреждение может открыть вам путь в более достойные и лучше рекламируемые организации. Что вы скажете, Гид?
Доктор Плениш великодушно отвечал:
— Да, Джордж, я буду рассматривать это как шаг к более широкой и плодотворной деятельности. Я согласен. Кстати, надеюсь, они назначили Бернардине Нимрок пенсию?
— Да, тысячу сто в год.
— Ну, чудесно! Мне было бы неприятно думать, что из-за меня эта старая курица лишилась заработка. Мужчина должен быть рыцарем, Джордж, при любых обстоятельствах.
Пиони любовно запротестовала:
— Пусть кто-нибудь посмеет сказать, что мои мальчики когда-нибудь вели себя не по-рыцарски!
— Очень мило с вашей стороны, детка, — сказал профессор Райот. — Вы настоящая Гнпатия, так, кажется, ее звали. Ну, я, значит, скажу им, что вы согласны на три девятьсот, Гид?
— Да, можете передать, что я согласен. Как видите, у меня нет оснований упрекать себя в меркантильности, — сказал доктор Плениш.
Он уже заранее решил, что пойдет даже на три тысячи, поскольку у Джослина получал фактически не больше двух восьмисот. Он продолжал:
— Но они должны понять, что я иду на жертвы.
— Это я им уже объяснил. Можете не сомневаться! — сказал профессор Райот.
— Умение приносить жертвы — первое качество, которое требуется от общественного деятеля.
— Вы правы, — вздохнул профессор Райот. — Хотел бы я, чтобы это поняли те, кто ворчит, когда им предоставляют привилегию уделять какие-то крохи из своих богатств на благотворительные цели.
Зазвонил телефон.
Доктор Плениш снял трубку. Через минуту он произнес, заикаясь:
— Пожалуйста, попросите подняться. — Он оглянулся на свою когорту и с ужасом шепнул: — Бернардина Нимрок!
Пиони мелодраматическим жестом схватилась за локоть Райота.
— Спрячемся в спальню, Джордж! Гидди один скорей ее спровадит!
Спустя три минуты в номер вползла мисс Нимрок, похожая на трепыхающую крылышками полуживую моль. Доктор Плениш попятился. Сцена предстояла малоприятная Со стороны Пиони, и его старого друга Джорджа Райота, и преподобных Китто и Стерна было очень нехорошо втравить его в эту историю. Вдруг она сошла с ума? Были случаи, когда вот такая тщедушная женщина хватала какой-нибудь тяжелый предмет — скажем, винную бутылку — и убивала сильного, здорового мужчину.
— Доктор Плениш, я только что узнала, что меня хотят уволить из института после десятилетней службы и взять на мое место вас, а вы в этом совсем не нуждаетесь, совсем не нуждаетесь: вы мужчина, и вы были профессором в колледже, вы себе всегда найдете работу. А у меня на руках старушка мать, и доктор Китто обещал, что я всегда буду у них работать, и, может быть, я была не очень хорошим ответственным секретарем, я знаю, что не очень, но это потому, что я ничего не могла сделать сама, без резолюции доктора Китто, а этой резолюции от него никогда не получишь — я пошлю и потом жду, и жду, и по телефону звоню, и ничего. Если вы просто так, для забавы, отнимете у меня место, я погибну, и моя старушка мать тоже; но вы этого не сделаете — ведь вы не такой лицемер, как доктор Китто, и не такой бессердечный человек, как мистер Фрисби. Вы подумаете об этом, правда? Вы постараетесь подыскать себе другую работу! Господи, никогда в жизни я не унижалась до таких просьб! Я всегда гордилась своей самостоятельностью и всегда работала не за страх, а за совесть. Вы порядочный человек, правда? Вы не захотите губить нас ради собственной выгоды?
Отступая от нее, он дошел до окна и теперь стоял, заложив руки за спину и теребя тюлевую гардину. Нужно было сказать что-то.
— Видите ли, я еще ничего об этом не знаю, то есть… Кое-какие разговоры были, конечно. Я меньше всего на свете хотел бы причинить неприятность вам и вашей матушке. В общем, я подумаю…
Мисс Нимрок устремила на него взор, исполненный обожания. Она даже помолодела и похорошела. Вот какое действие он способен оказывать на глупых женщин!
Он продолжал:
— Да, я подумаю, не откладывая, и мы что-нибудь…
И тут появилась Пиони.
Она налетела на мисс Нимрок, точно св. Екатерина[73] или миссис Кальвин, изгоняющая ведьму, и теперь уже отступать пришлось мисс Нимрок, а Пиони сладким голоском тянула:
— Ах, я не знала, что у нас гостья! Чудненько, чудненько! Я как раз хотела повидать вас, сказать, как я за вас рада — подумайте только, получать тысячу сто в год одной пенсии, а кто вам мешает при этом взять еще работу, какую-нибудь приятную работу, ну, скажем, давать уроки? Господи, да вы просто не будете знать, куда девать деньги, а кроме того, между нами говоря, вы, верно, очень рады уйти от этого надутого болвана Китто.
Продолжая наступать, она вытеснила мисс Нимрок в коридор и, прежде чем та успела открыть рот, затворила за ней дверь. Затем, повернувшись к доктору Пленишу и осторожно высунувшемуся из спальни Джорджу Райоту, она воскликнула:
— Да, не дай бог никому иметь дело с женщинами! Вы только подумайте, явилась сюда канючить! Мне очень жаль, что пришлось обойтись с ней так круто, с беднягой, но я решила, что ей же самой лучше, если покончить все разом. Бедный Гидеон, у меня за тебя так душа болела и за вас, Джордж, тоже, а в общем, я считаю, что это дело требуется запить. Но только раз-раз и готово, а то нам с Джорджем надо идти покупать пижаму для его женушки — ах, Джордж, я вас так ревную к ней, что просто лопнуть готова, а я-то поклялась, что не загляну ни в один магазин в Чикаго, буду экономить, откладывать и копить, — ваше здоровье, мальчики!
Доктор Плениш так и сиял: поищите-ка в целом свете другую такую жену!
16
Они одевались, чтобы ехать на банкет Хескетовского института, которым завершалась конференция и на котором доктор Китто должен был объявить о состоявшемся назначении доктора Плениша ответственным секретарем.
— Ах, Гидди, ты такой элегантный в смокинге, — сказала Пиони.
— Это уж ты слишком. Ну, я жду. Ты еще не рассказала мне, как вы с Джорджем ходили по магазинам.
— По-моему, мужчины сразу хорошеют, когда переоденутся к обеду, а уж особенно, если мужчина с бородой. Вот англичане всегда переодеваются к обеду, оттого в них столько шика! Господи, до чего же, наверно, роскошный город Лондон, а мы с тобой еще не побывали там! Англия куда более цивилизованная «страна… как постоянно твердят нам англичане. Когда-нибудь, когда мы будем богатые, поедем в Лондон, хорошо, милый?
— Но я все-таки жду. Выкладывай. Что ты там натворила?
— Гидеон! Я ведь обещала, что на этот раз не буду транжирить.
— Ты обещала по своей воле. Я от тебя никаких обещаний не требовал.
— Я знаю. Вот и получилось.
— Что получилось?
— Ну, стали мы выбирать Джорджу пижаму… ой, вот так сказала, это я, наверно, подсознательно, прямо по Фрейду, да?.. Ну, в общем, стали мы выбирать пижаму его жене, и тут я очень разозлилась на Джорджа и на эту стерву-продавщицу, которая все время хихикала, хоть это все и было в шутку — он обнял меня, вот так, и хотел на мне показать ей, какой объем груди у его жены. Я сказала Джорджу, чтобы он полегче, а то оборву ему уши. Но пижаму я ей все-таки выбрала чудесную — мне бы и самой такую хотелось, — шелковую, персикового цвета, с зелеными кантиками и…
Ну вот, я и говорю, Джордж предложил заодно пройтись по другим отделениям, и мы стали ездить вверх и вниз на эскалаторах, весело было ужасно, и столько всего хотелось купить, о господи, но ты и представить себе не можешь, как я была тверда, — шкура белого медведя, теплая-теплая, так приятно было бы ступать на нее зимой, и портрет президента Энди Джексона[74] — папа говорит, мы с ним родственники, только очень дальние, — и электрическая сбивалка для коктейлей — это, собственно, была бы даже экономия: она сберегает столько времени, но я устояла, — и подумай, Ги-де-он, финский деревянный салатник, настоящей кустарной работы!
— Все это нам очень нужно, но я была тверда, как кремень, просто как кремень. Но, может быть, правду говорят, что сатана гордился — с неба свалился, потому что мы с Джорджем остановились около прилавка со старинными драгоценностями, и, родной мой, ты меня, наверно, убьешь, но мне показалось, что оно дешевое, и оно такое очаровательное, я в жизни не видела такой прелести, и как будто совсем недорого и… Лучше уж сразу. Смотри.
Она достала из ящика туалета кольцо со сверкающим овалом из камней.
— Боже ты мой! Неужели бриллианты? — прохрипел он.;
— Нет, ты вглядись. Это стразы, старинные. Но все — таки оно очень дорогое…
— Сколько?
— Восемьдесят девять долларов.
Он поежился. Но тут же подумал о другом.
— Еще хорошо, что Джордж Райот не подарил его тебе.
— Самое забавное, что он пытался это сделать.
— Ах, так?
— Вероятно, он просто шутил. Где же ему, на профессорское-то жалованье!
— Значит, он предлагает тебе кольца в подарок? Идет покупать пижаму, а сам лезет обниматься! Ну ладно ж, я ему покажу!
— Гидеон Плениш! Ты что, уж не ревнуешь ли?
— М-м.
— Ревнуешь?
— М-может быть, немножко.
— Ой, как я рада. Ты так давно меня не ревновал, милый. Но ты уж не думаешь ли, что я им увлеклась, а?.. Не думаешь?
— Нет, мы с тобой, кажется, на редкость верные супруги Хоть в этом мы не разыгрываем из себя альтруистов.
— Бог с тобой, Гидеон Плениш! Что ты хочешь сказать? Да как у тебя язык повернулся, когда мы отказываемся от таких чудесных постов, как декан и редактор и вообще, и все жертвуем собой, жертвуем, жертвуем, даже не покупаем ни белого медведя, ни салатника, ничего! Как не стыдно говорить о себе такое, когда ты как раз вступаешь на новый путь служения людям!
— Да, да, верно. Мы действительно начинаем посвящать себя человечеству. Сам не знаю, почему я это сказал. Но ты меня, честное слово, еще немножко любишь?
— Доказать?
— Нет, нет, это у меня последняя чистая рубашка. Но ты любишь меня больше, чем Джорджа Райота?
— Милый мой муженек, ты уж не вздумал ли обидеться на Джорджа, да еще, может быть, собираешься показать ему это?
— Нет, конечно. Он больше всех помогает мне закрепиться на общественном поприще. Нет, нет, нет, нет, моя радость, пожалуйста, не приписывай мне никаких таких мыслей относительно Джорджа. Он отличный, прямо-таки замечательный человек.
— Ну, вот видишь, мое золото, значит, все хорошо. Как ты думаешь, на орхидею мне сегодня нельзя раскутиться? Или, может быть, ты сам собирался подарить мне цветы?
Слова доктора Китто о назначении доктора Плениша на пост ответственного секретаря были встречены за столом дружными аплодисментами.
Доктор Плениш с чувством поведал собравшимся, что родился и вырос почти что в деревне.
Мисс Бернардина Нимрок на банкете не присутствовала.
Ей единогласно вынесли благодарность.
Вечером доктор Плениш долго ворочался в постели.
— Что с тобой, котик? Я вижу, тебе что-то не дает покоя. Может, мое новое кольцо?
— О господи, совсем нет. (Именно такого ответа Пиони и ожидала.) Просто я не могу забыть лицо этой мисс Нимрок — сегодня, когда она к нам пришла, — такое испуганное, и слезы размазаны по щекам.
— Глупыш мой! Милый глупыш! Должен быть прогресс или нет? Ведь мы еще в биологии учили, что некоторые низшие формы жизни обречены на вымирание. Если б они не вымирали, они тормозили бы истинный прогресс, так? Но, знаешь, за что я особенно горжусь гобой? За то, что ты так сочувствуешь чужим переживаниям. Потому ты, наверно, и стал крупным общественным деятелем и проповедником, а был всего-навсего профессором колледжа. Ужасно горжусь!
— Что ж… — сказал доктор Плениш.
В начале августа они отправили в Чикаго чиппендэйлевский китайский шкафчик, китайский ковер и фарфоровые часы. Кожаный пуф остался в Де-Мойне.
— Теперь он мне уже кажется немного провинциальным, — сказала Пиони. — Подумать только, как путешествия воспитывают вкус!
Они ехали из Де-Мойна в Чикаго на машине, с ночевкой в Давенпорте — триста миль по нещадной жаре, — и доктор Плениш снова и снова повторял, что ни одна поездка в жизни не доставляла ему такого удовольствия и что маленькая Кэрри — настоящая цыганка, как и ее родители.
Теперь, когда они, можно сказать, были на пути к Нью-Йорку и Лондону, а следовательно, свободны от долгов и забот, Пиони превратилась в пенистый водопад идей, свободно перехлестывавших через утесы скучных фактов. В конечном счете все идеи сводились к тому, что доктору предстоит совершить множество полезных дел и завоевать симпатии множества влиятельных лиц, и, сидя рядом с ним на переднем сиденье, она бросала на него сбоку такие восхищенные взгляды, что он поневоле со всем соглашался. (В то время он еще почти всегда правил машиной сам; только лет через пять эта ответственная обязанность целиком перешла к Пиони.)
Сенатором он все-таки будет, но только от Чикаго или от Нью-Йорка, так что ему не придется делать вид, будто он разбирается в дорожных налогах. Затем он объединит множество мелких колледжей, сам сделается ректором и будет управлять ими, как филиалами большой торговой фирмы, и обеспечит им такую блестящую рекламу и такие прибыли, каких не знал ни один университет в истории (начиная с университета Аль — Азхара, г. Каир, осн. 970 г., цвет эмблемы — зеленый).
Он также объединит и лично возглавит миссионерскую работу всех протестантских церквей. (Ей бы так хотелось поездить с ним гто Индии, узидеть пальмы и туземцев!) А для начала он избавится от доктора Китто и от мистера Гамильтона Фрисби и будет безраздельно контролировать фонды Хескетовского института, и одну из комнат их парижского особняка ей хотелось бы выдержать в красных и черных тонах.
Пиони болтала, справлялась с картой и уточняла маршрут, выскакивала из машины, чтобы сводить Кэрри в «комнату отдыха», и с каждой минутой у доктора Плениша все сильнее и сильнее щемило сердце от любви к ней и от удивления, что рядом с ним — единственная, его собственная женщина, которая будет с ним всегда и ради которой он будет жить и трудиться. Он поражался ее быстрому развитию. Как она элегантна с черном с желтым костюме, в черной дорожной шапочке! Как это у нее получается? Ему-то уже под сорок, он видел свет, целую неделю прожил в Нью-Йорке, а эта провинциалочка как будто и не моложе и не глупее его, она знает все на свете, кроме разве того, который час, сколько у нее денег в банке и как пишется Цинциннати, и, пожалуй, для него, скромного труженика, пусть и ученого, и непоколебимого в убеждениях, и фанатически честного, самое лучшее полагаться во всем на ее божественную интуицию.
Пиони была превосходным товарищем в пути — одинаково восторгалась и жаворонком и встречным кадиллаком новой модели, не жаловалась ни на жару, ни на холод, ни на голод.
Только раз она доставила ему несколько неприятных минут.
В первый день машина шла особенно легко, и у каждого ресторана они говорили:
— Дальше, наверно, найдется что-нибудь получше, — и проезжали мимо.
Часа в три у дороги показался павильон, перестроенный из деревенской лавки и украшенный кривой, грубо намалеванной вывеской «ОБЕДЫ». При виде этого богатого ассоциациями слова Кэрри громко заплакала.
Они остановились.
Комната была невзрачная, длинная и голая, с тремя круглыми столами, газовой плитой, буфетной стойкой, за которой хранились на полках папиросы и кондитерские окаменелости, и с табличкой на стене «За шляпы и пальто не отвечаем».
Пока Пиони и Кэрри ходили умываться, единственная официантка — забитого вида женщина в красном свитере и лиловых штанах — бросила на мокрый стол перед доктором Пленишем написанное от руки меню, в котором значилось: «Яичница с ветчиной, отбивные, сандвичи с колбасой, сандвичи с сосисками, кофе, кока — кола».
— Гм… какие у вас отбивные?
— Отбивных сейчас нет.
— Ну, тогда… гм… тогда дайте три раза яичницу.
Женщина отошла в глубину комнаты и крикливым голосом передала кому-то заказ. Потом вернулась к столику, посмотрела на доктора Плениша усталыми глазами, и в мгновение ока он уже знал о ней все; он был ее собратом в непосильной борьбе за существование. Он заговорил с ней приветливо, как с равной:
— Торговля у вас, видно, идет не очень бойко?
— Никакой торговли нет, мистер. О господи, просто не знаю, что нам со стариком и делать! Говорят, на бирже сейчас какой-то бум. Наверно, туда и уплывают все деньги, на биржу. Сегодня до вас ни одного посетителя не было.
— Да, печально. Ну, я надеюсь, что скоро у вас дела поправятся.
Пришла Пиони, и он в восхищении загляделся на нее. Эта эмансипированная, уже почти чикагская Пиони была ему внове. Она держалась так уверенно, а между тем ее свежие щеки и задорные глаза были и сейчас обаятельно молоды, как в тот день, когда он впервые увидел ее девочкой-студенткой.
— Чем будут кормить? — спросила она бодро, поудобнее усаживая Кэрри.
— Яичницей.
— Вот и отлично.
Но это было ее последнее веселое замечание в доме под вывеской «ОБЕДЫ». Ее рассердило, что воды пришлось Просить три раза, что стол плохо вытерт, что нет ни салфеток, ни сахара, что пол усеян бумажками и окурками, что яйца несвежие, а ветчина слишком соленая.
— За такое обслуживание нужно под суд отдавать, — проворчала Пиони.
— Ей, бедной, трудно, и опыта нет.
— Ты, кажется, ее жалеешь?
— Да, жалею.
— Ну, а я ни капельки. Рохля.
Их дочка Кэрри спросила:
— Мама, что такое рохля?
— Дуся моя ненаглядная, молчи и кушай вкусное яичко.
— Ты сказала, что яичко невкусное.
— А ты не вмешивайся, попугай этакий. Мама с папой обсуждают серьезные вопросы.
— А зачем? — спросила Кэрри.
Доктор Плениш продолжал:
— Ведь в этом, собственно, и будет состоять наша работа — возвращать к сельскохозяйственному труду тех, кто оказался жертвой социальных условий, как эта женщина. Наш долг — воспитывать их.
— А за… — начала Кэрри, но не докончила, увидев необыкновенно интересную муху.
— Ах, брось, пожалуйста! — сказала Пиони. — Такое животное невозможно воспитать. Я страшно рада, котик, что ты посвятил себя служению отсталым массам, но не стоит тратить на них свои чувства. Эти люди безнадежны. Ты лучше будь повнимательнее к собственной жене.
— А разве я не…
— Да нет же, это я просто со зла. Но, право, не трать попусту время на тех, кого все равно не исправишь. Что ни говори, а люди со вкусом не станут украшать ресторан мушиными следами. Так-то, моя Кэрри — Бэрри, теперь папа с мамой будут собираться; в веселый Чикаго наш путь лежит, лошадка бежит, колокольчик звенит.
— А зачем? — возразила Кэрри.
В Давенпорте Кэрри первый раз в жизни ночевала в большом отеле. Ее совсем не испугало ни множество народа в вестибюле, ни почти мраморные колонны. Когда клерк, перегнувшись через конторку, шутливо спросил: «А эта маленькая леди тоже у нас остановилась?»-она посмотрела на него и серьезно кивнула головкой.
После обеда Кэрри уложили спать в отдельной комнатке, и Пиони спросила заискивающе:
— Не очень страшно будет моей крошечке, если папа с мамой сбегают на ранний сеанс в кино, а к девяти вернутся?
— Нет, — сказала Кэрри.
— Комнатка такая уютная, старинная, ведь моей деточке нравится в этой комнатке?
— Нет, — сказала Кэрри.
— Что, котеночек?
— Прости, мама, но мне тут не нравится.
— А почему?
— Обои какие-то глупые: цветы, а похожи на розовых червяков.
Пиони в умилении посмотрела на мужа.
— Нет, ты слышал? В шесть лет рассуждает совсем как взрослая, правда?
— Н-да… да, конечно, — сказал доктор Плениш.
Три дня Пиони носилась по Чикаго в поисках квартиры, а по вечерам плакала на плече у Гидеона. После долгих колебаний они сняли квартиру в старом доме на Южной стороне, вполне приличную, но много хуже, чем их серебристо-зеленый коттедж в Кинникинике или канареечно-желтая квартирка в Де-Мойне. Пиони приуныла.
— Видно, не так это все быстро делается. Я и не представляла себе, как трудно устроиться в Чикаго.
Квартира их была вся коричневая, чистая, но мрачная; скучные, вытянутые комнаты, теснота и запах респектабельного смирения, а через улицу — коричневый фасад другого дома, устало смирившегося перед безнадежной скукой.
— Долго мы в этой дыре не просидим, — утешалась Пиони. — Ты выжми побольше жалованья из Гамильтона Фрисби, — видно, это он сторожит казну института. Скоро у нас будет квартирка в стиле модерн, иа набережной.
Он чувствовал себя виноватым.
Два дня спустя Пиони уже щебетала, что китайский ковер, шкафчик и веселенькие французские часы «оживили квартиру просто до неузнаваемости». Но, разумеется, пришлось купить и кое-что новое — «всякие веселые и удобные мелочи, чтобы можно было жить», как она выразилась: оцинкованный, с черными стеклами холодильник для бутылок, радиоприемник в ящике карельской березы, ярко-зеленую китайскую лампу под яшму и репродукцию с картины Гогена.
Истратив на эти вещички всего 362 доллара и 75 центов, Пиони поразительно скрасила гнетуще коричневый тон квартиры. Портило впечатление лишь то, что у них опять набежало двести долларов долгу.
— А зачем? — спросил доктор Плениш, но Пиони поцеловала его.
Он проводил много времени в конторе Хескетовского института — выяснял, что делала до него мисс Бернардина Нимрок, и покашливал, и приказывал стенографисткам продолжать в том же духе — только поэнергичнее.
17
Не следует думать, что доктор Плениш в качестве ответственного секретаря Хескетовского института вовсе ничего не делал. Он выступал на конференциях, почти еженедельных конференциях, которые созывались по инициативе колледжей, библиотек, муниципальных лекториев, ассоциаций педагогов различных штатов, и неуклонно внушал участникам этих конференций, что просвещение сельских жителей — благое дело. Он заседал в комитетах и комиссиях, правда, не в буквальном, физическом смысле, но, во всяком случае, его имя фигурировало в десятках списков. Он благосклонно разрешал студентам пользоваться педагогической библиотекой, собранной мисс Бернардиной Нимрок, и наблюдал за изданием трех брошюр, подготовленных университетскими профессорами, которые после тщательного изучения официальных статистических данных по отдельным штатам пришли к выводу, что учителей можно бы лучше оплачивать и лучше отапливать. Именовалось это научно-исследовательской работой.
Он питал особое пристрастие к этим брошюрам, так как, если в его финансовых отчетах не совсем сходились дебет и кредит, можно было всегда сбалансировать итог за счет «издательских и типографских расходов».
Но из всех изданий института он особенно энергично занимался продвижением более общедоступного и объемистого труда, впервые опубликованного два года назад под названием: «Новые Огни в Старой Школе» (в коленк. пер., с илл. и карт., ц. $ 1,65, оптов, покуп. скидка). По счастливейшей случайности автором этого произведения являлся мистер Гамильтон Фрисби, поверенный наследников Хескета, и на фронтисписе был помещен его портрет, украшенный автографом. С помощью этой книги каждый филантроп, уроженец сельской местности, мог облагодетельствовать свой штат и заслужить репутацию щедрого человека (а также уязвить кой-кого из друзей детства, всю жизнь не выезжавших из родного города). Если вы покупали не менее сотни экземпляров, ваше имя как почетного жертвователя ставилось на переплете, вытисненное золотыми буквами, и книги рассылались по любым указанным вами адресам с изысканным сопроводительным письмом на бланке Хескетовского Института Сельского Образования и за подписью доктора Плениша-или в крайнем случае его секретаря, или, во всяком случае, за чьей-нибудь подписью, — а в письме говорилось, что мистер Икс (или Игрек) — замечательный человек, широко известный своим добрым сердцем, солидным состоянием и тонким умом, к стыду и сожалению тех, кто в детстве дразнил его и поднимал на смех!
Сопроводительное письмо было одним из новшеств, внесенных доктором Пленишем в те рутинные методы, которыми действовала мисс Бернардина Нимрок при распространении «Новых Огней в Старой Школе», и благодаря ему тираж этого назидательного пособия за шесть месяцев удвоился.
Значительное превосходство доктора Плениша над мисс Нимрок нашло себе выражение главным образом в плане литературном. Он не повысил денежных премий победителям на соревновании детских садов, но он увеличил в четыре раза число письменных консультаций, ежемесячно рассылаемых сельским педагогам: консультация по вопросу о цвете классных досок, консультация по художественному чтению, консультация по обязанностям школьных сторожей. Он сидел и диктовал послания целые дни напролет, отрываясь лишь для того, чтобы позаимствовать необходимые данные в публикациях Колумбийского университета, Института Карнеги и Ассоциации сельского образования.
Он отличался непревзойденным умением давать интервью, или, говоря его словами, «применять ультрасовременную технику рекламы к древним принципам просвещения и справедливости». Каждую неделю он посылал в печать «Рассказы из жизни» — о шести школьниках из Вайоминга в возрасте от 11 до 13 лет, составивших кружок по изучению атональной музыки; или о бывшем оксфордском студенте, учительствующем в горной местности и напивающемся не чаще раза в неделю; или о персональной выставке рукоделий Лафайета Хескета; или о том, как мистер Гамильтон Фрисби занялся разведением рогатого скота херифордширской породы; или как мисс Гамильтон Фрисби купила жемчуг эрцгерцогини Тилли; или как мистер Гамильтон Фрисби-младший изобрел планер.
Как человек, причастный к литературе, доктор Плениш сочинил также первую очередь циркулярных писем на предмет пополнения средств Хескетовского института. Мистер Фрисби держался того мнения, что у института средств достаточно, и потому незачем хлопотать из-за «своры жуликов, у которых и динамитом лишней десятки не вырвешь», но доктор Плениш обладал более профессиональным подходом к делу и большей прозорливостью.
То была эра, когда библейская добродетель любви к ближнему начала приобретать гораздо более совершенные формы, чем машинальное опускание четвертака в протянутую руку. На место чувствительности и душев- * ных порывов пришла Система, организованное Плановое Милосердие, имеющее свои цели и свою технику; это было солидное дело, не менее солидное и не менее деловое, чем Дженерал Моторс, но с самим господом богом в должности директора-распорядителя. Доктор Плениш понимал, что в наши дни добрый самаритянин не стал бы вопреки здравому смыслу и правилам санитарии подбирать с земли человека, ставшего жертвой лихих автомобилистов. Всякий изучавший первую помощь знает, что глупый житель предместья легко мог этим убить несчастного. В наши дни самаритянин позвонил бы по телефону в ближайшую больницу и сказал: «Позаботьтесь о нем. и когда я возвращусь, я непременно увеличу сумму своей подписки в пользу Всеамериканской Больничной Сети, возглавляемой столь прославленным администратором благотворительных учреждений, как доктор Гидеон Плениш».
Такие сны снились доктору, когда он дремал у себя в кабинете среди стальных картотечных шкафов, давая заслуженный отдых нежному сердцу и деятельному мозгу.
Пока что до организации больничной сети дело дошло только в его вещем воображении. Лишь спустя некоторое время Организованной Филантропии предстояло занять восьмое по счету место среди ведущих отраслей экономики Соединенных Штатов. Но доктор Плениш уже провидел счастливый союз между щедростью и искусством организации, перед которым знаменитые крестовые походы покажутся детской игрушкой, и чувствовал, что ученому, обремененному семейством, полезно будет оказаться поближе к этому все прибывающему золотому потоку.
Он с радостью посвятил себя новой жизни под знаком служения обществу; он готов был проводить свои дни в неустанных трудах, в непрерывных совещаниях, в кипучей деятельности комитетов: все больше разъезжать, все чаще разговаривать по междугородному телефону, томиться голодом и жаждой на парадных обедах с несъедобным меню, страдать от холода слушателей и наготы речей — и он не испытывал страха, и дух его торжествовал над бренным телом.
Несмотря на сомнения Фрисби, доктор Плениш заготовил текст нового циркулярного письма.
ХЕСКЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ройял-Джордж-авеню 11872 Чикаго
Дж. Т. Нимини, эсквайру, 3756 Винадотт-авсню. Маркетт, Индиана.
Дорогой друг Просвещения!
Это письмо предназначается не Вам. Из нашей обширной документации нам хорошо известно, что в вопросе о сельском образовании Вы придерживаетесь здравых и разумных взглядов. Вы понимаете, что до тех пор, пока сельские школы не будут укомплектованы персоналом и оборудованием не хуже самых шикарных частных учебных заведений в городах, наша возлюбленная Америка не может рассчитывать на успех в своей борьбе против мировой анархии.
Но у Вас есть друг, который вполне разделяет Вашу и мою точку зрения и которому, однако, неизвестно о существовании ХЕСКЕТОВСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Ему неизвестно, что если он урежет свои карманные расходы всего на 10 долларов в год, он этим может принести на 100 ООО долларов пользы делу государственной важности и стать привилегированным членом-жертвователем ХИСО.
Председатель: КРИСТИАН СТЕРН. Д. Б… Д. Ф.
Президент: Дж. CEBEPEHC КИТТО.
Д. Б. Н.
Вице-президенты и директора:
ГАМИЛЬТОН ФРИСБИ. Б. И. ДЖОРДЖ Л. РАЙОТ. Д. Ф. ОЛВИН УИЛКОКС. M. И… M. Б. Т. ОСТИН БУЛЛ. M. И… Д. Б. ДЖЕСС ВЕИТ. Б. Ф. НАТАЛИЯ ГОХБЕРГ. Б. И. Д. Ф. Н. Г. САНДЕРСОН САНДЕРСОН-СМИТ. КОНСТЭНТАЙН КЭЛЛИ. ГЕНРИ КАСЛОН KEBEPH.
Б. И.
Дж. КОСЛЕТТ ДАУНС, Д. Ф.
Ответственный секретарь: ГИДЕОН ПЛЕНИШ. Б. И., М. И., Д. Ф.
В качестве такового он приобретет право бесплатно получать все наши издания, а также посещать наши конференции и слушать высказывания величайших лю дей Америки по вопросу о путях разрешения всех сельских проблем. И Вы, дорогой Поборник Просвещения, можете оказать неоценимую услугу стране, позвонив этому Другу и передав ему наш привет и наш адрес.
Мы не знаем, где найти Вашего друга, — ВЫ 3IO ЗНАЕТЕ! Снимите же телефонную трубку и сообщите ему — СИЮ ЖЕ МИНУТУ, — что мы желаем послать ему БЕСПЛАТНО отпечатанную в четыре краски брошюру «НАШ ТАЙНЫЙ ПОЗОР».
С искренним уважением
ГИДЕОН ПЛЕНИШ. Д. Ф.Ответственный секретарь.
Это письмо было разослано не только всем членам ХИСО, но и всем тем лицам, которые когда-либо интересовались его работой, а затем уже пошло в рассылку подряд, по общему списку. Доктор Китто счел письмо скандальным, а мистеру Фрисби оно показалось смешным. Но оно, что называется, «сработало». Повинуясь влечению к точности, которое составляет неотъемлемый элемент Новой Научной Филантропии, доктор Плениш вычислил, что каждый экземпляр письма обходится в десять центов, включая стоимость бумаги, почтовых марок, размножения копий, вписывания имен, а сверх того цену брошюры и расходы на приобретение списков лиц, пользующихся репутацией филантропов, — такие списки, известные под довольно неделикатным названием «списки карасей», продавались повсюду, все равно как бумага-мухоловка. Профессиональные спасатели человечества говорят так: «Если хоть один процент карасей из списка клюнет, все предприятие окупится».
Любовь доктора к эпистолярным красотам увенчалась наградой: ровно 1,37 % его «карасей» клюнуло и продемонстрировало свою любовь к делу Просвещения, изъявив готовность вступить в члены ХИСО.
Даже на мистера Фрисби это произвело впечатление. Поистине доктор Плениш был прирожденным жрецом Научной Филантропии.
Что касается брошюры «Наш Тайный Позор», которая рассылалась адресатам, то это была старая работа Бернардины Нимрок, «Статистика заработной платы и посещаемости в окружных школах», в новой обложке.
18
Но не столько циркулярное письмо доктора Плениша, сколько его гениальный прогноз биржевой катастрофы в октябре 1929 года снискал ему особое внимание мистера Гамильтона Фрисби.
В течение всего лета и ранней осени Америка спекулировала, пользуясь непрерывным повышением биржевых курсов. Судомойки наживали по пять тысяч долларов, главные редакторы газет — по миллиону, — все на бумаге, потому что они не трогали своих мнимых прибылен, предоставляя им удваиваться, утраиваться, увеличиваться в сто раз.
Но Плениши, вечные игроки, на этот раз не играли. Так порешила Пиони. Она обезоружила доктора, издав приказ:
— Ты не купишь ни одной акции ни на срок, ни за наличный расчет. Дела у нас дрянь. Чтобы вкладывать деньги в бумаги, нам пришлось бы еще занимать, а этого нельзя делать. Ни в коем случае. Я принципиально против… А кроме того, занимать нам не у кого. Папа мне отказал!
То была новая Пиони. Такой непреклонности он раньше за нею не знал. Она струхнула перед равнодушием большой, ленивой, раскормленной кошки — Чикаго. Они не познакомились с важными лицами, с которыми она рассчитывала встречаться на балах и обедах. Круг их знакомых составляли всего-навсего несколько зубных врачей, несколько либерально настроенных пасторов, страховой агент, преподаватель Северо-Западного колледжа, парочка мелких филантропов и один аспирант Чикагского университета. Пиони так старалась быть спокойной и экономной, что совсем лишилась покоя и объявила доктору, правда, очень веселым тоном, что ее ничто не интересует, кроме цены на лук и того обстоятельства, что у Кэрри завелся в детском саду поклонник, семилетний итальянец, который угощает ее мятными леденцами.
Доктор не решался обманывать ее, покупая бумаги тайком, хотя такое послушание давалось ему нелегко, потому что, ежедневно изучая биржевые бюллетени в газетах, он пришел к твердому убеждению, что без труда мог бы нажить миллион. Один раз он даже заработал на двух листах дешевой писчей бумаги 7 880 долларов чистой, хотя и гипотетической, прибыли. Он по-прежнему совершал лекционные турне, но Пиони отбирала у него все чеки, а деньги клала в банк, не допуская никаких роскошеств, кроме одной бутылки русской водки в неделю.
А между тем в те дни в кругу знакомых доктора Плениша нужно было либо отчаянно покупать, рискуя всем, вплоть до денег на стирку и ста долларов, полученных в наследство от тети Эммы, либо упрямо пророчить катастрофу. В последнем случае считалось, что человек утратил веру в Отцов Пилигримов[75] и стал не то наркоманом, не то отравителем собак. Но доктор Плениш привык оглушать аудиторию словами, звучавшими смело, независимо от их смысла, и не стеснялся высказывать свои позорные антипатриотические мысли.
Преподобный Джеймс Северенс Китто сказал ему однажды:
— Как вы знаете, доктор, я решительно против спекуляций, но нынешнюю волну процветания нельзя назвать спекуляцией; скорее это взлет демократии, и мне думается, что не воспользоваться им — значит расписаться в своем недоверии к американской системе. Сам я заработал двести тысяч — на бумаге, конечно, — и могу дать вам верный совет относительно акций одной строительной компании, которые в ближайший месяц удвоятся в цене.
— Мне очень жаль, доктор, но я полагаю, что нас ждет биржевая катастрофа.
Доктор Китто посмотрел на него, как смотрят на человека, ударившего ребенка.
Мистер Гамильтон Фрисби сказал:
— Плениш, могу дать вам совет относительно радиоакций. Через неделю поднимутся вчетверо.
— Мне очень жаль, мистер Фрисби, но весь этот ажиотаж с повышением не внушает мне доверия.
— Ах, вот как? Ну, так разрешите вам сказать, что сам я заработал два миллиона — пока на бумаге, но могу реализовать хоть завтра. А я состою членом правления двух банков, и до сих пор никто не считал меня наивным младенцем.
В начале ноября, когда вся бумага, на которой значились эти прибыли, с треском вылетела в трубу, доктор Китто и мистер Фрисби позвонили ему по телефону и голосом человека, только что вышедшего из больницы, робко спросили, откуда он знал о приближении катастрофы. И еще долго он вызывал всеобщее благоговение как гений в области финансов — единственного искусства, которое стоит выше теологии и музыки, так как имеет какой-то смысл. Знакомые просили его:
— Дайте нам верную информацию, доктор. Когда курсы опять начнут повышаться, ну, скажем, через несколько месяцев, я не хочу повторить ошибку, которую, по-видимому, допустил в прошлый раз.
В мире неуклонно возрастал процент самоубийств, и многие из тех, чьими субсидиями держались национальные организации, обанкротились. Но Хескетовский фонд по-прежнему финансировал добрые дела доктора Плениша, и у доктора Плениша не было долгов, и он был преисполнен самодовольства, как ангорская кошка.
В декабре Гамильтон Фрисби пригласил его в свой охотничий домик в Луизиане.
Кроме него, были приглашены старые приятели Фрисби-хирург доктор Олвин Уилкокс и Джесс Вейт, консультант по капиталовложениям, который так блестяще провел корабли своих клиентов через все рифы бума и краха, что сам избежал банкротства. Фрисби обеспечил им два купе в вагоне-люкс. Доктор Плениш с удовольствием отметил, что его, очевидно, решили избавить от всяких издержек, и этот штрих, характерный для жизни высшего общества, ему понравился.
Как только поезд тронулся и были налиты первые стаканы противозаконного зелья, доктор подвергся осаде.
— Ну, Плениш, теперь мы, девушки, остались одни и распустили косы, и, значит, выкладывайте, какая у вас была секретная информация? — сказал Фрисби леденяще шутливым тоном сыщика, который любезничает с человеком, заподозренным в убийстве.
Остальные двое придвинулись к доктору, как два сыщика постарше и помрачнее.
— У меня не было никакой особой информации. Я просто высчитал все, как математик.
— Это вы-то математик, док! — сказал Джесс Вейт.
— Я специализировался в этой области-отчасти, — с улыбкой отпарировал доктор Плениш.
— А ну, назовите мне котангенс эллипса кубического корня из семи.
— А-а, бросьте вы, — сказал Фрисби Вейту. Доктор Уилкокс, видимо, не был расположен шутить.
И тут доктор Плениш вспомнил то, что до сих пор лишь смутно брезжило в его памяти. «Так уже было когда-то», — внутренне содрогнулся он. Эти три богача — да ведь это те грузные, молчаливые насмешники-футболисты, которые так пугали его в первый год в колледже, когда усаживались вокруг него в кружок, словно готовясь вот так же, не спеша и со смаком, разобрать его на части, чтобы узнать, почему он такой надутый и смешной.
Фрисби мурлыкал:
— Что вам сказал Мардук?
— Мардук? — Доктор Плениш был озадачен.
— Вы хотите сделать вид, что незнакомы с ним?
— По-моему, я с ним не встречался.
— Полковник Чарльз Б. Мардук, крупнейший нью — йоркский издатель и король рекламы-Мардук и Сайко?
— Ах, да. Он, кажется, прислал нам довольно щедрый взнос. Но лично я с ним незнаком. Что он может знать?
— Этот человек дружит со всеми миллиардерами, и кое-кто говорил мне, что вы с ним виделись, когда он приезжал в Чикаго, месяца два тому назад.
— Нет, я никогда его не видел.
Вейт злобно тявкнул на Фрисби:
— Я же вам говорил. Этот Плениш знает столько же, сколько…
— …сколько консультанты по капиталовложениям, — подсказал доктор Уилкокс.
— А, бросьте вы! Давайте играть в бридж, — сказал Вейт.
Мистер Фрисби молча достал карты.
В течение всего этого мучительного уик-энда, когда на каждый час, посвященный охоте, приходилось три, посвященных картам и выпивке, доктор Плениш чувствовал, что его терпят лишь потому, что нужен четвертый партнер для бриджа Когда ему удавалось выдавить из себя остроумное словцо, оно проходило незамеченным. Глядя на их фатовские сапоги со шнуровкой и клетчатые макинтоши, он в своем старом сером костюме и рубашке цвета хаки чувствовал себя не в меру утонченным и интеллигентным.
Деля отдых богачей, он не переставал мечтать о том, как бы отобрать у этой банды деньги и власть и отдать Пиони.
На обратном пути, в поезде, Фрисби отвел доктора Плениша в сторонку, глядя на него так, словно силился вспомнить, где он видел этого человека.
— Сдается мне, док, что у вас в голове порядочная путаница, — сказал Фрисби.
— Как так?
— Может, мне стоит поточнее объяснить вам, что такое Хескетовский институт и некоторые другие филантропические предприятия, не все, конечно, но многие. Ведь считается, что вы профессиональный стимулянт.
— Кто?
— Человек, который живет административной работой в организации, стимулирующей всякие благие начинания; специалист по выпрашиванию денег на пропаганду того положения, что, когда мир станет цивилизованным, дважды два будет четыре. Профессиональный стимулянт. Тот самый, что сначала организует какое — нибудь общество, а потом уже начинает придумывать, что, собственно, оно должно стимулировать. А богатых дураков, которые жертвуют деньги либо чтобы успокоить свою совесть, либо чтобы встречаться на заседаниях с Вандербильдами, а значит, приобретать общественный вес, либо ради саморекламы, либо, хоть и редко, потому что верят, что общество, в уставе которого значится помощь Либерии, действительно может помочь либерийцам, — этих простофиль я называюфилан- трёпами.
Но старик Хескет не был филантрёпом, равно как и некоторые другие киты, основавшие разные институты. Они рассуждали так: с увеличением налогов, особенно подоходного и на сверхприбыль, — будь они прокляты — слишком большие доходы человеку не по карману. А между тем он хочет сохранить контроль над корпорациями, в которых владеет большей частью акций. Вот он и вкладывает толстый пакет в фонд какого-нибудь филантропического учреждения. Доходов он не получает, но зато ему не нужно платить никаких прогрессивных налогов, и он сам или его агенты — вот как я у Хескетов — пользуются всеми прерогативами, которые дает пожертвованный капитал, и контролируют корпорацию с тем же успехом, что и раньше.
Им все равно, на что тратятся доходы института, лишь бы обелить свое имя, — а сколько белил иногда на это требуется! Человек, который свел леса на миллионах акров, покупает себе репутацию любителя деревьев и птичек. Хескет был типичен в этом смысле. Он нажил капитал тем, что разорял мелкие предприятия, снижая цены, и разбогател до того, что ему пришлось стать филантропом, — это гораздо более неоспоримый признак богатства, чем покупать какие-то там яхты или титулы. Но у него была и вторая причина, чтобы заморозить свои капиталы. Его дети, племянники и племянницы — все до одного идиоты. Один стал скульптором, одна вышла замуж за коммуниста, еще одна живет на каком-то острове, который называется Лесбос. Хескет их терпеть не может, вот он и вложил свое состояние в два фонда, в том числе в фонд Хескетовского института, а меня сделал доверенным по обоим фондам, потому что я, к моему собственному удивлению, человек более или менее честный.
Вам, как немудрящему профессионалу, я советую: тратьте доходы института сколько вашей душе угодно. Даже сейчас, после краха, вы не используете и половины. Действуйте, не жалейте сил, лишь бы создать рекламу старому, заслуженному имени пионеров Хескетов. Только не забывайте, что книги я все-таки проверяю.
Доктор Плениш сказал с храбростью отчаяния:
— А нельзя ли повысить мне жалованье? Это было бы очень кстати.
— Ни в коем случае. Скорее ждите снижения, если кризис затянется. Вы человек с именем — не бог весть каким, но все же вы читали лекции и были деканом захолустного колледжа, но как это отразилось бы на фамильной репутации Хескетов, если бы вам платили больше минимума? Ведь это же экономика, Плениш. Смотрите на вещи трезво!
Доктор Плениш сидел и ненавидел его.
Пиони воскликнула, выбежав навстречу:
— Хорошо провел время, Гидди?
— Да, конечно… Знаешь, охота… и бридж.
— Как ты думаешь, мне понравился бы доктор Уилкокс и мистер Вейт?
— Уверен, что нет. Слушай, Пиони, не будем особенно стараться обзавестись друзьями здесь, в Чикаго. Думаю, что скоро мы сможем перебраться в Нью-Йорк.
— Чудно! — сказала Пиони.
В пятницу перед рождеством доктор Плениш сидел в своем служебном кабинете, полировал ногти, думал, что хорошо бы написать книгу, может быть, о применении радио в школах, — и ненавидел Гамильтона Фрисби.
Секретарша принесла карточку некоей миссис Иглстоппер, работавшей на Среднем Западе агентом одного издательства учебников. Это оказалась эффектная молодая женщина. Она сказала колоратурным сопрано:
— Доктор Плениш, вы как-то на учительском съезде упоминали нашу серию школьных хрестоматий.
— Простите, но я о них не очень высокого мнения.
— Неужели? — Она сделала ему глазки. — Вы, вероятно, невнимательно их прочитали. Мне бы хотелось, чтобы вы ознакомились с ними получше, а заодно и с нашей новой серией учебников географии; их написал крупный ученый, с университетским образованием, а кроме того, он чемпион по плаванию! Я пришлю вам всю серию.
— Простите, но я так занят…
— Что вы, доктор Плениш! — Она изобразила удивление и испуг. — Мы знаем, как дорого ваше время. Нам бы в голову не пришло затруднять вас безвозмездно. Вот небольшой рождественский подарок.
Он заглянул в конверт, который она вложила ему в руку. Профессиональное хладнокровие изменило ему.
— Вы пытаетесь дать мне взятку? — вспылил он.
Она поднялась.
— Дорогой сэр, разумеется, нет! Мы просто интересуемся вашим мнением об этих книгах и знаем, что во всей Америке нет ученого, чье время ценилось бы дороже. Если они вам понравятся — это уж вам судить, — тогда вы, возможно, упомянете о них в изданиях вашего института и в ваших лекциях. В противном случае, безусловно, нет, безусловно. До свидания, желаю вам весело провести рождество, и передайте привет вашей жене — я слышала, что это самая милая и самая элегантная женщина в Чикаго. Дайте мне знать, если я могу вам быть полезна.
Он выудил из конверта две стодолларовые банкноты. Они отличались от мутно-зеленых пятидолларовых бумажек, как райский свет от неверной тьмы. Жирные нули так весело бежали следом за единицами! Он понес деньги домой, чтобы обсудить с Пиони, этично ли будет их принять.
— Все, чем ты можешь насолить этому скорпиону Фрисби, все годится, — сказала она и добавила:-Это более или менее разрешает мою рождественскую проблему. Теперь я могу купить тебе одну вещь, я о ней мечтала всю неделю, — кедровый сундук для одеял, отделанный медью, ты в жизни не видел такой прелести, продается всего за сто долларов, просто даром. Он прямо создан для нашей передней. Или я чуточку, самую чуточку неблагоразумна?
— По мне, что бы ты ни делала, все хорошо, — сказал, он.
Вбежала Кэрри. Пиони опустилась перед ней на колени и заворковала:
— У-у, моя крошка! Мамочка купит такой чудесный кедровый сундучок!
— А зачем? — спросила Кэрри.
19
В любой национальной стимулирующей организации есть группа лиц, чьи имена отпечатаны столбцом вдоль левого края фирменных бланков, лиц, о которых предполагается, что они преданы делу этой организации, несут за нее ответственность и изо дня в день трудятся для нее; эти верные друзья именуются иногда Директорами, иногда Членами Правления, Попечителями, Консультативным Советом, Почетными Председателями, Почетными Заместителями Председателя, Национальным Комитетом, Генеральным Комитетом или Центральным Комитетом.
В ФИАБРАП эти апостолы назывались Правлением, и в январе 1930 года доктор Плениш был избран одним из членов правления указанного общества — Федерации Истинных Американцев для Борьбы с Расовыми Предрассудками. С подозрительностью человека, который уже утратил невинность в делах филантропии, он скользнул взглядом по именам своих коллег, а также и казначея — президента одного страхового общества, — зная, что увидит все тот же знакомый букет подписей, и впился в имя ответственного секретаря (или, выражаясь технически, «Пружины»). Он остался доволен. «Пружиной» был профессор Гетц Бухвальд с психологического отделения Эразмус-колледжа, где он числился в отпуску, причем этот отпуск длился уже семь лет.
Бухвальд и в самом деле был человек порядочный и серьезный. Он прочел все на свете книги и питал непримиримую ненависть к притеснителям китайцев, негров, словенцев, так же как и к притеснителям евреев. Речь его была весьма энергичной, но не менее энергично он управлялся с ножницами и пишущей машинкой. Он забрасывал газеты сотнями писем с описанием мелких случаев тирании и проявления расовых предрассудков. Почтенный человек и почтенная организация, решил доктор Плениш. Только два обстоятельства ему не понравились: во-первых, Бухвальд продолжал именовать себя профессором — так называли его сотрудники и газетные репортеры, так председатели собраний представляли его аудиториям, — а между тем профессорствовать он перестал уже много лет назад.
Нет, решил доктор Плениш. В мире демократии, отрицающей всякие искусственные отличия, вроде титулов, следует ограничиваться скромным званием Доктора.
Другой недостаток Истинных Американцев состоял в том, что им ни разу не удалось убедить кого-нибудь, кто не был убежден и раньше. Впрочем, это едва ли следует ставить им в вину, так как то же самое можно сказать о девяноста семи процентах всех общенациональных организаций; почти единственное исключение составляет та, к которой принадлежит он сам. Кроме того, они, пожалуй, дублируют в своей работе десятка два других подобных учреждений, но в конце концов, твердил себе доктор Плениш, в конце концов…
Руководящий состав Истинных Американцев внушал ему уважение: Наталия Гохберг — генеральный секретарь; затем епископ Альбертус Пиндик, принадлежащий к католическому, то есть более эластичному крылу епископальной церкви; доктор Кристиан Стерн; монсеньер Никодемус Лоуэлл Фиш, доктор философии, известный под именем «апостола янки»; и раввин Эмиль Лихтензелиг. Доктор был очень доволен, когда получил приглашение на ежегодный съезд ФИАБРАП, имевший быть в Нью-Йорке в апреле. Там он рассчитывал вступить в общение с выдающимися умами и получить стимул к дальнейшей деятельности.
Кроме того, Пиони хотелось увидеть небоскреб Эмпайр-Стэйт-Билдинг.[76]
Она его увидела: она вдыхала запах океана и жареных каштанов. Она захлебывалась:
— Ой, миленький, это же… эго же настоящий Нью — Йорк!
Есть нечто своеобразное в судьбе Знаменитостей, то есть людей, чьи имена постоянно встречаются в газетах и которые привыкли к тому, что их узнают на улице. Пройдет год-два, и большинство из них канет снова в мрак безвестности, из которой в свое время выбралось, и тогда они либо вновь сделаются людьми, либо и вовсе погибнут, не снеся обиды, ибо Знаменитость, которая уже не знаменита, есть самая никчемная из диковин господа бога. Но некоторые сохранят свою славу вплоть до часа, когда уши близких будут почтительно ловить их слабеющий шепот, и вот эта, наиболее устойчивая порода Знаменитостей, постепенно утрачивает все человеческие черты. Они становятся то преувеличенно ласковы, то нелепо сварливы; злятся, если на вокзальном перроне их осаждают репортеры, и нервничают, если этих репортеров нет; они пожимают руки, щебечут приветствия, раздают автографы, кокетничают перед фотоаппаратом и произносят приятные слова по поводу соевых бобов или местной футбольной команды.
И есть прилипчивые люди, которые сами не имеют надежды стать Знаменитостями, но суета, крепкий запах и неумолчный грохот газетного Олимпа доставляют им невыразимое наслаждение, подобно тому, как лавочникам нравится состоять в добровольной пожарной команде или пожилым дамам — смотреть на дерущихся собак.
Трудно было представить себе более страстную любительницу Знаменитостей, чем Пиони Плениш; и в нарядных кулуарах Терпсихор-холла в Нью-Йорке, где собрались делегаты съезда Федерации Истинных Американцев для Борьбы с Расовыми Предрассудками, она могла полностью удовлетворить свою страсть. Здесь были доступны обозрению епископ Пиндик, монсеньер Фиш, доктор Кристиан Стерн, профессор Бухвальд, сенатор США Феликс Балтитьюд, генерал Гонг, который был не просто генерал, а настоящий армейский генерал, капитан Хет Гисхорн, знаменитый исследователь дальних стран, доктор Прокопус, который был настолько выдающимся психиатром, что фрейдисты избрали его предметом своей ненависти, судья Вандеворт, Генри Каслон Кеверн, которого оценивали в двадцать миллионов, и одна настоящая актриса с уклоном в общественную деятельность — кинозвезда Рамона Тундра. Мало того, присутствовала даже одна представительница титулованной знати, каковых ни Пиони, ни доктор Плениш еще никогда в натуре не видали, — принчипесса Ка Д Оро, чистокровная аристократка, хотя по чистой случайности родилась она в семье некоего мистера Тогга из Арканзаса.
Она писала газетные заметки для отдела светской хроники.
Но был там человек знатнее знатных, с подбородком голубее, чем кровь принчипессы, — полковник Чарльз Б Мардук, бог в мире рекламных агентств, владелец десятка иллюстрированных журналов, в первую мировую войну майор на Западном фронте, а теперь — полковник Национальной гвардии; человек лет пятидесяти, огромный, как дог, но подтянутый, как борзая, с седеющими усами, которые картинно оттеняли багровое лицо.
Доктор Плениш произнес с трепетом в голосе:
— Это Мардук, тот самый, которым так восхищается Гам Фрисби.
На это Пиони ответила:
— Ах, мне бы до него дорваться! Сейчас пойду и заговорю с ним.
Но полковник Мардук, пожав лишь самые белые и самые пухлые из всех наличествующих рук, исчез, и Плениши тут же о нем позабыли, так как навстречу им шел с распростертыми объятиями их старый друг, профессор Джордж Райот.
— Выпьем, что ли, по второй!.. — говорил немного спустя профессор Райот, наливая себе и друзьям в девятый раз.
Доктор Плениш хотел послушать разговор подлинных Столпов Общества, чтобы потом воспользоваться им в качестве образца.
К прискорбию своему, он обнаружил (о чем впоследствии рассказывал Пиони и Джорджу Райоту), что Столпы не очень много говорят о спасении человечества. Говорили они с незначительными словесными вариациями главным образом о том, что биржевой крах оставил их без штанов.
Но доктору Пленишу стало вполне ясно, что дела филантропической организации общенационального масштаба можно вести достойным образом только в Нью — Йорке. Где же еще вы найдете генералов и принчипесс, кинозвезд и Мардуков, не говоря уже о епископах всех мастей, начиная от римско-католической и методистской церкви и кончая Эфиопской Пятидесятницей?[77]
Доктор Плениш принялся за преподобного доктора Кристиана Стерна; он даже побывал в Византийской Базилике Универсалистов, где служил его преподобие, и таким образом первый раз за целый год попал в церковь, если не считать двух посещений той, где служил доктор Китто. Он сумел добиться, что его вместе с Пиони пригласили на чай в пасторский домик, и здесь повел речь о том, как прискорбно, что Хескетовский институт помещается не в Нью-Йорке, где он находился бы под непосредственным духовным руководством доктора Стерна и приумножал бы его пастырскую славу, вместо того, чтобы работать на этих двух грубых эгоистов, Китто и Фрисби.
Доктор Стерн подхватил эту мысль с энтузиазмом, который приятно было отметить у столь делового и столь занятого человека. В нем взыграло воображение. Да! Если бы институт находился здесь, он, как председатель исполнительного комитета, согласился бы, пожалуй, устроить себе кабинет в его помещении, что помогло бы сочетать работу института с другими сторонами его собственной деятельности, во славу господа бога и скромных сельских школ. Да! Если доктор Плениш возьмет на себя труд объехать остальных хескетовских директоров и выяснить, разделяют ли они такую точку зрения, он охотно поднимет этот вопрос летом, на ежегодной конференции в Чикаго.
После этого доктор Плениш уведомил Пиони, что она может уже готовиться к переезду, что Хескетовский институт будет помещаться в одном из самых высоких и самых роскошных небоскребов Нью-Йорка, что его оклад будет, без сомнения, повышен до десяти тысяч в год и что ввиду всего сказанного, если она не перестанет шататься с Джорджем Райотом по кабакам Гринвич-Вилледж и пить всякую дрянь, то он — он за себя не ручается.
На это супруга доктора ответила только одно:
— Ой, Гид, как чудно!
Она была до того одержима Нью-Йорком, что переезд сюда казался ей совершенно в порядке вещей. Она часами выстаивала у витрин ювелиров, парфюмеров и меховщиков Пятой авеню, которые, словно не желая считаться с тем, что вся их основная клиентура разорена, особенно вызывающе сверкали золотом, агатом и хрусталем и задорными французскими надписями на маленьких ярлычках.
Но на этот раз она не поддалась покупательному психозу. Она не купила ни одного платья, ни одной ножной скамеечки для чикагской квартиры, ни одного кольца со стразами. Нет, нет, она только случайно набрела на магазин дамского белья, где хозяйкой была венгерская красавица графиня, у которой произошли всякие несчастья на родине и которой удалось контрабандой, без пошлины, провезти все свои шелка и кружева. Они продавались так дешево, что, в сущности, это даже нельзя было считать покупкой, а скорей помещением капнтаЛс!» И…
Так или иначе, но доктор Плениш заплатил за них, и даже без особых затруднений — пришлось только пропустить несколько очередных взносов за радиоприемник и большую часть прочего имущества.
С методичностью, неожиданной в таком молодом и ветреном существе, Пиони обследовала Нью-Йорк, точно домашняя хозяйка, выбирающая дыню. Она побывала в Епископальном соборе, в Католическом соборе, в Рокфеллеровском соборе, в мюзик-холле, в одном китайском ресторане, в одном румынском ресторане, в одном индийском ресторане, в одном ресторане Доброго Старого Юга, в одном зале музея «Метрополитен» и своими глазами видела Джорджа Джина Натана.[78] Теперь перед нею была одна цель: завоевать Нью-Йорк и заставить его признать ее, ее мужа и ее дочку.
Если ей удастся одержать эту духовную победу, говорила она, то она всю жизнь готова довольствоваться всего сорока тысячами в год на личные расходы.
В характере увеселений, предложенных делегатам ФИАБРАП, так же как и во внушительности списка ораторов, сказывался размах столичной жизни. На заключительном обеде в Уолдорф-Астория процент фрачных пар, а также бриллиантовых колье, вздымавшихся и опадавших на мощной волне напудренных грудей, был выше, чем Плениши когда-либо могли наблюдать в Чикаго, а первую речь произнес не какой-нибудь священник или профессор, а сам полковник Чарльз Б. Мардук собственной персоной.
Плениши и Джордж Райот, сидевшие за столом Д-17, лишь издали могли взирать на великолепие полковника. Когда он поднялся со своего места за почетным столом на возвышении и всем стали видны его мясистые щеки, эффектно перечеркнутые седеющими каштановыми усами, казалось, сам господь бог восстал с небесного престола и лорнирует собравшихся.
Он начал так:
— Друзья мои, и вы, уважаемый председатель, и вы, ваше преподобие! Я не могу, подобно моему другу профессору Бухвальду, говорить с вами, как большой ученый, я могу обращаться к вам лишь как солдат и купец.
В задних рядах, среди Знаменитостей второго сорта, среди Культурных Сил, чей гонорар за лекцию не превышал двухсот долларов, Пиони шептала Джорджу Райоту:
— Положим, в учености он тут с любым может поспорить. Стоит только почитать проспекты, которые выпускает его фирма, насчет гормонов и холодильников.
Доктор Плениш осведомился:
— А это действительно крупная фирма?
Доктор Райот ответил с уважением:
— «Мардук и Сайко» считается членом Первой Четверки. У полковника, надо думать, сколочен капиталец миллионов в пять.
Доктор Плениш вздохнул:
— Он мне кажется человеком, с которым приятно было бы вести знакомство.
— Тише, мальчики, — скомандовала Пиони. — Я хочу слышать, что полковник говорит Першингу.[79]
Кроме обеда, для делегатов был устроен прием у доктора Прокопуса на Парк-авеню, выдержанный в самом роскошном манхэттенском стиле, и Пиони окончательно убедилась, что Нью-Йорк не город, а сплошное блаженство.
Им так и не удалось вникнуть до конца в многообразные функции доктора Прокопуса. Считалось, что он психиатр; предполагалось, что он обучает женщин искусству терпеть богатых мужей; но, кроме того, он, по-видимому, играл роль повивальной бабки во всех интеллектуальных начинаниях города. Он постоянно знакомил литераторов с организаторами радиопередач, политиков — с издателями газет и журналов, австрийских банкиров — с американскими банкирами, хорошеньких замужних женщин — с врачами, которые знали кое-кого, кто знал адрес специалиста по абортам. В его квартире было двенадцать комнат, каждая такой площади, как весь кинникиникский коттедж Пленишей, и стены сплошь увешаны фотографиями оперных певцов и певиц с их автографами.
На этом приеме Пиони воспылала невинной страстью к исследователю дальних стран капитану Хету Гисхорну. Он был англичанин родом, хорошо одевался, носил монокль и побывал на Целебесе, что произвело особенное впечатление на Пиони, хотя она никак не могла припомнить, что это такое — остров или форма брачных отношений.[80] Он поцеловал ей руку и принес бокал с коктейлем розового цвета.
— Да уж, мальчики, вот у кого можете поучиться светскому обхождению, — сказала Пиони Джорджу Райоту.
— Подумаешь! Кому нужен такой цирлих-манирлих! — возмутился Джордж. — Если вам непременно надо влюбиться в кого-нибудь, Пиони, влюбитесь или в Гида, или в меня.
— Я бы даже сказал, что ты можешь обойтись без всяких «или», Пиони, — сердито сказал доктор Плениш. Он было насупился, но вспомнил, что Джордж — его единственный друг в этом головокружительном мире двенадцатикомнатных квартир, исследователей дальних стран и полковников-миллионеров.
Ему вдруг захотелось очутиться в пивной в маленьком провинциальном городке, со своим однокашником Хэтчем Хьюитом… Пиони, Хэтч, Джордж Райот, дочурка Кэрри — есть ли у него еще кто-нибудь в целом мире?.. Он испытывал смутное облегчение от мысли, что Пиони с Джорджем едва ли могут зайти дальше легкого флирта.
Под покровом всех этих интеллектуальных развлечений доктор Плениш усиленно вербовал среди хескетовских директоров сторонников своего плана перевода Института в Нью-Йорк. Он заручился обещаниями поддержки у Джорджа Райота, у миссис Гохберг и у одного недавно избранного директора, элегантного, представительного нью-йоркского священника, доктора Элмера Гентри.[81]
Доктор Гентри был, пожалуй, самым популярным из всех радиопасторов Манхэттена. Говорили, что он окончил Гарвардский университет[82] и, кроме того, учился в Германии, но свою ежедневную передачу «Любовь — Утренняя Звезда»[83] он вел в простом фамильярно-компанейском тоне, чем завоевал себе миллион постоянных слушателей, преимущественно из числа лежачих инвалидов, и приобрел такого мощного патрона, как «Акционерное общество Фосфоризованной Жевательной Резины». Он выступал с лекциями и у себя в церкви, однако специалисты находили, что в докторе Элмере Гентри есть нечто такое, что делает его особенно подходящим оратором для радио.
Но даже обеспечив себе поддержку более влиятельных директоров, доктор Плениш целых две недели после своего возвращения в Чикаго не решался заговорить с Гамильтоном Фрисби о предполагаемом бегстве в Медину.[84] Готовясь к этой сцене, он перебрал все тона, в которых мог бы провести свою роль в ней: тон мягкий и чувствительный, тон смелый и настойчивый, тон небрежный и слегка юмористический — ив конце концов остановился на энергичном тоне делового человека. В таком духе он и открыл военные действия:
— Я тут занимался нашим вопросом, изучил его досконально. Мы не должны идти на поводу у предрассудков и сантиментов. Я сам очень люблю Чикаго, но ради пользы дела нам давно пора перевести центр Института на Атлантическое побережье.
Фрисби долго смотрел на него молча.
— Да, я получил письмо от Криса Стерна. Значит, вы с Крисом решили, что вам удастся оттереть меня от «кормушки? Плениш, вы уволены!
— !..!..
— Незаконно? Да, конечно, это незаконно. Но директора обычно делают то, что я им указываю. На очередном общем собрании вас не переизберут. Так что до июля у вас есть время подыскать себе новое место, если вам это удастся, Плениш, если вам это удастся.
Доктор Плениш напустился на преподобного доктора Джеймса Северенса Китто. Он кричал, что если доктор Китто послушается этого постнорожего разбойника мистера Фрисби, значит, сам он трус и лицемер.
Доктор Китто сказал, что это возмутительная история, бесспорно, э… э… э… возмутительная история.
И это было все, что сказал доктор Китто в своем красивом пасторском кабинете, где на стенах висели портреты Александра Кэмпбелла,[85] Кальвина и Коттона Мезера.[86]
Пасторат был поместительный полуособняк с кирпичным фасадом в респектабельном старом квартале Эвенстона. Доктор Плениш оглянулся, уходя. Он остановил свой взгляд на окне кабинета доктора Китто. Штора была приподнята, и он увидел, как доктор Китто задумчиво почесал подбородок, зевнул, потянулся за свежей вечерней газетой, развернул ее и с полной безмятежностью углубился в изучение обильного дневного урожая убийств, уличных катастроф, разводов и голодных смертей. Доктор Китто даже на миг не отвел в сторону задумчивого взгляда.
Доктор Плениш стоял и смотрел, и в эту минуту он понял, как чувствуют себя мертвецы.
20
Два доктора Плениша сели обедать с Пиони — один, настоятельно твердивший, что нужно с этим покончить, сказать ей, что он уволен, и другой, до того усталый и пришибленный, что казалось, ему не выдержать предстоящей исповеди. Пиони с помощью недотепы-кухарки приготовила в этот день особенно замысловатый салат из груш авокадо, крутых яиц и вишен с добавлением еще кое-каких приправ, вероятно, по собственному рецепту, и этот нелепый салат вплелся в его мрачное раздумье как некий трогательный символ Пиони, как перчатка, еще хранившая тепло и форму ее руки.
Он заговорил, выискивая окольные дороги. Он рассказал ей, что ездил в Эвенстон и что доктор Джеймс Китто, несомненно, носит парик. Она довольно хихикала: «Давай вышвырнем его из Института!», — а он в это время лихорадочно соображал, что понятия не имеет, где искать другую работу, что долгов у него долларов на 850, а в наличности 375 долларов (порывшись в карманах, он решил, что, может быть, наскребет еще один) и что последнее обращение к тестю было встречено весьма неблагосклонно.
Он сказал, что в Эвенстоне во всех палисадниках цветут нарциссы, и она подхватила: да, кстати, надо же наконец решить, куда ехать на лето — в Северный Мичиган, в Вермонт или в Миннесоту, на озеро Бэтл, — и не может ли он взять не один, а два месяца отпуска? Просто свинство, что эти старые крысы Китто и Фрисби так эксплуатируют его — нельзя ли от них отвязаться?
Ее безмятежный тон положил конец его колебаниям.
Свою исповедь он закончил так:
— Убить меня мало за то, что я довел до этого тебя и малышку!
Вот когда Пиони могла бы показать себя настоящей американской женой, оплакивать свою судьбу и спрашивать, на что он годится, если не сумел о ней позаботиться. Минуту она сидела молча, с забытой на лице улыбкой. Потом рассмеялась.
— Поделом мне. Ох, дорогой, это все я виновата, все моя расточительность. Иначе мы могли бы послать Фрисби ко всем чертям и спокойно уехать в Нью-Йорк. Нашлепай бэби по ручкам, вперед пусть не балуется. — Он расцеловал ее, чувствуя, как в нем воскресает вера, и она воскликнула:-Вот что, милый, напиши Джорджу Райоту. Он для тебя что-нибудь придумает, поможет перебиться. И, пожалуй, сейчас самое время сказать тебе, что между мной и Джорджем ничего нет.
— ?
— В Нью-Йорке у тебя был такой вид, словно ты думал, что что-то есть; но я слишком люблю тебя. Если я г. чем грешна, так скорее в том, что мне не терпится увидеть тебя важной персоной. И я этого дождусь. Вот посмотришь. Сейчас у нас с тобой только временный кри- г:;с, а скоро опять наступит процветание, да еще какое! 1 i Нью-Йорк от нас не уйдет.
— А может, лучше попросить у Ости Булла какой — нибудь работы в колледже, пока я буду нащупывать почву в Нью-Йорке?
— Нет, нет! Я и месяца не выдержу в Кинникинике. Разве там увидишь настоящих людей вроде полковника Мардука и сенатора Балтитьюда? Я презираю Кинникиник. Там все такие провинциалы. А про твою скверную женку можно сказать что угодно, но уж провинциалкой ее не назовешь! Согласен?
По-видимому, он был согласен.
— Я придумала. Я тебе возмещу убытки, в которых сама же виновата. Сдадим мебель на хранение, а я сяду на шею мистеру Уипплу К. Джексону, эсквайру, и подожду, пока ты получишь шикарное место с подобающим окладом.
— Но я буду все время беспокоиться…
— А ты не беспокойся о моих беспокойствах! Я своего муженька знаю. Пари держу, что будь ты священником, ты бы мог сжить со света Джима Китто и Криса Стерна, бог обязательно был бы на твоей стороне. А что касается полезных дел, — да ты и сейчас уже принес сельскому образованию больше пользы, чем Уильям, Дженнингс и Брайан, вместе взятые!
Был август месяц, и рабочие сносили их вещи на улицу и грузили в фуру для отправки на склад. У доктора Плениша жгло глаза и щекотало в горле, когда он, обняв Пиони за плечи, стоял и смотрел, как, стукаясь о лестницу, отбывали в тюрьму их сокровища: обожаемый новый кедровый сундук, красный с золотом чиппендэйлевский китайский шкафчик, китайский ковер, который они купили в Мэйбл-Гроуве — как молоды они были тогда! — выцветшие фарфоровые часики, яшмовая лампа, веселый радиоприемник карельской березы, под музыку которого они иногда танцевали одни после полуночи, торжествуя какую-нибудь новую победу.
И черно-серебряный холодильник.
— Ой, пожалуйста, не уроните! — умоляла Пиони грузчиков. Он чувствовал, как тяжело она дышит. Он подумал, что ей в первый раз стало страшно. Люди, год назад занимавшие почетные должности, теперь торгуют яблоками на улицах. Как знать, в каких душных трущобах или опустевших, заложенных и перезаложенных домах изнывают сейчас их жены и дети!
— Душа болит, что наш холодильник уезжает в ломбард. Мы хорошо здесь пожили и… Ну, нет! — мужественно перебила себя Пиони. — Когда мы распакуем его в Нью-Йорке, сам епископ Пиндик и сенатор Балтитьюд будут лакать мои коктейли, а не эти чикагские «профы» и «доки»!
На последнюю ночь у них остались только чемоданы, детская кроватка для Кэрри, которую одолжил им дворник, а для себя — матрац на полу. В сумерках квартира казалась не только пустой, но угрожающе-огромной, словно никто никогда уже не сумеет ее заполнить, и казалось, что никогда им больше не устроиться в своем гнезде, не сидеть на мягких стульях, не есть по-человечески, не беседовать с друзьями. Они стали городскими «оки».[87]
Они бежали от голых стен — сначала в кафетерий, поужинать, потом вместе с Кэрри, которой уже исполнилось семь лет, — в кино, посмотреть прелестную Джоэн Крофорд.[88] Втроем они шли по раскаленным улицам — почтенное семейство, в некотором роде святое семейство, неторопливые, круглые, сытые, на вид нерушимые, как каменные фасады по сторонам. Но по пути доктор Плениш покосился на кирпичный особняк, обращенный в пансион. Занавески в окнах были закопченные, рваные, а на крыльце сидел человек, в прошлом, может быть, профессор, доктор; сгорбленный человек, с бородкой, как у него самого, но нечесаной и грязной. Доктор Плениш содрогнулся.
Кэрри болтала:
— А зачем ты едешь в Нью-Йорк, папа, зачем?
— Замолчи, глупышка, — остановила ее Пиони. — Папе туда нужно по делу.
— А зачем?
— Я уже тебе сказала: по делу.
— Лучше бы он поехал с нами к дедушке в Фарибо. В городе нехорошо, — протянула Кэрри, и Пиони спросила:
— Чем?
— Слишком много трамваев, и людей тоже слишком много.
— А ты разве не любишь людей, малышка?
— Нет, не очень. Они так много разговаривают.
Я больше люблю одуванчики и кораблики.
Кэрри сладко уснула в чужой кроватке, а доктор Плениш и Пиони еще долго сидели на краю своего матраца, в пустынной квартире, освещенной одной-единственной лампочкой без абажура. Он заговорил о том, что не давало ему покоя все время, пока они сидели в кино:
— Ведь мы добрые христиане, правда?
— Ну ясно. Во всяком случае, добрые епископалы.
— Так не следует ли нам поискать утешения в религии? Священники говорят, что это и сейчас бывает. Давай… Гм… Давай подумаем о всевышнем.
— Давай.
— Господь бог… Гм… О черт, жаль, что нет под рукой библии. Вообще-то, кажется, она у нас есть?
— Конечно, я ее видела, когда укладывала книги и одеяла.
— Там в библии есть что-то относительно… как это, черт возьми…
— Право же, милый, не стоит чертыхаться, когда ты говоришь о религии и о боге.
Доктор Плениш посмотрел на нее, восхищенный ее тактом, и нервно продолжал:
— Вероятно, ты права. Так вот, эта ерундовина — то есть этот стих — ну, в библии это из притчей Соломоновых — вроде того, что «все суета, и ни в чем нет пользы».
— Нет, это из Экклезиаста.[89] И я даже помню наизусть.
— Неужели? — Его восхищение этой поразительной женщиной еще возросло.
— Честное слово, помню. Ведь в Фарибо я преподавала в воскресной школе, и очень неплохо, прежде чем уехала в колледж и погрязла в безверии, столь опасном для нравственности молодой девушки. Ну-ка, подожди. Сейчас вспомню. Вот что-то в этом роде:
«И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя сделалась больше»… нет, не так — «пребыла со мною. И чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и вот все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!»
— Нет, что-то нехорошо получается, — задумалась Пиони. — Как будто бог говорит нам: «Это еще что за затея — ехать в Нью-Йорк? Поезжайте в Кинникиник и сидите там — пристаньте к ректору с ножом к горлу, пусть даст вам работу». Ой нет, он так никогда бы не сказал, верно, милый? Сидеть в Кинникинике? Нет! Ведь не сказал бы он так? Правда?
— Конечно, нет. Ты его самая любимая овечка.
— Да, только, по-моему, он мог бы получше заботиться о своей овечке и ее муже, а то им все время так туго приходится. Я просто не понимаю.
— Верно, маленькая, это ты неглупо рассудила, но надо нам быть посерьезнее, если уж мы решили искать утешения в религии, а, видит бог, чем-то нам нужно утешиться!
Она зашептала ему на ухо.
— Ну, Пиони, это уж безобразие!
— Ладно, я буду очень серьезной божьей овечкой. А ты помолись.
— Как?
— Ведь христиане всегда молятся, верно?
— Да, конечно, Пиони, и ходят в церковь и вообще, но я хочу сказать…
— А чем ты рискуешь?
— Ну хорошо, если тебе так хочется. В конце концов я же действительно верующий — иначе и не может быть, если уж человек посвящает себя служению людям, как я, ну и вот…
Он поднял глаза, тоскливо стараясь ощутить присутствие бога, почувствовать милосердную силу, которая защитила бы его возлюбленную жену, и его непонятную дочку, и его меркнущую честолюбивую мечту о силе и славе.
Но он не видел и не чувствовал над собой ничего, кроме пыльной электрической лампочки.
— Господи боже наш…
Слова были бессмысленные и уходили в пустоту. Он выпалил:
— Не могу. Я не верю, что бог, если он и есть, слышит меня. И не верю, что Китто или Крис Стерн верят, что бог слышит их, когда они этак запросто с ним беседуют. Наверно, они до смерти испугались бы, если бы он вдруг заговорил и ответил им. Нет, маленькая, ничего не поделаешь. Нам с тобой не на кого надеяться, кроме как друг на друга.
— А разве этого мало? Мы с тобой счастливые! — сказала она радостно.
Он ехал в Нью-Йорк, первый раз в жизни проводил ночь в вагоне без спального места. Обед в вагоне-ресторане обошелся бы в доллар, если не больше, поэтому он уже несколько часов удовлетворялся тем, что отламывал по кусочку от двух плиток шоколада с миндалем, и, кончив, с удовольствием обнаружил в кармане еще несколько крошек, облепленных фольгой.
Пронырливого вида субъект, сидевший с ним рядом, предложил:
— Может, сразимся в покер?
— Нет, нет, спасибо, я не играю.
— Вы кто же, приятель, будете? Учитель или агент по продаже книг?
— Агент.
— Есть что-нибудь интересное?
— Нет… Я сейчас еду не по делам.
Мистер Плениш, мистер Гидеон Плениш, безработный бродяга, не имел ни малейшего желания продавать книги, внедрять разумные принципы сельского образования, распекать публику за нечуткое отношение к нуждам филантропических организаций или заниматься изготовлением идеологических штампов в связи с очередным кризисом.
Он хотел, чтобы его оставили в покое, хотел спать и хотел думать о том, как завтра утром в Нью-Йорке он истратит целых двадцать пять центов на кофе с яичницей.
21
В Нью-Йорке преподобный доктор Кристиан Стерн встретил его сочувственно, но несколько нервно.
— К сожалению, этот негодяй Фрисби пользуется большим влиянием в Хескетовском институте. Я вообще знаю его повадки, но все-таки надо было вам подойти к нему немножечко осторожнее. Теперь, что касается места в другой организации национального масштаба… Дела, правда, сейчас таковы, что хуже некуда: сами понимаете, кризис, застой. Ваш бескорыстный идеализм и ваш Административный опыт мне известны, доктор Плениш. А также ваш ораторский дар. Но все наши главные благотворители пострадали от кризиса. Самоубийство за самоубийством, знаете. Очень, очень тяжело. Но посмотрим, что-нибудь, возможно, и удастся сделать.
Капитан Хет Гисхорн, выдающийся молодой исследователь дальних стран, был англичанин по рождению, но, как у большинства англичан, в его наружности было очень мало английского. Он был плотный, приземистый и гладкий, с толстой белой кожей, к которой не приставал никакой загар; и он носил монокль, но когда нужно было рассмотреть что-нибудь, надевал очки.
Голос у него был вкрадчивый и неприятный. Он питал пристрастие к двубортным синим пиджакам, которые казались выутюженными, даже когда были измяты. И для человека действия, созданного, чтобы вечно водить где-то караваны верблюдов, он удивительно хорошо ориентировался на посту руководителя Нью-Йоркского Общества Распространения Культуры среди Эскимосов, в котором являлся одновременно президентом, ответственным секретарем и единственным лицом, пользовавшимся всеми доходами от пожертвований.
— Доктор Стерн говорил мне, что вы хорошо знакомы с деятельностью стимулирующих организаций, — вежливо сказал капитан Гисхорн, принимая доктора у себя в кабинете.
— О, да-да. — Доктор Плениш соединил концы пальцев и постарался выглядеть более деловитым и не столь голодным. — Составление циркулярных писем как для привлечения средств, так и для поднятия нравственного уровня; обучение персонала искусству правильно отвечать по телефону, у себя директор или нет, а также распознавать среди посетителей праздношатающихся, которые способны только на пустые разговоры, и подлинно сочувствующих, от которых могут быть получены деньги; научно-исследовательская работа по всем вопросам — всегда можно найти обремененного семейством педагога, который за небольшое вознаграждение готов рыться в библиотеках и архивах и писать вполне приличные статьи для напечатания за подписью директора или ответственного секретаря, смотря по обстоятельствам; публичные беседы, преимущественно с женщинами, в частных гостиных и в танцевальных залах отелей; умение доставать актеров и пианистов для бесплатных выступлений на собраниях и организовать дело так, чтобы вовремя были пущены по рядам подписные листы; следить за тем, чтобы ораторы, особенно из политических деятелей, закруглялись в должный момент; добиваться скидки у метрдотелей — мне незачем говорить вам, что если вы берете с участников благотворительного банкета пять долларов и при этом платите ресторану хоть на один цент больше, чем доллар шестьдесят пять, включая обед, чаевые, помещение и освещение, значит, вы не знаете своего дела, а настоящий специалист оборудует все это за доллар тридцать пять и еще с мятными леденцами после десерта; завтракать в обществе банкиров и брать на заметку все, что можно от них услышать о новом повышении на бирже; бывать на заседаниях комитетов и ограничивать тремя минутами ораторов, призывающих к немедленному действию; содержать в порядке списки возможных клиентов с текущим учетом всех данных, как — то: точный адрес, финансовое положение и восприимчивость к эмоциональным призывам; уметь разговаривать по телефону с важными особами; организовать газетную и радиорекламу; следить, чтобы все ведомственные издания и все интервью в печати были выдержаны в духе приятного сочетания оптимизма с предостережением ©б опасности, грозящей Американскому Образу Жизни…
Да, мне кажется, я имею полное право называть себя специалистом по научно организованной филантропии, пропаганде просвещения, поощрению чувства любви к ближнему и популяризации любых благородных начинаний, к каковым принадлежит распространение культуры, а также, без сомнения, и музыки среди эскимосов. Да.
Капитан Гисхорн покачал головой.
— В таком случае, друг мой, боюсь, вы не тот человек, который мне нужен.
— О! — сказал доктор Плениш, и перед его взором пронеслась жареная курица, сочная, золотистая жареная курица с потрошками, засахаренными бататами и оладьями из кукурузной муки.
— Я вижу, что вы настоящий деятель интеллектуального прогресса, но в этом эскимосском предприятии всякими комитетами и выступлениями занимаюсь я сам. Мне нужен просто толковый работник, который мог бы в случае надобности вести за меня разговоры по телефону, завтракать с мелкими жертвователями и рассылать циркулярные письма. И я могу платить не больше тридцати пяти долларов в неделю.
— Дайте сорок. Мне жить не на что.
— Заметано! — сказал капитан Гисхорн, который отличался большими лингвистическими способностями и владел разговорной речью не хуже, чем персидским языком или наречием племени суахили.
Доктор Плениш отправился на телеграф и молнировал Пиони, что нашел работу, что любит ее и Кэрри и что к рождеству надеется забрать их в Нью-Йорк.
Он не упомянул о своем жалованье и сам старался не думать о том, что будет получать теперь только сорок долларов в неделю, тогда как в Хескетовском институте получал семьдесят пять, не считая знаков благодарности от поставщиков школьного оборудования (он опасался, что на эскимосов в смысле благодарности рассчитывать не приходится, сколько бы культуры он им ни прививал).
Еще до октября он убедился, что капитан Гисхорн поступил с ним не так, как подобало бы поступать с людьми в филантропических кругах. Фактически доктору Пленишу все же пришлось применять все те знания и навыки, которые он перечислил в их первой беседе, так как капитан отправился исследовать Голливуд и Санта — Барбару и в продолжение нескольких месяцев выражал свой интерес к Эскимосской Культуре только тем, что требовал еженедельно финансовый отчет и забирал все деньги, за вычетом сумм, необходимых для уплаты аренды и жалованья служащим.
Впрочем, он вел себя настоящим джентльменом: в письмах никогда ни на что не жаловался — только просил доктора рассылать побольше циркулярных призывов, устраивать побольше интимных евангелических собраний и выжимать побольше денег из всех, кого можно было уговорить «проникнуться сочувствием к горестному положению наших Северных Братьев, до сих пор остающихся в стороне от всеобщего единения и взаимопонимания народов».
Иногда доктору Пленишу приходило в голову, что это не совсем справедливо по отношению к скандинавским миссионерам в Гренландии; иногда он думал о том, что его, пожалуй, устроило бы меньше взаимопонимания и больше наличных денег.
Ему не очень уютно жилось осенью и зимой 1930 года — года его победного вторжения в Нью-Йорк. За доллар в день он снимал в театральном районе номер с железной кроватью, двумя стульями, гидеоновской[90] библией, раздавленным тараканом на стене и ванной в другом конце коридора.
Не более радовала глаз и контора Эскимосской Культуры. Она состояла из большой комнаты, где помещался облезлый дубовый стол для него и сверкающее сталью бюро для капитана Гисхорна, шкаф с перепиской, шкаф с картотекой клиентов, забытые кем-то галоши и, на особой полке, роскошно переплетенное и богато иллюстрированное издание «Любовниц французских королей и английских герцогов» в семи томах. Кроме того, была еще темная проходная комната, где стоял стол мисс Кэнтлбери, не слишком юной и не слишком хорошенькой стенографистки — она же телефонистка и секретарь, — четыре стула для проблематических посетителей, зонтик мисс Кэнтлбери и богато иллюстрированное и роскошно переплетенное издание «Летописи арктических и субарктических экспедиций исследователей, звероловов и миссионеров всех вероисповеданий с древнейших времен до 1799 года нашей эры» в девяти томах.
Доктор Плениш часто думал о том, что этот объемистый труд мог бы помочь ему как проникнуть в психологию эскимосов, так и научить их строить дизель-моторы, но как-то никогда не хватало времени заглянуть в него.
Контора помещалась в старом шестиэтажном кирпичном здании на Четвертой авеню, с лифтом, который трясся и стонал при подъеме. Чуть не рядом был салун, где во все время действия сухого закона можно было получить лучший в Манхэттене бесплатный завтрак в приложение к платной выпивке. На одном этаже с Эскимосской конторой помещались массажист, агент по продаже резиновых изделий, издатель Нового завета, дела которого шли так успешно, что он выдерживал даже конкуренцию Библейского Треста, ночная стенографистка, знавшая все про всех, а также главная, она же и единственная, контора компании Золотых и Сапфировых Россыпей Свастика-Родезия, которая по занимаемой площади и по общим моральным установкам была поразительно схожа с Обществом Распространения Культуры среди Эскимосов.
Когда доктор Плениш приступил к работе, его чрезвычайно смущало отсутствие у него достаточных сведений об эскимосах. За всю свою жизнь он ничего о них не слыхал, кроме того, что они живут на севере, в снежных домах и питаются ворванью. Он решил вечерами походить в публичную библиотеку и почитать там про снежные дома и про ворвань.
К концу второго дня службы доктора Плениша, в течение которого он занимался тем, что просматривал переписку и брал на заметку возможных клиентов, преимущественно из разряда богатых вдовцов, капитан Гисхорн вдруг перестал диктовать мисс Кэнтлбери и сказал:
— Ну, вы тут продолжайте, дружище. Я спешу на коктейль к старухе Пиггот.
И он удалился, щеголяя своей тросточкой, белой гвоздикой в петлице, гетрами и черной фетровой шляпой.
Доктор Плениш посмотрел на мисс Кэнтлбери и вздохнул. Она показалась ему увядшей, но симпатичной.
— Доктор, вы не возражаете, если я присяду и выкурю папироску, благо начальство скрылось? — спросила она.
— Пожалуйста! Я даже составлю вам компанию.
Она уселась за стол капитана, прочитала две-три его любовных записки и сказала вполголоса:
— Слушайте, доктор. Я была бы рада помочь вам, ввести вас в курс дела. Вы мне кажетесь славным малым, а я, вы знаете, повидала людей. Может быть, есть чего-нибудь такое, что для вас непонятно в нашей лавочке?
(Он подумал, что в молодости, будучи почтенным преподавателем риторики, он не пропустил бы выражения «чего-нибудь такое».)
— Да, мисс Кэнтлбери, есть. У меня, правда, большой опыт работы в стимулирующих организациях, но мне до сих пор как-то мало приходилось иметь дело с эскимосами. Не порекомендуете ли вы мне лучшие книги по данному вопросу?
— Господи, да кто же в этом кабаке еще какие-то книги читает?
— Я понимаю, капитану Гисхорну это не требуется, но ведь он изучал быт северных народов на практике…
— Слушайте, доктор, вы уже большой, и пора вам знать, что Санта-Клаус существует только в сказках. Извините меня за резкость, но я не могу видеть, когда человека водят за нос — если только он не жертвователь, конечно. Так вот, запомните: после детства, проведенного в Англии, капитан за всю свою жизнь побывал севернее Бангора, штат Мэн, только один раз — в 1926 году, на туристском пароходе, который на день останавливается в Новой Шотландии, на день — в Исландии и на два дня — в Норвегии. Кажется, он действительно занимался исследованиями в Персии или в Африке — наверно не знаю. Но насчет эскимосов все его сведения укладываются в один рекламный лозунг: «Единение американских стран — это значит единение ВСЕХ американских стран!». Понятно? Эскимосы — наши младшие кузены на далеком Севере, а поэтому необходимо привить им все наши нравственные принципы и цивилизованные обычаи, — другими словами, радиопередачи Амоса и Энди, гольф, мыло «Бэби» и воздушные перелеты со скоростью двести миль в час в такие места, куда ни один здравомыслящий эскимос не полетит.
— Но что же мы все-таки делаем, чтобы помочь эскимосам?
— Делаем? Честное слово, док, времена Семи Карликов миновали. Мы просто посылаем шестьсот долларов в год Антиномистской Миссии в Гренландии, и она снабжает нас фото и литературой для рассылки. Раз мы оттуда получили даже целый комплект наглядных пособий — каяк, гарпун, китовый позвонок и чучело маленького тюлененка. Такая прелесть этот тюлененок — ну просто вылитый мой племянник Ирвинг. Вы не поверите, даже самые скряги и маловеры раскошеливаются на просвещение эскимосов при виде его умильных стеклянных глазок. Я сама раз чуть не пожертвовала четвертак!
Ну вот, значит, шестьсот монет идут антиномистам. Что они там с ними делают, я не знаю — режутся, должно быть, в «пьяницу» в долгие полярные ночи. Вот и все наши дела, не считая, конечно, того, для чего существует любая благотворительная организация: чтобы платить жалованье вам и мне и вносить арендную плату, так как иначе нам с вами пришлось бы проводить холодные зимние дни в зале ожидания на Центральном вокзале. А то, что остается, примерно шестьдесят два процента, идет капитану Хету Гисхорну на его бутоньерки, его девушек и его коньяк.
Но надо отдать справедливость капитану. Среди хозяев благотворительных организаций он единственный никогда не притворяется, будто делает кому-то добро, разве что в переписке с клиентами. Обычно какую шайку ни возьми — одна хоть раз в год пожертвует индейку бедным сиротам, другая изобличит провокатора в рабочем движении, который уже изобличен газетами, третья определит сто долларов стипендии неимущему студенту или отправит в турне выдрессированного лекторишку. Но капитан Гисхорн этим не занимается!
Еще вам нужно знать одну подробность, док, и тогда вы и думать забудете о каких-то там книгах. Я говорю о Джоне Литлфише — это наш главный экспонат. Это настоящий эскимос, которого мы цивилизовали. Как его на самом деле зовут, я не знаю, и сам Джон, кажется, тоже не знает. Может быть, он вовсе и не эскимос, а индеец племени кри. Какие-то миссионеры с Севера привезли его сюда двадцать лет назад, когда ему было четыре года; потом они обанкротились и смылись. Но, во всяком случае, он, кажется, похож на эскимоса, и, если его пощекотать, он ворчит, кажется, совсем по — эскимосски, поэтому, когда вы выступаете перед большой аудиторией, он сидит тут же на эстраде и может даже сказать речь из восьмидесяти пяти слов, которой его выучил капитан, о том, как он любит порошковое молоко. А вообще он служит маркером в бильярдной на Шестой авеню.
Под ценным руководством мисс Кэнтлбери доктор вскоре нашел смягчающие обстоятельства, которые заставили его почти полюбить контору Эскимосской Культуры. Так как бухгалтерией занималась та же мисс Кэнтлбери, ему удалось повысить свой оклад до шестидесяти долларов в неделю, не беспокоя по этому поводу капитана Гисхорна. Он снял небольшую квартирку в Бронксе и к рождеству вызвал Пиони и Кэрри в Нью-Йорк. Но свою обстановку они пока оставили в Чикаго.
Счастливейшим событием эскимосской карьеры доктора явилась встреча с Уильямом Т. Найфом, одним из самых ревностных адептов той несколько эксцентричной фундаменталистской[91] секты, которая носит название Антиномистской церкви. Сектантская печать упоминала о мистере Найфе как о «смиренном духом миллионере, следующем заветам св. Павла в своей личной жизни и в производстве безалкогольных напитков». Рекламировали его также в качестве «самоучки, который говорит с красноречием Цицерона или Дуайта Муди,[92] а пишет с выразительной силой Мэри Бейкер Эдди или Марка Твена».
Это, по всей вероятности, было справедливо, так как у мистера Найфа всегда хватало христианского смирения и деловой сметки на то, чтобы нанимать в качестве литературных «негров» самых квалифицированных журналистов. К ораторскому искусству и поэзии в прозе он относился с не меньшим жаром, чем к пропаганде трезвенности и распространению Оки-Доки, который в 1930 году стоял на первом по сбыту месте среди потребляющихся в Америке безалкогольных напитков, согласно подсчетам, произведенным Бюро Индустриальной Статистики на основании данных по 11 749 аптекам, 780 бильярдным, 61 церковной закусочной и 1 126 тайным кабачкам.
По личному соизволению Всемогущего Господа Бога мистер Найф в молодости одержал победу над духом сомнения. Как он впоследствии рассказывал членам ХАМЛ, его в то время неоднократно искушала мысль, что если вы, находясь в дороге, пропустите разок воскресную службу, Господь не обязательно осудит вас гореть на вечном огне. Но Господь вразумил его, пора — з» ив тяжким приступом ревматизма, и он упал на колени — что было весьма болезненно — посреди зала ожидания на Хайхэкской станции железной дороги Денвер — Рио-Гранде и покаялся в безбожии. С тех пор он не пропустил ни одной воскресной службы.
Тем же личным божественным соизволением он вышел из паники 1929–1930 годов еще богаче прежнего, так как миллионы потребителей нашли, что дешевле покупать Оки-Доки, чем пагубное виски. А в состав Оки-Доки входило достаточно кофеина, чтобы потребитель мог пристраститься к нему без видимого ущерба для здоровья.
Мистер Найф в 1930 году был одним из достойнейших современников испанской инквизиции.
Либеральное духовенство превращало свои церкви в лекционные залы, но в 1930 году — как было и в 1940 и будет, вероятно, в 1960 — убежденные фундаменталисты, твердо знающие, что бог сотворил мир в шесть дней, чтобы на все последующие времена его возненавидеть, свято блюли истинную веру. Как ни ярко рдеют неоновые лампы на Главной Улице, им не затмить адского огня, пылающего в часовне антиномистов или в новой реформированной Скинии Кающихся Святителей Господнего Синклита и в большинстве кирпичных и каменных, баптистских и методистских церквей, похожих на вокзалы постройки 1890 года. К середине двадцатого века одна четверть Америки знала, что физики научились расщеплять атом, но остальные три четверти еще не слыхали об учении Дарвина.
Уже несколько лет, как мистер Уильям Т. Найф препоручил свое предприятие своим шестерым дюжим сыновьям, а сам колесил по стране, осведомляя многолюдные аудитории о том, что: а) он хоть и самоучка, а поумнее многих, кто учился в Гарварде, б) на всех его фабриках управляющие начинают рабочий день с молитвы, в) члены профсоюзов очень плохие рабочие, просто никуда не годные рабочие и г) не было бы этого вечного нытья насчет того, чтоб поменьше работать и побольше получать, если бы удалось убедить рабочих, чтобы они читали библию — единственную книгу, в которой все, от корки до корки, непреложная истина, — а не занимались бы своекорыстными размышлениями о предметах мирских и суетных, вроде квартирнои платы или цен на бакалею.
И вот мистер Найф почувствовал, что приспело время увековечить в нетленной форме полную чудес историю его жизни. Познакомившись с доктором Гидеоном Пленишем на собрании по вопросу об Эскимосской Культуре, организованном антиномистами, он осведомился, является ли добрый доктор убежденным фундаменталистом и читается ли у него в доме утром и вечером молитва. Узнав, что перед ним именно такой образец благочестия, он предложил доктору пять тысяч долларов за написание его, мистера Найфа, автобиографии, разумеется, от первого лица.
Доктор Плениш предложение принял и немедленно переехал с семейством в пансион в Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк, чтобы быть поближе к мистеру Найфу и его священным трудам. Он поцеловал мисс Кэнтлбери — в первый раз — и письменно известил о своем уходе капитана Гисхорна, который в это время отважно исследовал теннисные корты Аризона-Балтимор-отеля.
Мистер Найф был противником роскоши, до которой так падки потребители вина и коктейлей. Он говорил:
— Я бы мог задешево купить и продать всех этих безбожных молодчиков, что похваляются своими яхтами и лошадьми для поло, но мы с миссис Найф верны заветам Писания — быть скромными в привычках и возвышенными в мыслях, а потому мы довольствуемся этой отшельничьей хижиной. Ну, чтобы свершить священный долг гостеприимства, здесь места хватит, но нам-то самим нужна лишь крыша над головой да корка хлеба. Да, нам немного нужно. Правда, если довольствуешься немногим, разумно желать, чтобы это немногое было первого сорта.
Отшельничья хижина представляла собой виллу в колониальном стиле на двадцать комнат, выстроенную некогда в качестве загородной резиденции одного кинорежиссера. При ней имелся розарий в два акра и гараж на восемь машин, целиком заполненный. Доктор Плениш и мистер Найф работали в библиотеке так называемого отшельника, комнате длиной в сорок футов, из которых шестнадцать было вывезено из библиотеки покойного герцога Дипхэвена.
Перед началом работы мистер Найф произносил всегда и неизменно:
— Сигару, док? Я, видите ли, принципиальный противник курения, считаю его нехристианской и непохвальной привычкой — душа болит глядеть, как наша молодежь отравляется табачным дымом, — все профсоюзные агитаторы курят, это я вам точно говорю. Но мой врач, добрый христианин, прописал мне время от времени выкуривать сигару для горла, так я уж решил курить Поркос-и-Толедос. Я в этих вещах сам не разбираюсь, но мне говорили, что это хорошая марка… Еще бы не хорошая! Ведь по шесть долларов плачу за штуку-много ли вы в Бронксвилле найдете франтов, которые платили бы хоть половину?
Мистер Найф расхаживал взад и вперед, почесывал свой шишковидный нос, сплевывал поочередно в шесть плевательниц с выведенными на них остроумными изречениями доктора Фрэнка Бухмана[93] и попутно излагал случаи из своей жизни, а также собственные теории богословия, метафизики и распространения безалкогольных напитков, слушая которые доктор Плениш делал заметки для будущей книги. Горделивое смирение побуждало его к необычайной откровенности.
— Я как Оливер Кромвель. Я желаю, чтобы живописец изобразил на портрете не только глаза и подбородок, ко и все бородавки тоже — так я всегда говорю нашим мальчикам на евангелических митингах под открытым небом и девочкам на собраниях Только Для Женщин.
Да, сэр, эта автобиография задумана мною как скромное приношение Всевышнему, а его не обманешь, и потому записывайте все мои заблуждения и грехи, ничего не пропуская — а надо сказать, погрешил я в свое время немало, ох, и погрешил! — записывайте все: и сколько я душ спас, и какой капиталец нажил, и сколько антиномистских часовен построил — все во славу божию. Он через посредство Святого Духа был моим верным компаньоном во всех предприятиях, ему хвала и ему доля прибыли!
Он так и сыпал фактами и поучительными примерами… Каждый нанимаемый им слуга (а их было девять в доме) подвергался проверке по библии и по Вассерману, и все они участвовали в семейных молитвах. Однажды он обратил одного профсоюзного организатора, который до этого рыскал повсюду как радикально настроенный лев и только смотрел, где бы растерзать какого-нибудь невинного предпринимателя, дающего работу неорганизованным рабочим, — а теперь он сделался евангелистом, живет в Орегоне, имеет добрую христианку-жену и почти оплаченный домик… Мистер Найф совершенно бесплатно снабжает церкви своим Оки-Доки взамен вина для причастия и только берет с настоятелей расписку на предмет рекламы в клерикальной печати… Значение религии в деловой жизни он впервые постиг еще мальчиком, когда наябедничал на товарища, стянувшего конфету в лавке, и лавочник наградил его за это… Когда один самозванный чиновник здравоохранения возбудил против него преследование под глупым предлогом, будто Оки-Доки — наркотик, господь бог вступился и сподобил мистера Найфа отделаться от этого чиновника с помощью праведнейшего и гуманнейшего уложения — закона о Торговле Белыми Рабынями.
Доктор Плениш не так уж тепло относился к мистеру Найфу, но через него доктору удалось Завязать Связи, как это называется в мире стимулирующих организаций. В отшельничьей хижине доктор познакомился с одним из самых серьезных деятелей организованной благотворительности, каких ему приходилось встречать в жизни, — достопочтенным Эрнстом Уэйфишем, бывшим депутатом конгресса, среди собратьев по профессии известным под кличкой «Дьякон».
Достопочтенный Уэйфиш слишком поздно уразумел, что ему следовало избрать духовную карьеру, а не политическую, хотя, кстати сказать, он был когда-то гробовщиком — специальность, в которой, несомненно, есть некоторый клерикальный оттенок. Движимый этим благочестивым соображением, мистер Уэйфиш отказался от славы конгрессмена — как только провалился на очередных выборах — и занялся общественной деятельностью на пользу религии. Сейчас он был президентом и рабочим секретарем Национальной Лиги Борьбы за Христианское Самоусовершенствование, ставившей себе целью вернуть рабочего, опору американской индустрии, в лоно церкви, отучив его зря тратить время и деньги на профсоюзы и коммунистические митинги.
Мистер Найф принадлежал к числу крупнейших жертвователей Лиги достопочтенного Уэйфиша. Они были трогательно единодушны в вопросе о нуждах рабочего класса и часто говорили, что являются лучшими друзьями рабочих, только те этого не знают.
Доктор Плениш отметил, что оба они, так же как и преподобный Кристиан Стерн, были невысокие, сухонькие, рыжеватые человечки, наделенные, однако, подвижностью спринтеров и гулким, несообразно басовитым голосом. Он уже стал задумываться, годится ли он сам, по своим физическим данным, в Спасители Человечества, но тут его сомнения разрешило прибытие в хижину еще двух деятелей совершенно другого типа — Констэнтайна Келли и Г. Сандерсона Сандерсон-Смита, которого он знал по Чикаго.
Мистер Келли смахивал на бармена, возможно, потому, что он и был барменом несколько лет. Сейчас он состоял при мистере Уэйфише в качестве помощника и рекламного агента в Национальной Лиге Борьбы за Христианское Самоусовершенствование.
Мистер Сандерсон-Смит являл собой образчик совсем другой породы. В нем сказывалась утонченность коренного бостонца, хотя кто-то говорил, что он родился в Онтарио, а другие называли Саут-Фрэмпус-Сентр. Когда доктор Плениш видел его в первый раз, он носил реденькую рыжую бородку, но сейчас его интеллектуальный подбородок был оголен, а возле ушей красовались огненные испанские бачки. Он был занят организацией общества, менее клерикального, чем Лига Борьбы за Самоусовершенствование, а именно Гражданской Конференции по Конституционным Кризисам, с центром в Вашингтоне и под председательством самого сенатора США Феликса Балтитьюда.
Но цели у этого общества были те же, что и у Самоусовершенствователей: излечить рабочих от нелепой привычки вечно думать о повышении заработной платы. Мистер Найф и многие другие набожные предприниматели участвовали в обеих организациях, рассматривая это как своего рода моральное и финансовое страхование от огня.
Работа с мистером Уильямом Найфом была сопряжена только с одним весьма неприятным обстоятельством: от его бесконечных рассуждений о вреде алкоголя у доктора Плениша разыгрывалась невероятная жажда, и вечером, вернувшись в свой пансион, он поглощал такое количество виски с содовой, что приходилось опасаться, как бы этот режим благочестивого усердия не довел его до белой горячки. А Пиони, отнюдь не сторонница воздержания и строгости, была всегда готова составить ему компанию.
Однажды субботним вечером они сидели в кафе Пита в Манхэттене, споласкивая космическую пыль трудовой недели, и вдруг перед ними предстал Хэтч Хьюи*, тот тощий, долговязый тип, который в адельбертские дни пришпоривал воображение юного Гида Плениша и сбивал с него спесь.
Сейчас, в сорок лет, он уже не был тощим; на макушке у него просвечивала лысина, и лицо порядком постарело. Он мимоходом глянул на доктора Плениша, не узнал его и проследовал к стойке. Только что он с привычной ловкостью опрокинул порцию неразбавленного, как доктор ткнул его в плечо и шепнул:
— Хэтч! Гид Плениш!
Хэтч сидел за их столиком и во все глаза смотрел на Пиони.
— Ну как, одобряете жену старого друга? — смеясь, спросила она.
Хэтч важно кивнул, потом повернулся к доктору Пленишу и важно произнес:
— Славная женщина.
Доктор Плениш осведомился:
— Ты что, теперь, вероятно, издатель журнала, или вашингтонский корреспондент, или редактор воскресного выпуска? Я ведь всегда считал тебя самым талантливым на нашем курсе.
— А я всегда разделял твое мнение, но вот Нью — Йорк моих талантов не признал. Да, я всего лишь рядовой репортер в «Геральд тайме». Больше по части политики и рабочего движения. А ты? Я ведь ничего не слыхал о тебе с тех пор, как мы кончили.
— Вот как? — Пиони была возмущена. — Доктор не более, не менее, как совершил переворот в сельском образовании Среднего Запада, и положил начало цивилизации Гренландии, и был деканом колледжа, и мог быть ректором десятка других колледжей, но не захотел. Не более не менее.
Хэтч изумился:
— Ах ты черт. Гид, до чего ж она в тебя верит! Я даже не знал, что на свете еще водятся подобные женщины. Где ты ее нашел? Нет ли там еще таких?
— Нет. Бог как отлил ее, так сейчас же и разбил форму! — Доктор Плениш посмотрел на Пиони, словно, к собственному удивлению, сам поверил в это. Хэтч вздохнул, и доктор вдруг понял, что у Хэтча сварливая, неуютная жена.
Доктор дал Хэтчу несколько более скромный отчет о своих достижениях, не сочтя, впрочем, нужным упоминать о том, что из Хескетовского института его выгнали, а его совместная деятельность с капитаном Гисхорном и с мистером Уильямом Г. Найфом отличалась от разбоя на большой дороге главным образом тем, что была менее плодотворной. Он говорил тоном человека, настолько не уверенного в себе, что Хэтч воскликнул, обращаясь к Пиони:
— Видно, ваш муженек научился не слишком серьезно относиться к искусству делать карьеру и вмешиваться в чужие дела.
— Но я хочу, чтобы он относился к этому серьезно! — взъярилась Пиони. — Если бы вы только знали, что ему однажды сказал полковник Чарльз Б. Мардук!
Но так как полковник Мардук никогда не говорил ему ничего, кроме «Ах, вы из Чикаго? Хороший город», ей не пришлось развить эту тему, и она замолчала с чувством, искони составляющим привилегию жен, — чувством неприязни к дореформенным товарищам мужа.
— Ну, я очень рад, что мы встретились, — сказал Хэтч. — Надо будет теперь встречаться почаще.
Но так как это был Нью-Йорк, они не встречались еще четыре года.
В разговоре о разных компаниях Хэтч упомянул последнюю просветительскую аферу в городе — «Бюро Современных Знаний», которое торговало новой энциклопедией, которая… нет, нет, бюро ничем не торговало. Оно просто содействовало распространению культуры.
Была создана обычного типа организация с правлением, составленным из любителей рекламы, куда вошли благомыслящий доктор Кристиан Стерн, профессор Джордж Райот и ученый доктор Элмер Гентри. Приятно отметить, что эти лица не обременялись никакими обязанностями, кроме разрешения украсить своими именами список, гарантирующий солидность учреждения, за что каждому уплачивалось пятьдесят долларов.
В качестве возможных подписчиков бюро Джордж Райот назвал все имена, значившиеся в Списке Карасей № ХМ27Е, индекс Просвещение-Благотворительность. Бюро обратилось к каждому из них с письмом, извещавшим, что известный профессор Райот выдвинул его кандидатуру, и это, естественно, привело к единогласному избранию его в качестве привилегированного члена-учредителя Бюро Современных Знаний (ежегодный взнос 8 15.00, при уплате в течение одного месяца — скидка 5 %), «что дает вам право на получение красиво оформленного для окантовки членского диплома, нашего собственного общеобразовательного журнала, регулярных и поучительных писем на ведомственных бланках, а также право на СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНОЕ получение по мере выхода отдельных томов огромнейшей, от А до Z, НОВОЙ ВСЕМИРНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ, первой Энциклопедии по ФИЛОЛОГИИ, БИОЛОГИИ, АГРОНОМИИ, ПЕДАГОГИКЕ и КОММЕРЦИИ, составленной крупнейшими в мире специалистами НА НОВЫХ НАУЧНЫХ ОСНОВАХ — роскошно иллюстрированного справочника, представляющего событие в издательской практике».
Подготовка этой энциклопедии являлась не таким уж трудным делом, как можно было предположить. С десяток диверсантов умственного труда, обосновавшись в обшарпанном древнем строении на 23-й улице, на антресолях, где некогда процветало мирное производство штанов, просматривали комплекты старых энциклопедий, списывали, сокращали, резали, клеили и обильно уснащали всю эту стряпню фотоиллюстрациями, приобретенными оптом, пачками по сто штук.
Некоторые статьи заказывались на стороне, и тут открывались перспективы для доктора I идеона Плениша и еще целого роя захудалых деятелей просвещения. (Ведь новые здания для колледжей стоят больших денег, и нельзя требовать, чтобы администрация все ухлопывала на жалованье преподавателям.)
Услыхав от Хэтча об этой культурной авантюре, доктор Плениш немедленно послал за проспектом бюро, с радостью увидел на первом месте имя Джорджа Райота и добился, что Джордж рекомендовал его «финансовому секретарю» бюро, который был также его единственным владельцем, — симпатичному джентльмену, окончившему одну из лучших начальных школ в Джерси — Сити. У него доктору Пленишу удалось получить кое-какую сдельную работенку. Она оплачивалась не бог весть как, но все же пополнила бюджет Пленишей, не мешая основной работе над мемуарами Найфа, тем более, что все статьи писала Пиони, а доктор только ставил свою подпись.
Итак, их благополучие восстановилось. Они привезли из Чикаго всю свою обстановку, чиппендэйлевский шкафчик, и ковер, и холодильник, и сняли в Маунт — Верноне домик, значительно менее удобный, чем кинникиникский коттедж, откуда они некогда отправились в поход за славой и могуществом.
Кэрри была довольна и целыми днями резвилась в саду, но Пиони жаловалась, что, живя в предместье, они видят не больше «интересных людей», чем в Кинникинике, и когда мистер Г. Сандерсон Сандерсон-Смит пригласил доктора в свой Гракон, помещавшийся в Вашингтоне, она развила бешеную энергию.
— Гид, я тебя умоляю! — кричала Пиони. — Вашингтон! Мы будем встречаться с сенаторами, с генералами, с самим президентом, и, может быть, в результате ты наконец попадешь в политику. Ги-и-и-д! Разве ты совсем забыл наш план о том, чтобы тебе сделаться сенатором США?
Но доктор Плениш чувствовал, что ему уж очень не по душе шайка Сандерсон-Смита. Хотя в списке директоров Гракона значились члены конгресса, и владельцы газет, и знаменитые адвокаты, и одна писательница, и одна деятельница ДАР,[94] все же это была самая настоящая антипрофсоюзная клика, почти не скрывавшая своих истинных целен. Он нервничал:
— Я знаю, что среди рабочих-организаторов попадаются мерзавцы, но все-таки я привык стоять за Права Рядового Гражданина, права фермеров и фабричных рабочих.
— Ох, пожалуйста, не читай мне лекцию номер двадцать восемь! — перебила его жена с несвойственной ей резкостью. — А может, ты как раз больше пользы принесешь, если вступишь в эту Гражданскую Конференцию и научишь их там лучше относиться к меньшим — братьям. И затем, я что-то не видела, чтобы какой-нибудь профсоюзный организатор очень беспокоился о том, что нам нужен новый радиоприемник или башмачки для Кэрри!
— Н-иу… — сказал доктор Плениш.
22
Гражданская Конференция по Конституционным Кризисам была известна в Вашингтоне под названием «Гракон».
Цели Гракона были настолько ясны и недвусмысленны, что новому заместителю управляющего доктору Гидеону Пленишу не пришлось вновь испытать сомнения, смущавшие его при первом знакомстве с Хескетовским институтом. Контора занимала два этажа в старом, казенного вида красно-кирпичном здании. В начале 30-х годов, во время кризиса, Гракон располагал особенно обширными фондами, потому что именно в те годы крупные промышленники и коммерсанты больше всего боялись революции, а мистер Сандерсон-Смит и доктор Плениш искусно приучали их к мысли, что Гракон гарантирует им сохранение контроля над страной.
Если добрый доктор и лелеял какие-либо мечты о том, чтобы влить в Гракон либеральную струю, они, не успев расцвести, завяли в атмосфере ледяной деловитости этого учреждения.
На первый взгляд идеалов у Гракона было хоть отбавляй, и именно в области идеалов было предложено работать доктору Пленишу. В лекциях, брошюрах и газетных статьях, которые Гракон изготовлял или благосклонно инспирировал, звучали проверенные боевые лозунги: «Традиционное право американца на труд без вмешательства профсоюзных смутьянов!», «Исконным американским учреждениям угрожают зарубежный атеизм и международно-еврейский социализм», «Идеалы Отцов-Основателей — свободное предпринимательство, экономика изобилия, свободная конкуренция, не стесненная законами против роскоши, чтобы у беднейшего из граждан были такие же шансы достигнуть славы и богатства, как у самой богатой корпорации или самого образованного и привилегированного частного лица».
И наконец, злободневное: «Усилиями Муссолини поезда ходят точно по расписанию».
Задача доктора Плениша сводилась к тому, чтобы брать лозунги, в которые он до сих пор верил, и выворачивать их наизнанку. Он по-прежнему трудился в области идеалов и Повышения Морального Уровня, только перешел на службу в конкурирующую фирму, и его жалованье выражалось теперь в успокоительной цифре — 4 500 долларов в год. Плениши занимали узкий высокий дом в Джорджтауне и принимали у себя сенаторов; и раза два и он, и Пиони, и Кэрри были счастливы, вернее, Пиони была счастлива, вернее, Пиони говорила, что она счастлива.
Глава Гракона мистер Г. Сандерсон Сандерсон-Смит был эстетом. Он написал брошюру о сюрреализме, был поочередно теософом, нудистом,[95] спиритом и бахаистом, и люди с завистью сообщали друг другу, что он тайно поглощает бенедиктин, приправленный перцем и кленовым сахаром. Но он был превосходным Мастером Организаторского Искусства, как он сам себя называл.
Правда, миллионеры-тяжеловесы, которых доктор Плениш всегда побаивался так же, как Гамильтона Фрисби, футболистов и членов Фи Бета Каппа, смотрели на Сандерсон-Смита сверху вниз, но зато он умел вогнать их в дрожь сообщениями из одному ему известных источников о еврейских, коммунистических, скандинавско-ирландско-фермерско-рабочих заговорах против них и о бунтовщиках, занятых производством ручных пулеметов в подземелье близ Сент-Себастьяна, штат Северная Дакота. С перепугу они давали ему средства, чтобы он мог, как он ласково выражался, «вложить вместо автоматов библию в мозолистые руки этой св… гм… свободомыслящей братии».
Гракон издавал журнал «Флаг или Враг?» с иллюстрациями, на которых изображались поучительные сюжеты вроде избиения полиции забастовщиками и переправы Джорджа Вашингтона через Делавар, причем в подписи говорилось, что если бы он предпринял эту переправу в наше время, то лишь для того, чтобы провести воскресный день у Дюпонов. Журнал кормился обильными объявлениями банков, страховых обществ и компаний по городскому строительству. В теории его тираж распространялся среди «простых рабочих» с целью убедить их покинуть свои красные ячейки и сменить профессиональные союзы на единую Лигу Союзов; на практике номера журнала попадали в конторки почтенных старых джентльменов, владевших текстильными фабриками в Массачусетсе.
Кроме того, Гракон издавал отдельными брошюрками речи, которые, несомненно, были бы произнесены в конгрессе, если бы депутаты согласились их выслушать. В этих речах сообщалось, что у автора была хорошая мама и вполне приемлемый папа и что все руководители рабочего движения — ужасные люди.
Косвенно Гракон оказывал влияние на целый ряд печатных изданий. Он рекомендовал школьным советам изымать из обращения учебники, в которых Авраам Линкольн изображался как агностик. Он договаривался с фабрикантами об оказании содействия репортерам, желающим сочинять статейки о непревзойденных качествах современного оборудования и чудесах распределения продукции. И в письмах, якобы присланных возмущенными читателями, напоминал редакторам, что либералы, по существу, опаснее, чем коммунисты, в чем, вероятно, был прав.
Он устраивал благонадежным профессорам ангажементы на чтение лекций и издавал специальные листки, в стандартизованных передовицах которых говорилось, что президент Гардинг как-никак был великим человеком и что честный рабочий не считается с временем.
Но в своей деятельности Гракон не ограничивался литературными упражнениями В экстренных случаях он посылал опытных кулуарных агитаторов в законодательные собрания штатов для борьбы с гнусной гидрой в образе билля о принудительном устройстве душевых на заводах. Так, однажды доктор Гидеон Плениш совершил путешествие на Запад, где выступил на заседании законодательной комиссии в роли эксперта по экономическим вопросам и беспристрастного налогоплательщика.
Но превыше всех этих начинаний Гракон ставил свою обязанность собирать с напуганных промышленных магнатов все пожертвования, какие удавалось выжать путем уговоров и угроз. Ежегодно выпускались отчеты, из которых жертвователи с удовлетворением узнавали, «на что истрачен каждый цент ваших щедрых даяний»: об этом вещали стройные колонки цифр, выведенных с точностью до одного цента под такими рубриками, как канцелярские расходы, разъездные, жалованье сотрудникам, почтовые расходы, издательские расходы и многое другое. Тем не менее мистер Сандерсон-Смит жил в доме, ранее служившем резиденцией послу, и дал возможность трем весьма красивым и приятным молодым людям пройти курс в колледже.
Он устраивал у себя элегантные приемы, на которые иногда приглашал Пленишей. Здесь Пиони встречала поэтов, актеров и новую для нее разновидность — галантных старичков. Она с головой ушла в водоворот псевдобогемы и так усердно общалась со знаменитостями, что порой ее тянуло в Кинникиник отдохнуть.
Однако в следующую минуту она уже уверяла мужа, что пошутила, что она счастлива, как чижик, счастлива, как дитя. Она стала тратить на вечерние туалеты чуть больше, чем нужно, и у нее появилась манера вполголоса сообщать людям, только что прибывшим в Вашингтон:
— Я оказалась за столом рядом с одним человеком, который близко знаком с морским министром, и он сказал мне, только это между нами…
Она восхищалась светским лоском Сандерсон-Смита, хоть за глаза и называла его «Санди-Угорь». Она любила повторять шутку Сандерсон-Смита, не уступавшую застольным беседам Оскара Уайльда:
— Вчера вечером Санди мне сказал — я заставила его повторить два раза: «Я ничего не имел против, когда всякие плебеи заявляли, что живая свинья лучше мертвого льва. В этом есть смысл. Но теперь они орут, что живая свинья лучше живого льва». Правда, блестяще?
Доктор Плениш вздыхал:
— Мне кажется, ради острого словца Санди подчас жертвует истинным либерализмом.
— Вздор! — отвечала Пиони.
Она по-прежнему видела в муже кладезь премудрости, но отлично справлялась и без его помощи.
Она убедилась, что совсем нетрудно пригласить в гости члена конгресса или даже главу какого-нибудь департамента. Нужно только предложить им бесплатный обед и очень хорошую незаконную выпивку. Она подружилась с несколькими депутатскими женами, которые, отпуская кухарку на вечер, сами стряпали обед; они посвящали Пиони в свои секреты и сплетничали с ней о прислуге, в то время как их мужья утоляли ее жажду величия, небрежно упоминая в разговоре самого президента: «Видел вчера Гувера, он говорит: мы наконец выходим из кризиса. Да, вот так и сказал!»
Она была в восторге от этой жизни. Но доктора, занятого травлей рабочих, все больше одолевали сомнения, а Кэрри, этот нелепый ребенок, вечно ныла, что ей хочется к ребятам, с которыми она играла в Маунт-Верноне.
Величайшим триумфом было для них знакомство с крупным авторитетом по финансовым вопросам, сенатором Феликсом Балтитьюдом, председателем Гракона, а следовательно, фигурой не только декоративной. Прославился он не одним лишь умом, но и честностью — ум его, собственно, ставили не так уж высоко — и потенциальные жертвователи, увидев его имя в списке директоров,' захлебывались: «Никогда не поверю, что в этом Граконе что-нибудь нечисто, раз им ведает такой человек, как Балтитьюд. Это вам не мелкий жулик, который, выезжая читать лекции, норовит присчитать к отчету лишние десять долларов за отель, — помилуйте, человек с такой репутацией!» (Мистера Балтитьюда всегда называли «человек с такой репутацией», независимо от того, на чем эта репутация зиждилась!)
И они не ошибались. Сенатор Балтитьюд не получал от Гракона ни цента. Он только разрешал сему учреждению привлекать видных людей из других штатов к пополнению безобидного и совершенно необходимого фонда на проведение его предвыборных кампаний.
Председатели собраний часто отзывались о сенаторе Балтитьюде как о «великом либерале». Он любил углубляться в историю рабочего движения, хоть и путал Хейвуда Брауна[96] с Биллом Хейвудом.[97] В бытность свою студентом он однажды целые каникулы работал на ферме, что дало ему право говорить о себе «мы, фермеры», и Сандерсон-Смит всегда использовал его, когда нужно было задобрить фермерские союзы.
Но когда Сандерсон-Смит находил нужным откровенно заявить клубным завсегдатаям, что, по мнению Гракона, все рабочие, даже хорошие, то есть не состоящие в профсоюзе, представляют угрозу для мира в стране, если не дать Кому Следует контроля над ними, тогда он использовал в качестве рупора не сенатора Балтитьюда, а преподобного Иезекииля Биттери, бывшего проповедника-фундаменталиста, который действительно когда-то батрачил на ферме. Мистер Биттери любил говорить библейским речитативом: «Я трудился с тружениками, я просвешал их в их невежестве, я знаю их — прохвосты все до одного».
Мистер Биттери пытался навербовать из бывших членов Ку-Клукс-Клана собственную армию под названием «Евангельские джентльмены», но слишком много соперников метили, подобно ему, на пост американского дуче, и пока что он охотно выполнял заказы Сандерсон-Смита на словесные разгромы евреев и радикалов по цене 65 долларов (плата вперед) за сеанс в шестьдесят одну минуту; через год он стал накидывать две минуты на поношение Элеоноры Рузвельт.
Казалось, полоса неудач осталась для Пленишей позади. Всего год спустя после того, как доктор перешел на новую работу, президентом был избран Франклин Д. Рузвельт, и в экспериментальный период Нового Курса,[98] сильно встревожившего Порядочных Людей, которые предпочитали для своих благодеяний объекты благодарные и скоропреходящие, Гракон приобрел особое значение как страховка от безрассудных трат и от гнусной ереси, будто Демократия распространяется не только на людей, живущих в вашем квартале.
Оказалось, что Сандерсон-Смит умеет швырять химические бомбы не только в невидимых коммунистов, но и в ясно видимое правительство. Он изощрялся в остротах по адресу новых правительственных учреждении с их названиями — СИК,[99] УОР, УКФ, — и Пиони Плениш находила все его остроты блестящими.
Одной из загадок мира является происхождение анекдотов — как неприличных, так и политических. Какую — нибудь историю повторяют десять миллионов раз на протяжении десяти лет, а тот, кто пустил ее гулять по свету, остается в тени, безвестным, невоспетым. Но из тысяч анекдотов о Франклине Д. Рузвельте, его семье и помощниках не менее десятка, и притом самых популярных, было создано кропотливым гением Г. Сандерсона Сандерсон-Смита (к числу их принадлежал, например, анекдот о том, как к господу богу пришлось вызвать психиатра, потому что он возомнил себя Рузвельтом).
Когда миссис. Рузвельт дружески беседовала с шахтерами, не кто иной, как Сандерсон-Смит объяснял восторженным шахтовладельцам, что все это делается по сговору с Москвой. Он посеял слух, будто министр труда мисс Фрэнсис Перкинс-на самом деле Ревекка Пржбыцкая из Кракова, и он же пустил шутку, которую приписывали нескольким известным фельетонистам: «В Новом Курсе плохо то, что все его сторонники — провинциальные парни по имени Рэй: Рэй Моли,[100] Рэй Тагвелл,[101] Рэй Франкфуртер[102] — и Рэй Рузвельт».
Забота о быстром распространении подобных острот была возложена на доктора Плениша. Упущений по этой линии мистер Сандерсон-Смит не терпел.
Когда Новый Курс коснулся законов о заработной плате и рабочем дне,[103] Гракон стал ратовать за те самые улучшения условий труда, на которые раньше так яростно ополчался.
Всем отраслям промышленности грозила необходимость признать тот или иной профсоюз, и Сандерсон — Смит нанял опытного специалиста, в прошлом профсоюзного организатора, которому поручил совершить турне по предприятиям, принадлежащим крупнейшим членам — жертвователям Гракона, и разъяснить им технику организации разумных «компанейских» союзов, гораздо более сговорчивых, чем АФТ и КПП. Этот специалист умел также доказать, что для компании много выгоднее устроить на заводах кафетерии и чистые душевые комнаты и обеспечить рабочих бесплатной медицинской помощью, чем допустить, чтобы эти самые рабочие усомнились в любви хозяев. В одном из южных штатов он даже уговорил какого-то предпринимателя взять на завод один процент рабочих-негров, а это, как заявил Сандерсон — Смит в своей речи «Новый Либерализм или Новый Курс?», несомненно, что-то значило.
Много лет спустя, в 40-х годах, уже после вступления Америки во вторую мировую войну, доктор Плениш с интересом отметил, что хотя Г. Сандерсон Сандерсон — Смит сидел в тюрьме по невероятному обвинению, будто он нацистский агент, другие организации продолжали плодотворную работу Гракона под лозунгами: «Американский Образ Жизни», «Священное Право на 1 руд», «Принципы Свободной Конкуренции, заложенные Отцами-Основателями», — и нередко под этим следовало понимать лишь то, что хозяева не одобряют ставок заработной платы, утвержденных профсоюзами.
Несмотря на благополучие и общественный вес, которого Плениши достигли в Вашингтоне, доктора терзало беспокойство.
Всякий раз, как в Вашингтон приезжали его прежние коллеги — Крис Стерн, или доктор Китто, или Наталия Гохберг, или профессор Бухвальд, или Джордж Райот — реформаторы, которых Гракон так или иначе задел в своих изданиях, доктор испытывал неловкость при мысли, что они испытывают неловкость при мысли, что он перестал быть либералом. Он пытался объяснить им, что на самом деле он либерал более чем когда-либо, что и он и Сандерсон-Смит всей душой за Творческое и Просвещенное Руководство Рабочими и враждуют только с ложными вождями, которые наживаются на рабочем движении. Но их не убеждали ни его доводы, ни декламация Сандерсон-Смнта, которого они, с легкой руки Пиони, называли «Санди-Угорь».
Доктор Плениш пробовал отшучиваться:
— Ладно, ладно, вот вы найдите мне такое же хорошее местечко в какой-нибудь либеральной фирме в Нью-Йорке, тогда я живо уйду от Санди-Угря.
Он с гордостью чувствовал, что не дал себя в обиду. Но он не был спокоен и однажды попытался все объяснить Пиони, когда она вернулась с вечеринки, где праздновали годовщину отмены сухого закона.
— Ты пойми, Пиони. Я смотрю на вещи трезво и признаю, что главная цель всякой стимулирующей организации — обеспечивать сотрудников, которые отдают ей все свое время и силы, например, какого-нибудь доктора или проповедника. Но в то же время мне кажется, что, если я получаю жалованье от организации, созданной для оздоровления общественных нравов, она все же должна в какой-то мере заниматься оздоровлением. Ты не согласна?
— С чем не согласна? — спросила Пиони.
Он продолжал думать вслух:
— И боюсь, что Крис Стерн прав. Гракон нельзя назвать либеральной организацией. Вероятно, Крис — такой же карьерист, как и Санди-Угорь, точно так же гонится за властью и рекламой, только он делает карьеру на правом деле, а Санди — на неправом.
Пиони фыркнула:
— Ну и что? Санди тоже либерал, только практичный.
— Когда это он проявил себя либералом?
— Ах, не все ли равно? Жалованье мы получаем, так? А ты уж не хочешь ли сказать, что не веришь в основы американского правосудия, заложенные еще Джорджем Вашингтоном?
— При чем тут…
— Каждый обвиняемый имеет право на то, чтобы в суде его представлял адвокат, так? Ну вот, Санди — адвокат капиталистов, а им адвокаты нужны, и притом неглупые.
— Это интересная точка зрения. Очень интересная. Но тут есть и другая сторона. В конце концов, мне кажется, административному деятелю полезнее, если его считают либералом. Пари держу, что к 1940 году будет выгоднее… то есть, я хочу сказать, почетнее, примыкать к антифашистам, чем к фашистам. И кроме того, я старый воинствующий либерал, а человек, прошедший такой путь, просто не может отвернуться от Народа… Нет — нет, в конечном счете победу одерживают не подозрительные проповедники индивидуализма, вроде Санди — Угря, а такие поборники общественной дисциплины, как полковник Чарльз Б. Мардук, автор самого обширного проекта всеобщего процветания.
— Хочешь выпить? — сказала Пиони.
— Конечно, хочу! — сказал доктор Плениш.
23
В приемной у сенатора Балтитьюда доктор Плениш разговорился с тихим худощавым человеком лет пятидесяти с жидкими льняными усами, в мешковатом сером костюме, небесно-голубой рубашке и небесно-голубом галстуке — обязательных атрибутах всех оригиналов и чудаков. Звали его Карлейль Веспер. Кое-что сказанное им в разговоре побудило доктора пригласить его позавтракать в Крэйон-клуб.
Доктор любил Крэйон: там всегда собиралось много бывших конгрессменов, которые теперь состояли на государственной службе или подвизались в кулуарах конгресса. Вежливые официанты звали его «доктор» и были уверены, что он по меньшей мере начальник отдела.
Выяснилось, что у мистера Веспера имеется идея создания богоугодной общественной организации и, что гораздо более удивительно, имеются также средства, благодаря поддержке миссис Джон Джеймс Пиггот, несокрушимой вдовы Западных Серебряных Рудников и Международной Железной Дороги, и мисс Рамоны Тундры, которая начала как малолетняя звезда экрана, а кончала как малоумная покровительница спасителей веры. Доктор Плениш был слишком опытен в делах общественных организаций, чтобы заинтересоваться одной идеей, без финансовой базы, хотя он охотно согласился, что столь возвышенное религиозное наитие не осеняло никого со времен св. Павла.
Карлейль Веспер был простодушен, как кардинал Ньюмэн. В течение многих лет он, обыкновеннейший бухгалтер, мечтал о христианской церкви, главой которой будет не папа, не архиепископ, не какой бы то ни было наемный священнослужитель, но сам Иисус Христос.
— Мне кажется, мы должны верить, что Иисус вполне справится без помощи разных докторов богословских наук, — говорил Веспер с застенчивой улыбкой ребенка или сумасшедшего. — Мне кажется, вначале почти каждая церковь шла по правильному пути, но потом появилось множество людей, называвших себя священниками или проповедниками, и всех их нужно было содержать, а потом им захотелось наряжаться в маскарадные костюмы, и это стоило денег, а затем понадобились просторные храмы, чтобы их голос красиво отдавался под сводами, — и, глядишь, вместо общения между богом и людьми получилось еще одно коммерческое предприятие по спасению душ. Я хочу, чтобы наша церковь покончила со всем этим.
Доктор Плениш обладал достаточными познаниями в истории, чтобы помнить, сколько таких Карлейлей Весперов стремилось основать церковь, которая покончила бы со всеми церквами. Но этому блаженному простачку удалось заинтересовать миссис Пиггот и мисс Тундру…
Веспер продолжал изливаться:
— То, что я имею в виду, мне представляется новой квакерской[104] общиной, только повеселее и на современный лад, без старинных квакерских родов Пенсильвании и Огайо, отпрыски которых сами ведут себя, как наследственные священнослужители. Моя организация, если она будет такой, как я хочу, а это значит, что, достигнув цели, она тотчас же должна стушеваться и исчезнуть, как всякий хороший учитель, — моя организация будет делать только одно: внушать каждому человеку — мужчине, женщине, ребенку, — что бог его самого создал священннком (это так хорошо понимали первые христиане) и что он волен молиться один или вместе с другими людьми, как он того пожелает. Я хочу назвать ее братством «Каждый Сам Себе Священник».
Да, я вынашивал эту идею двадцать лет. Но я умею вести книги, а вот в администраторы не гожусь. Не умею командовать людьми! Ах, если бы нам такого человека, как вы! Вы бы не согласились принять участие, скажем, быть нашим главным пастырем?
— Гм, гм… А сколько вы собираетесь платить?
— Я как-то не думал об этом. У нас сейчас есть в кассе десять тысяч доларов. Устроила бы вас половина такой суммы в год?
— Боюсь, что меньше, чем за шесть тысяч в год, я об этом и думать не могу. Примерно столько я получаю сейчас, а ведь у меня жена и ребенок.
— О, я убежден, что в этом неблагодарном мире даже шесть тысяч долларов — очень мало для деятеля с таким опытом и такой любовью к человечеству. Так что же, порешим на этом и начнем работать, брат Гидеон?
«Бррр!» — мысленно поежился доктор Плениш, но вслух произнес:
— Я об этом подумаю. Встретимся здесь завтра в двенадцать.
Он позвонил по телефону в Нью-Йорк, и Крис Стерн ему ответил:
— Да, кажется, этот юродивый Веспер действительно пристроился к сундуку этой толстой старой язычницы миссис Пиггот.
В тот вечер доктор еще не решился сказать Пиони про дела, которые у него завелись с полусумасшедшим шарлатаном.
На следующее утро его вызвал к себе Сандерсон — Смит, и, по-видимому, Сандерсон-Смит накануне неудачно провел вечер. Он сказал не столь вкрадчивым тоном, как обычно:
— Плениш, я хотел поговорить с вами относительно вашего лекционного турне по колледжам. Довольно вам миндальничать и разводить либерализм. Ставьте перед этими болванами-студентами вопрос ребром: или они будут бороться с профсоюзами, или профсоюзы сядут им на голову. Понятно?
— Я об этом подумаю, — сказал доктор Плениш не слишком воинственно.
За завтраком в Крэйон-клубе Веспер улыбнулся, протянул хорошенький чек на пятьсот долларов и сказал:
— Вот вам жалованье за первый месяц, брат Гидеон — Гидеон, меч Господень! Что же, с нами вы или нет?
— С вами, черт возьми, с вами! Ох, простите, сорвалось!
— Мне кажется, не стоит придавать слишком большое значение запрету, который древние евреи наложили на ругань и божбу. Разве Господь не сумеет отличить истинный смысл от слов, в которых он выражен? Его ведь не обманешь.
Доктор Плениш, чувствуя, что новый хозяин уже начинает раздражать его так же, как утром раздражал старый, мысленно простонал: «Эта святость меня в гроб вгонит. Святоша-карьерист! Нет, я не успокоюсь, пока не дойду до такой организации, где хозяином буду я сам или же такой человек, как полковник Мардук, у которого есть и ум, и сила, и деньги! А не то, что сентиментальный размазня вроде Веспера или злобный психопат вроде Санди-Угря… Ах ты, господи!»
Но вслух он уже говорил:
— Прежде всего надо подобрать имена для списка руководителей. Начнем с епископа Пиндика… Нет, что я, на этот раз ведь мы, слава богу, без священников. Ну, а что вы скажете об Уильяме Г. Найфе? Вот истинный пионер христианства.
Нелегко было решиться сказать Пиони, что отныне его заработок будет гарантироваться только св. Франциском Ассизским.[105] Он помнил, как хорошо она себя держала в Чикаго, услыхав, что Гамильтон Фрисби его выгнал, но все же предпочел отложить признание до вечера, когда они вернутся из кино.
Они сидели за чисто вымытым столом в темной вашингтонской кухоньке, мирно попивая вечерние коктейли, и тут он рассказал ей все. И когда он говорил, мысль о том, что можно быть священником, не получая за это денег, показалась ему самому не менее фантастической, чем проект путешествия на Луну.
Пиони слушала, онемев от ужаса. Потом:
— Ты что ж, совсем спятил? Бросить налаженное дело у Санди — дело, которого хватило бы еще по крайней мере лет на пять, и связаться с каким-то религиозным маньяком! Ты отлично знаешь, что я сама добрая христианка и хожу в церковь, но… Шесть тысяч в год? Да ты и шестисот не получишь! Через месяц вся эта затея лопнет. Чтоб ты немедленно развязался с этим бредовым предприятием, слышишь? Немедленно! Скажи Весперу, пусть катится подальше.
— Боюсь, что это невозможно. Я уже истратил половину тех пятисот, которые он мне дал — мы за два месяца задолжали за квартиру, — и потом сегодня я сказал Сандерсон-Смиту в глаза, что он не что иное, как штрейкбрехер высокой марки. Боюсь, что с ним у меня покончено навсегда.
— Ах, ты боишься?
Пиони выкрикнула эти слова; она пулей вылетела из кухни и помчалась наверх. Он пошел за ней и услышал, как щелкнул ключ в дверях спальни. Он даже не знал, что там есть ключ.
— Вот мы какие сердитые! — Он улыбнулся втихомолку. Он постучал с шутливой осторожностью, ответа не было; постучал еще раз, с супружеской властностью, ответа не было. Он повернул ручку.
Первый раз за двенадцать лет семейной жизни жена заперлась от него в спальне.
В смятении он закричал:
— Пиони! Радость моя! Впусти меня! Дай объяснить! — А мысленно: «Она права. А вдруг она от меня уйдет? Что я буду делать? Как я буду спать один?»
Он снова стал окликать ее, весело барабаня в дверь, стараясь показать, что не сердится за ее милую детскую шалость, но она не отвечала, не слышно было даже осторожных шагов на цыпочках. Тогда он спустился с лестницы мерной, тяжелой поступью, долженствовавшей выражать гнев и оскорбленное достоинство, и внизу подождал, не побежит ли она за ним, не позовет ли. Она не шла. Но она придет, она должна прийти. Он подождал еще. Ее не было слышно.
— Нет, это уже слишком! Она ведет себя, как избалованный ребенок. Я просто не стану обращать на нее внимания, — решил он.
Он пошел в маленькую гостиную, зеленую с цветочками, и занялся решением кроссворда: этот вид развлечения был еще тогда в моде. Но кроссворд не решался. Он швырнул газету в фотографию ректора Т. Остина Булла с его личной надписью и тихонько прокрался опять к подножию лестницы. Он стоял там, и от волнения у него сосало под ложечкой. Сверху доносились глухие рыдания. Не окликнув жену, он поплелся назад в гостиную и уставился взглядом в газету.
Хорошо, но где же, черт возьми, ему сегодня спать? В кроватке Кэрри, что ли? А спать уже пора было.
Он выскочил на лестницу и заорал:
— Эй! Куда ты мне прикажешь идти спать?
После солидной паузы сверху донесся срывающийся голос:
— Хоть к черту!
— Красиво это — так отвечать, когда тебя спрашивают по-хорошему? — упрекнул он. Но все же ему стало легче при мысли, что она уже не так молода и беспомощна. Он поднялся наверх и, постучав, скомандовал: — Пиони, впусти меня! Отопри дверь!
За дверью всхлипнули: — Она не заперта.
Машинально трепля ее по плечу, он приговаривал:
— Ну, ну, ну! Деточка моя! Совсем еще маленькая деточка! Но такая умненькая! Нет, нет, киска, я больше никогда не пойду ни на какое организационное или практическое мероприятие (он хотел сказать: не поступлю на работу), не посоветовавшись с тобой.
— Да, да, миленький, пожалуйста. Ты ведь знаешь, я тебя очень люблю и думаю только о том, как для тебя лучше. Конечно, сейчас ты уже увяз в своей новой затее, но вот увидишь, этот дурак Карлейль Веспер и в подметки не годится Санди-Угрю.
Лежа рядом с ней в темноте, наполненной душным запахом ее волос, он понимал, что он ее раб, и говорил себе, что в этом его счастье.
24
Контора братства Каждый Сам Себе Священник на 43-й улице в Нью-Йорке была так похожа на контору Общества Распространения Культуры среди Эскимосов, что доктор Плениш даже смутился. Единственная служащая, толстенькая секретарша мисс Кремиц, так напоминала мисс Кэнтлбери из Эскимосской конторы, что ему захотелось сесть и дописать письмо, которое он из озорства оставил там неоконченным, когда дезертировал к Уильяму Т. Найфу.
Но, знакомясь с делами Братства, он убедился, что оно сильно отличается от предприятия капитана Гисхорна, который выполнял задания дьявола методично и пунктуально, в то время как Карлейль Веспер в своем служении всевышнему проявлял недопустимую халатность. Доктор Плениш обнаружил ряд писем, оставленных без ответа, среди них запрос о целях Братства, присланный владельцем крупной торговой фирмы Альбертом Джаленаком.
— Боже милостивый, — ужаснулся старый профессионал, — Джаленак — это же типичный филантрёп, которому нужно усыпить свою совесть! Да он мог бы прислать нам пятьсот долларов! Не ответить на такое письмо обратной почтой! Безобразие! Так-то он служит делу господа бога!
Оказалось, что Веспер даже не потрудился «избрать» (по шутливому выражению, принятому в общественных организациях) внушительный синклит членов правления и почетных директоров. Доктор сильно взволновался: «Пиони была права. Ничего у этого Веспера нет — одна идея, и та не новая, да поддержка миссис Пиггот и Рамоны Тундры, и та негарантированная. Придется мне самому повидать старушек и выяснить положение».
Он по телефону напросился на чашку чая в старинный особняк Пигготов на Мэдисон-авеню, близ цитадели Дж. П. Моргана, которая по сю пору служит оплотом последних белых поселенцев.
Он пожаловал к миссис Пиггот без Веспера — и даже без его ведома.
Он сразу почувствовал себя дома в старинном зале, где возвышался трон тикового дерева и мраморная Психея держала в протянутой руке газовый факел. Он почувствовал себя так, словно родился в этом особняке, хранившем печать былого величия и тех времен, когда достоинство человека точно определялось количеством принадлежавших ему миллионов. И он нисколько не смутился при виде суровой старой хозяйки и тощей, увядшей актрисы, ожидавших его на потертом штофном диване, за чайным столиком, на котором возвышался огромный серебряный чайник, похожий на монастырь Мон — Сен-Мишель.[106]
На стене, защищенный толстым стеклом, висел портрет миссис Пиггот кисти Сарджента.[107]
Доктор взял предложенную ему чашку чая, — да, спасибо, от рома он не откажется, только самую малость; обычно он воздерживается, но сегодня на улице так холодно… Да, было бы прекрасно, если бы у нас было побольше таких возвышенных натур, как Карлейль Веспер.
Он упомянул о своей профессорской деятельности, о своем деканстве, о насаждении сельского образования и об эскимосах. Добродушно посмеиваясь над самим собой, он вспомнил, как однажды сказал в Белом доме: «Вы, конечно, понимаете, господин президент, что есть люди, которые нажили богатство не разбоем, а лишь благодаря своим исключительным личным качествам». (Возможно, он и в самом деле сказал что-нибудь в этом роде, только президент, возможно, не расслышал его, поскольку на приеме присутствовало еще полторы тысячи человек.) Он коснулся характера и деятельности государственного секретаря и ректоров Йельского, Гарвардского и Чикагского университетов, но не счел нужным пояснить, что его беседы с этими лицами ограничились коротким «Очень приятно».
Речь его была скромна и пересыпана тонкими замечаниями, из которых явствовало, что он вполне учитывает высокое положение своих собеседниц. Они слушали его с возрастающим доверием, и наконец его актерский инстинкт, столь нужный всякому торговцу филантропией, подсказал ему, что пора сыграть роль Старого Домашнего Врача.
Он торжественно отодвинул в сторону чайный столик, накрыл ладонью старушечьи руки миссис Пиггот и начал свой коронный монолог из второго действия.
— Дорогая миссис Пиггот, и вы, моя милая юная леди (по его подсчетам, мисс Тундре было лет тридцать пять, если не больше), я принес вам дурные вести. Примите их мужественно, примите их с улыбкой и примиритесь с этим. Братство Каждый Сам Себе не может существовать дальше. Его песенка спета.
— ?
— Это ужасно! Я надеялся, что после долгих лет подготовки найду здесь дело моей жизни. Я надеялся, что обе вы войдете в историю как основоположницы духовного переворота, по своей значительности почти равного новой религии, — как миссис Эдди, или мадам Блаватская,[108] или святая Цецилия.[109] Но что же я обнаружил, когда попал сюда и ознакомился с делами и книгами?
Письма, оставленные без ответа. Списки, в которых неправильно указаны адреса и даже — подумайте! — даже звания: один видный священнослужитель-методист числится как «мистер», а не как «доктор». Возможно, я бы мог все это выправить, но…
В настоящее время у нас в кассе имеется всего 9 044 доллара 37 центов, а нужно ли говорить вам, проводившим дела такого размаха, о каком мы, жалкие мужчины, не часто помышляем, — нужно ли говорить, что нет смысла приступать к проповеди душевной простоты и отрешенности от мира, не имея для начала хотя бы тридцати пяти тысяч долларов? А значит, как ни прискорбно, придется махнуть рукой на это дело.
Во взгляде, которым обменялись миссис Пиггот и мисс Тундра, его наметанный глаз уловил дополнительное ассигнование в двадцать тысяч. Он поспешил нанести следующий удар.
— И это не все, есть еще соображения более высокого порядка Карлейль Веспер — святой и провидец, такой всепрощающей души мне еще не доводилось встречать. А между тем, гм, по-видимому, он принадлежит к числу абсолютно непрактичных людей, которыми необходимо руководить. Казалось бы, он, как опытный бухгалтер и канцелярист, мог бы по крайней мере отвечать на письма измученных, бредущих впотьмах, ищущих правды…
Он скоро был избавлен от дальнейших усилий; миссис Пиггот кивнула мисс Тундре, и та перебила его:
— Да, доктор, мы понимаем. Это все равно как если бы вдохновенная киноактриса вздумала заняться производством и сбытом. Я полагаю, что выражу мысль леди Пиггот, как я всегда ее называю, если скажу, что, по нашему общему мнению, вы должны взять на себя обязанности руководителя, — назовем это, скажем, генеральным директором, звучит красиво, не правда ли? — а мистер Веспер пусть предается своим трогательным, красивым, печальным, высоким мечтам вдали от деловой сутолоки, и — как хорошо, что он вдовец и бездетный, — я уверена, что его вполне устроит тридцать пять долларов в неделю вместо пятидесяти, которые он до сих пор получал от нас.
Доктор Плениш тяжело перевел дух, а потом с мольбой обратился к обеим основоположницам: — Но я недостоин взглянуть в лицо этому благородному человеку и сказать ему…
— Зато я достойна. Это я умею! — заявила миссис Пиггот. — Я ему сама скажу. Вызову его сюда и скажу. Бедный доктор, я понимаю, как это для вас мучительно. — У него мелькнуло подозрение, но он тут же решил, что она говорит серьезно. — Не возвращайтесь сегодня в контору, а завтра, когда вы туда придете, все будет в порядке и вполне устроено.
Он решил, что раз в жизни может позволить себе самое тонкое из известных ему наслаждений — «обработку» в парикмахерской небоскреба Жиро.
В такси он лишь мельком задержался на неприятной мысли о крушении Веспера… «В конце концов, всякий другой на моем месте просто выбросил бы его на мостовую, не дал бы ему даже места курьера. Да что там! Уж кажется, я человек справедливый и гуманный, и для себя мне не нужно ничего, но тем, кто посягнет на права Пиони, я не завидую!»
Небоскреб Жиро был четвертым по высоте зданием в Манхэттене — всего семьдесят девять этажей, но такого количества алюминия, стекла и стенной росписи, выполненной художниками-коммунистами, не нашлось бы ни в каком другом здании мира, даже в Москве.
В юности, еще в Адельбертские дни, Гид Плениш ходил бриться к старому парикмахеру-немцу, в заведении которого мирно пахло лавровой эссенцией и сигарным дымом. Старик чуть ли не один во всем городке принимал Гида всерьез; он снисходительно интересовался тем, какой пробор Гиду больше нравится и какого он мнения о свободной чеканке серебра. Здесь можно было отдохнуть душой и телом, и с тех пор всякая парикмахерская казалась ему тихой пристанью.
Но что касается масштабов, обстановки и блеска — требования его сильно возросли.
Парикмахерская Жиро помещалась на сорок седьмом этаже, он поднялся туда в лифте с мозаичными панно, изображавшими охоту Дианы. Директор, старавшийся быть похожим на Адольфа Менжу,[110] встретил его в дверях словами: «Милости просим, доктор».
«Они меня, оказывается, знают!»-обрадовался доктор Плениш.
Да, вот это была парикмахерская! Пусть Америка еще не породила своего Сибелиуса,[111] но зато она могла противопоставить захудалым цирюльникам Европы комбинированный гений Эдисона, Франка Ллойда Райта[112], Штейнмеца[113] и Далилы.
К услугам клиентов здесь было сорок желтых кожаных кресел, двадцать столиков для маникюра и десять чистильщиков обуви в румынских мундирах, не говоря о расфранченном директоре и кассирше, в прошлом хористке театра-варьете. Это был храм Красоты и Сервиса. Стены из черного мрамора с зелеными прожилками, умывальные чашки темно-зеленого фарфора, на шкафах вместо дверок — зеркала в бронзовых рамах. В рисунок паркета были вписаны желтые и черные знаки зодиака, а чашевидные ониксовые абажуры в серебряном потолке давали рассеянный свет.
То были символ и сущность столичного города, который доктор Плениш наконец завоевал и готовился разграбить.
Не отзываясь на замечания парикмахера, он наслаждался тишиной и думал о том, как бы поэффектнее сообщить Пиони, поджидавшей его в их дешевом отеле, что отныне он ничем не хуже Криса Стерна или капитана Гисхорна.
«Обработка» была пройдена полностью: ему сделали маникюр (причем рыженькая барышня нежно пожимала его мыльные пальцы), подстригли волосы, подстригли бородку, побрили, сделали массаж, вымыли голову, почистили ботинки, массировали электричеством, прохаживаясь по лицу препротивными резиновыми присосками, и, наконец, по-ассирийски умастили его сиреневой помадой и фиалковой водой.
Но в соседнем кресле клиент говорил без умолку, и слова его, врываясь в грезы доктора Плениша, постепенно осквернили их до того, что он забормотал сквозь душистую пену: «Стрижка — отрыжка, маникюр — маниак, электрический массаж — электрический стул…»
Сосед был, по всему видно, лицом влиятельным. Сейчас он занимался одновременно целым рядом дорогостоящих операций: не только претерпевал массаж, чистку обуви и маникюр, но принимал от посыльного телеграммы и давал мальчику поручения для передачи по телефону. Он говорил об испанских республиканцах (они не внушали ему особых симпатий), о скачках в Хайали, о своей новой любовнице из варьете и о ценах на земельные участки в Ла Холья. Он не скрывал от мира, что у него есть яхта, на которой могут ночевать восемь человек, а обедать — двадцать, и что однажды он проиграл в рулетку три с половиной тысячи долларов.
Доктор был так подавлен этим великолепием, чго внезапно ему показалось, будто он уже не гунн-завоеватель от-гуманизма, а всего лишь док Плениш, кинникиникский профессор.
Он довел свою оргию до конца со всем сладострастием, на какое еще был способен; напудренный, розовый, почищенный, приглаженный, он щедро дал на чай, купил толстую сигару и с удовольствием, преувеличенно долго извлекал ее из целлофановой обертки.
Но как ни пытался он, входя в свой убогий гостиничный номер, изобразить беззаботного завсегдатая скачек и рулетки, выдержки у него не хватило, он со всех ног бросился к Пиони и залепетал: — Я был у старухи Пиггот, и она даст денег, сколько мы ни попросим, и я теперь начальник Веспера. — А потом расплакался, как маленький. И его хорошенькая толстенькая жена разрыдалась от радости за компанию с ним.
А юная Кэрри сказала:
— У помощника управляющего в нашей гостинице есть ручной енот, он ест брюссельскую капусту.
Через час после этого бухгалтер-самоучка по фамилии Веспер, полчаса назад услышавший из уст раздраженной старухи, что он недотепа и дурак, тихо вошел в свою меблированную комнату в старом доме, пропахшем смертью многих поколений.
Комната была небольшая, и в ней, кроме стола, стула, кровати, комода, водопроводного крана и стопки книг — почти всё жития святых, — был только старый снимок прелестной молодой девушки, пачка писем да полная склянка сильнодействующих снотворных таблеток.
Некоторое время Веспер сидел на кровати, устремив взгляд на стену, где два пятна образовали рисунок, напоминавший виселицу. Потом он встал, взглянул на снимок девушки, достал пачку ее писем и перечитал их все до одного. Он аккуратно перевязал пачку. Задумался. Потом налил в стакан воды из крана и одну за другой бросил в него все пятьдесят таблеток.
— Горько будет, — сказал он вслух, но без признаков волнения.
Он лег на постель, поставив стакан рядом с собой на стуле.
Не поднимая головы с подушки, он повернулся так, чтобы видеть портрет. Он долго смотрел на него.
— Хорошо, Мэри, — сказал он вслух.
Он поспешно встал, выплеснул содержимое стакана в раковину и снова упал на постель. Он рыдал, но не так, как Пиони, — рыдания его были сухие и мучительные, и он был один.
«Зачем я не выпил? Трагедия кончилась, теперь начнется фарс, вот в чем ужас, — задыхался он. — Но и это пройдет, о господи! Дай мне сил хотя бы для того, чтобы быть смешным во имя твое. Аминь».
Весь вечер, всю ночь, не поев, но не чувствуя голода, он проспал судорожным, прерывистым сном. Утром он явился в контору братства Каждый Сам Себе Священник и сказал доктору Пленишу — после того как сей достойный муж долго лгал ему, напыщенно, бодро и сердечно, — что готов выполнять его приказания. Может быть, он действительно не умеет работать без чужих приказаний. Про себя он думал о том, что всегда надеялся получать приказания от бога, но, возможно, что именно брату Пленишу дано их услышать и истолковать для него… Да свершится воля твоя, о господи!
Через неделю он уже бегал по городу рассыльным. Доктор Плениш не часто сердился на него за рассеянность и нерасторопность — не слишком сердился — не слишком часто.
С тех пор Карлейль Веспер до самой своей смерти служил в одной богоугодной организации за другой — курьером, машинисткой, сверхштатным бухгалтером… Один раз он получил к рождеству десять долларов премии.
25
Доктор Гидеон Плениш был раб не ленивый, не медлительный, но вечно пекущийся о делах господина своего, а господином этим была Пиони.
Служебная рутина братства Каждый Сам Себе Священник почти не требовала от него усилий. Машинально, как паук ткет свою паутину, сочинял он потребную «литературу», и в адреса старых эскимосских клиентов шли послания, в которых разъяснялось, что если адресат сейчас же, немедленно, не бросится к своему столу и не выпишет чек на имя братства Каждый Сам Себе Священник, то ввиду всеобщего Кризиса и Распада христианство едва ли досуществует до середины следующего месяца.
Практические результаты доктора не беспокоили, так как миссис Пиггот и мисс Тундра были весьма щедры — пока. Его искушенный и трезвый ум подсказывал ему, что в один прекрасный день эти почтенные дамы неизбежно найдут себе другое увлечение, поновее и попикантнее — коммунизм, или антикоммунизм, или гормоны, или витамины, или сюрреализм; и более того____ что в следующем его мессианском воплощении получаемый оклад может уменьшиться с шести тысяч до четырех с половиной или в лучшем случае — до четырех шестисот.
Но — как он сам весело объяснил жене:
— Пока что, это золотое дело — то есть ты пойми меня правильно, детка, я имею в виду не что-либо вульгарное, меркантильное — я действительно горжусь возможностью влить новое вино в мехи церкви, дух которой извращен формализмом и пышной обрядностью…
— Сегодня в Тетрарх-Плаза идет дивная картина, — сказала Пиони.
В доказательство своего усердия и общественной полезности своих трудов он написал и бесплатно разослал интересующимся брошюру о необходимости внедрения в религию основ современной науки и принципов распределения экономических благ. И это повело к единственной попытке протеста со стороны Карлейля Веспера, который, прочитав шедевр доктора Плениша, озаглавленный: «Переведем алтари на большую мощность», — жалобно сказал:-Позвольте, брат, но вместо того, чтобы освободиться от церковной машины, вы, кажется, хотите превратить профессиональных проповедников в коммивояжеров? Я, конечно, человек не очень образованный…
— Да, Карлейль, вы меня извините, но действительно не очень. — Доктор Плениш говорил с добродушием палача. — Неужели вы не понимаете, что сейчас, когда в мире все идет вверх дном, не время начинать революционные эксперименты, которые поколеблют у людей чувство доверия и отпугнут самых достойных и отзывчивых клиентов? Нет, нет. Уж положитесь на меня; все — таки, работая столько лет, я приобрел более широкий кругозор и более острое чутье в вопросах духовной техники.
— Понимаю. Простите, брат. Вы, кажется, велели мне отнести корректуру в типографию?
Деревенская форма обращения «брат» была единственной фальшивой нотой, нарушившей душевную гармонию доктора Плениша.
Нет такой стимулирующей организации, которой не надоедали бы письмами и личными обращениями всякие фанатики и чудаки, но нигде эта докука не принимала таких размеров, как в братстве Каждый Сам Себе Священник.
Меморандумы в десять гектографированных страниц с вставками от руки корявым почерком, в которых излагался проект урегулирования международных конфликтов путем введения деревянной разменной монеты или же учреждения верховного контролирующего органа в составе папы Римского, Иосифа Сталина и автора проекта, который недорого возьмет за труды. Трогательные письма от пожилых леди по поводу фамильных экземпляров первого издания Роберта Г. Ингерсолла,[114] с которыми только необходимость вынуждает их расстаться. Краткие записки от деловых людей, начинавшиеся так: «Вы что себе, молодцы, собственно, думаете?» Многословные телеграммы от молодых проповедников, которые были бы весьма признательны за перевод по телеграфу же десяти тысяч долларов, что дало бы им возможность немедленно ехать в Эдинбург учиться. Посетители, желавшие сообщить ценные сведения об оккультных тайнах всемогущего подсознания, открывшихся некоему шотландскому геологу и поэту в древнем и уединенном тибетском монастыре. Безработный музыкант, который оплакивал свою жену и не соглашался утереть слезы и уйти меньше чем за доллар наличными.
В конце концов доктор Плениш додумался до того, как заставить Карлейля Веспера отработать свои тридцать пять долларов в неделю. Он препоручил ему все заумные письма и всех надоедливых посетителей и тем самым освободил себе время для совещаний у мисс Тундры в отеле Ритц и для более близкого знакомства с Дьяконом Уэйфишем.
Достопочтенный Эрнест Уэйфиш, экс-конгрессмен, автор книги «Раскрывая молитвенник, раскрой кошелек», был человек малосимпатичный, но он считался непревзойденным авторитетом в области изыскания средств для филантропических организаций и специалистом по диагностике клиентов. Достаточно ему было взять в руки обыкновенный список карасей, чтобы тотчас же с помощью природного чутья, с помощью внутреннего духовного нюха безошибочно определить: вот этот безнадежен, а этот при должной обработке способен удвоить ежегодный взнос.
Он твердо стоял на том, что неверно собирать жатву лишь среди богатых и средних слоев общества и что следует рассматривать огромные массы бедняков как филантропическую целину, столь плодородную, что пионер — стимулянт, поднимающий ее, должен воздать хвалу господу богу.
Стоило где-нибудь возникнуть новой организации религиозного направления — а в Нью-Йорке их возникало штук по шести в неделю, — он уже был тут как тут, потому что даже у самой захудалой шайки можно позаимствовать кое-какие идеи, кое-какие имена филантропов, поддающихся кровопусканию. Иногда имело даже смысл объединиться с такой организацией, чтобы потом, вышвырнув ее основателей вон, оставить себе пишущие машинки, корзины для бумаг, хорошеньких стенографисток и списки жертвователей.
Дьякон Уэйфиш в свое время был хозяином организации, носившей название «Национальная Лига Борьбы за Христианское Самоусовершенствование», которая еще ревностней, чем Гракон, пропагандировала мысль, что стоит только добиться, чтобы ваши рабочие посещали молитвенные собрания и приобретали себе домики в рассрочку, и вы из них можете веревки вить. Но впоследствии он разделил это богоугодное учреждение на два самостоятельных органа: Общество Поощрения Семейных Молебствий во главе с Констэнтайном Келли, бруклинским ирландцем, который называл себя баптистом и действительно крестился всякий раз при встрече с кем-либо из дома Рокфеллеров, — и мощное братство Блаженны Дающие, в котором сам Дьякон состоял президентом, ответственным секретарем и, разумеется, казначеем.
Братство Блаженны Дающие было настоящим филантропическим универмагом. Оно оказывало содействие не менее чем пятидесяти различным благотворительным начинаниям. Иногда оно выступало от лица организации, которая как будто являлась конкурирующей; в этих случаях достопочтенный Уэйфиш заявлял: «Когда мы видим, что кто-то управляется с тем или иным делом лучше нас, мы, не задумываясь, передаем ему собранные фонды и даже не требуем возмещения бухгалтерских расходов».
В первую же неделю своей работы в Каждый Сам доктор Плениш вдруг получил от Блаженных Дающих чек на пять долларов и с ним разъяснения Дьякона Уэйфиша, что взамен от него не требуется ничего, кроме ласковой улыбки — и нескольких достойных внимания имен новых жертвователей.
Находились грубые и бесцеремонные недоброжелатели, которые утверждали, что при передаче пожертвований немалая часть оседает в передаточной инстанции, но Дьякон в ответ на это опубликовал финансовый отчет, ясно показавший, что он не мог удержать в свою пользу больше чем 942 доллара в год из обшей суммы взносов в 200 ООО.
Внешне Дьякон Уэйфиш был бы похож на кузнечика, если бы кузнечики отличались багровым цветом лица и носили библейский белый галстук и синие носки со стрелками.
Кое-кто из друзей Дьякона утверждал, что ему следовало бы совершенствоваться на избранном пути и стать одним из профессиональных добывателей средств, которые не унижают своего чистого искусства заботами о дальнейшей судьбе добытых денег и готовы взять подряд на любое дело — будь то постройка колледжа или же снаряжение христианской миссии в Китай.
Наиболее квалифицированные добыватели не станут тратить время на предприятие, где речь идет менее чем о ста тысячах долларов; еще предпочтительнее для них миллион; а их комиссионные при этом составляют от пяти до девяноста пяти процентов всей суммы. Цель, которой они служат, обычно столь благородна, что они могут требовать, чтобы на их банкетах председательствовали министры, а епископы выступали в качестве конферансье на благотворительных концертах с участием голых герлс, в залах на 25 тысяч мест, в среднем по пять долларов за билет. Они с успехом используют армию молодых женщин с ангельскими голосками, которые целый день сидят у телефонных аппаратов и набирают номер за номером:
— Говорит секретарь судьи Уоллэби. Его честь просит вас приобрести четыре десятидолларовых билета на фестиваль опекунского фонда. Разрешите прислать за чеком? (Судья Уоллэби? Это не тот ли, из Суда по делам нарушителей правил движения? И вы покупаете билеты.).
Дьякон Уэйфиш вполне мог сделаться одним из таких добывателей высшего полета, хотя обычно эту категорию составляют воспитанники восточных университетов со значками Фи Бета Каппа в виде золотого ключа — джентльмены, имеющие возможность занимать свою жертву разговорами в фешенебельном Брамин-клубе; но он шутливо говорил, что предпочитает вести торговлю на собственный страх и риск и не кланяться разным старым каргам мужского пола. В своем малом мирке он занимал главенствующее положение, пользуясь если не симпатией, то во всяком случае уважением собратьев по профессии, и когда он пригласил доктора Плениша на завтрак администраторов и специалистов по рекламе, доктор счел это за честь.
Всего двенадцать мужчин и четыре женщины собрались в отдельном кабинете на втором этаже итальянского ресторанчика для скромного и в достаточной мере несъедобного завтрака; но эти шестнадцать стоили шестидесяти по тому влиянию, которое они оказывали на организацию добрых дел в стране. Был тут доктор Плениш, и, разумеется, Крис Стерн, и профессор Гетц Бухвальд, капитан Оррис Голл из Чрезвычайного Американского Национального Комитета по Организации Всемирного Сотрудничества, раввин Лихтензелиг, профессор Кэмпион из Планового Бюро Перевоспитания Юношества и, наконец, несколько выделявшийся из этого общества веселый, обаятельный и действительно образованный доктор Нэум Ллойд, воспитанник Говардского, университета и секретарь Лиги Распространения Культуры среди Цветных Народов.
Доктору Пленишу доктор Ллойд понравился гораздо меньше, чем элегантный доктор Элмер Гентри, который также почтил собрание своим присутствием. Доктор Гентри состоял пастором молитвенного дома на Морнингсайд-Хайтс, носившего название Духовной Обители Методистов, но своей популярностью был обязан главным образом еженедельным радиопроповедям, в которых, эффектно сочетая словечки современного жаргона с длинными и труднопроизносимыми учеными терминами, доказывал молодому поколению, что автомобиль есть такое же творение божие, как и телеги, на которых возили сено наши предки. Многочисленные хроникерши светской жизни и некоторые авторы передовиц (мужского пола) отмечали, что «д-р Гентри не знает себе равных среди современных апостолов обтекаемого евангелия». Но на завтраке, о котором идет речь, он присутствовал не в качестве Генри Уорда Бичера[115] наших дней, а в качестве директора Общества по Возвращению Заблудших Женщин на Путь Добродетели.
Дьякон Уэйфиш встал и обратился к присутствующим с длинной серьезной речью.
— Мы рады приветствовать в нашей среде доктора Гидеона Плениша, человека, имеющего богатый и многообразный опыт работы в столице, но, как он сам говорит, почти незнакомого с Нью-Йорком. Доктор Плениш, вы сами видите, человек высоких качеств, но вместе с тем он, я бы сказал, немножко озорник; взять хотя бы название, которое он со свойственным ему остроумием дал рядовым работникам нашей специальности, — «стимулянты».
Впрочем, мысль его тут, я полагаю, такая: что всем нам нужно покончить с сантиментами и усвоить себе деловой, профессиональный подход к работе, и в этом он тысячу раз прав — факт! В наше время прежде всего требуется понять одно: что добывать средства, добывать как можно больше средств, ни на секунду не ослабляя темпов, добывать все, что только возможно, а затем добывать сверх возможного — это не мелкая подробность и не лишняя забота в нашем деле, как воображают кое-какие старомодные чудаки, а наша главная задача, наша первоочередная задача, которой все начинается и кончается.
Мы все очень любим разговаривать о так называемых целях наших организаций: как мы накормим столько-то детей или поможем стольким-то жертвам туберкулеза. Да, конечно, все это благие, можно сказать, святые цели, но я позволю себе здесь сделать заявление, настолько крамольное, что после этого мне, пожалуй, место в Москве, среди других красных: я хочу вот сейчас, не сходя с места, сказать вам, что наша миссия не в том, чтобы тратить деньги, которые мы собираем, а в том, чтобы приучить всех людей давать, давать щедрой рукой, давать не только ради доброго дела, но ради возвышения собственной мелкой, убогой, меркантильной души благородною привычкой к даванию.
Пусть приходят ко мне, и скулят, и ноют, и уверяют, что если давать, как я требую, то не останется для своей семьи, и нельзя будет позволять себе всякие дурацкие излишества, вроде уроков музыки детям, и нечего будет откладывать на книжку, и так далее, и тому подобное — меня вы этим не разжалобите, и не думайте, я только скажу: «Прекрасно, брат! Вот вы и научитесь давать, как нас учил Христос, — давать, пока не заболит, и не только у вас заболит, но и у ваших родных тоже. Прекрасно», — скажу я. Факт!
А когда всякие критики и скептики, и придиры, и пролазы, и всякая вредная мелюзга начинают говорить: «Дьякон, а где ваш финансовый отчет? А где доказательство, что вы ничего не растратили?»-мне очень хочется сказать им: «Черт подери!» Да-с, меня это так бесит, что я готов чертыхаться! «Черт дери, — хочется мне сказать, — а знаете ли вы, придиры и скептики, что, может быть, лучший способ облагородить человеческую душу — это взять с нее деньги именно для того, чтоб растратить их зря?..» Вы, конечно, понимаете, что в братстве Блаженны Дающие не тратится зря ни один цент, мы даже и жалованья настоящего не получаем, и наши книги ревизуются почтеннейшей фирмой Френч, Саффрон и Габби, и по ним видно, что каждый грош из наших пожертвований, за вычетом накладных расходов — почтовых, издательских и арендной платы, — тотчас же передается какой-нибудь крупной организации, занятой вспомоществованием нуждающимся здесь или за границей, — каждый грош! Факт!
Как многим из вас известно, филантропия, в переводе на живые доллары и центы, стоит сейчас на восьмом месте среди ведущих отраслей американской экономики. А нужно, чтобы она стояла на первом. Разве удовольствие от покупки автомобиля, ванны или радиоприемника может сравниться с тем духовным блаженством, а если на то пошло, то и гордостью, радостью, общественным престижем, которые дает человеку сознание, что он доставил людям более достойным, администраторам филантропических организаций, возможность творить добро, — не говоря уже о приобретенной славе крупнейшего жертвователя в округе! Приходится иногда немножко заниматься внушением, чтобы помочь ему уяснить это, но зато до чего же он будет счастлив, когда уяснит! Факт!
Филантропическая отрасль неуклонно растет и развивается, но, может быть, вы думаете, что это благодаря возрастающей сознательности или щедрости даятельских масс? Как же, дождешься от этих разинь! Причина лишь та, что их обрабатывают научными методами — прошу обратить внимание, — научными методами. Дело добывания средств требует природного дара и, кроме того, безошибочной техники. А вы, друзья мои, часто склонны забывать это и предаетесь мечтам о тех добрых делах, которые вы могли бы сделать при наличии средств, вместо того чтобы проявить научный подход: сначала добывать средства, а уже затем смотреть, нельзя ли их использовать для какого-нибудь доброго дела. Все вы знаете или должны знать, что за теми отвлеченными мотивами, о которых мы говорим в своих публичных выступлениях — ну там врожденная добродетель, и любовь к ближнему, и взаимная ответственность, которую нам полагается чувствовать при демократической системе, — за всем этим скрываются две реальные силы: наши усовершенствованные методы добывания приношений при содействии радио или кинозвезд, а затем — когда вы уже приучили людей давать, умение сделать эту привычку постоянной.
В этом наша задача. Не пускайтесь с клиентами в рассуждения — приучите их к тому, чтобы заполнять наши переводные бланки стало для них таким же обычным делом, как чистить зубы по утрам, и чтобы они одинаково скверно чувствовали себя, забыв сделать то или другое. Факт!
Установлено, как вы знаете, что привычка давать может быть трех степеней. Наивысшая проистекает из пламенной любви к господу богу, хотя должен с прискорбием заметить, что в общем бюджете доход от этой статьи занимает не очень большое место — таких даятелей немного. Затем идет категория лиц, дающих в силу беспокойного ощущения, что надо приносить пользу кому-то или чему-то. И, наконец, самая низшая категория, но, быть может, самая важная для людей без предрассудков, как мы с вами, — это те, кем движет страх, тщеславие или корысть; это люди, опасающиеся революции, это какая-нибудь дура-баба, которая уделяет нам десятую часть того, что она тратит на тряпки — а может быть, и меньше, — из желания прослыть великодушной и получать приглашения в разные комитеты.
Вот видите, все тут разработано и продумано на основе такого глубокого психологического анализа, какого никто не производил с тех пор, как Фрейд изобрел противозачаточные средства. А мы что делаем? Пишем по старинке свои письма, ведем разговоры и заставляем наш цвет, нашу гвардию звонить по телефону жертвователям всех трех категорий без разбора, вместо того чтобы разработать план действий для каждой в отдельности и с индивидуальным подходом. Вот почему филантропия числится только на восьмом месте, вот почему к автомобильным магнатам уплывает столько долларов, которым по-настоящему место в наших сейфах. Сами виноваты!
Но больше всего меня бесит вопиюще недемократическое представление о том, будто простой народ — это такая уж забитая, жалкая скотинка, что ему даже и не хочется тянуться за теми, кто выше и лучше, и давать так же, как дают они. Я происхожу из самых что ни на есть простых людей, и я глубоко возмущен подобной клеветой на этот великий класс, возмущен невежеством, которое мешает видеть, что здесь таится огромный, поистине неисчерпаемый источник средств.
Это самые богатые залежи в стране, а они даже еще не разведаны как следует. Помните, что сказано в писании? «Каковы помыслы человека, таковы и дела его». Ну так вот, если вы направите свои помыслы по должному руслу и отрешитесь от предрассудков, вам станет ясно, что в нашей необъятной стране живет около ста тридцати миллионов людей и что, даже если считать по доллару с человека, это составит сто тридцать мил-ли-о-нов монет — а уж тут есть чем заняться даже таким ученым мужам, как доктор Плениш или профессор Бухвальд!
Да, друзья мои, профессиональное искусство увеличения даяний во всем мире должно основываться на одном соображении: очень мало есть людей, которые дают прежде, чем их попросят дать. И наш долг в эти трудные дни, когда на горизонте Европы сгущаются военные тучи, препоясать чресла и взяться за дело: просить — требовать — настаивать, чтобы эти сто тридцать миллионов пришли на помощь в выполнении грандиозных высоконравственных и патриотических планов, которые мы разработали с полным знанием дела, но не можем осуществить из-за нехватки каких-то жалких нескольких миллионов долларов. Час настал! Помните, что угроза войны, должным образом преподнесенная, развяжет кошельки — как тугие, так и тощие — даже у тех, кто до сих пор оставался глух ко всем нашим призывам.
Итак, леди и джентльмены, разбудим свою дремлющую энергию и во имя темного и страждущего человечества ударим по сомкнутому строю этих потенциальных жертвователей, ударим покрепче, не щадя сил! Факт!
Речь этого Патрика Генри[116] от филантропии вдохновила доктора Плениша, а еще больше его вдохновила двухдневная Конференция за Круглым Столом под председательством капитана Орриса Голла, на которой был прочитан ряд докладов: доклад о геополитике, доклад о том, почему Гитлер не может начать войну, доклад о том, почему он не может не начать войну, доклад о применении диаграмм. В целом это напоминало номер в высшей степени серьезного и респектабельного журнала, который ввиду внезапного ареста штатных сотрудников редакции выпущен группой соискателей степени доктора философских наук.
Под впечатлением всего слышанного у доктора Плениша постепенно созрел некий план. Он проведет слияние ряда организаций — Уэйфиша, Келли, Голла, Китто, Стерна — и всех руководителей сохранит в качестве вице-президентов; во главе же объединения станет он сам; хотя для начала он не прочь поработать под руководством полковника Чарльза Б. Мардука — не только популяризатора, но и законодателя американских темпов и американских идеалов. Время для создания такого мощного центрального узла не пришло еще, придется выждать год или два, но уже сейчас можно начать предварительные переговоры с полковником. Честолюбивые замыслы доктора Плениша получили прочную основу; прочную основу получил и его домашний очаг.
В Гринвич-Вилледж, на Чарльз-стрит, они нашли старомодный особняк, пленивший доктора дешевизной, Пиони — высокими окнами в гостиной, а Кэрри — садом, который кишмя кишел кошками.
Красный с золотом чиппендэйлевский китайский шкафчик, синий китайский ковер, яшмовая китайская лампа, радиоприемник карельской березы и холодильник — для всего нашлось покойное и удобное место в гостиной, длинной комнате с мраморным камином. В доме было четыре спальни, и юная Кэрри получила отдельную комнату, а доктор Плениш — рабочий кабинет, куда он с любовью водворил старый потрескавшийся письменный стол, служивший ему еще в дни его педагогической деятельности.
У них был теперь свой дом, и только два или три шага отделяли их от вершины успеха.
26
Богатой старой миссис Пиггот в конце концов надоело, что каждый сам себе священник, и доктор Плениш уже два года работал в братстве Блаженны Дающие. Жалованье ему положили вполне подходящее — 4 800 в: год.
Ему не особенно нравился его шеф, Дьякон Эрнест Уэйфиш, которого Пиони прозвала «Эрни-Медович», но под его руководством доктор Плениш досконально изучил профессию добывателя средств и администратора общественных организаций. Он узнал, что вопреки теориям преподобного доктора Кристиана Стерна никакая, даже самая широкая, реклама не поможет собрать храмовые деньги, если не подкреплять ее интенсивным выпрашиванием.
Как любил говорить Дьякон Уэйфиш: «Не ждите, чтобы вдовица сама принесла свою лепту. Ловите ее у ее корыта».
И это было не только остроумной метафорой. Дьякон Уэйфиш специализировался на посмертных дарах богатых вдов, и, когда не бывал уверен в получении такого дара, сам отправлялся к смертному одру и, с достоинством сочетая приемы кошки и взломщика, требовал своего… Неужели миссис Джонс собирается переселиться в царство небесное, не отказав кругленькую сумму братству? Каково ей будет, когда она, оглянувшись назад, поймет, что только по ее недосмотру в мире существует голод и зло? У нее не оставалось лазеек: достопочтенный Уэйфиш всегда держал наготове печатные бланки для завещаний.
Доктору Пленишу довелось однажды присутствовать при том, как Дьякон молился у постели престарелой и очень богатой женщины, которой, по его расчетам, оставалось жить еще с неделю-как раз достаточно для того, чтобы составить дополнительное распоряжение к завещанию.
Смущаясь и немного нервничая, доктор Плениш стоял в углу пышной душной спальни, а Дьякон Уэйфиш бодро плюхнулся на колени возле постели, взял старуху за сухую, костлявую руку и закудахтал:
— Господи боже мой, ты знаешь, что возлюбленная сестра наша всегда была праведной женщиной. Не пристало нам выпытывать, на какие добрые дела она завещала от своего земного достояния столько, сколько ты, сказавший «Все что имеешь, раздай бедным», счел бы достаточным, но тебе известно, что она, вняв голосу чистого своего сердца и пытливого ума, конечно, избрала и назначила для распоряжения этим даром лицо или организацию, которая, ни цента не взяв себе, сумеет отдать его тем, кому он принесет наибольшую пользу.
Когда он закончил молитву, старуха робко спросила:
— Скажите мне, как сделать, чтобы мой посмертный дар был действительно использован согласно моей воле?
Дьякон быстро пододвинул к постели стул.
— Правда, я должен был спешить на свидание с одним архиепископом, но я всегда готов служить страждущему человечеству. — И он достал из кармана форму № 8АЗ — бланк с печатным заголовком «Блаженны Дающие».
Доктор Плениш почувствовал легкую тошноту.
Он думал: «Это техника, доведенная до совершенства, и, конечно, презирать ее не приходится; однако хотелось бы мне работать в организации, где средства пополнялись бы с такой же быстротой, но цели были бы более возвышенные».
Эрнест Уэйфиш первым из стимулянтов добрался до крупных корпораций, которые ради спасения своей корпоративной души и снижения подоходного налога стали выписывать чеки филантропическим обществам. Он нередко говорил с веселой усмешкой: «Немало я бился, пока внушил этим толстопузым, что с нами, несущими тяжкое бремя добывания средств, следует считаться в финансовом мире не меньше, чем с другими коммерсантами». Гак случилось, что некая корпорация, которой благодаря усилиям двух штатных химиков, трех инженеров, географа-исследователя Бирмы, переводчика и разъездного агента удалось сократить стоимость одного ярда кабеля на 0,0001 цента, вручила Дьякону Уэйфишу несколько крупных чеков с единственной просьбой — позаботиться о том, чтобы это ритуальное жертвоприношение умилостивило с помощью какого-нибудь благочестивого колдовства темные силы ада в лице Конгресса и Нового Курса.
Некоторое время спустя Уэйфиш одним из первых заявил, что после того как правительство разрешило сбрасывать с подоходного налога 15 процентов за благотворительность, налогоплательщик не только может, но должен отдавать эти 15 процентов и что он, Эрнест Уэйфиш, собственно говоря, лишь правительственный чиновник, уполномоченный принимать эти суммы. Очередные литературные опусы, изготовленные доктором Пленишем, пестрели фразами вроде: «Помните о 15 процентах — проявите щедрость, она вам ничего не будет стоить», — и намеками, что в противном случае правительство все равно заберет эти деньги в виде налога и зря потратит их на всяких бездельников, так что принесение их в дар Уэйфишу, в сущности, не что иное, как выполнение общественного долга.
— Иногда меня берет сомнение, вправе ли я писать такие вещи. Уж очень это идет вразрез с истинной благотворительностью, — тревожно признавался доктор Плениш жене.
— Какой ты деликатный! — восхищалась Пиони.
— Конечно, я мог бы сделать вот что — поручить Весперу писать за меня эту чепуху.
— А он согласится? Ты ведь знаешь, какой он чудак и святоша.
— Будь спокойна, согласится, если я велю. Ты не забудь, как честно я поступил по отношению к нему — я почти рисковал своим местом, когда уговорил Уэйфиша взять его из Каждый Сам Себе на тридцать долларов в неделю. Да, мистер Праведник Дж. Веспер, кажется, начинает понимать, что в этой жизни даже самые святые цели достигаются практическими методами. Ну-с, миссис Плениш, а что вы скажете, если я предложу вам распить бутылочку рейнвейна?
— Вероятно, я скажу: «Большое спасибо, с удовольствием, профессор Плениш, милый, праведный святоша и дорогуша!»
Одной из побед Уэйфиша и Плениша была кооптация в состав правления столь полезной, хотя и производной величины, как майор Гарольд Хомуорд, зять полковника Чарльза Б. Мардука и законный муж дочери Мардука, известной всему культурному миру под именем «Говорящей Уинифрид».
Пиони сказала мужу:
— Я слышала, этот майор Хомуорд, которого вы к себе залучили, роскошно играет в поло. Изволь меня с ним познакомить. Ты теперь встречаешься со всякими денежными тузами, а я чем хуже?
— Дорогая моя, скоро ты познакомишься с самим полковником Марлуком, очень возможно, что и в дом к нему будешь приглашена, только потерпи, дай срок.
— Да, это бы здорово, и мне кажется, у тебя это выйдет.
— Я не собираюсь до скончания века работать у Эрни-Медовича. Мне нужна собственная организация.
— Вот именно, — сказала миссис Плениш.
— И знаешь, — сказал доктор Плениш, — насчет Map- дука у меня есть одна идея.
Полковник Чарльз Б. Мардук был не только владельцем журналов и специалистом по рекламе, но и военным. В первую мировую войну он служил майором в действующей армии, позже — полковником в нью-йоркской национальной гвардии. В 1937 году ему было пятьдесят пять лет. Это был видный, представительный мужчина, румяный, с серебристой шевелюрой и довольно плотный, хотя, зная его тщеславие, скорее можно было ожидать, что он похож на юркого терьера, вечно тявкающего: «Обратите на меня внимание!»
Его любимыми героями были Наполеон и генерал Франко. В трезвом виде он называл себя либералом, выпив, он называл себя Сильной Личностью.
Он был законным сыном адвоката из штата Нью — Йорк, который вложил крупную сумму в производство ковров и стал судьей; он окончил Гарвардский университет, где прославился своими любовными похождениями и памятью на исторические даты. Он стал репортером, затем владельцем нескольких провинциальных газет и, наконец, сделал великое открытие, позже разработанное профессорами коммерческого факультета в Гарварде и состоящее в том, что реклама — ценный экономический фактор, поскольку это самый дешевый способ продавать товар, в особенности если товар никуда не годится. Таким образом, всерьез его карьера началась на поприще Служения Обществу.
Теперь он состоял президентом компании «Мардук, Сайко и Сэгг», в прошлом — Мардук и Сайко, явившейся пионером, или, вернее, военным разведчиком в области как радиорекламы, так и изучения розничного рынка; вид обслуживания, который потребители получали совершенно бесплатно. Это они первые передали в эфир песню английского жаворонка — по заказу Общества Выпекателей Мацы имени Царя Давида; они первые дали возможность всему миру услышать крик новорожденного младенца-в порядке рекламы Вермонтской Витаминизированной Детской Муки.
Все это не мешало полковнику оставаться истинным питомцем Гарварда, и на ежегодных футбольных матчах его нахмуренные ассирийские брови наводили трепет на воинство Боудойнского колледжа.
Занимаясь рекламой, он не бросал и издательского дела и был главным владельцем таких журналов, как «Вестник Домашней Хозяйки», «Профессиональные Советы Специалистов по Продаже в Рассрочку» и популярный орган «Факты», печатавший признания соблазненных молодых женщин, сочиненные пожилыми строчкогонами мужского пола и иллюстрированные снимками самых добродетельных манхэттенских натурщиц.
Кроме того, он был членом приходского совета при протестантской епископальной церкви св. Кунигунды и годами мечтал и втайне измышлял пути, как бы стать президентом Соединенных Штатов.
Непрошеные осведомители вечно сеяли слухи, что он хочет быть президентом, и полковник, естественно, с раздражением их опровергал:
— Видно, этим господам известно о моих планах больше, чем мне самому! Очень любезно с их стороны, что они берутся говорить за меня, но, право же, у меня работы более чем достаточно. Мое дело — смазывать колеса торговли, а я всегда занимаюсь своим делом.
Это была правда, но, кроме того, он занимался делами еще целого ряда людей.
Он искренне считал, что должен стать президентом, чтобы не дать стране скатиться через социализм Нового Курса в анархию. Однажды за завтраком он уверенно заявил своей талантливой дочке Уинифрид Мардук Хомуорд:
— Не могу сказать, чтобы это меня очень радовало, но я понимаю, что я самый умный человек в стране. — Она, преданная, добрая душа, согласилась с ним и стала сообщать эту новость направо и налево.
Лишь одно обстоятельство мешало ему ринуться в пылающие волны гласности — банкетов, речей, снимков и интервью, доплыть по ним до поста президента и спасти демократию для блага простого человека. Дело в том, что он не выносил простых людей. Все они представлялись ему дураками, которые шумят попусту и от которых плохо пахнет. Поэтому он никогда не выставлял свою кандидатуру ни в конгресс штата, ни в конгресс США.
Известность его была широкой, но неофициальной. В мире баров и редакций все слышали о нем и о его готовности принести себя в жертву, став президентом; для всех деятелей общественных организаций он был тем же, чем для юных влюбленных была Елена Троянская. Все ответственные секретари молили его «написать для нашего бюллетеня несколько слов — коротенький экспромт, который вы могли бы в пять минут продиктовать вашему секретарю». Они всячески уговаривали его председательствовать на банкетах и изрекать перед микрофоном, что земледелие — достойное занятие, что чистить зубы очень похвально, но что выше всего этого — кампания по сбору средств для Объединенного Всеамериканского Межцерковного комитета по изучению связей между Кремлем и Методистским Управлением Общественных Нравов.
Полковник Мардук принимал одно приглашение из ста — предпочтительно на какой-нибудь банкет, где присутствовала жена президента, или тренер футбольной команды Мичиганского университета, или профессор Эйнштейн. Но он ловко избегал интервьюеров и слепящих вспышек магния перед банкетом, а после него — рукопожатий и подобострастных: «Вы меня, вероятно, не помните, но мы встречались». Он спокойно обедал у себя дома или в клубе, на банкете появлялся только в 9.15 и, исполнив свой номер, сразу уезжал.
Среди тысяч американцев, посвятивших себя рекламе, лишь несколько сот, по общему признанию, строили свою работу на основе литературной, эмоциональной и поэтической; лишь шестеро — на основе строго научной; и эту последнюю группу возглавлял полковник Мардук.
Своим бархатным голосом он произносил речи на молитвенных собраниях, студенческих митингах и социологических конференциях, доказывая, что современная реклама — самый дешевый способ продажи товаров, что она являет собой высокие образцы музыкальной прозы и облагораживающих душу картинок и что исключительно благодаря рекламе Средний Американец имеет в своем распоряжении автоматическую электрическую машинку накладного серебра для поджаривания хлеба, граммофонные пластинки с произведениями Фримля[117] и Иоганна Себастьяна Баха, радиолы, двухтонные грузовики, двухцветные летние туфли, зубную пасту, заменяющую зубного врача, радиоприемники, позволяющие ловить один и тот же джаз из Скенектади и из Сиама; эликсир для полоскания рта, который, кроме того, удаляет перхоть, а в районах, подчиненных сухому закону, может служить и коктейлем; и все прочие чудеса, обладание которыми сделало Среднего Американца самым счастливым и самым красивым созданием на земле.
Все это полковник Мардук доказывал яростно, с помощью цифр и диаграмм, и слава ученого закрепилась за ним так прочно, что он получил две степени доктора литературы, одну степень магистра естественных наук, четыре степени доктора прав, одну степень доктора филологических наук, а также ряд орденов от Германии, Италии и Общества Дочерей Американской Революции.
А между тем все его любовницы рано или поздно приходили к выводу, что лучше бы не иметь с ним дела.
Ни одна из этих дам не принадлежала к англосаксонскому племени. Полковник терпеть не мог американок и англичанок, и досуг свой делил с итальянками, гречанками, русскими, еврейками, француженками или китаянками. Они не давали ему скучать, с ними он мог смеяться — по нескольку недель с каждой. Чтобы отделываться от них, у него имелся метод — точный и проверенный, как конъюнктурная сводка его фирмы: начиналось все с бурной и обоснованной ссоры и обычно обходилось ему довольно дешево.
Жена его в 1937 году была, вероятно, еще жива, но этого никто в точности не помнил. Она имела значение лишь постольку, поскольку даровала династии дочь полковника, Уинифрид, а сама так давно превратилась в бессловесное существо с разбитым сердцем, что никто уже не обращал на это внимания.
Другое дело — Уинифрид, Уинифрид Мардук Хомуорд; это была настоящая женщина, замечательная женщина, американская женщина-карьеристка, и имелись все основания предполагать, что в 1955 году она будет диктатором Соединенных Штатов и Китая.
Уинифрид Хомуорд — Говорящая Женщина.
Она включалась автоматически и говорила, не требуя завода. Всякая толпа, состоявшая более чем из двух человек, была для нее аудиторией, при виде которой она поднималась на воображаемую трибуну, отодвигала воображаемый стакан воды со льдом и начинала страстное выступление, полное воображаемых сведений об Условиях и Положениях и длившееся, пока слушатели не покидали зал — или немного дольше.
Она являла собою нечто новое в истории женщин, и до сих пор не выяснено, от кого она вела свою родословную-от королевы Екатерины, Флоренс Найтингейл,[118] Лукреции Борджиа,[119] Фрэнсис Виллард,[120] Виктории Вудхолл,[121] Нэнси Астор,[122] Кэрри Нэйшн[123] или лос-анжелосской святой Эми Сэмпл Макферсон.[124]
Уинифрид была красива, как лошадь, — внушительная молодая особа, наделенная голосом, который обволакивал вас, точно патока с касторкой. В 1937 году ей было около тридцати лет, она обладала мудростью Астарты[125] и силой Джо Луиса,[126] и у нее были немного усталые веки.
Года два тому назад она, не желая отставать от отца, обзавелась любовницей в лице законного мужа майора Гарольда Хомуорда, который был произведен в этот чин за то, что в первую мировую войну служил старшим лейтенантом в военном интендантстве. Это был красавец мужчина, прекрасный танцор, но в то же время превосходный бухгалтер; он умел отыскивать интересный литературный материал и приносил несомненную пользу журналам Мардука. В любви он проявлял пылкость даже в тех случаях, когда это было лишь выполнением долга, и Уинифрид с удовольствием возвращалась с работы домой, в свое гнездышко.
Детей у них не было.
Выше себя Уинифрид ставила только своего отца, и возможно, что именно благодаря ей в прогнозах редакций и баров он так часто фигурировал в качестве президента, который будет красоваться в кресле, осененном звездным знаменем, предоставляя дочери второстепенную задачу управления государством.
Она заявляла, официально и неофициально (хотя у нее это различие не всегда удавалось установить), что отец научил ее проницательно и смело мыслить, просто и оригинально писать и при всякой опасности быть застигнутой врасплох искать спасения в прекрасном, испытанном слове «честь». У самого полковника чувство чести было так сильно развито, что он не разрешал компании Мардук, Сайко и Сэгг рекламировать спиртные напитки, а также патентованные и противозачаточные средства, — для этого у него имелась особая фирма, в которой его имя даже не фигурировало.
Бывая с отцом, Уинифрид так много говорила о его достоинствах, что не давала ему возможности самому сказать о них хоть слово.
Все свои монологи она пересыпала спасительными фразами вроде: «Одну секундочку! Я хотела поднять еще только один вопрос. Надеюсь, я сегодня говорила не слишком долго. Еще одно слово, и я умолкаю».
Но она не умолкала никогда. Уинифрид Хомуорд, Говорящая Женщина.
Она состояла членом правления в двадцати се‹ми благотворительных организациях, работала в различных комитетах республиканской партии и в среднем по три раза в неделю выступала с речами на тему о всех Идеалах, в которые верила, — то есть о всех Идеалах, в которые могла верить в период между 1930 и 1950 годами энергичная женщина, окончившая женский колледж. — а кроме того, редактировала феминистский и либеральный еженедельник «Смирно!», фактическим владельцем которого был ее отец, а официальным издателем — ее муж.
Сложную и несколько истерическую программу журнала «Смирно!» можно вкратце свести к утверждению, что обязанности президента США, редактора нью — йоркской «Геральд тайме», ректора Объединенного Колу мбийско-Калифорнийского университета и официального опровергателя всех неприятных выводов института Гэллопа следует объединить и поручить человеку типа Уинифрид Хомуорд.
На журнал «Смирно!» ссылалась однажды в своей проповеди женщина-пастор спиритуалистической церкви в Окленде, штат Калифорния.
Кроме пасторши, этот журнал цитировало часто и проникновенно еще одно лицо — сама Уинифрид. Не хватало ему только подписчиков и хотя бы одного абзаца, который можно было бы прочесть с начала до конца.
Говоря о нем-если о нем вообще заходил разговор, — его называли феминистским, однако нельзя сказать с уверенностью, что миссис Хомуорд была феминисткой, нельзя сказать, чтобы она очень любила женщин. Свое красноречие она охотнее тратила на мужчин, которые ее восхваляли, чем на женщин, которые от восхвалений воздерживались, и гораздо охотнее бывала в мужском обществе.
Такова была царствующая фамилия — полковник Мардук, Уинифрид и их незаконный отпрыск майор Хомуорд, — знакомства с которой чета Пленишей давно мечтала удостоиться.
Майор Хомуорд присутствовал однажды на собрании директоров братства Блаженны Дающие — красивый, стройный, усы, как пушок юности, глаза влажные, но живые. Эрнест Уэйфиш оказывал ему истинно королевские почести. Но как только доктору Пленишу пришло в голову шепнуть: «Скучновато здесь. Может, смыться куда-нибудь выпить?» — глаза у майора стали круглые, как у кошки, завидевшей беспечную малиновку; он схватил доктора под руку, и они выскользнули из зала под судорожно-красноречивые разглагольствования Уэйфиша. Они пили до семи часов. Предупредив Пиони по телефону, доктор Плениш привез размякшего майора к себе домой обедать.
Нужно сказать, что толстенькая Пиони сохранила всю свою женскую привлекательность. Ни разу в жизни она не отклонилась от прямого пути, но ее глаза были способны смутить даже постового полисмена, и она сказала майору: «Какой приятный сюрприз!»-с уверенной интонацией интервьюерши или актрисы, принимающей поклонника в своей уборной. К десяти часам майор, Пиони и доктор так сдружились, что позвонили по междугородному телефону Джорджу Райоту, чтобы он немедленно прилетел в Нью-Йорк и присоединился к их трио. (Он этого не сделал.) Однако еще до того, как майор достиг состояния полного пьяного блаженства, доктор Плениш успел заронить семена некоей Идеи.
— Я знаю, что полковник Мардук числится в правлениях множества организаций, но, в сущности, он не связан с ними; он разрешает им пользоваться его именем да посылает небольшие чеки, а делами их не интересуется. А между тем, если он действительно хочет стать президентом Соединенных Штатов…
— Не хочет он этого, совсем не хочет. Просто не знаю, кто пустил этот слух, — запротестовал сверхлояльный зять полковника. — Он считает себя просто-напросто сейсмографом общественного мнения. Политических притязаний у него нет.
— Ну, государственным секретарем или послом в Англии.
— Об этом он, возможно, согласился бы подумать.
— Он не отдает себе отчета, как важно для него было бы наладить тесный рабочий контакт с какой-нибудь стимулирующей организацией, чтобы она связала его имя со всеми возвышенными движениями, которые так помогают собрать голоса. Если бы он удостоил своим вниманием, а может быть, и финансовой помощью, первоклассного администратора…
— Нет, нет, нет! Спасибо, Пиони, больше не нужно, стоп! Вот так! — сказал майор. — Нет, едва ли полковника заинтересуют Блаженные Дающие. Он считает достаточным, что я представляю его в вашем правлении.
— Ах, вы об этом? Ну, разумеется, нет. Я имею в виду более обширное сообщество идеалистов, побольше выступлений о свободе и демократии. Хотелось бы мне с ним как-нибудь поговорить.
Далее доктор не развивал своей Идеи, и лишь после того, как было выпито еще немало стаканов, он рискнул позондировать майора насчет таинственных взаимоотношений между полковником Мардуком и губернатором Томасом Близзардом.
(Пиони думала: «Как это приятно и культурно и как оправдывает все затраченные усилия; словно мячи, мелькают в разговоре слова: полковник, майор, губернатор, сенатор, доктор, профессор!..»)
Том Близзард был одним из двадцати человек, которые в 1937 году имели шансы попасть в 1944-м, а может быть, даже в 1940 году в кандидаты на пост президента от демократической партии.
В своем штате на Среднем Западе он был председателем палаты представителей, а затем два срока подряд губернатором, и простодушные читатели газет все еще верили, будто он проводит девять десятых своего времени в маленьком фабричном городке Васкигане, а одну десятую — в Нью-Йорке и Вашингтоне. На самом деле было как раз наоборот. Он по-прежнему являлся владельцем миллионного завода сельскохозяйственных машин в Васкигане, но большую часть времени жил в скромной двенадцатикомнатной лачуге на Парк-авеню в Нью-Йорке и был знаком со всеми нью-йоркскими репортерами, редакторами-коммунистами, боксерами, профессорами экономических наук и барменами ночных клубов.
Это был крупный, неопрятный человек с благодушной походкой вперевалку, с подкупающей молодой улыбкой и очень себе на уме.
Ходили упорные слухи, что губернатор Близзард и полковник Мардук заключили между собой политическое соглашение, но кто кому обязался оказывать поддержку, было неясно, и майор Хомуорд не внес ясности в этот вопрос. Доктор решил, что он, возможно, и сам ничего не знает.
Вечеринка закончилась в кухне, как полагается всякой подлинно интимной вечеринке.
Кухня на Чарльз-стрит к этому времени совершенно преобразилась. Пиони энергично взялась за эту серую, пропахшую плесенью комнату, и теперь здесь радовали глаз белые стены с ярким узором, красные клеенчатые оборочки на полках и небьющаяся пластмассовая посуда — зеленая и красная. Трое приятелей уселись вокруг зеленого кухонного стола пить коктейли, и майор Хомуорд, сын самого шикарного портного в Западной Виргинии, и Плениши, выходцы со Среднего Запада, с одинаковым увлечением стали изливать связывавшее их чувство взаимной приязни в нежных звуках американской народной песни «Мэндн, Мэнди, сладкая, как сахарный тростник», позаимствованной в дебрях Дальнего Юга всеми нью-йоркскими мюзик-холлами.
Во время этого концерта Кэрри Плениш, возвратившись домой неизвестно откуда, заглянула в кухню, сморщила нос и сейчас же вышла.
Пиони выбежала вслед за ней:
— Иди познакомься с майором Хомуордом. Такой интересный человек и видная фигура в обществе!
— А мне показалось — просто старый дурак, — шепотом сказала Кэрри.
— Старый? Да он моложе папы!
— Ну и что же?
— Кэрри!
— Право же, мама, я не хочу быть дерзкой, но, по — моему, он похож на старого клоуна.
— Это один из умнейших и влиятельнейших людей среди борцов за общественное благосостояние.
— Право же, мама, не сердись, но меня не интересуют ни влиятельные люди, ни общественное благосостояние. Я предпочитаю спать. Спокойной ночи.
Пиони, огорченная, осталась одна в коридоре. О чем только думает молодое поколение? Она-то в шестнадцать лет была не такая. Она бы с восторгом согласилась помочь своей матери в почетном деле — снискать расположение важного гостя! А Кэрри…
Не успокоилась, пока ей не разрешили уйти из отличной частной школы мисс Клинк, где она общалась с дочерьми всяких видных людей, и поступить в эту ужасную, огромную городскую школу, полную ирландцев, евреев и макаронников! А до чего дерзкая! Когда Пиони заныла: «Но, деточка моя, мы с папой так старались, так экономили, чтобы отдать тебя в настоящую фешенебельную школу», — у нее достало нахальства ответить: «Так чем же ты недовольна, мама? Вот я перейду в городскую школу — и экономить не нужно будет». Ловить на слове родную мать! И вечно эти разговоры о биологии и черчении, и Эрнест Хемингуэй, и Джеймс Фаррел, и всякая такая ерунда! И притворяется скромницей, а сама носит эти джемперы, которые так обтягивают фигуру, что все видно…
Пиони вздохнула: «Просто не понимаю современных девчонок. Собственного дома для них вообще не существует!» — И она, как шарик, покатилась обратно в кухню и выпила еще один коктейль.
Позже, когда доктор Плениш решил, что пора усадить майора в такси и благополучно доставить его в резиденцию Уинифрид Мардук Хомуорд на Восточной 68-й улице, Пиони поехала с ними, и в такси они еще попели, и майор держал ее за руку, а она с гордостью думала, что вот ею интересуется один из тех редких людей, которые служат офицерами связи между миром богачей и трудовой интеллигенцией, и что именно это сочетание делает Нью-Йорк таким притягательным и совсем-совсем непохожим на Кинникиник, штат Айова.
Один из важнейших видов деятельности всякой либеральной просветительной организации составляет так называемая исследовательская работа.
Скажем, исследование проделок экс-преподобного Иезекииля Биттери.
Вы прочитываете в газетах от сорока до пятидесяти подробных биографий мистера Биттери, затем на имя вашего секретаря выписываете его собственные произведения и перечитываете все сначала. Затем засылаете шпионов в диковинных шляпах и в пальто с поднятым воротником послушать его публичные выступления. Таким образом, исследовательская работа позволяет вам установить, что брат Биттери-пустомеля и демагог, что в прошлом его обвиняли не только в систематической краже содержимого церковной кружки, но и в похищении самой кружки для хранения в ней редиски, а теперь он только потому не состоит на жалованье у всех фашистов, что по рассеянности пропустил одного или двух.
Годика через три сенатская комиссия вызовет в Вашингтон целый полк свидетелей и после долгого запугивания и закулисных воздействий установит, что мистер Биттери в прошлом — неистовый проповедник, а сейчас — не менее неистовый фашист.
Еще через два года левые газеты разошлют на места всех докторов философии, состоящих у них в репортерах, и обнаружат, что мистер Биттери в прошлом стоял за линчевание агностиков, а теперь стоит за линчевание социалистов.
А все это время сам преподобный Иезекииль будет во всеуслышание признавать, заявлять, повторять всем, кого ему удастся залучить на свои выступления, что он всегда был членом Ку-Клукс-Клана и фашистом, всегда ненавидел евреев, колледжи и хорошие манеры и что в Гитлере ему не нравится одно — зачем он в молодости расписывал стены сараев, когда гораздо лучше было бы оставить их в первозданном виде.
Вот что такое Исследовательская Работа.
Доктор Плениш был с нею хорошо знаком, и теперь он попытался направить луч исследовательского прожектора на более загадочный объект: скрытые цели заговора Мардук — Близзард. В своих научных изысканиях он дошел до того, что поставил выпивку репортеру Хэтчу Хьюиту и задал ему ряд вопросов — метод, нередко практикуемый среди профессиональных стимулянтов.
— Да, — сказал Хэтч. (Доктор Плениш смутно помнил, что они где-то когда-то встречались.) — Да, Том Близзард метит в президенты — все равно от какой партии. Принимает любую поддержку. Готов заигрывать и с клубом хоккеистов озера Эри, и с Арустукской Ассоциацией Огородников, и с братством имени св. Иоанна по Изучению св. Фомы Аквината.
— Перед Мардуком у него преимущество-тот и рад бы действовать так же, да боится замарать перчатки.
— А уж Уинифрид Мардук Хомуорд… Мало того, что она вечно выступает с собственным вариантом нагорной проповеди, она таскает с собой собственную портативную гору даже на приемы с коктейлями. Это первый Мессия женского пола, и боюсь, не погубила бы она всю профессию. Всякий раз, как она обрушивается на Гитлера, она разводит такую праведность, что я готов отнестись к Гитлеру со снисхождением, а это мне не нравится. Все дело в том, что она невнимательно читала священное писание. Ей показалось, что там говорится: «Если женщина узнает что-нибудь, пусть расскажет дома своему мужу. Позор для женщины не говорить во храме».
— Доказательств у меня нет, но я подозреваю, что и ее папаша и губернатор Близзард воображают, будто используют ее в качестве проводника на тропе, ведущей к президентскому креслу, а на самом деле это она их использует и как только решит, у которого из них больше шансов прийти к финишу, сейчас же перережет другому 1 горло. Времена меняются, мой милый. Когда-то «ищите женщину» относилось только к любовным делам; теперь она скрытая пружина в делах политических.
Но ты-то, Гид, как ты очутился в этой компании? Я думал, ты прочно осел среди честных бандитов вроде Дьякона Уэйфиша. Неужели ты перекинулся к интеллектуальным гангстерам?
Многолетний опыт руководителя и оратора позволил доктору Пленишу вложить необычайную экспрессию в уничтожающий ответ:
— Ох, как это скучно!
Неделю спустя доктор Плениш получил приглашение отправиться вместе с майором Хомуордом на богомолье в контору полковника Мардука. (До генералов дело еще не дошло.)
Тронный зал фирмы Мардук, Сайко и Сэгг был шедевром Боббисмита, который в рекламах именовал себя «Гертрудой Стайн[127] внутреннего убранства». Все здесь было просто и строго, как у Рокфеллера, только масштабы чуть поменьше. Палевые стены с лампами дневного света, скрытыми за карнизом, украшала всего одна картина — портрет полковника, на котором он напоминал здоровенного верблюда в бирюзовой пустыне. Едва заметный ветерок шевелил занавеси золотисто-зеленого шелка, мебель была белая, полированная, с кожаной обивкой цвета коралла. Над красноватым мраморным камином не было полки, но рядом стоял шкафчик и в нем — книги Пруста, Шпенглера[128] и Зейн Грей.[129] Огромный пустынный стол украшала одинокая лилия на длинном стебле и фотография лорда Бивербрука[130] с его автографом.
Полковник Мардук сидел в дальнем конце комнаты и встречал посетителя пристальным взглядом, так что тому уже за двадцать футов становилось не по себе. Он перенял этот трюк у Муссолини, который перенял его у испанской инквизиции…
Беседа между полковником и доктором Пленишем велась, словно при дворе восточного царька, — эта атмосфера окутывала Мардуков всегда и всюду, даже в рекламном агентстве космических масштабов. Доктор простерся ниц и сказал, что удостоился высокой чести; он сказал, что полковник, разумеется, не снизойдет до политической должности, но если бы он того пожелал, он мог бы стать президентом Соединенных Штатов хоть завтра, к десяти часам утра.
Он сказал, что сам он смиреннейшее из созданий, озаряемых благодетельным солнцем аллаха, что он любит свою нынешнюю (высокооплачиваемую) работу и всем сердцем предан Уэйфишу-паше, но что если бы полковник или всевышний (предпочтительно первый) решил основать настоящую организацию, которая взяла бы за ручку слабенькую идеологию Демократии и нежно направляла бы ее на дальнейшем пути, он был бы счастлив помочь советом. Он сказал, что такая организация, между прочим, могла бы создать своему основателю славу сильнейшего финансового оплота всякой Справедливости и Свободы.
И еще он сказал, что самое подходящее время для этого именно сейчас, когда между Китаем и Японией идет война, а Гитлер зарится на Чехословакию.
— Никакой войны в Квропе не будет! — прорычал полковник.
— Возможность не исключена.
— Все равно Америка в нее не ввяжется. Мы будем так хорошо подготовлены, что нам не придется воевать.
— Но даже если говорить о готовности, — настаивал доктор, — нам необходима ассоциация, которая первой настроилась бы на военную психологию. Если бы мы приступили к делу теперь же и наши лекторы и наши издания из недели в неделю комментировали бы международные события, наш авторитет стали бы считать непогрешимым, независимо от того, чем обернется для нас война — победой, поражением, ничьей или нейтралитетом.
— Кто же, по-вашему, мог бы войти в нашу ассоциацию?
— Скажем, ваша дочь, затем Майло Сэмфайр — иностранный корреспондент…
— Сэмфайр? Этот фанатик? Нет. Он держится английской ориентации, хуже того — он красноречив, и еще хуже того — он честен. Он не захочет принимать мои… советы, — проворчал полковник.
— Что ж, тогда можно взять сенатора Балтитьюда, и Кристиана Стерна, и Уолтера Гилроя — идей у него, правда, нет, но есть трогательное почтение к идеям, — и еще вы, может быть, уговорите сенатора Близзарда. Не мне решать, кто из больших людей вам нужен. Мое дело — техника создания организации для борьбы за что-нибудь или против чего-нибудь, с тем условием, конечно, чтобы быть за правое дело.
— А какое дело вы считаете правым?
— Мне думается, что во всяком конфликте ваше дело будет правым, полковник.
Так он добился улыбки, сулившей ему моральную победу и годовой оклад в пять тысяч долларов.
— Вы свободны в четверг вечером? Приезжайте с женой ко мне обедать, — восемь часов, черный галстук. — Полковник говорил легко и небрежно, но доктор воспринял это как новое благовещение.
Как раз на четверг доктор пригласил к обеду Хэтча Хьюита с женой, но такая мелочь его не смутила, тем более что жену Хэтч выбрал себе худощавую и не склонную к лести.
Дома он сообщил Пиони: «Мы приглашены обедать к Мардукам», — тем же благоговейным тоном, каким другие люди в других местах сообщали: «На будущей неделе я получу рыцарский крест», или «Я только что заработал первый миллион долларов», или «Я наконец нашел способ логически доказать существование бога».
Пиони ответила ему ликующим воплем.
27
Квартира полковника Чарльза Б. Мардука на Пятой авеню у Центрального парка занимала полтора этажа и обслуживалась собственным лифтом, при котором состояли две смены лифтеров, специально приученных не отпускать замечаний о погоде. В мире журналов «Домашнее убранство» и «Жизнь за городом» эта маленькая глазированная империя славилась как пример лучшего американского вкуса, проявившегося в подборе лучших образцов худшей викторианской мебели.
Там были диваны черного ореха, украшенные резьбой в виде гроздьев винограда и обитые винно-красным атласом, ковры с кокетливыми узорами из роз, осыпанный рубинами и сапфирами канделябр, в котором горели электрические свечи, белые атласные портьеры с розовыми шелковыми ламбрекенами и прелестная старинная музыкальная шкатулка, служившая ящиком для сигар. Там можно было встретить столько репродукций с хороших гравюр и столько подражания хорошему тону, что даже знатоку грозила опасность впасть в ошибку.
Пиони бродила, как во сне, вдыхая пряный аромат богатства и думая о том, смеяться ей или благоговейно замирать, глядя на статуэтки под стеклянными колпаками и столики на шарнирах с изображением рейнского замка, как будто, сделанного из марципана. Но доктору некогда было замечать все это, ибо, кроме Мардука, Хомуордов и сенатора Феликса Балтитьюда, на обеде присутствовала еще знаменитая миссис Тэкет, которая составила себе имя тем, что хамила всем без разбору, и, наконец, губернатор Томас Близзард, оказавшийся именно таким, каким должен был быть губернатор Близзард.
При взгляде на него вы сразу чувствовали, что это Некто, хотя и затруднились бы определить, кто именно: бывший боксер с образованием или проповедник с атлетической мускулатурой. Его отличительной чертой был сбитый на сторону галстук. Но, между прочим, за много времени это был первый собеседник доктора Плениша, у которого доктор увидел на лице человеческую улыбку.
Хотя Плениши были в этом обществе новичками, они сразу приобрели вес благодаря бурным проявлениям дружбы со стороны сенатора Балтитьюда. Сенатор вспомнил, что, вероятно, доктор Плениш помнит, как некогда он совместно с Г. Сандерсоном Сандерсон-Смитом душил профсоюзное движение, о чем ему хотелось накрепко забыть, так как теперь сенатор был с профсоюзами в прекрасных отношениях. Они числились в списке его лучших друзей.
Доктор Плениш готовился к тому, что за обедом ему придется держать обстоятельную речь о стимулирующих организациях и их преимуществах перед федеральным правительством. Он уселся поудобнее, откашлялся, прочищая горло, — и тут обнаружилось, что он ровно на одну секунду опоздал. Уинифрид Хомуорд уже начала.
Нельзя сказать, что Уинифрид говорила больше, чем иные прославленные ораторы, — никто не может говорить больше шестидесяти минут в час. Но она способна была заговорить всех говорунов. Она вела свои застольные атаки с такой уверенностью и с таким напором на внимание слушателей, что сорок минут в ее обществе стоили целого путешествия в Ноевом Ковчеге. Сила ее убедительности была такова, что она любому человеку могла внушить идею, прямо противоположную той, которую защищала, — даже тому, у кого она ее первоначально позаимствовала.
Дело происходило спустя семь или восемь месяцев после мюнхенского соглашения между Гитлером и Чемберленом. Уинифрид яростно нападала на гнусного Гитлера, и это привело к тем же результатам, что и с Хэтчем Хьюитом: у всех присутствующих создалось твердое убеждение, что Гитлер — веселый, толстый, компанейский малый, любитель девушек, колбасы, пива и охотничьих рассказов; и, слушая ее, каждый думал, что хорошо бы посидеть с этим Гитлером в удобных креслах на террасе в добром старом Берхтесгадене да поболтать о рыбной ловле. И уже была близка опасность, что в этот вечер фашизм приобретет немало новых сторонников, но тут, по счастью, Уинифрид, по-прежнему не давая никому вставить слова, принялась утверждать, что вся американская молодежь — неряхи и нахалы, и это немедленно и в значительной степени восстановило за столом поколебленное доверие к Молодой Америке.
Она также высказала ряд соображений о кино, о безнравственности симфонической музыки, об угольной промышленности и о том, как лучше всего обставить двадцатидолларовую квартиру. Она обладала неисчерпаемым запасом мнений, которые сама ценила очень высоко.
Полковник Мардук не произнес за весь вечер и семидесяти слов, но доктор Плениш видел, что он внимательно приглядывается ко всему. После обеда полковник процедил сквозь зубы:
— Плениш, вы, я вижу, умеете слушать. Это вам пригодится, если наша организация будет создана. Приходите ко мне завтра — ровно в три.
Доктор Плениш явился без десяти три.
— Нам потребуется несколько месяцев па то, чтобы все подготовить, — сказал полковник Мардук. — Вам придется бросить Дьякона с его балаганом и целиком посвятить себя нашему делу. Пять тысяч в год для начала. После — больше.
— О'кэй! — сказал доктор Плениш.
Эти простые мужественные слова положили начало новой философской школе… При полковнике состоял небольшой ударный отряд, который был известен в журналистских и благотворительных кругах под названием «мардуковских молодчиков». Они числились в штате его агентства, но он часто посылал их в разные концы страны со специальными заданиями — присутствовать в качестве шпионов или провокаторов на собраниях политического или просветительного характера. Число их всякий раз колебалось от четырех до десяти, и друг от друга они отличались только тем, что одни окончили Йельский университет, другие — Гарвардский, Принстонский, Дартмутский или Уильямский, третьи, использовавшиеся преимущественно как пионеры для обработки целины, были питомцами менее прославленных учебных заведении.
Все они курили трубки, но предпочитали сигареты; отправляясь на уик-энды, все надевали спортивные куртки и серые фланелевые брюки; но в нью-йоркскую контору неизменно являлись в скромных, хоть и дорогих костюмах серого или коричневого оттенка и в рубашках, галстуках и носках под цвет.
Каждый из них разрешал себе в день ровно двадцать семь сигарет из корректного серебряного портсигара, две порции виски с содовой, два коктейля, три чашки кофе, один стакан бромосельтерской воды и пятнадцать минут энергичной и утомительной гимнастики. На каждого приходилось в среднем полторы минуты любви в неделю, один не слишком удачный адюльтер в год и одна жена — всегда из хорошей семьи и по большей части миловидная брюнетка, из тех, чьи лица немедленно после знакомства забываются. Детей на каждого приходилось в среднем VU. Все мардуковские молодчики обладали кудрявой шевелюрой — или по крайней мере казалось, что все, — и все читали «Атлантик Мансли»[131] и «Нью-Мэссиз».[132] Голосовали все за крайних республиканцев, или умеренных социалистов, или же и за тех и за других, и целыми вечерами, даже сидя за карточным столом, слушали радиопередачи и говорили о том, что терпеть не могут радио.
Все они были либо прирожденные конгрегационалисты, ставшие епископалами, либо епископалы, сделавшиеся атеистами, либо адепты «Христианской науки», избегавшие упоминать об этом.
Самым типичным средним представителем этих молодых людей бь: л Шеррн Белден.
Он учился в Йельском университете (выпуск 1928 года), состоял и в братстве Фи Бета Каппа и в братстве «Череп и Кости». В свое время он был университетским чемпионом по теннису и душой всех вечеринок, и сейчас, в тридцать два года, он все еще оставался чемпионом по теннису и душой вечеринок. Но он чувствовал себя человеком крайних убеждений, потому что у него был близкий приятель, который восхищался Ганди — преимущественно за то, за что им восхищаться не 4 следовало.
У Шерри был прямой нос и хорошие манеры; он жил в Порт-Вашингтоне, в новеньком, с иголочки, наполовину бревенчатом елизаветинском коттедже; у него имелся самый большой в округе электрический холодильник, самый большой запас экзотических напитков, включая стрегу и арак, и самый обширный подбор подрывной, эротической и технократической литературы, а также сочинений Вальтера Скотта.
Именно Шерри Белдена полковник Мардук снял с занимаемой им приятной должности в бухгалтерии и дал в помощники доктору Пленишу.
Он сказал:
— Шерри вам пригодится, Плениш, хотя бы для того, чтобы удерживать на расстоянии Уинифрид. Она может быть очень полезна любому делу, но для этого надо позаботиться, чтоб рот у нее был заткнут до самого выхода на сцену, или же надо завести хорошо воспитанного евнуха вроде Шерри, специально, чтобы она могла перед ним выговариваться.
Доктору Пленишу Шерри показался похожим на новенький велосипед — такой же он был весь блестящий, быстрый и исправный.
Прощание доктора с прежним хозяином, достопочтенным мистером Эрнестом Уайфишем, произошло совсем не так, как ему рисовалось. Он ожидал, что Эрни — Медович станет кричать, называть его предателем и подлецом, но Эрни только сказал:
— С Мардуком идете работать, а? Завидую. Смотрите, Гид, не забывайте, как мы с вами хорошо и дружно трудились над внедрением христианского принципа давания, может, и еще поработаем вместе. Устройте мне приглашение к Мардуку на завтрак. А пока в добрый час, сынок. Всегда буду с удовольствием вспоминать наши совместные труды и желаю вам, чтобы пожертвования поплыли к вам, как лосось в весеннюю путину.
Первое время в массовых пожертвованиях не было нужды. Так называемые прелиминарные изыскания финансировал полковник Мардук, который не выражал неудовольствия по поводу таинственных газетных заметок, называвших его в числе кандидатов в президенты, но никогда не требовал их.
В течение нескольких месяцев доктор Плениш совещался с выдающимися мыслителями и гуманистами и читал их отпечатанные на машинке меморандумы, которые всегда называл «весьма ценными», даже если каждый из них противоречил всем остальным.
Для начала Шерри Белден снял ему трехкомнатный номер в отеле с небольшим, но вместительным отделением для напитков в стенном шкафу. Здесь он и трудился, а вместе с ним Шерри, полковник Мардук, Уинифрид, майор Хомуорд, Наталия Гохберг, сенатор Балтитыод, губернатор Блиэзард, епископ Пинднк, раввин Лихтеивелиг, актриса Рамона Тундра и, разумеется, преподобный доктор Кристиан Стерн.
Но, кроме них, были и неофиты, например, преподобный монсеньер Никодимус Лоуэлл Фиш. Монсеньер принадлежал к тем немногим янки, которые удостоились высокого сана в католической церковной иерархии, и гордился, когда его называли «миссионером в дебрях Интеллигенции». Он состоял в дружбе с одним врачом — негром, одним экономистом, проводником Нового Курса, и одним фельетонистом из отдела спортивных новостей и бывал за кулисами на всех премьерах. Среди атеистов-интеллигентов принято было говорить, что монсеньер Фиш — лучший протестант, чем они.
Он лично обратил в католичество семь газетных репортеров и одного баптистского священника, и ходили слухи, что он ведет полемику с Чарльзом Кофлином.
При этом он едва ли распознал бы истинного интеллигента, случись ему встретить такого, и искренне был убежден, что Хилэр Беллок[133] — выдающийся историк.
Другим неофитом являлся профессор Топелиус, уроженец балтийских берегов, автор проекта обеспечения вечного мира путем превращения Европы в единое федеральное государство, управляемое Американским комитетом совместно с профессором Топелиусом. Был тут еще доктор Вальдемар Кауц, театральный режиссер из Вены, который ненавидел Америку, считая, что все американцы завтракают в аптеках. Бедняга медленно угасал, томимый тоской по своему Stammtisch[134] и кельнерам, которые называли его «герр доктор», а иногда, если повезет, и «герр барон».
Был судья Вандеворт, не знавший себе равных в искусстве взыскивать долги с обанкротившихся предприятий общественных услуг. Он любил председательствовать на всех банкетах, где был специальный стол представителей прессы.
Профессор Кэмпион, почти неофит, был фигурой необычной для Пленишевской Экономической Школы, так как профессор Кэмпион и в самом деле смыслил кое-что в экономических науках и даже имел лицензию на чтение лекций по этому предмету в одном вполне приличном учебном заведении: Корнелевском университете.
Но Кэмпион принадлежал к породе подписателей. Бывали дни, когда от завтрака до ужина он успевал подписать девять протестов, а его любимое чтение, если не считать Платона, составляла утренняя порция многословных телеграмм от разных пропагандистских организаций с просьбой о немедленной помощи.
Еще был Эд Юникорн, крестоносец в поисках крестового похода.
До прошлого года Эд был обыкновенным простодушным американским репортером, шатался по Европе и исправно передавал в свой газетный концерн все то, что, по словам его переводчика (сам Эд ни одного языка не знал), появлялось в данный день в местной прессе. Ему и в голову не приходило, что он «иностранный корреспондент», он даже не считал себя «журналистом». В барах Будапешта, Белграда и Осло от него часто слышали фразу: «Я просто газетчик».
Но однажды, вернувшись в Америку, он прочел публичную лекцию, сумбурную, но занимательную благодаря множеству анекдотов про обманутых цензоров и таможенных чиновников, и так как Эд был, вообще говоря, превосходный малый, лекция имела большой успех. Эта случайная лекция повела к лекционному турне, турне- к статье в журнале, статья — к книге, книга — к радиопередаче, а радиопередача — к широко распространившемуся убеждению, что именно Эд открыл географию как науку, а также изобрел некий вид таинственной деятельности, именуемой международными отношениями. Теперь Эд процветал: он водился с самыми шикарными девочками из Аист-клуба и выучил с помощью лингафона сто четырнадцать испанских слов; но он уже исчерпал все до последнего анекдоты о своих похождениях и надеялся, что полковник Мардук или доктор Плениш снабдят его материалом для нового цикла радиопередач.
Совершенно иной тип иностранного корреспондента представлял собой Майло Сэмфайр, и доктор Плениш находил, что с Сэмфайром гораздо труднее иметь дело, чем с Эдом Юникорном.
Сэмфайр прожил за границей пятнадцать лет; он действительно много знал, он умел себя вести и умел себя поставить. Даже английские журналисты иногда соглашались назвать его журналистом. Если ему нужно было получить интервью у премьер-министра, он не обращался ни в американское консульство, ни в Америкен Экспресс Компани, ни к бармену Ритц-Крийон — Сюперб-Шварц-Гранд-отеля, ни к старшему сыну Томаса Кука из фирмы «Томас Кук и С-я». Он просто брал трубку и звонил премьер-министру.
Его выслали и из Германии и из Италии, и он вернулся на родину не для радиопередач и клубных успехов, а для того, чтобы честно и пламенно предостеречь Америку против угрожающей ей фашистской заразы. Он был фанатиком, не признавал компромиссов, был красив, как лазутчик южан в фильме о Гражданской войне, и в мистере Мардуке видел удачливого рекламного агента и только.
Однако многоопытный и профессионально миролюбивый доктор Плениш счел нужным привлечь его в расчете на то, что он будет полезен на банкетах с речами.
Зато утешением докторского сердца служил известный филантрёпский дуэт — Генри Каслон Кеверн и Уолтер Гилрой.
На первый взгляд они казались совершенно разными. Кеверн был стар, утончен, сух и принадлежал к прославленному роду. Вопреки законам американской евгеники у него даже имелся прадедушка. Он собирал первоиздания Уильяма Блейка[135] и дела своего коммерческого банка вел с таким разбором, с таким пренебрежением ко вкладам меньше миллиона долларов, что, казалось, это был не доходный бизнес, а тоже своего рода коллекционирование редкостей.
Гилрой вырос на Западе, где у него имелись нефтяные разработки; он был моложавый, большой, шумливый и очень симпатичный. Но этих двух людей сближала одна общая черта: оба чувствовали себя как бы виноватыми в том, что у них так много денег. Впрочем, они не пытались помочь этой беде каким-нибудь простым способом, скажем, больше платить своим служащим. Это было бы слишком тривиально и лишено мистического ореола искупительной жертвы.
Следующим неофитом был Гонг, генерал армии США (в отставке), недавно купивший новый двухтомный атлас мира и толстую книгу по истории маневров, в которых он сам принимал участие, но начисто все позабыл; бедняга не сомневался, что если Америка когда-либо станет воевать, его тотчас же призовут командовать всеми этими неопытными пятидесятилетними юнцами.
Единственным человеком, которого полковник Мардук ездил приглашать лично, вместо того, чтобы послать доктора или Шерри Белдена, был международный банкир Леопольд Альтцайт.
Финансовые дела Альтцайта велись в таких масштабах и на такой недоступной высоте, что рядом с ним предприятие Генри Кеверна казалось не более чем ссудной кассой. Сам он был древний старичонка, маленький и тщедушный; всю обстановку его кабинета с тиковыми панелями составляли письменный стол, два кресла, вставленное в рамку письмо Бетховена к князю Лихновскому и один бесспорный Рембрандт.
Незачем было рассказывать ему о том, что Гитлер делает с евреями: главный агент Альтцайта в Германии с риском для жизни уже вошел в состав гитлеровского штаба.
Альтцайт выслушал Мардука, храня непроницаемое молчание, потом позвонил и слабеньким голоском, похожим на шелест ветра в сухой ноябрьской листве, сказал вошедшему секретарю:
— Будьте любезны, Лотар, выпишите чек на десять тысяч долларов на имя Чарльза Б. Мардука; благодарю вас.
Это была третья стрела за день, выпущенная Леопольдом Альтцайтом в фашистов. Человек со странной восточной фамилией-Мардук, которого он использовал в качестве лука, не внушал ему доверия. Но ему важно было стрелять — занятие, которому он предавался давно и от которого не намерен был отказываться.
В период совещаний Плениши удостоились дружбы Уинифрид Хомуорд и ее младенца, майора. У миссис Хомуорд друзья долго не держались, она очень быстро заговаривала их насмерть или же попросту забывала, и потому попасть к ней в дружбу было нетрудно — на ограниченный срок.
Пиони была мастерица слушать, и Уинифрид разрешала ей довольно часто приходить в кирпичный георгианский chateau[136] Хомуордов на Восточной 68-й улице, где Пиони вскоре заняла положение высокооплачиваемой камеристки-компаньонки — с той только разницей, что не получала платы. Некоторое время она была, пожалуй, единственной женщиной среди друзей Уинифрид, — Уинифрид жаловалась, что с женщинами дружить нельзя: все они эгоистичны, завистливы и перебивают вас, когда вы говорите.
В этой романтической хронике современной придворной жизни Пиони сыграла роль молочницы, быстро возвысившейся до статс-дамы. Она объявила доктору, что наконец-то в полной мере наслаждается всеми светскими и интеллектуальными преимуществами нью-йоркской жизни, и действительно, она могла в любое время совершенно бесплатно (не считая проезда на такси) выпить у Уинифрид чашку чая (не очень горячего).
Доктор Плениш также был запросто принят у этой важной особы. Однажды после утомительного совещания по вопросу о безнравственности диктаторов Уинифрид весело сказала ему:
— Пойдемте в кафетерий, закусим сандвичами. Обожаю кафетерии. Там так интересно.
В огромной, ослепляющей светом комнате с кафельными стенами они взяли подносы и стали двигаться вдоль стойки, обозревая пирожные с беломраморным кремом, пирожные с сахарной обсыпкой, пирожные, которым искусно была придана форма полена.
— Ах, какой восторг! — взвизгнула Уинифрид так, что полисмен на углу вздрогнул и схватился за дубинку. — Обожаю приключения! И какие противные эти люди, которые входят сюда с видом благотворителей, посещающих трущобы! Самая ведь прелесть в том, чтобы почувствовать, что ничем не отличаешься от Простых Людей.
Уинифрид поставила свой поднос и огляделась. Потом она вздохнула:
— Но должна сказать, мне страшно подумать, что вот такой, сброд и мелюзга имеет право голоса и решает важнейшие вопросы. Я все стараюсь придумать какой-нибудь способ, чтобы сохранить абсолютную демократию, в которую я и мой отец, разумеется, верим безоговорочно, но чтобы все действительно важные дела нации были сосредоточены в руках компетентных лиц, как мы, например. Я, пожалуй, посвящу этому вопросу передовую в следующем номере «Смирно!».
Вскоре все касающееся новой организации было продумано и решено. Невыясненными оставались только ее название и ее задачи (если у нее вообще должны были быть задачи;.
На совещаниях, длившихся несколько месяцев, вносились и обсуждались различные предложения по этому поводу. Чтобы примерно представить себе, какие предлагались задачи и как шло обсуждение, достаточно взять нижеследующий список выражений, наиболее часто повторявшихся ораторами, и добавить любые имена существительные, глаголы или другую приправу по вкусу.
Необъятный Отцы-основатели Выдающееся событие Неотложные нужды Попасть в самую точку Потерпеть фиаско Обеими ногами на твердой почве Отсутствие солидарности Решающий фактор Равные шансы для всех Противостоять нажиму Оказать нажим Исследовательская работа Выход из кризиса Серьезная ответственность Суть дела в том, что Я хочу сказать, что В том смысле, что насаждать динамичный жизненно необходимый предложение решение разрешение объединение результат кампания «стимул лозунг комиссия подкомиссия меморандум конгресс конституция координация кризис.
Показатель умонастроений жертвователь
Проводить политику массы
Демократические принципы руководитель
Руководящие принципы попечитель
Опираться на принципы директор
Соглашаться в принципе жажда служения
Не руководствуясь соображениями политики приносить жертвы
Язвы нашей цивилизации самоотверженный
Под другим углом платформа
По линии наименьшего сопроти идеология вления радиопередача
Сложность современного мира важнейшая проблема
Давать, не считаясь со средствами животрепещущая проблема
Влиять на общественное мнение мы стоим перед проблемой
Основная директива перед нами стоит проблема
Не время и не место поднимать новый круг проблем вопрос ясная цель
Замечательные успехи американский образ жизни вношу предложение
Тысяча долларов десять тысяч долларов
Уинифрид высказалась за организацию федерального полицейского корпуса под командованием ее мужа. Губернатор Близзард высказался за подыскание места его родственнику Элу Джонсу, отличному молодому человеку. Но от всевидящего ока полковника Мардука не укрылось, что в конце концов вопрос о задачах и названии новой организации разрешен был доктором Пленишем.
Название было «Динамо Демократических Директив», или сокращенно и более употребительно — ДДД. Уинифрид заняла пост главного президента. Шерри Белден — казначея, а директором-распорядителем был утвержден Гидеон Плениш М. И., Д. Ф.[137]
Решено было, что ДДД создаст по всей Америке разветвленную сеть отделений, именуемых «энергоузлами». Каждый из таких узлов в соответствии с инструкциями из Нью-Йорка, разъясняющими новейшие Условия и Положения, организует Дискуссионную Группу, Комиссию Здравоохранения, Садоводческий Отдел, Кружок истории, Кружок английского языка для иностранцев, Осведомительную группу для наблюдения за деятельностью местных фашистов и Комиссию по учету загрузки эфира. Предполагалось, разумеется, издание журнала, но оно так и не состоялось. Основная идея — упразднить федеральное правительство, равно как и органы управления отдельных штатов и городов, а также Христианскую Церковь в целом и заменить все это новым Советом во главе с полковником Мардуком — была выше всякой критики, даже самой придирчивой. Доктор Плег ниш вкратце изложил ее в конфиденциальной объяснительной записке, адресованной полковнику: «Все рядовые граждане, в особенности к западу от Буффало, для того, чтобы проникнуться демократическим духом, нуждаются в директивном руководстве компетентных умов, какими являемся мы. Когда мы хорошенько внедрим демократию в Америке, Америка примется внедрять ее во всем остальном мире. Вот наша основная идея».
За этой основной идеей крылись другие основные идеи, заключавшиеся в том, что доктору Пленишу обеспечивался твердый заработок в сто долларов в неделю с надеждой на удвоение этой суммы в будущем; Тому Близзарду и Чарли Мардуку — приятная возможность приобрести репутацию государственных мужей; кобылоподобной дочке Чарли, Уинифрид — гарантированная аудитория в любое время; а Пиони и Соединенным Штатам Америки — радужная перспектива вечного праздника.
В гавани Динамо Демократических Директив доктор Плениш провел три безмятежных года, с конца 1938 до декабря 1941-го-время, которое для всего остального мира текло не столь безмятежно.
28
Пятое декабря 1941 года было самым обыкновенным днем в жизни доктора Гидеона Плениша — директора — распорядителя ДДД — Динамо Демократических Директив.
Накануне он поздно вернулся из деловой поездки в Вашингтон, где выступал в комиссии конгресса как эксперт по эскимосскому вопросу.
Он восстал ото сна в восемь часов — этакий приятный херувимчик с седой бородкой, торчащей над полосатой вишнево-голубой пижамой. Ему было пятьдесят лет, и привычка к чистоплотности в быту и в мыслях плюс два часа в неделю тренировки в гимнастическом зале Пита Гарфункеля так укрепили его здоровье, что можно было без риска предсказать ему еще двадцать пять лет научной, филантропической и политической деятельности и быть уверенным, что если не произойдет какой-нибудь совсем уже непредвиденной катастрофы, он и в 1963 году будет формировать общественное мнение нашей страны.
Он нежно поглядел на свою жену, на ее гладкое, без единой морщинки лицо, во сне похожее на лицо толстенького, веселого младенца. Он вспомнил, что вот уже больше года у них не было ни малейшей размолвки, даже в тот вечер, когда она выпила три рюмки мятного ликера с их другом Джорджем Райотом, который теперь по заслугам занимал высокий пост ректора в женском колледже Боннибел, штат Индиана.
Он нежно оглядел их спальню на Чарльз-стрит. Совсем недавно Пиони заново обставила спальню шведской мебелью. Это обошлось немного дороже, чем они рассчитывали, но теперь за мебель было почти полностью уплачено, и их наличный капитал составлял 172 доллара 37 центов, не считая семи акций Артаксеркс — компании по разработке сурьмы.
Его оклада не вполне хватало им на жизнь, но доктор не сомневался, что в 1942 году заработает еще две с половиной тысячи лекциями.
Утро было холодное, но он принял душ, почти не поморщившись. За последние десять лет ежедневное омовение стало для него таким же привычным делом, как для Уинифрид Хомуорд.
Быстро-ибо он был человек деловой, и погрязший в невежестве мир ждал его указаний — он надел бледно — голубые короткие, спортивного типа подштанники, в которых он, по выражению Пиони, выглядел «неотразимо, точь-в-точь великий бог Пан», и новый светло — коричневый шевиотовый костюм.
Он скатился вниз в столовую, где его ждал завтрак из овсянки, яичницы с ветчиной, поджаренного хлеба и четырех чашек кофе, а также его дочь Кэрри, которой уже шел двадцатый год.
Ои считал, что любит Кэрри, очень любит; он знал, что она его злит и нередко ставит в тупик и вообще неизвестно, чего ей нужно.
Кэрри в своем джемпере и суконной юбке была хорошенькая и грациозная, но он не находил в ней той подлинной пышной женственности, какой отличалась ее мать. И хотя ее «Доброе утро, папочка» звучало вполне дружелюбно, это было уже не то, что их прежние задушевные разговоры (он был уверен, что помнит их), когда Кэрри говорила ему, что он гораздо, гораздо умнее, чем его начальники Сандерсон-Смит и Уэйфиш. О полковнике Мардуке она никогда не упоминала, разве только огрызалась: «Неужели нужно столько времени, чтобы понять, что имеешь дело с типичным бюрократом девятнадцатого века?» (Все понахватано из книг!).
Она была на третьем курсе Хантер-колледжа и увлекалась такими прозаическими материями, как физика, черчение и этнология. Она не проявляла даже самой простой естественной склонности ни к одному из молодых людей, которые ходили за ней хвостом и вечно торчали у них в доме. Доктору — он в этом почти не сомневался — было бы неприятно услышать, что кто-то обольстил его дочь, но неприятно было и сознание, что его родная дочь пренебрежительно относится к той половине рода человеческого, представителем которой был он сам, и даже к мысли, что кто-то вообще может ее обольстить.
Были в ее компании весельчаки и кутилы, были тощие надменные юноши в очках, но все они только и делали, что слушали патефон да болтали с Кэрри о людях, о которых доктор и понятия не имел: Орсон Уэллес,[138] Барток,[139] Хиндемит,[140] Георг Гросс,[141] Эрскин Колдуэлл, Шостакович. Некоторые из ее друзей любили выпить, как подобает всякому молодому человеку, другие же в рот не брали спиртного, и, что казалось совсем уже непонятным, к числу последних принадлежала сама Кэрри.
Он твердил себе, что вовсе не желает видеть дочь пьяной, но все же не любил ловить ее взгляд на себе и Пиони, когда они коротали вечерок за коктейлями, вспоминая слышанные за день новые анекдоты. Его выводило из себя, когда Кэрри, девушка, в общем, вежливая, спокойно называла их пережитками эры Бурливой Молодежи, которая представлялась ей чем-то устарелым и смешным, вроде мистера Гладстона[142] или моды на голландские тюльпаны.
Он больше не пытался оказывать услуги ее молодым людям, сообщая им ценные секретные сведения о международном положении в 1941 году и о тайных планах поверженной Франции. Все они — тощие интеллигенты и толстые озорники — считали, что рано или поздно пойдут воевать, и находили, что это в порядке вещей; они не одобряли гитлеризма и со знанием дела беседовали о «спитфайрах» и «мессершмиттах». Но когда он, директор-распорядитель ДДД, принимался подробно и вдохновенно толковать им о том, что будет делать Уинстон Черчилль через два года, они просто не слушали, хотя на его платных лекциях дамы в самых дорогих туалетах в среднем дважды в неделю аплодировали ему за те же откровения.
«Бывают дни, — вздыхал директор-распорядитель, — когда мне хочется отказаться от руководства демократической мыслью и снова стать простым преподавателем колледжа».
В это утро он читал заголовки военных сообщений своей дочке Кэрри, которая уже прочла их полчаса назад, пока не появилась Пиони, очаровательная и женственная в нежно-розовом пеньюаре с кружевами. Появилась и заворковала:
— Все в сборе? А я что-то совсем разучилась вставать по утрам. Ну и потанцевала же я вчера с Гарри Хомуордом и Шерри Белденом, пока ты бездельничал в Вашингтоне. Что это, клубники сегодня нет?
Почти до самой конторы он ехал на метро, жалея, что ему не по средствам лимузин, который избавил бы его от давки среди жующих резину клерков. Но все его достоинство вернулось к нему, пока он шел пешком последний квартал до Динамо Демократических Директив, занимавшего целиком солидное старое здание на одной из Тридцатых улиц.
Контора братства Блаженны Дающие напоминала склад, заваленный кипами брошюр; Хескетовский институт был мрачен. Каждый Сам Себе и логово Гисхорна похожи на крошечные ячейки в стальном улье. Но помещение ДДД дышало гордостью и благодушием, как и его директор — изысканный доктор Плениш.
Словно современный султан, входящий в свой сераль, он был встречен в вестибюле приветствиями клерка по приему посетителей — миссис Этель Хеннесси, бестелесной особы в водевильных очках. Стол ее помещался у подножия лестницы, а обязанности состояли в том, чтобы вежливо отваживать любознательных посетителей. В ДДД не желали видеть новые лица, если за этими лицами не угадывался чек или смета нового Энергоузла. Особенно не желали там видеть чудаков, которые являлись с пухлыми проектами спасения человечества путем предоставления каждому гражданину, достигшему сорока пяти лет, правительственной пенсии в сумме 27 долларов 817 а цента, выплачиваемой еженедельно по четвергам в 11 часов утра.
Кроме вестибюля, на первом этаже были расположены зал заседаний и библиотека, в прежнее время — столовая и гостиная старого особняка. В библиотеке висели портреты полковника Мардука и губернатора Близзарда, а также имелось несколько книг.
Весь подвальный этаж, за вычетом котельной, был предоставлен женщинам — служащим и друзьям ДДД. Здесь пахло школой стенографии, закусочной и парикмахерской. Ни один мужчина не заглядывал сюда, чтобы навести порядок, и комнаты являли сплошное нагромождение зонтиков, ярких рабочих халатов, кофейных мельниц, чайников и губной помады.
Впрочем, и все здание представляло собой женское царство. На двух с половиной мужчин здесь приходилось пятьдесят женщин.
Кроме доктора, в ДДД работал еще человек по имени Карлейль Веспер, худой, неказистый и забитый клерк, который числился управляющим конторой, — этот шел за полмужчины; затем пресс-агент Джулиус Магун, предприимчивый субъект, проводивший здесь лишь половину служебного дня; доктор Тэтли — бледная личность, выполнявшая исследовательскую работу, и Фриц Гендель-наблюдатель, в чьи обязанности входило пробираться на тайные сборища, происходившие на улицах Иорквилла перед носом всего лишь у десятка полисменов, и прослушав речи горластых нацистов, докладывать по начальству, что в выступлениях ораторов, по его наблюдениям, ощущается легкий антисемитский душок. Он и Тэтли проводили в конторе не более четверти служебного времени. Итого постоянно присутствующих мужчин — два с половиной.
А вокруг них роем кружились, льстили им, выслушивали их шутки, наливали им воду в графин, писали под их диктовку письма, по-матерински заботились о них, втайне надеясь удостоиться их отеческих за- (бот, бесчисленные женщины: миссис Хеннесси — клерк по приему посетителей, Бонни Попик — толстенькая и безмерно преданная личная секретарша доктора Плениша, похожая на Пиони, только посмуглее, и три девушки, почти неотличимые одна от другой, — Флод Стэнсбери, Сыо Мэйпл и Адель Клейн, которые не покладая рук стучали на машинке, регистрировали письма, складывали и засовывали в конверты циркуляры ДДД, обслуживали коммутатор, записывали номера телефонов и врали посетителям, когда миссис Хеннесси уходила завтракать, боготворили доктора Плениша, жалели мистера Веспера, увертывались от рук мистера Магуна, а придя домой, хвастались, что своими глазами видели полковника Мардука, или губернатора Близзарда, или миссис Уинифрид Хомуорд.
Весь день они порхали вокруг доктора Плениша, как стайка горлиц, внушая ему, что он самый мудрый и самый симпатичный благодетель человечества со времени Гарун-аль-Рашида. А весь вечер вокруг него увивались Пиони и дебелая кухарка, и единственной каплей дегтя в бочке меда была Кэрри.
Кроме постоянного штата ДДД, надписыванием конвертов и складыванием циркуляров занимались от шести до шестидесяти сотрудниц, работавших бесплатно и по доброй воле; все это были богатые женщины, ибо возиться с женщинами небогатыми у доктора Плениша не было ни времени, ни охоты. Их гнало сюда смутное, неопределенное желание приносить пользу, и их принимали не потому, что они справлялись с работой лучше платных служащих, а потому, что проработав некоторое время и ощутив себя участницами общественно полезного дела, от 37 до 54 процентов этих добрых женщин (по данным доктора Гэгли) начинали жертвовать деньги на ДДД. Ввиду этого все старались им помочь и были с ними очень, очень любезны.
Бодрым шагом хирурга, совершающего обход, своей больницы, доктор Плениш поднялся на третий этаж, где в просторной комнате под самой крышей работали все женщины, кроме мисс Попик и миссис Хеннесси, где Магун, Тэтли и Гендель изредка присаживались за свои неприбранные столы и где Карлейль Веспер без особого проку наблюдал за сотрудниками из конурки площадью семь на семь футов.
Доктор щедро излучал веселье и благодушие.
— Здравствуйте, здравствуйте, друзья! — вскричал он и даже несчастному Весперу, который до смерти ему надоел, снисходительно бросил:-Хорошая погодка для декабря месяца, Карлейль.
После этого он мог со спокойной совестью пройти в свой прекрасный кабинет, сидеть там и администрировать, в то время как Бонни Попик (к которой его мучительно ревновала миссис Хеннесси) всем своим существом показывала, что занялась ее заря и золотое солнце встало и, может быть, доктор Плениш закончит сейчас это письмо в АБВГД, он еще вчера обещал, ах, ей так не хотелось его беспокоить!
Кабинет у него был квадратный, выдержанный в красно-коричневых тонах, — массивный стол красного дерева, портрет Пиони в серебряной рамке, массивные красного дерева кресла, величественный камин, шкаф, набитый книгами об Условиях и Положениях с автографами авторов, и Особая Картотека.
Все здание было битком набито картотеками корреспондентов и жертвователей, но в Особую Картотеку заносились только те филантрёпы, чьи взносы составляли не меньше тысячи в год, и на всех карточках имелись собственноручные пометки доктора: «личн. письмо — расхвалить коллекц. марок», или «богат. мерзавец, любит, чтобы принимали за благородн.», или «честн., умный, очков не втирать».
Прежде чем засесть за корреспонденцию, доктор удалился в свою личную туалетную комнатку: поразмыслить на покое.
Он был очень доволен, что контора помещается в таком внушительном старинном доме, но через решетчатые окна туалетной комнаты стоило посмотреть и на смелые острые углы новых конторских зданий по ту сторону двора: ярко-желтые кирпичные стены, водонапорные баки, установленные на огромной высоте, крыши уступами, напоминающие открытые разработки угля, окна из огнеупорного стекла со стальными переплетами. Дома, похожие на заводы, — та же простота и целеустремленность.
Доктор Плениш чувствовал, что в них воплощены мощь и темпы нашего века, и отсюда легко рождалось ощущение, будто он сам их построил. Он уже слышал голос некоего оратора, может быть, сладкоречивого профессора Кэмпиона:
«…высокая честь представить вам доктора Плениша, ибо он больше чем кто-либо другой из наших современников оказал влияние не только на политическую философию, но и на реконструкцию своего родного города Нью-Йорка, где с незапамятных времен проживали его предки. И благородные очертания старинных дворцов, в одном из которых работает многотысячный персонал ДДД, и продуманные обтекаемые формы зданий нового архитектурного стиля, ныне широко известного под названием Пленишевского, или нео-Франк-Ллойд — Райт…»
Доктор догрезил свою блаженную грезу и вернулся к делам и к попечениям Бонни Попик, подвижной двадцативосьмилетней особы, которая так умела ценить его юмор, что порою смеялась, даже когда он не имел в виду сказать что-нибудь смешное. Войдя в кабинет, он застал ее со щеткой в руке: она чистила его пальто и шляпу; потом она поправила стеклянный щиток вентилятора на дальнем окне кабинета.
Она презрительно усмехнулась:
— Многоуважаемая миссис Хеннесси уверяет, что у нее сегодня насморк.
На условном языке ДДД это значило: «Я люблю вас гораздо больше, чем эта плоскогрудая старая кошка, а постыдилась бы ревновать, как она, — вечно представляется больной, чтобы привлечь ваше внимание. И я знаю, что вы верны своей глупой наседке-жене — мужчины вообще дураки, — а все-таки я целый день с вами, больше, чем ваша жена и чем все другие, особенно эта Хеннесси, чтоб ей пусто было!»
Он прочел корреспонденцию, которую она заранее вскрыла и сложила аккуратной стопкой на его столе. Он любил это занятие: он вырастал в собственных глазах оттого, что его одновременно ругали и английским тори, и русским коммунистом, и самодовольным провинциалом; интересовались его мнением, приглашали его выступать в клубах и колледжах.
Он стал диктовать ответы с быстротой машины. Только одно письмо немного смутило его: письмо от мистера Джонсона из Миннеаполиса — бесплатного директора местного узла ДДД.
Мистер Джонсон из Миннеаполиса был и никем и всеми сразу. Когда доктор Плениш думал о нем, ему мерещился то адвокат, то редактор газеты, то фермер, то лавочник, то секретарь профсоюза, то миллионер-лесозаводчик. Он глотал интеллектуальную манну, которую посылали ему профессиональные манноторговцы, но в нем чувствовалось что-то ненадежное. В любую минуту он мог заявить претензию, что в манну подмешана сода.
Сейчас мистер Джонсон из Миннеаполиса писал:
«Не нравится мне, как у нас идут дела на здешнем энергоузле ДДД. Считается, что узел функционирует, и в Ваших бюллетенях Вы утверждаете, что мы «процветаем и ведем нужнейшую работу по ознакомлению граждан скандинавского происхождения с идеалами американизма».
Не знаю. Вот уже месяц, как мне не удается собрать заседание комитета, а наши кружки истории и английского языка для иностранцев и пр. и пр. существуют только на бумаге, да и не вижу я, что, собственно, мы могли бы рассказать о демократии шведам, норвежцам и датчанам.
Сам я вступил в члены ДДД потому, что мне не давала покоя мысль, что в наше время нельзя только зарабатывать на жизнь и больше ни о чем не думать. Сознаюсь, я сделал большую глупость. Меня ослепили ученые степени и звания в Вашем списке директоров. А теперь я призадумался.
Вероятно, было бы очень нехорошо, если бы люди никогда не говорили об общественных делах, но я вот все думаю: пожалуй, не лучше, когда мы делаем из этих дел тайну, проникнуть в которую может только ДДД.
Все эти сведения «из секретных источников», что Вы присылаете нам для распространения среди фермеров, порядком устарели. Их еще на быках через Аллеганские горы переправляли. Вы раз за разом сообщаете нам, что Зек Биттери — фашист. Да мы здесь уже двадцать лет знаем, что Зек не то что за тридцать — за пятнадцать сребреников продаст кого угодно. Вы бы рассказали нам что-нибудь поновее. Вот, например: есть ли среди членов ДДД фашисты, которые жертвуют Вам деньги, чтобы прослыть патриотами?
Беспокоит меня вся эта болтовня. Еще со времен Вольтера, а тем более со времен Маркса разные авторитеты в самых противоположных областях стараются перекричать друг друга. Столько появилось нового во всех областях — от психиатрии до конхилиологии,[143] от дегустации старых вин до авиационных рекордов, — что всякому мыслящему человеку, сколько бы он ни читал, неловко становится за свое невежество, и он обращается за помощью к признанным авторитетам.
Так вот, если эти авторитеты будут пичкать нас разной дрянью, они могут принести страшный вред Простому Человеку (вроде меня). Они породят в нем отвращение ко всякому авторитету, и тогда ему останутся только комиксы или анархия».
Доктор Плениш недовольно повел носом. — Чудак этот мистер Джонсон из Миннеаполиса, а? Теперь я вспомнил, кто это. Он постоянно критикует то, чего не понимает. Ну-с, будем отвечать.
Под его диктовку Бонни Попик написала мистеру Джонсону, что глубокий анализ, которому он подверг наблюдающееся ныне смешение языков, доставило доктору Пленишу истинное удовольствие, и не разрешит ли он зачитать его письмо на заседании правления, и доктор Плениш не сомневается, что под руководством такого недюжинного человека, как мистер Джонсон. Миннеаполисский Энергоузел вскоре снова заработает на полную мощность.
В сущности, это письмо встревожило доктора несколько больше, чем он хотел признать.
В его циркулярах упоминалось о девяноста семи действующих энергоузлах, существование которых оправдывало просьбы об увеличении взносов и скорейшей их присылке. На самом же деле функционировало только шестнадцать, и, если бы это обстоятельство раскрылось, щепетильные жертвователи могли, чего доброго, решить, что ДДД — организация дутая, и отказать ей в поддержке.
Однако эти соображения мучили его недолго. В конце концов как можно руководить общественной мыслью, если допускать, чтобы тебя сбивали с толку всякие мистеры Джонсоны из всяких Миннеаполнсов, погрязшие в провинциальном невежестве, вдали от директора-распорядителя Динамо Демократических Директив?
— Посмотрел бы я, как они справились бы с моей работой, — сказал он Бонни Попик, привычно ожидая ее похвал.
В утренней почте оказалось одно весьма приятное письмо — от преподобного Элмера Гентри, председателя комитета ДДД по делам эмблем и знаков отличия.
Доктор Гентри, исключительно ревностный служитель церкви, произносивший семисложные слова с такой же легкостью, как коротенькое слово «черт», обладал вдобавок настоящей деловой жилкой. С согласия полковника Мардука — поскольку новая затея сулила рекламу ДДД, а ему ничего не стоила, — доктору Гентри и доктору Пленишу было разрешено торговать значками ДДД за собственный риск и страх. За последние полгода выручки с этого филантропического предприятия хватило доктору Пленишу на уплату за белье и обувь Пиони, а доктору Гентри — на приглашение для помощи в его богоугодных делах новой секретарши, имевшей степень магистра искусств и очень красивой.
Проект значка ДДД был художественно выполнен по их заказу крупным специалистом, и значок этот, прикрепленный к лацкану пиджака, почему-то создавал впечатление, что обладатель его был офицером в первую мировую войну.
Перечислить телефонные звонки, то и дело нарушавшие литературное вдохновение доктора Плениша, значило бы нарисовать удручающую картину человеческого эгоизма. Задуматься о том, сколько людей предлагали ему бесплатно выступать с речами, сколько конкурентов по торговле ораторским искусством жаждали призанять у него идей относительно Авраама Линкольна, значило бы пережить тяжелые минуты. Но наконец доктор забыл эти неприятности, погрузившись в чистые восторги творчества.
Каждую неделю он писал длинное Письмо в Редакцию, которое посылалось в одну из нью-йоркских газет, а также в десяток других газет, выходивших в ряде стратегических пунктов за пределами Истинного Иерусалима. Нередко случалось, что газеты печатали эти письма, и даже многоопытный полковник Мардук признавал, что как реклама они чрезвычайно полезны.
Откинувшись на спинку кресла, почесывая бородку и блаженно зажмурившись, доктор диктовал Бонни:
«Редактору.
Сэр!
Еще Фукидид[144] сказал афинскому народу, что — кавычки — в единении не только сила, но и радость, какой не познать отшельнику — кавычки закрыть, нет, постойте, вдруг там какой-нибудь бездельник знает греческий язык, лучше, пожалуй, я сам придумаю имя того мудреца, который должен был это сказать, напишите — гм, минуточку — напишите: Герозоф — Г-Е-Р-О-З-О-Ф, кажется, звучит по-гречески. Переправьте имя, и дальше, после кавычек:
Я имею честь состоять членом организации Динамо Демократических Директив, и мне довелось лично убедиться в том, как в наши дни граждане, исповедующие самые различные взгляды, черпали вдохновение в…»
Он диктовал, пока колокола церкви св. Тимофея не отзвонили полдень.
В 12.32 он был в вестибюле Золотого зала отеля Осанна, где снялся вместе с деятельницами Ривердейлского Женского Социологического клуба; до двух часов он с ними завтракал, а затем двадцать пять минут читал норковым воротникам и жемчужным колье доклад на тему «Политике Нужна Ваша Помощь». Он подробно рассказал им, какие изменения внесла в повседневную жизнь Парижа немецкая оккупация, и если умолчал о том, что сам никогда не бывал в Париже, то и не пытался утверждать, что бывал там.
В Бабун-баре Осанны он встретился с Уинифрид Хомуорд; они выпили и вместе поехали на собрание лиги «К Оружию!», недавно организованной Майло Сэмфайром для пропаганды вступления Америки в войну против диктаторов.
Как ни удивительно, Сэмфайр и его организация были абсолютно честны. Уинифрид и доктор не были там особенно желанными гостями, но они, хоть и нервничали, надели на лица любезные улыбки, притворившись, что все им очень рады, и стали делать кое-какие заметки для полковника Мардука.
Полковника не устраивала позиция Майло Сэмфайра, утверждавшего, что Америка должна доказать свою нелюбовь к фашизму всеми средствами, вплоть до войти. Сам полковник одно время чуть не примкнул к изоляционистам. В глубине души ему нравилось, как энергично Гитлер и Муссолини расправляются со всяким, кто восстает против власти Сильнейшего, — полковник считал, что сам он вполне подходящий кандидат на роль Сильнейшего в Америке. Несколько месяцев назад он даже выступил с коротенькой, ни к чему не обязывающей речью на антивоенном митинге общества Оборона Прежде Всего.
Но прочитав передовицы, посвященные этому митингу, он публично заявил, что не сказал того, что имел в виду, и уж, конечно, не имел в виду того, что сказал. Он позвонил доктору Пленишу и предупредил его, что впредь ДДД не будет иметь с изоляционистами ничего общего.
Это успокоило доктора; однако Майло Сэмфайр, казалось, ничуть не интересовался мнениями полковника Мардука и доктора Плениша, и доктор, видя, что Америка идет к войне, испытывал смутное чувство страха и тоски. Ему так хотелось быть хорошим человеком!
Он доехал в метро до Пэйн-стрит, зашел к Уолтеру Гилрою, сделал жалобное лицо и получил чек на четыреста долларов.
Он вернулся в контору ДДД, подписал письма и целый час безропотно страдал, принимая посетителей, наделенных не только весьма желательным богатством, но и никому не нужными идеями.
В шесть часов из радиостудии компании Бронтозавр он представил радиослушателям сенатора Балтитьюда. Время было куплено и оплачено «Комитетом Граждан — Республиканцев». Благословен наш век, когда время можно купить и продать вместо того, чтобы выпрашивать его у бога, когда очень старые люди, если они к тому же очень богаты, могут покупать время снова и снова, до скончания века.
В обмен на восторженное вступительное слово доктора Плениша сенатор в своем выступлении доброжелательно отозвался о ДДД.
В 6.20 доктор опять выпил — с сенатором Балтитьюдом, а в 6.40 выпил еще раз дома, с Пиони.
Пока Пиони надевала новое платье, он облачился в манишку и фрак. Они пошли закусить в кафетерий, и Пиони в алом бархатном манто и с красными розами в волосах сама несла поднос с яичницей, кофе, эклером, кофейной слойкой и мороженым крем-брюле.
В 8.15 они вошли в артистическую уборную театра Вилледж-Грин и обнялись со своим другом Джорджем Райотом, ректором Боннибелского женского колледжа. В 8.24 доктор Плениш и ректор Райот появились на сцене перед новой партией жемчугов, меховых накидок и крахмальных манишек и начали диспут на тему «Следует ли женщинам в случае войны вступать в армию».
Доктор Плениш занял утвердительную позицию, и многие из присутствовавших в зале меховых накидок поверили, что он говорил всерьез.
В трогательных выражениях он упомянул о своей жене и своей ученой дочери. Разве эти умные, энергичные женщины, без поддержки которых он, конечно, не мог бы выполнять свою скромную просветительную работу на благо Демократии, разве они — всего лишь куклы, которыми можно развлекаться в часы досуга, безделушки, о которых должно забыть, если придет война? Ни в коем случае! Он верит и надеется, что им не придется воевать, во всяком случае, пока сам он может держать в руках винтовку. Но если это все же потребуется, он первый благословит их надеть хаки и взяться за оружие.
Затем ректор Райот в пространном выступлении доказывал, что доктор Плениш — тонкий мыслитель, но мыслит, пожалуй, чересчур современно.
В 9.29 ректор Райот и чета Пленишей выпили в Фанфар-Фолли-баре, а в 9.41 прибыли в ресторан Бель — Пуль, где происходил банкет Манхэттенского Общества Борьбы за Возрождение Христианства и Регулярное Посещение Церкви, и сели за почетный стол в ту самую минуту, как Уинифрид Мардук Хомуорд встала и начала свое единоборство с микрофоном.
Религия, сказала Уинифрид, возродится лишь тогда, когда восторжествует Подлинная Демократия. Величайшее желание ее и ее отца — найти способ разъяснить каждому мужчине, женщине и ребенку, что такое Демократия; разъяснить, что Демократия — враг всяких правящих клик и считает, что все люди, и богатые и бедные, равны в своих правах; что всякий честный труд, будь то труд редактора или кочегара, поэта, банкира или батрака, одинаково благороден.
И еще она не то чтобы сказала, но дала понять, что, если поэты, банкиры и (или) батраки не будут постоянно прислушиваться к ней и к ее отцу, цивилизация обречена на гибель.
У ресторана Бель-Пуль — ресторана дорогого и фешенебельного — шофер Уинифрид коротал время с швейцаром и с шофером такси.
— Про какую это демократию они все толкуют? — недоумевал шофер Уинифрид. — Демократическая партия — это понятно, а у них другое, какая-то теория. Я думал, демократия — это когда о человеке судят не по тому, сколько у него денег, и не по тому, как у него язык привешен. Но если за нее наша Уинни-балаболка распинается, значит, это что-то другое.
Шофер такси проворчал:
— А я считаю, раз демократия, — значит, богатые должны вежливо обращаться с бедными. За это я горой! Ведь чего только не наслушаешься от пассажиров!
«Шофер, не гоните так», «Шофер, вы что, первый раз машину ведете?», «Шофер, а вы правда знаете, как проехать на Центральный вокзал?» Один другого чище, честное слово.
— Не вам бы жаловаться! — сказал шофер Уинифрид. — Вам что, провезли человека несколько кварталов и до свидания. Вы бы у хозяев послужили, тогда бы знали! Этой дуре чуть только покажется, что ты свернул не там, где следует, так она мало что наорет, а еще припомнит тебе, чем ты ей не угодил вчера, и позавчера, и черт его знает когда. А до чего въедливая — сил нет! Говорят, она и по радио больше всех болтает об этой самой демократии, — я-то не слышал, да и не стану слушать, хоть ты меня озолоти.
Швейцар — монумент в синей форме с серебряным галуном — бросился открывать дверь посетителю с дамой, которые думали было проскочить в Бель-Пуль, минуя его. Вернувшись к собеседникам, он презрительно фыркнул:
— Глупости вся эта демократия. Дослужились бы до того, чтобы носить не шоферскую куртку, а ливрею, как я, — очень даже были бы довольны. Богачи — они ничего. Видали, сколько на чай отвалили? Демократия! Это, выходит, я не лучше моего брата Джейка, который до сих пор в Мэне картошку сажает? А Джейк, выходит, не лучше какого-нибудь бродяги, который по дорогам побирается? Как бы не так! Ничего из вашей демократии не получится.
Шофер миссис Хомуорд возмутился:-Должно получиться! Не то мы вылетим в трубу, как Европа. И как это мы, черт возьми, допустили, что страной распоряжаются пролазы вроде миссис Хомуорд и ее папаши да их прихвостни вроде вас?
— Не поздоровилось бы вам, знай ваша хозяйка, какого вы о ней мнения!
— Никому из нас не поздоровилось бы, знай хозяева, какого мы о них мнения.
Шофер залез в машину и с досады уснул, а в это самое время Уинифрид Хомуорд разливалась соловьем:
— Я всегда гордилась тем, что даже простой шофер чувствует себя со мной, да и с моим отцом — высокоодаренным социологом — так же свободно, как со своими товарищами!
После банкета Плениши вместе с Мардуком и Хомуордами удостоились лестного приглашения в гости к губернатору Близзарду.
Доктор сел в машину с Уинифрид. Взглядом указав на спину шофера, она зашептала — вернее, она думала, что говорит шепотом:
— А вот возьмите его — глупый, косный человек.
Разве такого убедишь прислушаться к Голосу Демократии? Он только и знает, что свою машину. Я уверена, что на меня он никогда и не смотрит. Он не знает, умна я или глупа. Вероятно, он не знает даже, красива ли я.
Во второй машине Пиони поочередно гладила по руке Тома Близзарда, — Чарли Мардука и Гарри Хомуорда и говорила им, что после великих трудов липа у них усталые, но красивые, и что она очень, очень гордится знакомством с ними.
Все трое улыбались, как довольные, сытые коты.
Гостиная в холостой квартире губернатора имела в длину сорок футов, в обеих боковых стенах — по камину и в обоих концах — по стойке с напитками.
Доктор Плениш вызвал всеобщий интерес уверенным заявлением, что и полковник и губернатор были бы гораздо лучшими президентами, чем мистер Рузвельт. Уинифрид рассказала — но ей это сообщили совершенно конфиденциально и дальше передавать не следует, — что один корреспондент, которого как-то угощал коктейлями один дипломат, которого как-то угощал бульоном маршал Петэн, сказал, что уже в январе 1942 года Франция восстанет против власти Германии.
Спать Плениши улеглись около двух часов.
Пиони сладко зевнула:
— Чудесно провели вечер!
Доктор Плениш проснулся от ее вздоха.
— Ты знаешь, сколько стоило платье, которое было сегодня на Уинифрид?
— Мм?
— 1 риста пятьдесят долларов, не меньше. А я никогда не платила за платье дороже 39 долларов 95 центов!
От этой страшной мысли он окончательно проснулся и заговорил раздраженно:
— Ужасно дорога жизнь в Нью-Йорке. Сегодня я зашел купить галстук на Пятой авеню-решил покутить,___________________________________________ думал, истрачу доллара два с половиной. Продавец показывает мне один, очень миленький — пять долларов, а когда я попросил что-нибудь подешевле, выложил какую-то дрянь за три доллара, и еще смеет ухмыляться. Ужас! Заплатил я свои три доллара и ушел с таким чувством, будто подобрал сигарный окурок, а меня заметили. За один галстук!
— Да, да. Подумай, ведь ты зарабатываешь… в этом году, наверно, выйдет тысяч восемь — жалованье, лекции, вообще все вместе?
— Примерно.
— А все-таки мы бедные. Почему это? Ты же нисколько не глупее полковника Мардука.
— Но честнее его. Я действительно считаю, что с Гитлером и компанией следует покончить раз и навсегда, и действительно верю, что можно добиться большего сотрудничества между людьми. А сам только и делаю, что помогаю продвигаться этому плуту Map- дуку!
— Не смей говорить такие вещи! А сколько ты делаешь добра, а какие чудесные идеи высказываешь — ну, о демократии и все такое! Но подумать, что ты получаешь больше, чем ректор Булл в Кинникинике, и все-таки нам часто приходится обедать в кафетерии!
— Пиони!
— Мм?
— Тебе никогда не кажется, что хорошо бы вернуться — уехать в какой-нибудь маленький город или вступить в какое-нибудь честное небольшое религиозное общество, где не нужно было бы тянуться за миллионерами вроде Мардука? Он-то, наверно, и по девять долларов за галстук платит!
— Нет, нет, ни за что! И не смей так думать! Именно так люди и начинают опускаться. Ты же не хочешь, чтобы после стольких лет борьбы я опять очутилась в обществе фермеров!
— Да, пожалуй, нет.
— Ну, вот видишь!
В субботу 6 декабря 1941 года доктор Плениш утром вылетел с ректором Райотом в женскии колледж Боннибел. Перелет стоил дорого, но расходы взял на себя колледж, а, кроме того, доктор полностью включил их в свой отчет по ДДД под рубрикой «разъездные».
В час дня в Бониибелс был устроен банкет со всеми атрибутами семи других банкетов, на которых он присутствовал за последние девятнадцать дней: те же устроительницы, те же вспышки магния, рукопожатия и честолюбивые школьницы-репортерши, воображавшие, что они его интервьюируют, когда спрашивают его, как им немедленно получить работу в нью-йоркских газетах; то же холодное жаркое и теплое мороженое ассорти. Единственное отличие состояло в том, что на девичьи головки было приятнее смотреть, чем на фраки и вечерние туалеты.
В три часа, на торжественном собрании колледжа, он получил от ректора Райота почетную степень доктора литературы. Теперь у него было почти столько же регалий, как у полковника Мардука: две степени доктора прав, три степени доктора литературы и даже одна настоящая степень — доктора философии. Вооруженный таким образом, он чувствовал, что в жилах у него течет другая, более благородная кровь — может быть, кровь какой-нибудь пятой группы.
В 7.30 вечера они с Джорджем Райотом вторично провели диспут на тему «Следует ли женщинам в случае войны вступать в армию». Но теперь Джордж предложил поменяться ролями: его больше устраивала перспектива разрешить своим милым девочкам вступать в армию сколько их душе угодно.
Отчетов о вчерашнем диспуте газеты не поместили, поэтому доктор Плениш согласился и, когда пришла его очередь, затянул:
— Итак, повторяю, больше не приходится сомневаться, что женщина равна мужчине, и никто, даже пьяный дурак, даже в шутку не станет отрицать великое благо, заключенное в том, что женщинам дали — если только позволительно употребить здесь слово «дали»- право голоса, все равно, рассматривать ли это как практическое мероприятие или как символ признания этого равенства, но все же, несмотря на это, охотно с этим соглашаясь, задаешь себе вопрос, следует ли им ради эксперимента тратить свои прекрасные тонкие качества, во многих отношениях ставящие их выше мужчин и в конечном итоге, несомненно, могущие служить противовесом грубой физической силе мужчины (хотя, может быть, и необходимой для некоторых видов труда), следует ли растрачивать их на суровые обязанности солдата, — о мои юные друзья, ваш уважаемый ректор и, как я с гордостью отмечаю, мой старинный и близкий друг доктор Райот, может быть, и не прочь пококетничать с этой идеей, импонирующей его мощному уму, но что касается меня, то я, как человек практический, деловой и притом несколько сведущий в военной истории и военной подготовке, говорю вам, что женщине, молодая она или старая, вступать в армию, даже по собственному желанию, и подвергать себя всем тяготам и опасностям строевой службы, это, друзья мои, — и я умоляю вас отбросить мелкие соображения антагонизма между полами, сколь они ни естественны, если принять во внимание долгую, трудную и, нужно признать, славную и в некотором смысле даже воинственную борьбу, которую выдержали женщины, чтобы преодолеть слепое противодействие, глупые предрассудки и косность установившихся обычаев и привычек, а также пример других цивилизаций, которые, хоть и могут показаться колоритными пусть эстетически чуткому, но ненаблюдательному человеку, на самом деле оказали плохую услугу основным потребностям роста человеческой культуры, к числу которых следует отнести подлинное и равноправное сотрудничество мужчин и женщин во всех их взаимоотношениях, будь то любовь, война или домашний очаг, а между тем исторически обусловленная сила и острота этого антагонизма должны явиться фактором, мешающим той ясности выражения и сжатости изложения, какие, вы сами это понимаете, необходимы при рассмотрении такой необъятной и сложной проблемы…
Он поспел в Индианаполис на поезд 10.50; из Буффало в Нью-Йорк прилетел самолетом и был дома к утреннему завтраку в воскресенье, 7 декабря 1941 года.
29
Доктор и миссис Плениш аккуратно посещали по воскресеньям церковь, за исключением тех случаев, когда Пиони просыпала, что с ней бывало не чаще, чем три раза в месяц. Обычно они выбирали те храмы, где служили священники, связанные с ДДД: Крис Стерн, раввин Лихтензелиг, монсеньер Фиш или преподобный доктор Элмер Гентри. В это воскресенье они слушали доктора Гентри.
В своей проповеди его преподобие сказал, что война в Европе есть результат того, что люди, в особенности в этом районе Нью-Йорка, недостаточно усердно посещают церковь. Он и господь бог этим недовольны.
— Красивый мужчина этот Элмер. Наверно, родился в Нью-Йорке, — размышляла вслух Пиони.
— Не знаю. Я слыхал, что он происходит из хорошей старой массачусетской семьи и некоторое время учился в Гарварде, но в справочнике «Кто есть кто» написано, что он окончил один из западных колледжей. Потом он, кажется, священствовал в самых глухих углах Аляски и однажды отказался от епископского сана. Достаточно поглядеть на него — настоящий мужественный тип непоколебимого лидера.
— Это его дочка сидела в первом ряду — в бархатной шляпке?
— Нет, это, кажется, его новая радиосекретарша. Прелестный новый тип интеллигентной женщины вырабатывается благодаря радио, ты не находишь?
— Не нахожу, — сказала Пиони.
После церкви они расстались: его ждал завтрак в обществе других директоров в зале совещаний ДДД. Яства, доставленные из ресторана за углом, шли за счет великодушного полковника Мардука, хотя сам полковник находился за городом и на заседании его представляли Шерри Белден и Уинифрид.
Это было обычное ежеквартальное заседание директоров ДДД. Кроме доктора, Шерри и Уинифрид, присутствовали Эд Юникорн, профессор Топелиус, Крис Стерн, который явился с опозданием и предупредил, что в три часа ему придется бежать, потому что воскресенье, добавил он, смеясь, у него «самый занятой день»; Уолтер Гидрой, Генри Каслон Кеверн, судья Вандеворт, профессор Кэмпион, президент объединения магазинов дамских товаров «Прялка» Альберт Джаленак, генерал Гонг, миссис Наталия Гохберг, оратор-поэт Отис Кэнэри и один неофит — мистер Джонсон из Миннеаполиса.
За завтраком все были веселы и разговорчивы, за исключением мистера Джонсона, который так серьезно слушал, что все начали на него коситься, так как в этом обществе слушание других было только необходимой платой за то, чтобы потом слушали вас. Впрочем, он ведь был провинциал, а не закаленный столичный житель.
Они оставались шумной компанией веселящихся юнцов, пока официант не вынес последнюю гору окурков. Тогда, словно по волшебству, юнцы превратились в чинных мужей совета, преисполненных важности и некоторого сценического волнения. Да и не мудрено-ведь вся страна под обложенным тучами небом ожидала, когда этот небольшой, но мудрый синклит решит судьбу следующего столетия.
Доктор Плениш начал со спокойствием законодателя — ветерана:
— В качестве директора-распорядителя объявляю настоящее заседание совета директоров открытым и в качестве временного председателя pro tern прошу называть кандидатов в председатели собрания, но, с вашего разрешения и для того, чтобы сэкономить время, ибо хотя предмет нашего сегодняшнего обсуждения чрезвычайно значителен и, может быть, — кто знает? — окажется непосредственно связанным с будущей программой деятельности не только нашей, но и других просвещенных организаций лучших представителей Америки, я все же очень хорошо помню о том, что у каждого из нас есть свои многочисленные обязанности, которые постоянно посягают на наше время и требуют, чтобы мы установили и развили положение, что в хаосе нашего века наметились наконец контуры какого-то положительного ядра, и не следует считать это лишь гипотетическим и утопическим суждением, а потому, как уже было сказано, я могу сэкономить свое и ваше время, предложив, хотя и в нарушение традиций, кандидатуру самого младшего из нас-не считая, конечно, вас, Уинифрид, — младшего формально, так как не думаю, чтобы сколько-нибудь значительная разница в годах была между ним и вами, мистер Кэнэри, и вами, миссис Гохберг, это не просто любезность, а признание ваших редких достоинств в сочетании с обаятельной внешностью, которая, и это я готов повторить своей дорогой жене так же чистосердечно, как говорю сейчас вам, что выглядите вы значительно моложе его — и несравненно прекраснее! — и я сказал бы, что если бы мы с вами не работали уже так давно вместе, рука об руку, трудясь ради всякого дела, цель которого — просвещение и борьба с праздностью и себялюбием, и пустословием, и демагогическими разглагольствованиями, где бы, в каких слоях общества ни приходилось с ними сталкиваться за все эти годы, — ввиду всего этого предлагаю избрать Шерри Белдена.
(Это он и хотел сказать — что он предлагает избрать Шерри Белдена.)
Выпустив эту торпеду, он продолжал:
— И ради соблюдения проформы, если только нет других кандидатур, могу ли я просить кого-либо поддержать мое предложение?
Миссис Хомуорд закричала:
— Поддерживаю! Я хотела только сказать, Гид, ввиду того, что японские дипломатические представители должны сегодня быть в государственном департаменте, и, надеюсь, это положит конец дурацким разговорам о японской опасности и…[145]
— Одну минутку, Уинни, простите!
Про себя доктор думал: «Черт возьми, хоть на собрании заткнуть этой бабе рот и самому поговорить немножко!»
Он забормотал фразу из ритуала, который отличает заседание комитета от ссоры в деревенской лавке:
— Есть предложение избрать мистера Белдена председателем собрания кто за кто против кто воздержался принято единогласно мистер Белден прошу занять председательское место.
Уинифрид застрекотала:
— Ох, Шерри, чтобы мне не забыть, пока вы не начали, я хочу высказать одну мысль — у меня имеются очень важные секретные сведения о японской делегации, которая искренне стремится к миру…
Доктор Плениш приглушил ее:
— Одну минутку, Уинифрид, прошу вас. Прежде чем нам приступить к работе, необходимо выполнить одну формальность — просто для протокола. Вот это мистер Джонсон, директор Миннеаполисского узла, честный, добросовестный работник, вполне в моем духе. Он не совсем удовлетворен нашими темпами и специально прибыл в Нью-Йорк для того, чтобы ознакомиться с тем, что мы здесь реально предпринимаем для защиты мира и демократии. Не сомневаюсь, что после сегодняшнего заседания ему станет яснее, что все наши мероприятия являются не только принципиальными, но и… э-э… практическими. А потому, уважаемый председатель — эй, Шерри, слушайте, вам говорят, — а потому вношу предложение временно, на сегодня, избрать мистера Джонсона из Миннеаполиса полноправным членом Совета директоров.
— Кто поддержит? — буркнул мистер Белден.
— Поддерживаю, — сказал профессор Кэмпион, большой авторитет в области процедуры.
— Есть предложение избрать мистера Джонсона временным членом на сегодня кто «за» поднимите правую руку принято единогласно, — отбарабанил мистер Белден. — Ну-с, дети мои, засучим рукава и перейдем к сути дела. На магистрали международных отношений образовалась пробка; мы должны, черт возьми, держать ногу на стартере и, как только дадут зеленый свет, гнать на всю катушку вперед, чтобы выяснить, как все-таки будет выглядеть в духовном аспекте грядущий монументальный Американский Век, когда нас призовут поддать жару во всемирной драке.
Все мардуковские молодчики, эта личная лейб-гвардия полковника, полагали для себя обязательными божбу, заковыристые метафоры и жаргонные словечки, что, в дополнение к спортивным курткам и серым брюкам — гольф, должно было служить доказательством, что, несмотря на университетское образование и административные таланты, эти молодые люди ничуть не обюрократились. Они никогда не говорили «да», если можно было сказать «а то нет!», и из всех них с особенным шиком демонстрировал этот «простецкий стиль» Шерри Белден.
Шерри продолжал:
— Вам всем будет очень приятно узнать, что полковник Чарльз Б. Мардук одобрил все наши начинания и пожелал обогатить нашу военную казну новым щедрым вкладом в сумме десяти тысяч долларов.
Все зааплодировали, кроме мистера Джонсона из Миннеаполиса, который спросил:
— А на какой предмет?
Генерал Гонг зашипел на него:
— Ш-ш!
Шерри продолжал:
— Первый пункт на повестке дня-доклад Комиссии по Определению Значения Слова «Демократия» для Целей Пропаганды, работавшей под высококвалифицированным председательством мистера Отиса Кэнэри. Ну-ка, От, валяй, докладывай.
В свое время мистер Отис Кэнэри тоже подвизался в качестве одного из мардуковских молодчиков; и он носил серые брюки-гольф и изъяснялся жаргоном доброго малого; но теперь это был вольный стрелок, поэт и эссеист. Выражение его узкого, длинного, открытого лица было по-прежнему ясным и приветливым, как у Шерри Белдена, но в манерах появилось нечто жреческое.
— Уважаемый председатель, леди и джентльмены, — начал мистер Кэнэри, не оставляя никаких сомнений в том, к кому он обращается. — Прежде чем довести до вашего сведения принятую нами формулировку, я хотел бы выразить благодарность своим коллегам по комиссии: миссис Хомуорд и…
Уинифрид сорвалась с цепи:
— Ну что вы, я же совсем ничего не делала. Понимаете, я все время была так занята в связи с информацией, которую я получила от одних друзей, которые давно живут в Японии и потому очень хорошо разбираются в истинных намерениях японцев, которые действительно хотят только мира и больше ничего…
— Простите! — сказал мистер Кэнэри (это следовало понимать, как «заткнитесь»). — Одну минутку, миссис Хомуорд. Итак, я хотел бы выразить благодарность моим друзьям и сотрудникам, миссис Хомуорд и…
ПРОСТИТЕ. МИССИС ХОМУОРД, од-ну минутку… профессору Кэмпиону, мистеру Джаленаку и мистеру Гилрою за их неустанные труды по выполнению возложеннои на них титаническои задачи — дать точное определение понятия Демократии, научное фундаментальное определение, которым в какой-то степени могли бы руководствоваться все деятели в области идеологии на ближайшие сто лет. Мы работали над этим как черти, не зная отдыха, по десять — двенадцать часов в день, сходились в пять, выпивали по коктейлю и сразу же принимались долбить до полуночи, а то и позже. В своем окончательном виде — а мы наконец выработали формулировку…
— Отлично, послушаем! — сказал мистер Джонсон.
— В своем окончательном виде принятое нами определение звучит так: Демократия не есть рабская, стандартная форма, при которой индивидуальность и свободная инициатива подавляются требованиями обязательного абсолютного равенства имущественных и социальных благ. Это скорей живописный горный ландшафт, чем плоская равнина. Это скорей образ жизни, чем образ правления. Это скорей религиозная мечта, чем дерзкое утверждение, будто конечная мудрость обитает не в божестве, а в человеке, ибо она смело утверждает, что мы должны признать все различия расы, верований и цвета кожи, которые всемогущему угодно было создать. Вот! — Мистер Кэнэри издал смущенный, но радостный смешок. — Вот вам определение Демократии.
— Где? — спросил мистер Джонсон.
Председатель Белден не то чтобы игнорировал реплику мистера Джонсона, но молча окинул его уничтожающим взглядом и затем воскликнул:
— Черт возьми, От! Это лучший образец лирической прозы и в то же время самый трогательный, возвышенный и серьезный пример прямой и глубокой мысли, какой я слышал со времен Геттисбергской речи Линкольна! Джентльмены и леди, дети мои, надо, чтобы кто-нибудь предложил резолюцию, выражающую нашу глубокую признательность мистеру Кэнэри и всей его комиссии за выработку этого волнующего определения, полковнику Мардуку за финансирование обедов в период работ комиссии и доктору Пленишу за его неутомимую деятельность по проверке, перепроверке и переперепроверке всех прочих существующих определений.
Кто просит слова для предложения? Мистер… э-э… Джонсон, если я не ошибаюсь?
— Вы не ошибаетесь. — Мистер Джонсон поднялся со своего места, спокойный и внушительный. — Слушайте, Белден. Я не хотел бы ставить вам палки в колеса, но я приехал сюда, на Восток, в надежде встретить людей, которые не саморекламой занимаются, а честно хотят организовать всех доброжелательных граждан, чтоб оказать поддержку правительству и растормошить избирателей. Я рассчитывал, что вы тут не глупей хотя бы средней школьной футбольной команды.
В холле зазвонил телефон, и доктор Плениш с недовольной гримасой вышел из зала, а мистер Джонсон тем временем не унимался:
— И что же я тут застаю? Десяток мышиных жеребчиков и двух дам с хорошо подвешенными язычками, которые сидят и переливают из пустого в порожнее да рассыпаются в комплиментах друг другу, останавливаясь лишь для того, чтобы покланяться Чарли Мардуку, своему настоящему хозяину, или же деликатно посмеяться над нами, простачками из провинции…
Поднялся было ропот негодования, но сразу стих, потому что в комнату ввалился доктор Плениш и, отдуваясь, выкрикнул:
— Звонила моя жена: важное известие — японцы бомбили наш флот на Гавайях — война!
Все разом залопотали о том, что необходимо бежать, взять в свои руки заботу о стране, и все воинственно схватились — если не за винтовки, то за портфели.
У доктора Плениша было смутно на душе, когда он звонил по телефону полковнику Мардуку, на его ферму в округе Датчес, чтобы сообщить потрясающую новость, но полковник принял ее восторженно.
— Мы эту желтолицую мелюзгу за три месяца в порошок сотрем. Я, возможно, вернусь в армию и соглашусь на чин генерал-майора, а потом проведу Тома Близзарда в президенты — я уже решил, пусть его будет президентом. Сегодня ровно в восемь вечера будьте у меня в конторе — вы, Уинифрид и Белден, — и мы наметим план. Ура!
Доктор уныло поплелся домой. Он честно служил Мардуку, но все эти годы, зарабатывая на жизнь разглагольствованиями о своей любви к Америке, он и в самом деле любил родину, и сейчас ему вдруг сделалось противно торговать этой любовью. Он был готов бросить ДДД и пойти на военную службу. Он даже готов был помолчать.
Но, войдя к себе в дом и застав свою дочку Кэрри в беседе с молодым аспирантом Колумбийского университета, доктор сразу же соскользнул в привычную многолетнюю колею профессионального вразумителя — сглаживателя углов — затуманивателя мозгов — розничного торговца знаниями — первосвященника в миру — неофициального цензора официальных установлений — критика, настолько опытного в своем деле, что ему вовсе не нужно было что-либо о чем-либо знать, для того чтобы все всем обо всем говорить.
У приятеля Кэрри были неспокойные руки, большие очки и, вероятно, тревога в душе, но глаза смотрели твердо.
Доктор взревел:
— Ах, мой юный друг, как я вам завидую в этот решительный час! Почему я не молод и не могу уже взять винтовку в руки!
Кэрри замурлыкала:
— Смотри, пожалуйста! А я только что рассказывала Стэну, какие вы все важные, ты и полковник Мардук и миссис Хомуорд. Чем заниматься изучением Древнего Рима, он бы лучше изучал вас и ваше влияние на жизнь страны.
Это звучало вполне невинно, но доктор насторожился. Однако жаль было упустить такую аудиторию.
— Да, мой мальчик, вам выпал великий жребий. Быть может, вы и все доблестное поколение ваших сверстников исправите ошибки, которые многие лидеры моего поколения совершили в свое время. От вас, от молодежи — со всей той помощью, которую я еще способен оказать вам, — зависит выиграть войну и выиграть мир.
Аспирант сказал:-Ну, мне пора, — к великому изумлению доктора, поцеловал безропотную Кэрри и вышел. Прежде чем доктор успел снова стать на рельсы, Кэрри перешла в атаку.
— Послушан, папочка. Пожалуйста, не угощай больше моих друзей лозунгами — даже такими, как «выиграть войну и выиграть мир». Когда-то это был славный, настоящий боевой лозунг, и он имел какой-то смысл, но за последние полгода все мы слышали его столько раз, что теперь он уже превратился в пустой звук.
— Боже мой, подумать только, что моя дочь может быть легкомысленной в столь грозный час, когда люди идут сражаться за родину!
— Не смей так говорить! Мы вовсе не легкомысленны! Все ужасы современного мира — чумная зараза, и старинные церкви, разбитые снарядами, и голодные дети, и цинизм людей, подобных Геббельсу, — все это нам известно лучше, чем вам, потому что мы моложе и у нас воображение живее. И мы будем действовать! Вот этот мальчик, которого ты только что здесь видел, — полгода назад он был пацифистом, три месяца назад он был изоляционистом, а завтра он идет записываться в Авиационный корпус, если только его примут. Раньше он вроде тебя бросал лозунги. А теперь он хочет бросать бомбы.
— Но нам нужны лозунги! Это война идеологическая — первая в истории война между двумя полярно противоположными мировоззрениями. Нам нужны лозунги и нужны опытные лидеры, способные создавать их.
— Французские революционеры тоже считали, что они борются за свое особое мировоззрение, и они тоже выкинули лозунг «Свобода, Равенство, Братство». Может быть, если бы у них было не так много громких песен и не так много блестящих ораторов и политиков, революция закончилась бы удачнее.
— А я говорю тебе, что ты легкомысленна, и ты и твои друзья! И ваше легкомыслие позорно в эту годину бедствий.
— Многие из моих легкомысленных друзей через неделю наденут хаки. Они пойдут сражаться так, как сражались американцы в Гражданскую войну. А людей, которые создают себе рекламу тем, что расписывают солдатам их собственное благородство, — этих людей они просто пошлют подальше. Неужели ты сам не понимаешь?
— Я вот понимаю, что моя родная дочь в своей дерзости дошла уже до оскорбления святынь! — сказал доктор Плениш и ушел из дому.
Но, сидя в Лафайет-кафе и думая о ней, он не мог возмущаться ею. Она была слишком серьезна, и первый раз в жизни этот человек, сделавший себе профессию из призывов к серьезности, на короткое время стал по-настоящему серьезен сам.
В номере отеля мистер Джонсон из Миннеаполиса писал письмо сыну, который раньше был его младшим компаньоном в фирме, а теперь служил в чине капрала в Армии Соединенных Штатов:
«Дорогой сын!
Пишу из Нью-Йорка. Смотрел «Жизнь с папашей», очень смешная комедия, папаша там немножко вроде меня, особенно когда тебя нет рядом, чтобы меня одергивать. Мама звонила из Миннеаполиса, говорит, здорова, вот тоже смешная женщина, сама даже не понимает, какая она иногда бывает смешная. Гак вот, значит, началось, ты все-таки оказался умнее меня, что заблаговременно пошел в армию. Завтра, в понедельник, с утра пойду узнавать, не найдется ли где-нибудь для меня местечка, было бы здорово нам с тобой очутиться в одной части, во всяком случае, надеюсь, что ты с винтовкой будешь поосторожнее, чем с дробовиком, когда мы с тобой ходили на уток, ну, впрочем, достаточно я тебя тогда шпынял за это.
Я думал, Америка может остаться в стороне, но теперь вижу, что был неправ, и все мои мысли теперь только о войне. В конторе у меня все в порядке, так что Дэйв отлично проведет ликвидацию сам. А мы с тобой, когда вернемся с войны, примемся за что-нибудь новое. Нью-Йорк набит бюрократами, и знаешь, что всего забавней, сынок, они все обижаются, что англичане учат их уму-разуму в военных делах, а потому они тут, в восточных штатах, стараются учить уму-разуму нас, жителей Среднего Запада. Есть здесь один пустобрех, из благотворителей, некий Плениш — он, кажется, и сам родом из Великой Долины, но поторопился забыть об этом — так вот этот красавец мне заявил: «Жаль, у меня нет времени поехать на Средний Запад, открыть людям глаза на международное положение во всей его сложности и остроте!» Что, командиром у тебя все еще тот молодой врач-поляк из Уиноны? Передан ему слова Плениша и потом напиши, что он сказал по этому поводу.
Если я тоже попаду на фронт, сынок, о матери и сестрах не беспокойся: на случай если бы что не так, на их имя есть солидная страховка, я, между прочим, отыскал тот ресторанчик, где мы с тобой прошлый раз ели такую вкусную рыбу, пообедал там с аппетитом, но, конечно, было скучно одному без тебя.
Твой отец».
Доктору Пленишу за последние годы мало приходилось ходить пешком, но в это беспокойное воскресенье, 7 декабря 1941 года, он прошагал весь путь до конторы полковника Мардука. Его неотступно мучила мысль: действительно ли он так прозорлив, как всегда считал?
Но сомнения его рассеялись, как только он увидел своего патрона, оживленного, со свежей розой в петлице и огромной сигарой во рту; полковник Мардук стукнул кулаком по столу и вскричал:
— Пришел наш час! Германия, несомненно, тоже ввяжется в войну с нами, война перемешает все карты в политике страны, и мы с Томом Близзардом готовы выступить на сцену. Впрочем, меня не так уж интересует занять пост во время войны — это ведь на ограниченный срок. Я стремлюсь к влиянию в послевоенное время. Хорошо, можете назвать это властью, если вам так хочется.
Мы должны начать действовать немедленно — постоянно связывать мое имя с перспективами послевоенных переговоров и добиться такого положения, чтобы — выиграем ли мы войну, проиграем ли — люди все равно обратились ко мне. Я лично думаю, что мы выиграем, и на этот случай у меня есть новый план послевоенного устройства мира, до какого никто еще не додумался. Надо, чтобы уже сейчас повсюду говорили об этом плане и чтобы он был известен как «План Мардука».
Помните! Ьы первый — не считая Уинифрид — слышали эти слова: «План Мардука». Первый, но далеко не последний! И вот к чему сводится этот план: после войны для того, чтобы немцы никогда не могли опять полезть в драку, мы не станем ни поголовно истреблять их, как советуют многие разумные люди, — хотя в этом решении есть немало положительных сторон, — ни приглашать их в какую-либо новую Лигу Наций, как хотели бы простачки-идеалисты. Нет. Мы просто уничтожим Германию как империю и раздробим ее на отдельные мелкие королевства и герцогства, так, как это было до 1870 года — множество мелких, слабых государств. Ведь хорошо придумано? Верно, хорошо? Кто знает — может быть, этот план даже будет принят, может быть, он даже будет осуществлен!
— Но, полковник, нет ли тут опасности, что эти мелкие государства станут драться между собой и увеличат опасность новых войн?
— Ну что ж — на здоровье! Небольшая война время от времени даже полезна для коммерции. Да-с! И вот я, как автор «Плана Мардука», займу видное место на заключительной мирной конференции, а оттуда недалеко и до поста государственного секретаря… а может быть, еще выше… впрочем, я готов предоставить главную должность Тому Близзарду, если только он покажет достаточную прыть. Сидеть и ждать, пока он там будет раскачиваться, я не намерен. Не стоит повторять это направо и налево, но, может быть, япошки в Пирл-Харборе оказали мне большую услугу!
Усилие, которое потребовалось доктору Пленишу, чтобы не слышать последних слов полковника, помогло ему встряхнуться и позабыть о предостережениях Кэрри.
— Прекрасно! Что вы мне посоветуете сейчас делать? Господи, надеюсь, с ДДД ничего не случится!
— Не случится, не беспокойтесь. Я сумею вас защитить. Продолжайте вашу работу по инструктажу узлов. Завтра же пошлите им циркулярный бюллетень и напомните, что мы еще несколько месяцев назад предсказывали Пирл-Харбор. Несколько месяцев назад!
— А разве мы предсказывали?
— Конечно, нет! Что ж из этого? И начинайте распространять первые слухи о «Плане Мардука». В чем дело, пока не разъясняйте. Напишите несколько писем в редакции газет под разными именами с требованием, чтобы конгресс призвал меня разъяснить, за что мы воюем. Едва ли они это сделают, но все-таки — вдруг у них хватит ума. И постарайтесь связаться по телефону с Балтитьюдом: скажите, пусть поддерживает слухи о моем плане, иначе я разоблачу его. Сегодня же доберитесь до него — он, верно, трясется со страху. Все!
— Бегу приниматься за дело, полковник, — сказал доктор Плениш.
30
Нью-Йоркский кабинет губернатора Близзарда — огромная комната с красным ковром, массивным бюро красного дерева и портретом Джона Куинси Адамса[146] — напоминал Капитолий какого-нибудь штата.
Вызванный губернатором, доктор Плениш увидел перед собой нового человека. Долгое время, пока Том Близзард занимался политикой в своем штате, не гнушаясь ни грабежом, ни насилием, он скрывал, что когда-то с отличием окончил университет. В последние годы, переселившись в Нью-Йорк, он не упускал случая упомянуть о своем образовании и стал членом Национального Клуба Изящных Искусств. Теперь, в январе 1942 года, через пять недель после начала войны, Том Близзард снова щеголял в обличье неотесанного провинциального политика, который молится на силос, презирает грамматику и не прочь сплутовать на выборах.
— Вот что, док, решил я уехать из этого города домой, в Соединенные Штаты Америки. Сейчас как раз время. Думаю, не выступить ли мне противником ФДР[147] на ближайшем национальном съезде демократической партии, а до тех пор посижу тихонько в Васкигане, подожду, пока из меня выветрится дух чеснока и Шанеля.
Голова у меня идет кругом от этого злачного места, и, между прочим, знаете, что особенно претит? Все эти ваши организации и руководящие клики. Половина вас уже год как старается не допустить страну до войны, а другая половина из кожи вон лезет, чтобы втравить ее в войну, и обе стороны точно забыли, что у нас как-никак есть народное представительство, именуемое конгрессом. Знаете, чем все вы, стимулянты и прочие деятели, заняты? Вы стараетесь создать Невидимую Империю, чтобы она оказалась сильнее выборного правительства. Вы хотите переименовать страну в «Акц. О-во Объединенные Штаты Америки».
Вы-то сами, док, человек довольно трезвого ума. Я не верю, что вы верите в свои басни о том, будто мы, политики, сплошь мерзавцы, ренегаты и подхалимы. Вы прекрасно понимаете, черт побери, что даже самого скверного политического деятеля можно обуздать или свалить народным голосованием, а вот вам, самораспятым мессиям, нужно только держаться покрепче за какого-нибудь филантрёпа, и вас ничем не возьмешь. Вы-то еще не совсем свихнулись, вы просто дрожите за свое место, потому и пляшете под дудку Чарли Мардука.
Но вот интересно, замечали вы, что почти все полупочтенные господа стимулянты и зачинщики всяких крестовых походов и возмутители спокойствия, включая коммунистов и их братьев — евангелистов, либо невропаты, либо вовсе помешанные? Конечно, всякий, кто по своей воле суется в политику, немножно ненормальный, но Хьюи Лонг по сравнению с вашими самозваными Галахедами — образец скромности и здравого смысла.
'Гак вот, я, значит, возвращаюсь в провинцию, и притом без промедления. Через месяц буду сидеть, задрав ноги на стол, с каким-нибудь честным политическим мазуриком и забуду вас всех — проповедников без сутан, и профессоров без мантий, и газетчиков, которые не сумели достигнуть степеней и отличий, и женщин, которые достигли их быстрее, чем нужно.
Но мне, возможно, понадобится информация о дальнейших проделках благочестивого Мардука и его распутницы дочки. Мой банк будет раз в месяц высылать вам — на домашний адрес — чек на сто долларов, и я бы попросил вас держать меня в курсе всего, что предпримет эта интересная парочка.
Доктор Плениш вздрогнул.
— Вы хотите сказать, что предлагаете мне шпионить за полковником Мардуком?
. — Вот именно.
— А-ах, так. Ну что ж…
Популяризация Плана Мардука несколько задержалась в связи с тем, что доктора Плеииша осенила блестящая идея. Он придумал, как можно даже в наше беспокойное время обеспечить существование и полезную деятельность ДДД независимо от финансовой конъюнктуры военного времени.
По его наблюдениям, широкие слои граждан вели себя странно и несколько неприлично: они прислушивались к словам президента, верховного командования и авиапромышленников, а не к профессиональным оракулам, хотя бы даже столь вдохновенным, что им платили по 1 250 долларов за лекцию. У полковника Мардука число приглашении на банкеты снизилось так резко, что теперь он принимал их все до одного.
С похвалой на устах и с болью в душе доктор Плениш смотрел, как золотоносные струи, питающие всякую стимулирующую организацию, утекают в военные займы и в пожертвования на Красный Крест — как раз когда ему нужно выплачивать взносы за новый полубриллиантовый и почти сапфировый браслет Пиони. Он не сомневался, что и другие организации этого типа в равной мере страдают малокровием. Почему бы для сокращения расходов не слить их все воедино и не подчинить одному директору-распорядителю — доктору Гидеону Пленишу?
Он чувствовал, что идея его проста и гениальна, и полковник Мардук одобрил ее.
Слово «кооперирование» издавна было одним из ценнейших в словесном арсенале всех стимулирующих организаций, но на практике оно сводилось к нулю, поскольку каждая организация имела платного секретаря и этот секретарь предпочитал не кооперироваться, а получать жалованье. Но теперь, когда молодые секретари уходили в армию, а старшим предлагалось класть зубы на полку, доктор Плениш чувствовал, что может справиться с ними так же легко, как Гитлер справился с Пол ьшей, — только обращение с живой силой тут, разумеется требовалось совсем иное.
Он был хорошо осведомлен. Он давно взял себе за правило выписывать на имя Бонни Попик, Флод Стэнсбери и других своих служащих «литературу» всех новых говорилен по мере их возникновения. Теперь он с помощью Бонни приступил к составлению списка просветительных и благотворительных организаций национального масштаба с центром в Нью-Йорке.
Он поставил точку, когда их набралось две тысячи — все больше таких, в названия которых входили слова Американский, Национальный, Комитет, Институт, Гильдия, Лига или Форум. Даже доктор Плениш не ожидал, что в Америке имеется столько источников света.
Он наметил наугад по одной лиге на каждые сто, вызвал такси, пустился в путь с целью кооперировать все двадцать намеченных объектов — ив тот же день в 4.37 махнул рукой на свою затею.
Начал он с союза «Объединяйтесь!», который занимал одну розовую с золотом комнату в небоскребе Жиро и, как выяснилось, целиком состоял из некой миссис Уиллоби Экк, почтенной дамы лет пятидесяти, но брызжущей энтузиазмом. Ее символ веры заключался в том, что для преодоления зла в мире нужно, чтобы все беспрестанно пожимали всем руки, ловя зазевавшихся где попало: в метро, в театрах, в барах и на молитвенных собраниях. Миссис Экк не скупилась на слова:
— Ротарианские клубы нашли правильное решение — товарищество, но почему это должно стать их особой привилегией? Почему бы и нам, нравственным руководителям, не выражать прикосновением руки, что в каждом человеке мы видим личность? Разрешите, ваше преподобие, вручить вам мою маленькую брошюрку.
Но доктор уже обратился в бегство, даже не сделав попытки кооперировать миссис Уиллоби Экк.
К 4.37 дня сложность и разнообразие общественных организаций вконец обескуражили простодушного доктора. Он обнаружил, что Национальный Американский Эклектический Институт Популяризации Просвещения — это всего-навсего толстый седой джентльмен за небольшим столом в уголке шумного Бюро Машинописи и Стенографии; что соперничающее с ним Общество Гуманитаризации Высшего Образования, хоть и располагает множеством комнат и выпускает множество брошюр, на самом деле является одной из бесчисленных лиг борьбы с профсоюзами, а другой его соперник — Институт Исследовательских Методов в Просвещении — существует лишь в виде телефона № 3 в ряду двенадцати телефонов, расположенных на столе захудалого маклера по продаже недвижимости, каковой стол служит также штаб-квартирой Кладбищенской Корпорации Небесная Гора, издательства Фиговый Листок и Лиги Охраны Брака и Домашнего Очага.
Еще он обнаружил ассоциацию поэтов, возглавляемую дамой, похожей на Эмили Дикинсон,[148] союз драматургов, опекаемый женой страхового агента, и общество Защиты Прав Фермеров-Издольщиков — три организации, до странности смахивавшие на коммунистические.
Доктор Плениш вернулся к себе в контору, оставив мир во власти невежд и филантрёпов. Он был так удручен, что у него даже мелькнула мысль снова поступить па службу, взять место преподавателя в школе, чтобы дать возможность какому-нибудь молодому учителю пойти в армию.
Но, черт возьми, возмутился он, стоит ли быть профессиональным Светочем Трудящихся лишь для того, чтобы самому начать трудиться? Это было бы глупо, все равно как если бы профессиональный миссионер пошел спасаться в миссию к какому-нибудь коллеге, даже не заглянув в кружку с пожертвованиями.
Нет, он продолжит свой поход за кооперирование, но будет вовлекать в него надежных, проверенных стимулянтов-людей, с которыми его связывает личное знакомство.
На следующее утро в 11 часов он явился в приемную Антирасистского Молодежного Комитета Всемирной Кооперации, чтобы повидать ответственного секретаря комитета профессора Гетца Бухвальда.
Ему пришлось подождать, так как профессор был занят с другим старым знакомым, доктором Кристианом Стерном. Приемная была вполне комфортабельная, почти роскошная: красные кожаные кресла, редкие книги на древнееврейском языке и на языках хинди и банту, а на стенах — эффектные групповые снимки молодых людей шестнадцати различных стран — все в трусах и роговых очках и абсолютно неотличимы друг от друга, в особенности китайцы и жители Палестины.
Но вот в приемную вошел военным шагом еще один старый знакомый — капитан 2-го ранга Оррис Голл, директор-распорядитель Чрезвычайного Американского Национального Комитета Антитоталитарной Обороны (ЧАНК), который с того самого дня, как японцы бомбили Пирл-Харбор, не переставал удивленным тоном сообщать американцам, что Адольф Гитлер, в сущности, не друг Америки.
— Кого я вижу! Доктор Плениш! Вот удачно, что я вас здесь встретил! — воскликнул капитан. — Теперь я могу не ездить к вам в контору. Я туда звонил, мне сказали, что вы только что уехали. Знаете, у меня родилась замечательная, просто гениальная идея! Вот слушайте. Мне нет надобности говорить вам, что источники филантропии грозят иссякнуть. Так почему бы нам, людям одной идеологии, не объединиться ради экономии средств и сил? Давайте кооперироваться.
Доктор просиял:
— Нет, подумайте! То самое, что я хотел вам предложить. Ведь вы, вероятно, решили вернуться во флот?
— Да собственно говоря, нет. Там теперь все новые люди, и оттого, что я человек старой школы, они уверяют, что я отстал. Как это вам нравится! Но я перехожу на важную должность в одном из крупнейших предприятий по выпуску военно-морского оборудования — в отдел связи с прессой. Приступаю к работе завтра же.
— Значит, ваш ЧАНК остается без директора? Я с радостью присоединю его…
— Я, собственно, имел в виду другое, доктор. Дело в том, что мою теперешнюю работу будет вести моя жена — она прекрасный администратор, меня за пояс заткнет и к тому же замечательно пишет, вы бы почитали ее романы — очень стоит, — так вот, я и думал, поскольку раше ДДД только дублирует нашу работу, например, по разоблачению таких негодяев, как Зек Биттери — а ведь помните, я первый до него добрался! — ну вот, вам с Мардуком, пожалуй, будет удобно передать ДДД под контроль миссис Голл, а сами вы могли бы… могли бы делать что-нибудь другое, понимаете?
Доктор Пленнш просто задохнулся от подобной наглости, но тут из кабинета профессора Бухвальда вышел доктор Кристиан Стерн. Увидя их, он так и залился:
— Кого я вижу, друзья, вот совпадение! Ведь я сегодня как раз собирался повидать вас обоих, теперь, значит, такси не брать, сплошная экономия, ха-ха! А поговорить я хотел вот о чем: вы знаете, как я загружен работой, не забудьте — на мне еще все заботы по моей церкви, но, видно, в такое напряженное время силы удесятеряются, и я решил, что, пожалуй, сумею объединить ваши ДДД и ЧАНК с АРМК профессора Бухвальда и взять на себя обязанности, или, скажем, функции, ответственного секретаря всего этого винегрета, притом почти без дополнительной оплаты — ну, скажем, три с половиной тысячи сверх того, что я получаю теперь, а у вас, таким образом, будут развязаны руки для военной работы. К сожалению, должен сказать, что Бухвальд не захотел понять мою точку зрения. Он смотрит на дело так, что уж если кооперироваться, то он берет на себя «оперирование», а нам предоставляет «ко». Но вы-то оба — люди деловые и практичные, поэтому… Давайте кооперироваться!
31
Доктор Плениш и другие директора ДДД решили, что раз кучка недоброжелателей мешает им кооперироваться, можно, пожалуй, заняться оказанием помощи правительству. Когда Вашингтон оповестил миллионы читателей газет, что стране нужен металлический лом, бюллетени доктора поспешно довели до сведения нескольких тысяч членов, что ДДД предполагает рекомендовать правительству провести сбор металлолома.
Когда правительству надоело смотреть, как Г. Сандерсон Сандерсон-Смит, не будучи зарегистрированным в качестве иностранного агента, получает большие деньги от немцев, и оно отправило его в федеральную тюрьму, доктор Плениш не преминул выступить с разоблачением мистера Сандерсона Сандерсон-Смита; и кто, как не он, председательствовал на собрании, где доктор Элмер Гентри всенародно обличал своего бывшего дружка Иезекииля Биттери, называя его обманщиком, ренегатом, фашистом, агентом пятой колонны, продажной личностью, тайным провокатором и антисемитом (это произошло всего через каких-нибудь две недели после того, как мистер Биттери отправился разделить тюремное уединение мистера Сандерсон-Смита).
Каждый из этих подвигов вдохновлял доктора Плениша на рассылку десятка писем, подчеркивающих уместность дополнительных взносов в ДДД.
Что касается мероприятий общего характера, то в этот же период доктор Плениш и ДДД организовали большой банкет — не потому, что это имело какой-то смысл, не потому, что кому-либо, за исключением особых любителей публично оголяться, это могло доставить хоть сколько-нибудь удовольствия, но потому, что таков был американский первобытный племенной ритуал, удивительно напоминавший оргии флагеллантов[149] с той только разницей, что флагелланты не имеют деятельного платного директора-распорядителя. В Нью-Йорке в любое время найдется от шестисот до полутора тысяч человек, которых можно уговорить надеть фрак или вечерний туалет и заплатить от трех с половиной до семи с половиной долларов за прескверный обед, во время которого прескверные ораторы будут подниматься и произносить бесконечные речи ни о чем, прокашливаясь между каждым прилагательным и существительным. Можно даже заставить этих людей, переставших быть частными лицами, не только перенести все пытки ораторского пустословия, но и подвергнуться дополнительному мучению в виде официального приема до или после самого обеда, пожимать руки незнакомым и с улыбкой выслушивать их, ни разу не возопив: «Что за чушь вы мелете!»
Нью-Йоркская Главная Улица — это не Бродвей, но длинный, узкий обеденный стол на почетном возвышении, где каждое знакомое — слишком, слишком знакомое лицо смотрит привычным и ненавидящим взглядом на все остальные лица, непременно и неизменно маячащие за этим столом.
Честь организации одного из грандйознейших и скучнейших радений этого рода принадлежала ДДД.
Таким образом, доктору Пленишу было чем похвалиться, когда один из его старых знакомых, некто Хэтч Хыоит, при встрече в каком-то баре вздумал ехидно спросить, каков вклад доктора в военные усилия страны. Упомянутый Хьюит был в форме майора морской пехоты, и когда доктор в виде особой любезности спросил, куда он направляется, невежа в ответ отрезал: «За океан!»-а когда доктор еще более деликатно заметил, что сам подумывает о действующей армии, майор сказал: —!
Но, несмотря на то, что под бременем всех этих трудов доктор терял сон и аппетит, полковнику Мардуку все было мало, и он настаивал, чтобы его имя и его План Вечного Мира еще чаще упоминались в газетных статьях, интервью и радиобеседах, а в самый разгар весны он вдруг потребовал рекламы для своей дочери Уинифрид Хомуорд, Говорящей Женщины.
Полковник Мардук был в этот вечер не в духе. Он чувствовал себя одиноким и непонятым. Он чувствовал свои шестьдесят лет.
Он разругался со своей последней любовницей, поводом к чему послужило его обыкновение звонить ей по телефону в три часа утра. Если при этом оказывалось, что она спит, он сердился на нее за невнимание к его особе; если она не спала, он утверждал, что она принимает в это время другого любовника; если она вовсе не подходила к телефону, он в шесть часов звонил и упрекал ее в том, что из-за нее не спал всю ночь. Последним знаком расположения, который она от него получила, была пощечина.
Он отправился в свой излюбленный охотничий заповедник, бар Викунья, где Парк-авеню встречается с Проспект-парком и куда театральные знаменитости заходят взглянуть на красивых и утонченных гостей из Омахи. Полковник проследовал к стойке с таким видом, словно он тут хозяин. Так оно, впрочем, и было.
Три стакана спустя он почувствовал себя достаточно окрепшим для того, чтобы оглядеться по сторонам. Молодая женщина, сидевшая за столиком с подругой, показалась ему знакомой: стройная, рыженькая, с лицом, заметным, как жемчужная пуговица на черном сукне. Полковник небрежным кивком привел в движение управляющего Викуньи.
— Чья это там — рыжая? — буркнул он.
— Не знаю, полковник. Сейчас же узнаю и доложу Бам, полковник, — заволновался управляющий, менее светская, но более полезная разновидность Шерри Белдена. Пока герой пил четвертый стакан стоя (он считал ниже своего достоинства присаживаться в баре на табурет), управляющий носился по залу, допрашивая официантов, и, наконец, вернулся с горестным стоном: — Я в отчаянии, полковник, но никто не знает, кто она такая.
— Что же, мне на старости лет самому для себя сводником становиться? Власть императора, и евнухов придворных целый штат, а император-то под горностаем голый, nicht wahr?[150]
— Точно так, сэр, — сказал управляющий, который из всего этого понял только слова «штат», «голый» и «nicht wahr».
— Подите к черту! — сказал полковник.
Управляющий повиновался.
Полковник выждал, пока спутница рыжей удалилась в то место, которому беспредельная тактичность современных американских салунов присвоила название «туалетной комнаты», и тогда пошел прямо на предмет своих вожделений, словно один из великих герцогов прошлого или могучий племенной бык. Он без приглашения уселся за ее стблик, а она взирала на него, затаив дыхание, бледная, испуганная и уже побежденная.
— Я вас где-то видел, барышня.
— Да, полковник, вы, наверно, меня видели. Я работаю стенографисткой в ДДД.
— На третьем этаже. Мой начальник — мистер Веспер. Я вас видела, когда вы приходили к доктору.
— К доктору? К доктору? К какому доктору?
— Как это к какому! К доктору Пленишу.
— А! К нему! — Долгая пауза. — Да, конечно, он добрый христианин и выдающийся ученый. Безусловно. Вам, девушка, наверно, нравится у него работать?
— Он очень милый и такой, знаете… такой шутник.
— Ага. Шутник… Вот что, дорогая моя, уберите куда — нибудь эту финтифлюшку, с которой вы сидели, и поедем в Сайринкс пить шампанское. Вон она идет.
Рыженькая отвела подругу в сторону и поговорила с ней. Потом она вернулась пред выпученные глаза полковника с таким виноватым видом, словно сама все это затеяла. Ее очень удивило, что в такси он не стал ее целовать, а только гладил ее руку. В кабаре Сайринкс он никакого шампанского не заказал, а велел подать невинный на вкус напиток, называвшийся «зомбит», и почтительно осведомился, какого она мнения о последней брошюре доктора Плениша «Держитесь за свои доллары», которая ей очень понравилась, хотя она ее не читала. Только когда она разговорилась и совсем освоилась с ним, он спросил, как ее зовут.
— Флод Стэнсбери. Нелепое имя, верно? Мама у меня была с причудами.
— Имя не хуже, чем Мардук, детка.
— Может быть, мне лучше носить фамилию мужа?
— Вы замужем? Вздор! Да вы мне во внучки годитесь!
(Но мысленно он себя поздравил: «меньше хлопот».)
— Нет, я очень даже замужем, полковник. (Он не просил ее называть его «Чарли», это было не в его обычае. Для полковника Мардука интрижка еще не являлась поводом к фамильярности.)
— А кто же этот счастливчик, Флод? Наверно, какой-нибудь смазливый мальчишка?
— Он не мальчишка вовсе. Он довольно старый.
— Ну не такой же старый, как я, например?
— Он казался бы вдвое старше вас, даже если б был вдвое моложе. Вы не думайте, что я жалуюсь. Честное слово, нет! Ничего нет противнее жен, которые вечно стонут, жалуются, верно?
— Верно! — сказал полковник Мардук с искренней убежденностью.
— Я думала, что все будет совсем по-другому — он, знаете, идеалист, ученый и все такое, и он так безумно был в меня влюблен, и — господи, мне до того надоело самой зарабатывать, а он был так влюблен и… Но ничего не вышло. Бедный, он старается, как может, но он такая рыба, и потом он хочет, чтобы я вместе с ним становилась на колени и молилась. Вы только представьте себе!
— Кто же это сокровище?
— Это мой непосредственный начальник — мистер Карлейль Веспер.
— Веспер? А, это служитель в ДДД, то есть, простите, я хотел сказать клерк. Да он же в миллион раз старше вас!
— То-то и есть.
— Да он еще и проповедник какой-то липовый, что ли?
— Не знаю я, кто он такой, только… О полковник!
Он поцеловал ее так беззастенчиво и так явно не считаясь с посетителями, переполнявшими зал, что никто не обратил внимания. И поцелуй полковника был отнюдь не рыбьим.
Он привез ее в помещение, которое ей показалось самыми роскошными покоями, а ему — самой отвратительной нью-йоркской пародией на роскошь; двухкомнатный номер, набитый секретерами из дерева пяти сортов, украшенными резьбой трех видов, кофейными столиками в виде барабанов и креслами, которые представляли комбинацию из кресла, радиоприемника, курительного прибора и этажерки для газет. В ванной было множество всякой косметики и висели нарядные женские ночные рубашки, а в кухне рядом с обыкновенным здоровым виски имелись изысканные французские и немецкие ликеры.
Молодая женщина расплакалась у полковника на груди, но то не были слезы отчаяния.
Когда он в третий раз встретился с Флод в баре Викунья, у него мелькнула мысль, не шпионит ли за ними сидящий у стойки человек с приплюснутым носом, но пожатие мягкой молодой руки заставило его забыть об этом. Мужа нет дома, сказала Флод, он ушел на какое — то дурацкое вечернее заседание… Полковник заранее позаботился о том, чтобы у Карлейля Веспера в этот вечер было какое-то дурацкое заседание.
Он хотел побывать у Флод дома, посмотреть, как она живет, в частности проверить ее гардероб на предмет пополнения.
Когда они вошли в убогую квартирку на шестом этаже без лифта, неподалеку от Восточной реки, сердце у него сжалось от сострадания. Здесь даже не пахло дешевой косметикой, как он ожидал, не стояло даже ни одной золоченой корзинки, перевязанной розовой лентой! Гостиная была заставлена старыми серыми книгами, а между двумя узкими закопченными окнами, выходившими во двор, помещался низенький аналой.
Он пробурчал:
— Ну и трущоба! Пойди сюда скорей, я тебе кое — что дам в виде возмещения.
Целуя Флод, он через ее плечо увидел, как в дверях спальни медленно и бесшумно возник человек, похожий на захолустного проповедника, худой, изжелта-бледный, с жидкими вислыми усами.
Это был Карлейль Веспер. Он держал в руках старомодную бритву, лезвие которой зловеще блестело даже при скудном вечернем освещении. Рот у него был открыт и губы дрожали.
Как-то в одном гарлемском притоне на глазах у полковника бритвой зарезали человека, но сейчас он с интересом отметил, что не чувствует страха. Неторопливым движением он повернул Флод так, что она оказалась позади него. И тут он рассмеялся.
Действуя уверенно, методично, но быстро, человек, стоявший за окном на пожарной лестнице, скользнул через подоконник, спрыгнул в комнату и схватил Веспера сзади. Это был тот самый, с приплюснутым носом, в котором полковник заподозрил сыщика.
Полковник дал Флод триста долларов, больше даже, чем требовалось на дорогу домой, в Стэнсбери Сентер (прадед Флод был основателем поселка, дед — бездельником, отец — пьяницей). Он помог ей уложить два ее чемодана.
Детектив между тем внушал Карлейлю Весперу, что ему необходимо усвоить одну истину: если он не будет держать язык за зубами, его убыот.
— Понятно? У-бьют! — весело повторил детектив и стал отгибать Весперу средний палец на левой руке до тех пор, пока Веспер не закричал:
— Не надо, ой, не надо! Я буду молчать. Поймите, я сам не хочу причинить ей больше зла, чем уже причинил.
Когда они уходили, он лежал на своей постели и рыдал.
Полковник сказал:
— Мозгляк несчастный! Кстати, приятель, как лучше всего убить человека?
— Понятия не имею. Я просто читал про это в детективных романах, так же как и вы. Люблю хороший детективный роман, хотя хороший ковбойский, пожалуй, даже лучше. И откуда у людей выдумка берется на все эти вещи?
Когда они уже сидели в задней комнате ближайшего салуна, полковник мягко начал:
— Ну-с, итак. Кто вас приставил ко мне и сколько вы хотите?
— Да что же, полковник, обманывать вас не стоит. Дорого я с вас не спрошу, две-три сотни хватит, потому что послала меня всего-навсего ваша дочка, миссис Хомуорд.
— О-о… Уинифрид… Добрая девочка… Фантазерка.
— Что верно, то верно. Но и язык же у нее! Можно чеком, полковник. Надеюсь, вы не аннулируете его задним числом.
— Пока не собираюсь.
— Ну то-то.
Оба деловых человека дружно захохотали.
Когда чей-то незнакомый голос по телефону сообщил доктору Пленишу, что мистер Карлейль Веспер вынужден прекратить свои служебные занятия и не будет ли доктор любезен распорядиться, чтобы его вещи переслали по следующему адресу, доктор Плениш был крайне недоволен.
В столе у Веспера доктор и Бон ни Попик нашли маленький томик «Imitatio Christi»[151] в кожаном переплете.
Добрый доктор укоризненно качал головой.
— Ну, подумайте только, у человека нет ни цента за душой, а он идет и тратит деньги на такой дорогостоящий хлам! При его-то жалованье! А самое главное, с его стороны очень неосмотрительно было жениться на этой рыжей Стэнсбери. Если б он у меня спросил, я бы ему отсоветовал. Я всегда готов был помочь ему — советом, конечно, — но, может быть, вы думаете, он это ценил? Вот теперь эти милые супруги будут колесить в свое удовольствие по всей стране и даже не подумают о том, в какое положение они меня поставили, бросив вдруг одного, когда у меня столько работы. Недаром я всегда говорил: скудость воображения, неблагодарность и вероломство — преступления даже более тяжкие, чем… чем…
— Баратрия, — подсказала Бонни.
— Что? — переспросил доктор Плениш.
Полковник пригласил дочь к себе в контору распить бутылочку.
— Я всегда говорила, что у тебя премиленькое гнездышко, — сказала она.
— С каких это пор контора называется «гнездышком»?
Она залилась серебристо-звонким смехом — во всяком случае, она предполагала, что смех у нее серебристо-звонкий, как писали газетные репортеры.
— В самом деле. Ах, какая я глупая!
— Что это ты сегодня точно миллионерша с Парк — авеню? Или разыгрываешь английскую леди? Наверно, шаталась где-нибудь с новым любовником — может, даже с собственным мужем?
— Милый папа, что означают все эти грубости, к чему ты клонишь?
— Какого черта ты меня вздумала ловить? Не проще ли было прямо прийти и спросить о моих делах, если они тебя интересуют? Я тебе гораздо больше могу рассказать, чем твой инспектор Скинк из агентства О Пук.
Взгляд у нее стал стеклянный и непроницаемый.
— Теперь деньги ему плачу я. Но что же все-таки у тебя на уме, доченька? Хочешь раздобыть компрометирующий материал, чтобы можно было наступить на меня и лезть выше, как ты всю жизнь делала с другими людьми, начиная с подруг по школе мисс Митч и кончая мужем? А то уж не подумываешь ли ты об отцеубийстве?
— Знаешь, папа, когда ты заводишь эти нелепые, мелодраматические разговоры, я с трудом заставляю себя помнить, что ты мне отец — как будто. Да, я старалась быть в курсе твоих похождений. Я должна охранять тебя от тебя самого, я должна знать все твои очередные проявления ребячества и каждый раз решать, доводить ли их до сведения тех людей, которым приходится иметь с тобой дело. Дорогой мой папа, если бы ты мог себе представить, сколько сил я вынуждена тратить на то, чтобы удержать при тебе твоих старых друзей, даже твоего доктора…
— Ты вынуждена?!.
— Если б ты знал, сколько раз мне приходилось выслушивать, что им надоели твои вечные попойки, твои сомнительные похождения, твои разговоры, разговоры, разговоры без конца об иностранных делах, в которых ты ничего не понимаешь…
— Мои разговоры?!.
— Но я спорила с ними, я их уговаривала, просила не забывать, что при всех твоих старческих причудах…
— Старческих?!.
— …у тебя все же благородное сердце и неплохая голова, по крайней мере для коммерческих дел. Это я-то наступаю на людей? Я стараюсь лезть выше? Господи, да мое самое большое желание в жизни — быть любящей женой и дочерью, сидеть дома и все приносить в жертву ради блага мужа и отца, и если я стала проявлять какой-то интерес к общественной деятельности, так только потому, что не могла спокойно смотреть, как вы, двое взрослых мужчин, строите из себя пьяных шутов. Я просто больше не в силах была сидеть дома и ничего не делать. И только своими непрестанными трудами и стараниями я уберегла вас обоих от тюрьмы или лечебницы для алкоголиков; что же касается тебя, то предупреждаю, что отныне я полностью беру на себя заботу о твоей политической карьере. Полностью!
На столе у полковника зазвонил телефон, соединенный с его секретарем. Трубку сняла Уинифрид и сейчас же зажурчала:
— Да, да. Пусть войдет.
Она повернулась к полковнику, тая в улыбке:
— Это репортер из «Ивэнтс». Он хочет, чтобы ты высказался о психологии японцев.
Вошел молодой человек, снисходительно кивнул Уинифрид и обратился к полковнику:
— Патрон думает, что вы можете рассказать много интересного о Японии. Он говорит, что несколько лет назад ваша фирма имела крупные заказы от японского правительства.
Полковник пыхтел:
— Вздор, вздор! Так, пустяки, мелкая торговая реклама, и в наше агентство она попала по ошибке — упущение одного низшего служащего — я его уволил, как только узнал, что он принял этот гнусный заказ!
Уинифрид Хомуорд, изящно играя папироской и эффектными модуляциями в голосе, перехватила внимание репортера.
— Вы совершенно правильно сделали, что обратились к полковнику. Хоть он мне и отец, но я открыто заявляю, что никто не знает Японии и путей к ее разгрому так, как полковник, вооруженный двойным опытом солдата и администратора. Вот вам наша — моя и его — точка зрения. Если говорить о наикратчайшем пути от Нью-Йорка или Детройта, или Питсбурга, или Вашингтона, или Сент-Пола, или, наконец, от Торонто до Токио, Кобе или Иокогамы, или, что особенно важно, до Кореи, где, по нашим сведениям, местное население готово восстать против своих японских поработителей…
Полковник Мардук незаметно вышел из комнаты и вернулся лишь тогда, когда это увлекательное интервью с ним было закончено.
• • • Уинифрид говорила Пиони:
— Все мужчины одинаковы, даже самые даровитые — такие, как мой отец, ваш муж или мой муж; у них могут быть самые лучшие намерения, но они совершенно лишены чувства порядка и подлинной человечности — не то, что мы, женщины. Вероятно, в нас это чувство воспитывается тем, что мы ведем хозяйство и матерински заботимся о них.
В Америке школьное обучение и надзор за чистотой языка и нравов всегда были нашим, женским, делом, но сейчас, когда столько мужчин ушло на войну, нам представляется возможность распространить свое влияние на более высокие сферы. На следующих выборах я думаю выставить свою кандидатуру в муниципалитет Нью-Йорка и не вижу, отчего бы впоследствии мне не сделаться губернатором. Кроме того, я хочу основать самостоятельную организацию типа ДДД, но более тесно связанную с повседневной политикой. Я считаю, что ко времени заключения мира женщины должны находиться у власти и диктовать условия капитуляции. Мы ведь гораздо менее чувствительны, чем мужчины.
Вы одна, Пиони, можете спасти меня. Я хочу, чтобы вы немедленно поступили в коммерческий колледж, изучили машинопись и стенографию и подготовились к тому, чтобы возглавить штат секретарей, который мне придется себе завести. Я буду вносить за вас плату и, кроме того, в течение всего курса выдавать вам по двадцать долларов в неделю стипендии. Как, согласны?
— Чудно! — сказала Пиони.
Пиони в Нью-Йорке скучала. Магазины, кино, выговоры дочке, партия в бридж со словоохотливой свояченицей Криса Стерна, еда и непомерно долгие часы сна — все это кое-как заполняло двадцать четыре часа суток, но встречаться с выдающимися личностями, о которых постоянно рассказывал доктор Плениш, ей по — прежнему не удавалось. Дошло до того, что она даже стала ходить на лекции по экономике и истории в Колумбийский университет, пропуская лишь немногим больше половины учебных часов.
Коммерческий колледж принес ей радости, которых она не знала все последние месяцы. Пиони было уже тридцать девять, но она не чувствовала никакой разницы между собой и студенческой молодежью — девицами двадцати двух лет и юношами допризывного возраста; вместе с ними она хихикала в коридорах, наслаждаясь образцами изысканной беседы, вроде: «Ну, как, все еще не вылезли из делопроизводства? Ой, видали вы, какую этот старый чурбан скорчил рожу, когда я на стенографин правильно написала «февраль»? Спрашиваешь! На все сто!»
Наконец-то она была в своей стихии: она нашла тот веселый столичный Нью-Йорк, в существовании которого не сомневалась все это время; и когда приехавший ненадолго Джордж Райот позвонил ей и шепнул, что они непременно должны опять встретиться в скучном Хекс — отеле, она отказалась, потому что спешила на вечеринку к двадцатичетырехлетней мисс Тедди Клутц, самой молодой и самой веселой преподавательнице Коммерческого Колледжа, Подготовка Секретарского и Административного Персонала, Работа по Окончании Обеспечивается.
Каждый вечер Пиони являлась в контору Уинифрид Хомуорд, смешивала коктейли или помогала великой деятельнице в начинаниях, чересчур деликатных для того, чтобы их можно было доверить рядовым сотрудникам журнала «Смирно!», например, в составлении исчерпывающего списка влиятельных женщин Америки, которые, сами того не зная, должны были образовать в будущем Легион Черноблузочниц под командой Уинифрид Хомуорд.
Ни полковнику Мардуку, ни беззаботному Дьякону Уэйфишу, ни тем более вечно озабоченному доктору Пленишу не жилось никогда в невидимой империи Пропаганды так весело, как Пиони Плениш в.
32
Доктора сильно встревожило письмо, которое мистер Джонсон из Миннеаполиса прислал ему из учебного военно-морского лагеря на Великих озерах.
«Я получил приглашение быть почетным гостем (не совсем понимаю, что это значит) на обеде, посвященном Простому Человеку, который должен состояться в вашем поистине прекрасном Гладиола-отеле с участием трех писателей, одного художника-портретиста и одного олдермена, по 3 долл. 50 цент, с прибора — цена вполне доступная. В списке почетных гостей значится много и других имен, но меня смущает, что составители, очевидно, позабыли о Простом Человеке.
Может быть, мне прислать вам кое-кого? Сам я не могу приехать, потому что нахожусь на военной службе, но в Миннесоте у меня много знакомых среди Простых Людей: один скромный фермер, который, кстати сказать, приходится мне дядей;'врач, большой любитель охоты на уток, мой водопроводчик, а еще — один химик, который учился в Йеле, что, надо полагать, дает ему право называться Простым Человеком, поскольку этот университет основан для распространения практических знаний, необходимых Простому Человеку. Или, по-вашему, они могут обидеться, если усмотрят в этом намек на то, что они настолько простые и темные, что либеральные писатели вынуждены устраивать для них обеды, чтобы поднять их до того уровня, где их может заметить миссис Хомуорд?»
Он вдруг почувствовал, что устал, что ему нравится мистер Джонсон из Миннеаполиса и что он согласен с ним наперекор всем стимулянтам и всем этическим восторгам своей преображенной Пиони.
Позже пришло еще одно письмо — из Кинникиника, от ректора Т. Остина Булла, который приглашал его выступить на выпускном торжестве колледжа в начале мая.
«Если удастся выкроить время, приезжайте на несколько деньков, отдохнете как следует. Сейчас здесь хорошо — распускается сирень, и всходы овса так красиво зеленеют на фоне черной земли».
Вновь родившийся молодой Гид Плениш ликовал: «Поеду, поеду и, может быть, никогда не вернусь!»
Нет, сказала Пиони, и думать нечего; не может она сейчас бросить стенографию, чтобы ехать на какой-то Средний Запад, и к тому же едва ли Булл и его жена и эта Текла Шаум, бывшая пассия Гида, жаждут ее видеть, и после смерти родителей она растеряла всех своих скучных знакомых на этом скучнейшем Среднем Западе… Ну, и вообще, не для того она заказывала себе прелестные новые платья, да еще платила за них (частично) из собственного жалованья, чтобы красоваться в них перед какими-то фермерами!
Но она заявила, что до его отъезда они должны как следует повеселиться, устроить себе настоящий нью — йоркский вечер, и желание ее было исполнено.
Чтобы вовремя поспеть домой, доктор Плениш за тридцать восемь минут посетил пятерых жертвователей, проехав в общей сложности 474 этажа в скоростных лифтах, где незнакомые грубые люди норовили поддать ему плечом в подбородок; он поехал домой в такси и застрял в заторе на перекрестке; он и его жена надели дорогие вечерние костюмы, которые покажутся очень смешными тем, кто в 1982 году увидит их на картинках в учебниках истории; они снова взяли такси и снова застряли на перекрестке в районе театров, пропахшем бензинным перегаром и итальянской кухней; заплатили за эту неприятную поездку сумму, достаточную, чтобы выкупить из плена мелкого князька; протиснулись мимо швейцара, в чьем взгляде читалось: «А на чай?»; втиснулись в ресторан; унизительно долго ждали, когда их соблаговолит заметить некий член фашистской партии, который обучался диктаторским приемам, состоя на должности метрдотеля; долго ждали, когда девушка, явно настроенная против посетителей, соизволит принять у доктора шляпу; забились в щель между стеной и столиком; не чувствуя голода, выбрали в меню одно из многих куриных блюд; долго ждали официанта; вполголоса сообщили свои пожелания официанту — швейцарскому немцу, настроенному не только против посетителей, но и против человечества в целом; ели редиску, сельдерей, маслины, хлеб, кусочки льда и цветы из вазы, пока им не расхотелось курицы, а потом ели курицу, пока не расхотелось профитролей, а потом ели профитроли и слушали, как за другим столом пререкаются три женщины — дельца, все в костюмах мужского покроя и все пьяные; ждали счета; ждали сдачи; дали на чай вдобавок к сумме счета, достаточной для выкупа довольно солидного князя; выбрались из лабиринта столиков; ждали девушку-гардеробщицу, дали ей пятнадцать центов за хранение десятицентовой шляпы и удостоились от нее злобного взгляда за то, что не дали двадцать пять; ждали, пока швейцар позовет такси; удостоились от него злобного взгляда за то, что не дали ему на чай; дали ему на чай, еще раз застряли на перекрестке в такси, на одну десятую заваленном окурками и трупами спичек; сообразили, что гораздо быстрее добрались бы в театр пешком; вылезли из такси у подъезда театра; удостоились злобного, нахального и уничтожающе высокомерного взгляда от театрального швейцара, который успел оглядеть их с головы до ног, пока доктор платил выкуп шоферу такси, и презрительно пробормотал: «Провинция!»; предъявили билеты, за которые доктор еще утром заплатил сумму, достаточную для выкупа двух князьков и одного короля; проползли в зрительный зал в хвосте длинной вереницы паралитиков и уселись на свои места, где доктор Плениш, обессилев, впал в забытье и только в начале второго действия очнулся и вспомнил, что уже смотрел эту пьесу.
Затем они вернулись к себе на Чарльз-стрит и не могли уснуть, потому что в доме напротив орало радио, а наутро доктор в самом радужном настроении выехал в Кинникиник, к.
Когда-то до обрыва над озером Элизабет было полтора часа ходьбы по песчаной дороге. Теперь туда вело новое гудронированное шоссе, и поездка от колледжа до озера занимала восемь минут.
На месте домика Придморов, где он провел свою первую ночь с Пиони, стояло деревянное, на каменном фундаменте шалэ, в котором Текла с отцом жили круглый год; а немного поодаль, отделенный от него ярко-зеленой лужайкой, высился поместительный загородный дом ректора Булла, у которого остановился доктор Плениш.
Наступил день выпуска, и оба они уже облачились в свои докторские мантии, мрачные, почти монашеские и очень парадные. Но вся торжественность была нарушена неожиданным происшествием.
Рыжий котенок младшей внучки Булла забрался на дерево, а слезть у него не хватало смелости. Поднялся переполох. Ректор в развевающейся мантии пытался концом бамбуковой удочки подтолкнуть котенка и заставить его спуститься пониже. Все четверо внучат с визгом прыгали вокруг дерева; обе дочери ректора и Текла Шаум со своего крыльца, добродушно улыбаясь, наблюдали эту картину, а из окон второго этажа миссис Булл и молоденькая горничная-негритянка отпускали шутливые эамечания. Доктор Плениш взволнованно помогал советами ректору Буллу, который по-прежнему напоминал лощеного, кудрявого актера, но теперь это был очень старый актер, добрый и снисходительный. С озера тянуло свежим ветерком, и крошечные волны, пробравшись между сухими камышами, набегали на берег.
Внезапно доктор Плениш ощутил острую тоску по этому самому месту, где он сейчас находился; внезапно ему стала невыносима даже мысль о возвращении в огромный город, где каждый час рождал чувство никчемности и каждый год приносил новые поражения.
Текла крикнула:
— Вот вам корзинка! Положите в нее кусок рыбы и привяжите к палке — котенок и сползет в нее!
Дети плясали и хлопали в ладоши, глядя, как корзина поднимается к котенку, но тот понюхал ее, скорчил гримасу и, отвернувшись, стал внимательно разглядывать листья на дереве.
— Но это очень серьезно! — воскликнул доктор Плениш.
— Чрезвычайно серьезно. Заседание может подождать. — согласился с ним ректор.
На горизонте возник сосед-фермер. Он нес на плече длинную лестницу и еще издали кричал:
— Умные-то вы умные, а смекалки у вас нет. Хорошо, что я не учился в колледже. Ну-ка, где эта самая кошка?
— Правильно, — одобрили оба доктора.
Когда фермер полез на лестницу, котенок сердито зашипел, а дети запели: «Где эта кошка; поищи немножко, посади в лукошко!»
Потом Гекла сказала помолодевшему Гидеону:
— Вот теперь вы молодец. Это первый раз, что я вас вижу естественным, ненапряженным. Нет, видно, сердцем вы по-прежнему здесь, в нашей глуши.
Он смущенно посмотрел на нее, тоскуя по ней даже сейчас, когда стоял с нею рядом. Ему показалось, что Текла в пятьдесят четыре года, с седой головой, моложе и жизнерадостнее, чем Пиони, которой нет еще и сорока.
И только тут он вспомнил и спросил о докторе Эдит Минтон, когда-то блиставшей такой холодной красотой. Оказалось, что она уже семь лет как умерла. Где-то здесь поблизости она лежала в земле совсем одна.
Ему хотелось отменить свое старательно подготовленное выступление. Он видел студентов в военной форме, видел студенток с папиросками, в носочках и чувствовал, что этот храм науки утерял свою былую чопорность, но зато непомерно обогатился здравым смыслом. Шальные выходки Бурливой Молодежи двадцатых годов были всего лишь рисовкой — прилично вести себя считалось тогда неприличным. Нынешняя молодежь, казалось ему, так занята, что у нее нет — или почти нет — времени рисоваться.
Не без внутренней дрожи он думал, как поднимется с места и торжественно предложит аудитории — этой шайке востроглазых интеллектуальных разбойников — вглядеться в нечто совершенно новое, именуемое Демократией.
Ему уже приходилось замечать в других колледжах, что молодежь утратила почтение к громким фразам, но по-настоящему он понял это только сейчас, когда возвратился домой; и хотя его слушала тысяча с лишним студентов, он не мог заставить себя разглагольствовать больше двадцати минут. С начала до конца его торжественной речи ему, точно звон в ушах, не давал покоя вопрос: «Может, мне не поучать их надо насчет свободы и мужества, а самому у них поучиться?»
Обычный апломб отчасти вернулся к нему только вечером, когда в кругу старых знакомых, собравшихся у ректора, его стали почтительно-довольно почтительно — расспрашивать о личной жизни, симпатиях и антипатиях таких Великих Людей, как губернатор Близзард, сенатор Балтитьюд, Майло Сэмфайр и в первую очередь оглушительная, радиогеничная Уинифрид Мардук Хомуорд.
— Прекрасные, благородные люди, — вздохнул он, — а между тем вы не поверите, как часто меня тянет от них сюда, в этот тихий академический мирок.
— Это потому, что вы давно у нас не были. Вы забываете, что мы здесь тоже по мере сил выпускаем немало шарлатанов, — сказал старик Икинс, заслуженный профессор в отставке.
Доктор Плениш не был даже уверен, произвел ли он на Икинса впечатление своей секретной информацией о новых самолетах, проектируемых для английской армии.
«Эти старики черт знает до чего осведомлены, — думал он с тревогой. — Они, видно, много читают и разбираются в европейских делах, чего нельзя сказать обо мне!»
Только лицо мистера Придмора — председателя попечительского совета колледжа — выражало нескрываемое восхищение.
Доктор Плениш порадовался: «Вот на кого я могу опереться. Хорошо бы нам снова быть соседями. И еще Текла!»
Он заметил, что обращения «доктор» и «профессор» стали выходить здесь из моды. Даже старый формалист Остин Булл охотнее откликался на простое обращение «мистер». Сначала доктор Плениш встревожился. Уж не значит ли это, что страна восстает против своих почтенных титулованных авторитетов? А потом ему подумалось, что не так уж плохо было бы превратиться из «доктора» просто в «мистера Плениша».
И хоть разок сказать полковнику: «Послушайте вы, Мардук!»
Когда ученая братия разошлась и Текла, неожиданно поцеловав его, убежала домой, Остин Булл потрепал его по плечу и заговорил медленно и серьезно:
— Гид, будущей весной я ухожу в отставку. Как вы относитесь к мысли стать ректором Кинникиника? Помнится, когда вы уезжали отсюда, я позволил себе ряд необдуманных замечаний по вашему адресу. Теперь я понимаю, что во мне говорила зависть. Я очень хотел бы видеть вас ректором и знаю, что часть попечителей разделяет мое мнение. Во всяком случае, шансы у вас есть. Что вы скажете?
— Это очень великодушно с вашей стороны. Спасибо. Я… я об этом подумаю.
— Можете подождать с решением до осени.
— Я подумаю, соберусь с мыслями… мистер Булл!
А собраться с мыслями ему было необходимо, потому что перед его глазами одновременно возникли котенок на высоком клене, недоверчивая улыбка голоногой студентки, грозно сдвинутые брови полковника Мардука, маленький кабинет ректора Булла в клубах сигарного дыма, восторженная двадцатипятитысячная аудитория в Мэднсон-сквер-гарден — и губы Пиони, умевшие и просить поцелуя и сжиматься от злобы.
Выйдя на веранду, он посмотрел влево и увидел домик, когда-то стоявший здесь, увидел призрак девушки, что так весело прибежала ночью к молодому профессору. В то время она еще не приобщилась к миру славы и филантрёпства. Она была такая милая!
Теперь он одинок. Нет, что-то предпринять необходимо.
Однажды некий человек, приговоренный к смерти, стал думать обо всех местах, где ему хотелось бы снова побывать, а в жизни он много путешествовал и знал в этом толк, и вот он выбирал, куда поехать — на Капри или в Калифорнию, и рисовал себе то мыс Лобос, то Кармел, и высчитывал, что если бы продать несколько акций, ему хватило бы денег на дорогу, но потом он вспомнил, что бензин теперь нормирован, а кроме того, завтра в восемь часов утра его повесят.
Доктор Плениш сидел в своей комнате и думал, что, став ректором Кинникиника, он будет зарабатывать меньше, чем в ДДД; что уже не придется ездить в отдельном купе спального вагона, где есть своя уборная и можно раздеться стоя, как подобает почтенному человеку преклонных лет, и где, чтобы отдохнуть после утомительного выступления, можно закурить сигару и любоваться колечками дыма. Смущало и то обстоятельство, что он перезабыл все, что знал когда-то в области литературы, истории и других наук, для преподавания которых недостаточно возглашать «Наша святая обязанность — познать бремя и тяготы борьбы», а нужно в дополнение к дару красноречия оперировать датами и фактами.
Считается, что заниматься всеми учебными делами колледжа ректор предоставляет декану, а на себя берет более высокую задачу — собирать деньги с окончивших. Но и ректор не всегда гарантирован от соприкосновения с любознательными студентами.
Тут он одернул себя. Вот и хорошо. Это вызов, и он его примет. Он снова возьмется за книги. Разыщет свои старые учебники и будет их читать. Ему всего пятьдесят лет. Через пять лет он снова будет знать столько же — почти — сколько любой студент.
Все равно попробовать нужно. Сюсюканье Уэйфиша, кривлянье Шерри Белдена, тоталитарные доктрины Мардука, скоростные лифты, набитые острыми, энергичными локтями, филантрёпы, стимулянты, нескончаемые дебаты об Условиях и Положениях и Уинифрид Хомуорд, Говорящая Женщина — разве это жизнь?
Он прошелся по городку, увидел коттедж, где протекли первые годы их совместной жизни с Пиони. 1 огда его белые стены сверкали чистотой. Теперь в нем жил преподаватель, у которого было пятеро детей и больная жена; домик стоял грязный и унылый, словно заброшенный сюда из трущоб фабричного города.
Доктора Плениша охватило острое желание заново покрасить его; но как ни старался он вызвать на порог образ молодой Пиони, дом по-прежнему дразнил его пустотой и молчанием.
Он побрел в колледж, заглянул в кабинет декана — свои прежние владения. Новый декан сказал:
— Простите, мистер Плениш, я страшно занят. Если вы можете подождать, я буду рад побеседовать с вами.
Мистер Плениш не мог ждать, не мог оставаться в этой комнате.
Он вернулся на озеро и сел завтракать вдвоем с Теклой на веранде над синей водой, под серебристыми березами.
— Гид, милый, вы мне не нравитесь. Не сердитесь, но у вас какой-то усталый вид. Я теперь бессильна что — нибудь для вас сделать, но кто еще любит вас так давно и так преданно, как я?
— Я это знаю.
— И меня даже не очень расстраивает, что вы стали таким бюрократом.
— Я?
— Мы с папой все мечтаем, как вы займете пост ректора, приедете сюда и опять будете нашим соседом.
— Раз я бюрократ…
— А разве нет?
— Не говорите гадостей! Конечно, нет! Ну… а если и так?
— О, мне-то все равно. По мне — будьте хоть убийцей. Я вас до сих пор люблю, почему — сама не знаю.
Она вопросительно посмотрела на него, но он думал о том, что, если не считать Кэрри, он на всем свете любит одну Пиони, что его даже сейчас мучительно тянет к ней и что единственную добродетель, какую он за собой знал, — его верность Пиони — судьба обратила на его же погибель.
На прощание он поцеловал Теклу до того братским поцелуем, что самому стало противно.
Молодой человек, сидевший напротив него в вагоне — ресторане нью-йоркского поезда, был в форме военного моряка, но доктор Плениш почуял в нем педагога.
Доктор мимоходом упомянул, что торжества в колледже прошли очень оживленно… что? Да, он сам тоже преподает в колледже.
Молодой человек сказал бодро:
— Я в феврале получил степень доктора философии за диссертацию на экономическую тему, а потом пошел в армию — спасать свои либеральные убеждения.
— ?
— На мне лежала организация в университете публичных лекций, и всякие пропагандистские общества усиленно навязывали мне лекторов, самых что ни на есть патентованных, по части Справедливости, Политической Честности и Любви к Китайцам, а меня этот товар мало устраивал. Потом слушал я по радио одного шарлатана, который называет себя Чарльз Б. Мардук, он нападал на фашизм так истерически и так явно давал понять, что на всем свете только он один и ругает Гитлера, что я почувствовал: еще немного, и из меня получится профашист, антисемит, антикитаец, антифеминист, анти-все то, во что я всю жизнь верил. Так я решил: пока не поздно, лучше мне надеть военную форму и убраться подальше от всякой организованной добродетели.
— Ну что вы, что вы! — возразил доктор. — Возможно, среди наших национальных организаций есть и ненужные и даже преследующие корыстные цели, но в большинстве своем они, бесспорно, привлекают внимание общества к насущным задачам, которые правительство — не по злому умыслу, а просто из-за своей неповоротливости — не может разрешать достаточно быстро.
— Возможно. Раньше я считал, что если организация создается для выполнения того или иного определенного общественного дела — значит, она чего-то стоит; а если ее основывает какой-нибудь деляга, который попросту гонится за карьерой и жалованьем, — значит, она не стоит ничего. Но выходит, что эта теория неверна. Возьмите, к примеру, Антисалунную Лигу. Надо полагать, что у ее основателей были вполне похвальные намерения, не говоря уже о колоссальных средствах, а что получилось? Самое понятие трезвости опорочено на сто лет вперед. В такой стране, как наша, я до смерти боюсь всякой частной организации, которая может тратить тысячи долларов на пропаганду и убеждать тысячи людей диктовать своим конгрессменам тот образ действий, какой желателен данной частной организации. Очень уж это смахивает на частные вооруженные отряды — вроде Коричневых Рубашек.
— Это весьма интересно, — сказал доктор Плениш. — Я уверен, что руководители наших крупных организаций были бы крайне огорчены, если б узнали, что вы решили отказать им в поддержке. Спокойной ночи!
Но именно потому, что этот молодой человек был ему незнаком, он чувствовал себя в своем уютном купе так, словно стоял голый на холодном ветру, дующем с миллиона неведомых айсбергов.
Он мучился: «Нет, я должен уехать в Кинникиник. Начать все сначала».
Если он это сделает, вернет ли он себе любовь и доверие собственной дочери?
Нет, она ушла из родного дома. Пусть современная молодая женщина и умна, и сильна, и добродетельна по-своему, ей, так же как Пиони, необходимы шум, разговоры, суета. Она услышала новый призыв: «Иди на Восток, Молодая Женщина, и расти вместе со сталью, бетоном и электроволнами».
Если бы вместо кричащего честолюбия Пиони и самодовольной праведности Кэрри он сберег привязанность Геклы, может, он теперь был бы человеком, а не директором-распорядителем?
«Нет, нет, не пойми меня превратно, — сказал он своему двойнику. — Я говорю вовсе не об этом-ну, не о любви с Теклой, но если бы опять жить с ней рядом и быть друзьями».
И он этого добьется. Он проявит мужество и силу волн, и настоит на своем, и уедет домой в Кинникиник.
Когда он вошел в квартиру на Чарльз-стрит, Пиони воскликнула:
— Как я рада, что ты вернулся! Я по тебе соскучилась, хотя и была страшно занята. Как там, в Кинникинике? Очень тебе надоели эти провинциалы? Ну, ничего, зато мы сегодня как следует повеселимся, устроим себе настоящий нью-йоркский вечер.
Он ни словом не обмолвился о должности ректора и об отъезде в Кинникиник.
По возвращении в Нью-Йорк доктор Плениш много раз выступал с речами, и как-то раз его речь слышал один тихий, незаметный человек, и этот незаметный человек задумался.
Он думал о том, что самая серьезная опасность, грозящая гибелью американской демократии, заключается в истерической деловитости, с которой всевозможные организации и группы стремятся захватить для себя все блага этой демократии: фермерский блок, женский блок, ассоциации промышленников, ассоциации потребителей, ассоциации баров, ассоциации протестантского духовенства, медицинские ассоциации, профсоюзные организации, антипрофсоюзные организации, коммунистическая партия и ура-патриотические ассоциации. Аптеки объединяются, чтобы добиться закона о запрещении продавать в поездах аспирин. Ирландские католики голосуют не как американцы, а как ирландцы и как католики, шведские лютеране голосуют как шведские лютеране, арканзасские баптисты голосуют как неандертальцы.
Католики запрещают епископалам агитировать за ограничение рождаемости, методисты запрещают унитаиям пить дедовский ром, и все эти монополии без труда затирают истинно верующих христиан.
Банды фашистов травят евреев — извечный дебют всякого массового безумия, — пока евреи не оказываются вынужденными тоже объединяться в союзы, и эти союзы становятся новым синедрионом для суда над теми евреями, которые не хотят подчиняться новому закону Моисея.
Спаси, господи, бедную Америку, думал этот незаметный человек, от всех фанатиков и профессиональных идеалистов, от красноречивых женщин и великодушных жертвователей, и администраторов, когда-то бывших проповедниками, и прирожденных руководителей, и газетных редакторов наполеоновского склада, и всех, кто любит говорить по междугородному телефону и писать проникновенные циркуляры.
33
Кэрри воскликнула:
— Получила работу! Чертежницей на авиазавод в Хартфорде. Сегодня вечером уезжаю.
Пиони разворчалась:
— Не выдержать тебе этой жизни, еще если бы в Нью-Йорке…
— Мальчики мои все равно в армии, так что в Нью — Йорке мне терять решительно нечего, кроме карикатур Стэна Мак-Говерна и вечерних радиопередач, — сказала Современная Молодая Женщина. А потом прибавила, после точки: — Ну и, конечно, тебя и папы.
Доктор Плениш проводил ее на Центральный вокзал, и, когда поезд скрылся в гигантской пасти туннеля, ему показалось, что он начинает забывать ее лицо.
Неделю спустя Пиони сказала:
— Как-то странно, что ее нет, что она не обращается ко мне каждую минуту за советом и помощью, и ты, я знаю, скучаешь, приходится завтракать одному. А вместе с тем это какое-то облегчение. У нынешней молодежи нет чувства дисциплины, нас с тобой иначе воспитывали. Они воображают, будто весь мир только для того и создан, чтобы им было удобно и приятно. Поэтому они и не умеют по-настоящему втянуться в серьезную работу.
Сама Пиони на совесть втянулась в серьезную работу, потому что ее шеф Уинифрид Хомуорд теперь каждые две недели давала по радио обзор военных событий. Они с Пиони каждый день читали газеты. Поскольку газеты пестрели интересными новостями, в передачах Уинифрид неизбежно бывало много интересных новостей, и она, рассказав радиослушателям то, что они сами уже читали в газетах, задыхаясь or волнения, сообщала им, что японцы в ближайшее время вторгнутся в Индию — или, может быть, не в Индию, а в Сибирь.
А Пиони получала каждую пятницу тридцать пять долларов, и каждую субботу тратила из них пятьдесят, и уже начала объяснять доктору Пленишу, что такое Индия, Сибирь и японцы.
Доктор тоже был очень занят. Вместе с Шерри Белденом и Отисом Кэнэри он разрабатывал схему (так это у них называлось) новой организации Мардука, пока существовавшей лишь в виде названия «Гражданское Консультативно-Плановое Бюро Послевоенной Реконструкции», и уже начал посылать разные материалы профессору Кэмпиону на подпись.
Потом на доктора свалилось новое бремя: в один прекрасный день Шерри Белден появился на работе в военной форме и, перед тем как уехать на вокзал, позволил себе прямо-таки дерзкую выходку.
— Зашел проститься, Плениш. Желаю вам так же успешно спекулировать на свободе для Индии и для американских негров, как мы спекулировали на гражданской войне в Испании. Счастливо изворачиваться, приятель. Я напишу вам из Исландии или из Дакара.
«Ну разве это хорошо?» — спрашивал себя доктор.
Он мог бы взять отпуск на месяц, на два месяца, на сколько угодно, казалось, никто этого и не заметит, но Пиони — человек занятой и влиятельный — могла рассчитывать всего на неделю отпуска и притом не раньше августа. Он ждал ее и нервничал… и все еще не сказал ей ни слова о возможности стать ректором в Кинникинике.
Заговорил он на Мэнском взморье, сидя на скалистом берегу в лунном сиянии.
— Смотри, Пноии, какая красота, как лунный свет падает на этот… прилив, так, кажется, это называется. Я-то мало что понимаю в океанах, но какие волны и пена, и все движется взад-вперед, и как светло — хоть книгу читай, красиво здесь, правда, родная?
— Да, я люблю природу. Когда есть свободное время. А ты, я вижу, наслаждаешься, I ид…
— Да, здесь хорошо, тихо. В городе я и сплю хуже. Но ты, вероятно, находишь, что здесь даже слишком тихо? Пли нет?
— Ах, боже мой, ну ты сам подумай! Туристов почти нет, с этим дурацким нормированием бензина их скоро и совсем не останется, и не стоило мне заказывать столько сногсшибательных новых платьев, все равно некому на них смотреть, и танцевать не с кем — разве что с официантами, если они студенты. А ведь как я работала для победы — уж, казалось бы, кто-кто, а я заслужила настоящий отдых. И нельзя даже проехать на другие курорты — посмотреть, может, там лучше. По-моему, просто безобразие, что мы с тобой получаем так мало бензина. Уж если это не превышение полномочий правительства, тогда не знаю, что называть превышением полномочий! Вот тебе, если хочешь, мое мнение о превышении полномочий.
— Но бензин нужно экономить для армии.
— А, глупости! Все это очень хорошо для обыкновенных, простых людей, им сколько бензина ни дай — все равно ехать некуда, но когда таким людям, как мы, которые сил не жалели ради Демократии и ради простых людей, и которые в состоянии оценить красоту природы, и которым просто необходимо бывать в разных концах страны и изучать настроение людей и докладывать о нем, когда таким людям отпускают бензин по норме, это уже безобразие. Они что же, думают, что нам не нужно как следует отдохнуть? Ведь впереди-то зима в Нью-Йорке и такая огромная утомительная работа…
— Пиони! Милая! Дорогая! Помолчи и послушай: эту зиму мы, может быть, и проведем еще в Нью-Йорке, но потом… Остин Булл и попечительский совет в Кинникинике прочат меня на место ректора с весны 1943 года, когда он уйдет в отставку. — v С ума-а-а сошел! — сказала супруга доктора. Ее дальнейшие комментарии заняли около десяти минут, но, вкратце они сводились к следующему: она не думает, что было бы приятно жить на берегу озера Элизабет; она не желает душевно молодеть от общения с молодежью, и она не помнит, чтобы хоть раз видела в Кинникинике преподавателя, с которым ей доставило бы удовольствие танцевать. О профессоре Пленише, как об исключении из этого правила, упомянуто не было.
Он перебил ее; он попытался говорить, как полковник Мардук.
— Да ты постой, погоди минутку! Ты мне слова сказать не даешь. Не забывай, пожалуйста, что я-то хочу принять эту должность и собираюсь ее принять. И пора тебе приучать себя к мысли об отъезде.
— А тебе пора выслушать и зарубить себе на носу вот что: я годами, годами, годами работала, как лошадь, и всем жертвовала, и сидела дома по двадцать четыре часа в сутки — все для тебя, но имей в виду, прошло то время, когда женщины были рабами.
— Пиони!
— Да, да, я знаю, ты готов и дальше требовать, как настоящий эгоист, чтобы я все свои силы тратила на тебя, и на твои капризы и комфорт, и твое, видите ли, важное положение в обществе, но — да будет тебе известно-есть на свете еще некая миссис Уинифрид Хомуорд, которой я нужна для помощи в ее очень важных делах, и я не намерена похоронить себя в какой-то поганой дыре, и сидеть и смотреть, как ты каждый день и каждый вечер будешь ходить петухом и произносить речи и паясничать, — да еще твоя Текла Шаум, эта старая ведьма, наверно, вы там неплохо проводили с ней время, пользуясь тем, что я не…
— Видит бог, я разведусь с тобой, женюсь на Гекле Шаум и буду ректором Кинникиника.
— Видит бог, ты ничего подобного не сделаешь. Этакий ханжеский провинциальный колледж — да разве там потерпят разведенного ректора, хоть твоя Текла и дочь самого главного обиралы? Нет, нет, голубчик, лучше брось и думать об этом. Не хотелось мне тебе говорить, но если уж на то пошло, знай, что и Уинни Хомуорд и полковник не бог знает какого мнения о тебе и давным-давно выкинули бы тебя из ДДД, если бы не я!
Он сидел под лучами луны такой неподвижный, такой застывший, что Пиони вдруг осеклась, всхлипнула и рванулась к нему:
— Ой, я все это так, зря наговорила. Только чтобы разозлить тебя. Просто Мардуки считают, что я тоже неплохо работаю. Ой, милый мой, хороший, прости свою скверную девочку. Во мне вся душа переворачивается, когда ты хотя бы в мыслях допускаешь, что Нью-Йорк положил тебя на обе лопатки, и хочешь уползти обратно, поджав хвост, и даже не задумаешься о том, как грешно и ужасно заставить меня жить в захолустье, где нельзя даже пойти в Аист-клуб с Гарри Хомуордом — нет, нет, нет, мое золото, не обидишь ты меня так после того, как я отдала тебе всю мою жизнь!
— Может быть, тебе покажется там скучновато, но все же…
Они легли спать более или менее примиренные; разговоров о Кинникииике больше не было; и когда они вернулись в Нью-Йорк, доктор занялся обработкой Гилроя, Кеверна, Вандеворта и других миллионеров, которые в туманном и грозном будущем могли пригодиться ему, если полковник Мардук лишит его своих милостей.
В сентябре экс-губернатор Томас Близзард, проживающий в своем родном городе Васкигане, был выдвинут кандидатом в сенаторы Соединенных Штатов.
Доктор Плениш был очень доволен: «Вот хорошо, что я все это время аккуратно информировал Тома о деятельности здешних организаций! Его шансы стать президентом все повышаются и…»
— Пиони! Как тебе нравится мысль быть женой посланника на Кубе или в Швеции?
— Мне больше нравится мысль быть посланником на Кубе или в Швеции! — вскричала она и потом долго смеялась.
На третий день после этого, в конце рабочего дня, доктору Пленишу позвонили по междугородному телефону из Кинникиника:
— Это вы, Гидеон? Говорит Придмор. Должен вам сообщить печальную новость. Ректор Булл скоропостижно скончался сегодня утром… Да, очень было тяжело… Это случилось на первом студенческом собрании, я присутствовал, он только начал свое обращение к студентам и вдруг замолчал, лицо стало какое-то удивленное, а потом рухнул на пол, и, когда мы с доктором Эвартсом подбежали к нему, он был уже мертв.
Я говорю из банка. Сейчас здесь у меня сидят несколько попечителей, есть кворум, и все шлют вам привет, они о вас очень высокого мнения, и мы хотим официально предложить вам пост ректора. Что скажете, сынок?
Доктор Плениш залепетал:
— Я позвоню вам завтра утром… В десять тридцать в банк? Отлично. Да, и передайте миссис Булл мое самое сердечное сочувствие. Завтра я вам позвоню. Да, и привет Текле.
Выяснилось, что вечером доктор и миссис Плениш совершенно свободны. Никто им не позвонил по телефону; никого из тех, кому они сами звонили, не оказалось дома. Пиони, разумеется, восприняла это как трагедию и захныкала.
— Какой холодный, равнодушный город! В Нью — Йорке никому ни до кого нет дела. Иногда мне даже кажется, что ты тогда летом был прав — нам было бы лучше в Кннникинике. Что ни говори, а как жена ректора я занимала бы очень прочное положение. Я бы даже мою Уинифрид могла послать к черту.
Теперь доктор был уверен, что в течение вечера найдется подходящий момент, и он скажет ей.
Они доехали автобусом до угла 34-й улицы, потом пошли дальше по Пятой авеню пешком в осенних су* мерках. Город был частично затемнен. Витрины не освещались, светофоры слабо вспыхивали красно-зелеными крестами, п вся авеню напоминала деревенскую улицу. Но приглушенный свет только раздразнил живое воображение Пиони, которую в этот вечер занимали меха и бриллианты. Как видно, призывы к экономии в связи с войной не находили отклика в ее сердце. Она заглядывала в темные витрины, где таинственно мерцали хрусталь, серебро и полированное дерево, и болтала:
— Вот подожди, скоро я буду зарабатывать не меньше тебя, — ты сам знаешь, я не люблю бросать деньги на ветер, но как-нибудь отправлюсь в поход по магазинам — и тогда держись! За то я и люблю Нью-Йорк, что здесь, во-первых, можно заработать деньги, а во — вторых, есть на что их истратить.
Они чинно обедали в Дубовом зале отеля Плаза. Пиони, казалось, была настроена ласково — то ли ей понравились куры под бешемелью, то ли метрдотель, помнивший их фамилию, а может быть, просто от любви к собственному мужу. И доктор рискнул. Он заговорил с ней, подбирая слова так осторожно, словно обращался к собранию готовых раскошелиться филантрёпов:
— Дорогая, послушай, что я тебе скажу, и не перебивай, пока я не кончу. Я знаю, какое у тебя прекрасное, любящее сердце. Когда Хомуорд или Гентри ругают своих жен: и нечестные-то они, и тщеславные, и болтливые, — я всегда думаю, какое огромное счастье для меня, что со мной моя маленькая верная Пиони. Нет, нет, подожди, я не кончил. Я знаю, иногда тебя раздражает, что все в жизни происходит так медленно — это общий удел всех честолюбивых людей, но я знаю, что в душе ты верна, как Руфь, ты обладаешь редкостным талантом любви, ты бы пошла за своим мужем куда угодно, даже на чужое поле, да?
Пиони не любила упоминаний о полях и других особенностях пейзажа, свойственных Среднему Западу, но все же ответила, что да, конечно, она очень похожа на Руфь.
— Так вот, послушай и, пожалуйста, не перебивай — бедный Остин Булл умер сегодня утром от разрыва сердца.
— Ой, как жаль!
— Мне Придмор звонил — они предлагают мне сейчас же занять должность ректора. Не забывай, что эго работа постоянная, не зависит от прихотей Мардука и дает право на пенсию. Каждое лето мы могли бы приезжать в Нью-Йорк, а после войны-съездить в Париж. Не упрямься, дорогая, не думай, что если ты когда-то сказала «нет», значит… И я тебе устрою самостоятельную работу, будешь занимать такое же высокое положение, как я, может быть, я заведу в колледже свою радиостанцию. Радость моя, это очень важно, и решать нужно сейчас. Могу я на тебя положиться?
— Ах, Гидеон, я не хочу поступать неразумно. Я понимаю. В Кинникинике я, наверно, была бы вроде как королевой — и поделом было бы всем, кто смотрел на меня свысока, когда я была девчонкой, и… А ты дашь мне честное слово, что мы поедем в Париж, если… Господи, посмотри-ка, кто там сидит!
За столиком у стены в кожаном кресле восседал в полном одиночестве Томас Близзард, кандидат в сенаторы США, который, по слухам, должен был находиться у себя дома, в Васкигане.
Пиони бросилась к нему, доктор Плениш двинулся следом за нею, помедленнее.
Близзард загромыхал:
— Небольшой стратегический ход. Прилетел сюда сюрпризом, чтобы выступить нынче вечером на митинге в театре Импириел Темпл, — завтра улетаю домой. Поедемте вместе, будете сидеть со мной в президиуме. Придет кое-кто из вашингтонских воротил — верховный прокурор и министр просвещения и искусств. Вы молодец, док, доклады присылали-первый сорт, а вы, красавица, я слышал, прямо чудеса творите: так наловчились заводить друзей и влиять на кого следует. Пожалуй, придет время — вас можно будет использовать в служебном аппарате старика Близзарда. Ну, приводите своего мужа, будете сидеть на сцене, как кронпринцесса. Заметано?
— Ой, конечно, приеду, конечно, мы приедем, — сказала Пиони.
Из-за тяжелых бархатных портьер, пышных, как фразы предвыборной речи, они вышли на огромную сцену. Перед ними, заполнив четыре яруса, такая необъятная, что вместо лиц только бесчисленные пятна белели на фоне темных стен, волновалась пятнадцатитысячная аудитория.
— Нет, вы посмотрите! — захлебывалась Пиони.
Ее муж протянул несмело:
— У нас, в Кинникинике, тоже бывают большие сборища.
— Ну, что ты! На футбольных матчах и то вчетверо меньше бывает, а сколько фотографов, смотри, смотри, снимают с магнием! Ну скажи сам, разве не приятно сидеть здесь, среди всяких знаменитостей, а все эти дураки смотрят на нас и думают, что мы тоже ужасно важные люди.
— Не доставляет мне удовольствия красоваться перед толпой.
— Это ты, положим, врешь!
— Во всяком случае, не так, как раньше.
— Ну, зато мне доставляет.
Пиони сидела на сцене между своим мужем и верховным прокурором Соединенных Штатов Америки; мужу она шептала:
— Подумай, только сегодня утром прокурор, наверно, был на заседании кабинета, говорил с президентом, узнал всякие тайны о России, и о втором фронте, и о Соломоновых островах[152] — совсем как в истории. А сейчас я сижу рядом с ним, и миллионы женщин смотрят и завидуют мне! А ты хочешь, чтобы я уехала отсюда и разливала чай всяким старым девам в колледже!
— Знаю, знаю, — вздохнул доктор Плениш и после долгой паузы добавил: — Знаю.
Позже, когда зрители стали подниматься на сцену, чтобы попросить у прокурора автограф, несколько человек просили автограф у Пиони, а кто-то принял ее за жену прокурора. Она со смехом вспомнила об этом в автобусе, по дороге домой, а потом заговорила необычайно серьезно:
— Дорогой мой, ты не тревожься, если старика Мардука упекут в лечебницу для алкоголиков и ты окажешься без работы. При моих отношениях с Уинифрид Хомуорд и Близзардом я всегда смогу тебя прокормить, а ты можешь посидеть дома и спокойно, как следует, всласть отдохнуть.
Далекий, тревожный свисток парома, нагруженного товарными вагонами из Уиннемака, Айовы и с калифорнийских плато, разбудил его, и улыбка тронула его квадратное лицо, потому что он смутно верил, что когда-нибудь тоже сядет в поезд и в какой-нибудь тихой долине обретет самоуважение и душевный покой.
Но свисток прозвучал еще раз, такой затерянный и тоскливый, что к доктору Пленишу вернулись его обычные сомнения в себе, и лицо его нахмурилось, выражая тревогу и нерешительность. Сейчас, в пятьдесят лет, он знал, что, даже если он еще четверть века будет подниматься вверх по крутой тропе славы, никогда ему не излечиться от горной болезни.
— Ты не спишь? Дай мне, пожалуйста, стакан воды, — сказала его верная жена.
— Сейчас, — сказал доктор Плениш.
— Знаешь что? Когда-нибудь у нас будет свой особняк на Ист-Энд-авеню.
— Да? — сказал доктор Плениш.
Статьи
ДВА ПИСЬМА КАРЛУ ВАН ДОРЕНУ
I
Итак, на меня уже, по-видимому, возложена известная ответственность; во всяком случае, я собираюсь поступать, как человек, который о ней помнит. Я уже размышляю над вторым романом — он примерно в том же духе, что и «Главная улица», хотя существенно отличается от него в подробностях. На этот раз речь пойдет не о Кэрол, а о Рядовом Бизнесмене,[153] об Усталом Бизнесмене, живущем не в Гофер-Прери, а в городе с населением в 300 или 400 тысяч человек (то есть величиной с Миннеаполис, Сиэтл, Рочестер или Атланту), в городе со своей мощной индустрией, своим «малым театром», своим шефом охотничьего клуба и своим гостеприимным загородным клубом, городе, известном своей беспощадностью ко всякого рода ересям и своей близорукой, но дьявольски ловкой политикой сокрушения всего, что угрожает коммерческой олигархии. Я надеюсь, что сумею удержаться как можно дальше от всякой «пропаганды»; я надеюсь также сделать своего героя живым — это будет человек, которого мы слышим в спальном вагоне для курящих, где он нудно разглагольствует о нефтяных акциях, красотах озера Луизы, наглости коридорного Джорджа и многочисленных преимуществах его бьюика образца 1918 года перед бьюиком образца 1919 года…
Я рассказываю обо всем этом, памятуя ваш интерес ко мне. Я бы очень хотел поговорить с вами о том, как пишутся романы вообще, и о моем новом романе в частности… Это в самом деле адский труд! Сначала пробавляться случайными писульками в «Сатердей ивнинг пост», потом засесть за серьезный роман, посвященный такому городу, как, скажем, Детройт, а для этого научиться отбирать, сопоставлять, обобщать материал. А у нас в Америке слишком мало людей, к которым можно было бы обратиться с мучающими тебя вопросами, — совсем не то, что в Англии (там их, пожалуй, наоборот, слишком много; там и Бересфорд[154] и Суиннертон,[155] и они не помогают, а мешают друг другу). Вот вы и навлекли на себя ответственность — я вас цитирую!
Вашингтон, ноябрь, 1920 г.II
Я прочитал с неослабевающим интересом ваше «Восстание против деревни», впрочем, как и все статьи этой серии.
Мне кажется, что вам стоит собрать эти статьи в отдельную книгу или использовать их в качестве основы для нее. Если книга появится, она станет весьма авторитетным изданием для широкого круга читателей. Именно поэтому я со всей настойчивостью хотел бы просить внести в статью ряд исправлений в оценки, касающиеся меня. Если бы речь шла не о книге, я бы не стал обращать на это ваше внимание.
Во-первых, я даже в самой малой степени не находился и не нахожусь под влиянием мистера Мастерса, хотя и глубоко им восхищаюсь; а между тем вы утверждаете это как очевидный и весьма важный факт и, в частности, пишете: «Кажется несомненным достижением для писателя в духе мистера Мастерса разработать подобный характер со всей глубиной». (Речь идет об одном из моих героев.) Но я начал размышлять над «Главной улицей» сразу же после окончания второго курса колледжа, то есть в 1905 году, 16 лет тому назад и за 10 лет до появления «Антологии Спун-ривер»: уже тогда я планировал свой роман с точки зрения его общей формы таким же, каким он наконец стал после целого ряда неудачных «зачинов». Во-вторых, я до сих пор не удосужился по-настоящему прочесть «Антологию Спун-ривер»! Года четыре назад один мой приятель имел обыкновение читать мне некоторые из его любимых стихотворений, входящих в нее. Я был восхищен ими, но — о идиот! — подобно многим начинающим писателям, так и не сумел заставить себя прочесть книгу, которой в ту пору зачитывались, которую захваливали. Поэтому я знаком всего лишь с десятью — двенадцатью характеристиками, которые читал мне мой друг; а поскольку их было так мало, я всегда предполагал, что это лишь характеристики отдельных лиц и что они не имеют прямого отношения к проблеме маленького городка или бунта против него.
Я прочел также три или четыре статьи, основательно и убедительно доказывающие, что я почти полностью списал «Главную улицу» с «Госпожи Бовари». Этого просто не может быть, так как, когда мне случилось прочесть «Бовари», я уже успел написать половину «Главной улицы». И, уж конечно, я не думаю, чтобы мне удалось списать свой роман одновременно и с «Госпожи Бовари» и с «Антологии Спун-ривер».
Я позволю себе также усомниться в вашей правоте, когда вы пишете о влиянии Мастерса на Зону Гейл, и возможно, даже на Шервуда Андерсона. Безусловно, Мастерс, Гейл,[156] Андерсон, я да и сотни других — все мы, каждый на свой лад, испытываем влияние одной и той же общественной атмосферы. Но ведь это общая особенность любой писательской биографии; так же было с Китсом, Шелли, Кольриджем, а потом с Беннетом, Уэллсом и другими их современниками.
Моя вторая претензия к вам, на мой взгляд, значительно серьезнее. Не кажется ли вам, что вы представили меня эдакой посредственностью, которая по воле случая разродилась сомнительным «бестселлером»? «До того, как мистер Льюис написал «Главную улицу», — пишете вы, — он принадлежал к славной когорте американских романистов, плодовитых поставщиков легких, написанных в разговорном стиле пустячков, рассчитанных на любителей проглядывать книги в темпе задорного водевиля». Итак, даже он, этот клоун, под влиянием великого Мастерса сумел обратиться к серьезной работе! Это меня возмущает, потому что начиная с 18 лет — в этом возрасте я впервые напечатался, а в 22 года стал писать систематически — я потратил годы труда на то, чтобы, во-первых, достичь определенного мастерства, а во-вторых, получить возможность, не рискуя умереть с голоду, применить его на практике.
Я действительно писал «забавные пустячки» и в немалом количестве, — точно так же, как Арнольд Беннет, Г. Дж. Уэллс и даже иногда Эдит Уортон. И все же в их забавных пустячках, написанных в разговорном стиле, были страницы, не менее серьезно изображавшие человеческие отношения, чем «Главная улица». Тяжеловесность же — далеко не всегда отличительный признак достоверности.
Но, кроме того, я написал три романа, которые ни в коей мере не могут быть отнесены к «забавным пустячкам». Все они плохи по разным причинам, но это не водевили. Читали ли вы хоть один из них? Не думаю. Если бы вы прочли «Дело», вы не высказали бы столь скороспелых суждений. Коротко об этих книгах: «Наш мистер Ренн», мой первый роман, опубликованный в 1914 году, изображает в духе «Киппса»[157] или «Колеса»[158] счастье маленького человека, обитателя меблированных комнат, к которому я питаю глубочайшую нежность; «Полет сокола» — роман очень слабый по причине его крайне поверхностного, неглубокого реализма, но в то же время написанный честно, в полную меру моих тогдашних способностей; наконец, «Дело» — история обыкновенной скучной стенографистки — роман, не только не похожий на водевиль, но, я бы сказал, излишне мрачный, излишне печальный. Он привлек к себе некоторое внимание: например, появилась рецензия объемом в журнальную страницу Фрэнсиса Хэккета в «Нью-рипаблик», рецензия Флойда Делла[159] в «Мэссиз» и Эджерта, объемом в полстраницы, в «Гранскрипте». Гонорары, полученные мной, были ничтожны, и прошло еще три года, прежде чем я оказался готовым морально и материально к тому, чтобы выделить целый год для работы над «Главной улицей».
И даже в рассказах, предназначенных для журналов, даже в публиковавшемся отдельными выпусками романе «На вольном воздухе», который вы имели в виду, вынося свой, по-моему, несправедливый приговор, я упорно стремился писать настолько честно, насколько это позволяли могущественные редакторы наших журналов, владеющие правом отклонять рукописи. Я думаю, что среди пятидесяти рассказов, напечатанных в «Сатердей ивнинг пост», «Сенчури», «Харпере» и др., наберется едва ли десяток таких, которые, да и то с большой натяжкой, могут быть охарактеризованы как «легкие, забавные пустячки». Обратите внимание на такие рассказы, как «Ивовая аллея», перепечатанный в антологии Э. Дж. О Брайена «Лучшие рассказы за 1918 год», или «Юный Кнут Аксельброд», опубликованный в «Сенчури», видимо, в конце 1916 года, или на рассказ, неудачно названный издателем «Алый знак», опубликованный в одном из номеров «Метрополитена» за 1917 год, — по живости, яркости и веселости он близок Достоевскому; или на рассказ «Он любил свою родину», опубликованный в одном из номеров «Эврибоди» за 1916 год, об одном американце немецкого происхождения, который любил и Германию и Америку; или на исполненный сарказма рассказ «Мать», отвергнутый «Сатердей ивнинг пост», поскольку в нем неуважительно говорилось о материнской любви, и напечатанный бог знает почему Херстом в 1918 году; или на «Час восторга», опубликованный в «Сатердей ивнинг пост» в августе 1919 года, — о человеке, который в 45 лет обнаруживает, что так и не достиг тех идеалов, о которых мечтал в детстве; или на «Женщину при свете свечи», «Шептуна», «Вещи», опубликованные в «Сатердей ивнинг пост» и дающие отнюдь не «водевильные» картины жизни, написанные отнюдь не «разговорным» стилем, но так, как «Главная улица» и «Идиот»!
Если вы собираетесь публиковать эти статьи в виде книги, мне бы особенно хотелось, чтобы вы прочли «Дело». Вам стоило бы познакомиться и с некоторыми другими моими рассказами и романами. И потом мне бы хотелось, чтобы, оценивая их, вы взвесили бы каждое слово.
Поверьте, что я не стал бы, не смог бы вам возражать, если бы вы сочли, что все, мной созданное, включая и «Главную улицу», слабо, более чем слабо, скверно написано, неудачно задумано. В этом я не судья. Но что все эти восемнадцать лет с тех пор, как я напечатал свою первую журнальную статью (в 18 — летнем возрасте), я серьезно работал, работал для достижения уровня, к которому, как я надеюсь, приблизился лишь теперь, и уж, безусловно, не был тем Остроумным Болтуном, перерождение которого с помощью мистера Мастерса граничило с чудом, — на этом я настаиваю.
Меня огорчило, что вы представили меня читателям «Нейшн» не таким, каков я на самом деле: этот журнал мне больше всего по душе среди американских периодических изданий, и его — единственный — я регулярно читаю здесь, в Европе. Я очень огорчен. Но я думаю, все еще можно исправить — если только вы не сочтете меня лжецом и воспримете как истину факты, изложенные мной выше. И, конечно, если дело дойдет до книги, вы, я надеюсь, внесете в нее изменения… Почему бы тогда не сделать этого в «Нейшн»?
Теперь, в 36 лет, я только еще начинаю свой писательский путь. Похвалы в адрес «Главной улицы» дают наконец мне надежду, что моя работа получит справедливую оценку. Никто, кроме вас, не писал о моем творчестве в целом, но именно вы представили меня значительному числу читателей «Главной улицы», которые, возможно, хотели бы кое-что узнать обо мне, как никчемного шарлатана, по чистой случайности переменившегося к лучшему. И все это вы написали, вынесли мне приговор, даже не взяв на себя труд прочесть мой роман «Дело», новеллы «Вещи», «Ивовая аллея», «Алый знак», «Он любил свою родину». Я уверен, что вы их не читали, ибо, как бы они ни были плохи, слабы, непрофессиональны, как бы сильно ни сказывалось на них гипнотизирующее влияние журнальной литературы, влияние, побуждающее писателя держаться подальше от опасных тем и изображать жизнь очищенной от всей «грязи», все же ни одно из этих произведений не относится к «легким, забавным пустячкам», рассчитанным на «любителей проглядывать книги в темпе задорного водевиля».
Насколько я помню, в связи с тысячами откликов, положительных и отрицательных, вызванных появлением «Главной улицы», я написал всего шесть писем критикам и журналистам, которых не знал лично (это письмо — седьмое по счету; а из предшествующих шести одно было написано по поводу вашей рецензии в «Нью-Йорк ивнинг пост»). Из предшествующих шести в четырех я выражал благодарность и только в двух-протест: одно из них касалось бесчисленных оскорбительных выпадов, сделанных в «Нью-Йорк глоб» мистером Даусоном относительно моей книги, моих вкусов, моей внешности, моего общественного положения, моей морали и моей манеры читать людям нотации. Второе письмо было вызвано передовой статьей в одной из газет Индианаполиса (родины Бута Таркингтона); в ней говорилось, будто бы я осмеял Бута Таркингтона, хотя на самом Деле все было как раз наоборот. Я оставил без внимания добрую сотню пространных и лаконичных заявлений о том, что я лжец, глупец, безграмотный человек и вообще бог знает кто, просто потому что они исходили от людей, до которых мне нет никакого дела. Но до вас мне есть дело и до вашей работы — тоже, так что смотрите в оба!
Наконец, поскольку я и так уже слишком многословен, позвольте мне оспорить (в данном случае с меньшей уверенностью, ибо речь идет о точке зрения, а не о конкретном факте) также и вашу теорию, выраженную вами как в «Нью-Йорк ивнинг пост», так и в «Нейшн», относительно того, что я ненавижу «серых», то есть неинтеллектуальных людей, а следовательно, я никогда не попаду в разряд писателей типа Фильдинга, Бальзака и Толстого (я цитирую ваш перечень имен, ссылаясь на которые вы доказываете мое несовершенство). Что касается «Главной улицы», то я люблю следующих лиц, ни одно из которых нельзя характеризовать иначе, как «серое» (если в «серости» надо видеть, исходя из вашего понимания данного слова, недостатки интеллектуального развития): это Би, Чэмп и миссис Перри, Сэм Кларк с супругой, Уил Кенникот («серый» лишь в некоторых отношениях), мать Уила и почти все его пациенты из числа фермеров. И я люблю также Кэрол, которая безусловно «серая» — в отношении чисто мужских дел, интересующих Уила Кенникота, люблю и Гая Поллока, обладающего чисто внешней интеллектуальностью. Я упомянул лишь главных героев. Но мне трудно спорить с вами. Возможно, вы и правы. Однако я глубоко и сильно люблю Би (это лишь один пример), и поэтому я был бы удивлен, если бы вы оказались правы. И я сомневаюсь в мудрости наших критиков, которые усвоили привычку заявлять, что Эвелин Скотт[160] нельзя назвать великой писательницей, потому что она не так утонченна, как Эдит Уортон, что Эдит Уортон гроша ломаного не стоит, потому что ей не хватает эрудиции Анатоля Франса, что Анатоль Франс — полное ничтожество, потому что не писал лирики, подобной шекспировской; или-чтобы завершить круг — Шекспира не стоит читать в наше время, потому что он в отличие от Эвелин Скотт не пишет об Америке и о современности.
Так-то!
Октябрь, 1921 г., Италия.МИННЕСОТА-СКАНДИНАВСКИЙ ШТАТ
9 мая 1922 года мистер Генри Лоренц, житель поселка Плезантдеил провинции Саскачеван, подоил коров, задал корм лошадям и стал принимать гостей — соседей — фермеров. Как видно, он еще достаточно бодр и деятелен, хотя девятого мая 1922 года ему исполнилось сто семнадцать лет. Когда были основаны первые города в Миннесоте — Сент-Пол, Мендота и Марин, — ему было уже за тридцать — да-да, а президенту Элиоту[161] тогда было семь лет, а дядюшке Джо Кэннону — пять. Город Миннеаполис, насчитывающий сейчас четыреста тысяч жителей, семьдесят пять лет тому назад состоял из одной хижины. До 1837 года во всей Миннесоте, занимающей восемьдесят тысяч квадратных миль — столько же, сколько Англия и Шотландия, вместе взятые, — не было и трехсот человек белых и метисов.
Наш штат невероятно молод, он вырос с головокружительной быстротой. Взять хотя бы деревню, на месте которой во время гражданской войны было лишь огороженное частоколом укрепление, где стояли два-три бревенчатых склада и размещался отряд пехоты и которое служило укрытием белым поселенцам во время набегов индейцев племени сиу. В 1863 году индейцы сняли скальп с одного поселенца в нескольких сотнях метров от укрепления.
Теперь на том месте, где скальпировали поселенца, расположен жилой дом фермера со створчатыми окнами, с радиоприемником и фонографом, с электрическим светом в доме, гараже и коровнике. В коровнике стоит сотня чистопородных коров, которых доят электрическими доильными машинами. Сам фермер ездит в город на собрания Кивани-клуба, а в прошлом году совершил на своем бьюике поездку в Лос-Анжелос. Его дела идут — или шли — слишком хорошо, чтобы он присоединился к Беспартийной лиге или голосовал за кандидатов Фермерско-рабочего союза.
Рядовой житель восточного штата, скажем, страховой агент из Хартфорда или рабочий швейной фабрики из Нью-Йорка, мало знает о Миннесоте, и не потому, что она такой молодой штат, а потому, что она не относится ни к бурному Западу, ни к устоявшемуся Востоку. Нью-Джерси сразу ассоциируется с заводами и гостиницами на побережье, Монтана — с ковбоями и одинокими скалами; всем ясно, что такое Калифорния, а также Флорида и Мэн. Что касается Миннесоты, она как бы не имеет своего лица. Я однажды слышал, как третьекурсник йельского университета пытался сообразить: «Взять хоть эти города в Миннесоте — Милуоки, например. В нем, наверно, тысяч двести населения есть, как ты думаешь?» (Это не выдумка, он действительно так сказал.)
В представлении жителя Востока Миннесота — бескрайняя прерия, по которой свободно гуляют ветры; плоская равнина, целиком засеянная пшеницей, если не считать полоски леса на севере и нескольких городишек на юге; живут там настоящие янки, исконные американцы, но их немного, и шведы, которые начинают каждую фразу словами «Так фот, я тумаю», отличаются склонностью к юмору и работают в качестве батраков, судомоек и угольщиков.
Это общепринятое представление соответствует действительности не больше, чем большинство общепринятых мнений; во всяком случае, не больше, чем теория, будто негры, родившиеся в Алабаме, вежливее негров, родившихся в Чикаго. Миннесота вовсе не плоская равнина. Она гораздо менее плоская, нежели провинция Квебек. Правда, большая ее часть представляет собой прерию, но прерию волнистую, с холмами, низинами и оврагами; для автомобилиста она так же заманчива, как английские дороги из романов о бродягах. Над горизонтом всегда громоздятся кучевые облака, а закаты при нашем сухом воздухе являют незабываемое зрелище. Но самое красивое в Миннесоте — это озера. Их тысячи — девять или десять тысяч, — и они поблескивают среди умиротворенных полей или прячутся за прохладными березами и кленами. На крупных озерах севера строят дачи состоятельные люди из Миссури, из Иллинойса и даже из Техаса.
На протяжении многих миль в прерии не растет ни единого деревца, не считая искусственно насаженных возле ферм ив и тополей. Шпиль немецкой католической церкви виден здесь за добрый десяток миль, а дым товарного поезда — за два перегона. Но на севере прерия уступает место сосновой чаще «Больших лесов», стране лесорубов, индейских резерваций, одиноких вьючных троп, царства Поля Бэньяна — мифического героя лесорубов.
Так же неправильно предполагать, что в Миннесоте в основном выращивают пшеницу. Одно время это действительно было так, и мукомольные мельницы Миннеаполиса остаются крупнейшими в мире. Даже «Кастория», знаменитое слабительное, не воспета на стольких рекламных щитах, как мука Миннеаполиса. Но ныне зерно на наши мельницы поставляют в основном Монтана, Саскачеван и обе Дакоты, а миннесотские фермеры понастроили высокие красные силосные башни, напоминающие пикардийские замки, и все больше переключаются на молочное животноводство. Мы поставляем мясо Лондону и масло Филадельфии. Из железа, добытого в месабских копях, сделаны рельсы, пролегающие по Аляске, и мосты, пересекающие южноафриканские реки, а что касается промышленных товаров, наши холодильники и кондиционные аппараты украшают шикарные квартиры на Пятой авеню, а изделия нашей фабрики нижнего трикотажа удовлетворят требования массачусетского брамина и даже чикагского агента по рекламе.
Но больше всего ошибаются те, которые полагают, что Миннесота населена только чистокровными янки и скандинавами и что шведы являются своего рода париями и прирожденными комиками.
Из трехсот тридцати учеников школы в Нью-Дулуте, согласно подсчету директора, оказалось: словенцев-49; итальянцев-47; сербов-39; американцев-37; поляков-30; австрийцев-22; шведов-22; хорватов-20; негров-9 (характерно, что он не включает их в категорию «американцев»); финнов-7; шотландцев-6; славян (невыясненной национальности)-5; немцев, французов, чехов и евреев — по четыре; румын, норвежцев и канадцев-по три; скандинавов (невыясненной национальности)-8; литовцев, ирландцев, украинцев и греков — по два; один русский и один англичанин. Итого шестьдесят процентов учеников происходит из южной и восточной Европы.
Такое преобладание выходцев из славянских стран наблюдается, конечно, только в городах и шахтерских поселках, но оно говорит о том, что в среднезападных штатах состав населения может измениться так же радикально, как и в восточных. В целом по штату основными национальными группами являются американцы, немцы, ирландцы и различные скандинавские национальности — не только шведы и норвежцы, но также датчане и исландцы. И из всех нелепых расистских представлений самым нелепым является то, будто миннесотские скандинавы, как бы долго они тут ни жили, остаются, подобно героям доброй, старой пьесы «Йон Ионсон», все тем же комическим, низким по развитию и не поддающимся ассимиляции племенем. Все сказанное можно подытожить следующим образом: ни одно обобщение, касающееся американских скандинавов, не соответствует действительности.
В самой Миннесоте не услышишь (от высокородных янки, к которым обычно обращаются с подобными вопросами), что скандинавы — комики, нет, про них говорят, что они неприветливы, мятежны и «не поддаются американизации». Фабриканты и лесозаготовители отзываются о своих рабочих-шведах совершенно так же, как предприниматели Сиэтла о японцах, Бостона — об ирландцах, юго-западных штатов — о мексиканцах, Нью — Йорка — о евреях, морские офицеры — о жителях Гаити и мистер Редьярд Киплинг — о националистах-индусах… или националистах-американцах. Сами того не сознавая, они выдают свою приверженность к Теории о Низших Расах, которая формулируется следующим образом:
Низшая Раса — это та, к которой принадлежат мои рабочие. Они вероломны, неблагодарны, невежественны, ленивы и непокорны, поскольку они требуют повышения зарплаты и таким образом стремятся отнять у меня доллары, которые мне нужны на платья для моей жены и на прославляющую меня благотворительность. Они неполноценны от природы. Они никогда не смогут стать Настоящими Американцами (или Английскими Джентльменами, или Высокородными Пруссаками). Я знаю, что это так, потому что со мной согласны все мои товарищи по университету и партнеры по бриджу.
На самом деле скандинавы американизируются с невероятной быстротой. Они американизируются гораздо быстрее американцев. Среди последних из поколения в поколение не переводится упрямая аболиционистская порода, которая или борется за обреченное дело и, попав в тюрьму, поет печальные баллады или, как Лодж, держится традиций Адамса, не менее вредоносных для здорового американизма, чем коммунизм. Скандинавы американизируются до того основательно, что, надо полагать, где-нибудь в 1963 году норвежец Григавасон и исландец Гисласон скажут о черногорцах и латышах: «Вечно они скандалят насчет зарплаты, но самое главное, что они не поддаются американизации. Не желают голосовать ни за кандидата ротарианцев, ни за Ку-Клукс-Клан. Подавай им, видите ли, какую-то там Третью партию».
Скандинавы с такой же легкостью приобщаются к американскому образованию, перенимают деловые ухватки и журналистские нравы, как шотландцы или лондонские кокни. Особенно легко они приобщаются к американской политике, старой доброй политике Гаррисона,[162] Мак-Кинли[163] и Чарли Мэрфи.[164] Как правило, они не привносят в нее ничего нового из практики своих экспериментирующих стран. Они без сожаления расстаются со своими традициями. Правда, многие из них участвовали в Беспартийной лиге,[165] движении суфражисток и организовывали кооперативные общества. Покойный губернатор Миннесоты Джон Джонсон был политическим деятелем с большим будущим; если бы он не умер, то, возможно, стал бы президентом, причем, вероятно, президентом своеобразным, и оставил бы заметный след в истории. С другой стороны, по сравнению с сенатором-скандинавом Кнутом Нельсоном Маккамбер[166] казался левым синдикалистом, а судья Гари[167] напоминал Франсуа Вийона. Член конгресса от Миннесоты Стеенерсон, председатель комиссии конгресса по делам почт, однажды произнес бессмертную фразу, в которой сказалось его незаурядное дарование, созревшее за двадцать пять лет пребывания в конгрессе. Как-то на званом обеде он стал возмущаться, что Беспартийная лига открыла допуск в невинные школьные библиотеки непристойным сочинениям «этой русской бабы Эллен Кей».[168] Кто-то заметил джентльмену скандинавского происхождения мистеру Стеенерсону: «Она ведь, кажется, шведка?» В ответ на это скандинавский джентльмен заявил: «Нет, эта Кей родом из Финляндии и прочей красной России, где они национализировали женщин».
Разумеется, сейчас скандинавский элемент штата Миннесота представлен всему миру двумя вновь избранными сенаторами — Генриком Шипстедом и Магнусом Джонстоном. Трудно предсказать, что нового они привнесут в прославленный своей осмотрительной респектабельностью сенат, но несомненно, что они, как и Джон Джонсон, представляют все самое смелое, демократичное, реалистичное, американское в нашей истории.
Скандинавы — как хорошие, так и плохие — монополизировали политическую жизнь Миннесоты. Из девяти последних губернаторов штата, включая кандидата в сенаторы Пройса, шестеро были скандинавами. Гарольд Кнутсон, организатор республиканской фракции в конгрессе, тоже скандинав. Скандинавы составляют большинство в законодательном собрании штата, и если в законодательном собрании Санта-Фе депутаты-мексиканцы говорят по-испански, а в Квебеке парламентарии все еще ведут дебаты на французском языке, хотя давно уже являются гражданами британского доминиона, в Миннесоте политические деятели, родившиеся за границей, изъясняются лишь на одном наречии — американском. На нем они ведут дела, на нем говорят в семье. Может быть, сам глава семьи до двадцати лет жил о Скандинавии, но сыновья его будут говорить на том же английском языке — хорошем или плохом, дело десятое, — что и сыновья переселенцев из Мэна, а его дочери придут в музыкальные клубы или в компанию любителей коктейлей, в колледж или на фабрику с теми же предрассудками, идеалами, интонациями, что и девушки по фамилии Смит или Брустер.
Говорят, что Миннесота поражает своей новизной. На самом же деле в Миннесоте поражает не новизна, а старина — прочная, пронизанная традициями, завернутая в вату старина. Все это не соответствует представлению об Америке как о стране Свободы и Прогресса. Хотя некоторые районы штата еще так плохо освоены, что деревни посреди свежевспаханиых полей или запыленных сосен, по сути дела, всего лишь первые форпосты цивилизации, в крупных, а также и в некоторых мелких городах утвердилась столь же могущественная финансовая олигархия и почти столь же четкая структура общества, как в Лондоне, и эти силы определяют Трезвую Политику и прямо или косвенно контролируют всю деловую жизнь. Здесь есть свои Старинные Семейства, члены которых заключают браки преимущественно в своем кругу. Во всем мире под Старинным Семейством понимается семья, которая разбогатела по крайней мере на тридцать лет раньше, чем прочие семьи в этой округе. В Англии процесс «облагораживания» парвеню и спекулянтов занимает (максимум) пять поколений — независимо от того, идет ли речь о дельцах, нажившихся на поставках стали во время первой мировой войны, или о нетитулованных спекулянтах землей при Вильгельме Завоевателе. В Нью-Йорке это чаще всего происходит за три поколения. На Среднем Западе — за полтора.
Бытует у нас и еще одна чрезвычайно утешительная, но не имеющая в себе и зерна истины басня, будто все сыновья и внуки пионеров — бесшабашный, жизнерадостный народ, неотесанная, но пьяняще-независимая вольница. Правда, среди внуков людей, сражавшихся в 1862 году с индейцами и проходивших болотистыми тропами сотню миль, чтобы вызвать на подмогу отряд войск, есть такие, которые, как их деды, расчищают лес под пашню. Но есть среди них и такие, которые разбирают недостатки чая «Орандж пеко», сидя в изящно расписанных кондитерских, построенных на том месте, где три поколения назад стояли фургоны поселенцев; снаружи их дожидаются шоферы в лимузинах Пирс Эрроу (корпуса изготовлены по особому заказу Кимбаллом, серебряные наружные части — Тиффани); в своих любительских театрах они ставят пьесы Шницлера[169] и Сент-Джон Эрвина;[170] после репетиций упоенно вспоминают, как они познакомились в Париже с Джеймсом Джойсом, и всегда с аристократическим пренебрежением говорят о смехотворных попытках скандинавов и финнов втереться в их священную древнюю американскую касту. У многих из них немецкие фамилии.
Эти юнкеры — самая верхушка общества. Под ними, естественно, располагается полезная и все растущая прослойка образованных людей — врачей, учителей, журналистов, либерально настроенных юристов и музыкантов, которые уехали из Мюнхена или Милана, чтобы создавать оркестры в новой стране. Есть еще фермеры, ведущие хозяйство на научной основе. В сельскохозяйственной школе огромного Миннесотского университета кипит здоровая творческая мысль. И, конечно, между рабочим классом и аристократией существует еще армия расторопных Мужественных Американцев, любителей покера и мастеров «активной торговли» — самых характерных представителей нашей нации. Но даже и Мужественные Американцы не такое простое явление, как кажется. Никто не знает, каково их будущее, никто не смеет об этом задумываться. Может быть, их наивная самореклама и страх перед необычным вовсе не таят в себе общенациональной угрозы и они очень скоро исчезнут с лица земли. А может быть, стандартизированные ванны и автомобили породят не менее стандартизированную, скованную жесткими рамками культуру — культуру жаждущих культуры, искусственное искусство. Из нации, жующей табак, мы в мгновение ока превратились в нацию, пьющую чай; с такой же быстротой мы из страны деловой активности можем стать страной красивого и томного умирания. Если в политике нам необходимо держаться фабианских взглядов и не позволять реформаторам (как левым, так и несгибаемо правым) слишком уж быстро привести нас к совершенству, то в отношении ревностных радетелей Культуры нам еще более необходимо проявлять некоторую осторожность; если Усталый Бизнесмен не так уж прекрасен и несколько скучен, он по крайней мере стоит на реальной почве, а нам нужно опираться на реальность.
Правящая верхушка численно невелика. Это естественно. Богатство накапливалось у нас с такой быстротой, что наша олигархия создалась легко и безболезненно, не подвергаясь тем опасностям, которые подстерегали опоясанных мечами Норфольков и Перси.[171] Вот, например, какую штуку мы удрали. Наиболее проворные из наших дедов-пионеров захватили несколько тысяч квадратных миль лесов в северной Миннесоте и вырубили — или безо всяких сожалений потеряли в результате лесных пожаров — миллиарды футов такой древесины, какая уже никогда не восстановится. Когда леса были сведены, земля потеряла всякую ценность. Она была пригодна только для сельского хозяйства, а это малоромантическое занятие не способно за одно поколение превратить вас в миллионера. Мало кто из владельцев этой земли сумел выжать из нее больше миллиона долларов, и теперь они не знали, что с ней делать — не отдавать же даром. И вдруг в этой тощей земле открыли железную руду — в огромных количествах и залегающую так близко к поверхности, что ее можно добывать открытым способом, черпать экскаватором, как гравий. Заводы Южного Гэри и Чикаго работают в основном на этой руде. Владельцы земли не занимаются добычей руды. Они преспокойно сдали землю в аренду — хотя мы всего лишь Средний Запад, у нас есть свой филиал «Юнайтед стейтс стил компани». Владелец земли уезжает за границу и проводит там время в изящной праздности, и каждый раз, когда экскаватор загребает ковш руды, в его карман падает четверть доллара.
Так что теперь наши железорудно-мукомольно-лесопильные магнаты наконец становятся достойными соперниками мясных баронов Чикаго, угольных лордов Пенсильвании и принцев-акционеров Нью-Йорка.
Эта статья — скрытая, но беззастенчивая реклама Миннесоты. Ее цель — повысить мнение ее жителей о самих себе и цену на земельные участки. Однако я не уверен, что наши торговые палаты будут ею довольны. Боюсь, что им больше понравилось бы, если бы я написал, сколько мы производим молочных продуктов, сколько у нас построено благоустроенных школьных зданий, сколько автомобилистов ежегодно посещает наши озера и как Джеймс Д. Хилл из бедняка стал миллионером. Но опытный пресс-агент знает, что такая реклама малоэффектна; она просто говорит о засилье коммерции и духовной пустоте. Самое любопытное явление в Миннесоте — это многоступенчатая социальная система, сложившаяся за очень короткое время, и, поскольку за два поколения мы шагнули от затерявшихся в глуши поселений к сельским аристократическим клубам, хотелось бы знать, что произойдет при жизни следующих двух поколений. Точно представить себе это невозможно; надо учитывать очень многое, и наше мышление должно быть свободно как от бездумной самоуверенности торговых палат, так и от насмешливого критиканства и поспешности профессиональных радикалов. Для философа-реалиста существование аристократии (поскольку она все равно уже существует) не повод для скорби, а факт, который нужно изучать.
У Миннесоты — и не только у Миннесоты, а у всего Среднего Запада — есть одно немаловажное достоинство. Поверхностному взгляду может показаться, что властители этой новой страны ничем не отличаются от властителей восточных штатов-Новой Англии, Нью-Йорка, Пенсильвании. И те и другие чтят лишь банковское дело, здравые республиканские взгляды, гольф, бридж и большие автомобили. Но если восточный туз вполне удовлетворяется этими символами богатства и ничего больше не хочет, среднезападный, как бы он ни был поглощен гольфом, как бы ни фыркал на «эти дурацкие суфражистские идеи» своей жены и на «всю эту заумную чушь, о которой толкуют любители бегать по лекциям», в глубине души, сам того не сознавая, стремится к неведомой ему красоте.
И наконец, в доказательство того, что наше общество значительно усложнилось за те годы, что прошли с семидесятилетия мистера Генри Лоренца из Саскачевана, я хочу добавить к своему очерку некоторые не связанные между собой наблюдения из жизни Миннесоты.
Вот бывший профессор, долгие годы читавший историю в Миннесотском университете, крупный ученый, уйдя в отставку, с увлечением выращивает картошку на своей ферме, затерявшейся среди сосновых лесов северной Миннесоты, и организует кооператив, сбывающий продукцию всех фермеров округа.
Вот директриса миннесотской школы, готовящей воспитателей для детских садов, которую приглашают во все концы страны выступать перед конференциями учителей. Она лично знакомится со всеми поступающими и принимает лишь тех, в ком обнаруживает педагогическое дарование. Ее можно сравнить с Монтессори, только она меньше трубит о своей деятельности и меньше жалуется на трудности.
Вот лучшая — во всяком случае, крупнейшая — клиника в мире — клиника Майо, которую обслуживает свыше ста врачей и прочих специалистов, не считая канцелярских работников и сестер. Это верховный суд диагностики. Хотя клиника расположена в небольшом городке, в стороне от основных железнодорожных магистралей, ее осаждают больные не только из Миннесоты, но и из Юты, Онтарио и Нью-Йорка. Когда знаменитые европейские врачи приезжают в Америку, они могут заглянуть или не заглянуть в Институт Рокфеллера, могут побывать или не побывать в Гарвардском и Рэшском университетах и у Джона Гопкинса, могут навестить или не навестить главный центр Американской ассоциации медиков, но в Рочестер они приедут непременно.
Вот индеец племени чиппева, такой же молчаливый и медно-смуглый, как и его дед, — весьма активная личность, за которым каждое лето гонялись кавалерийские отряды. Он же — владелец гаража и, как это ни невероятно, разбирается в зажигании. У него есть ферма среди угрюмых норвежских сосен, и он пашет землю трактором.
Вот новое книжное издательство, которое впервые опубликовало в переводе на английский язык письма Абеляра. Их перевел Генри Беллоуз, доктор философии, редактор и полковник местной милиции.
Вот поистине замечательные здания — Художественный институт Миннеаполиса, Капитолий штата, Публичная библиотека Сент-Пола и очаровательная церковь Ральфа Адамса Крэма. А вот на берегу Озера островов итальянский дворец, построенный спекулянтом пшеницей. Вот великолепные бетонные дороги, пришедшие на смену глинистым проселкам.
Вот крошечный городок, «типичный городок прерий», который только что построил превосходное поле для гольфа. Один из жителей этого города стал миссионером в Сиаме, другой — профессором истории в Колумбийском университете.
И наконец, о некоторых миннесотских писателях. Вы, конечно, знаете, что представляют собой среднезападные писатели: это неотесанные, но пышущие энергией ребята, они незнакомы с классиками и бургундским, но слышат биение человеческих сердец. Они пишут о жизни на фермах и носят фланелевые рубахи. В подтверждение этого обобщенного портрета я хочу назвать одиннадцать писателей, родившихся и выросших в Миннесоте:
Чарльз Фландро, автор «Гарвардских эпизодов» и «Вива Мексика», который одно время преподавал в Гарварде, а сейчас странствует по Испании (по отзыву Агнес Репплие, самый быстрый клинок из всех американских эссеистов); Скотт Фицджеральд, типичный миннесотец, пророк Ритца, идол всех молодежных лиг; Алиса Эймс Уинтер, до недавних пор президент Всеобщей федерации женских клубов; Клод Уошборн, автор «Одинокого воина» и еще нескольких романов, в которых чувствуется европейский дух, хотя их действие и происходит в Америке (он много лет жил во Франции и Италии); Маргарет Баннинг, автор «Чародеев»; Томас Бойд, написавший великолепную книгу о молодежи «Через пшеницу»; Грейс Фландро, из-под пера которой вышли «Респектабельные» и другие подлинно изящные романы; Вудворд Бойд, своим первым романом «Легенда о любви» бросивший вызов сентиментальным певцам семейных идиллий; Карлтон Майлс, театральный критик, сообщающий своим миннесотским читателям последние новости театральной жизни на континенте (он только что вернулся из Европы, где провел год в обществе таких людей, как Шоу, Дринкуотер и директор миланской оперы Ла Скала); Бренда Юленд, которая живет в Гринвич-Вилледж и сотрудничает в «Атлактик Мансли»; Синклер Льюис, известный ругатель и критик, но на самом деле (о чем свидетельствуют чувствительные стишки, которые он писал в колледже, пытаясь подражать Тенниссону) тоскующий по идиллии «прелестных» — как он, возможно, выражается в кругу знакомых — «увитых плющом домиков».
Семьдесят пять лет тому назад — пустыня, в которой беспрепятственно носился чиппева. Сегодня — сложная цивилизация, будущее которой — несет ли оно радость, огорчение или то и другое — мы не можем предугадать. Чтобы понять Америку, надо всего-навсего понять Миннесоту. Но чтобы понять Миннесоту, надо быть одновременно историком, этнологом, поэтом, циником и дипломированным пророком.
1923ГЛАВНАЯ УЛИЦА ЗАМОЩЕНА
Предложение редакции журнала «Нейшн» отправиться в Гофер-Прери (штат Миннесота) и выяснить, за кого собираются голосовать на предстоящих президентских выборах «настоящие мужественные американцы», отнюдь не привело меня в восторг. Из всех жителей этого городка, где я много лет назад провел студенческие каникулы, мне был лучше всех знаком доктор Уил Кенникот, но в его обществе я чувствовал себя — да и сейчас чувствую — малышом, с трепетом внимающим взрослому брату. Он всего лишь сельский врач, немногим выше среднего уровня, но принадлежит к той категории громогласных, самоуверенных, развязных людей, которые никогда ни в чем не сомневаются и у которых чудаки, подобные мне, вечно доискивающиеся до смысла окружающего нас мира, вызывают лишь снисходительную усмешку.
Я послал доктору телеграмму, спрашивая, не собирается ли он уезжать: иногда летом он усаживает в автомобиль жену и троих сынишек и отправляется на две недели в Канаду удить рыбу. В ответ я получил письмо: он никогда не тратит денег на телеграммы. До середины августа он никуда из Гофер-Прери не уедет; он будет рад со мной побеседовать; Кэрри (его жена) тоже горит желанием повидаться со мной и поболтать о книгах, психоанализе, опере, гландах и прочих новейших проблемах, которые волнуют нью-йоркскую интеллигентную братию.
Я прибыл в Гофер-Прери экспрессом Спокейн Флайер № 3. Наверно, многим будет небезынтересно узнать, что этот экспресс теперь отправляется из Миннеаполиса в 12.04, что он больше не останавливается в Сен-Доминике и что ветеран-проводник Майк Лембке, любимец всех коммивояжеров из Миннеаполиса, после замужества дочки, переехавшей в Тюдор, перешел на линию Ф.
За истекшие десять лет Гофер-Прери сильно изменился. Три квартала Главной улицы покрылись бетоном. Клуб коммерции и прогресса теперь располагается в аккуратном новеньком здании, где есть специальная комната для отдыха или банкетов; в ней стоят столики для игры в карты, бильярд, роскошный радиоприемник. Здесь же по торжественным случаям, например, по случаю визита конгрессмена или выступления Шайнеров — духового оркестра Гуин-сити — деятельницы баптистской общины устраивают мужчинам традиционный общегородской обед. Перед домами стало больше цветов; многие старинные особняки — постройки чуть ли не 1885 года — омолодились и похорошели, одевшись поверх дощатых стен слоем штукатурки; а Дэйв Дайер построил себе прямо-таки потрясающий калифорнийский коттедж с карнизами в швейцарском духе и самой высокой антенной из всех, какие я видел к западу от Детройта.
Не менее разительная перемена произошла и в приемной доктора Кенникота. Стены его кабинета отделаны каким-то новым материалом, который очень похож на кафель и имеет лишь тот недостаток, как пояснил мне доктор, что к нему прилипают корпия, бинты и т. п. Комната для ожидания со вкусом обставлена удобными мягкими стульями на плетеных ножках. На длинном узком столике разложены журналы: «Вог», «Литерари дайджест», «Фото плей» и «Бродкастинг тайдингз».
Когда я пришел, доктор был занят с пациентом, а в комнате для ожидания сидела женщина лет сорока, небольшого роста, в роговых очках, которые придавали ее лицу что-то детское, хотя это была неуверенная в себе, усталая и почти робкая детскость. Она, по — видимому, когда-то была изящной и хорошенькой, но теперь располнела, утратила подвижность и вообще выглядела преждевременно увядшей.
Сначала я не узнал ее, хотя в свое время много с ней беседовал. Это была Кэрол, супруга доктора Кенникота.
Зато она меня узнала сразу — по моему неистребимому румянцу и костлявости — и выразила надежду, что я загляну к ним вечером после ужина. К сожалению, они не могут пригласить меня на ужин: их новая прислуга очень скверно готовит, и ее трудно чему-нибудь обучить, поскольку она полька и не понимает ни слова по — английски. Но вечером они будут меня ждать. Сегодня по программе ВКЗ будут передавать замечательный концерт; конечно, по радио бывает ужасно много чепухи, но тут настоящий народный музыкант играет на скрипке старинные народные танцы — все знакомые мелодии, и даже слышно, как он отбивает ногой такт. Соседи каждый четверг приходят его послушать. Да, она хотела меня спросить… они тут на днях поспорили в клубе Танатопсис, что сейчас dernier cri в литературе? Марсель Пруст, или, может быть, Джеймс Джойс, или «Такой большой»[172] Эдны Фербер?
— Однако мне пора идти. Будьте добры, передайте доктору, чтобы он не забыл принести домой термос — он понадобится для пикника Кивани-клуба, — прошелестела Кэрол на прощание и исчезла, задержавшись, как мне показалось, на минуту в дверях.
Через некоторое время из кабинета вышел доктор Кенникот — крупный подтянутый мужчина. Он похлопывал по плечу испуганную старушку и успокоительно рокотал:
— Ну-ну! Не слушайте этот вздор — они вам наговорят. Все будет хорошо!
Его голос внушал уверенность, сознание, что у тебя есть могущественный защитник, но одновременно и сознание своей слабости, беспомощности и глупости по сравнению с этим человеком, в общем, то самое трепетное благоговение малыша перед взрослым братом.
Я стал, запинаясь, объяснять ему цель своего визита.
— Меня послал сюда один нью-йоркский журнал, доктор. Может быть, вы о нем и не слышали, но помнится, миссис Кенникот одно время его выписывала — до того как она переключилась на «Крисчен сайенс монитор».[173] Он называется «Нейшн». Мне поручили поговорить с людьми, узнать, как здесь проходит предвыборная кампания, и я подумал, что вы…
— Послушай, Льюис. Кажется, я знаю, что тебе от меня нужно. Ты ко мне хорошо относишься, может, даже позволил бы мне себя врачевать. Но ты считаешь, что вне медицины я дурак дураком. Ты надеешься, что я начну пороть какую-нибудь несусветную чушь о книжках, писателях, политике, а ты себе возьмешь и преспокойненько все это напечатаешь. Ну что ж. Я не возражаю. Но прежде чем ты привяжешь меня к мачте и разоблачишь как махрового реакционера — так вы, салонные социалисты, кажется, выражаетесь? — прежде чем ты спровоцируешь меня на все те высказывания, которые ты уже заранее мне приписал, давай съездим со мной на несколько вызовов, а?
Я спускался вслед за ним по лестнице, более обычного негодуя на себя за ту кроткую готовность подчиняться, которую всегда проявлял в присутствии подобных людей.
Он показал на стоящий у подъезда красивый автомобиль с закрытым корпусом:
— Видишь, Льюис, я типичный Бэббит — в точности следую твоим излюбленным рецептам. Вот моя новая коляска — неплохой бьюик, а? И между прочим, куплен не в рассрочку, и знаешь что — эта штучка мне куда больше по душе, чем кубистические шедевры с косоротыми бабами. Я знаю, что это неправильно, что, по твоему мнению и мнению подобных тебе умников, мне следовало бы ходить на вызовы пешком, держа в одной руке бутыль контрабандного древесного спирта, а в другой пачку коммунистических книжонок. Но, когда на улице мороз и дует ветер, мне почему-то — такие уж мы, провинциалы, чудаки — больше правится ездить в славной, теплой машине.
— Какого черта, доктор! — вспылил я. — Что вы меня изображаете идиотом? У меня самого кадиллак.
Я врал. Мне принадлежит лишь одно творение технического гения, и это не кадиллак, а пишущая машинка «Ронял». Просто он сбил меня с толку — он сразу взял в разговоре тон снисходительного превосходства, лишив меня возможности самому говорить таким тоном, и мне на секунду действительно представилось, что я не только лучше него знаком с эстетическими теориями, но и являюсь владельцем лучшего автомобиля.
Он ухмыльнулся.
— Очень может быть. Поэтому-то у вас нет вовсе никакого оправдания. Какому-нибудь свихнувшемуся голодранцу еще простительно требовать в президенты Боба Лафоллета или этого Уильяма Фостера, даже Дебса, черт побери! Но ты ведь писал для настоящих журналов и, может быть, стал бы уже знаменитостью не хуже Нины Уилкокс Путнам[174] или даже Гарри Леона Уилсона,[175] если б поменьше драл глотку и пьянствовал и побольше работал и шевелил мозгами. И как только вы, социалисты, разъезжающие в лимузинах, можете воображать, будто кто-нибудь принимает всерьез ваши разглагольствования о любви к бродягам и бездельникам, этого я просто в толк взять не могу. Ну ладно, сперва я тебе кое-что покажу, а потом уж поговорим о политике и Кулидже.
Сначала он заехал в аптеку Дэйва Дайера. Дэйв — неплохой парень: в свое время он снабжал меня пивом, и мы, бывало, засиживались с ним, разговаривая о науке, рассказывая скабрезные анекдоты или играя в покер чуть ли не до полуночи, между тем как весь город давно уже спал.
Дэйв вышел к нам и радостно меня приветствовал:
— Привет, Льюис, сколько лет, сколько зим!
— Здорово, Дэйв!
— Говорят, ты ездил в Канаду?
— Да, прокатился.
— Понравилось?
— Даже очень!
— Рад за тебя. Как порыбачил?
— Неплохо, Дэйв. Поймал одиннадцатифунтовую щучку, то есть я не сам ее поймал, а мой брат Клод — он врач в Сент-Клауде.
— Одиннадцать фунтов? Что ж, это приличная рыбка. Я слыхал, ты ездил за границу?
— Да.
— Н-да… А как в Канаде виды на урожай?
— Неплохие. Хотя не везде.
— И долго ты здесь пробудешь?
— Дня два, не больше.
— Ну что ж, рад был с тобой повидаться. Заходи в гости.
Дружески болтая с Дэйвом, я видел краем глаза, что доктор Кенникот ухмыляется. Приветливость Дэйва оказала на меня такое благотворное действие, что я забыл свою робость и спросил доктора почти непринужденным тоном:
— Чего это вы скалитесь?
— Ничего, просто так — абсоменно, мистер Леопольд, непрелютно, мистер Лоб (забавно сказано, правда? Это я вчера по радио услышал). Смотри-ка — с нормальным, хорошим парнем вроде Дэйва ты становишься своим в доску и забываешь про свою интеллигентность. Вот и Кэрри тоже так. Поглядеть на нее, так она и Передовая, и Думающая, и Встревоженная. А стоит прислуге забыть на столе горячий утюг и сжечь скатерть, так куда девается ее возвышенная душа, и она такую устраивает ей головомойку, что любо-дорого. Вот ты все пишешь про Дебса, а можешь ты с ним так же запросто разговаривать, как с Дэйвом?
— А почему бы нет? Я очень люблю Юджина.
— Ага! Вот-вот! Юджин! Это ваш сигнал бедствия. Вся эта ваша шатия обязательно называет его «Юджин». А я вот гляжу, с Дэйвом ты разговариваешь на нормальном американском языке, а как начнешь перед нами заноситься, то до того уж изящно выражаешься, словно милорд с моноклем. Ну ладно, залезай в машину.
Я не мог не заметить, как легко и уверенно он управляется с машиной: дал задний ход, переключил передачу, на секунду притормозил перед новым автоматическим светофором, который теперь красовался на пересечении Главной улицы с Айовским шоссе, свернул на шоссе и дал скорость тридцать пять миль в час.
— Ты, конечно, заметил, что мы замостили Главную улицу, — сказал он. — Эти лопухи, что читают твою писанину, небось, воображают, что мы до сих пор еще бродим по колено в грязи, а мы и забыли, какая она, грязь-то, — на хорошей бетонной дороге ее как-то не заметно! Но я хочу тебе показать еще кое-что — сам ты этого не заметишь. Я знаю, к чему свелось бы твое серьезное изучение политических настроений в Гофер-Прери; если бы я тебя не вытащил с собой, ты бы сидел с Кэрри и Гаем Поллоком и толковал с ними о том, какие мы закоснелые провинциалы и как далеко еще Гофер-Прери до Бостона… Скажи, ты играешь в гольф?
— Нет, не приходилось…
— Ну, конечно. Я так и думал. Разве Бесстрашному Разоблачителю и Луженой Глотке пристало таскаться по полю за мячиком? В гольф играют только такие забулдыги, как бедный старик Кенникот, да принц Уэльсский, да Ринг Ларднер,[176] да, может, еще Герберт Джордж Уэллс, о котором вы всюду кричите. А ну погляди-ка вон туда!
Я поглядел и увидел на окраине Гофер-Прери, этого городка, затерявшегося среди безграничных полей и безграничной наивности, этого царства фермеров-шведов, адвентистов седьмого дня и нарукавных резинок, поле для гольфа. Неподалеку стоял хорошенький домик для хранения бит, а на поле виднелось человек шесть — семь девушек в изящных юбках и пестрых свитерах, которые куда красивее и элегантнее самых дорогих новинок Бонд-стрит или Рю де ля Пэ.
— На соседнем лугу стоял аэроплан.
— А зачем аэроплан? — только и нашелся я сказать.
— А это аэроплан двух провинциалов вроде нас, только из Техаса. Им, видишь ли, вздумалось объехать все города Соединенных Штатов, где есть поля для гольфа. Ну и парочка, я тебе скажу, Льюис! Один — методистский проповедник, который считает, что человеку полезнее трудиться, чем пить виски, оно, конечно, в бактериологии он слабоват, и ему сроду не переспорить твоего приятеля Де Крюи,[177] который говорит, что алкоголь убивает микробов. А другой — жалкий невежда, получивший диплом в Йельском университете, а сейчас опустившийся до поста президента железнодорожной компании. Да, вот еще интересный штрих. Захожу сегодня в парикмахерскую Мака — хотел почистить ботинки, а Мак мне говорит: придется вам походить в нечищеных, доктор, чистильщик ушел играть в гольф. Что с нас взять — все мы тут негодяи-капиталисты и собираемся голосовать за этого отвратительного наемника Уолл-стрита Кулиджа. Чего там, мы прямо — таки садисты. Поэтому мы и играем в гольф с парнем, который чистит нам башмаки, и разрешаем прислуге звать нас по имени, тогда как вы, возвышенные души…
— А, идите к черту! — не выдержал я.
Он засмеялся.
— Мы тебя обратим. Пойдешь еще агитировать за Кэла Кулиджа.
— Черта с два я вам пошел!
— Слушай. Льюис, может, я и неотесанная деревенщина и за душой у меня всего-навсего степень бакалавра от какого-то там Миннесотского университетишки (и, между прочим, неплохие отметки по всем предметам), но мне хочется обратить твое внимание на то, что ты два раза подряд упомянул черта и что будущее время от глагола «идти» — «пойду», а не «пошел». Ты уж извини, что я осмеливаюсь указывать такому прославленному стилисту… Слушай, я вовсе не стараюсь вывести тебя из терпения, я просто применяю лучший из известных мне способов обороны-наступление. Разумеется, ты со мной не согласен. Если бы япошки вторглись в Америку, то, по-твоему, вдоль калифорнийского побережья нужно было бы выстроить побольше трибун, с которых этот ваш Виллард и Джон Хейнс Холмс,[178] и Эптон Синклер, — а, может быть, заодно и Ленин, и Троцкий, и мамаша Эдди,[179] и Гарри Toy[180] — объясняли бы ненаглядным япошкам, как вы их любите, и тогда те, конечно, устыдились бы и ни за что не стали бы насиловать наших женщин. А вот лично я предпочел бы задать им такую баню, чтоб впредь неповадно было.
— Доктор, по сравнению с нами у вас есть два преимущества. Как все консерваторы, все бравые ребята, вы считаете, что лучший метод спора — это приписать противнику несуществующие нелепые убеждения и потом разнести их вдребезги, доказать, что эти несуществующие убеждения нелепы, не желая при этом слушать никаких объяснений. А мы, свихнувшиеся умники, пытаемся выяснить, как на самом деле обстоят дела, — задача потрудней и не столь забавная. И потом, мы признаем, что очень многого не знаем, а вы даже и не пытаетесь разобраться в болезни, которую нельзя вылечить микстурой или скальпелем. Аппендикс вырезать — это вы можете, а вот разобраться в природе так называемого «успеха»…
— Я заметил у тебя в книжках одну забавную штуку, Льюис! Каждый раз, когда тебе нужно привести пример серьезной операции, ты говоришь об удалении аппендикса. Тебе что, она больше всех нравится? Или ты не знаешь, как называются другие? Хочешь, я подарю тебе медицинский словарь? Ну, ладно, ладно, не буду. Я лучше тебе покажу, какие у нас тут еще произошли перемены.
Он повернул обратно к городу и привез меня к новому школьному зданию из цветного кирпича теплых тонов, с большими чистыми окнами и безупречной вентиляцией.
— Это вот в основном дело рук Вайды Вузерспун. Помнишь, как вы, бывало, — ты, она и Кэрри — спорили об образовании? Ты все твердил, что нам нужны настоящие учителя, вроде Жака Леба, Эразма и Марка Хопкинса, а она больше интересовалась чистыми бачками для питьевой воды. Так вот, она от нас не отступалась, пока мы не выстроили вот это… Ну, а что ты сделал для улучшения школьного дела?
Я оставил последний выпад без внимания и спросил, что за учителя рассказывают в этом идеально вентилируемом здании о Гомере, биохимии и славе господа бога молодому поколению Гофер-Прери.
— Учителя? Наверно, такие же неучи, как и все мы, простые, заурядные ребята. Да вряд ли они очень-то наслышаны о Гомере и биохимии… Между прочим, а в какой школе ты преподносишь ребятам свои высокоумные мысли про Гомера и биохимию, а вдобавок еще проверяешь домашние задания и пытаешься вправить мозги девчонкам, которые, начитавшись чепухи, вроде той, какую пишете вы с Менкеном, заявляются домой в три часа утра вдрызг пьяные? Ты намекаешь — разумеется, ты ни с кем из них не знаком, но ты все знаешь заранее, — что преподавание у нас поставлено никуда не годно, что наши учителя — сборище болванов… Так, может, ты сам сюда приедешь и будешь учить ребятишек латинскому, и математике, и истории так, как считаешь необходимым? Я член школьного совета. Хочешь быть у нас учителем? Могу тебе это устроить.
Выслушав мой ответ, он только фыркнул и нажал на стартер. Он показал мне новое здание железнодорожной станции — почему-то он называл его «депо» — и прилегающий к нему скверик с цветочными клумбами; английский сад-парк, разбитый отошедшим от дел фермером-немцем, и новый государственный рыбопитомник.
— Что скажешь? — спросил он. — Наша Главная улица как будто живет немногим хуже какого-нибудь итальянского переулка?
— Кто спорит, вы их оставили далеко позади — материально.
— Так-так, значит, «материально». До чего ж ваша публика любит это словечко! А по-нашему, не только материально. Наша бейсбольная команда держит первенство в штате среди небольших городов, и для этого мы на пять месяцев наняли ребятам тренера-профессионала и безо всякой «материальной» выгоды отваливали ему по триста долларов в неделю!
— А сколько вы платите своим учителям в месяц? — кротко спросил я, после чего мы сцепились в яростном споре, который продолжался все двадцать с лишним миль до деревни Новая Прага и так ни к чему и не привел.
Доктор остановил машину возле какого-то захудалого домишка в польской части Новой Праги. В дверь дома постучал уже не Агитатор, а Врач. Не знаю, что он делал в этом доме. Для меня вообще они загадка — эти огромные, уверенные в себе люди, которые заходят к перепуганной насмерть женщине, совершают над ней какие-то таинственные действия и выходят со спокойным и солидным видом биржевых маклеров. Он отсутствовал пятнадцать минут. Один раз из дома донесся женский вопль и разъяренный рев мужчины, выкрикивавшего какие-то славянские слова. Вернувшись, доктор заметил только:
— Кажется, я ей втолковал, что к чему.
— Господи, что вы ей втолковали? Что там случилось? Кто был этот человек? Муж или другой?!
Доктор Кенникот поднял бровь и посмотрел на меня с уничтожающим высокомерием.
— Льюис, я ничего не имею против того, чтобы рассказать тебе о своем финансовом положении, признаться в недостаточном знакомстве с эндокринологией или растолковать свою нелепую идею, будто бесхитростный учитель из Вермонта вроде Кэла Кулиджа лучше понимает Америку, чем портняжка, всего полгода назад приехавший из Литвы. Если ты будешь настаивать, я готов даже поговорить о нашей с Кэрри жизни в сексуальном аспекте. Но я никогда не разглашаю тайны, доверенные мне пациентами.
Он был великолепен.
Разумеется, все это было чрезвычайно далеко от истины. Он часто рассказывал мне секреты своих пациентов, даже не скрывая их имен. Но если не считать этой пустяковой детали, его позиция была чрезвычайно благородной, и я выслушал его с должным смирением.
— Вот так. Ну, довольно об этом. Теперь послушай, зачем я тебя сюда привез. Взгляни на эту дыру. Что здесь есть? Грязь, кособокие домишки, один гараж и один католический костел. Черт знает что! Теперь посмотри вон на тех девчонок.
Он поднял свою большую твердую руку с руля и показал на двух девушек, проходивших мимо барака, на котором красовалась вывеска «Бензин, сигареты, сосиски». На них были модные юбки, шелковые чулки, туфельки, каких не купишь в самом дорогом европейском магазине, блузки спокойного тона и прелестные соломенные шляпки, из-под которых выбивались умело завитые кудри. Они смотрели тем уверенно-циническим взглядом, который приводит в панику робкого мужчину.
— Ну как? — вопросил Кенникот. — Что скажешь? Деревенщина, a?
— Им и в Ньюпорте не стыдно было бы показаться. Только…
Тут он взорвался.
— Ну, конечно, «только»! Когда вас прижмешь к стенке, вы тут же придумываете какое-нибудь «только» или «однако»! Так вот, попробуй хоть на десять секунд забыть свои словечки и послушай рядового, работящего, преуспевающего Человека Как Все. Эти девчонки — мои пациентки — не только одеты не хуже твоих ньюпортских или парижских модниц, они к тому же славные, порядочные, работящие девушки. Одна из них служит подавальщицей в этой жуткой обжорке, которую мы только что проехали. А послушать, о чем они говорят! Может, они чересчур много хихикают, но они тебе расскажут и о последних кинокартинах, и о радиопередачах, и о книжках, и о чем хочешь. И у обеих отцы — чехи, заскорузлые, бородатые мужики, которые по-английски двух слов связать не могут. А погляди на их дочек — королевы! И это за одно поколение! Вот что мы тут делаем, пока вы там поливаете нас помоями и только без толку чешете языком.
Тут уж я потребовал права на ответное слово. Очень хорошо, сказал я, я готов признать, что это очень милые, может быть, даже очень умненькие девочки и что сопоставление этих носительниц радиокультуры с растерянными крестьянами, сидящими над своими пожитками на Эллис-Айленд,[181] говорит о поразительном прогрессе, достигнутом за одно поколение. Только разве мы этим обязаны доктору Кенникоту, Дэйву Дайеру и прочим обитателям Главной улицы? Может быть, доктор Кенникот и объяснил им, что слушать радио полезнее, чем напевать чешские народные песенки, ну а их хорошенькие ножки, их шелковые чулки и непринужденная манера держаться — разве это не их собственная заслуга?
И почему доктор Кенникот считает, что непринужденная живость нью-йоркских девушек-социалисток славянского происхождения порочна и свидетельствует об их низком развитии и о том, что через Эллис-Айленд не следует пропускать никого, кроме вермонтских консерваторов, тогда как непринужденная живость начиненных кинофильмами девушек-славянок с Главной улицы, напротив, свидетельствует об их высоком развитии? Неужели просто потому, что одни лечатся у доктора Кенникота, а другие нет?
Опять завязался жаркий спор. Потом я вдруг вспомнил, что пока не получил нужного мне интервью и что мистер Виллард[182] меня попросту уволит. Я поспешил умиротворить доктора, признав, что его идеям нельзя отказать ни в последовательности, ни в практичности. На обратном пути, ведя машину со скоростью тридцати пяти миль в час на прямой дороге и двадцати на поворотах, он, наконец, объяснил мне принципы кулиджизма.
— Похоже, у тебя в голове начинает проясняться, Льюис. Я хотел, чтобы ты увидел действительные, реальные успехи, которых мы достигли, — мостовую на Главной улице, поле для гольфа, шелковые чулки, радиоприемники, — и только после этого я собирался объяснить тебе, почему все здешние жители, за исключением, может быть, нескольких обозленных на всех и вся фермеров-неудачников, которые будут голосовать за Лафоллета, и неизлечимых наследственных демократов, которые останутся верны Дэвису, будут голосовать за Кулиджа. Мы делаем дело, мы работаем или воюем, а в разгар работы или войны никому не нужны разговоры — нужны результаты. Ты, небось, думаешь, может, даже уже написал — бедняжка, придется тебе все менять! — что я буду поносить Боба Лафоллета. Стану обзывать его болваном, мошенником, тупицей и немецким агентом. Черт побери, может, я так бы и сделал во время войны или сразу после. Но сейчас я вполне готов — даже рад — признать, что он, возможно, вполне приличный парень и много знает. Может быть, в какой-то степени это даже хорошо, что в сенате был такой крикун, который не давал им там покою — а то они до того осторожны, что вообще ничего бы не делали. Я готов предположить, что Боб Лафоллет хороший, честный, умный человек, настоящий борец и энергичный деятель. Но в том-то и беда. Нам ни к чему сейчас развивать чересчур энергичную деятельность. В мире все слишком сложно и неопределенно, отношения между странами слишком запутаны, и нам сейчас нужны люди, у которых, может быть, и не так уж много знаний и воображения, но которые зато не теряют головы в трудную минуту и не начинают раскачивать лодку.
Представь себе, что два года тому назад, когда Бантинг[183] разрабатывал инсулиновую терапию для диабетиков, но когда его работа еще не была завершена, ты и прочие ваши мыслители, пекущиеся о народном благе, включая Лафоллета, подняли бы крик, что я неправильно поступаю, ограничивая лечение диабетиков диетой. Вы бы рассказали мне про Бантинга, а заодно и про какого-нибудь Боггса, который изобрел еще что-нибудь новенькое против диабета. Что бы я сделал? Я бы остался закоснелым консерватором и по-прежнему ограничивался бы диетой.
А вот теперь, когда доказано, что Бантинг был прав, а Боггс ошибался, я принял на вооружение метод Бантинга, а метод Боггса выбросил в помойку. Но я не делал ни того, ни другого, пока точно не узнал, что к чему. Может, Боггс и умная голова, может, он получил диплом в Иенском университете, но он слишком торопился, и ошибся, потому что хотел достичь чересчур многого. Так вот Лафоллет и есть тот самый Боггс, он хочет добра, но слишком торопится и потому ошибается. А Кулидж — это я и еще двадцать три миллиона американцев; мы ждем, что получится у Бантинга и ему подобных, но пойдем за ними только тогда, когда они докажут, что правы, и ни за что не пустимся в аферу.
Чем плох Лафоллет? Не тем, что он будет манкировать своими обязанностями или не сумеет разобраться в железных дорогах или тарифах, а тем, что он все время будет экспериментировать. Будет выдумывать разные штуки, одно менять, другое налаживать. Возможно, у нас много такого, что действительно нужно наладить. Но сейчас не время, сейчас нам нужен шофер, который не будет налаживать карбюратор, поднимаясь на крутую гору.
Вот так. Не подумай, что мы так уж встревожены — нам нечего тревожиться, покуда у руля такая трезвая голова, как Кэл, а его кабинет при нем на роли тормозов. Мы гораздо меньше встревожены, чем ваша братия, завывающая о грядущих бедствиях. Послушать вас, так, если Лафоллет не будет избран, купол Капитолия обрушится в Потомак, Германия нападет на Францию, а мою антенну сбросит с крыши. А я вот гляжу — без обеда вроде никто не остается, и если сельское хозяйство не так быстро развивается, как могло бы, то виной этому высокие цены на самогон, из-за которых наши фермеры не столько возят навоз на поля, сколько сидят у своих змеевиков.
Я не спорю, несколько банков у нас лопнуло, возрос процент арендаторов. А тебе никогда не приходило в голову, что нам ни к чему все это множество мелких банков — лучше пусть их будет поменьше, да получше. Опять же, что касается аренды, какая разница, Быть арендатором или обрабатывать собственную землю, которая столько раз заложена и перезаложена, что на самом деле вовсе тебе не принадлежит. Нет, брат, надо смотреть на вещи с научной точки зрения… Слушай, тебе не кажется, что левое крыло скрипит? Слышишь, нет? А я слышу. Надо будет позвать Макса — пусть починит. Терпеть не могу, когда машина начинает скрипеть!
Так вот, у этого вашего листка «Нейшн», небось, выходит, что американцы ни за что не допустят к власти Кулиджа. Мне тут как-то попался в руки «Америкен меркури»[184] — Гай Поллок дал почитать, — так там какой-то деятель пишет, что Кулидж просто мелкий жуликоватый политикан, а мозгами его господь бог забыл наделить… Между прочим, ты слыхал, что Форд, Эдисон и Файестон собираются нанести ему визит? Само собой эти ребята — самые светлые головы и самые преуспевающие люди в стране — только и делают, что наносят визиты разным пронырливым выскочкам! А то как же!
Так вот, послушай. Во-первых, ты когда-нибудь видал, чтобы втершийся в доверие проныра долго им пользовался? Я не видал… Разве что тот хиромант, который заявился к нам три года тому назад и до сих пор благополучно морочит людям голову, черт бы его побрал! Во — вторых, предположим, что Кэл действительно мелкий политикан без единой дельной мысли в башке. Ну, а какой нам нужен президент?
В медицине — и, наверно, в какой-то мере в литературе — тоже нужна голова. Ты работаешь сам за себя, ответственность спихнуть не на кого, и с тебя спрашивают результаты. Но возьми, например, проповедника — от него только и требуется, что угодить прихожанам своими проповедями, а адвокату всего-навсего надо убедить этих лопухов присяжных, что его высокочтимый противник, господин обвинитель, — старый брехун. То же самое и с президентом: самое главное, чтоб он умел заморочить людям голову — как своим землякам на предвыборных собраниях, так и русским с японцами. Если Кэл действительно бестолочь и при этом ухитряется водить всех за нос, то он именно тот человек, который нам нужен: он сумеет держать в узде профсоюзы и втереть очки Европе.
И потом… да вообще чего зря толковать! Ты знаешь не хуже меня, что выберут Кулиджа. Можно было бы с тем же успехом отменить выборы — сберегли бы кучу денег, и черт с ней, с Конституцией. Все равно всем на это дело наплевать.
Я вот езжу по деревням — думаешь, кто-нибудь разговаривает о политике? Говорят про Леопольда и Леба, про Кида Макоя, про полеты вокруг света, про Томми Гиббонса, про машины и радиоприемники. Но только не про политику! А почему? Да потому, что они знают, что Кулиджа уже выбрали. Это знают даже закоснелые старые демократы, которым бы очень хотелось, чтобы страной управлял Братец Чарли, — им и дела нет, что он в этом ни черта не смыслит, готов слушать всякого, кто ему наплетет какой-нибудь вздор и вообще такой же невежда, как этот Уильям Дженнингс, который набрался наглости критиковать эволюцию.[185]
Я не встречал ни одного серьезного, обеспеченного человека, который собирался бы голосовать за Лафоллета. Кто же тогда за ним стоит? Я тебе скажу! Пожалуйста! Лодыри-фермеры, которым лень возиться с силосом и которые надеются, что он вздует цены на пшеницу и они смогут жить припеваючи, не утруждая себя работой. Придурки, готовые пристать к любой полоумной компании, — например, популистам или Беспартийной лиге. И еще рабочие, которые надеются, что ее и какой-нибудь псих станет президентом, он сделает их всех государственными служащими и им не придется больше потеть на фабриках.
Но за исключением этих проходимцев… Я тут спрашивал по крайней мере человек у ста, за кого они собираются голосовать — и девяносто из ста ответили: «Черт его знает, я как-то об этом не думал. Не знаю. Да все равно ведь Кэл пройдет».
А теперь об этих так называемых «разоблачениях» министра юстиции.[186] Я всегда подозревал, что это дело глубже, чем кажется, уж больно много народу пыталось нажить на этой истории политический капитал. А теперь я в этом полностью убедился — неспроста Уилер столкнулся с Лафоллетом. И это ему так просто с рук не сойдет!
В общем, дело ясно. Если только вдруг не случится страшного недорода — а виды на урожай преотличные, — ваше дело швах. Кэла выберут. Уже, по сути дела, выбрали.
Вечером я зашел к Кенникотам, но об избирательной кампании они больше говорить не захотели. Кэрол промямлила, что, дескать, да, Лафоллет — замечательный человек, а у Дэвиса такие восхитительные манеры-его бы следовало сделать послом при английском дворе, но сейчас, когда один банк лопается за другим, экспериментировать просто небезопасно, и она, пожалуй, будет голосовать за Кулиджа. А как-нибудь в другой раз, когда все уляжется, можно будет попробовать нововведения. И тут же, заметно оживившись, спросила меня, видел ли я «Чудо» и «Святую Иоанну».[187] Это правда, что они необыкновенно тонко и художественно поставлены?
Потом начался концерт по ВКЗ. Слушая «Индейку на соломе», мы невольно пританцовывали на своих стульях. Мы с доктором курили сигары, Кэрол почему-то вздыхала.
В десять часов я почувствовал, что они не будут чрезмерно огорчены, если я уйду. Распрощавшись, я побрел по Главной улице. Ослепительно белая бетонная мостовая, залитая светом электрических фонарей, была безлюдна, только возле бара и гаража толпились кучки молодых людей и со скучающим видом перекидывались малопонятными словечками. Я решил зайти к адвокату Гаю Поллоку, закоренелому холостяку и любителю изящной словесности, с которым мы с Кэрол когда-то перебирали заглавия книг, предполагая, что «обсуждаем литературу».
Жилье его ничуть не изменилось — все то же захламленное логово. Он был у себя и читал «Рассказ о Библии» ван Луна.[188]
Гай мне обрадовался. Если с Кенникотом я чувствовал себя чужаком, а Кэрол держалась со мной несколько принужденно, то Гай встретил меня с искренней сердечностью.
Поговорив о знакомых, выслушав, что такой-то умер, а такой-то процветает, я заметил:
— Да, перемен у вас много — мостовая и прочее.
— Это верно. И еще ожидаются. Хотят провести новый водопровод. Ежечасные автобусные рейсы в Гуин-сити — не дольше, чем на поезде, и вдвое дешевле. И еще собираются строить новую методистскую церковь — из камня. Только…
— Берегитесь этого слова!
— Знаю, знаю. Только город мне сейчас нравится гораздо меньше, чем раньше. Говорить стали больше — об автомобилях, о радио, — но какие-то ужасно неинтересные разговоры. Раньше судачили о том, кто за кем ухаживает, говорили о политике и об отвлеченных предметах, рассказывали скабрезные анекдоты, а сейчас только и слышишь, что о новых батареях для приемника. С тех пор, как доктор Уэстлейк умер, Майлс Бьёрнстам уехал, а Вайда Шервин посвятила себя сыну-бойскауту, и даже Кэрол Кенникот… ничего не поделаешь, доктор убедил ее, что порядочной женщине не пристало заниматься обличениями или хотя бы просто проявлять чрезмерный энтузиазм, — просто не с кем словом перекинуться. В старые времена здесь жили пионеры. Они считали, что каждого, кто не посещает по воскресеньям евангелическую церковь, следует линчевать, но зато в них чувствовался огонь. Теперь их почти не осталось. Им на смену пришли владельцы ванн, лимузинов, плетеной мебели, моторных лодок и дач на берегу озера, и они ни за что не допустят, чтобы радикалы посягнули на все эти хорошенькие вещички и чтобы пустопорожняя болтовня о человеческой душе мешала им высказываться по поводу этих вещичек. Не подумай, что мне больше по душе обитатели Гринвич-Вилледж, которые способны только болтать. Мне нравятся люди, которые честно работают, платят свои долги, любят своих жен. Мне бы вовсе не хотелось, чтобы на их месте оказались возвышенные души, которые имеют привычку рассаживаться на полу и бросать окурки в пустые стаканы из-под виски. Только.
Он почесал подбородок.
— Не знаю. Но эти бесконечные разговоры о наезженных милях и маджонге наводят на меня такую тоску! Они воспевают новые тормоза, как персидские поэты воспевали лепестки роз; асфальт — их религия, а хорошая погода, благоприятствующая автомобилизму, — их патриотизм. Они обсуждают камеры и покрышки с таким же жаром, с каким в пятнадцатом веке спорили о непорочном зачатии. Порой мне хочется спрятаться в хижине на массачусетских холмах и заняться изучением греческого языка. А, давай поговорим о чем-нибудь попроще!
— Тогда скажите мне свое мнение о предвыборной кампании. Вы, верно, тоже будете голосовать за Кулиджа. Помнится, вам всегда нравились безнравственные книжки, которых не допускали в публичные библиотеки, но, с другой стороны, вы говорили, что всех членов ИРМ надо перевешать и что Лафоллет — сомнительная личность.
— Разве? Ну, так на этот раз я собираюсь голосовать за Лафоллета. Я считаю, что люди, которым не нравится, когда посреди интересной беседы раздается оглушительный треск приемника и жизнерадостные болваны восклицают: «Добрый вечер, дражайшие радиослушатели!» — такие люди должны голосовать за Лафоллета, и если мы не изберем его на этот раз, то все равно когда-нибудь обязательно изберем. Я верю, что поклонение великому богу Мотору в конце концов вызовет обратную реакцию.
— Кенникот считает, что они нас побили раз и навсегда.
— Если это так, если нам суждено до конца дней слушать голос Кулиджа, записанный на фонограф или передаваемый по радио, тогда нашим внукам придется эмигрировать в Сибирь. Но я в это не верю. Даже и Кенникоты не чужды прогрессу — по крайней мере я на это надеюсь. Его предки высмеивали Гарвея, потом Коха и Пастера, а для него они авторитеты. Его внуки будут смеяться над Кулиджем, подобно тому, как сам Кенникот сейчас смеется над бородой Резерфорда Б. Хэйса.
А пока мне бывает очень одиноко по вечерам. Теперь даже и в кино не сходишь; мы до того рьяно взялись насаждать нравственную чистоту по образцу нашего высоконравственного фундаменталиста-президента, что в кинокартинах уже не увидишь дурацких ковбойских похождений, а только неверных жен да девчонок в купальных костюмах. Так что я решил-и достанется же мне от моих добропорядочных коллег! — решил пойти агитировать за Лафоллета!
Мы все должны это сделать. Довольно мы терпели засилье доктора Кенникота и роскошных лимузинов, которые катятся по новой мостовой Главной улицы — и по нашим душам!
1924ДЛИННАЯ РУКА МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА
Удивительно, какой глубокий след оставляет в сознании человека то место, где он родился и вырос, и как прочны воспоминания о нем. С тех пор, как я уехал из Соук-Сентра на восток и поступил в колледж, прошло двадцать девять лет. За эти годы — больше четверти века — я приезжал сюда два или три раза на месяц-другой, несколько раз гостил недели по две, но в остальном совершенно потерял связь с городом. Однако я помню его так же отчетливо, как если бы уехал лишь вчера.
На проспектах Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Стокгольма, в горных деревушках Италии, в залитых солнцем виллах Испании и в пожелтевших древних храмах Афин я вспоминаю его улицы, его людей, его знакомые приветливые лица. Десять миль для меня всегда будут не математической абстракцией, а расстоянием от Соук-Сентра до Мелроза. Понятие «запад» всегда, хотя бы я дожил до девяноста лет, будет ассоциироваться не с Калифорнией и Скалистыми горами, а с Хобокен-хилл, который оказывается слева, если стать лицом к дому доктора Э. Дж. Льюиса.[189]
Таковы простые и неистребимые впечатления детства. Я пишу эти строки в Коннектикуте, а в середине мая уеду на свою вермонтскую ферму, но я ни минуты не сожалею, что родился и вырос в городке среди прерии, а не в Новой Англии, или Нью-Йорке, или пусть даже в старой Англии, или на европейском континенте.
Если я и критиковал эти городки, то, во всяком случае, не больше, чем Нью-Йорк, Париж и знаменитые университеты. Я убежден, что нигде на земном шаре меня в детстве не окружали бы столь дружелюбные люди. Глядя на юнцов из богатых семей Новой Англии, у которых есть свои автомобили и которые разъезжают по всему свету, я думаю, что они не знают и десятой доли тех радостей, которые достались мне в детстве: я мог купаться и ловить рыбу в озере Солт-Лейк, плавать по его бурным волнам на плоту (возможно, связанном из ворованных бревен), совершать походы к Фэри-Лейк, по десять миль вышагивать с ружьем в октябре, кататься на санках с Хобокен-хилл, воровать дыни или, затаив дыхание, слушать декламатора в зале организации «Великая Армия Республики».[190] То было хорошее время, хороший город и хорошая подготовка к жизни.
1931ПИСЬМО О СТИЛЕ
Я полагаю, что ни один знающий свое дело, образованный и зрелый писатель не употребляет слово «стиль» применительно к своему творчеству. В противном случае его одолели бы сомнения, и он совершенно лишился бы способности писать. Он может — я сужу по себе — задумываться над отдельными проблемами «стиля». Он может сказать: «В этой фразе нет надлежащего ритма», или: «Простой парень не может выражаться так напыщенно», или: «Эта фраза банальна — кажется, я взял ее из идиотской передовицы, которую читал вчера». Но общее понятие «стиля» как чего-то отличного от содержания, от идеи и от фабулы просто не приходит ему в голову.
Он пишет как бог на душу положит. Он пишет — если только это настоящий писатель! — так же, как Тилден играет в теннис или как Демпси боксирует; короче говоря, он с головой погружается в работу, не теряя ни минуты на дилетантские раздумья и самолюбование.
Все эти противопоставления — стиль или содержание, стиль благородный или вульгарный, простой или манерный, — все это такая же метафизика, как заплесневелые (боюсь, что слово «заплесневелые» — верный признак «дурного стиля») рассуждения о Теле и Душе или Разуме. Этой метафизикой мы сыты по горло. В наших краях, к востоку и северу от Канзас-сити (Канзас), теперь уже не беснуются из-за таких пустяков. Мы не видим сколько-нибудь существенной разницы между Душой и Разумом. Мы считаем установленным, что при больном Разуме (то бишь Душе) и Тело будет больное и что в больном Теле не может быть здорового Разума (то бишь Души). Более того, даже такая упрощенная метафизика нам надоела. В большинстве случаев мы не говорим о Теле обобщенно, а прозаически уточняем: «Печень пошаливает, вот и злюсь на весь свет».
Так же обстоит дело и с безнадежно устаревшим понятием «стиля».
Стиль — это способ выразить то, что человек чувствует. Стиль зависит от двух факторов: от способности чувствовать и от того, есть ли у человека для выражения его чувств достаточный запас слов, — накопленный при чтении книг или в беседах с людьми. Без подлинной способности чувствовать, которую нельзя приобрести ни в одном учебном заведении, и без драгоценного запаса слов, который не столько дается обучением, сколько приобретается в результате хорошего вкуса и каких-то необъяснимых особенностей памяти, не может быть и речи о стиле.
О стиле написано, вероятно, еще больше чепухи, чем об истине, любви или о том, что такое разумное правительство. Научить стилю (как вообще научить чему бы то ни было) человека, который с самого начала инстинктивно не чувствует, в чем тут дело, невозможно.
Вот образец хорошего стиля.
Джон Смит встречается с Джеймсом Брауном на Главной улице Соук-Сентра (Миннесота) и говорит: «Доброе утро! Чудесный денек!» Это не просто хороший стиль, это шедевр. Но если Смит скажет: «Здорово, парень!» или «Дорогой сосед, встреча с вами в столь волшебное утро, когда ослепительное солнце выплывает из-за холмов, положительно освежила мне душу», — это в обоих случаях прескверный стиль.
Вот еще один образец хорошего стиля. В «Теории и практике медицины» Ослера и Мак-Крея сказано:
«Помимо дизентерии типа Шига, а также амебной и ограниченной форм этой болезни, существуют также различные язвенные колиты, иногда весьма тяжелые, которые нередко встречаются в Англии и Соединенных Штатах».
Приведу еще образец хорошего стиля, не лучше и не хуже предыдущих, поскольку каждый из них полностью выражает мысль автора:
Таинственное место! Здесь ночами Под призрачными лунными лучами Блуждает женщина, тоскуя о любимом.Я уверен, что никогда не научусь выражаться с такой точностью, с какой выражали свои мысли Кольридж, Ослер и Мак-Крей или Джон Смит в разговоре с Джеймсом Брауном. Но я надеюсь, что всегда буду не меньше, чем они, поглощен тем, что мне хочется сказать, и буду писать, не останавливаясь ни на минуту, чтобы подумать: «А хороший ли у меня стиль?»
1932ИСКУССТВО ИНСЦЕНИРОВКИ
I
Года два тому назад, когда вышел фильм по моему роману «Эроусмит» и пресса — в полном соответствии с действительностью — писала, что я доволен экранизацией романа, один серьезный чикагский интеллигент прислал мне письмо, в котором в энергичных выражениях предавал меня анафеме за то, что я «продался». Можно было подумать, что я пообедал с Муссолини, выступил за кандидатуру Гувера или заплатил свои долги. Моему корреспонденту и в голову не пришло, что я потому похвалил фильм, что он мне действительно понравился. У нас бытует два воззрения на драматизацию литературных произведений для театра или кино: первое — что автор романа, если он порядочный человек и не подкуплен постановщиком, должен испытывать к драматургическому варианту отвращение, омерзение и гадливость и как можно громче публично об этом заявлять, независимо от того, хорошо или плохо осуществлена инсценировка; и второе — что такая инсценировка может считаться полноценной, только если она во всем до мельчайших деталей следует за инсценируемым произведением.
С таким же основанием можно было бы заявить, что перевод с иностранного языка тем полноценнее, чем он буквальнее: исходя из этого положения, немецкую фразу «Sieh mal, ich bin ins Haus gegangen» следует переводить «Смотри раз, я есть в дом вошедший» — как ее иногда бывает необходимо переводить в классе.
На самом деле, инсценировка в значительной своей части, а иногда и полностью тем лучше, чем больше она отходит от инсценируемого произведения. Примером этому может послужить четвертая сцена пятого акта в драматургическом варианте «Додсворта», инсценированного мистером Говардом. Этой сцены, где Сэм сердито пикируется с Табби, Мэти, Эмили и всеми остальными, в романе нет, и я не слышал и не знал о ней, пока не увидел ее на генеральной репетиции. И тем не менее это моя любимая сцена, и я считаю, что она наиболее точно передает тему и характеры героев моего романа. Этого и только этого автор романа имеет право требовать от инсценировщика — чтобы он сохранил и иными, драматургическими средствами донес до зрителя тему и характеры героев.
Эта сцена, которая длится всего минут десять, очень много дает для понимания характеров и взаимоотношений Сэма, Табби, Мэти, Эмили и Гарри. В частности, мы видим, что Сэм, который был излишне кроток с Фрэн, излишне послушен, умеет показывать зубы, и что он отнюдь не случайно стал главой своей корпорации. Сцена способствует развитию сюжета и, главное, сама по себе весьма забавна — благодаря идиотскому разговору по поводу загадочной картинки.
Могут спросить: разве нельзя было добиться такого же эффекта, переработав какой-нибудь эпизод, имеющийся в романе? Что ж, придется, видно, повторить в миллион первый раз то, о чем уже говорили миллион раз, а именно, что театральное представление, которое может продолжаться не более трех с половиной часов (и которому лучше продолжаться полтора часа), которое происходит на определенном и весьма ограниченном пространстве и в присутствии зрителей, обладающих весьма разнородными и противоречивыми вкусами, должно состоять из эпизодов, совершенно отличных по своему характеру от эпизодов романа и действующих гораздо быстрее и нагляднее. Романисту некуда торопиться, он может нанизывать все новые и новые главы (и — увы! — так и делает). Он может, вопреки логике, рассказать о конце света в двадцати словах, а на описание процедуры бритья главного героя затратить пятьдесят страниц, и все это ему простится, потому что читатель имеет возможность в любую минуту захлопнуть книгу и вернуться к ней лишь тогда, когда у него появится соответствующее настроение. А вот пьесу в несколько приемов не посмотришь — нельзя уйти после двух-трех сцен, сесть на поезд и вернуться в Енкерс, а на следующий вечер опять явиться в театр и посмотреть еще сцену-другую. Я вполне согласен с мистером Говардом, когда он пишет в предисловии, что на всех пятидесяти страницах романа, описывающих возвращение Сэма в Америку, нет ни одного эпизода, который бы так же отчетливо доносил нужную мысль, как придуманная им сцена.
Новичкам-инсценировщикам — а, судя по моей почте, таковые составляют 99,2 % всех лиц, мечтающих о литературной карьере, — неплохо было бы поучиться у мистера Говарда, который столь искусно сохранил дух романа, игнорировав его букву. Однако, чтобы успешно освоить его метод, нужен еще и талант, которым господь бог наградил мистера Говарда, а как им обзавестись, я, к сожалению, не могу посоветовать.
II
Чтобы наглядно показать, как именно мистер Говард подошел к своей задаче, я хочу сравнить окончательный драматургический вариант с оригиналом. Нижеследующий длинный отрывок[191] взят из стандартного американского издания «Додсворта» (стр. 315–353). В нем описывается, как Сэм, расставшись в Берлине с Фрэн, которая намерена с ним развестись, с тоской на сердце бесцельно слоняется по Европе до тех пор, пока не знакомится ближе с Эдит Кортрайт и не начинает видеть в ней возможную спутницу своей новой жизни.
Все эти тридцать восемь страниц романа вполне точно переданы второй сценой третьего акта, умещающейся на девяти страницах. (Правда, в защиту романиста следует сказать, что драматургу помогают и декорации, и освещение, и актеры, и их костюмы, восполняющие краткость самого текста, тогда как возможности романиста весьма ограниченны: он должен все это выразить с помощью одних только слов — и какое же это изнурительное, иссушающее мозг занятие — подыскивать нужные слова!)
III
Молодым людям, желающим посвятить себя неблагодарному труду драматизации, не следует представлять себе дело так, будто мистеру Говарду сразу удалось сжать тридцать восемь страниц романа до девяти страниц второй сцены третьего акта. В предварительных вариантах было суждено исчезнуть десяткам страниц, прежде чем окончательный вариант выкристаллизовался в том виде, в каком он был напечатан и поставлен на сцене.
Вместо нескольких строк в конце первой сцены третьего акта, из которых с достаточной определенностью вытекает, что Фрэн намерена добиваться развода, что Сэм согласится на ее условия и что ему будет очень одиноко, в предыдущем варианте была целая сцена. Она происходит в Берлине на следующее утро после того, как Сэм узнает о чувствах Фрэн к Курту; Сэм собрался уезжать и торопливо пьет кофе перед тем, как отправиться на вокзал. Фрэн одевается за сценой. Между ними происходит следующий разговор.
Фрэн (за сценой). Я кладу воротнички и галстуки вместе с рубашками, а бритвенный прибор в другой чемодан.
Додсворт. Спасибо.
Фрэн. Как ты решил ехать? Поездом или самолетом?
Додсворт. Для самолета у меня слишком много багажа.
Фрэн. Билет у тебя?
Додсворт. У коридорного. А ты не хочешь кофе?
Фрэн. Налей мне. Я сейчас.
(Он начинает наливать кофе. Лицо его передергивает гримаса боли.)
Фрэн (входит. На ней халат.) Ага! Закрыл-таки.
Додсворт. Спасибо, что помогла мне уложиться.
Фрэн. Я всегда помогала тебе укладываться.(Она садится за стол.) Ты мне не налил?
Додсворт. Нет.
(В первый раз их взгляды встречаются. Она опускает глаза. Наливает себе кофе, добавляет молока.)
Фрэн. Вот так.
Затем следует разговор о разводе и о деньгах, который по сравнению с окончательным вариантом кажется не менее многословным, чем сам роман. Вдруг Фрэн выдвигает великолепный, весьма для нее типичный план: оказывается, она позвонила Курту и тот сейчас придет. «Ты же должен понять, в каком я оказываюсь двусмысленном положении. Мне будет гораздо проще, если ты позволишь нам с Куртом тебя проводить — тогда все подумают, что мы просто друзья».
На это предложение оградить ее репутацию и выставить напоказ передней и ее любовником муку, которую причиняет ему расставание, предложение, продиктованное столь свойственной ей заботой о самой себе, у Сэма хватает мужества ответить отказом, хотя в жизни, а не на сцене он, возможно, и согласился бы. Сцена кончается следующим образом:
Фрэн. Сэм, дорогой, ну не надо так расстраиваться. Конечно, все это нелегко. Но что делать: мы с тобой просто не подходим друг другу. И я люблю Курта. Очень! (Делает шаг по направлению к нему.) Но все-таки у нас было много счастливых дней, правда? Я их не забуду! А ты будешь помнить? (Она продолжает, на секунду запнувшись.) И, пожалуйста, постарайся не очень огорчаться.
Додсворт (до этого смотревший в пол, поднимает голову и улыбается). Дорогая, кажется, я тебе сегодня еще не говорил, что я тебя ужасно люблю.(Его голос прерывается. Он быстро выходит и закрывает за собой Дверь.)
Свет гаснет. Занавес.
IV
Таким образом, инсценировщик подходил к своему тексту не менее критично, чем к авторскому. В процессе работы он написал добрый десяток предварительных вариантов, из которых беспощадно выбрасывал как отдельные «очень», «милый» или «конечно», так и целые сцены.
В конечном итоге мистер Говард свел тридцать восемь страниц романа к одной сцене в конторе «Америкен Экспресс», выбросив не только вышеприведенную длинную сцену прощания в Берлине, но также и сцену, в которой Сэм, как и в книге, ищет утешения в объятиях Нанде Азередо.
Это была превосходная, тщательно обдуманная и абсолютно законченная сцена, и тем не менее мистер Говард спокойно выбросил ее в корзинку. В ней истосковавшийся и уставший от радостей путешествия Сэм понуро сидит в открытом кафе дю Дом. Неподалеку от него расположились трое или четверо Джеймсов Джойсов из Небраски, которые всячески высмеивают этого буржуа, вторгшегося на их почти что собственный Олимп, а затем их осеняет блестящая мысль, что по справедливости следует угоститься за его счет — они этим только окажут ему честь. Они посылают к Сэму девицу из разряда «мыслящих», которая подсаживается к нему, заводит разговор, изящно напрашивается на угощение и вообще, как выражаются немыслящие девицы, «вцепляется в него мертвой хваткой». Но прежде чем она успевает распространить его любезность на своих приятелей, на выручку Сэму приходит Нанде, которая изгоняет кипящую негодованием хищницу и берет Сэма под свою опеку.
Я надеялся, что мистер Говард сохранит эту сцену, но он был так же безжалостен к своей работе, как я при нашем с ним первом разговоре об инсценировке — к своему роману.
Столь же энергично он разделался и еще с некоторыми сценами. Если в окончательном варианте Сэм излагает свои впечатления о соборе Парижской Богоматери в шести строчках, то раньше здесь была целая сцена (и, по-моему, очень хорошая). В ней мы видим Сэма в соборе. Он молча, не шевелясь, сидит на скамье, вперив взор в розовое окно, а вокруг него снуют парижане, пришедшие поклониться своей покровительнице, и одна за другой проходят группы туристов, которым гиды вдохновенно, чуть ли не лирично повествуют: «Собор замечателен единством своего архитектурного замысла. Длина его равна четыремстам двадцати шести футам, ширина — ста пятидесяти семи, высота в центре — ста пятнадцати футам. Потолочный свод опирается на семьдесят пять больших колонн и сто восемь малых. В большом органе шесть тысяч труб, сто десять клапанов и пять клавиатур. Здесь короновался император Наполеон. А теперь, дамы и господа, давайте вернемся к автобусу и поедем в Латинский квартал — обиталище знаменитых художников, а затем к гробнице Наполеона».
Это была одновременно и очень забавная и очень эффектная сцена — непрестанное бормотание толпы как бы разбивалось о застывшего в молчаливой неподвижности и, казалось, такого же неодушевленного, как колонны собора, Сэма. Она производила бы впечатление. Но она не была необходима — и мистер Говард ее выбросил. Однако весьма вероятно, что сначала было необходимо полностью ее написать, и лишь тогда становилось ясно, следует ее сохранить или выбросить. Мистер Говард также сначала написал, а затем исключил из спектакля сцену холостяцкого обеда в Лондоне, на котором А. Б. Хэрд знакомит Сэма с американскими бизнесменами, живущими в английской столице; сцену (которую я тщетно молил сохранить), где Сэм, верный традициям американских мужей, в их первый вечер в Лондоне обзванивает всех знакомых в поисках кого-нибудь, кто составил бы им компанию за обедом и избавил Фрэн от страшной перспективы обедать tete-A- tete с мужем; а также сцену в английском загородном доме, где они знакомятся с миссис Кортрайт.
V
Зрители, видевшие в роли миссис Кортрайт очаровательную Нэн Сэндерленд, понятия не имеют, какого труда стоило заблаговременно ввести эту несносную Кортрайт в пьесу и постепенно подготовить зрителя к заключительным сценам, где она играет столь важную роль. В романе она впервые появляется на 222-й странице — Сэм и Фрэн приходят с рекомендательным письмом на ее венецианскую квартиру (которую мистер Говард попросту у нее отобрал). Для романиста это не составляло проблемы, поскольку, когда наконец миссис Кортрайт появилась в романе, он мог отвести ей сколько угодно места. Но в пьесе зрителя надо было заранее с ней познакомить, хотя бы мимоходом.
Человеку, читающему пьесу или присутствующему на спектакле, появление миссис Кортрайт покажется, как оно сейчас кажется и мне, вполне естественным. Он и не представляет, как основательно пришлось перетасовать эпизоды и действующих лиц, чтобы высвободить для нее место. И здесь тоже инсценировщик отошел от канвы романа, и опять этот отход вполне оправдан.
По сравнению с романом инсценировка понесла и другие потери, равноценные исчезновению венецианской квартиры миссис Кортрайт. Сэм и Фрэн теряют сына — его поглотила Эмили, их дочь. Мадам де Пенабль каким-то образом утратила свой акцент. И уж вовсе не знаю, как случилось, что Курта разжаловали из графов в бароны. Видимо, это произошло в последние дни перед премьерой, когда мистер Говард по ночам переписывал целые сцены «Додсворта» в Филадельфии, а днем ухитрялся присутствовать на репетициях его собственной пьесы «Желтый Джек» в Нью-Йорке и производил впечатление довольно занятого человека. Сын, титул, акцент — казалось бы, потери немаловажные, но я, автор, ни капли их не оплакивал.
VI
В пьесе удобнее иметь одну дочь вместо дочери и сына; точно так же одно лицо — преемник Сэма — Генри Хаззард — заменяет в пьесе всех его друзей, которые в романе, не переставая любить Сэма, забывают его, пока он странствует по Европе. В романе такого персонажа не было, а под именем Генри Хаззарда фигурировал доктор, не имевший никакого отношения к деловым занятиям Сэма. В пьесе Сэм поглощен уже не фургонами и пригородным строительством, как в романе, а самолетостроением, которое представляется инсценировщику гораздо более романтичной отраслью промышленности.
Главное, что требуется от инсценировки, — это чтобы она не была только инсценировкой. Инсценировать роман не легче, чем писать оригинальную пьесу, — это тоже творчество, и тут не так важно следовать исходному произведению, как творчески его переосмысливать, перерабатывая для сцены составные элементы романа. Как-то мне случилось присутствовать на читке пьесы, рассказывающей о жизни известного философа. Работая над ней, автор несколько месяцев изучала труды философа — повести, статьи, письма — и с гордостью нам заявила, что она впервые воссоздала подлинный облик философа. Ибо — и это действительно так — каждое слово, которое он произносит в пьесе, за исключением отдельных «да», «нет» и «добрый вечер, досточтимый милорд», взято из его работ.
Естественно, что пьеса была скучна до необычайности.
Потому что, к счастью, даже самые изысканные авторы говорят о житейских делах вполне внятно. Даже Генри Джеймс, обжегшись о кофейник, не говорит: «Этот по природе своей вульгарный, но в наш индустриальный век необходимый кофейник таит в себе запас теплоты, который, на мой взгляд, при соприкосновении проявляет себя как одно из его наименее привлекательных качеств». Он просто говорит: «А, черт!»
Не за близость к оригиналу, а за ее собственное художественное совершенство люди до сих пор читают — и даже ставят в театре — одну из величайших известных человечеству инсценировок, драматургическое переложение одной из «Трагических историй»[192] Бельфоре, сделанное неким Шекспиром и называющееся «Гамлет».
1933Я ПРОБИВАЮСЬ В ПЕЧАТЬ
Когда речь заходит о писателе, чаще всего задают вопрос, на который в его биографии реже всего можно найти ответ: почему он стал писателем. Почему он не избрал деятельного и благодарного поприща врача, или революционера, или инженера, или летчика, или актера (или импрессарио мюзик-холла, как сказали бы в дни моей юности), а обрек себя на незавидную участь сидеть год за годом в полном одиночестве, сочиняя небылицы или комментируя поступки, совершенные другими, более энергичными его согражданами? Этот вопрос не возникает лишь в том случае, когда в роду у писателя есть так называемая «артистическая жилка», как, например, у Хью Уолпола,[193] сына прославленного епископа, происходящего к тому же по боковой линии от великого Горэса.[194] Тут писатель просто наследует дело своего родителя, подобно тому как сын бакалейщика мирится с печальным уделом — целыми днями подавать через прилавок кетчуп и кукурузный крахмал. Но как черт попутал таких людей, как Уэллс, Беннет, Хоуэллс и даже Уитмен, чья юность протекала в унылой мещанской среде, уже в ранние годы взяться за перо и пристраститься к этому занятию?
И почему Гарри Синклер Льюис, сын заурядного провинциального врача в прериях Среднего Запада, мальчик, который никогда — буквально никогда! — не слыхал дома за столом ничего, кроме: «Миссис Хармон поправляется», или «А масло опять вздорожало», или «Миссис Уиппл сказала мне, что миссис Саймонтон сказала ей, что к Келсли приехал родственник из Миннеаполиса», — мальчик, который до поступления в университет ни разу не видел живого писателя, если не считать местных газетчиков, — почему он уже в одиннадцать лет решил, что станет сочинителем рассказов (мечта, которая, кстати сказать, полностью так никогда и не осуществилась), а в четырнадцать послал в «Харперс мэгэзин»[195] то, что, как он верил, было поэмой?
Многие психологи полагают, что подобные случаи объясняются стремлением пациента при помощи литературных подвигов расквитаться со школьными товарищами, которых ему никак не удавалось перекричать, перещеголять, переплюнуть в драке, плавании, романах и во всем прочем. В приложении ко мне эта теория представляется отчасти верной, но только отчасти, ибо, не проявив в детские годы особых спортивных талантов, я, однако, отнюдь не был ни калекой, ни неженкой. Значит, дело было не только в моем желании взять реванш, но, вероятно, и в том, что мачеха, которая была, по сути дела, моей настоящей матерью (отец вторично женился, когда мне было всего шесть лет), читала мне гораздо больше книг, чем это обычно принято в провинции. А книг у отца было немало, и хотя он умалчивал об этом, но в действительности относился к ним с величайшим почтением, как и подобало человеку, который до поступления в медицинский колледж был учителем.
Так или иначе, с должным основанием или без оного, в одиннадцать лет меня одолел писательский зуд. Когда мне еще не было десяти, я уже регулярно выпускал газету, предназначенную для самого узкого круга читателей, какой только можно вообразить, — для самого себя. Помимо обычных виньеток, рубрики этой газеты были украшены портретами ее редактора. Пятнадцати лет, живя в Соук-Сентре, я во время каникул нанялся в «Геральд», где раскладывал шрифт по кассам, вертел рукоятку ручного печатного станка, писал заметки (которые неизменно заканчивались словами: «Все были довольны приятно проведенным временем») и за все эти многообразные труды не получал ни цента. К концу лета я заикнулся о прибавке, и меня тотчас уволили, резонно возразив, что я и того не стою. Все же этим летом (1899 или 1900 года) я был счастлив, ибо считал, что пробился в печать.
К тому времени, когда мне удалось поступить в Йель, зуд стал нестерпим. Я вкладывал в писание куда больше пыла, чем в любые науки и даже любой вид спорта: я забрасывал «Йельский литературный журнал» и «Йельские куранты» длинными поэмами на средневековые сюжеты, в которых говорилось о таинственных потрясающих женщинах, одетых в белую парчу (о боже!), рассказами о шведах из Миннесоты и даже лирическими стихотворениями на немецком языке, должно быть, ужасном. Добрая половина этих вещей удостоилась напечатания. «ИЛЖ» был журнал чопорный, почтенный, ученый, консервативный и для начинающего автора совершенно бесполезный, а вот непритязательные, легкомысленные «Куранты» принесли мне величайшую пользу. Кроме того, я посещал занятия по теории короткого рассказа, руководитель которых, ставший потом автором нескольких низкопробных романов, сумел бы, вероятно, погубить любое дарование, если бы сам был подаровитее.
Тогда же я впервые напечатал, уже в настоящем журнале, критическую статейку несколько скандального характера, цель которой, как я сейчас вижу, заключалась в том, чтобы доставить некоторым весьма почтенным джентльменам кучу неприятностей.
Одной из самых ходких книг того времени, снискавшей не менее восторженные похвалы, чем в наши годы «Унесенные ветром»,[196] был роман Кэтрин Сесиль Герстон[197] «Маскарад». Я тогда, если не ошибаюсь, оканчивал второй курс колледжа, и случайно мне попался на глаза старый, опубликованный под псевдонимом роман Израэля Зангвиля[198] «Премьер и художник», в сюжете и отдельных сценах которого было много общего с «Маскарадом». Я написал об этом статью, вскоре опубликованную журналом «Критик», ныне усопшим… Это был первый, но далеко не последний случай, когда мне посчастливилось дать нью — йоркским журналистам повод смешать меня с грязью и осыпать грозными проклятиями.
Следующее мое приключение в так называемой «литературе» было еще более сомнительным. Отличаясь врожденной антипатией к детям и абсолютной неспособностью к общению с ними (свойства, не утраченные мною и по сей день), я, естественно, принялся писать «детские стихи» и иногда пристраивал их в дамские журналы; насколько помнится, это был беспомощный лепет, по сравнению с которым пустячки А. А. Милна[199] показались бы просто мильтоновскими шедеврами. Наконец, будучи еще в колледже, а может быть, сразу после его окончания я продал калифорнийскому журналу «Голубой мул» свой первый рассказ за весьма сходное вознаграждение: семь долларов. С коммерческой точки зрения по сравнению с репортажем в соук-сентровском «Геральде» это был поистине грандиозный шаг вперед.
Но тогда же, в колледже, наравне со всякой чепухой о Джиневре, Ланселоте (удивительно глупом герое, если вообще считать его героем), о милых детках и газовых печах (что было уже настоящим свинством) я все время не прекращал попыток создать настоящий, серьезный роман. Он должен был называться «Дети детей» и был задуман как повесть о четырех поколениях, но план его с каждым годом все разбухал и усложнялся, так как задача была мне явно не по плечу. Я придумал схему, согласно которой каждое поколение восставало против предыдущего, покидало Нью-Хейвен, направлялось в Миннесоту, потом в Калифорнию, а потом (тут я каким-то образом предвосхитил парадоксальную тенденцию к переселению, которая в то время только начала появляться), отскочив, как мячик, от неприступной стены Тихого океана, возвращалось на Восток. Я не написал, вероятно, и десяти страниц этого опуса, но, составляя план и продумывая сложные проблемы, которые вставали передо мной в связи с этим, приобрел, пожалуй, куда больше литературного мастерства, чем при работе над всеми теми безделками, которые я поставлял журналам.
После окончания колледжа я попал на Запад в качестве секретаря Грейс Макгоуэн Кук и делил с Уильямом Роуз Бенетом[200] хижину в Кармеле, который тогда был еще только просекой в сосновом лесу, а потом снова на Восток, в издательство. И все это время — с 1908 по 1911 год — я упорно писал «Нашего мистера Ренна», первый роман, который мне удалось довести до конца. Обычно моей первой книгой считают «Главную улицу»; в действительности же она была седьмой.
«Ренн», напечатанный в 1914 году, был недурным образчиком легкого жанра; главное его достоинство в том, что он внушает подлинную симпатию к поистине маленькому «Маленькому Человеку», робкому, одинокому нью-йоркскому клерку, возмечтавшему «повидать мир», как говорили в те годы, когда на мир еще стоило смотреть; кровожадная свистопляска, которая привела его на край гибели, разыгралась позднее. Получив в наследство несколько сот долларов, мистер Ренн отправляется на скотопромышленном судне в Ливерпуль и предпринимает путешествие пешком по Англии; вскоре его начинает тянуть домой (совсем как меня, когда я после первого года учения в колледже пустился в такое же путешествие), и он мудро возвращается к своей конторке и привычному ничтожеству.
Книга разошлась хорошо — что-то около трех тысяч экземпляров — и даже удостоилась двух-трех благожелательных рецензий. Этого, разумеется, было достаточно, чтобы болезнь стала хронической и неизлечимой.
А потом пришел 1920 год с «Главной улицей», и проклятыми фотоснимками в газетах, с бесконечными интервью и просьбами читать лекции, и попытками Голливуда (до сих пор безуспешными) заманить меня к себе, и вообще со всей той шумихой, которую мир неизменно поднимает вокруг писателя, чтобы помешать ему заниматься его прямым делом, то есть писать. Это-замечательное дело, и пусть оно заставляет меня порою трудиться до седьмого пота, пусть портит мне нервы, — все равно оно дает большее наслаждение, чем любое другое занятие, — если, конечно, не считать научных исследований в лаборатории. Уверяю вас, сам по себе процесс писания для меня не менее важен, чем его результаты, и мне почти безразлично, работать ли над серьезным романом или над хлесткой статейкой для «Нью-Йоркер».[201] И я никогда никого не агитировал: ни за что-либо, ни против чего-либо, только против тупости.
Да, это — замечательное дело, но ни за какие блага я не стал бы рекомендовать его людям, которые придают хоть какое-нибудь значение всем этим премиям, и наградам, и похвалам, и приятному смущению, когда на тебя показывают пальцем в ресторане, — словом, всему, чему угодно, кроме самого главного — тайного блаженства сидеть спозаранок в затрапезном халате за машинкой и ликовать, когда слова (величавые или непристойные, безразлично) вереницей ложатся на бумагу, черным по белому, и телефон молчит, и завтрак может отправляться ко всем чертям.
Так вот, когда у меня просят рецепт, как писать — писать что-нибудь, все равно что! — мне всякий раз вместо высокопарных поучений приходит в голову забавное определение, которое Мэри Хитон Ворс[202] дала в 1911 году стайке зеленых восторженных юнцов: «Искусство писать — это искусство протирать сиденье штанов сиденьем стула».
А кому это не по вкусу — скатертью дорога в Голливуд или в радиостудии, и все будет как нельзя лучше, и литературный караван будет бодро шествовать все вперед и вперед.
1937МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Я впервые попал в Нью-Йорк тридцать три года тому назад — в сентябре 1903 года. Только что был введен в действие телеграфный кабель через тихий океан, и Рузвельт послал телеграмму губернатору Филиппин Тафту; только что умер Уистлер;[203] Кэрри Нейшн утверждала методы тогда еще неизвестного Бадольо; три месяца спустя братья Райт совершили первый полет на аэроплане; а в августе, если воспользоваться выражением мистера Марка Селливэна,[204] автомобиль впервые пересек континент на собственной тяге. Таким образом, эпоха бензинового двигателя только начиналась, и можно было бы предположить, что Нью-Йорк, где, как и в 1700 году, основным средством передвижения, если не считать трамвая и надземки, была лошадь, показался мне тихим провинциальным городком, о котором в наш век засилья такси я вспоминаю с грустным сожалением.
Ничего подобного!
Я родился в Миннесоте и до этого не бывал восточнее Чикаго, за исключением тех двух месяцев, что я провел в Огайо, в колледже Оберлина, разительно отличавшемся от Колумбийского университета или Сорбонны. Курить было запрещено, а вечеринки открывались проникновенной молитвой, которую читал какой-нибудь студент, проходящий подготовку в Христианской Ассоциации Молодых Людей.
Из Миннесоты до Олбани я доехал без особых происшествий, хотя впоследствии оказалось, что молодой человек, которому я в ожидании поезда с гордостью поведал, что я «йелец», тоже ехал на Восток и собирался сделаться «йельцем». Но, окончив подготовительную школу Йельского университета, а не среднезападную среднюю школу, как я, он был отлично осведомлен о том, что слово «йелец» сразу заявляет о дремучем провинциализме и кладет на человека несмываемое клеймо… В Нью-Хейвене я с его помощью имел возможность в этом убедиться. Урок не прошел для меня даром, и с тех пор, если кто-нибудь спрашивает: «Вы не автор ли…?» — я поспешно отпираюсь: «Нет-нет, что вы! Тот парень, портрет которого вы, наверно, видели, — мой двоюродный брат. Говорят, мы похожи — оба тощие. Боже меня упаси, я служу по оптово-бакалейной части. Мой округ…» К этому времени вопрошавшего обычно уже и след простыл. Не верите, попробуйте сами.
Мой багаж шел прямо в Нью-Хейвен, а я слез в Олбани и купил билет на пароходик, курсирующий по Гудзону до Манхэттена. Такие блестящие идеи посещают человека только в молодости. Позже, когда здравый смысл сменяет юношескую восторженность, ему уже не приходит в голову плыть в Нью-Йорк по Гудзону, так сказать, на приливной волне истории. С палубы передо мной открылись Кэтскиллские горы — до этого я никогда не видел гор; на голубеющих склонах и в темных ущельях мне виделись Ичабод Крейн[205] и Рип ван Винкль; повсюду витал дух Джорджа Вашингтона, и на берегах стояли каменные дома, которые в сравнении с дощатыми коттеджами моих родных прерий казались мне сверстниками Акрополя, притом несравненно лучше сохранившимися. Мне все казалось великолепным, я чувствовал, что полюблю Восток и особенно Нью-Йорк. Я полюблю этот город и подчиню его своей власти. Через каких-нибудь двадцать лет я стану знаменитым писателем, у меня будет доход по крайней мере две тысячи долларов в год — может быть, к пятидесяти годам даже две тысячи двести, роскошная квартира из четырех комнат, увешенная японскими гравюрами и майоликой делла Роббиа, где меня будут посещать все великие художники: Ричард Ле Гальен, Максфилд Парриш,[206] Джеймс Хунекер,[207]- последнего я, кажется, ценил не столько за его безупречный вкус, сколько за множество почерпнутых у него головоломнейших имен чешских граверов и финских мастеров триолета, которые я не без эффекта пускал в ход. (Жалкий школяр, я еще не научился понимать цену настоящим мастерам, таким, как Хемлин Гарленд,[208] Бут Таркингтон,[209] Джордж Эд,[210] Финли Питер Данн,[211] Уильям Джиллет,[212] а Уильям Дин Хоуэллс казался мне недостаточно романтичным. «В поисках золотой девушки» и «Идиллии короля» Ле Гальена приводили меня в восхищение; цыпленок a la King казался вкуснее бараньих отбивных. Да так оно, собственно говоря, и должно быть: первокурсники должны быть романтиками, второкурсники — социалистами, третьекурсники — забулдыгами, а что дальше, неважно.)
Я был императором, въезжающим в Нью-Йорк на барже. Моей воле завоевателя, а не капитану подчинялся пароходик; мне было даже немного жаль Нью-Йорк, которому придется так безропотно мне покориться.
Мы подошли к пристани в сумерках. Не знаю, служил ли тот же самый причал также и для паромов, или посадка на паром, происходила где-то поблизости, но со своей безопасной пароходной палубы я был ввергнут в какой-то сатанинский шабаш.
Теперь я знаю, что все эти беснующиеся демоны были просто мелкими служащими с сердцами невинных агнцев, что в портфелях у них лежала итальянская колбаса, сандалии для сынишки и свежий номер «Сенчури», а мысли были поглощены вполне безобидными предметами, вроде предстоящей партии в крошиноль, и что они всего-навсего спешили домой в Джерси и боялись опоздать на шестичасовой поезд. Но тогда мне показалось, что они сошли с иллюстраций Доре[213] к Дантову «Аду». Меня толкали, пинали, кололи зонтами, чемодан бил меня по ногам, я спотыкался на неровных досках пристани и еще более неровных булыжниках мостовой, и в этом дымном сумраке мне чудилось, что на меня напало оголтелое воинство самого Сатаны: я видел кругом горящие ненавистью глаза, искаженные яростью рты, ко мне тянулись когтистые лапы. Моя провинциальная растерянность сменилась паническим ужасом. Я воззвал к полисмену, умоляя его сказать, на каком трамвае можно доехать до Центрального вокзала. Тут на меня накинулся еще десяток приспешников дьявола, и, прежде чем я успел рассмотреть, в какую сторону полисмен ткнул большим пальцем, меня оттерли в сторону, затолкали, несколько раз перевернули вокруг оси.
Я до сих пор не знаю, куда завез меня в тот вечер трамвай, — кажется, я разъезжал от Гарлем-ривер до Бэттери и обратно. Я помню, что несколько раз пересаживался и каждый раз пытался выплакать свое горе на плече очередного кондуктора или полисмена, которые не проявляли ни малейшего сочувствия к моим бедам. Мощенные золотом улицы города моей мечты не просто потускнели — они покрылись толстым слоем грязи, и их темные закоулки таили неведомую угрозу. Повсюду меня толкали и швыряли из стороны в сторону с такой же злобой и остервенением, как на пристани. В глазах прохожих я читал исступленную ненависть и разнообразные злодейские замыслы; а та мрачная, вызывающая, привычная ловкость, с которой они выскакивали из-под копыт лошадей на перекрестках, казалась молодому провинциалу из Миннесоты совершенно недостижимой. (Он и по сей день не стал подлинным горожанином, и если бы его не удерживал стыд перед шофером, то брал бы такси для того, чтобы пересечь Мэдисон-авеню.) Властвовать над этим городом? Я был разбит наголову, не успев приступить к его завоеванию, я никогда не научусь повелевать этим грязно-серым, сиплым городом-динозавром. (И так никогда и не научился!)
Во время своих трамвайных странствий я видел — но был слишком удручен, чтобы этому обрадоваться, — настоящих живых итальянцев, китайцев и негров. Помнится, а может, это мне после приснилось, но помнится, что из окна трамвая я с изумлением пялился на сказочный дом-утюг, самое высокое здание во всем мире — раз в семь или восемь выше того дома в Соук-Сентр, где помещалась редакция «Уикли эвеланч», ложа масонов и фотография. Но в конце концов каким-то чудом я оказался возле кирпичного сарая, который и был Центральным вокзалом, и забился в грязный вагончик поезда, направлявшегося в Нью-Хейвен.
Даже если бы не было темно, я вряд ли рассмотрел бы — до того я был измучен и обескуражен — яблоневые сады Коннектикута и холмистые поля, пересеченные каменными оградами, увидеть которые мечтал вот уже пять лет. Я попросту спрятался в своем вагоне, который, как это ни странно, все-таки привез меня в Нью-Хейвен.
С чемоданом в руке я сошел с перрона и пошел по улице — довольно тихой — в поисках гостиницы. Кажется, гостиница, в которой я остановился, не отличалась особыми достоинствами. Прямо сказать, это была из рук вон плохая гостиница: в ней было душно, в ней были плоские жесткие подушки и не было водопровода. Но мне она показалась райской обителью: в ней все дышало покоем, и мне было отрадно сознавать, что ее стены не обрушатся и не уничтожат меня, как это пыталась сделать нью-йоркская толпа.
Так тридцать три года назад я познакомился с Нью — Йорком, и так началась моя жизнь на Востоке.
Семь лет спустя я снова приехал в Нью-Йорк, уже для того, чтобы здесь остаться. Я был уже не тот многообещающий юнец. Мне было двадцать пять лет, я получал пятнадцать долларов в неделю и лет через пять — десять мог рассчитывать на двадцать пять. Этот новый Нью-Йорк, Нью-Йорк пятнадцати долларов в неделю, тоже не сулил особых радостей: нам платили по субботам, и мы, издательская мелюзга — в том числе Джордж Соул, который теперь заправляет «Нью рипаблик», — в субботу утром никогда не завтракали.
Лондон, Париж, Берлин, Рим, Вена — во всех этих городах я чувствовал себя спокойно и уверенно. Если лондонцы и не склонны разговаривать на улице, полисмен всегда объяснит тебе, как куда пройти. Если в Париже в сырую погоду такси и заносит через каждые пятьдесят метров, потерпевших не бывает, раздаются лишь сочные проклятия. Но Нью-Йорк до сих пор действует на меня почти так же, как в тот сентябрьский вечер 1903 года. Пусть им восторгается Огден Нэш;[214] что касается меня, то я не поеду на такси от Девяностой улицы до Гринвич-Вилледж, даже если там меня будут ждать собранные под страхом суровой кары Ганди, Франк Селливэн,[215] Филлис Макджинли,[216] Ф. П. А.,[217] доктор Харви Кушинг,[218] генерал Геринг, Бернар Макфадден[219] и Дж. Эдгар Гувер[220] вместе со своим пистолетом. Мой первый день в Нью-Йорке все еще не кончился. Кроме того, восемьдесят центов за бутылку апельсинового сока — это безумно дорого.
1937ОДИНОКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР
Когда-то в Америке жил ученый, который задумал совершить свою собственную революцию и совершил ее. Он умер семьдесят пять лет тому назад, а нам не сравняться с ним и еще через семьдесят пять лет. Его звали Генри Торо, и благодаря ему город Конкорд в Массачусетсе известен не меньше Лондона. Больше всею на свете он хотел откупить свое время — не то время, которое в наш космический век покупают на радио, а время для жизни; ему нужен был досуг, и не затем, чтобы спать, произносить громогласные речи или кичиться перед соседями, а затем, чтобы наслаждаться плодами своего постоянно совершенствующегося ума и любоваться красотой, все полнее открывающейся его зорким глазам, — не громоздкой красотой Акрополя или Тадж-Махала, а несравненной прелестью веток, птичьих крыльев и утренней ряби на уолденском пруду.[221]
Он не только хотел этого. Он это сделал. С практичностью настоящего янки он точно подсчитал, сколько ему нужно еды, одежды и всего прочего. И он трудился — землемером, рабочим на карандашной фабрике — ровно столько, чтобы заработать на этот минимум. Никакие насмешки соседей не могли заставить его работать больше. Он построил себе теплую хижину и жил в ней с большим достоинством, чем любой одолеваемый государственными заботами император. Он пользовался любовью своих друзей, хотя это были не скромные Бедо того времени, а ласточки, бурундуки, окуни и другие быстрые, изящные и в высшей степени благородные создания.
Обо всем этом он тепло и с юмором написал в «Уолдене». Это одно из немногих неоспоримо классических произведений американской литературы было опубликовано в 1854 году, но звучит и сегодня современнее Дос Пассоса.[222] Наиболее известные из числа его знакомых — Эмерсон, Готорн, непобедимый спорщик папаша Луизы Мэй Олкотт[223] — считали Торо безобидным идиотом, но слава его пережила их всех.
Сейчас фирма «Хаутон Миффлин» выпустила сборник его избранных произведений, в который включено лучшее из написанного им, в том числе «Уолден». Сборник насчитывает 848 страниц, великолепно оформлен и снабжен комментарием и биографией, написанными Генри С. Кэнби.[224] Он стоит 5 долларов и явится прекрасным приобретением для любой библиотеки. На мой взгляд, сто тысяч экземпляров этой книги следовало бы преподнести в качестве рождественского подарка всем молодым людям, которые не без основания тревожатся о своем будущем, всем семейным парам, которые завидуют друзьям, имеющим автомобили, всем коммунистам, всем реакционерам и всем тем, на кого оказал влияние субъект, о котором, если не ошибаюсь, я писал на прошлой неделе, а именно Дэл Карнеги,[225] Певец Бэббитизма.
За восемьдесят два года до опубликования «Как добиваться» Торо писал об оптимистической доктрине доктора Карнеги следующее:
«Нельзя не заметить, какой мелкой и жалкой жизнью вы живете… лжете, льстите, заталкиваете себя в скорлупу вежливости или раздуваетесь в шар, заполненный разреженной щедростью, — и все лишь для того, чтобы ваш сосед позволил вам сработать для него башмаки или шляпу… принимаетесь болеть, чтобы иметь предлог отложить что-нибудь на случай болезни… Я много бродил по Конкорду и всюду — в магазинах, в конторах, на полях — каждый из людей, которых я видел, представлялся мне грешником, добровольно исполняющим какую-то странную епитимью».
Я бы не доверил Дэлу Карнеги и Хейвуду Брауну охранять нашу свободу от посягательств Италии, Германии, Японии… и Соединенных Штатов Америки. Но я бы доверил эту миссию Генри Торо и сделал бы его, человека, для которого непостижимо само понятие диктатуры, нашим Дуче, нашим верховным правителем.
1937ПРЕДИСЛОВИЕ К «ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ»
I
Я пишу это предисловие по просьбе моего издателя. Что же все-таки мой издатель, умеющий с присущей всем людям его профессии вежливостью побуждать к делу нерадивых авторов, желает, чтобы я написал о своем опусе? Что бы я сам хотел написать? Да, в сущности, ничего. Для меня (и, по-моему, для большинства писателей) не придумаешь ничего скучнее собственной книги после того, как год собирал материал, обдумывал произведение и писал, потом с чувством неудовлетворенности прочел гранки, понимая, что какие — то места можно было написать лучше, будь в запасе еще год, и, наконец, не без волнения прочел рецензии — и те, в которых тебя превозносят как мастера мирового класса, и те, в которых тебя обзывают безграмотным приспособленцем.
И вот теперь, через много лет, когда ваш труд объемом в двести тысяч слов, в котором вы высказали свое мнение о наших маленьких городках, прочли уже несколько миллионов людей, вы все еще еженедельно получаете награду в виде такого, например, письма: «Наш учитель литературы (!) дал нам задание написать своему любимому писателю пожалуйста пришлите свою фотографию с автографом и напишите собственноручно что вы думаете о наших маленьких городках».
II
Еще в 1905 году в Америке существовало единодушное убеждение в том, что, хотя в больших городах гнездится зло и даже среди фермеров иногда встречаются плохие люди, наши городки — это чуть ли не рай на земле. Они непременно застроены белыми домиками, скрытыми в тени огромных деревьев; им неведомы ни нищета, ни тяжкий труд; каждое воскресенье добродушный пастор с благородной сединой источает благодать и знание; а если местный банкир оказывался замешанным в сомнительных делах, его неизбежно выводили на чистую воду честные поселяне. Но чем, действительно, славились наши городки, так это Любовью к Ближнему. В крупных городах человек предоставлен самому себе; но в родных местах соседи образуют одну большую и жизнерадостную семью. Они дадут вам взаймы денег, чтобы послать Эда в коммерческое училище; они станут заботиться о вас, когда вы заболеете — собравшись толпой у вашей постели, они будут по двадцать четыре часа в сутки ухаживать за вами и утешать вас, не зная ни минуты отдыха; и когда вы отправитесь на тот свет, они не оставят вдову одну у вашего гроба. Уж конечно, именно они вдохновляют молодежь на благородные и великие дела: Так вот, в 1905 году, окончив второй курс Йельского университета, я приехал на каникулы в свой городок в Миннесоте и, проживши там два месяца, во время которых мои земляки весьма недружелюбно задавали все один и тот же вопрос: «Почему док Льюис не заставит своего Гарри поработать на ферме вместо того, чтобы позволять ему с утра до ночи читать книжки, напичканные глупыми историями и вообще бог знает чем?»-я обратился в новую веру, я понял, что пресловутая Любовь к Ближнему по большей части сплошной обман, что в наших деревнях может существовать такое же недружелюбное любопытство, такая же слежка, как и в солдатских казармах. И вот на третий месяц своих каникул, за пятнадцать лет до выхода книги в свет, я начал писать «Главную улицу».
Но тогда она называлась «Яд провинции», и главным ее героем была не Кэрол Кенникот, а Гай Поллок, адвокат, которого я изображал как образованного, симпатичного и честолюбивого молодого человека (то есть по образу и подобию младшего сына «дока» Льюиса Гарри); он начал практику в поселке, расположенном посреди прерий, и испытывал жестокий духовный голод. Я, должно быть, написал около 20 тысяч слов, но уже не помню никаких подробностей; рукопись бесследно исчезла, так же как и рукопись моей первой пьесы,[226] — это было либретто музыкальной комедии под названием «Президент Пудл», написанное в 1911 году — вдохновенно, с жаром и таким полным непониманием законов сцены, какие встретишь не часто.
Затем в 1919 году, за два-три года до того, как я начал писать последний вариант романа, я предпринял новую попытку завершить свою книгу, которая стала теперь называться «Главная улица»; это название сохранилось и в дальнейшем. На этот раз я написал уже около 30 тысяч слов и примерно треть из них использовал в окончательном тексте.
И, однако, тогда я чувствовал, что все еще не созрел для этой книги. (Пусть непредубежденные критики решат, созрел ли я для нее в 1919 году.) Но в том, что книга все-таки получится, я был убежден все четыре года, когда, оставив скучную работу в издательстве, колесил по Соединенным Штатам (Нью-Йорк-Флорида-Миннесота — Сиэтл — Калифорния — Нью-Орлеан — Нью — Йорк), зарабатывая на жизнь рассказами, которые печатались главным образом в «Сатердей ивнинг пост». Я провел большую часть времени в городках Среднего Запада, и хотя за мной уже не следили столь пристально и недоброжелательно, ибо мое занятие считалось не менее добропорядочным, чем занятие врача, юриста, священника или даже фабриканта, я все равно ощущал, что замкнутая в строгие рамки, точно в гетто, жизнь в маленьких городках может легко превратиться в благопристойный ад.
После того, как совершенно неожиданно мой роман «На вольном воздухе», печатавшийся выпусками в журнале «Пост», был продан в кино, я получил возможность год не заботиться о заработке и писать «Главную улицу». Я поспешил в милый и приятный городок, именуемый Вашингтоном, округ Колумбия, и, сняв меблированную комнату неподалеку от нынешнего «Мейфлауэр-отеля», осенью 1919 года приступил к работе. Комната эта стала моим кабинетом, поскольку мой трехэтажный дом на 16-й стрит был куда менее величав и просторен, нежели можно было судить по описаниям. На трех этажах было всего шесть комнат, и они были слишком малы, чтобы в них можно было по-настоящему развернуться.
Я кончил «Главную улицу», состоящую из 200 тысяч (а может быть, 180 тысяч) слов, в один на редкость жаркий день в начале лета 1920 года и в тот же вечер отвез рукопись Альфреду Харкорту. Мне удалось завершить свой труд в такой короткий срок потому, что я трудился по восьми часов в день зачастую все семь дней недели, хотя дневной нормой для творческого работника считается примерно четыре часа… Я никогда не работал с таким напряжением, и я уже никогда не буду так работать … Во всяком случае, если не свершится революция и я не должен буду бросить писать, не займусь настоящим делом, — стану, к примеру, каменщиком, солдатом или сестрой милосердия…
III
Книга моя как будто пользовалась хорошим спросом. Правда, я до сих пор не имею ни малейшего понятия, сколько именно экземпляров было продано, — я так никогда и не удосужился этим поинтересоваться. Но мне известно, что по тиражам она стоит в одном ряду с такими книгами, как «Антони Адверс»,[227] «Фермерская поваренная книга» и не самый популярный справочник по игре в бридж. Может ли автор мечтать о большем? Когда мои тогдашние издатели ознакомились с рукописью, Харкорт согласился со мной, что в случае удачи может разойтись 15 тысяч экземпляров книги. А агент по продаже А. X. Гере выразил уверенность, что за два года будет продано 25 тысяч экземпляров — он был явно не в своем уме, — но мы с Альфом лишь посмеивались над ним и не спорили.
IV
Едва книга вышла из печати, я стал получать первые письма от «болельщиков»: в одних меня обвиняли в том, что я согрешил против святого духа, в других благодарили за то, что я изобразил их соседей; а однажды пришло письмо, написанное на бумаге отеля Солт-Лейк — Сити. Это уж, конечно, какой-нибудь коммивояжер заскучал в дороге и решил скоротать время за письмом. Я вскрыл его и сразу же обратил внимание на необычный стиль письма, полного похвал, проницательных и в то же время искренних; бросил взгляд на подпись и обнаружил, что оно написано человеком, которого я никогда не видел, никогда не надеялся увидеть, — Джоном Голсуорси.
V
В самых разных газетах и журналах я знакомился с убедительными доказательствами того, что «Главная улица» целиком списана с «Антологии Спун-ривер». Я читал также еще более убедительные доказательства того, что мой роман — копия «Госпожи Бовари». Я не критик. И не мне обо всем этом судить. Я с радостью вспоминаю также статью, если мне не изменяет память, в журнале «Сатердей ивнинг пост», в которой мне, человеку невежественному, разъяснялось, что маленькие города в Европе страдают той же духовной узостью, что и в Америке. Правда, за много лет до появления этой статьи я высказывал точно такие же истины в «Главной улице», однако всегда приятно, когда тебя поправляют. С еще большей признательностью вспоминаю я статью (кажется, она принадлежала мистеру Стразерсу Барту), которая возвещала всему миру, что я глупейшим образом просчитался и Кэрол получилась у меня далеко не такой хорошей, как ее супруг. Однако я как раз это и старался показать: Кэрол достаточно умна, чтобы пофыркать на все, но недостаточно умна, чтобы что-либо изменить, поэтому мне было весьма приятно, что мистер Барт, по-видимому, прочел мою книгу, прежде чем высказать о ней свое суждение.
Всегда приятно, когда тебя ставят на место. Расположившись под фиговым деревом у себя в Вермонте, я буду самым несчастным человеком, если на свете не найдется очередного мистера Барта, который возьмет на себя труд поставить меня на место. Наверно, когда наступят эти нелегкие времена, лет эдак через двадцать, я настолько отчаюсь, что, возможно, захочу написать об одной древней книге, именуемой «Главной улицей».
1937СМЕРТЬ ЭРОУСМИТА
Синклер Льюис, мирно почивший во сне вчера после полудня в своем маленьком загородном доме в северозападном Коннектикуте в возрасте 86 лет,[228] был почти полностью предан забвению. Последние десять — пятнадцать лет он вел затворнический образ жизни, занимаясь, очевидно, лишь своими кошками, садоводством да короткими статьями о таких мало читаемых ныне писателях, как Марк Твен, так что для многих было полной неожиданностью, что он все еще жив. Одно время он был довольно известной личностью благодаря своим колким, однако не лишенным добродушия выпадам против напыщенности и бездарности современных политиков и промышленных магнатов.
Хотя теперь его романы уже никто не читает, однако некоторые из них, особенно «Главная улица», «Эроусмит», «Бэббит» и «Элмер Гентри», а также пространная четырехтомная хроника американской семьи «Тинтэйры»,[229] которую Льюис начал в 1944-м, а завершил в 1950 году, известны любому социологу и историку литературы, поскольку они изображают самодовольство и наивность, свойственные первой половине нашего века. Никто не решится, конечно, доказывать, что картина, в них нарисованная, отличается законченностью или объективностью. Мистер Льюис представляется нам в основном веселым патологоанатомом, который «препарировал» «прописные истины» и чувства своего времени — добродушную лживость сенаторов и тех, кого знают под именем «стимуляторов бизнеса», характерное для нашей эпохи высокомерие по отношению к женщине, честолюбие священнослужителей и людей свободных профессий, бесстыдную слезливость лжепатриотизма.
Впоследствии проницательный читатель заметил, что мистер Льюис изничтожал-или пытался изничтожать — сентиментальность, так как понимал, что в душе сам он сентиментален и романтичен, а потому зеленые холмы, солдаты, штурмующие баррикады, улыбающиеся девушки и зимние метели вызывали у него детский восторг, словно у какой-нибудь популярной романистки, и он издевался над грубым проявлением империализма янки, потому что был в душе до фанатизма влюбленным в свою страну американцем, которому никогда не нравилась снисходительность англичан, хотя он и жил частенько в их среде, в том числе целых два года — 1951 и 1952- в Дербишире.
«Стиль» Льюиса, медленно разворачивающего свою панораму Америки, при ближайшем рассмотрении оказывается смешением самых различных литературных влияний. Внимательно перечитав его книги и познакомившись с его высказываниями, можно установить, что его предшественниками, как это ни странно, были Диккенс и Суинберн, Г. Дж. Уэллс и А. Э. Хаусман,[230] Томас Гарди, Г. Менкен и Хемлин Гарленд. С другой стороны, он, кажется, не оставил последователей в литературе. В отличие от своих знаменитых современников — Теодора Драйзера (1871–1952) и полковника Эрнеста Хемингуэя,[231] который погиб при столь драматических обстоятельствах, находясь во главе смешанных филиппино-китайских частей, штурмовавших Токио в 1949 году, — мистер Льюис в очень малой степени повлиял на творчество молодых беллетристов. Возможно, это произошло потому, что ему недоставало силы и оригинальности, на которые он претендовал, а возможно, и потому, что, подобно Уилле Кэсер, одной из современных ему писательниц, он был одиноким, чуждавшимся людей человеком, — прошло слишком мало времени, чтобы мы могли все это объяснить.
Многие годы мистер Льюис неутомимо колесил по свету, тяга к новым местам доходила у него, можно сказать, почти до безрассудства. Он начал свою деятельность с того, что несколько лет проработал в газетах в журнале и в издательствах; он объехал почти все штаты, побывал едва ли не во всех уголках Европы, а после окончания второй мировой войны — к 1944 году — узнал почти всю Азию. Три или четыре года он состоял в различных профессиональных труппах, вероятно, бессознательно подражая своему кумиру Диккенсу, и играл на сцене без особого успеха, как, впрочем, и без провалов.
Но, вернувшись из Англии в 1952 году, он поселился безвыездно в штате Коннектикут, с которым был связан многими нитями. Хотя мистер Льюис родился в штате Миннесота (в 1885 году), в городке, расположенном посреди прерий, где его отец был обыкновенным провинциальным врачом, и сам отец и все предки отца вплоть до восьмого или девятого колена родились в Коннектикуте, в городке, расположенном у реки Хусатонии, неподалеку от которого мистер Льюис жил последние двадцать лет. Он учился в йеле и как журналист впервые напечатался в нью-хейвенском «Джорнэл энд курьер». И вполне естественно, что, устав от путешествий и от того, что он сам в небольшой книге путевых заметок «Чай для 1 1/2»[232] (выпущенной в 1945 году издательством Рэндом-хауз) однажды назвал «открытием вечного скитальца, убедившегося в том, что он всюду лишь Посторонний, которого никто не хочет слушать даже тогда, когда он брюзжит по поводу налогов или качества пива», он поселился именно в Коннектикуте.
Льюис был высокий, худой, нескладный, с плохим цветом лица и в старости совершенно лысый, если не считать единственной сохранившейся рыжей пряди. Если бы он щеголял во взъерошенном парике и приклеил бородку, то вполне мог бы сойти за шутливое изображение Дяди Сэма, а большинство интервьюеров и библиотекарей, которые чем дальше, тем реже совершали паломничества к его дому (их всех отпугивало пристрастие старика пародировать буквально все свойственные людям артистические позы), замечало, что с годами он все больше превращался в Последнего Янки из Коннектикута. Он даже приобрел характерную для янки гнусавую интонацию, которую теперь почти не услышишь, разве что в плохих пьесах.
Его соседи рассказывают — это их самое яркое воспоминание о нем, — как однажды сэр Уилфред Уиллоби Уэстфрискет,[233] профессор американской литературы в Оксфорде, приехал к Льюису и прождал его целое утро у порога, в то время как Льюис в местном гараже играл в пинокль с сельским констеблем-гробовщиком.
Хотя, как уже было замечено, Льюис, видимо, не создал «школы» последователей, однако можно предположить, что его влияние на литературу в целом оказалось плодотворным: он высмеивал скуку и формализм, широко пользовался американским просторечием, юмористическими преувеличениями, перемешанными с почти научной манерой повествования, которой он научился во время пребывания в колледже; его книги проникнуты истинным демократизмом, и потому его герои — будь то провинциальный издатель или поденщица на ферме — наделены чувством собственного достоинства, романтическим обаянием и хотя бы в этом, в своей человеческой значительности, не уступят любому принцу, любому лидеру рабочих с его ста тысячами приверженцев и любому романисту!
Из его ближайших родственников остались в живых его старший сын Уэллс,[234] капитан американских экспедиционных сил в 1942 году и романист, более крупный и, несомненно, более искусный и тонкий, нежели его отец; его младший сын Майкл[235] — президент Афро-Китайской авиакомпании; и его племянник Фримен Льюис,[236] издатель. Во время похорон мистера Льюиса — согласно последней воле покойного, его хоронили в Миллертонском колумбарии — присутствовали лишь трое его слуг (или, как он шутливо называл их, «помощников»), а также почтенный доктор Карл ван Дорен, ушедший в отставку президент Колумбийского университета и бывший посол во Франции.[237] При погребении прозвучала лишь Седьмая симфония Бетховена в грамзаписи, а надгробное слово Карла ван Дорена состояло всего из одной фразы: «Он был настоящий труженик и хороший товарищ, и он умел смеяться даже в такие времена, когда измученный заботами мир, казалось, совсем утратил эту способность».
1941ЗАМЕТКА О КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИИ КНИГ
Вспоминая о временах сорокалетней давности, когда мне было десять лет, я все еще ясно вижу каждый том из тех трехсот или четырехсот книг, которые составляли библиотеку моего отца, провинциального врача; помимо этих трехсот — четырехсот книг, там были еще таинственные, в кожаных переплетах кладези медицинских тайн с цветными картинками, изображавшими устрашающие подробности человеческих внутренностей, и когда доктор уезжал по вызову, я тайком приводил своих приятелей в библиотеку, чтобы они смотрели на эти картинки и содрогались от ужаса. Там были подарочные новогодние издания романов в переплетах с фальшивой позолотой; потрепанная энциклопедия в одном томе с крохотными иллюстрациями, «Маяки истории» и «Путеводитель по библии»; я до сих пор не могу понять, как эта книга оказалась в доме, где все, что говорил о библейской истории священник в черной сутане, воспринималось на веру, как непререкаемая истина.
Среди этих затрепанных корешков мне ясно видятся четыре всегда меня волновавших издания: собрания сочинений Диккенса и Скотта, том Гете и Мильтон в кожаном переплете; они увлекали меня не только тем, что в них обитали настоящие герои, но даже просто своим видом. Наверно, я все равно полюбил бы Айвенго, Ребекку и Ровену, но и теперь, сорок лет спустя, я все еще вижу их такими, какими они были на тех старинных гравюрах, — изнуренного рыцаря, возвращающегося из крестового похода, башню замка, увитого плющом, локоны покинутой девы. Я не уверен, что с точки зрения социологической эти иллюстрации, эти страницы, от которых невозможно было оторвать глаз, принесли пользу мальчику из поселка в прериях. Видимо, они просто отвлекали его от земных радостей — странствий по жнивью и ловли окуней в речке. Но что они были ему бесконечно дороги, что они волновали его — это уж я знаю наверняка.
Важно было и то, что я познакомился с Пикквиком, с миссис Никльби, с таинственным незнакомцем из «Больших ожиданий» по рисункам Физа[238] и Крукшенка;[239] и, наверно, то, что в ту пору, в 1895 году, когда почти вся массовая книжная продукция выпускалась со скверными иллюстрациями, в дешевых коричневых обложках, я впервые увидел Мильтона в прекрасном кожаном переплете. Это была первая книга, помимо учебников, купленная моим отцом; он приобрел ее, еще когда жил в Пенсильвании на скромные сбережения сельского учителя с мизерным заработком, задолго до того, как начал изучать медицину. Никакой меч предков не был бы для меня столь драгоценной реликвией.
Такой же таинственной книгой, как «Путеводитель по библии», был «Вильгельм Мейстер» на немецком языке. Бог знает, как попала к отцу эта книга, во всяком случае, его поездки в Германию ограничивались пределами Коннектикута. И хотя он храбро пытался говорить по-немецки, фразы у него получались нелепые, и вряд ли его можно было понять, ибо он смыслил в грамматике не больше какого-нибудь готтентота.
Казалось, краски, самый дух Европы сохранились в этой книге с барельефом на обложке, готическим шрифтом и изящными гравюрами. Ни один современный фильм о путешествиях, сопровождающийся грубоватыми шутками ведущего, ни одна ротогравюра образца 1941 года не могли бы донести до мальчика такого волнующего ощущения чего-то старого, далекого, странного и в то же время неизъяснимо близкого, как эта красивая книга. Я рад, что мой отец приобрел ее вместо мраморного «Греческого раба» или пролетки с гнедыми рысаками. Тогда я впервые понял, что оформление вполне может соответствовать духу книги.
Существуют два типа коллекционеров: одни собирают книги прекрасные, памятные, другие-«экземпляры», которые просто редки и обычно чудовищно дороги. Любителей «экземпляров» я подозреваю в склонности к саморекламе наподобие тех ничтожных людей, которые известны всему свету как обладатели самого большого дома на Миртл-авеню, или самого дорогого лимузина в Омахе, или самого длинного для своего университета перечня почетных званий и степеней. Завладеть одним из трех оставшихся экземпляров никчемного маленького памфлета Томаса Гарди, написанного им в пору ученичества; охотиться за одним из двух экземпляров первого издания романа Киплинга (экземпляра, в котором на странице 7 Смит напечатан как Смид) — и платить за него бешеные деньги куда менее достойно, чем коллекционировать марки, ибо на марках по крайней мере имеются занятные картинки и, кроме того, они наставляют любознательное юношество, что действительно существуют такие места, как Сокотра, Киренаика, королевство Бхутан (столица Панукха, большая естественная крепость, правитель Махараджа Джик ме Ванчук). Нет, собирать редкие книги как таковые — все равно что собирать трости, спичечные этикетки и рубашки киногероев.
Но собирать книги, интересные сами по себе, к которым приятно прикоснуться, которые радуют глаз, отличаются прекрасной бумагой, переплетом и удобным форматом, — это почти то же самое, что собирать лучшие образцы живописи, и к тому же в сотни раз доступнее для людей с не слишком пухлыми кошельками.
Однако даже такие книги, как мне говорили друзья, более состоятельные, чем я, для них слишком дороги. Правда, они, не задумываясь, тратят по две-три тысячи долларов в год на автомобиль, по триста — четыреста долларов на радиоприемник, по четыреста долларов на квартиру. А изумительную коллекцию отличных книг можно собрать через «Лимитед эдишен клаб» не дороже, чем по 10 долларов за штуку, как собирал я сам. И так же, как мой отец, оставивший мне переплетенного в кожу Мильтона, я предпочитаю оставить своим двум сыновьям добрую сотню книг, каждая из которых будет приносить радость добрую сотню лет, а отнюдь не состарившийся роллс-ройс, устаревший радиоприемник и пачку квитанций на оплаченную квартиру.
1941ПРЕДИСЛОВИЕ К «ОТЦАМ И ДЕТЯМ»
Теперь, когда русские классики так вошли в моду в Америке, с одной стороны, потому, что мы восхищаемся военными успехами Советского Союза, а с другой — потому, что с тревогой наблюдаем, сколь слаба и поверхностна наша собственная литература, Толстой и Достоевский, эти кающиеся гиганты, и грустный юмор чеховских пьес начинают заслонять другую великую, хотя и не столь величественную фигуру — Тургенева. Его немного забыли, но его время придет, как пришло время Троллопа. Нежность души Тургенева — слишком редкое качество, чтобы его не ценить.
Толстому и Достоевскому тоже присуща нежность, но она подобна исступленной любви крестьянки к своему больному ребенку. Один из постулатов, составлявших их жизненную философию, был: «Нас ничем не удивишь»; они чувствовали одновременно и что человечество надо спасать и что оно не стоит этого; и они не обладали утонченностью, этой главной чертой Тургенева. Именно благодаря этой замечательной особенности его прославленный «русский характер» приобретал гармонические и спокойные тона, смягчавшие те гнетуще черные или, напротив, раздражающие светлые краски, которыми пользовались другие русские мастера. И, возможно, поэтому мы, американцы, отнюдь не склонные замыкаться в себе, понимаем его героев, смеемся над ними, любим их.
Надо надеяться, что новые читатели, познакомившись с «Отцами и детьми» в этом прекрасном издании, увидят Россию, которая добрее и патриархальнее России ночлежек, изображенной Горьким; но картина, нарисованная Тургеневым, отнюдь не менее правдива и впечатляюща.
Главный герой романа, Базаров, студент-медик, верящий в лабораторный анализ больше, нежели в догмы и лозунги, — грубовато честный, питающий юношеское отвращение ко всем общественным институтам, где ценятся лишь деньги и титулы, дурно воспитанный, благородный в дружбе, поддающийся в самую последнюю минуту сентиментальности, которая, по его мнению, ниже его достоинства, — навсегда вошел в литературу как тип молодого радикала и новатора, живущего в любую эпоху. Мистер Уинтерич,[240] разбирая историю создания романа, полагает, что он интересен лишь для своего времени; по-моему же, роман Тургенева устарел не больше, чем любая пьеса О'Нила или роман Хемингуэя. В 1943 году, как и в 1862-м, когда роман увидел свет, он продолжает волновать умы, ибо говорит о том, что озадачивает и мучит поколение за поколением.
Базаров называл себя «нигилистом». Назовите его коммунистом, сюрреалистом или биофизиком, дайте ему сигарету вместо сигары, пересадите его в гоночный автомобиль из почтовой пролетки, в которой он мчался, чтобы увидеть свою возлюбленную Анну Сергеевну, прелестную и задумчивую, и тогда никто не почувствует ничего наивного или старомодного в горении его сердца и возмущении его ума. Он относится к тем немногим созданиям художественной литературы, которые продолжают жить, как живут Дон-Кихот, Микобер[241] или Шерлок Холмс, и мало кто из исторических личностей поспорит с ним в долговечности своей славы. И все же время от времени его следует представлять новому поколению читателей.
Отнюдь не устарела горячая любовь отца и матери Базарова к своему сыну, сумевшему вырваться из их убогого уюта и пробиться к знанию. У нас вдоволь повестей о том, как старики тиранят молодежь; гораздо больше драматизма и грусти в истории, которую рассказывают явно реже, — о том, как родители стремятся сохранить любовь и доверие своих детей. И Тургенев показывает нам, насколько все это грустно и драматично.
Американский читатель со Среднего Запада откроет в русских пейзажах Тургенева что-то трогательно знакомое: холмистые поля с редкими перелесками, речонки, березовые рощи, небосвод, оглашаемый пением жаворонка; пшеницу, ячмень, лошадей за плугом… и крепостные крестьяне вместо наших рабов,[242] которых мы затем превратили в испольщиков Юга, в то время как наши северные либералы толковали об освобождении точно так же, как это делали более просвещенные тургеневские помещики.
«Отцы и дети» — глубокая, благородная книга, озаренная светом двух любовных историй, простосердечных, но волнующих, книга, исполненная Русской Тоски, смягченной той подлинной доброжелательностью, которая больше располагает к себе, чем вымученная бодрость. Книга эта не длиннее полновесной главы у Томаса Вулфа, этого русского из Северной Каролины,[243] или у Толстого, этого каролинского плантатора из России; короче говоря, ее лаконизм придется по сердцу большинству читателей.
1943ИЗДАТЕЛЬСКАЯ СТАРИНА
Тридцать с лишним лет тому назад, в 1914–1915 годах, трое молодых сотрудников книгоиздательских фирм ежедневно приходили в Гранд-отель обедать и воровать друг у друга идеи. Один был редактором в фирме Хольта, и ему предстояло прослужить в ней всю жизнь и в конце концов стать ее президентом; другой работал у Даблдея и больше всего интересовался рассказами для журналов; а третий был сотрудником издательства Джорджа X. Дорана — впоследствии ставшего крупным притоком бурно разлившейся Миссисипи объединенного Даблдея — и одно время сам пытался писать романы, но забросил это нелепое занятие и мечтал лишь о том, чтобы когда-нибудь стать партнером Дорана и избавить последнего от утомительной обязанности обедать с авторами и ездить по делам в Лондон.
Этих молодых людей (не то, чтобы уж очень молодых — им было лет по тридцать) звали Альфред Харкорт, Гарри Мол и Синклер Льюис: все мы весьма проворно спихнули с себя обязанности читать рукописи и принялись сочинять рекламные объявления и очаровательные краткие аннотации, в которых говорилось, например, что оптовый изготовитель детективов англичанин Ратислав Паллистер-Уоллоу обожает кошек и брюссельскую капусту — в те времена мы именно так себе представляли истерически-разнузданную рекламу.
В ту пору не знали развернутых на целую полосу реклам одной-единственной (и зачастую вовсе не такой уж хорошей) книги; не знали обществ любителей книги и уж, во всяком случае, не знали радио, выступая по которому писатели доказывали бы свое весьма сомнительное право на существование. В одном объявлении, умещавшемся на четверти полосы, я перечислял десятка два новых книг, снабжая каждую рекомендацией типа: «Забавная история» (по отзыву «Нью-Йорк геральд»). Иногда мне кажется, что эта система имела неоценимые достоинства, что сейчас над книгами нависла угроза превратиться просто в товар, столь же прибыльный и столь же скучный, как лезвия для бритв или патентованные средства от кашля. И я бы сказал, что наивные «исторические романы», которые мы тогда выпускали, были гораздо безобиднее широко рекламируемых исследований нравов при дворе Карла Великого, которые сейчас с серьезным видом издают даже самые солидные фирмы.
Но в одном издательстве сделали с тех пор огромный шаг вперед: молодой автор, даже зеленый новичок, подающий лишь некоторые надежды, там теперь встретит гораздо более радушный прием. Тридцать лет назад его принял бы айсберг в очках и немедленно отправил бы восвояси, а нынче начинающего автора, если он написал хотя бы посвящение и половину титульного листа, сам президент фирмы пригласит в ресторан и там будет разыграно несколько сцен из «Потерянного воскресенья».
В былое время молодого писателя, который осмелился бы попросить аванс, объясняя, что иначе он не сможет закончить наполовину готовый роман, выбросили бы в окошко — а некоторые издательства помещались очень высоко над тротуаром, на третьем или четвертом этаже тогдашних двенадцатиэтажных небоскребов. А теперь издатель сплошь и рядом сам предлагает аванс — и порой совершенно напрасно!
Тридцать лет тому назад мы все еще разрешали Англии водить нас на помочах. Слова «хороший писатель» и «английский писатель» были синонимами, и большинству издателей делалось просто смешно, когда какой-нибудь самонадеянный юнец высказывал еретическую мысль, что первоклассный американский писатель ничем не хуже посредственного английского. Все солидные издатели дважды в год совершали паломничество в Лондон, откуда они гордо возвращались с очередным шедевром миссис Литлтон Пагуейа (тетки туитского викария), повествующим о чаепитиях и ветках сирени, или с новым томом «Путешествий по Бирме» сэра Виктора Луеллина. Никому из них и в голову не приходило, что в каком-нибудь колледже в двадцати милях от Нью — Йорка, или на гринвичской квартирке за несколько трамвайных остановок от издательства, или даже за письменным столом в пятнадцати шагах от двери кабинета редактора сидит неизвестный молодой человек или девушка, который лучше пишет и глубже мыслит и чувствует, чем все английские светила за исключением десяти — пятнадцати подлинных мастеров.
Если наша реклама в чем-то и отставала от современной, зато фирма Дорана эпохи, предшествующей аншлюсу, располагала когортой непревзойденных торговых агентов, которые без помощи огромных объявлений и радио обращали язычников к свету с безжалостной целеустремленностью Иностранного Легиона. Билли Корриган, знавший количество и возраст детей каждого покупателя от Кэмпдена до Сан-Сокрацио; стремительный, невозмутимый, толковый Боб Хейес; Ротч Дрейк, который одинаково ловко сбывал наш «религиозный товар» набожным покупателям и бродвейскую новинку — провинциальному клубу любителей гольфа; и Эдди Зиглер, самый молодой из всех, который до того горел юношеским энтузиазмом, что не только с удовольствием торговал книгами, но даже и сам часто их читал, — это были великолепные ребята, и никакие новейшие способы атомной эпохи не могут создать лучших.
Увы, память об этих днях постепенно тускнеет. Они остались так далеко позади, что мне иногда даже начинают нравиться авторы — некоторые из них, — если только у меня нет с ними деловых отношений!
1946НАШ ДРУГ ГЕРБЕРТ УЭЛЛС
В некрологах, появившихся после смерти Герберта Уэллса, о нем подробно писали как о провозвестнике всемирного правительства, критике всех человеческих слабостей и пороков, серьезном биологе и историке и, наконец, удивительном писателе. Мы же, кому теперь за шестьдесят, до сих пор помним, чем он был для нас в период между 1910 и 1930 годами — в Гринвич-Вилледж или Пекине, Соук-Сентре или Твиттертоне-на-Твите. Это был человек, который, как никто другой в нашем столетии, больше даже, чем Шоу или Хаксли[244] и множество ему подобных, внушал молодежи заманчивую надежду (вероятно, способную превратиться в реальную действительность), что с помощью здравого смысла и настоящего образования человечество может обрести такие странные, но, безусловно, привлекательные качества, как бодрость, доброта, честность, самая обычная порядочность, желание покончить с нищетой и унижениями, которые человечество веками терпело во имя институтов, еще действующих, но, по существу, уже мертвых.
Но это истинное образование, неустанно убеждал Уэллс, должно основываться на воображении, соединенном с уважением к уже известным фактам и жаждой познания еще не познанных, а отнюдь не на святости академических степеней, этих милых, скромных преддверий деловой карьеры; не на зависти соперничающих школьных учителей, не на рекордах легкоатлетов и не на изобретении новых моделей школьных парт.
В 1910 году в Гринвич-Вилледж мы так же опьянялись страстью, изобретательностью и остроумием Уэллса, как сегодняшние дети опьяняются новыми наркотиками — сталинизмом и фенамином. Мы проникались его верой в то, что образование может быть столь же увлекательным, как путешествия или рискованные приключения, что люди могут жить в браке без взаимной ненависти и соперничества, что политики могут быть такими же честными и осведомленными в своем деле, как плотники или типографы в своем, что в нашей повседневной жизни может быть использована наука, прежде столь высокочтимая, а потому упрятанная куда — то в келью отшельника; что наши жилища могут стать красивыми и удобными, а одежда — элегантной и не столь смешной, как современные котелки; что еда превратится в наслаждение, которое не будет предварять трижды в день нудный и тяжелый труд; что пароходы перестанут коптить небо гарью и обретут скорость и проворство морских рыб.
С каждой новой книгой Уэллса мы восторгались махатмой Уэллсом не меньше, чем последователи самого пресвятого Ганди — его щедротами. Особое впечатление произвел на нас «Тоно Бенге», самый замечательный из его романов. Я перечитал его в сентябре. Может показаться, что в нем говорится о малоинтересных проблемах самолетостроения, но на самом деле роман воспринимается теперь так же свежо, так же волнует, как и при его появлении в 1909 году. К счастью, его переиздают в серии «Современная библиотека», а возможно, и еще где-нибудь.
В «Тоно Бенге», этом типичном англо-американском явлении, тема стремительного обогащения человека, перед которым затем все начинают заискивать, раскрыта по-новому: Уэллс пишет об этом с насмешкой, но без марксистских резкостей; причем дерзость, надувательство и все те махинации, которые принесли успех Пондерво, этому титану коммерции, все они показаны в очень точных подробностях, порой драматических, а порой необычайно смешных.
Любовная линия, играющая значительную роль в жизни племянника Пондерво, свидетельствует о свежем, искреннем, совершенно новом подходе к любовным историям — неподдельным, человечным и немного нелепым; а за всеми этими сюжетными линиями, перекрещивающимися в романе, чувствуется трезвое осознание социального смысла этой деловой аферы, того, как она глупа и какой опасной она могла стать.
Вообще Уэллс пишет о богатстве без романтического трепета и негодования, свойственного ранним романистам, за исключением, пожалуй, Диккенса, создателя Мердля в «Крошке Доррит». Для них накопление богатства, разорение нескольких сот тысяч биржевых игроков было либо плодом стратегии (и поучительного трудолюбия) гения, либо отвратительными шутками дьявола в человеческом облике. Они не понимали, как понимал Уэллс, что банкротства и крахи объясняются законами экономики, и все их высоконравственное негодование выглядело ребячеством по сравнению с гневной иронией самого Уэллса, показывающего, как этот маленький человек, это ничтожество Пондерво забавлялся, точно игрушками, состояниями тысяч людей. Если Маркс и Дарвин каждый озарили свою эпоху светом новых идей, то я сомневаюсь, что впечатление, ими произведенное, по своей эмоциональной силе могло сравниться с тем потрясением, которое пережили мы, когда в дни кабачков с красными фонарями и студий с цветными портьерами, изящных женских «троек», Лафайета и погребка Бревоорта, ознакомились с откровениями Уэллса относительно мотивов человеческих поступков. И в то же время при всей серьезности проповеди о том, что человечество не должно во имя его же собственного блага и добродетели быть безрассудным, у раннего Уэллса, особенно в «Мистере Полли», бездна подлинной веселости. «Смешной», «радостный», «живой» — эти слова пользовались особой любовью Уэллса, и если до него они отдавали ребяческим легкомыслием, у него они обрели силу и полнокровие зрелости.
Уэллс был новым, еще более ярким и ненамного уступающим прежнему Платоном, но мир ничего о нем не ведал и никак на него не отзывался. Богатства Индии, сделавшие Великобританию великой державой, были ничем в сравнении с куда более внушительным богатством, которое английская нация могла бы обрести с помощью фантастического и в то же время трезвого воображения Г. Дж. Уэллса, если бы она знала, как использовать этого человека.
Англичане поздно осознали, чем ценен Уинстон Черчилль, а еще позднее, как он опасен, но в Г. Дж. Уэллсе они видели лишь рассказчика забавных анекдотов. Когда он баллотировался в парламент, он, разумеется, потерпел поражение. В сущности, это было великим благом для Палаты Общин. Можно себе представить, что едва он ступит на не слишком хорошо натертый пол зала заседаний и примется высказывать свои мысли почти по всем вопросам, как Палата взлетит на воздух от вопля (по выражению Пондерво), и Британия либо будет отброшена ко временам короля Артура, при котором Герберт Джордж Уэллс займет председательское место за Круглым столом и станет руководить министерством по делам рыцарства, либо, напротив, превратится в коллективную республику…
Да, это был поистине великий человек, а соотечественники встречали его на улице, слышали его голос и, однако, понятия не имели, каков он.
Как я уже писал, теперь, после смерти, Уэллсу воздается должное за его разнообразные заслуги, особенно за его предвидение тех предпосылок, которые приведут к созданию атомной бомбы. И все же об этом замечательном человеке как о человеке еще не написано ничего (впрочем, возможно, об этом говорится в одном из 150 тысяч журналов, прочитывать которые я, слава богу, не считаю своим долгом), о человеке, который бывал велик, а бывал мал, о человеке забавном, болтливом, великодушном, безрассудно романтичном, похожем на упругий шар, — одним словом, о человеке.
Если оценивать Уэллса по внешности, то нет ничего удивительного, что избиратели из университетского округа не захотели послать его в парламент, когда он выставил свою кандидатуру. Сын мелкого лавочника, — в молодости и сам младший приказчик в лавке, он и выглядел соответствующим образом. И когда к нему пришла известность, он все еще стоял за прилавком — малоприметный, не отличимый от всех прочих, веселый и разговорчивый, он серьезно и старательно выбирал для вас нитки, желая как можно лучше выполнить вашу просьбу, но при этом во всем его поведении не было и тени угодливости.
Он был коренастый, кругленький, с крысиными усиками и тонким голосом. Он просто не знал, как следует «подать» себя, он никогда не говорил самому себе: «Боже, как поразился бы этот официант, если бы он узнал, что обслуживает самого Г. Дж. Уэллса». Мне вспоминаются два случая; один произошел в Лондоне, другой — в пригороде Нью-Йорка, когда на званом обеде дамы кидались к хозяйке с расспросами: «Кто этот полный человечек, который болтает так интересно и остроумно?» Одна из этих дам была женой издателя, другая — профессиональной журналисткой, но ни той, ни другой и в голову не пришло, что это знаменитый Уэллс; просто он выделялся своим обаянием и здравомыслием.
Наверно, эта, столь естественная для него человечность, в большей степени, чем сила воображения, ненависть к жестокости, любовь к порядку или научный подход к жизни, сделала Уэллса великим романистом — рассказчиком историй, умеющим распознать значительное в самых ничтожных и бесцветных своих героях. Наверно, это столь естественное для него стремление быть простым человеком, не сурово-героическим простым человеком с гор или из прерий, а самым обыкновенным простым человеком, которого встретишь на уличном перекрестке, в третьеразрядной пивной, в рабочем дискуссионном клубе, — именно оно позволяло ему избегать всякой фальши даже в дни наивысшей славы, делало его героев правдивыми даже и тогда, когда они, бедняги, бродили не по страницам его романов, повестей и рассказов, но по лабиринтам его социологических трактатов.
С одной стороны, Уэллсу была чужда напыщенность процветающего джентльмена от литературы все равно, где бы он ни находился: в своем ли клубе, на заседаниях разных комитетов или на лекторской трибуне; ему не присуще было ни раздражительное важничанье и снисходительность левых лидеров, для которых радикализм стал карьерой и спасительным бальзамом, ни капризное чванство кабинетного ученого. Он не терпел никакого преклонения перед титулами. С другой стороны, он знал, понимал и любил природное достоинство маленького человека с улицы, с фабрики или с горной фермы и был доволен, когда его принимали за одного из них.
Никому бы даже в голову не пришло назвать его доктором Уэллсом, или профессором Уэллсом, или сэром Гербертом, или лордом Бромлеем. Он радовался, когда его называли мистер Уэллс, а не как обычно, Герберт.
Любого другого англичанина на месте Уэллса превозносили бы за то, что он одолел в себе кокни. Но Уэллса именно кокни привел к славе.
И отчасти именно благодаря этой своей особенности он мог в семьдесят лет быть резвым, как подросток, и не чувствовать себя виноватым в том, будто умаляет собственное достоинство. Он мог явиться в любое высокопоставленное общество, не ощущая себя особо привилегированной персоной, мог прийти в любую скромную компанию, остановиться в любой захудалой деревушке или гостинице, не ощущая себя благодетелем..
Однажды я обедал с Гербертом Уэллсом, Арнольдом Беннетом и лордом Бивербруком-о невинные дни накануне второй мировой войны! — в китайском ресторане на Оксфорд-серкл, и никому из нас четверых — сыну экономки, сыну клерка из адвокатской конторы в городке керамики, сыну канадско-шотландского священника и сыну сельского врача — не приходило в голову, что мы совершаем нечто легкомысленное и рискованное. Мы просто наслаждались яйцами и цыплятами, приготовленными по-китайски, обществом друг друга и тем, что цены были не слишком высоки.
Трое англичан, в той или иной мере причастных к журналистике, пытались доказать наивному американцу, что они кое-что смыслят в политике. Но он был себе на уме, он отказывался поверить в те их истории, которые начинались словами: «Я говорил принцу Уэльсскому» или «Болдуину», хотя, вероятно, все это была чистая правда.
Я наблюдал Герберта Уэллса на одном из приемов, на котором Фрэнк Гаррис[245] сам избрал себя почетным гостем и чуть ли не Сократом. Фрэнк с блеском повествовал о том, как ему удалось коротко сойтись с людьми, которых он на самом деле не встречал ни разу; он рассказывал скандальные истории из жизни поэтов и государственных мужей, и единственный недостаток этих историй заключался в том, что в них не было ни слова правды; он провозглашал истины, которые были столь же неоспоримы, как и во времена, когда их впервые сформулировал Аристотель. А Уэллс поглядывал по сторонам, не слушая Гарриса и отнюдь не чувствуя себя обиженным, наконец он выбрал самую миловидную девушку и уединился с ней где-то в уголке. Думаю, что она так никогда и не узнала, что ее собеседником был великий Уэллс. Думаю, что и сам он не знал этого — не числил себя в великих.
Я видел его куда более величественным в его загородном доме к северу от Лондона, комфортабельном особняке в георгианском стиле, вовсе не внушительном, однако расположенном бок о бок с поместьем графини Уорикской, и, отправляясь к ней на обед, следовало переодеться и забыть о разных богемных вольностях. Эта леди была Покровительницей только что организованной лейбористской партии, но — о чем не следовало забывать — оставалась графиней; лейбористские лидеры об этом не забывали.
Там у Герберта Уэллса был отличный теннисный корт, и в тот самый час в воскресенье, когда больше всего хотелось вздремнуть, вас тащили туда, и, хочешь не хочешь, приходилось подчиняться. Я был лет на двадцать моложе Уэллса, худее да и дюймов на шесть-семь выше ростом, но неугомонный дьявол в образе моего партнера уже через четверть часа игры доводил меня до полного изнеможения. Он так подпрыгивал, что, несмотря на румянец и белый фланелевый костюм, его трудно было отличить от теннисного мяча, и это путало все карты.
У него в старом амбаре происходили также незабываемые игры в хэндбол. Чтобы хорошо играть, надо было хорошо знать там каждую сваю, и он узнал их все с проницательностью дипломата, а его энергии не было предела.
Вот там-то однажды в полдень, лет двадцать назад, мы играли с одним из неизвестных мне друзей Уэллса, которого, как говорили, ждет большое будущее, если лейбористская партия одержит победу. Он был журналист, нигде не служил, и, хотя пользовался некоторым влиянием в лейбористских кругах, заезжий американец никогда о нем не слышал. Он был довольно высок, красив на манер путешественника-сердцееда образца 1890 года и прескверно играл в хэндбол. Он топтался в сарае, неуклюжий, с плоскими стопами, а его большие теннисные туфли шлепали по дощатому настилу, словно ласты. Во время перерывов в игре он не высказывал никаких интересных мыслей, так что я решительно отказался поверить в его предсказание, будто Уэллса ждет слава.
Этого человека звали Рамсей Макдональд.[246]
В тот вечер мы разыгрывали дьявольски остроумные шарады, и Уэллс преуспевал в этом как ни один из существовавших на свете романистов, кроме не столь уж непохожего на него коллеги — Чарльза Диккенса. Интересно, случайность ли это?
Стало общим местом сравнивать живущих писателей с Диккенсом: «Мистер Верной Шмидт, автор популярных «Рассказов Бронко Брауна», — это Диккенс западной части штата Южная Дакота». Но между Диккенсом и Уэллсом действительно существует связь, и она становится тем очевиднее, чем больше о ней размышляешь.
Возможно, что Уэллс никогда не читал «Дэвида Копперфильда», и, разумеется, нельзя говорить, что роман этот «повлиял» на него, но рассказ Дэвида Копперфильда о его первом годе в Лондоне так напоминает начало «Тоно Бенге», что, вспоминая их, читатель начинает путаться. Юмор, страсть, любовь к скучным, но очень милым людям, ненависть к жестокости, наслаждение от самого процесса повествования или от неожиданного звучания внешне обычной фразы — все это присуще как Диккенсу, так и Уэллсу. Если Диккенс превосходил его какой-то необъяснимой магической силой воображения, то Уэллс лучше знал внутренние мотивы поведения человека, глубже понимал грозящую миру опасность саморазрушения и, кроме того, был менее склонен к сентиментальности. Возможно, что для нас сегодня из них двоих значительнее Уэллс и выше него только Толстой и Достоевский.
Если бы я мог поговорить с вами еще раз, Герберт!
1946НАЗАД В ВЕРМОНТ
I
Когда я начинаю размышлять, где я больше всего хотел бы жить, мне в первую очередь приходят в голову многочисленные «если», но в конце концов с этого же слова начинаются все проекты Всеобщего мира, Счастливого брака и Идеальной диеты. Если бы мне это было по карману, если бы я мог вместе с семьей мгновенно переноситься из одной страны в другую, избегая тягот переездов, если бы не надо было каждый раз укладывать, а потом разбирать чемоданы и если бы на свете не существовало столько интереснейших разновидностей подоходного налога, — тогда все было бы очень просто.
С 15 октября по 1 января я бы жил в Нью-Йорке — по двум причинам: во-первых, это самый интересный, содержательный и красочный город на свете, за исключением разве что Москвы, и язык, на котором в нем говорят — по крайней мере некоторые из языков, на которых в нем говорят, — известен мне лучше, чем московское наречие. Во-вторых, когда в долгожданный первый день нового года я сбегу от его пьяной истерии, любое место на земном шаре, любое — даже Аддис-Абеба — покажется мне исполненным блаженной тишины и покоя.
Потом до середины февраля я жил бы на Бермудских островах; розовый коттедж, золотые пески, неторопливая езда по белым дорогам и даже — если не слишком много ньюйоркцев сбежит на Бермуды одновременно со мной — работа. Потом — в Калифорнию; там можно прожить до апреля, только не вблизи Лос-Анжелоса — ни в коем случае: где-нибудь на Монтерейском полуострове, навевающем воспоминания о Роберте Луи Стивенсоне, Герберте Гувере, Джеке Лондоне, Эми Макферсон и тому подобных романтиках, на полуострове, где кипарисы перешептываются с просторами Тихого океана, а игроки в поло перешептываются с трактирщиком Дель Монте.
А теперь пора переместиться в другое полушарие — надо успеть застать апрель в Венеции, единственном городе мира, который, несмотря на прогулочные катера, табльдоты и американские газеты в киосках, оказывается и при ближайшем знакомстве столь же очаровательным, как на холстах художников. Все авторы хороших путевых заметок пишут о Большом каньоне и Венеции: «Кто найдет слова, чтобы описать это чудо?»- после чего находят довольно много слов — и иногда даже весьма неплохих — для описания этих чудес. Я до сих пор не знаю, что мне больше нравится — сидеть в Сан-Франциско на Пойнт-Лобосе и поверх заколдованных и насмешливых каменных глыб глядеть в сторону Японии или сидеть в Венеции на площади Святого Марка и поверх бокала с вермутом глядеть на собор.
Май я пробыл бы в Англии, две недели в Лондоне и две недели в любом из двадцати знаменитых своими жаворонками графств: Девоншире, Кенте, Суссексе или Норфолке, где я недавно плавал по озерам на славной лодчонке, которая, не дожидаясь, чтобы я повернул руль, сама сворачивала к каждому прибрежному кабачку.
А впрочем, я не стал бы придерживаться какого — нибудь жесткого расписания и согласился бы на Англию или Венецию в любом месяце, кроме зимних — с середины ноября до середины марта. Вместо перечисленных очаровательных мест я готов соблазниться Парижем, Стокгольмом, Капри, Флоренцией, ранчо Доброй надежды на Ямайке или Тринидадом; а осень мне хотелось бы проводить в Миннесоте, когда уцелевшие луговые тетерева кормятся на золотистой стерне.
Но при всем своем непостоянстве лето и раннюю осень, с первого июня до середины октября, я хочу проводить — и обычно провожу — на своей вермонтской ферме.
II
Лет семь тому назад мы с женой поехали в Вермонт посмотреть, что он собой представляет. Мы долго жили за границей и вернулись в Америку с весьма неопределенным намерением купить ферму где-нибудь не очень далеко от Нью-Йорка, в котором по странной случайности жили почти все наши друзья. В Вермонте мы почти никого не знали; нас ничто с ним не связывало — до тех пор, пока мы не увидели его приветливые, неброские, умиротворенные холмы, после чего нам сразу показалось, что нас связывают с ним прочные узы — прошлого, настоящего и будущего. Здесь царил мир — не обволакивающе-приторный мир итальянской долины, но мир ясного, прохладного воздуха и легкой, невымученной бодрости. С тех пор, не спрашивая ни у кого разрешения, мы присоединили нью-гемпширские и беркширские горы, а также весь Массачусетс к тому гористому царству, где на крутых тропинках среди зарослей кустарникового клена и разрисованных лишайником скал все еще пасутся овцы, а у людей все еще есть время сидеть на ступенях сельских магазинов и где, если вам понадобилось молоко, доят корову, а не открывают консервную банку… Чаще всего!
Во время поисков земли, на которой можно было бы осесть, — издревле присущих человечеству поисков, забытых Америкой на одно поколение, но за последние десять лет возродившихся с новой силой, — нам встречались такие же задумчивые холмы и долины в Коннектикуте и Массачусетсе, но участки там стоили тогда (в 1928 году) очень дорого. (С тех пор они невероятно подешевели.)
Миссис Фишер, Кит Морли и старик Роуленд Э. Робинсон более пространно поведают вам о прелестях нашего несравненного Вермонта… О скрытых от человеческого глаза прозрачных ручейках, которые проскальзывают под старую каменную ограду, пробираются через заброшенный пастухами горный выпас, коричневато-золотистый в августе, через воздушную и стройную березовую рощу — так мне представляется древнегреческий храм в ту пору, когда его только что построили и в нем действительно обитало божество, умершее вместе с камнем, — и, наконец, прошуршав по палым иголкам в строгом сосновом лесу, с тихим плеском спадают крошечным водопадом… О горах, которые с наступлением сумерек начинают расти, но все же не настолько огромны, чтобы, подобно Скалистым горам, наводить ужас. Нет, я расскажу вам об этой стране языком земельного агента (не подумайте только, что я хочу продать вам участок, и, слава богу, покупать мне тоже ничего не надо!).
Для человека, живущего к западу от Буффало или к югу от Вашингтона, иметь дачу в Вермонте, конечно, неудобно: слишком далеко. Не подойдет Вермонт — кроме, пожалуй, его южной части — и тому жителю Нью — Йорка, который намерен проводить на даче лишь субботу и воскресенье, а остальное время жить в этом неповторимом городе. От моей фермы до Нью-Йорка триста миль — добрых восемь часов езды на машине; поездом ехать не советую.
Но для писателя, учителя, отошедшего от дел бизнесмена, для человека, который может получить двухмесячный отпуск, это место предназначено самой судьбой, и я лишь потому до сих пор не занялся рекламой земельных участков в Вермонте, что в последнее время несколько перегружен различными другими видами миссионерской деятельности.
Если вы не поленитесь хорошенько поискать, то за полторы — три тысячи долларов (часть сразу, остальное в рассрочку) вы найдете участок в сто акров с прочным старым домом из восьми-десяти комнат. Может быть, в нем будет водопровод; в нем, конечно, не будет ванны, электричества и телефона. Кроме того, вы получите один — два великолепных сарая из цельных бревен, где можно оборудовать такую мастерскую или концертный зал, что сам Кристофер Рен[247] позеленеет от зависти. Дом будет стоять высоко на склоне горы, защищенный деревьями от резких ветров, а внизу на десять-двадцать миль будет открываться долина и гряды холмов, где желтоватые пятна выпасов перемежаются зелеными пятнами кленовых, сосновых и тополевых рощ. Если вам повезет, поблизости будет протекать ручей, в котором водится форель. К ферме будет вести узкая и извилистая грунтовая дорога — две-три мили до шоссе, — вполне приличная летом, почти непроходимая ранней весной и поздней осенью. Миль за пять-десять будет находиться деревня, не уступающая по очарованию Личфильду или Шарону. Истратив тридцать долларов на усовершенствования: пятнадцать на керосиновые лампы и пятнадцать на прекрасную жестяную ванну, в которой вы будете купаться, — вы обретете уютное и удобное жилище, настоящий собственный дом, где можно прожить остаток своих дней.
У вас будут чрезвычайно разнообразные соседи. В последние годы неподалеку от меня жили Джордж[248] и Гилберт[249] Селдесы, Александр Вулкот,[250] доктор Лео Вулмен, Линн Монтросс, железнодорожный гений Ричард Биллингс, Фред Ротермелл, Луи Адамик[251] и некий джентльмен по имени Кальвин Кулидж — как видите, компания довольно разношерстная. Зато, кроме как в Дорсете и Манчестере, здесь никогда не бывает наплыва шумливых дачников. Что же касается туземцев…
Это очень сложная, скрытная, насмешливая публика, и, мне кажется, на свете нет другого места, где бы люди так мало интересовались делами своего соседа. Правда, с ними трудно сойтись, иногда это даже совсем не удается, но зато они не подглядывают, не суют нос в чужие дела; они держатся с достоинством древнего народа, который настолько в себе уверен, что выходки иноземцев лишь слегка его забавляют. О нью-йоркском миллионере, Родене или Джордже Бернарде Шоу вермонтский фермер только и скажет: «Он какой-то чудной, но, верно, не хуже иных прочих — лишь бы ко мне не приставал».
Вермонт — это прохладная земля с изменчивыми небесами. Для меня Вермонт — это дом, это душевный покой и работа.
Я БЫВАЛЫЙ ГАЗЕТЧИК
ГАРРИ — ЗАПРАВСКИЙ РЕПОРТЕР
Как хотел бы я дать незадачливым газетчикам конца 1940 года, привыкшим писать не иначе, как под заголовками вроде «МОЛОТОВ ГОВОРИТ НЕТ», некоторое представление о золотой эре 1890–1910 годов, когда новости были настоящими новостями, а репортеры — героями с волосатой грудью, которые только и знали, что заказывали экстренные поезда, спасали шикарных дам из курилен опиума (а разве в наши дни найдешь где-нибудь первосортную, леденящую кровь курильню опиума?) да еще выезжали на пожары, причем каждый пожар в те незабвенные времена обязательно превращался в «Бушующее Море Огня». И действительно, кто отказался бы вернуться к 1899 году, поистине великолепному году, ибо именно в этом году, в июне месяце, меня зачислили в штат «Уикли геральд», газеты, издающейся в Соук-Сентре. В июле меня прогнали оттуда, и эта первая катастрофа, за которой последовало еще три, доказала, что я Незаурядный Человек.
Если бы в 1899 году вы обыскали весь Стернский округ в Миннесоте, жалобно вопрошая всех и каждого, где найти молодого мистера Синклера Льюиса, вас постигла бы неудача. Тогда во всем округе лишь несколько многомудрых школьных учителей знали меня под этим именем. Но тощего, вечно хнычущего мальчугана знал весь Соук-Сентр; этого мальчугана звали «Гарри, младший сынок старого дока Льюиса» или более интимно — «рыжий братишка Клода Льюиса».
Мой старший брат, Фред, больше всего любил удить рыбу и размышлять, а второй брат, Клод, был неутомимым предводителем ватаги сорванцов в таких высокополезных предприятиях, как дынный промысел (занятие, слегка напоминающее кражу дынь с чужих огородов), или коллективное изучение замечательных книжонок, вроде «Дик Мертвый Глаз» или «Отчаянный Головорез из Мертвого Леса», или, наконец, украшение крыльца главного инспектора школ (более известного под кличкой «Педель») в День всех святых симпатичными маленькими кучками подозрительного происхождения. Клод стал хирургом и как был, так и остался вожаком. Меня нисколько не волнует, что скажут обо мне Джордж Бернард Шоу, Джордж Джин Натан и король Джордж (то бишь Георг) Седьмой, но я добиваюсь похвалы моего брата Клода вот уже шестьдесят лет.
Это было главной моей задачей и главной неудачей. Когда-нибудь я отправлюсь в Голливуд, заработаю там миллион долларов и куплю дом с собственным баром и посадочной площадкой для геликоптеров — и все это с единственной целью: снискать одобрение Клода. Он приедет, окинет мои владения добродушным взглядом, спросит, куда обращен фасад дома, и какова поверхность нагрева радиаторов, и велик ли налог, а я не сумею ответить и буду снова низвергнут в пучину ничтожества.
Мне было, вероятно, лет десять, когда ватага Клода, состоявшая из великовозрастных, бравых, умудренных опытом пятнадцатилетних скаутов, хозяйничала в лесах, и на озере, и в купальнях, что на Хобокен-Крик, повыше Арки. Однажды, когда я сделал попытку поплавать, то есть, попросту говоря, побарахтаться, захлебываясь и пуская пузыри, наиболее предприимчивые варвары из шайки Клода завязали мою одежду узлами и обильно смочили водой. Кое-как выкарабкавшись из ила и увидев, во что превратилась моя одежда, я проявил столь необычное для моего возраста красноречие, что даже удостоился комплимента Джима Хендрикса, который считался адъютантом Клода: «Ого, да этот Гарри прямо ходячий словарь!» Джим великодушно признал, что когда-нибудь я, пожалуй, стану учителем, или конгрессменом, или даже аукционистом в Миннеаполисе… Бедняга Джим! Сам он хотел быть знаменитым саскачеванским охотником, а стал всего-навсего романистом.
Невзирая на все эти неудачи и бедствия, я упорно увязывался за ватагой, и Клод вменил в обязанность своему начальнику — штаба Чарли, специалисту по краже цыплят и репы, регулярно отделываться от меня. И Чарли выполнял это с неизменным успехом.
Он просто подходил ко мне и доверительно говорил:
— Эх, и зол же я на них! Давай-ка лучше побегаем наперегонки.
Кто, скажите мне, не променял бы любую ораву сорванцов на честь подружиться с настоящим человеком, вроде Чарли, с человеком, который мог подтянуться на турнике семнадцать раз и ездил зайцем на буферах товарного вагона до самого Осейкиса, за добрых пятнадцать миль?
Мы пошли по Главной улице, глубокомысленно беседуя о вагонных тормозах на Северной железной дороге и о рыбной ловле на Солт-Лейк. Хотя я был на пять лет моложе Чарли, он обращался со мной, как с равным; он открыл мне сокровенные тайны местного общества, и я узнал, что Хорэйс Элдон, ювелир, изучает новую игру, которая называется теннис, и уже купил себе куртку с черными и красными полосами, а также что учитель Стентон поколотил Билла Келлера за неуважение к воспитателю. Мы продефилировали по Главной улице из конца в конец, как принц Уэльсский с герцогом Аоста по Пикадилли, и я преисполнился веры в то, что жизнь прекрасна и когда-нибудь я буду жить в Миннеаполисе и стану репортером «Трибюн» и владельцем кабриолета с красными колесами.
Перед «Бакалейной Торговлей С. П. Хансена» Чарли бросил мимоходом: «Секундочку, я только загляну» — и юркнул в лавку.
Я ждал. Я рассматривал удивительные апельсины и ананасы в витрине и пытался прельстить хансеновскую кошку — весьма величественную и надменную. Прошло целых пять минут, что для мальчишек равносильно пяти часам или половине дня, прежде чем я понял, что Чарли снова надул меня — в который уже раз!
Так оно и было. Он улизнул через заднюю дверь лавки этого самого С. П., удрал, как преследуемый преступник, чтобы присоединиться в условленном месте к ватаге Клода, а я с разбитым сердцем поплелся домой читать «Историю Греции» Грота — обширный, многотомный, отвратительный опус с отличными гравюрами, который я героически одолевал, — не потому, что он мне нравился, а потому, что надеялся таким способом снискать уважение Клода, Джима Хендрикса и вообще всей юной интеллигенции Соук-Сентра.
Вечером, когда я встретился с Чарли Мак-Кадденом на углу под дуговым фонарем, чтобы договориться о каталажке для пленников, взятых при игре в разбойники, он набросился на меня:
— Куда же ты пропал сегодня днем? Старик Норрис, разносчик, попросил меня помочь ему перетащить здоровенный тюк. — Тут он прикинулся пай-мальчиком:- Я, конечно, был страшно рад помочь старому джентльмену, а когда вернулся к С. П., тебя не было. Эх, Гарри, Гарри, нехорошо ты поступил; разве это дело — бегать от приятелей?
Я разревелся, но отнюдь не от стыда за свою глупость, а просто от облегчения, которое испытал, убедившись, что Главнокомандующий Клода не предал меня.
В другой раз Король Сыщиков Мак-Кадден решил задачу еще проще. Однажды во время летних каникул в жаркий день ватага собралась на Сидар-Лейк, где было решено заняться приготовлением самого изысканного лакомства в Следопытии — печеного картофеля, обугленного снаружи и совершенно сырого внутри; Чарли шепнул мне, что на самом деле они пойдут на Эшли-Крик, и нам ничего не стоит посмеяться над ними: стоит лишь подойти к насыпи Северной Тихоокеанской и там застукать их.
Перед большой ивой у самых путей Чарли вдруг заорал:
— Смотри, смотри! Летающая лисица! Вон! Вон она, на — дереве!
Как ревностный читатель «Друга молодежи», я решил, что мы сделали важное открытие, поскольку летающие лисицы все же чаще попадались в лесах Тасмании, чем в миннесотских прериях; я начал кружиться вокруг дерева, подбадриваемый криками Чарли: «Выше, выше!» — которые становились все слабее и слабее. Когда я наконец оглянулся, Чарли не было, его и след простыл. Великий Вождь Мак-Кадден как в воду канул, испарился, словно индеец-чиппева, и передо мной была только усыпанная гравием насыпь Северной Тихоокеанской да рельсы, сверкающие, как два языка пламени.
Окончательно потеряв надежду поразить этих ребят своей ловкостью в катании на коньках, нырянии, подледном лове рыбы спиннингом или в охоте на диких индюшат в прериях, я решил бесповоротно затмить их невиданными интеллектуальными подвигами. Хорошо, раз так, я стану репортером, им же хуже будет!
Но прошло еще три или четыре года, прежде чем мне удалось уговорить мистера Хендрикса принять меня на работу в «Уикли Геральд». Мистер Хендрикс был отцом Джима и златокудрой Майры, в которую я был влюблен. Это было до (а может быть, и после) того, как я влюбился в Нелли Хансен и даже попытался поцеловать ее под предлогом прелестной, изысканной игры в почту; тут моя любовь и закончилась, так как Нелли убежала и потом, смеясь, рассказывала всем, что я чмокнул ее в кончик носа.
Для провинциального издателя-особенно учитывая, что все это происходило в глуши прерий в 1900 году, — мистер Хендрикс был настоящий кладезь премудрости; ему не хватало только уверенности в том, что он нуждается в моих услугах.
«Почему ты думаешь, что сможешь быть репортером?»- допытывался он. А когда я ответил: «О, мисс Купер задала нам сочинение в пятницу, и я написал целый рассказ», — он лишь фыркнул и спросил: «А как насчет подметания полов?»
Я сразу сообразил, что это может оказаться решающим для моей литературной карьеры; мама была бы потрясена, услыхав, с каким энтузиазмом я расписывал свой врожденный талант к подметанию. Едва ли мне удалось убедить мистера Хендрикса, однако он все же принял меня на недельное жалованье в ноль долларов и столько же центов.
То были блаженные дни: наконец-то я мог — во всяком случае, так мне казалось — свысока смотреть на Чарли Мак-Каддена и даже на самого Клода. Я был признанным репортером. Я ловил банкира Люциуса Келлса на Северном вокзале в ту минуту, когда он садился в поезд, идущий в Туин-сити, и принимался дипломатично зондировать: «Не собираетесь ли вы съездить в Туин-сити?»
Почтенные сорокалетние матроны, которые раньше и не замечали Гарри, рыжего братишки Клода, теперь всячески зазывали меня к себе, подкупали пирогами (нисколько не заботясь о моей нравственности) и вручали мне список членов нового правления Кофейно-Дискуссионного клуба. А однажды какой-то новоиспеченный папаша даже дал мне сигару, которую я отнес домой Клоду, на что последний сказал:
— Чтобы я тебя не видел с этими ядовитыми штуками, Гарри! Приноси их сразу мне.
Приобщаясь к тайнам общества и большого бизнеса, я одновременно изучал наборное дело. Теперь я подозреваю, что отнюдь не был чемпионом по наборному делу, но все же я с грехом пополам находил нужные литеры и священнодействовал, описывая правой рукой восьмерки, как заправский наборщик. Моим высшим техническим достижением было то, что я не писал свои заметки, а сразу набирал их. Представьте себе отважного юнца, создающего прямо в металле такой, например, лирический шедевр:
«Джордж О'Хара и Эдди Хансен на этой неделе они поехали в Туин-сити и там, посещая театр, они встретили У. О. П. Хилсдейла, судью Барто, доктора Дю Бойса, Джона Мак Гиббона-старшего и многих других наших достойных граждан они славно провели время и были в китайском ресторане но по возвращении сказали в интервью, что ужас как рады вернуться домой и на свете нет города лучше Соук-Сентра. Сент-Пол симпатичная столица и всякая такая штука, если наезжать туда погостить, а чтобы жить все время, сказали они, так нам его и даром не надо, подавайте нам Соук-Сентр».
Как видите, это был отличный боевой репортаж, насыщенный достоверными фактами, поэтическими чувствами и любовью к человечеству, но мистер Хендрикс так измарал корректуру синим карандашом, что мне пришлось все перебрать заново. Я всегда знал, что школьные учителя — настоящие фанатики, когда дело касается запятых, но разве можно требовать, чтобы человек помнил о таких мелочах, когда он жаждет поведать миру великие откровения и пытается в то же время предохранить свою блузу от близкого знакомства с типографской краской?
То, что мистер Хендрикс сказал о моей первой заметке, глубоко потрясло меня. В пылу вдохновения я намарал что-то в таком роде:
«В четверг днем миссис Пайк пригласила дам из конгрегационалистской церкви. Угощение состояло из восхитительного какао с пончиками, и все были страшно довольны».
Мистер Хендрикс засопел.
— Гарри, — сказал он, — ты спрашивал у каждой дамы в отдельности, была ли она страшно довольна?
— Чего?
— Сколько дам из числа присутствующих ты спросил, довольны они или нет?
— Сколько? Вот так штука!.. Да я ни у кого не спрашивал.
— Нужно совсем не уважать истину, чтобы позволить себе писать в нашей почтенной, добропорядочной газете, будто все они утверждали, что страшно довольны. И чем — какао?!
— Вот так штука! Да ведь все так пишут… посмотрите, даже в «Геральде».
— Только в корреспонденциях из провинции, которые я никогда и не пытался исправить. Сын мой, первое правило писателя состоит в том, что если все говорят о чем-нибудь всегда в одних и тех же выражениях, то это уже достаточное основание, чтобы больше так не говорить.
Он вооружился устрашающим синим карандашом и вымарал все, что я написал кровью своего сердца, оставив только «восхитительное какао с пончиками». При этом он буркнул:
— Готов побиться об заклад, что ничего восхитительного в нем не было.
Потом он наколол корректуру на крючок, и она перешла в руки настоящего типографщика — человека, который, не знаю почему, покатывался со смеху всякий раз, как ему случалось посмотреть на меня.
Усвоив наконец элементарные правила пунктуации, я стал репортером-романтиком, специалистом по раскрытию преступлений; теперь не я бегал за Чарли Мак — Кадденом, а он за мной. Это был триумф творческого интеллекта над вульгарными способностями, вроде умения насвистывать сквозь зубы! Именно Чарли был моим доктором Ватсоном, когда я очертя голову взялся за опасное расследование Тайны Световых Сигналов в Роще Стеблера.
Из окна своей спальни я заметил, что в хлопчатнике, покрывавшем склон Индейского Холма, регулярно, через определенные промежутки времени, вспыхивали и гасли огни. Место это находилось примерно в двух милях от нас, за озером и лугом. Огни! Они вспыхивают и исчезают! Это, конечно, шифр! И всегда к ночи — после девяти часов! Время немецких шпионов еще не настало, а времена организованных конокрадов давно прошли, так что после глубокого и серьезного раздумья я решил, что здесь готовится какое-то преступление, и с важным видом позвонил Чарли, на которого еще так недавно смотрел снизу вверх, чтобы он взглянул на эти огни собственными глазами.
Стоя в летних сумерках у окна моей комнаты, мы окончательно убедились, что перед нами зловещие сигналы: вспышка — тьма, вспышка — тьма, вспышка.
— А как ты отнесешься, — спокойно заметил я, сидя вместе с Чарли в своем кабинете в Скотланд-Ярде, — если я скажу, что эти люди подают сигналы своим сообщникам и что это самая опасная во всем Стернском округе банда международных фальшивомонетчиков? Я намерен выследить их; хочешь помогать мне?
— Д-да, что ж, я не прочь, — пробормотал Чарли.
Меня вполне устраивала перспектива совместной работы с человеком, обладавшим такими физическими данными, как Главнокомандующий Мак-Кадден, и способным бесстрашно схватить руками даже полосатого ужа. Я не совсем ясно представлял себе, что предпримут фальшивомонетчики, когда их обнаружат. Еще начнут орать во всю глотку или, чего доброго, сопротивляться! Но Главнокомандующий сумеет как следует прикрикнуть на них — во всяком случае, я уповал на это.
Каждому понятно, что выслеживать преступников нужно только по ночам. Слыханное ли дело, чтобы профессора Мориарти[252] ловили среди бела дня в прериях под звонкое пение жаворонков? Но док Льюис укладывал нас в постель не позже половины десятого. Каково было бы Шерлоку Холмсу, если бы он надел фрак, маску и оперный плащ с малиновой оторочкой и собрался спасать богемского короля, а тут вдруг раздался бы голос старого дока Льюиса: «Дорогой мой, уже десять минут десятого, пора спать, и, пожалуйста, без разговоров!»
Но вот выпал такой вечер, когда доктор ушел к больному, а мама отправилась на волнующее собрание Комитета Братства Утренней Звезды. Мы с Чарли помчались в Рощу Стеблера. Мы прицепились к фермерскому фургону, соскочили у хлопковых зарослей, и вдруг на Полковника Льюиса напал смертельный страх.
— Б-б-боюсь, Чарли, они заметят нас раньше, — чем мы их…
— Т-т-тогда мы удерем ко всем чертям! — решил мой практичный спутник.
С опасностью для жизни мы проползли целых десять футов и выбрались на лужайку, откуда была видна усадьба фермера. Вокруг стояла такая ужасающая тишина, что нам все время чудились какие-то жуткие звуки, которых и в помине не было. В кухне горел огонь; свет был спокойный, ровный и именно поэтому какой-то угрожающий. Чем занимается там эта банда? Фабрикуют поддельные золотые монеты, орудуя своими разбойничьими ножами?.. Или, может, следят за нами в подзорные трубы?
— Гляди! — прошипел вдруг Чарли. Иные критики будут, конечно, язвительно доказывать, что никто не сможет «прошипеть» слово, в котором нет ни одной шипящей. Но Чарли мог. Он именно прошипел. И тут я понял, что у опасных предприятий есть только один недостаток — иногда они бывают опасны.
Из дому вышел с фонарем в руках наш хороший знакомый, мистер Стеблер. Он направлялся в конюшню. Пока он шел, деревья, росшие на скотном дворе, то и дело заслоняли свет фонаря, и в его мигании можно было уловить отчетливый ритм: вспышка — тьма, вспышка — тьма, вспышка.
— Фальшивомонетчики! — горько усмехнулся Мак — Кадден. — Недаром Чарли Бенет считал тебя самым отъявленным олухом на нашей улице! Сигналы! А ну, погляди, что теперь делает мистер Стеблер!
Насколько я мог понять, мистер Стеблер просто оглаживал лошадь, но меня бросило в дрожь.
— А как, по-твоему, Чарли?
Но Чарли уже не было, его и след простыл, и я в одиночестве поплелся домой сквозь тьму, кишевшую фальшивомонетчиками, привидениями, свирепыми гризли и косматыми гориллами.
Утром в редакции «Геральда» мистер Хендрикс осведомился:
— Принес ты какие-нибудь новости насчет Братства Утренней Звезды?
— Ух, я совсем забыл спросить у мамы!..
— Превосходно! Просто превосходно, Гарри! Теперь давай-ка посмотрим: сколько я плачу тебе?
Потрясающая надежда зажглась в моем юном сердце.
— До сих пор я получал ноль долларов и столько же центов в неделю.
— Так вот, мой мальчик, боюсь, что это слишком дорого. Ты уволен. Впрочем, я надеюсь, что тебе предстоит еще немало таких же репортерских триумфов.
Так оно и было.
ВСТРЕЧАЕШЬСЯ С ТАКИМИ ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ!
Следующие летние каникулы я опять проводил в славном городе Соук-Сентре (Миннесота); на этот раз я поступил в другой еженедельник, что принесло мне небывалое в истории журналистики повышение жалованья — целых триста процентов (вернее, просто центов). Сам Гораций Грили[253] лопнул бы от зависти! Мой заработок поднялся с нуля долларов и нуля центов до трех долларов в неделю, и за это я должен был только подметать, писать заметки, набирать, вертеть ручку печатного станка и бегать за пивом; если даже считать, что мне переплачивали какую-нибудь сотню процентов, так ведь я был серьезным автором (да, да, я сказал «автором»), твердо усвоившим, что клевета куда менее опасна, чем ошибка в инициалах тех лиц, о которых нам случалось упоминать примерно раз в неделю.
Газета называлась «Уикли-Эвеланч».
Потом, когда я отправился на Восток, в колледж, я раз в неделю по вечерам подвизался в нью-хейвенской «Джорнэл энд курьер»; это был листок, примечательный тем, что его редакторы действительно хорошо относились к репортерам, даже если то были молокососы из Йеля, которым ничего не стоило брякнуть Арту Слоуну, редактору последних известий, что-нибудь в таком роде:
— А все же мне чертовски повезло, что я изучаю Гомера — не то, что вы, ребята; вам ведь не удалось получить приличного образования. А?
— «А»-это этимологическая частица древнеперсидского языка, перекочевавшая потом в санскрит, а оттуда в греческий, — задумчиво отвечал Арт.
— Как? — восклицал потрясенный юнец.
Первой газетой, в которой я работал в полную силу, был «Курьер», издававшийся в Ватерлоо (Айова); эта работа могла служить наглядной демонстрацией финансовых преимуществ, университетского образования, поскольку, занимая здесь одновременно три должности: автора передовиц, редактора последних известий и корректора, — я получал целых восемнадцать долларов в неделю, по шесть долларов за каждую должность… Разумеется, я получал их только до тех пор, пока меня не выставили.
Предполагалось, что мои передовицы будут посвящены главным образом местной политике штата Айова. Я же проявлял полную готовность информировать граждан Ватерлоо об этнологических различиях между жителями Нигерии и Уганды и о повестке дня Совета Тридцати, но не имел ни малейшего понятия о том, что достоуважаемый представитель Катаринктского округа был величайшим знатоком пшеницы, кандидатом в Верховный Суд и отъявленным сукиным сыном. А передовицам, написанным без учета этих обстоятельств, была грош цена. Газетчики Дэвенпорта и Мейсон-Сити начали придираться к новичку из Ватерлоо, и босс посматривал на меня со все возрастающем сомнением.
Я стал изощряться в дешевых каламбурах по адресу Ватерлоо и в то же время откладывать на черный день по восьми долларов из восемнадцати. Если я сумею продержаться десять недель, этих денег хватит на поездку в Нью-Йорк, где крупнейшие издатели, конечно, устроят мне пышную встречу на вокзале Гранд-Сентрал. Обедал я в булочной: там за пятнадцать центов можно было получить превосходную черствую булку, а по вечерам, чтобы отдохнуть и рассеяться, я прогуливался по улицам. Иногда я шел на север и быстро оказывался в прерии, иногда, для разнообразия, — на юг и так же быстро оказывался в прерии, а потом возвращался в свою меблированную комнату и ложился спать на твердокаменную постель. Однажды я безрассудно швырнул на ветер двадцать центов и посетил Парк отдыха; но там некая прелестная молодая женщина улыбнулась мне, и я… дал тягу. Я опасался, что эта юная Далила, чего доброго, заставит меня раскошелиться еще на двадцать центов, как будто у меня денег куры не клюют.
О восхитительные часы безумия, когда юный поэт кутит всю ночь напролет!
Словно специально для того, чтобы ускорить неизбежную катастрофу, я умудрился поссориться с наборщиками. В качестве театрального критика (это была четвертая моя должность, за которую мне, сколько помнится, не платили ни цента) я написал о спектакле единственной музыкальной труппы, которая гастролировала у нас летом; в своей рецензии, выдержанной в весьма серьезных и возвышенных тонах, я употребил слово «рококо». Заведующий наборной застал меня при исполнении обязанностей корректора и, указывая на эту странную коллекцию «о» с гарниром из согласных, буркнул:
— Такого слова не существует.
Корректор, автор передовиц и редактор последних известий сардонически посмотрели на него и хором, в котором восхитительно перекликались голоса Йеля и Соук-Сентра, рявкнули:
— А вы потрудились заглянуть в словарь?
Обращение «милейший» не было произнесено, но подразумевалось.
Нет, он не потрудился. Но с тех пор я оказался в положении лейтенанта, нагрубившего сержанту, к словам которого прислушивается полковник.
В четверг утром, на десятой неделе, хозяин вошел ко мне и весело сказал:
— Ну вот, пришла телеграмма от вашего преемника. Его поезд прибывает через полчаса, и до вечера вы всё сдадите. Однако, — добавил он в порыве неслыханного великодушия, — я оплачу вам завтрашний день!
Так я впервые узнал о преемнике и о том, что, не успев преуспеть, я уже успел вылететь из редакции «Курьера»; впрочем, мне удалось скопить без малого восемьдесят долларов, так что в пятницу утром я был уже в вагоне на пути в Чикаго. Впереди меня ожидали Нью-Йорк и слава — путь был открыт. В чемодане у меня лежали три запасные рубашки, запасная пара брюк и «Словарь» Роджета.
Чего ради ездить в роскошных пульмановских вагонах? Жизнь штата Огайо куда удобнее наблюдать из окна вагона третьего класса «Айова — Нью-Йорк», а наблюдая, нетрудно и позабыть о том, что вы работали в четырех редакциях, причем из двух вас попросту выгнали.
За какую только работу не хватаются юнцы и как они бывают счастливы, когда получают ее! Если бы я был президентом Первого Национального Банка и меня вдруг выгнали и мои сбережения (без малого восемьдесят долларов) подошли к концу, все равно второй раз я ни за что не стал бы ночным дежурным Главного Бюро Заявлений Объединения Благотворительных Обществ и Ассоциации по Улучшению Условий Жизни Бедняков (каковые условия, несмотря на все мои усилия, до сих пор продолжают ухудшаться). Этот винегрет из высокопарных слов в конечном счете означал, что с раннего вечера и до полуночи я сидел в конторе за столом, а бродяги, которым удалось выклянчить у почтенных людей только маленькие карточки с адресом нашего бюро (вместо желанного двадцатипятицентовика на добрую выпивку), являлись ко мне и плели какую — то чушь о песчаных карьерах на островах Самоа или о строительных работах в Рейтон-Пас. Они дышали мне в лицо таким перегаром, что я потом двое суток не мог Протрезвиться, и клялись: «Слушайте, мистер, ведь я не какой-нибудь попрошайка, так вы уж не посылайте меня в городскую ночлежку; там первым делом суют ваше исподнее в парилку, а потом — бр-р-р!» После чего, во исполнение своего долга перед Обществом, я давал им билетики в эту самую ночлежку, куда они, собственно говоря, могли пойти и без моего содействия.
Я стал специалистом по работе в нескольких местах одновременно и почти что умирал с голоду на этот комбинированный заработок. Достославное ГБЗОБОАУУЖБ платило мне по два доллара в неделю за каждую букву своих винегретных инициалов. Я был не только ночным дежурным, но днем еще исполнял обязанности «обследователя». Просители, претендовавшие на более существенную помощь, сообщали нам место своей последней работы, и я отправлялся туда — обычно это был какой-нибудь чердак на Западном Бродвее, или на Бейярд-стрит, или еще на какой-нибудь улице, о которой никто никогда не слыхал, — и наводил справки. — Если оказывалось, что наш клиент там действительно когда-то работал и при этом не напивался до белой горячки и не воровал лампочек, мы выдавали ему пособие, которое позволяло ему умереть с голоду не сразу, а лишь спустя несколько дней.
Обе эти работы в ГБЗОБО и т. д. давали мне семьдесят пять долларов в месяц и в придачу то, что мне удавалось сколотить по подложным счетам. А с этим делом я управлялся недурно. Мне и в голову не приходило пользоваться такой роскошью, как трамвай. Я ставил в счет десять центов за проезд, а сам шел пешком, иногда до самого Бруклина. Подобное мошенничество, за которое меня и сейчас, вероятно, можно привлечь к ответственности и воспоминание о котором до сих пор умеряет мое чувство превосходства над так называемыми подонками общества, позволяло мне в особо счастливые дни сколотить целых тридцать центов, что означало для меня возможность позавтракать.
Считаю своим долгом уведомить ГБЗ и т. д., что если бы я не сидел в то время у филантропического края их душеспасительного стола, то, конечно, стоял бы у его противоположного края и умолял ночного агента не посылать меня в городской ночлежный дом.
Спасли меня две писательницы, сестры и сотрудницы, Грейс Макгоуэн Кук и Элис Макгоуэн (благослови их боже!), которые телеграфно запросили из Кармела (Калифорния), не буду ли я так любезен, не соглашусь ли приехать к ним в качестве их секретаря.
Не буду ли я так любезен? Не соглашусь ли? За какие-нибудь десять часов я успел уволиться из богоугодного автомата, уложить вещи — теперь у меня были уже две книги и две пары запасных брюк — и сесть в калифорнийский поезд. Конечно, я ехал третьим классом, и ехать предстояло шесть суток, но ведь каждый час можно полчасика вздремнуть и на каждой станции можно вылезать из поезда, болтаться по платформе и рассказывать фермерам-переселенцам, что вы из Нью — Йорка, что вы репортер и что вам ужасно нравится иной раз съездить в Калифорнию.
Кармел, лениво раскинувшийся на берегу узкого, изогнутого полумесяцем залива, был в то время настоящим раем для начинающего писателя — ничего лучше я не мог себе и представить. Теперь он битком набит кинотеатрами, гаражами, драматургами, коттеджами из глазурованного кирпича, сюрреалистами и людьми настолько состоятельными, что они даже могут позволить себе коллекционировать подлинные картины — скажем, почти подлинные. Но в 1908 году это была просто кучка бревенчатых коттеджей, затерянная в сосновых лесах.
Наша бедность могла сравниться только с нашей преданностью искусству. В городе был один-единственный автомобиль, и пожилая леди, которой он принадлежал, любезно предлагала нам пользоваться им, но обычно мы ходили пешком. Мы отправлялись за четыре мили в Монтерей, брали там бифштексы по-гамбургски и галлон мускателя, тащили все это на берег и там где — нибудь в скалах под шум прибоя, заменявшего оркестр, устраивали пикник. Наш костюм состоял из вельветовых штанов, свитера и сандалий; больше на нас ничего не было. Зато у нас было сокровище, каким не может похвастаться ни одна голливудская звезда и, вероятно, мало кто из знаменитых писателей, — у нас был досуг.
Если вы загребаете три тысячи долларов в неделю, вы, конечно, не можете устроить себе двухнедельный отпуск, ведь на этом вы потеряете шесть тысяч! Страшно подумать! Иное дело — наш брат: самым богатым из нас полмесяца свободы в Кармеле обходились не дороже сотни долларов, а большинство юных гениев вполне обходилось двадцаткой в неделю. Таким образом, мы могли позволить себе заниматься тем, чем нам хотелось, а здесь, среди эвкалиптов и маков, среди водорослей, плавно качающихся на бледно-бутылочно-зеленых волнах, в тихих лощинах, скрытых в сосняке, нас привлекало только одно занятие — ничегонеделание.
Уильям Роуз Бенет приехал из Бенисии (Калифорния), где его дед был комендантом арсенала, и мы с Биллом на пару сняли меблированный коттедж за пятнадцать долларов в месяц. Мы сами стирали себе белье, а иногда просто купались, не снимая его, и резонно считали, что этого достаточно, и сами готовили себе пищу. Поскольку мы, скажу вам по секрету, умели готовить только вареные яйца, яичницу и напиток, который у нас по взаимному соглашению назывался «кофе», было решено, что юным дарованиям вредно предаваться обжорству; итак, мы целиком зависели от почти ежедневных пикников, которые устраивали Грейс и Элис; на этих пикниках мы заряжались на сутки ракушками и испанскими бобами.
Секретарские обязанности оставляли мне немало свободного времени; я начал писать, и, должен заметить, не без успеха. Не прошло и полугода, как я произвел на свет превосходную шутку, которая была принята журналом «Эльф». Принята и оплачена! Наличными!.. Я тотчас же сочинил отличный рассказ, который… видите ли, он так никогда и не был напечатан, но название у него было замечательное: «Гражданин Миража».
Некоторое время я и сам был гражданином волшебного калифорнийского миража. То была, вероятно, самая разумная пора моей жизни. Если я жалею о чем-нибудь, то лишь о том, что всего два года длилась эта счастливая пора, когда я был отъявленным бездельником, беспутным и независимым скитальцем, когда меня то и дело выгоняли с работы и я почти ничего не зарабатывал, но зато чего только не повидал! Впоследствии я стал весьма ответственным молодым нью-йоркским журналистом и приобрел унылую привычку к деловитости и пунктуальности — какая это была ошибка! Будь во мне хоть каплей больше бродяжьей закваски, как у Хемингуэя или Эдгара По, я мог бы стать великим писателем, а не добросовестным хроникером семейных дрязг.
За шесть месяцев пребывания в этой Аркадии мне больше всего запомнилась та ночь, когда мы вдесятером наняли допотопный рыдван — да, да, настоящий, с бахромой над окнами! — и отправились вдоль по берегу за много миль, а вечером при свете огромного костра, пламя которого отражалось в волнах, прикатившихся к нам прямо из Китая, Джордж Стирлинг, очень похожий на Франсуа Вийона и чуть-чуть на Данте, декламировал нам, заглушая рев океана, «Последнюю песню моряков» Киплинга, после чего мы улеглись спать на склоне, среди маков.
Поистине откровением было для меня видеть, как Джек Лондон впервые читает Генри Джеймса.[254]
Я хочу рассказать о своем впечатлении профессорам, которые близко соприкасаются с таинством, именуемым Художественным Воздействием. Джек уже не был к тому времени бродягой и искателем приключений; он осел на одном месте, имел постоянный доход, играл в бридж и разводил свиней. Он приезжал в Кармел к Стирлингам, и хотя этот великий человек необыкновенно дружелюбно отнесся к тощему, рыжему и совершенно безвестному секретарю, последнему было не по себе оттого, что Джек, по-видимому, был вполне удовлетворен, до поздней ночи играя в бридж.
Взяв у кого-то из соседей «Крылья голубки» и стоя у стола, великий Мастер, плотный, приземистый, в простой, ненакрахмаленной рубашке и черном галстуке, с непрерывно возраставшим изумлением читал вслух легкие, сверкающие строки Джеймса. Потом отшвырнул книгу и взвыл: «Да кто же мне скажет в конце концов, что это за белиберда?»
Это было типичное для американской культуры столкновение между Мейн-стрит[255] и Бикон-стрит.
Все эти сосны, и тамале, и горные снега отнюдь не способствовали моей карьере журналиста. Правда, меня уже почти целый год ниоткуда не выгоняли, но хотя эти полгода принесли недурную чистую прибыль в виде одного шуточного рассказа, мне все же не хватало кассовых перспектив. Итак, я отправился в Сан-Франциско на поиски работы, и снова окунулся в газетную жизнь, и снова был выгнан — даже дважды, — и снова стал нормальным, многообещающим молодым репортером.
Об этом будет речь дальше.
ВСЮДУ СУЕШЬ СВОЙ НОС!
Теперь, сделавшись добропорядочным массачусетским фермером, я прямо диву даюсь, сколько жульничества, интриг, невежества и всевозможных антисоциальных поступков выплыло на свет, когда я принялся раскапывать корни газетной карьеры Гарри, Заправского Репортера. Я даже начинаю испытывать известное недоверие ко всем стандартным биографиям, в которых не упоминается о подобных преступлениях.
Разумеется, Джордж Стирлинг, поэт, повинен по крайней мере в лжесвидетельстве и в том, что он дал волю необузданной фантазии, ибо это именно он попросил корреспондента отдела спорта «Вечернего бюллетеня» Джо Ноэла сообщить по секрету редактору отдела городских новостей, что сюда приехал превосходный молодой репортер и журналист, мистер Льюис, которому Калифорния, по-видимому, приглянулась не меньше, чем его родной Нью-Йорк (Пятая авеню), так что его, быть может, удастся уговорить остаться. Беседа мистера Льюиса с этим наивным редактором была обставлена не менее пышно, чем бракосочетание коронованных особ.
Я намеревался согласиться на тридцать долларов в неделю, что значительно превосходило бы мою стоимость на рынке труда; но когда я входил в кабинет редактора, Джо тайком сунул мне записку: «Выколачивайте 35».
Выколачивать? Мне, журналисту с мировым именем? К лицу ли мне это? Я дал редактору понять, что он имеет дело с джентльменом, окончившим Иель, что я печатался в йельских журналах и знаю Нью-Йорк не хуже, чем подкладку собственной шляпы (каковую шляпу я скромно оставил в передней, считая, что чем меньше она будет попадаться на глаза, тем лучше). Но этот славный городок пришелся мне по душе, и я не прочь поболтаться тут — скажем, долларов за сорок — пятьдесят в неделю, — а впрочем, пусть будет тридцать пять, какая разница! — в захолустных городках жизнь так дешева!..
И я откинулся в кресле, рассеянно глядя в окно, выходящее на Маркет-стрит.
Конечно, никакой разницы не было, если не считать того, что без этих тридцати пяти долларов (а я был бы на седьмом небе, предложи он мне хотя бы тринадцать) пришлось бы мне положить зубы на полку и ночевать под открытым небом.
Но этот редактор был опытным, видавшим виды газетчиком, доверчивым, как все видавшие виды люди, которые так восхищаются собой и виданными ими видами, что у них уже не хватает времени разбираться в других людях. Я получил работу.
Настань сейчас вновь 1909 год и будь я тем самым редактором, я уже через неделю выставил бы этого Льюиса за дверь или создал бы в «Воскресном приложении» специальный отдел для всех нелепых фантазий, на какие только способна его глупая башка; и я все повышал да повышал бы ему жалованье, так что через каких-нибудь десять — двенадцать лет оно, пожалуй, дошло бы до тридцати семи долларов пятидесяти центов. От этого Льюиса был еще кое-какой прок, когда случалось нечто, представлявшее «общечеловеческий интерес», но он никогда не узнавал никаких новостей, не видел новостей и не слышал новостей, и если бы губернатор вдруг застрелил мэра прямо на пристани, а Льюис был бы единственным присутствовавшим при этом репортером, — он как ни в чем не бывало прискакал бы в редакцию с премиленьким описанием заката над Золотыми воротами.[256] Подлинные события его карьеры заставляют меня вновь взять под Подозрение все жизнеописания и в особенности автобиографии; читая пышные славословия премьер-министрам, епископам и магнатам универсальных магазинов, я всегда подозреваю, что хотя в молодые годы они и бывали трудолюбивыми и честными двадцать шесть часов в сутки, на их долю, вероятно, все же выпадали счастливые минуты блаженного и высокопарного идиотизма.
Этот Льюис разыскал в Сан-Франциско притон в духе Роберта Льюиса Стивенсона, где собирались бродяги и всю ночь напролет, не закусывая, пили вино ценою по пять центов за кувшин, и туман в головах становился все гуще, и, сидя за грубыми, некрашеными столами, по которым скользили зловещие тени, они рассказывали друг другу свои похождения в Южных Морях или уныло пели хором, на манер Пожирателей Лотоса. Но, к удивлению нашего юного героя, редактор об этом и слышать не хотел. Редактор говорил, что откуда-то поползли слухи о финансовом скандале, связанном с большим детским приютом; так вот, не будет ли Льюис так любезен лететь туда пулей и покопаться в этой грязи?
Оказалось, что приют окружен возмутительно высокой стеной из красного кирпича. Настоящий репортер, вероятно, вскарабкался бы на стену в полночь, прополз через двор, усыпил хлороформом ночного сторожа, вытащил гроссбухи из сейфа и занял бы своим сообщением всю первую полосу вечернего выпуска. Но я дважды обошел эту безмолвную стену и — больно сказать! — не нашел в себе решимости перемахнуть через нее. Не хватило у меня духу и на то, чтобы позволить у негостеприимных ворот и спросить привратника: «Как, по-вашему, не жулик ли глава этого учреждения и нет ли у вас на руках каких-либо доказательств?» Не поймите меня превратно, я не хвастаю; я сожалею и скорблю об этом; словом, я вернулся к себе в пансион (пользуюсь случаем теперь, тридцать восемь лет спустя, сообщить своему бывшему квартирохозяину: я отлично знал, что он тайком забирался в мою комнату и писал на моей пишущей машинке) и написал прелестную поэму, посвященную глазкам Эллен или еще бог весть каким, но не менее животрепещущим новостям.
О изобретательная, отважная молодость! Ведь это, кажется, Уильям Питт[257] стал премьер-министром в двадцать три года… Или это не ему было двадцать три, а ректору Чикагского университета?
Однако моя деятельность на Тихоокеанском побережье не ограничивалась одами девичьим глазкам. Мы были вечерней газетой, и в восемь утра я уже сидел в редакции, сочиняя заголовки. Я никогда не был большим мастером по части заголовков: это искусство даже более тонкое и страстное, чем популярное некогда искусство сочинять эпитафии, хотя и близко последнему по духу, ибо разве газетные заголовки не надгробные камни для новостей, которые умерли, а иной раз даже успели разложиться? Все же мне удалось создать несколько подлинных шедевров вроде:
АНГЛИЧАНИН СКАЗАЛ: «САН-ФРАНЦИСКО БУДЕТ ВЕЛИЧАЙШИМ ГОРОДОМ США».
Предполагалось, далее, что с десяти до четырех мы бегаем по городу и задаем бестактные вопросы людям, которые предпочли бы, чтобы их оставили в покое, а вечером наконец принимаемся за работу. Приближались бурные выборы, и я должен был ежедневно давать отчет о нескольких ораторских оргиях.
Главной фигурой на этих выборах был джентльмен, которого политические краснобаи называли не иначе, как «П. Хейтч Мак-Карти, незыблемая опора Города и Округа Сан-Франциско». В американской политике есть одна характерная особенность: личности здесь уделяется куда больше внимания, чем реальным политическим принципам; поэтому я отлично помню открытую улыбку Мак-Карти, его великолепные усы и сердечность, с которой он встречал репортеров («Привет, ребята, помогай вам бог!»), и позабыл только, за что ратовал этот самый П. Хейтч, и стояли мы горой за него или насмерть против него, и, главное, победил он или провалился.
Вот так и пишется история. Вы отыскиваете свидетелей, которые видели Диккенса своими глазами и могут до мельчайших подробностей описать его необыкновенную жилетку, а запамятовали только, любил он рождество, детей и толстых добродушных джентльменов или смертельно ненавидел их и пытался стереть с лица земли.
Но такие происшествия, как выборы, конечно, бледнеют по сравнению с Волнующей Историей о Старой Карге и Пропаже Рассыльного.
Одно время моей специальностью в «Бюллетене» была охота на приезжих; на мне лежала обязанность — уламывать высокопоставленных посетителей — например, лекторов, приезжавших к нам из Англии, — чтобы они согласились подтвердить, что да, действительно Сан-Франциско больше Лос-Анжелоса и куда романтичнее Лондона. И вот, занимаясь подобной охотой, я сделал невзначай важное открытие в области Культуры. Нам сообщили, что приехал какой-то китайский вельможа, и я весело побежал в отель интервьюировать его. По пути я заранее сочинял заметку; получалось очень забавно. Конечно, войдет вразвалку этакий толстяк с потешными усищами и длинной саблей и скажет что-нибудь в таком роде: «Моя есть большая счастливая вельможа». А я с обычным для всех жителей соук-сентров и нью-хейвенов презрением к этим нелепым иностранцам буду донимать его каверзными вопросами.
Мне так и не довелось повидаться с этим вельможей. У дверей его апартаментов меня — приветствовал стройный китайский джентльмен в безупречном сюртуке и на самом лучшем английском языке, с оксфордским произношением и мэйферской невозмутимостью мягко и холодно объяснил мне, что увидеть его высочество совершенно невозможно, но сам он будет счастлив ответить на любые мои вопросы.
Вопросы? Не думаю, чтобы таковые у меня были, если не считать обычного развязного: «Ну, как дела?» В этот момент мои познания о мире заметно пополнились, не менее быстро и радикально, чем в тот раз, когда мистер Хендрикс объяснял мне, почему не следует писать «все были страшно довольны».
Но история с рассыльным принесла мне настоящий триумф.
В отеле, который мы назовем «Браун», был симпатичный помощник управляющего, которого мы назовем, предположим, Смитом. Не буду утверждать, что мистер Смит пытался подкупить меня, но мне очень часто случалось попадать в «Браун» как раз к часу дня, а мистеру Смиту всякий раз приходило в голову, что для «Брауна» было бы превеликой честью, если бы столь выдающийся журналист, как я, согласился принять приглашение на обед — разумеется, без всяких ответных обязательств. А потом мистер Смит представлял меня милейшему джентльмену, который — по его словам — был известным аравийским исследователем или знаменитым канзасским почвоведом. Это, во всяком случае, заинтересует читателей «Бюллетеня», не так ли?
Я наслаждался этими обедами — три различных супа и четыре сорта десерта. На первых порах тридцать пять долларов в неделю казались мне великолепным окладом, но я уже привык есть систематически, а эта разорительная привычка погубила куда больше юных идеалистов, чем любовь или выпивка.
В один прекрасный день вышеупомянутый Смит, лучезарно сияя, подлетел ко мне, когда я проходил через холл отеля «Браун». И сказал мне Смит:
— У меня есть для вас замечательная история — ну, просто исключительная! Прошлой зимой у нас жила одна старуха из Коннектикута, ужасная брюзга, никак на нее не угодишь, — словом, настоящая Старая Карга. И был здесь мальчишка рассыльный, который уверял, что она страсть как похожа на его мамашу, и он никогда не сердился на нее и весело выполнял все, о чем бы она ни попросила, а по вечерам — заметьте, она никогда не давала ему ни цента! — по вечерам, в свободное время, он читал ей вслух, и все мальчишки издевались над ним и называли его подлизой. Ну, так вот, на днях она умерла там у себя, на Востоке, и оставила этому мальчишке все свое состояние — семьдесят пять тысяч долларов. Каково?
— Как его звали?
— Кого?
— Рассыльного.
— Ах, рассыльного? Вы хотите знать его имя? А нельзя ли?.. Впрочем, ладно, его звали Робертом.
— Фамилия?
— Мм… Джонсон.
— Где он? Я хотел бы задать ему несколько вопросов.
— А он поехал в ее родной город, в штат Коннектикут, поехал за наследством. Восемьдесят пять тысяч!
— Какой город?
— Медфорд.
— Медфорд в Массачусетсе.
— Ах, совершенно верно! Я имел в виду Массачусетс.
— Ладно. Пусть будет двадцать тысяч, и я возьму вашу историю.
— Вы хотите сказать?..
— Двадцать тысяч!
— Идет!
Конечно, моральная сторона этого предприятия выглядит не слишком привлекательно, но в моем пересказе истории Смита для «Бюллетеня» Бобби Джонсон так был внимателен к старшим, так любил чистить зубы и причесываться, так заботился о сбережении электроэнергии и всякой веревочки, что стал образцом для всех юношей на будущие времена. Даже сейчас, почти сорок лет спустя, вы, вероятно, чувствуете его благотворное влияние.
После того как рассказ был опубликован — на этот раз без всяких сокращений, — я встретил в соседнем баре репортера «Кроникл», который горько жаловался: «Смит предлагал мне эту историю раньше, чем вам, но мой редактор не пропустил ее. Это обман, говорил он. Вот, полюбуйтесь, каких тупиц насажали на голову бедным репортерам!»
— Я имел неосторожность объявить, что Бобби Джонсон вернется на этой неделе в Сан-Франциско со своими двадцатью тысячами, чтобы обласкать всех рассыльных и научить их ухаживать за старушками и беречь всякую веревочку. А душещипательным отделом «Бюллетеня» в это время заправляла сама «королева сердцебиений» Бесси Битти,[258] прославившаяся выступлениями по радио. Мой редактор сказал:
— Я поручу Бесси интервьюировать вашего парня. Пустим это в субботу на развороте и дадим фото.
— Лучше пошлите меня, — взмолился я.
— Вас? Тут нужен трогательный, проникнутый человечностью рассказ — это не по вашей части. Вот Бесси-другое дело!
Мое детище, плод моей фантазии! Мой маленький лорд Фаунтлерой,[259] собиратель веревочек, отважный борец с вредоносными сигаретами! Я, я не сумею написать его биографию!
Я не стал объяснять, почему Бобби на этой неделе не вернется домой. Пусть мистер Смит из отеля «Браун» выкручивается как умеет. Сам же я обратился на путь чести и неуклонного следования истине и, как всем известно, шествую этим путем до сих пор, в отличие от многих беллетристов, имена которых я мог бы назвать и в частной обстановке нередко называю.
Несколько месяцев спустя, когда я работал в Ассошиэйтед Пресс — это было после того, как меня прогнали из «Бюллетеня», и как раз перед тем, как меня выгнали из АП, то есть перед провалом № 4, - итак, несколько месяцев спустя мистер Смит показал мне папку с вырезками из газет, посвященными Истории Рассыльного и Старой Карги. И тут я опять совершенно запутался в морально-философских проблемах. Вся эта история просто не вязалась с этическими принципами, которые я почерпнул у Спинозы и Горацио Альджера-младшего.[260] Я написал немало дышащих чистотой картинок, посвященных выставкам цветов, знаменитым приезжим пловцам или случаям из жизни диких лебедей; их никто даже не читал, включая и редактора городского отдела, который просто швырял их в корзину. А вот мерзкую, бессовестную, слезливую болтовню о мифическом сопляке Роберте читали и любовно перечитывали во всем мире, с обязательным упоминанием названия отеля. Просмотрев папку этого проклятого Смита, я увидел, что история рассыльного обошла все американские города (и кое-где удостоилась даже хвалебных передовиц), а кроме того, Париж, Лондон, Берлин, Рим, Пекин, Кандагар.
А меня, автора этого дополненного и еще более мерзопакостного издания «Крошки Тима»,[261] не только прогнали с работы, но уже готовились прогнать вторично. В один прекрасный калифорнийский вечер, сидя за столом ночного редактора Ассошиэйтед Пресс, мой непосредственный начальник — к тому времени тихий, близорукий, добросердечный кабинетный человечек, увлекающийся спиритизмом, а в прошлом известный своей неутомимостью иностранный корреспондент Карл фон Виганд посмотрел на меня сквозь толстые стекла своих очков и буркнул:
— Послушай-ка, шеф собирается выставить тебя завтра утром за то, что ты прозевываешь самые лучшие новости. Лучше опереди его, пока не поздно.
На следующий день я приплелся в кабинет шефа Чарли Клебера и, явно подражая героям английских романов, протянул:
— Дружище, мне не хотелось бы ставить в затруднительное положение твой маленький штат, и без того перегруженный работой, но я просто не могу больше оставаться здесь. Тут у вас такое литературное убожество!
Чарли был виргинцем с мягким выговором и добрыми глазами; ему случалось играть в покер на Аляске, и в Лиме, и в Хельсинки. Я надеялся, что он придет в ярость, теряя такое сокровище, но он задумчиво посмотрел на меня и вздохнул.
— Я бы дорого дал, чтобы узнать, кто это проболтался, что я решил выставить тебя.
Так случилось, что я вернулся на Восток и занял Ответственный Пост в «Волта Ревью» — журнале, посвященном преподаванию в школах для глухих; мои познания в этой области были даже меньше, чем в радиолокации, несмотря на то, что радиолокация тогда еще не была изобретена. Жалованье составляло пятнадцать долларов в неделю; к сожалению, меня не захотели там держать; я был литературным отцом мифа о Непорочном Рассыльном, и это их не устраивало. Не прошло и года, как я вернулся в Нью-Йорк, где поступил редактором в книгоиздательство, и, сами понимаете, в моем возрасте-двадцать пять лет! — мне не пристало получать какие-то жалкие пятнадцать долларов в неделю.
Нет, я получал двенадцать пятьдесят!
Как видите, не имея влиятельных знакомств, единственно благодаря своей деловитости и таланту я преуспевал не только в общественном, но и в финансовом смысле. Менее чем за два года мой оклад поднялся с 35 долл. в «Бюллетене» до 30 долл. в Ассошиэйтед Пресс, потом до 15 долл. в «Волта Ревью» и, наконец, до 12 долл. 50 ц. в солидной и почтенной фирме «Фредерик А. Стокс Компани».
О молодость, о слава!
Я надеюсь, что вы, молодые люди Середины Века, узнав из этой хроники, как энергично пробивались сверстники ваших отцов, поднатужитесь, в свою очередь, и оттесните нас. Но не зарывайтесь, мальчики, не зарывайтесь!
1947HE НАДЕЙТЕСЬ ВОЗНЕСТИСЬ НА ОЛИМП!
В таком популярном издании, как энциклопедия, хочется сделать несколько суровых замечаний по адресу начинающих авторов; в Соединенных Штатах это более необходимо, чем в любой другой стране.
У демократий нашего типа есть одна характерная особенность: внушая молодому человеку, что в один прекрасный день он может стать президентом (если не республики, то хотя бы агентства по продаже автомобилей), мы как-то забываем сообщить ему, что было бы неплохо, если бы в соревновании с другими, не менее счастливыми и свободными гражданами он сумел хоть немножко превзойти их талантом и деловитостью. Это особенно важно; когда речь идет о профессии беллетриста. Благодаря сентиментальным школьным учителям и рекламам предприимчивых дельцов, берущихся за соответствующую мзду научить кого угодно писать романы, публика твердо уверовала, что стоит любому мужчине или любой женщине, которым не удалось преуспеть в качестве водопроводчика, фермера или домашней хозяйки, взять пару нетрудных уроков, посвященных некоторым тонкостям писательского ремесла, — например, как писать — пером или на машинке и какую героиню предпочесть — златокудрую стюардессу самолета или рыжеволосую девицу из Исландии, — и после этого они, конечно, напишут роман, который будет удостоен Пулитцеровской премии и продан в Голливуд за миллион долларов.
На беллетристику возлагается множество надежд: вдове она должна помочь выкупить закладную; молодым людям — свести счеты с родственниками; скучающему холостяку принести славу и горы любовных писем. Все это цели весьма почтенные, но профессиональный писатель обязан тем не менее предупредить простосердечных любителей, что им едва ли удастся изучить за двадцать часов то, на что сам он затратил двадцать лет.
Литератор-дилетант нередко выдает себя употреблением таких выражений, как «побаловаться пером» или «выколачивать гонорары», и считает, что это рекомендует его как славного парня, но серьезному труженику так же противно слышать о «выколачивании гонораров», как набожному священнику о «выколачивании пожертвований».
Если такой дилетант испытывает наслаждение, пытаясь изложить на бумаге свои мысли о людях и о местах, в которых ему довелось побывать, — это пристрастие достойно всяческого уважения. Если, однако, он ожидает некоего чуда, которое вдруг вознесет его над мириадами других, не менее компетентных соискателей, — тогда лучше бы ему попытать счастья на скачках. Я нисколько не боюсь обескуражить его, так как, если он действительно чего-нибудь стоит, он не обратит никакого внимания ни на меня, ни на других подобных мне блюстителей порядка.
Почти все правила «как писать» нелепы. В основу их положено то, что тот или иной писатель делал в прошлом; то, что годилось ему, но больше не пригодится никому и никогда. Литература не терпит таких простых решений; писатель не может идти по дороге, проложенной другими; он обязан с чувством полной ответственности искать свои собственные пути. Одному лучше всего пишется в пустыне, а другому в зале, где репетирует джаз; один предпочитает работать перед завтраком, а другой после полуночи; один сперва составляет план объемом в 50000 слов, а другой — как, например, Диккенс — намечает два-три имени и принимается за дело. Впрочем, одно твердое правило все же существует, но правило это очень жестокое и непопулярное: сколько бы ни провели вечеров, услаждая самого себя и донимая родственников рассказами о вашем замысле, замысел этот все равно не принесет вам славы, пока вы не превратите его в слова и не уложите их на бумагу. Итак, скажем короче: трудитесь!
Вот еще несколько замечаний. Не обращайтесь за советами к профессиональным писателям: им достаточно трудно приходится со своей работой, так что им, во всяком случае, не до вашей; что касается «построения» романа, то это важный вопрос, но решить его можете только вы; и, наконец, если вы ощущаете потребность поведать миру некие «откровения», — вдумайтесь и постарайтесь разобраться, принадлежат ли эти откровения лично вам, или вы почерпнули, их из какой-нибудь проповеди или из газетной передовицы, или может быть, услыхали их в забавном рассказе, который на прошлой неделе передавался по радио.
…Существует ходячее мнение, что, задумывая рассказ, писатель отталкивается либо от «интриги», либо от портрета главного героя, либо от впечатления о какой-то местности. На самом же деле с самого начала все это перемешано у вас в уме; для того, чтобы человек, о котором вы хотите написать, приобрел для вас реальность, он должен принадлежать к определенному классу общества и жить в определенном доме и городе, на определенной улице. Вы не можете ограничить свое воображение тесными рамками. Фантазия ребенка, который в каком-нибудь кустике с такой ясностью увидел дракона, что перепугался насмерть, куда ближе к подлинному творческому дару, чем любые ухищрения журналиста, все художества которого сводятся к тому, чтобы выкроить побольше места для объявлений.
Правила нелепы потому, что создание оригинальных произведений — это умственный процесс, несколько отличный, скажем, от кондиционирования воздуха, которому требуется придать известные стандартные свойства. Основная работа по созданию романа производится в мозгу автора раньше, чем он поставит на бумаге первую букву; однако после этого он должен запастись терпением и ставить букву за буквой по восемь часов в день в течение целого года или около того. Если вам есть что рассказать, и вы страстно хотите это рассказать, если вы можете думать об этом наедине с собой, независимо от того, чем заняты ваши руки и ноги; если вы способны к тому же ни с кем не поделиться задуманным и тем самым не утратить интереса к теме, ну, тогда у вас и без всяких правил что-нибудь получится… может быть.
Даже с коммерческой точки зрения пользование советами «преподавателей литературного мастерства» — это вернейший путь к провалу, ибо найдется миллион других горе-писателей, которые, пользуясь теми же советами, произведут на свет те же банальные истории. Воробей есть воробей; кто станет платить деньги за то, чтобы посмотреть на воробья в клетке!
Если бы я встретил новичка, который действительно хочет писать, я убедил бы его: 1) в течение десяти лет наблюдать, прислушиваться ко всему, что происходит вокруг, и спрашивать себя; «Что это значит в действительности?», а не «Что об этом обычно говорят?» и 2) читать без устали таких авторов, как Толстой, Достоевский. Чехов, Готорн,[262] Герман Мелвил,[263] Хемингуэй, Кэсер, Томас Вулф, Дос Пассос, Генри Джеймс, Марк Твен, Уортон, Фолкнер, Ричард Райт,[264] Марита Волф, Колдуэлл, Фаррел,[265] Стейнбек, Диккенс, Харди, Теккерей, Эвелин Во,[266] Скотт, сестры Бронте, Сэмюэл Батлер, Г. Дж. Уэллс, Арнольд Беннет, Э. М. Форстер,[267] Киплинг, Моэм, Джордж Мур,[268] Бальзак и Пруст.
Не поручусь, что к концу этого искуса он сумеет написать хоть один хороший абзац, но, вероятно, он будет менее, склонен к тому, чтобы написать скверный, и, во всяком случае, это будет для него блаженное десятилетие, А если потом он все же начнет писать и если у него окажется талант, — его произведения будут хотя бы отдаленно напоминать творения мастеров, а не стандартную, скверно написанную стряпню, идущую по дешевке.
1948Примечания
1
Плимутский утес — место высадки первых английских, колонистов-пуритан в Новой Англии (1620).
(обратно)2
Золотой стандарт — денежная система, при которой деющиеся в обращении банкноты обеспечиваются золотым запасом и подлежат обмену на золотые монеты или слитки, В 90-х годах в США возникло широкое общественное движение, одним из требований которого было введение серебряного стандарта.
(обратно)3
Брайан, Уильям Дженнингс (1860–1925) — американский политический деятель, трижды баллотировался на пост президента от демократической партии, но терпел поражения. В 90-е годы, будучи связан с владельцами серебряных рудников, выступал против золотого стандарта, за свободную чеканку серебряных денег, доказывая, что это якобы улучшит положение трудящихся.
(обратно)4
Баркли, Флоренс (1862–1921) — английская поэтесса, автор произведений в сентиментально-романтическом духе; её «Четки» вышли в 1909 году.
(обратно)5
Намек на демагогический лозунг «новой свободы», выдвинутый в 1912 году нa выборах кандидатом в президенты от Демократической партии Вудро Вильсоном.
(обратно)6
Вывеска ссудной кассы.
(обратно)7
Лодер, Гарри (1870–1950) — популярный шотландский певец и комический актер.
(обратно)8
В канун первой мировой войны На Тихоокеанском побережье шла острая классовая борьба между профсоюзами и трестами, причем промышленники жесточайшим образом подавляли стачки, штрафовали, бросали в тюрьмы рабочих лидеров. В знак протеста группа рабочих организовала взрыв в помещении лос-анжелосской газеты «ТаЙмс», владелец которой Гаррисон Отис рьяно поддержи в монополии. В результате взрыва 1 октября 1910 года было убито 20 и ранено 17 человек.
(обратно)9
Смит, Альфред (Эл) (1873–1944) — американский политический деятель, был губернатором штата Нью-Йорк. В 1928 году баллотировался на пост президента от демократической партии, но был побежден республиканцем Гувером.
(обратно)10
Братья Макнамара — профсоюзные деятели. Честные, преданные делу рабочих лидеры, они, однако, избрали ошибочную тактику борьбы с трестами с помощью «взрывов» как средства «устрашения»; Джеймс Макнамара был обвинен на суде в организации взрыва в помещении «I аймса» и приговорен к пожизненному тюремному заключению, а его брат Джои, секретарь-казначей союза рабочих железоделательной промышленности, — в организации взрыва на руднике и был приговорен к 15 годам тюрьмы.
(обратно)11
В 1910 году в Мексике была свергнута диктатура кровавого президента Диаса и началась буржуазно-демократическая революция; в США стали поговаривать о возможной интервенции в Мексику дли «защиты» интересов американских монополий. И в самом деле, США не раз вмешивались в мексиканские дела: в 1914 году в порту Вера — Крус был высажен десант, в 1916 году в Мексику были направлены войска генерала Першинга.
(обратно)12
Хилл, Джеймс (Джим) (1838–1916) — крупнейший американский финансист и железнодорожный магнат.
(обратно)13
Джеймс, Джесси (1847–1882) — главарь банды, совершившей ряд крупных ограблений банков и железнодорожных компаний. Герой сказаний и баллад, в которых он изображается «американским Робин Гудом».
(обратно)14
Капитолий штата — здание конгресса.
(обратно)15
Дуглас, Стивен (1813–1861) — американский государственный деятель, член сената от демократической партии, получил известность своими спорами с А. Линкольном по вопросу о рабстве.
(обратно)16
Уоллес, Льюис (1827–1905) — американский писатель и политический деятель, автор популярного романа «Вей Гур»; в годы гражданской войны был генералом, потом губернатором штата, послом в Турции.
(обратно)17
Была произнесена президентом Линкольном в 1863 году по поводу превращения поля битвы при Геттисберге в кладбище погибших воинов. Эта речь, содержавшая известную характеристику политической демократии («правительство из народа, волей народа и для народа»).- одни из блестящих образцов ораторского искусства.
(обратно)18
Йитс. Уильям Батлер (1865–1939) — ирландский поэт и драматург.
(обратно)19
Уэбстер, Даниэль (1782–1852) — один из теоретиков американской буржуазной государственности, видный оратор, речи которого отличались цветистостью и богатством риторических фигур.
(обратно)20
Кэлхун, Джои (1782–1850) — американский политический деятель, ведущий идеолог южного рабовладения.
(обратно)21
Доннели, Игнациус (1831–1901) — американский литератор и общественный деятель, выступал в 90-х годах в поддержку фермерского движения.
(обратно)22
Среди «известных Рузвельтов двое: Франклин Делано (1882–1945) и Теодор (1858–1919) — были президентами; Роберт (1829–1906) — политиком и писателем; Теодор-младший (1887–1944) — генералом.
(обратно)23
Чосер, Джеффри (1340–1400) — великий английский поэт, автор «Кентерберийских рассказов», основоположник новой английской литературы.
(обратно)24
Беовульф — мужественный воин, герой одноименной героической англосаксонской поэмы.
(обратно)25
Аспазия — одна из знаменитых женщин Древней Греции, отличалась красотой, грацией, природным умом и образованностью. Была женой Перикла.
(обратно)26
Рэкхэм, Артур (1867–1939) — английский художник и иллюстратор, в основном детской классической литературы.
(обратно)27
Аткинсон, Томас (1807–1881) — американский епископ.
(обратно)28
Теда Бара (псевдоним Теодосии Гудмэн) (р. 1890) — американская кинозвезда 20-30-х годов, игравшая в таких немых фильмах, как «Клеопатра», «Вампир» и др.
(обратно)29
Мата Хари — известная шпионка времен первой мировой войны.
(обратно)30
Райли, Джеймс Уиткомб (1849–1916) — американский поэт либерального направления. Был весьма популярен на Востоке и Среднем Западе.
(обратно)31
Президентство республиканца Уоррена Гардинга (1921–1923), ставленника «большого бизнеса», — ознаменовалось отказом от тех куцых буржуазных реформ, которые пытался проводить его предшественник Вильсон.
(обратно)32
Андерсон, Шервуд (1876–1941) — американский писатель, выдающийся мастер психологической новеллы.
(обратно)33
Андерсон, Максвелл (1888–1959) — американский драматург, дебютировал в начале 20-х годов. В лучших пьесах звучат антивоенные и антифашистские идеи, критика коррупции верхов.
(обратно)34
Беласко, Дэвид (1859–1931) — известный американский режиссер, драматург и антрепренер.
(обратно)35
Граф Калиостро — одно из имен Иосифа Бальзамо (1743–1795) — итальянского авантюриста, мистика и шарлатана, получившего известность своими скандальными приключениями.
(обратно)36
Семасиология — область лингвистики, изучающая лексическое значение и изменение слов.
(обратно)37
Хэйс, Резерфорд Б. (1822–1893) — президент США с 1877 по 1881 год.
(обратно)38
Тайные братья — тайная масонская ложа, возникла в 1745 году в Лондоне, имеет отделения в США.
(обратно)39
Лоси — клуб деловых людей.
(обратно)40
Рыцари Пифии — тайный филантропический орден, основанный в Вашингтоне в 1864 году.
(обратно)41
Торндайк, Эдвард Ли (1874–1949) — американский психолог и педагог, профессор Колумбийского университета, известен своими работами о психологии животных.
(обратно)42
Неясность биографии Шекспира вызвала к жизни теории, согласно которым автором шекспировских пьес объявляли философа Бэкона, графа Ретленда и др. «Теория» Плениша отличается особой нелепостью.
(обратно)43
Речь идет о Германии периода с 1919 по 1933 год, управлявшейся на основе конституции, принятой в Веймаре в 1919 году.
(обратно)44
Президент США Гардинг, кумир наиболее реакционных кругов, умер в 1923 году неожиданно, при неясных обстоятельствах, что породило разного рода предположения о его кончине.
(обратно)45
В 10-х годах наиболее консервативные круги в США, в частности «Общество борьбы с пороком», возглавленное Комстоком, вели атаку на реалистическую литературу, прежде всего на таких писателей, как Т. Драйзер и Ш. Андерсон, обвиняя их в «безнравственности». Роман Драйзера «Гений» был изъят, в ряде штатов была запрещена продажа сборника новелл Андерсона «Уайнсбург, Огайо».
(обратно)46
Уортон, Эдит (1862–1937) — американская писательница, была популярна в 10-20-е годы.
(обратно)47
Кэсер, Уилла (1876–1947) — американская писательница, автор популярных романов из жизни крестьянства Среднего Запада: «Песня жаворонка» (1915), «Моя Антония» (1918). «Один из наших» (1922) и др.
(обратно)48
Клафлин, Тенесси (1845–1923) — общественная и религиозная деятельница; вместе со своей сестрой Викторией выступала за равноправие женщин.
(обратно)49
Грин, Хэтти (1835–1916) — финансистка, считалась самой богатой женщиной в Америке.
(обратно)50
Ван Вехтен, Карл (р. 1880) — популярный в 20-е годы американский писатель, находился под влиянием европейских импрессионистов и эстетов. Его роман «Татуированная графиня» (1924) описывает его родной штат Айову в конце
(обратно)51
Олкотт, Луиза Мэй (1832–1888) — американская писательница, автор популярных сентиментально-слащавых романов для юношества.
(обратно)52
Ван Лун, Хендрик (1882–1944) — американский писатель, автор популярной в 20-е годы книги «История человечества».
(обратно)53
Стоддард, Лотроп (1883–1950) — американский писатель и юрист.
(обратно)54
Самнер, Уильям Грэхэм (1840–1910) — американскии историк, был профессором Йельского университета.
(обратно)55
Замечательно (нем.).
(обратно)56
Грант, Улисс Симпсон (1822–1885) — командующий армией северян в Гражданской войне и президент США с 1869 по 1877 год.
(обратно)57
Американская Федерация Труда; была образована в 1881 году и объединяла профсоюзы квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих, находилась под влиянием реформистской идеологии. КПП — Конгресс Производственных Профсоюзов — другое профсоюзное объединение, было создано в 1935 году, включало в себя неквалифицированных рабочих, негров, в нем были сильны прогрессивные элементы. В 1955 году АФТ и КПП объединились.
(обратно)58
Тайный советник.
(обратно)59
Ли, Роберт (1807–1870) — генерал, главнокомандующий армией южан во время Гражданской войны Севера и Юга.
(обратно)60
Костюшко, Тадеуш (1746–1817) — деятель польского национально-освободительного движения. В качестве добровольца принимал участие в войне американских колоний за независимость, получил чин бригадного генерала.
(обратно)61
Гувер, Герберт (1874–1964) — президент США в 1929–1933 годах, республиканец.
(обратно)62
В конце 20-х годов буржуазная пресса шумно трубила о «вечном процветании», которое совершенно неожиданно обернулось самым жестоким и продолжительным в истории США экономическим кризисом 1929–1933 годов.
(обратно)63
Батлер, Николас Мюррэй (1862–1947) — американский философ, политический и общественный деятель, президент Колумбийского университета (1902–1945), пацифист, лауреат Нобелевской премии мира.
(обратно)64
Бартон, Брюс (р. 1886) — американский бизнесмен, политик и писатель; был членом конгресса.
(обратно)65
Патер, Уолтер (1839–1894) — английский искусствовед, исследователь философии, литературы и живописи Древней Греции и эпохи Возрождения.
(обратно)66
Монтессори, Мария (1870–1952) — итальянский педагог, занималась вопросами, обучения и лечения детей.
(обратно)67
Пенн, Уильям (1644–1718) — американский колонист, основавший в 1681 году квакерское поселение Пенсильванию.
(обратно)68
Oлкотт, Бронсон (1799–1888) — американский философ и педагог, трансценденталист.
(обратно)69
Фома Аквинат (1225–1274) — средневековый философ, схоласт.
(обратно)70
Маннинг, Уильям Томас (1866–1949) — в 1921–1946 годах нью-йоркский епископ.
(обратно)71
Бонэр, Роза (1822–1899) — французская художница, приобрела известность своими рисунками животных.
(обратно)72
Дьюи, Джон (1859–1952) — американский философ и социолог, виднейший представитель прагматизма, одного из главных течений буржуазной философской мысли в США в XX веке.
(обратно)73
одна из святых и «великомучениц» христианской церкви, считается покровительницей науки и учащегося юношества.
(обратно)74
Джексон, Эндрью (1767–1845) — президент США от демократической партии в 1829–1837 годах.
(обратно)75
Отцы Пилигримы — так называют в США первых поселенцев, прибывших из Англии в начале XVII века.
(обратно)76
Эмпайр-Стэйт-Билдинг — крупнейший небоскреб в Нью-Йорке.
(обратно)77
Пятидесятница — один из главных праздников в древнеиудейской религии.
(обратно)78
Натан, Джордж Джин (1882–1958) — американский театральный критик и журналист.
(обратно)79
Першинг, Джон (1860–1948) — американский генерал, в период первой мировой войны командовал американскими экспедиционными войсками в Европе.
(обратно)80
Намек на созвучие между словами «Целебес» (остров в Индонезии) и «целибат» (безбрачие у католического духовенства).
(обратно)81
Элмер Гентри — герой одноименного романа С. Льюиса, вышедшего в 1927 году.
(обратно)82
На самом деле, как об этом повествуется в романе «Элмер Гентри», он был исключен из Мизпахской духовной семинарии за участие в пьяной оргии.
(обратно)83
Эта проповедь Элмера Гентри была еще в бытность его студентом Тервиллингер-колледжа списана у философа-атеиста Ральфа Ингерсолла и с тех пор прочно вошла в его «репертуар».
(обратно)84
Медина — город в Саудовской Аравии, один из религиозных мусульманских центров, место паломничества верующих.
(обратно)85
Кэмпбелл, Александр (1788–1866) — американский богослов из Виргинии, основатель религиозной секты «Ученики Христа», или «кэмпбеллиты».
(обратно)86
Мезер, Коттон (1662–1727) — американский ученый-богослов, один из идеологов пуританизма и крайней церковной реакции.
(обратно)87
«Оки» — фермеры-арендаторы, согнанные с земли в Ьериод кризиса и вынужденные кочевать по стране. Изображены в романе Д. Стейнбека «Гроздья гнева».
(обратно)88
Крофорд, Джоэн (р. 1908) — популярная американская киноактриса.
(обратно)89
Экклезиаст — название одной из книг библии.
(обратно)90
«Гидеоны» — американская торговая организация по распространению библии, главным образом в гостиницах и на железных дорогах.
(обратно)91
Фундаменталисты — приверженцы одного из течений протестантской церкви, которые считают, что библия абсолютно непогрешима. Отличаются крайним фанатизмом, отвергают любые попытки примирения религии с наукой.
(обратно)92
Муди, Дуайт Лимен (1837–1899) — священник евангелической церкви, затем странствующий миссионер.
(обратно)93
Бухман, Фрэнк (р. 1878) — американский лютеранский священник, лидер движения «Моральное перевооружение», распространенного во многих странах.
(обратно)94
Дочери Американской Революции — реакционная женская организация.
(обратно)95
Нудизм — доктрина, основанная на культе голого тела.
(обратно)96
Браун, Хейвуд (1888–1939) — американский публицист и критик либерального направления. Приобрел известность своими выступлениями в защиту Сакко и Ванцетти.
(обратно)97
Хейвуд, Уильям (Биг Билл) (1869–1928) — деятель американского рабочего движения, один из вождей ИРМ С 1919 года — коммунист. Преследуемый реакцией, уехал в Советский Союз.
(обратно)98
Новым Курсом называлась политика, провозглашенная президентом Франклином Рузвельтом, избранным в 1933 году. Являясь формой буржуазного реформизма, Новый Курс включал в себя ряд либеральных мероприятий, имевших целью стабилизировать экономику и «оздоровить» капитализм. В первые годы президентства Рузвельта было принято несколько десятков законов, которые несколько улучшили положение трудящихся, но натолкнулись на ожесточенное сопротивление реакции.
(обратно)99
Специальные инженерные курсы; УОР — Управление общественных работ-было создано в 1933 году по инициативе президента Рузвельта; УКФ — Управление кредитования фермеров. В первый период Нового Курса был создан ряд организаций, призванных как-то упорядочить производство и облегчить положение безработных.
(обратно)100
Моли, Рэймонд (р. 1886) — американский журналист, один из представителей так называемого «мозгового треста», с которым консультировался президент Рузвельт.
(обратно)101
Тагвелл, Рексфорд (р. 1891) — американский экономист, советник Рузвельта.
(обратно)102
Франкфуртер, Феликс (1882–1965) — американский юрист, друг и советник президента Рузвельта, один из идеологов Нового Курса.
(обратно)103
В июне 1933 года Конгресс США принял важный закон под названием «Национальный акт о восстановлении промышленности»; 7-я статья этого закона предусматривала максимум продолжительности рабочего дня, минимум зарплаты и заключение коллективных договоров.
(обратно)104
Квакеры — христианская протестантская секта, возникла в Англии в 1652 году; первая колония квакеров в США была создана в 1682 году. Квакеры выступают против церковной роскоши, официальной присяги, института священников, исходя из принципа «Господь в каждом человеке».
(обратно)105
Св. Франциск Ассизский (1182–1226) — итальянский монах и проповедник, учредитель названного его именем нищенского ордена. Утверждал идеал аскетизма и альтруизма.
(обратно)106
Мон-Сен-Мишель — монастырь во Франции, расположен на скалистом острову вблизи Атлантического побережья.
(обратно)107
Сарджент, Джон (1856–1923) — американский живописец и график.
(обратно)108
Блаватская, Е. В (1831–1891) — писательница, в 1873 году поселилась в Нью-Йорке и начала заниматься пропагандой созданного ею мистико-религиоэного учения — теософии.
(обратно)109
Св. Цецилия — римская патрицианка, была в молодости тайно обращена в христианство; после смерти причислена к лику святых католической церкви.
(обратно)110
Менжу, Адольф (р.1890) — известный американский киноактер; был одним из законодателей моды и изящного вкуса.
(обратно)111
Сибелиус, Ян (1865–1957) — выдающийся финский композитор.
(обратно)112
Райт, Франк Ллойд (1869–1959) — выдающийся американский архитектор и теоретик архитектуры.
(обратно)113
Штейнмец, Карл (1865–1923) — известный американский электротехник.
(обратно)114
Ингерсолл, Роберт (1833–1899) — американский писатель и лектор, выступал с критикой библии и религиозного ханжества.
(обратно)115
Бичер, Генри Уорд (1813–1887) — американский аболиционист, пресвитерианский священник, получил известность как оратор и публицист.
(обратно)116
Генри, Патрик (1736–1799) — американский политический деятель эпохи войны за независимость.
(обратно)117
Фримль, Рудольф (р. 1881) — чешский композитор и пианист.
(обратно)118
Найтингейл, Флоренс (1820–1910) — английская деятельница здравоохранения, филантропка.
(обратно)119
Борджиа, Лукреция (1480–1519) — герцогиня Феррары; прославилась блеском и пышностью своего двора.
(обратно)120
Виллард, Фрэнсис (1839–1898) — американская общественная деятельница, возглавляла кампанию против употребления спиртных напитков.
(обратно)121
Вудхолл, Виктория (1838–1927) — американская деятельница суфражистского движения.
(обратно)122
Астор, Нэнси (р. 1879) — английская политическая деятельница, первая женщина, избранная в британский парламент.
(обратно)123
Нэйшн, Кэрри (1846–1911) — американская общественная деятельница, агитировавшая против спиртных напитков.
(обратно)124
Макферсон, Эми Сэмпл — известная американская странствующая проповедница, организовывала митинги по массовому «спасению» душ грешников.
(обратно)125
Астарта — женское божество плодородия, почитавшееся в Финикии; богиня брака и любви.
(обратно)126
Луис, Джо — чемпион мира по боксу в тяжелом весе.
(обратно)127
Стайн, Гертруда (1874–1946) — американская писательница и критик, много занимавшаяся проблемами стиля.
(обратно)128
Шпенглер, Освальд (1880–1936) — немецкий реакционный философ, автор проникнутой крайним пессимизмом книги «Закат Европы» (1922).
(обратно)129
Грей, Зейн (1875–1939) — популярный в мещанских кругах американский писатель, специализировался на новеллах из жизни Дикого Запада.
(обратно)130
Бивербрук, Уильям (р 1879) — английский политический деятель, газетный магнат. Член кабинета Черчилля в 1940–1945 годах.
(обратно)131
«Атлантик Мансли» — ежемесячный литературный журнал умеоенно-либерального направления.
(обратно)132
«Нъю-Мэссиз»- двухнедельный общественно-политический и литературный журнал прогрессивного направления.
(обратно)133
Беллок, Хилэр (1870–1953) — английский романист, эссеист и поэт.
(обратно)134
Постоянный столик (нем.).
(обратно)135
Блейк, Уильям (1757–1827) — английский поэт, романтик.
(обратно)136
Замок (франц.).
(обратно)137
М. И., Д. Ф. — Магистр искусств, доктор философии.
(обратно)138
Уэллес, Орсон (р. 1915) — известный американский кинорежиссер и актер, создатель одного из лучших американских фильмов — «Гражданин Кейн» (1940).
(обратно)139
Барток, Бела (1881–1945) — венгерский композитор и музыкант, последние годы жизни находился в эмиграции в США.
(обратно)140
Хиндемит, Пауль (1895–1963) — немецкий композитор.
(обратно)141
Гросс, Георг (1893–1959) — немецкий художник-экспрессионист, антимилитарист; подвергнутый травле нацистами, эмигрировал в США.
(обратно)142
Гладстон, Уильям Юарт (1809–1898) — английский государственный деятель, лидер либеральной партии, трижды был премьер-министром.
(обратно)143
Конхилиология — область зоологии, занимающаяся изучением раковин.
(обратно)144
Фукидид (460–400 г. до и. э.) — древнегреческий историк, автор знаменитой — «Истории», где излагаются события Пелопоннесской войны.
(обратно)145
На самом деле японские представители вели переговоры лишь для усыпления бдительности американцев, в то время как их флот и авиация уже приближались к Пирл-Харбору.
(обратно)146
Адамс, Джон Куинси (1767–1848) — президент США с 1825 по. 1829 год.
(обратно)147
ФДР — Франклин Делано Рузвельт; в США принято иногда называть популярных деятелей их инициалами.
(обратно)148
Дикинсон, Эмили (1830–1886) — талантливая американская поэтесса, тонкий лирик; малоизвестная при жизни, получила признание в XX веке.
(обратно)149
Флагелланты (букв, бичевальщики) — средневековая религиозная секта, члены которой подвергали себя бичеванию во имя искупления грехов.
(обратно)150
Не правда ли? (нем.).
(обратно)151
Подражание Христу (лат.). // «Подражание Христу» — произведение Фомы Кемпийского (1380–1471), немецкого богослова и мистика.
(обратно)152
В 1942–1943 годах там шли ожесточенные сражения между американцами и японцами.
(обратно)153
С. Льюис имеет в виду роман «Бэббит».
(обратно)154
Бересфорд, Джон Дэвис (1873–1947) — видный английский романист и критик.
(обратно)155
Суиннертон, Фрэнк (р. 1884) — английский романист и критик.
(обратно)156
Гейл, Зона (1874–1938) — американская писательница, правдиво живописавшая, хотя и не без сентиментальности, провинциальный быт. Ее роман «Мисс Лулу Бетт» о жизни маленького городка появился почти одновременно с «Главной улицей» и имел большой успех.
(обратно)157
«Киппс» — роман Г. Уэллса, повествующий о судьбе молодого приказчика, бедняка, получившего наследство, разорившегося и вновь разбогатевшего.
(обратно)158
«Колесо счастья» — роман Г. Уэллса; вышел в свет в 1896 году.
(обратно)159
Делл, Флойд (р. 1887) — американский романист и драматург, в 10-е годы состоял в редколлегии прогрессивного журнала «Мэссиз». В 1921 году в журнале «Букмэн» Синклер Льюис опу6ликовал статью о его творчестве.
(обратно)160
Скотт, Эвелин (р. 1893) — американская романистка и поэтесса; в своих произведениях широко применяет «монтаж» разнородных элементов писем, вырезок из газет, военных песен, выдержек, из документов и т. п.
(обратно)161
Элиот, Чарльз Уильям (1834–1926) — американский ученый-химик, видный деятель высшего образования, президент Гарвардского университета (1869–1909).
(обратно)162
Гаррисон, Бенджамен (1833–1901) — президент США (1889–1893).
(обратно)163
Мак-Кинли. Уильям (1843–1901) — президент США (1897–1901).
(обратно)164
Мэрфи, Чарльз (1858–1924) — американский политический босс, долгие годы руководил Таммани-холлом, штаб-квартирой демократической партии в Нью-Йорке.
(обратно)165
Беспартийная Лига — организация, стоявшая на пацифистских, общедемократических позициях; возникла в годы первой мировой войны, отколовшись от прогрессивной партии. Имела влияние по преимуществу в штатах Среднего Запада.
(обратно)166
Маккамбер, Роберт (1858–1933) — сенатор, председатель сенатской финансовой комиссии.
(обратно)167
Гари, Элберт (1846–1927) — американский юрист и крупный промышленник, принимал участие в создании первых монополий, жестоко подавлял забастовочное движение у себя на предприятиях. Был известен также под именем «судьи Гари».
(обратно)168
Кей, Эллен (1849–1926) — шведская писательница и радикальная общественная деятельница, поборница женского равноправия, улучшения школьного дела и т. д.
(обратно)169
Шницлер. Артур (1862–1931) — австрийский драматург, импрессионист.
(обратно)170
Эрвин. Сент-Джон (р. 1883) — ирландский драматург, популярный в 1910–1920 годах.
(обратно)171
Норфольк, Перси — английские аристократические семейства, активно участвовавшие в средневековых феодальных междоусобицах.
(обратно)172
«Такой большой» — реалистическим роман: из фермерского быта американской писательницы Э. Фербер (р. 1887) Опубликован в 1924 году. Повествует о нелегкой судьбе вдовы, вырастившей сына и нашедшей свое место в жизни.
(обратно)173
«Крисчен сайенс монитор? — орган религиозной организации Христианская Наука, известен своей консервативной ориентацией.
(обратно)174
Путнэм, Нина Уилкокс (р. 1888) — второразрядная американская писательница, популярная в мещанской среде.
(обратно)175
Уилсон, Гарри Леон (1867–1939) — американский писатель, юморист; некоторые его книги были экранизированы.
(обратно)176
Ларднер, Ринг (1885–1933) — американский писатель, крупный мастер сатирической новеллы.
(обратно)177
Де Крюи, Поль (р. 1890) — американский писатель, автор широко известных книг о людях науки, мастер научно-художественного жанра. В 1922–1924 годах помогал С. Льюису в работе над романом «Эроусмит».
(обратно)178
Холмс, Джон Хейнс (р. 1879) — американский священник и общественный деятель, в годы первой мировой войны занимал пацифистскую позицию.
(обратно)179
Речь идет, видимо, о Мэри Бейкер Эдди (Т821 -1910) — основательнице секты Христианская Наука.
(обратно)180
Toy, Гарри — герой нашумевшего судебного процесса (1906), обвиняемый в убийстве архитектора Стэнфорда Уайта.
(обратно)181
остров при входе в нью-йоркскую гавань, где происходит прием эмигрантов.
(обратно)182
Виллард, Освальд Гаррисон (1872–1949) — американский журналист, редактор «Нейшн».
(обратно)183
Бантинг, Фредерик (1891–1941) — канадский физиолог, в 1922 году сделал замечательное открытие — вместе с Ч. Вестом впервые получил в очищенном виде гормон поджелудочной железы — инсулин.
(обратно)184
«Америкен меркури» — американский либеральный журнал, основанный в 1924 году. Важную роль в нем играл Г. Менкен; в отделе прозы выступали С. Льюис, У. Фолкнер и др. В журнале высмеивалась пошлость мещанства, ханжество церковников, провинциализм и т. д.
(обратно)185
Речь идет об Уильяме Дженнингсе Брайане, главном обвинителе на позорном «обезьяньем процессе. (1925).
(обратно)186
Речь идет о министре юстиции Догерти в кабинете Гардинга, личном друге президента. Он обвинялся в обмане правительства путем махинаций с иностранной собственностью. Только личные связи спасли его от тюрьмы.
(обратно)187
«Святая Иоанна» — пьеса Б. Шоу.
(обратно)188
«Рассказ о Библии» — книга американского журналиста и историка Хендрика ван Луна, вышла в свет в 1923 году.
(обратно)189
Доктор Э. Дж. Льюис — отец писателя.
(обратно)190
Великая Армия Республики — общественная организация, созданная после войны между Севером и Югом; ставила своей задачей увековечение памяти погибших и заботу об их семьях.
(обратно)191
Отрывок опущен.(Прим. ред.).
(обратно)192
«Трагические истории» — книга французского писателя Бельфоре, вышедшая в свет в 1576 году, в которой рассказывалась история о Гамлете; однако древнейшая версия истории об Амлете, записанная Саксоном Грамматиком, относится к 1200 году. Книга Бельфоре считается одним из источников шекспировской трагедии.
(обратно)193
Уолпол, Хью (1884–1941) — английский романист и критик. Был в дружеских отношениях с С. Льюисом, который посвятил ему английское издание «Бэббита».
(обратно)194
Уолпол, Горэс (1717–1797) — английский писатель, автор знаменитой в свое время книги «Замок Отранто» (1765), представитель так называемого «готического романа», или «романа ужасов».
(обратно)195
«Харперс мэгэзин» — один из ведущих американских литературных журналов в конце XIX — начале XX века.
(обратно)196
«Унесенные ветром» — роман американской писательницы Маргарет Митчелл (1900–1949); вышел в 1936 году. Эта книга, идеализирующая плантаторский Юг, имела огромный успех и была распродана в количестве 8 миллионов экземпляров; переведена на 30- языков в 40 странах.
(обратно)197
Терстон, Кэтрин Сесиль (1875–1911) — американская романистка.
(обратно)198
Зангвиль, Израэль (1864–1926) — английский писатель, писал преимущественно из еврейской жизни.
(обратно)199
Милн, Алан Александр (р. 1882) — английский писатель, поэт и драматург.
(обратно)200
Бенет, Уильям Роуз (1886–1950) — американский-поэт, романист и драматург.
(обратно)201
«Нью-Йоркер» — еженедельный журнал, посвященный жизни Нью-Йорка, содержит разнообразный юмористический материал.
(обратно)202
Ворс, Мэри Хитон — американская писательница, связанная в тридцатых годах с рабочим движением. В 1930 году С. Льюис высоко оценил ее роман «Стачка» — о событиях на текстильнцх фабриках в Гастонии.
(обратно)203
Уистлер, Джеймс (1834–1903) — американский художник реалистического направления.
(обратно)204
Селливэн, Марк (1874–1952) — американский журналист и публицист. Начал свою деятельность в 900-е годы в рядах движения «разгребателей грязи», разоблачавших злоупотребления, коррупцию и Другие язвы общественного строя… В дальнейшем перешел на консервативные позиции.
(обратно)205
Ичабод Крейн — один из героев новеллы В. Ирвинга «Легенда Сонной долины».
(обратно)206
Парриш, Максфилд (р. 1870) — американский художник и иллюстратор, обладающий оригинальной колористической манерой.
(обратно)207
// Хунекер, Джеймс (1857–1921) — видный американскии литературный и художественный критик, пользовавшийся влиянием в канун первой мировой войны. Энергично защищал художников — импрессионистов.
(обратно)208
Гарленд, Хемлин (1860–1940) — американский писатель, автор реалистических книг из быта фермерства.
(обратно)209
Таркингтон, Бут (1869–1946) — американский буржуазный писатель, воспевавший дельцов и предпринимателей, один из поставщиков легкого, «массового» чтива.
(обратно)210
Эд, Джордж (1866–1944) — американский писатель-юморист, мастер малых форм: басен, притч и т: д.; приобрел известность чрезвычайно умелым использованием народного просторечия.
(обратно)211
Данн, Финли Питер (1867–1936) — американский журналист и писатель-сатирик.
(обратно)212
Джиллет, Уильям (1855–1937) — американский актер и драматург, с успехом выступавший в собственных пьесах и в особенности в четырехактной инсценировке рассказов Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.
(обратно)213
Доре, Поль Гюстав (1833–1883) — французский художник, известный своими иллюстрациями к Данте, Рабле, Сервантесу и др.
(обратно)214
Нэш, Огден (р. 1902) — американский поэт, мастер легкого, окрашенного иронией и юмором стиха.
(обратно)215
Селливэн, Фрэнк (р. 1892) — американский писатель-юморист, приобрел известность как мастер пародии.
(обратно)216
Макджинли, Филлис (1871–1938) — популярная детская писательница и поэтесса.
(обратно)217
Ф. П. А.- так инициалами обычно подписывался Франклин Пирс Адамс (1881–1960) — американский поэт, переводчик, редактор, популярный журналист, сотрудничавший в нью-йоркских газетах «Уорлд», «Геральд трибюн» и «Пост».
(обратно)218
Кушинг, Харви (1869–1939) — известный американский хирург.
(обратно)219
Макфадден, Бернар — издатель ряда журналов, пропагандируюших лечебную физкультуру.
(обратно)220
Гувер, Дж Эдгар (1895–1964) — с 1924 по 1963 год руководитель ФБР.
(обратно)221
расположен неподалеку от Конкорда, воспет Торо, жившим на его северо-западном берегу.
(обратно)222
Дос Пассос, Джон (р. 1896) — американский писатель, приобрел известность своими романами «Три солдата», «Манхэттен», «42 параллель». Начав как представитель «потерянного поколения» с антивоенного протеста. Дос Пассос в конце 30-х годов изменил прогрессивным идеям. В последних произведениях, буржуазно-охранительных по своему характеру, деградировал как художник.
(обратно)223
Речь идет об Амосе Бронсоне Олкотте (1799–1888) — философе и поэте, основавшем в Конкорде философскую школу.
(обратно)224
Кэнби, Генри С. (1878–1961) — американский литературовед и критик, известен своими исследованиями творчества Твена, Уитмена и особенно Торо.
(обратно)225
Карнеги, Дэл (1888–1955) — американский писатель, лектор, педагог. Специализировался на книгах, содержавших житейские советы, обучавших искусству красноречия и т. д. С. Льюис имеет в виду его нашумевшее сочинение «Как добиваться дружбы влиятельных людей» (1936), переведенное на 31 язык и разошедшееся в количестве более пяти миллионов экземпляров. Его перу принадлежат также книги «Публичное красноречие и влиятельные деловые люди» (1926), «Как покончить с заботами и начать жить» (1948) и др.
(обратно)226
На самом деле часть рукописи хранится в коллекции американской литературы при Йельском университете.
(обратно)227
«Антони Адверс» — исторический роман из эпохи наполеоновских войн американского писателя Харвея Аллека (1889–1949). Не отличается никакими особыми литературными достоинствами, но занимательно написан и после выхода в свет (в 1933 году) за два года был распродан в количестве 50 000 экземпляров.
(обратно)228
На самом деле Синклер Лыоис умер в Италии в 1951 году в возрасте 66 лет.
(обратно)229
Синклер Льюис никогда, не работал над подобным произведением.
(обратно)230
Хаусман, Альфред-Эдвард (1859–1936) — английский поэт, лирик, певец крестьянского труда и сельской природы.
(обратно)231
На самом деле Драйзер умер не в 1952-м, а в 1945 году, а Хемингуэй никогда не принимал участия в штурме Токио.
(обратно)232
никогда не была им написана.
(обратно)233
лицо, вымышленное Льюисом.
(обратно)234
Погиб в 1944 году во Франции в рядах американских экспедиционных войск. В конце 30-х годов в бытность свою студентом Гарварда Уэллс действительно пробовал свои силы в литературе и написал небольшой юмористический роман, «Они все еще говорят нет», увидевший свет в 1939 году. Биограф С. Льюиса М. Шорер отмечает, что в этом произведении Уэллс весьма напоминает по манере повествования своего отца, которому литературные успехи сына доставили огромную радость.
(обратно)235
плод фантазии Льюиса. Майкл, родившийся в 1930 году, в юности увлекался поэзией.
(обратно)236
был сыном Клода Льюиса, брата С. Льюиса, врача, к которому писатель питал глубокую привязанность С. Льюис также покровительствовал и помогал Фримену Льюису.
(обратно)237
эти «должности» Карла ван Дорена вымышлены С. Льюисом.
(обратно)238
Физ (псевдоним Эдварда Брауна) (1815–1882) — известный английский художник, иллюстратор «Записок Пикквикского клуба» и других романов Диккенса.
(обратно)239
Крукшенк, Джордж (1792–1878) — английский карикатурист и иллюстратор произведений Диккенса, братьев Гримм. Шамиссо и др.
(обратно)240
Уинтерич, Джон (р. 1891) — американский издатель, библиограф и критик.
(обратно)241
Микобер — один из главных героев романа Диккенса «Дэвид Копперфильд».
(обратно)242
Борьба с крепостничеством в России совпала по времени с аболиционистским движением; в год отмены крепостного права в России (1861) в США началась война за освобождение рабов. Появившиеся за океаном в 50-60-х годах, произведения Тургенева были созвучны настроениям передовых американцев; в то же время прогрессивная, русская общественность: во главе с Чернышевским приветствовала американских писателей-аболиционистов.
(обратно)243
Томас Вулф (1900–1938), автор серии романов, воскрешающих эпизоды его юности, проведенной в Северной Каролине, испытал влияние русской литературы, особенно Толстого и Достоевского.
(обратно)244
Хаксли, Олдос (1894–1963) — известный английский писатель-сатирик.
(обратно)245
Гаррис, Фрэнк (1854–1931) — американский романист и драматург. С. Льюис верно подмечает склонность Гарриса к саморекламе; в 1920-х годах он издал трехтомную книгу «Моя жизнь и мои романы», содержавшую столь откровенные подробности, что она была запрещена в Англии и США.
(обратно)246
Макдональд, Рамсей (1866–1937) — лидер лейбористской партии, теоретик так называемого демократического социализма, премьер-министр Англии в первом и втором лейбористском правительствах.
(обратно)247
Рен, Кристофер (1632–1723) — знаменитый английский архитектор.
(обратно)248
Селдес, Джордж (р. 1890) — американский журналист либеральной ориентации, в 30-е годы занимал антифашистскую позицию.
(обратно)249
Селдес, Гилберт (р. 1893) — американский критик, журналист и романист.
(обратно)250
Вулкот, Александр (1887–1943) — американский радиокомментатор, журналист и влиятельный театральный критик, известный своими остротами и смелыми суждениями.
(обратно)251
Адамик, Луи (1899–1951) — американский романист и социолог.
(обратно)252
Профессор Мориарти — персонаж рассказов Конан Дойля, несколько раз совершавший покушения на жизнь Шерлока Холмса.
(обратно)253
Грили, Гораций (1811–1872) — видный американский радикальный журналист, владелец и издатель газеты «Нью-Йорк трибюн», аболиционист.
(обратно)254
Джеймс, Генри (1843–1916) — американский писатель и критик, мастер формы, тонкий психолог и стилист.
(обратно)255
Мейн-стрит — обычное название центральной улицы в маленьких американских городках. Бикон-стрит — одна из главных улиц Бостона; здесь противопоставляется демократизм Джека Лондона аристократической изысканности Генри Джеймса.
(обратно)256
Золотые ворота — залив, соединяющий бухту Сан-Франциско с Тихим океаном.
(обратно)257
Питт, Уильям-младший (1759–1806) — английский государственный деятель.
(обратно)258
Битти, Бесси (1886–1947) — радикальная американская публицистка, начала литературную деятельность в 1904 году в Калифорнии. В 1917 году вместе с Д. Ридом. А. Р. Вильямсом, Л. Брайант была очевидцем Октябрьского восстания в Петрограде, о чем написала в книге «Красное сердце России» (1918). В 1918 и 1921 годах встречалась с В. И. Лениным, в 1921 году вместе с М. И. Калининым была участником агитпоезда «Октябрьская революция», направленного в голодающее Поволжье. В дальнейшем работала радиокомментатором.
(обратно)259
Лорд Фаунтлерой — герой одноименной книги американской писательницы Фрэнсис Бернетт (1840–1924). Является образцом «добродетельного мальчика».
(обратно)260
Альджер, Горацио-младший (1834–1899) — американский писатель, автор популярных сентиментально-назидательных книг для юношества, тираж которых составил более 20 миллионов экземпляров.
(обратно)261
«Крошка Тим»-маленький калека, персонаж «Рождественской сказки» Диккенса.
(обратно)262
Готорн, Натаниэль (1804–1864) — американский писатель, автор знаменитого романа «Алая буква», мастер красочной, пронизанной тонким психологизмом прозы.
(обратно)263
Мелвил, Герман (1819–1891) — американский писатель, автор романа «Моби Дик», классического произведения американской литературы XIX века.
(обратно)264
Райт, Ричард (1908–1960) — американский негритянский писатель, автор получившего широкую известность остропсихологического антирасистского романа «Сын Америки» (1940).
(обратно)265
Фаррел, Джеймс (р. 1904) — американский писатель, близкий к натуралистической манере; в 30-х годах стоял на радикальных позициях.
(обратно)266
Во, Эвелин (р. 1903) — английский романист и критик.
(обратно)267
Форстер, Э. М. (р. 1879) — англиискии писатель, автор известного антиколониального романа «Поездка в Индию» (1924).
(обратно)268
Мур, Джордж (1857–1933) — английский романист, изображавший, порой с натуралистической мрачностью, «дно» большого капиталистического города и быт богемы.
(обратно)
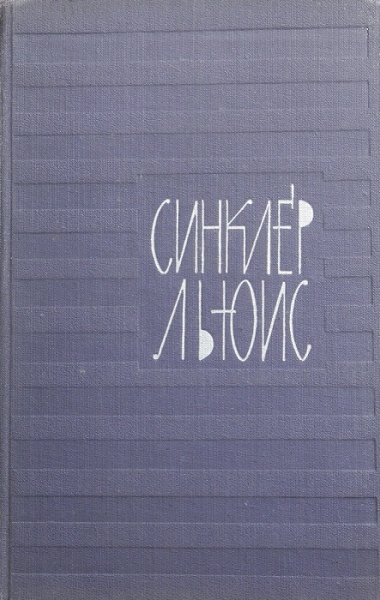



Комментарии к книге «Том 7. Гидеон Плениш. Статьи», Синклер Льюис
Всего 0 комментариев