Маргерит Юрсенар АЛЕКСИС ИЛИ РАССУЖДЕНИЕ О ТЩЕТНОЙ БОРЬБЕ
Предисловие
Роман «Алексис, или Рассуждение о тщетной борьбе» вышел в 1929 году. Его появление совпало с тем периодом в истории литературы и нравов, когда тема, до той поры запретная, впервые за долгие века нашла свое полное выражение в письменной форме. С тех пор прошло почти тридцать пять лет; за это время идеи, общественные обычаи, реакции публики претерпели изменения, хотя и в меньшей мере, чем можно предположить. Изменились или могли измениться и некоторые взгляды автора. Вот почему после долгого перерыва я не без тревоги вновь раскрыла страницы «Алексиса». Я готовилась к тому, что в тексте придется кое-что исправить, соотнести роман с миром, который стал другим.
И однако, по зрелом размышлении, правка показалась мне ненужной и даже вредной; если не считать устранения некоторых стилистических погрешностей, я оставила эту маленькую книжицу такой, какой она была, и поступила так по двум причинам, на первый взгляд противоречащим друг другу. С одной стороны, на исповеди Алексиса, глубоко личной и тесно связанной с определеной средой, временем, страной, теперь уже исчезнувшей на карте, лежит отпечаток былой атмосферы центральной Европы и Франции, и в нем нельзя что-то изменить, не изменив звучания самой книги. С другой стороны, судя по реакции, которую роман вызывает и поныне, он не потерял своеобразной актуальности, а кое-кому даже может принести пользу.
Тема, когда-то недозволенная, в наши дни широко используется и даже эксплуатируется в литературе и, таким образом, приобретает своего рода ограниченные права гражданства, но похоже, в действительности интимная проблема Алексиса и сегодня не менее мучительна, не менее прикровенна, чем прежде, и та далекая от подлинной свободы относительная беспечность, с какой к ней относятся некоторые, весьма узкие, круги во взглядах широкой публики породила только еще одно заблуждение или предубеждение. Стоит внимательно посмотреть вокруг, и мы увидим, что люди продолжают переживать драмы, подобные драме Алексиса и Моники, и будут переживать их до тех пор, пока мир плотской реальности огражден запретами, из которых самые опасные — это, пожалуй, запреты языковые: язык «ощетинен» препятствиями, которых избегают или без особого стеснения обходят большинство людей, но на которые почти неизбежно наталкиваются совестливый ум и чистое сердце. Что бы там ни говорили, нравы изменились слишком мало, чтобы суть этого романа устарела.
Пожалуй, мы обращали недостаточно внимания на то, что проблема чувственной свободы во всех ее формах — это в значительной мере проблема свободы выражения. Похоже, от поколения к поколению склонности и поступки меняются мало, зато меняется окружающая их зона умолчания или толщина слоя лжи. Это касается не только области запретных приключений: в недрах самого брака плотским отношениям между супругами навязывается особенная тирания словесных суеверий. Писатель, который, взявшись честно рассказать об истории Алексиса, изгнал из своего словаря выражения, считающиеся пристойными, но на деле полустеснительные, полуигривые, из тех, к каким прибегает дешевая литература, вынужден выбирать между двумя-тремя типами выражений более или менее ущербных, а иногда и неприемлемых. Термины научного словаря, который возник совсем недавно, обречены выйти из моды вместе с теориями, ими оперирующими; к тому же они искажены чрезмерной популяризацией, которая лишает их важнейшего достоинства — точности, и пригодны лишь для специализированных трудов, для которых они и созданы. Эти слова-этикетки противоречат самой задаче литературы — индивидуальности выражения. Непристойность, литературный метод, во все времена имевший своих сторонников, — это техника шока, которая допустима в тех случаях, когда нужно принудить ханжескую или пресыщенную публику взглянуть в лицо тому, чего она не хочет видеть или в силу привычки больше не замечает.
Употребление непристойностей можно также оправдать своеобразной попыткой очистить слово, старанием вернуть вокабулам, которые сами по себе нейтральны, но загрязнены и обесчещены употреблением, своего рода чистую, спокойную невинность. Но это грубое решение остается решением поверхностным: лицемер-читатель готов принять неприличное слово как нечто живописно-выразительное, почти экзотическое — так путешественник, мимоездом оказавшийся в чужом городе, разрешает себе посетить городское дно. Непристойность быстро утрачивает свежесть, вынуждая автора, который к ней прибегает, ее усугублять, но для подлинной правды это еще опаснее, чем намеки прежних времен. Грубость языка часто вводит в заблуждение, прикрывая банальность мысли, и за некоторыми великими исключениями легко сочетается с известным конформизмом.
У писателя есть третий выход: он может использовать тот лишенный прикрас, почти абстрактный язык, осторожный и в то же время точный, который во Франции в течение многих веков служил проповедникам, моралистам, а иногда и романистам классической эпохи для описания того, что в те времена называли «заблуждением чувств». Этот традиционный, когда речь идет о суде совести, стиль так хорошо приспособлен для бесчисленных оттенков суждения о предмете, по самой своей природе сложном, как сама жизнь, что какой-нибудь Бурдалу или Массийон[1] прибегали к нему, чтобы выразить негодование или осуждение, а тот же Шодерло де Лакло[2] — распутство и сладострастие. Мне показалось, что этот очищенный язык, именно благодаря своей сдержанности, более всего отвечает задумчивой и добросовестной неспешности Алексиса, терпеливо силящегося освободиться из сети неуверенности и принуждения, в плену которых он оказался, при этом пытаясь не разорвать сеть, а распутать ее, ячейка за ячейкой; отвечает его стыдливости, которая вобрала в себя уважение к чувственности как таковой, его твердому намерению, не унижаясь, примирить дух и плоть.
Поскольку повествование ведется от первого лица, роман «Алексис» — это портрет голоса. Надо было сохранить свойственный этому голосу регистр, его тембр, например, не лишать его некоторых куртуазных модуляций, которые кажутся теперь старомодными и казались старомодными еще тридцать пять лет назад, или тех оттенков почти вкрадчивой нежности, которые говорят об отношениях Алексиса и его молодой жены, может быть, больше, чем сама исповедь. Следовало также оставить персонажу кое-какие воззрения, которые автору кажутся сегодня сомнительными, но которые важны для характеристики героя. Алексис объясняет свои склонности пуританским детством, ознаменованным влиянием одних только женщин, — вероятно, он должен смотреть на это именно так, и такой взгляд очень важен для него с той минуты, как он его принял. Но подобная точка зрения (даже если в свое время я ее разделяла, — теперь я этого уже не помню) сегодня кажется мне одним из тех объяснений, что пытаются искусственно уложить в современную психологическую теорию факты, которые в такого рода мотивации не нуждаются. Точно так же предпочтение, которое Алексис отдает наслаждению, никак не связанному с любовью, его недоверие ко всякой длительной привязанности характерны для периода реакции на целый век преувеличенного романтизма: эта точка зрения была очень распространена в наше время, независимо от сексуальных вкусов тех, кто ее выражал. Алексису можно было бы возразить, что сладострастие, изолированное от всего остального, тоже может стать унылой рутиной; более того, в этом стремлении отделить наслаждение от других человеческих чувств, словно ему нет среди них места, чувствуется пуританская закваска.
Покидая жену, Алексис объясняет свое решение тем, что он ищет более полной сексуальной свободы, в меньшей мере запятнанной ложью, — эта причина для него главная. И однако, возможно, к ней примешиваются другие мотивы, признать которые уходящему еще труднее, а именно — желание уйти от комфорта и заранее заданной респектабельности, живым символом которых волей-неволей стала Моника. Алексис наделяет свою молодую жену всеми добродетелями, словно ему легче оправдать свой уход, увеличивая таким образом расстояние между собой и Моникой. Иногда мне хотелось написать ответ Моники, который, ни в чем не опровергая исповеди Алексиса, прояснил бы некоторые детали этой истории и представил бы нам менее идеализированный, но более полный образ этой женщины. Однако сегодня я от этого отказалась. Нет большей тайны, чем жизнь жещины. Рассказ Моники написать было бы, наверное, труднее, чем признания Алексиса.
Для тех, кто позабыл свою школьную латынь, напомним, что имя главного героя (и, следовательно, название романа) позаимствовано из 11 эклоги Вергилия «Алексис»[3]; по тем же причинам Андре Жид взял из этой эклоги своего Коридона, который фигурирует в одноименном эссе, вызвавшем столько споров. С другой стороны, подзаголовок романа — «Рассуждение о тщетной борьбе» перекликается с названием довольно бесцветного произведения раннего Жида «Рассуждение о тщете желаний»[4]. Несмотря на этот отголосок, влияние Андре Жида на «Алексиса» было невелико: почти протестантская атмосфера романа и стремление пересмотреть проблему чувственности имеют иной источник. Зато я нахожу на многих страницах влияние (пожалуй, даже избыточное) строгого и патетического творчества Рильке, с произведениями которого по счастливой случайности я познакомилась очень рано. Вообще мы часто забываем, что существует своего рода закон запоздалого влияния, повинуясь которому интеллигентные молодые люди в 1860 году читали не столько Бодлера, сколько Шатобриана, а в конце века не столько Рембо, сколько Мюссе. Что касается меня, то, не давая этому никакой оценки, могу сказать, что в молодые годы я была довольно равнодушна к современной литературе, отчасти потому, что изучала литературу прошлого (не случайно в том, что можно назвать моим творчеством, маленькому роману об Алексисе предшествует эссе «Пиндар», впрочем, весьма неумелое), отчасти потому, что питала инстинктивное недоверие к модной шкале ценностей. Большую часть значительных произведении Жида, открыто трактующих интересующую меня тему, я знала в ту пору только понаслышке. Их влияние на «Алексиса» связано не столько с их содержанием, сколько с шумом, поднятым вокруг них, со своего рода публичной дискуссией, возникшей вокруг проблемы, которую до тех пор обсуждали за закрытой дверью, что, несомненно, помогло мне без больших колебаний взяться за ту же тему. Чтение первых книг Жида было для меня драгоценно в первую очередь с точки зрения формы — эти книги доказали мне, что все еще возможно использовать чисто классическую форму повествования, которая, если бы не они, могла показаться мне утонченной, но при том старомодной; произведения Жида помогли мне также не попасть в ловушку романа в истинном значении этого слова: романная композиция требует от автора разнообразного человеческого и литературного опыта, каким в ту пору я еще не обладала. Само собой, я говорю все это не для того, чтобы преуменьшить значение творчества великого писателя, бывшего притом великим моралистом, и уж тем более не для того, чтобы отделить написанного вне моды молодой двадцатичетырехлетней женщиной «Алексиса» от современных ему произведений более или менее схожей направленности; наоборот, я хотела бы подкрепить эти произведения непосредственной исповедью и подлинным свидетельством. Иные сюжеты витают в воздухе времени; иногда они вплетены в ткань чьей-то судьб ы.
1963 годПосвящается ему самому
Это письмо, моя дорогая, будет очень длинным. Вообще-то я не слишком люблю писать. В книгах часто говорится о том, что слова предают мысль, по-моему, слова написанные предают ее в еще большей мере. Вам известно, что остается от текста, который дважды последовательно переведен с одного языка на другой. И к тому же я не знаю, как взяться за дело. Ведь писать — значит все время делать выбор из множества выражений, а меня не устраивает ни одно из них, и тем более не устраивает одно без других. Впрочем, мне бы следовало знать: только музыка позволяет сочетать аккорды. Письмо, даже самое длинное, вынуждает упрощать то, что упрощать нельзя: пытаясь объяснить все с исчерпывающей полнотой, становишься таким косноязычным! Я постараюсь быть не только искренним, но и точным. На этих страницах будет много помарок, их уже много. Я прошу Вас об одном (только об этом я еще и могу Вас просить): не пропустите ничего в этих строках, которые мне так дорого стоят. Жить трудно, но еще мучительней рассказывать свою жизнь.
Быть может, мне не стоило уходить так, как я ушел, — не сказав ни слова, будто мне стыдно или будто Вы уже поняли. Быть может, стоило рассказать Вам о себе, не торопясь, приглушенным голосом, в интимном уюте комнаты, в сумеречный час, когда почти не видишь собеседника и потому решаешься признаться почти во всем. Но я знаю Вас, мой друг. Вы очень добры. В рассказе такого рода есть что-то жалостное, что может растрогать; пожалев меня. Вы решили бы, что Вы меня поняли. Я знаю Вас. Вы захотели бы избавить меня от унизительности долгого объяснения. Вы прервали бы меня слишком скоро, а я по слабодушию на каждом слове надеялся бы, что меня прервут. У Вас есть и другое достоинство (а может быть, недостаток), о нем я скажу немного позже — я не хочу им больше злоупотреблять. Я слишком виноват перед Вами — вот почему я должен возвести преграду между Вашей жалостью и собой.
Речь не о моем искусстве. Вы газет не читаете, но наши общие друзья, наверное, рассказали Вам, что я, как говорится, пользуюсь успехом, а это означает, что многие меня хвалят, не слышав моей игры, а кое-кто хвалит, меня не понимая. Но речь не о том. Речь о чем-то, не скажу, более интимном (что может быть интимнее моего творчества?), но о том, что мне кажется более интимным, потому что я это скрывал. А главное, о чем-то более унизительном. Видите, я не решаюсь. С каждым написанным словом я все больше отдаляюсь от того, что хотел сказать сразу, и это доказывает одно: у меня не хватает мужества. И еще мне не хватает простоты. Мне ее не хватало всегда. Но ведь и жизнь не проста, и тут моей вины нет. Продолжаю я только потому, что твердо уверен: Вы несчастливы. Мы столько лгали и столько выстрадали из-за нашей лжи, что стоит рискнуть — а вдруг откровенность нам поможет.
Моя юность, вернее, мое отрочество было совершенно чистым или, во всяком случае, тем, что принято называть чистым. Знаю, подобное утверждение всегда вызывает улыбку, как правило, оно свидетельствует о недостатке проницательности или о недостатке искренности. Но думаю, я не ошибаюсь, и уверен, что не лгу. Уверен, Моника. К моим шестнадцати годам я был таким, каким Вы наверняка желали бы видеть в этом возрасте Даниеля, и позвольте сказать Вам: не надо этого желать. Я убежден — не следует с самых юных лет обрекать себя на то, чтобы пик совершенства, которого ты способен достичь, оказался связан с воспоминаниями твоего самого далекого прошлого. Того ребенка, каким я был, того мальчика из Вороино, больше нет, да и вообще мы не можем существовать, не изменяя самим себе. Вот почему так опасно, чтобы наш первый призрачный образ оставался самым лучшим, самыми дорогим, тем, о котором мы больше всего сожалеем. Мое детство так же далеко от меня, как томительное ожидание в канун праздника или как оцепенелость тягучих послеполуденных часов, которые проводишь в праздности, желая, чтобы хоть что-нибудь случилось. Как я могу вновь обрести этот покой, когда в ту пору я не знал даже, что он называется покоем? Я отказался от него, поняв, что в нем еще не весь я. И, надо сразу признаться, я не уверен, что все еще сожалею о неведении, которое мы зовем покоем.
Как трудно быть справедливым к самому себе! Я только что сказал Вам, что мое отрочество было безмятежным. Так мне по крайней мере кажется. Я часто вглядывался в свое прошлое, немного наивное и такое грустное! Я пытался вспомнить свои мысли, ощущения, которые сокровеннее мыслей, и даже мечты. Я анализировал их, думая, а вдруг я обнаружу в них какой-то тревожный знак, который в ту пору я не распознал, вдруг неведение ума я принимал за чистоту сердца. Вам знакомы Вороинские пруды — Вы говорили, что они похожи на куски облачного неба, упавшие на землю и стремящиеся вновь подняться вверх туманом. Ребенком я боялся этих прудов. Я уже тогда понимал, что во всем есть тайна, и пруды, как и все остальное, как покой, как тишина, являют нам только свой внешний покров, и что самый страшный обман — это обманчивость безмятежности. Когда я вспоминаю детство, оно представляется мне великой безмятежностью у порога великой тревоги, какой предстояло стать всей моей жизни. Я думаю о некоторых обстоятельствах, слишком ничтожных, чтобы Вам о них рассказывать; в свое время я не обратил на них внимания, но теперь улавливаю в них первый тревожный трепет (трепет плоти и трепет сердца), наподобие того дуновения Божиего, о котором говорится в Писании. Бывают в нашей жизни мгновения, когда мы необъяснимым, почти зловещим образом выказываем себя такими, каковыми нам предстоит стать в будущем. Мне кажется, друг мой, я так мало изменился! Стоит мне вдохнуть запах дождя, доносящийся из открытого окна, увидеть осиновую рощу в туманной дымке, услышать мелодию Чимарозы, которую старые дамы заставляли меня играть, потому, наверное, что она напоминала им молодость, стоит хотя бы ощутить ту особенную тишину, какая бывает только в Вороино, — и будто не бывало тех мыслей, событий, горестей, которые отделяют меня от моего детства. Я почти готов поверить, что этот интервал вообще длился меньше часа, что я провел его в полусне, в какой часто впадал в ту пору, и за это время ни жизнь, ни я сам не могли сильно измениться. Мне довольно закрыть глаза, и все становится таким, как было. Я вижу — будто и не расставался с ним — скромного, очень тихого мальчика, который полагал, что ему не на что жаловаться, и который так похож на меня, что мне кажется — хотя, может быть, я ошибаюсь, — что он похож на меня во всем. Понимаю, я сам себе противоречу. Так бывает с предчувствиями — тебе кажется, что они у тебя были, потому что должны были быть. Самое жестокое в том, что я вынужден называть нашими грехами (хотя я придерживаюсь принятых выражений), — то, что они отравляют воспоминания даже о времени, когда мы их еще не совершили. Это-то меня и беспокоит. Потому что если я ошибаюсь, то не знаю, в каком смысле, и мне никогда не решить, в чем правда: был ли я тогда не так невинен, как я только что утверждал, или, наоборот, так ли уж я виновен теперь, как я себе внушаю. Но вижу, я ничего не объяснил.
Нет нужды говорить Вам, что мы были очень бедны. Есть что-то патетическое в нужде старинных семейств — кажется, будто они продолжают существовать только из чувства верности. Вы спросите: верности — кому? Наверное, дому, предкам, да и просто тому, чем они были прежде. Но Боже мой, для ребенка бедность почти ничего не значит, не много значила она и для моей матери и сестер, потому что нас все знали и никто не считал нас богаче, чем мы были на самом деле. Преимущество этого ушедшего, очень закрытого круга состояло в том, что для людей, в него входивших, более важным казалось то, чем ты был когда-то, нежели то, чем ты стал сейчас. Если подумать, прошлое куда прочнее настоящего, вот и значение ему придавали большее. Нам не оказывали излишнего внимания, почитая в нас некого фельдмаршала, который жил в незапамятные времена, — никто уже не помнил даже, в каком точно столетии. И я понимаю, что богатство моего деда и награды, полученные моим прадедом, оставались в наших собственных глазах чем-то более весомым и даже более реальным, чем наше собственное существование. Такие старомодные взгляды, наверное, вызовут у Вас улыбку. Готов согласиться, взгляды прямо противоположного свойства ничуть не более нелепы, но в конце концов, наши воззрения помогали нам жить. Поскольку ничто не могло отменить того, что мы — потомки этих почти легендарных личностей, ничто не могло помешать и тому, чтобы их продолжали почитать в нас, — это и впрямь было единственной неотчуждаемой частью семейного наследства. Никто не ставил нам в упрек, что у нас меньше денег, чем было когда-то у них, и мы не пользуемся их влиянием — это находили вполне естественным. Напротив, желание сравняться с этими знаменитыми людьми было бы воспринято как нечто неприличное, как какое-то неуместное тщеславие.
И потому машину, на которой мы ездили в церковь, всюду, кроме Вороинова, посчитали бы старомодной, однако, мне кажется, обитателей Вороинова новая машина коробила бы больше, и никто не замечал, что наша мать редко обновляла свои туалеты. Мы, представители семьи Жера, были просто завершающим звеном в родословии некой семьи из старинной области Северной Богемии. Можно было подумать, что мы вообще не существуем, что зеркала в нашем доме по-прежнему отражают образы невидимых, но куда более значительных, чем мы, персонажей. Мне не хотелось бы создавать впечатление, будто я стараюсь эффектно закончить фразу, но, можно сказать, в каком-то смысле живые члены старинных семей кажутся тенями умерших.
Простите, что я так долго рассказываю о Вороинове прежних дней, но я его очень любил. Я понимаю, это слабость, не надо ничего любить или хотя бы не надо любить слишком сильно. Нельзя сказать, что мы были очень счастливы в Вороинове, во всяком случае, там никогда не веселились. Не помню, чтобы в нашем доме когда-нибудь звучал смех, даже девичий, — его сразу старались подавить. В старинных семьях смеются редко. В конце концов, в них даже говорить привыкают приглушенным голосом, словно боясь разбудить воспоминания — ведь и в самом деле лучше, когда они мирно спят. Но и несчастными мы не были, и должен сказать, я не видел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь плакал. Просто все были немного печальны. Это объяснялось не столько обстоятельствами, сколько свойствами характера, и все, кто меня окружал, считали, что печаль не мешает быть счастливым.
В ту пору дом был таким же белым, как теперь, со множеством колонн и окон, построенный в том французском стиле, который был присущ веку Екатерины. Но тогда этот старый дом совсем обветшал — ведь только благодаря Вам его отремонтировали, когда мы поженились. Но Вам нетрудно представить себе, как он выглядел в ту пору, — вспомните, каким Вы увидели его, приехав в Вороиново в первый раз. Наверняка строили его не для того, чтобы вести в нем однообразную жизнь; думаю, его возвели, чтобы устраивать празднества (в ту пору, когда их еще устраивали), по прихоти одного из моих предков, который хотел выставить напоказ свою роскошь. Таковы все постройки ХVIII века — кажется, что они созданы для приема гостей, а мы в них всего лишь визитеры, чувствующие себя не на своем месте. Тщетны оказывались все наши усилия — дом всегда был слишком велик для нас, и в нем всегда было холодно. Мне казалось также, что он не очень прочен — и в самом деле, белизна подобных домов, такая унылая под пеленой снега, наводит на мысль о хрупкости. Сразу чувствуется, что их когда-то предназначили для более теплых краев люди, легче относящиеся к жизни. Но теперь я знаю, что эта постройка, с виду такая ненадежная, словно бы рассчитанная на один летний сезон, будет стоять еще долго после того, как исчезнем мы, а может, и вообще наша семья. Может, однажды дом перейдет в руки посторонних людей и ему это будет безразлично; ведь дома живут своей особой жизнью, нам непонятной, и наша жизнь в ней мало что значит.
Вижу перед собой серьезные, немного усталые лица, задумчивые лица женщин, сидящих в слишком светлых гостиных. Предок, о котором я только что упомянул, пожелал, чтобы эти комнаты были просторными, — в таких музыка звучит лучше. А он любил музыку. Говорили об этом человеке не часто; казалось, о нем вообще предпочитают не вспоминать. Было известно, что он пустил по ветру большое состояние, наверное, на него за это сердились, а может, дело было в другом. За ним следовало еще два поколения, о них тоже никогда не упоминали — возможно, в них и не было ничего заслуживающего интереса. Затем шел мой дед, он разорился в эпоху земельной реформы; он был либералом; неизбежным следствием его идей, вероятно очень достойных, стало то, что он обеднел. Мой отец тоже неумело управлял своей собственностью. Он умер молодым. Я его почти не помню, помню только, что он был строг с нами, детьми, как бывают строги люди, которые корят себя за то, что не проявили достаточно строгости к самим себе. Понятно, это всего лишь мои предположения — я ничего не знаю о своем отце.
Я сделал одно наблюдение, Моника. Говорят, старые дома всегда населены призраками, я их никогда не видел, хотя был пугливым ребенком. Может, я уже тогда понимал, что призраки невидимы, потому что мы носим их в себе. Но старые дома вселяют тревогу не потому, что призраки в них живут, а потому, что они могут там жить.
Думаю, что годы детства предопределили мою жизнь. Я храню другие воспоминания, более поздние, более разнородные, может быть, более отчетливые, но, похоже, эти новые впечатления, за недостатком однообразия, не успели так глубоко запасть мне в душу. Все мы рассеянны, потому что погружены в мечтания, и только то, что бесконечно повторяется, способно запечатлеться в нас. Детство мое было тихим и одиноким, из-за этого я стал робким и потому молчаливым. Подумать только, я знаю Вас около трех лет и только сейчас впервые осмелился поговорить с Вами! Да и то лишь в письме и потому, что это необходимо. Ужасно, что молчание может стать грехом, — это самый тяжкий мой грех, но что поделаешь, я его совершил. И прежде чем совершить его по отношению к Вам, я совершил его по отношению к самому себе. Когда в доме воцаряется молчание, нарушить его очень трудно, и, похоже, чем важнее невысказанное, тем больше его стараются замолчать. Так бывает с замороженной массой: она становится все плотнее, все увесистее, и, хотя жизнь под ней продолжается, голос этой жизни не слышен. Вороино было насыщено молчанием, которое все углублялось, а молчание всегда состоит из невысказанных слов. Может, потому я и стал музыкантом. Надо было выразить это молчание, заставить его поведать свою печаль, так сказать, заставить его петь. Но при этом надо было обойтись без слов (слова всегда слишком определенны и потому жестоки), одной только музыкой, потому что музыка не бывает нескромной и, жалуясь, она не говорит, в чем причина этих жалоб. Тут нужна была особая музыка, медленная, с затяжными недомолвками, но при том подлинная, сродная молчанию, которая, в конце концов, вливалась бы в него. Эта музыка и была моей. Конечно, я всего лишь исполнитель, я довольствуюсь тем, что перевожу. Но перевести можно только собственное смятение, ведь говоришь всегда только о самом себе.
В коридоре, который вел в мою комнату, висела современная гравюра никто не обращал па нее внимания. Так что принадлежала она мне одному. Не знаю, кто ее туда повесил. С тех пор я видел се у стольких людей, называющих себя художниками, что она мне опротивела, но тогда я часто ее рассматривал. На ней были изображены люди, слушающие музыканта, и я был просто потрясен выражением лиц этих людей — казалось, музыка им что-то открывает. Мне было, наверное, лет тринадцать, и, поверьте, в ту пору ни музыке, ни жизни еще нечего было мне открыть. Так, во всяком случае, я полагал. Но искусство наделяет страсти таким прекрасным языком, что надо обладать большим опытом, чем был у меня тогда, чтобы понять, о чем эти страсти говорят. Я перечитал маленькие композиции, которые пытался сочинять в те годы, — они благоразумны и куда более незрелы, чем мои мысли в ту пору. Но так бывает всегда: наши сочинения отражают уже пройденный ко времени их написания этап нашей жизни. Когда звучала музыка, я впадал в какое-то удивительно приятное, хотя и немного странное оцепенение. Казалось, все во мне замирает, только пульсирует в жилах кровь; жизнь покидает тело, но охватившая меня безмерная истома так сладка. Я наслаждался и в то же время почти страдал. Мне всю жизнь казалось, что наслаждение и страдание — сродни друг другу; думается, это ощущает каждый, кто хоть немного склонен к рефлексии. Помню еще, что я был необычайно чувствителен ко всякому прикосновению, я имею в виду прикосновения самые невинные: мягкой ткани, щекочущего меха, который похож на живое руно, кожицы фрукта. В этом не было ничего предосудительного, я так привык к этим ощущениям, что они меня не слишком удивляли: тем, что кажется естественным, обычно не интересуешься. Людям, изображенным на моей любимой гравюре, я приписывал чувства более глубокие — ведь они были взрослыми. Я считал их участниками какой-то драмы — мне казалось, там непременно должна была случиться какая-то драма. Все мы одинаковы: мы боимся драм; иногда мы настолько романтичны, что желаем, чтобы драма произошла, и не замечаем, что она уже разыгрывается.
Была еще одна картина — на пей человек, сидящий у клавесина, перестав играть, вслушивался в свою жизнь. Это была очень старая копия какого-то итальянского холста, оригинал ее знаменит, но имени художника я не знаю. Вам ведь известно, насколько я необразован. Вообще, я не очень люблю итальянскую живопись, но это полотно мне нравилось. Однако я не для того пишу Вам, чтобы рассуждать о живописи.
Возможно, картина была плохой. Когда с деньгами стало туго, ее продали вместе с кое-какой старой мебелью и старинными эмалированными музыкальными шкатулками, которые наигрывали только одну мелодию, всегда спотыкаясь на одной и той же ноте. Были еще шкатулки с куколками. Их надо было завести, и тогда куклы делали несколько шагов в одну сторону, потом несколько шагов в другую. И останавливались. Это было очень трогательно. Но я пишу не для того, чтобы говорить о куклах.
Признаюсь, Моника, на этих страницах я слишком себе потакаю. Но у меня так много горьких воспоминаний, что Вы должны простить меня, если я задерживаюсь на тех, которые всего лишь печальны. Не сердитесь, что я так пространно пересказываю мысли ребенка, которого знал я один. Вы же любите детей. Каюсь, быть может, сам того не сознавая, я надеялся настроить Вас на миролюбивый лад с самого начала повествования, которое потребует от Вас большой снисходительности. Я пытаюсь выиграть время — это естественно. Хотя вообще-то довольно топить в многословии признание, которое должно было бы быть простым, — я бы и сам посмеялся над этим, будь я в силах смеяться. Унизительно думать, что все смутные стремления, чувства, волнения души (не говоря уже о страданиях) имеют физиологическое объяснение. Вначале я устыдился этой мысли, потом она меня успокоила. Жизнь ведь тоже не что иное, как физиологическая секреция. Почему же надо презирать наслаждение за то, что оно всего лишь ощущение, ведь страдание мы не презираем, а оно — тоже ощущение. К страданию мы относимся почтительно, потому что испытываем его против воли, но еще вопрос, по своей ли воле испытываем мы наслаждение и не становимся ли мы его жертвой. Но пусть бы мы даже избирали наслаждение по доброй воле, я все равно не счел бы его греховным. Впрочем, здесь не место обсуждать все эти вопросы.
Чувствую, что становлюсь невнятным. Безусловно, чтобы объясниться, мне хватило бы нескольких точных выражений, выражений научных и потому даже не причисляемых к непристойным. Но я не стану к ним прибегать. Не думайте, что я их боюсь: стоит ли бояться слов, когда решился на поступки? Просто я не могу. Не могу не только из деликатности и потому, что обращаюсь к Вам, не могу по отношению к самому себе. Я знаю: у всех болезней есть названия и то, о чем я говорю, считается болезнью. Я сам долго так считал. Но жизнь, Моника, куда сложней, чем все возможные определения; всякий упрощенный образ рискует окааться грубым. Не думайте также, будто мне нравится, что поэты избегают точных выражений, поскольку пишут только о своих грезах: в грезах поэтов очень много подлинной жизни, но жизнь ими не исчерпывается. Жизнь нечто большее, чем поэзия, нечто большее, чем физиология и даже чем мораль, в которую я так долго верил. Она включает все перечисленное и еще многое сверх того: она — жизнь. Она — наше единственное сокровище и наше единственное проклятие. Мы живем, Моника, у каждого из нас своя отдельная, единственная жизнь, обусловленная прошлым, над которым мы не властны, и обусловливающая, пусть даже в самой малой мере, будущее. Своя собственная жизнь. Жизнь, принадлежащая каждому из нас и только ему; она не дается дважды, и мы не всегда уверены, что понимаем ее до конца. И то, что я сейчас сказал о жизни в целом, я мог бы сказать о каждом ее мгновении. Другие видят, как мы выглядим, как двигаемся, как на наших губах рождаются слова, но свою жизнь видим только мы. Странно: мы ее видим, мы удивляемся, что она именно такова, а изменить ее не можем. Даже когда мы судим о ней, мы все равно в ее власти, наша хвала или хула — ее составная часть, это сама жизнь отражается в себе. Другого не дано, мир для каждого из нас существует лишь в той мере, в какой он соприкасается с нашей жизнью. Частицы, составляющие ее, нераздельны: мне слишком хорошо известно, что инстинкты, которыми мы гордимся, и те, в которых не признаемся, имеют, в сущности, общий источник. Мы не можем избавиться от одного из этих инстинктов, не затронув остальные. Слова, Моника, обслуживают столь многих, что уже не устраивают никого. Как может научный термин объяснить жизнь? Он даже простого факта не объясняет, только обозначает его. Обозначает всегда одинаково, а между тем в разных жизнях, и даже в одной и той же жизни, двух совершенно одинаковых фактов не бывает. Впрочем, в конце концов, факты просты, их легко обнаружить, возможно, Вы уже заподозрили что-то раньше. Но даже если Вы все знаете, мне осталось объяснить самого себя.
Это письмо будет объяснением. Не хочу, чтобы оно превращалось в попытку оправдаться. Я не настолько безумен, чтобы желать, чтобы меня одобрили, я не прошу даже, чтобы со мной примирились, — это означало бы требовать слишком многого. Я хочу только, чтобы меня поняли. Конечно, это одно то же, а значит, я хочу многого. Но Вы так щедро одарили меня в мелочах, что я почти вправе ждать от Вас понимания в главном.
Я не хочу, чтобы Вы представляли себе меня более одиноким, чем я был на самом деле. Иногда у меня появлялись товарищи — я имею в виду сверстников. Обычно это случалось по большим праздникам, когда к нам съезжалось много народу. Среди гостей бывали и дети, зачастую мне незнакомые. Случалось это и когда мы всей семьей выезжали в гости по случаю дня рождения какого-нибудь дальнего родственника, который и впрямь, казалось, существовал только раз в году, потому что только в этот день о нем и вспоминали. Почти все дети были такими же робкими, как я сам, поэтому веселых игр мы не затевали, но попадались среди них и забияки, такие неугомонные, что мне хотелось, чтобы они поскорей уехали, и другие, не менее проказливые, которые тоже могли меня обидеть, но я не роптал, потому что обидчик был хорош собой и у него был красивый голос. А я говорил Вам, что ребенком был очень чувствителен к красоте. Я уже предощущал, что красота и наслаждение, ею доставляемое, стоят всех жертв и даже всех унижений. От природы я был смиренным. По-моему, я блаженствовал, позволяя себя тиранить. Мне нравилось, что я не так красив, как мои друзья, я был счастлив, что могу на них смотреть, больше я ни о чем не помышлял. Я был счастлив, что люблю их, мне даже не приходило в голову желать, чтобы они любили меня. Любовь (простите меня, дорогая) — это чувство, которое в дальнейшей жизни мне испытать не довелось; нужно обладать слишком многими достоинствами, чтобы быть на него способным. Удивляюсь, что в детстве я верил в эту страсть, такую тщетную и почти всегда обманчивую, без которой вполне может обойтись даже вожделение. Но у детей любовь составная часть их искренности: они воображают, будто любят, ибо не замечают, что вожделеют. Мои встречи с друзьями были редкими — ведь поводы для них представлялись не часто. Может, поэтому наши отношения оставались невинными. Мои друзья уезжали к себе домой, или мы сами возвращались восвояси, и одиночество снова вступало в свои права. Мне хотелось написать друзьям, но я не умел писать без ошибок и поэтому письма не отсылал. К тому же мне нечего было сказать. Ревность — дурное чувство, но детям следует его простить, ведь его жертвой становятся многие разумные взрослые. Я очень сильно страдал от ревности, тем более что в ней не признавался. Я уже понимал, что в дружбе ревности места нет, и со страхом начинал чувствовать себя виноватым. Впрочем, все, что я Вам сейчас рассказываю, конечно, смешно: всем детям знакомы подобные чувства. Нелепо, не правда ли, усматривать в этом серьезную опасность?
Воспитали меня женщины. Я был младшим сыном в многодетной семье, болезненным от рождения ребенком; моя мать и сестры были не слишком счастливы; этих причин хватало, чтобы меня любили. В женской нежности столько доброты, что мне долго казалось, я вправе возблагодарить Бога. Наша суровая жизнь внешне была холодной; сначала мы все боялись отца, потом старших братьев, а ничто так не сближает людей, как общий страх. Моя мать и сестры не были склонны к открытому проявлению чувств; их присутствие было подобно приглушенному свечению невысокой лампы — она дает мало света, но этот равномерный свет разгоняет мрак, и ты уже не чувствуешь себя совсем одиноким. Трудно выразить, как успокоительно действует на нервного ребенка, каким я в ту пору был, тихая женская привязанность. Молчание матери и сестер, их ничего незначащие слова, в которых выражалось только их сдержанность, привычные жесты, которыми они словно бы приручали окружающие предметы, их ничем не примечательные, но спокойные и притом похожие на мое лица научили меня почитанию. Мать моя умерла довольно рано, Вам не пришлось познакомиться с ней; жизнь и смерть отняли у меня также и моих сестер, но в ту пору почти все они были так молоды, что могли казаться красивыми. И каждая, думаю, уже тогда носила в себе свою любовь, как позднее в замужестве носила ребенка или болезнь, от которой ей суждено было умереть. Нет ничего трогательнее девичьих мечтаний, в которых смутно выражаются многие дремлющие инстинкты; им свойственна патетическая красота, потому что они бесплодны, в повседневной жизни на них нет спроса. Должен сказать, что влюбленность сестер чаще всего оставалась весьма туманной, предметом ее бывал какой-нибудь молодой сосед, ни о чем не подозревавший. Очень скрытные, сестры редко поверяли друг другу свои тайны, да часто и сами не отдавали себе отчета в своих чувствах. Я, конечно, был слишком молод, чтобы стать их наперсником, но я угадывал, что у них на сердце, и разделял их горести. Когда предмет любви какой-нибудь из сестер неожиданно появлялся у нас в доме, мое сердце билось едва ли не сильнее, чем у нее самой. Я уверен, для слишком чувствительного подростка опасно привыкнуть смотреть на любовь сквозь девичьи грезы, даже когда девушки кажутся чистыми и сам подросток тоже считает себя таковым.
Вот уже во второй раз я подошел к самому порогу признания; лучше сделать его сразу и без обиняков. Конечно, у моих сестер были подруги, которые запросто навещали нас, и я в конце концов начинал чувствовать себя их братом. Казалось бы, ничто не мешало мне влюбиться в одну из этих девушек — Вы сами, наверное, удивлены, что этого не случилось. Но случиться это не могло никак. Столь привычное, столь спокойное общение не могло пробудить ни любопытства, ни смуты желаний, даже если допустить, что я вообще способен был на такие чувства по отношению к ним. Когда речь идет об очень доброй женщине, слово «почитание», которое я недавно употребил, вовсе не кажется мне слишком выспренным, я все больше в этом убеждаюсь. Я уже подозревал (даже преувеличивая это), какая грубость свойственна физическому проявлению любви. Я не мог связать образы нашей размеренной домашней жизни, безупречно строгой и чистой, с другими образами, насыщенными большей страстью, — мне это претило. Влюбиться в то, что ты чтишь, а может, и в то, что любишь, нельзя, в особенности же нельзя влюбиться в то, что на тебя похоже, а я все больше и больше отличался отнюдь не от женщин. Вы наделены, мой друг, замечательным даром не только все понимать, но понимать прежде, чем Вам все скажут. Поняли ли Вы меня, Моника?
Не знаю, когда я сам себя понял. Некоторые детали, которые я не могу здесь привести, говорят мне о том, что ответ надо искать во временах очень давних, чуть ли не в первых воспоминаниях, и что грезы иногда бывают предтечами желания. Но инстинкт еще не искушение; он только открывает к нему путь. Наверное, может показаться, что я попытался объяснить мои склонности внешними влияниями, они, конечно, закрепили их, но я знаю, что тут всегда надо искать причин гораздо более глубоких, куда более затемненных, которые нам мало понятны, потому что они таятся в нас самих. Если ты наделен какими-то инстинктами, это вовсе не значит, что ты сумеешь определить их источник, да и вообще, никто не сможет объяснить все до конца, поэтому не стану на этом задерживаться. Я только хотел сказать, что мои инстинкты могли очень долго развиваться без моего ведома, именно потому, что они были для меня естественными. Люди, судящие понаслышке, почти всегда заблуждаются, потому что все видят со стороны и в самом грубом обличье. Им и в голову не приходит, что поступки, которые им кажутся предосудительными, могут быть такими же простыми и непосредственными, какими, собственно говоря, чаще всего и бывают человеческие поступки. Они готовы винить дурной пример, скверное влияние и хотят избежать одного — трудных попыток объяснить. Они не знают, что природа куда разнообразнее, чем им это представляется. И не хотят этого знать, потому что им легче негодовать, чем задуматься. Они восхваляют чистоту и не знают, какое смятение может под ней таиться; и, главное, они не представляют себе, как чистосердечен может быть грех. Между четырнадцатью и семнадцатью годами у меня стало меньше молодых приятелей, чем в детстве, потому что я стал больше дичиться. И однако (теперь я это вижу), раза два я едва не стал счастливым в невинности душевной. Не стану рассказывать Вам, какие обстоятельства этому помешали, — тема слишком деликатная, а мне и без того надо сказать слишком многое, чтобы задерживать внимание на обстоятельствах.
Просветить меня могли бы книги. Я часто слышал, как во всем обвиняют их влияние; мне легко было бы представиться их жертвой — может, я вызвал бы тогда больше интереса. Но книги никак на меня не воздействовали. Я никогда не любил их читать. Открывая книгу, каждый раз ждешь какого-то откровения, а закрывая, каждый раз чувствуешь псе большее разочарование. К тому же надо было бы перечитать все книги, а на это жизни не хватит. Но в книгах нет жизни, в них только ее пепел, по-моему, это и есть то, что зовется жизненным опытом. В нашем доме в комнате, в которую никто никогда не заходил, было много старинных книг. Большей частью это были религиозные сочинения, напечатанные в Германии и полные того кроткого моравского мистицизма, который был дорог моим предкам. Такие книги я любил. Любовь, которая в них описана, полна того же самозабвения и пыла, какие свойственны иной любви, но она не знает угрызений, ей можно отдаться без боязни. Были здесь и совсем другие книги, написанные чаще всего по-французски в XVIII веке, — такие книги обычно не дают читать детям. Но мне эти книги не нравились. Я уже догадывался: вожделение — тема очень серьезная, и о том, что может заставить страдать, нельзя говорить шутя. Вспоминаю некоторые страницы — они могли бы пощекотать или, вернее, пробудить мои инстинкты, но я равнодушно перелистывал их: образы, которые они мне предлагали, были слишком определенны. А в жизни они определенными не бывают, потому что мы всегда видим их в тумане желания, и обнажать их — значит лгать. Неправда, будто книги искушают, да и обстоятельства тоже ни при чем — они искушают нас тогда, когда пробьет наш час, когда для нас настанет время подвергнуться искушению. Неправда, будто кое-какие грубые уточнения дают нам представления о любви, неправда, будто в простом описании того или другого жеста мы распознаем то волнение, какое позднее он в нас пробудит.
Страдание едино. О страдании мы говорим так, как говорим о наслаждении, но и о том и о другом мы говорим лишь тогда, когда мы им не подвластны, уже не подвластны. Каждый раз, когда они завладевают нами, мы удивляемся новизне ощущения и должны признать, что забыли, каково оно. А оно каждый раз другое, потому что и мы уже другие: каждый раз его встречают душа и тело, уже немного измененные жизнью. И все же страдание едино. И нам ведомы только определенные формы как страдания, так и наслаждения, всегда одни и те же, мы их пленники. Я должен это объяснить: на мой взгляд, наша душа обладает лишь одной, и притом скудной, клавиатурой, и сколько бы жизнь ни ухищрялась, она способна извлечь из нее только две-три жалкие ноты. Помню невыносимую тусклость некоторых вечеров, когда ты всматриваешься в предметы, словно хочешь в них раствориться; помню, как не мог оторваться от рояля или как болезненно стремился к нравственному совершенству, хотя поиски его, быть может, были просто замещением желания. Помню, как вдруг начинал плакать, хотя не было никакой причины для слез; должен признать, что псе страдания, какие мне выпали в жизни, уже содержались в том, какое я испытал впервые. Может быть, мне случалось страдать сильнее, но не по-другому. И все же нам каждый раз кажется, что именно теперь мы страдаем сильнее. Но страдание не дает нам попять, что его вызвало. Если бы я сумел найти причину, я, наверное, решил бы, что влюблен в женщину. Только не смог бы сказать в какую.
Меня поместили в коллеж в Пресбурге. Я был болезненным мальчиком, у меня бывали нервные срывы, это задержало мой отъезд. Но родные решили, что образования, какое я получаю дома, уже недостаточно; к тому же они опасались, что моя любовь к музыке может помешать учению. А мои успехи и впрямь были не блестящи. Да и в коллеже дело пошло не лучше: я оказался весьма посредственным учеником. Впрочем, мне очень недолго пришлось оставаться в этом заведении — я прожил в Пресбурге немногим менее двух лет. Скоро я объясню Вам почему. Только не ждите каких-нибудь удивительных приключений: ничего не произошло, во всяком случае со мной ничего не случилось.
Мне было шестнадцать лет. До сих пор я жил, замкнувшись в своем внутреннем мире; долгие месяцы в Пресбурге познакомили меня с жизнью, я имею в виду жизнь других людей. Это было трудное для меня время. Вспоминая о нем, я вижу перед собой длинную сероватую стену, унылый ряд кроватей, раннее пробуждение в холоде утреннего рассвета, когда плоть чувствует себя жалкой; размеренное существование, пресное и невыносимое, как еда, которой тебя пичкают насильно. Большинство моих соучеников происходили из той же среды, что и я, некоторые были мне знакомы. Но совместное существование развивает грубость. Грубость отталкивала меня в их играх, в их привычках, в их языке. Нет ничего более циничного, чем разговоры подростков, даже когда сами они целомудренны, в особенности тогда. Многие из моих однокашников были просто одержимы мыслями о женщине — может, эта одержимость была вовсе не так предосудительна, как мне казалось, но выражалась она низменным способом. Самых старших моих товарищей занимали жалкие создания, встреченнные во время прогулок, — мне они были отвратительны. Я привык относиться к женщинам с уважением, пропитанным всевозможными предрассудками; если они оказывались недостойными этого уважения, я начинал их ненавидеть. Отчасти это объяснялось моим воспитанием, но боюсь, в отвращении к ним было не одно только доказательство моей невинности. У меня была иллюзия чистоты. Теперь я улыбаюсь при мысли о том, что так бывает очень часто: презирая то, чего мы не желаем, мы воображаем себя чистыми.
Книги я не винил, тем более я не склонен винить дурные примеры. Я верю, дорогой друг, только в те искушения, которые гнездятся в нас самих. Не стану отрицать, что чужие примеры перевернули мою душу, но не в том смысле, как Вы думаете. Я был потрясен. Не скажу, что испытал негодование — это слишком простое чувство. Но я думал, что негодую. Я был совестливый юноша, преисполненный того, что называется самыми лучшими чувствами; я придавал физической чистоте почти болезненное значение, может, потому, что, сам того не зная, придавал также большое значение плоти. Мне казалось естественным негодовать, к тому же мне необходимо было найти название тому, что я ощущал. Теперь я понимаю: то был страх. Я боялся всегда, боялся непрерывно, боялся неизвестно чего, это что-то должно было быть чудовищным и заранее парализовать меня. Отныне предмет страха определился. Я словно бы обнаружил заразную болезнь, которая распространялась вокруг, и чувствовал, хотя и утверждал обратное, что она может поразить и меня. Смутно я и раньше подозревал, что такие вещи существуют, но, конечно, рисовал их себе как-то иначе, а может быть (поскольку я должен сказать все), в ту пору, когда я отдавался чтению, мой инстинкт во мне еще не совсем проснулся. Я представлял себе все это как нечто отвлеченное, что бывало когда-то или где-то в другом месте, но реального отношения ко мне не имеет. А теперь я видел это повсюду. Вечером, в постели, я задыхался, думая об этом, и искренно полагал, что задыхаюсь от отвращения. Я не знал, что отвращение — одна из форм одержимости и что, когда чего-нибудь желаешь, легче думать об этом с отвращением, чем не думать вообще. И я думал об этом постоянно. Большинство из тех, кого я подозревал, возможно, не были виноваты, но я уже начал сомневаться во всех. Привыкнув копаться в собственной совести, я должен был бы усомниться в самом себе. Но этого, конечно, не случилось. Поскольку никаких вещественных доказательств у меня не было, я не имел оснований считать, что и сам ничуть не лучше тех, к кому питаю отвращение; да я и сегодня полагаю, что был не такой, как другие.
Моралист не увидит здесь никакой разницы. И все же, мне кажется, я отличался от других, и даже в несколько лучшую сторону. Во-первых, потому, что я мучился угрызениями, а те, о ком я говорю, наверняка их не знали. Потом, я любил красоту, любил только ее, и она непременно ограничила бы мой выбор, чего никак нельзя было сказать о них. Наконец, я был более требовательным или, если хотите, более утонченным. Эта утонченность меня и обманывала. Я принял за добродетель то, что было всего лишь изяществом, и сцена, свидетелем которой я случайно стал, шокировала бы меня куда меньше, будь ее участники красивее.
Чем тягостнее становилось для меня существование рядом со сверстниками, тем больше мучило меня мое душевное одиночество. По крайней мере, я приписывал своим страданиям причину душевную. Самые простые вещи меня раздражали. Я считал, что меня подозревают, как если бы я уже провинился. Мысль, отныне меня не покидавшая, отравляла мне все отношения с окружающими. Я заболел. Точнее, заболел еще сильнее, потому что недомогал всегда.
Болезнь была не опасной. Это была присущая мне болезнь, мне предстояло перенести ее не однажды, она уже была мне знакома, ведь у каждого из нас есть своя персональная болезнь, как у каждого есть своя личная гигиена и свое собственное здоровье, и болезнь эту очень трудно в точности определить. Болел я долго, несколько недель, и, как это обыкновенно бывает, болезнь отчасти меня успокоила. Образы, преследовавшие меня во время горячки, исчезли вместе с ней, остался смутный стыд, похожий на тот скверный привкус, который всегда остается после приступа, но воспоминания стерлись в затуманенной памяти. Поскольку всякая навязчивая идея может ненадолго исчезнуть только в том случае, если ее вытесняет другая, во мне мало-помалу начало расти другое наваждение. Теперь меня искушала смерть. Мне всегда казалось, что умереть очень легко. Мои представления о смерти мало отличались от моих представлений о любви: я видел в ней истому, сладостное поражение. С тех самых пор всю мою жизнь две эти навязчивые идеи непрерывно чередовались, одна излечивала меня от другой, но никакие рассуждения не могли избавить меня от обеих сразу. Я лежал на больничной койке, глядел через окно на серую стену соседнего двора, откуда доносились хриплые детские голоса. Я твердил себе, что моей жизнью всегда будет вот эта серая стена, эти хриплые голоса и это мучительное тайное смятение. Твердил себе, что жизнь не стоит усилий и очень просто от нее отказаться. И точно в ответ на мои мысли во мне медленно рождалась музыка. Вначале это была погребальная музыка, но вскоре ее уже нельзя было назвать погребальной — ведь смерть теряет смысл там, где нет жизни, а эта музыка парила высоко над жизнью и смертью. Музыка была безмятежной; безмятежной, потому что мощной. Она заполняла лазарет, она накатывала на меня, как бы баюкая медленной, мерной, сладострастной волной, которой я не мог противиться, и на какое-то время это меня успокоило. Я уже не был болезненным мальчиком, боящимся самого себя, я казался себе тем, кем был на самом деле, ведь мы все преобразились бы, достань у нас мужества быть тем, что мы есть. И мне, вообще слишком робкому, чтобы добиваться аплодисментов и даже просто их переносить, мне в те минуты казалось, что легко стать великим музыкантом и открывать людям эту новую музыку, которая билась но мне, как бьется сердце. И вдруг музыку прерывал кашель больного, лежавшего в противоположном углу лазарета, и тогда я просто замечал, что мой пульс участился.
Я выздоровел. И впал в то нервное состояние, которое присуще выздоравливающим, когда, чуть что, ты готов заплакать. Пережитый недуг обострил мою чувствительность, и для меня стало еще мучительней любое общение с обитателями коллежа. Я страдал от невозможности побыть в одиночестве, страдал от того, что не слышу музыки. Одиночество и музыка всю жизнь действовали на меня как успокоительное. Внутренняя борьба, которая разыгрывалась во мне незаметно для меня самого, а потом болезнь истощили мои силы. Я был так слаб, что стал очень набожным. Моя духовность была неглубокой, такой, какую всегда порождает большая слабость, но она позволяла мне искренней презирать все то, о чем я Вам только что рассказал и о чем иногда все еще думал. Но я не мог больше оставаться в той среде, которая была запятнана в моих глазах. Я писал матери дурацкие письма, в которых все преувеличивал, хотя и был искренним, и умолял ее взять меня из коллежа. Я писал ей, что несчастлив здесь, что хочу стать великим музыкантом, что ей не придется тратить на меня деньги, что вскоре сам смогу себя содержать. И однако, в коллеже мне стало не так невыносимо, как прежде. Многие из моих однокашников, вначале обходившиеся со мной грубо, стали относиться ко мне немного лучше. Я был так нетребователен, что был им за это глубоко благодарен; я решил, что ошибся и они вовсе не злые. Никогда не забуду, как один мальчик, с которым я почти никогда не разговаривал, заметив, что я очень беден и родные почти ничего мне не посылают, во что бы то ни стало пожелал разделить со мной не помню уж какие сладости. Я стал до смешного чувствителен, унижая этим себя в собственных глазах; я так нуждался в привязаности, что расплакался от его предложения, и, помню, устыдился своих слез, словно какого-то греха. С того дня мы стали друзьями. В иных обстоятельствах начало подобной дружбы побудило бы меня пожелать отсрочить отъезд, но теперь оно, наоборот, укрепило меня в желании уехать, и притом как можно скорее. Я стал писать матери еще более настойчивые письма. Я просил ее без промедления забрать меня домой.
Мать моя была очень добра. И неизменно проявляла свою доброту. Она сама приехала за мной. Кстати, надо сказать, мое содержание в коллеже обходилось очень дорого — родные каждый семестр вынуждены были выкраивать на это средства. Если бы я учился лучше, наверное, меня бы не забрали из коллежа, но я бездельничал, и братья решили, что это пустая трата денег. Думаю, они были не так уж неправы. Старший только что женился, это потребовало дополнительных расходов. Когда я вернулся в Вороино, меня переселили в отдаленный флигель, но я, само собой, не роптал. Мать настаивала, чтобы я не отказывался от пищи, она сама подавала мне еду, улыбаясь той слабой улыбкой, которой словно бы просила прощения, что не может сделать для меня больше; ее лицо и руки казались такими же изношенными, как ее платье, и я заметил, что ее удивительно тонкие пальцы, которыми я так восхищался, становятся похожими на пальцы какой-нибудь бедной женщины, изуродованные работой. Я чувствовал, что немного разочаровал ее: она надеялась, что меня ждет лучшее будущее, а не судьба музыканта, да еще, может быть, музыканта посредственного. Но, несмотря на это, она была рада вновь увидеть меня. Я не рассказывал ей о моих школьных печалях; теперь, в сравнении с теми заботами и усилиями, которых от моей семьи требовало само существование, они казались мне надуманными, к тому же рассказывать о них было бы нелегко. Я относился с почтительностью даже к моим братьям, они управляли тем, что все еще называлось имением, я же этого не делал и не смог бы делать никогда, но начинал понимать, что это тоже важно.
Вы решите, что мое возвращение было печальным, — ничуть не бывало, наоборот, я был счастлив. Я чувствовал, что спасен. Вы, вероятно, догадываетесь, что спастись я хотел от самого себя. Это было смешное чувство, я потом испытал его еще не раз, а это доказывает, что я никогда не ощущал себя спасенным окончательно. Годы, проведенные в коллеже, казались мне теперь всего лишь интерлюдией, я о них больше не думал. Я пребывал в заблуждении, полагая, что меня не в чем больше упрекнуть, меня устраивало, что я живу в согласии с идеалом мрачноватой пассивной морали, которую проповедовали окружающие меня люди, я полагал, что такое существование может длиться вечно. Я всерьез начал работать, целыми днями занимаясь музыкой, так что минуты тишины казались мне просто музыкальными паузами. Музыка не способствует мыслям, она способствует грезам, и притом самым неопределенным. Похоже, я боялся всего, что могло меня отвлечь от этих грез или, может быть, их прояснить. Я не возобновил отношений ни с одним из друзей детства: когда родные ехали в гости, я просил разрешения остаться дома. Это была реакция на ту общую жизнь, какую нам навязывал коллеж; крылась тут и предосторожность, я прибегал к ней, не признаваясь в этом самому себе. В наших краях часто появлялись бродяги-цыгане; среди них бывают прекрасные музыканты, и, как Вам известно, некоторые представители этого народа очень красивы. Прежде, когда я был гораздо моложе, я подходил к прутьям ограды, чтобы поговорить с маленькими цыганятами, и, не зная, что сказать, дарил им цветы. Не знаю, радовали ли их эти цветы. Но после моего возвращения я стал благоразумнее и выходил гулять только днем, когда вокруг все было залито светом.
Никаких задних мыслей у меня не было, я вообще старался думать как можно меньше. Вспоминаю не без иронии, как я радовался тому, что совершенно поглощен занятиями. Я был как больной в лихорадке, которому даже нравится собственная апатия, но пошевельнуться он боится, потому что от малейшего движения его может начать бить дрожь. Это состояние я называл покоем. Впоследствии я узнал, что надо бояться такого покоя, который убаюкивает тебя на пороге событий. Быть может, мы потому и чувствуем себя спокойными, что в нас помимо нашей воли что-то уже решилось.
Вот тогда это и случилось, случилось однажды утром, похожим на другие утра, и ни мой ум, ни мое тело не подали мне каких-нибудь выходящих из обычного ряда предупреждающих знаков. Не скажу, что обстоятельства застигли меня врасплох, они возникали и раньше, хотя я ими не воспользовался, но такова природа обстоятельств. Они ненавязчивы, но неутомимы, они снуют взад-вперед мимо наших дверей, всегда неизменные, и от нас зависит, протянем ли мы руку, чтобы их остановить. То было утро, такое же, как все прочие, ни более солнечное, ни более туманное. Я шел по дороге, окаймленной деревьями, далеко от дома, вокруг царило безмолвие, словно все живое прислушивалось к себе, и уверяю Вас, мысли мои были такими же невинными, как этот занимающийся день. По крайней мере, я не помню мыслей, которые не были бы невинными, потому что с той минуты, как они перестали быть таковыми, я потерял над ними власть. В эту минуту, когда я словно бы отдаляюсь от природы, я должен вознести ей хвалу за то, что она присутствует везде, принимая форму необходимости. Плод падает на землю только в свой срок, хотя сила собственной тяжести давно влекла его к ней: рок — это всего лишь внутреннее созревание. Я решаюсь высказать Вам все это только в очень туманных выражениях; я брел, брел без всякой цели, и не моя в том вина, что в то утро я встретил красоту…
Я возвратился домой. Не хочу драматизировать события, Вы сразу почувствуете, что я преувеличиваю. Я не испытывал стыда, и тем более угрызений — я был ошеломлен. Я не представлял себе, что то, что меня заранее так пугало, может произойти так просто: раскаяние растерялось перед легкостью, с какой совершился грех. Вот эту простоту, преподанную мне наслаждением, я снова познал потом в крайней бедности, в страдании, в болезни, в смерти (я имею в виду смерть других людей), надеюсь когда-нибудь познать ее и в собственной смерти. Наше воображение стремится приодеть явления, но явлениям присуща божественная нагота. Я возвратился домой. Голова у меня немного кружилась, потом я так никогда и не мог вспомнить, как провел этот день, нервный трепет замер во мне далеко не сразу. Помню только, как вечером вошел в свою комнату и как вдруг хлынули дурацкие слезы, отнюдь не горькие, — то была разрядка. Всю мою жизнь я смешивал желание со страхом, теперь я не испытывал ни того, ни другого. Не скажу, что был счастлив: я ведь не привык к счастью, я только поражался, что так мало потрясен.
Всякое счастье невинно. Даже если я шокирую Вас, я должен повторить эти слова, которые всегда кажутся жалкими, ведь ничто не доказывает так убедительно наше ничтожество, как наша потребность в счастье. Несколько недель я прожил с закрытыми глазами. Музыку я не забросил, наоборот, я с какой-то особенной легкостью обретался в ней, — Вам знакома та легкость, какую ощущаешь в сновидениях. Казалось, утренние часы на целый день освобождали меня от моего тела. Мои тогдашние впечатления, при всем их разнообразии, в памяти сливаются воедино: можно было бы сказать, что моя чувствительность уже не замыкалась во мне одном, а растворялась в окружающем мире. То, что я переживал по утрам, продолжалось вечером в музыкальных фразах; какой-то оттенок погоды, какой-то запах, какая-то старинная мелодия, полюбившаяся мне в то время, навсегда остались для меня искусительными, потому что говорят мне о нем. Потом, однажды утром, он больше не пришел. Лихорадка меня отпустила — я словно очнулся от сна. Могу сравнить это только с удивлением, какое вызывает тишина, когда замолкают звуки музыки.
Мне пришлось задуматься. Само собой, я мог судить себя только в соответствии с теми представлениями, какие были приняты у окружающих, и должен был ужаснуться не столько даже из-за своего прегрешения, сколько из-за того, что не ужасаюсь ему, вот почему я выносил себе беспощадный приговор. В особенности пугало меня то, что я мог жить вот так, чувствуя себя счастливым, в продолжение нескольких недель, и мне и в голову не приходило сознание греха. Я пытался припомнить, в каких обстоятельствах он совершился, и не мог их вспомнить; они смущали меня теперь гораздо больше, чем тогда, когда я их пережил, — ведь в те мгновения я не наблюдал себя со стороны. Я воображал, что уступил мимолетному безумию, я не понимал, что если бы разобрался в себе до конца, это скоро привело бы меня к безумию еще худшему, — я был слишком щепетилен и потому старался быть как можно менее несчастливым. Было у меня в комнате маленькое старинное зеркало, из тех, что всегда кажутся немного мутными, словно потускнели от дыхания множества людей; поскольку во мне совершилось нечто столь важное, я наивно полагал, что должен был и внешне перемениться, но зеркало являло мне мой привычный облик — бледное лицо, испуганное и задумчивое. Я проводил по стеклу рукой, не столько для того, чтобы стереть изображение, сколько, чтобы убедиться, что это в самом деле я. Быть может, в наслаждении страшнее всего то, что оно открывает нам, что у нас есть тело. До этого мы просто жили в нем. Теперь же мы чувствуем, что тело наделено собственным отдельным существованием, у него есть свои собственные мечты, своя собственная воля, и нам до самой смерти придется считаться с ним, уступать ему, договариваться с ним или с ним бороться. Мы чувствуем (думаем, будто чувствуем), что наша душа — всего лишь его лучшая греза. Мне случалось, сидя в одиночестве перед зеркалом, удваивавшим мою тревогу, спрашивать себя, что у меня общего с моим телом, с его наслаждениями и бедами, словно я ему не принадлежал. Но я принадлежал ему, мой друг. Это тело, с виду такое хрупкое, на деле куда прочнее моих добродетельных решений и, может, даже моей души, ведь душа часто умирает раньше тела. Эта фраза, Моника, наверняка коробит Вас больше, чем моя исповедь в целом, — ведь Вы верите в бессмертие души. Простите, что я не так уверен в этом, как Вы, или что во мне меньше гордости; но душа часто представляется мне всего лишь дыханием тела.
Я верил в Бога. У меня было вполне человеческое, то есть бесчеловечное, представление о Нем, и я считал себя перед Ним чудовищем. Одна только жизнь учит нас жизни, и она же толкует нам книги: некоторые строфы Библии, которые я прежде невнимательно просмотрел, теперь приобрели для меня новый глубокий смысл — они меня напугали. Иногда я говорил себе: это случилось, отменить происшедшее ничто уже не может, надо смириться. Эта мысль действовала на меня так же, как мысль о вечном проклятии: она меня успокаивала. В глубине безнадежного бессилия всегда таится успокоение. Я только пообещал себе, что больше это не повторится, я поклялся в этом Господу, словно Господь принимает клятвы. Свидетелем моего греха был только мой сообщник, а его уже не было рядом. Только чужое мнение придает реальность нашим поступкам, а мои поступки, о которых никто не знал, были не более реальными, чем то, что творишь во сне. Я готов был утверждать, что вообще ничего не произошло, мой измученный дух пытался найти спасение во лжи; в конце концов, отрицать прошлое не более нелепо, чем давать зарок па будущее.
То, что я испытал, не было любовью, не было даже страстью. Несмотря на все мое неведение, я это понимал. Это было влечение, которое я мог считать чем-то идущим извне. Я перекладывал всю ответственность на того, кто только разделил это влечение; я уверял себя, что расстался с ним по своей воле, что это моя заслуга. Я знал, что это неправда, но ведь так могло случиться, а мы легко дурачим нашу память. Твердя себе, что мы должны были поступить так-то и так-то, мы начинаем верить, что именно так и поступили. В моих глазах порок означал привычку к греху, я еще не знал, что легче никогда не поддаваться соблазну, чем поддаться ему только один раз; объясняя свой проступок обстоятельствами, в которые я обещал себе больше не попадать, я в каком-то смысле отделял свой проступок от себя самого, видел в нем всего лишь случайность. Дорогая моя, я должен быть откровенен до конца: с тех пор, как я поклялся себе больше не совершать подобного греха, я уже меньше сокрушался о том, что однажды его вкусил.
Избавлю Вас от описания нарушений моей клятвы, которые лишили меня иллюзии, будто я виновен лишь отчасти. Вы, наверное, упрекнете меня в том, что я потакал своим склонностям, и, возможно, будете правы. Я теперь так далек от того подростка, каким был тогда, от его мыслей, от его переживаний, что смотрю на него почти с любовью, — мне хочется его пожалеть, едва ли не утешить. Это чувство, Моника, наводит меня на размышления: не воспоминание ли о нашей собственной юности приводит нас в смятение перед юностью других? А тогда я был напуган той легкостью, с какой я, такой робкий, такой тугодум, заранее угадывал возможных сообщников; я укорял себя не столько за мои грехи, сколько за вульгарные обстоятельства, их окружавшие, словно от меня зависело совершать их в менее низменной среде. Я не мог утешать себя тем, что не виноват: я знал, что поступаю так, потому что этого хочу; но хотел я этого только в ту минуту, когда эти поступки совершал. Можно было бы сказать, что инстинкт овладевал мной, улучив мгновение, когда совести не было поблизости или когда она закрывала глаза. Я попеременно уступал то одной воле, то другой, противоположной, но они никогда не вступали в борьбу, потому что чередовались. Впрочем, бывало, что я не пользовался представившейся возможностью: я был робок. Так что мои победы над самим собой оборачивались поражением в другом смысле; наши недостатки бывают порой лучшими противниками наших пороков.
Мне было не с кем посоветоваться. Первый результат запретных склонностей — это то, что мы замыкаемся в себе: приходится молчать или разговаривать только с собщниками. Стараясь победить самого себя, я очень страдал от того, что мне не от кого было ждать ободрения, жалости и даже некоторого уважения, какого заслуживает всякое проявление доброй воли. Я никогда не был близок со своими братьями; мать, благочестивая и печальная, питала на мой счет трогательные иллюзии, она не простила бы мне, если бы я отнял у нее то чистое, нежное и немного пресное представление, какое у нее было о сыне. Вздумай я исповедаться моим родным, они не простили бы мне, в первую очередь, именно этой исповеди. Я поставил бы этих щепетильных людей в очень трудное положение — неведение их спасало; за мной установили бы слежку, но мне не помогли бы. В семейной жизни наша роль по отношению к другим членам семьи определена раз и навсегда. Ты — сын, муж, брат или еще кто-то. Эта роль так же неотъемлема от тебя, как твое имя, состояние здоровья, которое тебе приписывают, уважение, какое тебе должны или не должны оказывать. Все остальное значения не имеет, а остальное — это и есть наша жизнь. Я сидел за обеденным столом или в тихой гостиной; минутами я агонизировал — мне казалось, я умираю; меня удивляло, что никто этого не замечает. В таких случаях начинает казаться, что пространство, отделяющее нас от близких, непреодолимо, — ты бьешься в одиночестве, точно в сердцевине кристалла. Я даже стал воображать, что мои родные настолько мудры, что все понимают, не вмешиваются и не удивляются. Если подумать, такая гипотеза, возможно, объясняет, что такое Бог. Но когда речь идет о людях обыкновенных, не стоит приписывать им мудрость — довольно простой слепоты.
Вспомнив о том, как я описывал Вам свою жизнь в кругу семьи, Вы поймете, что атмосфера в ней была унылой, как затянувшийся ноябрь. Мне казалось, будь мое существование не таким печальным, оно было бы более чистым; я полагал, и, думаю, справедливо, что размеренность слишком разумной жизни как ничто другое развязывает причуды инстинкта. Зиму мы провели в Пресбурге. Здоровье одной из моих сестер вынуждало нас жить в городе, поближе к врачам. Мать, всеми силами старавшаяся содействовать моему будущему, настояла, чтобы я начал брать уроки гармонии: все вокруг твердили, что я успел сделать большие успехи. Я и в самом деле работал так, как работают те, кто ищет прибежища в каком-нибудь занятии. Мой учитель музыки (человек посредственный, но преисполненный доброты) посоветовал матери отправить меня за границу для завершения музыкального образования. Я знал, что мне там придется трудно, и однако хотел уехать. Мы столькими нитями привязаны к местам, где выросли, что, нам кажется, покинув их, нам будет легче расстаться и с собой.
Я окреп, так что мое здоровье не могло служить препятствием для отъезда, но мать считала, что я еще слишком молод. Может быть, она боялась искушений, которым подвергнет меня более свободная жизнь; она, вероятно, верила, что семейная обстановка меня от них ограждает. Такие представления свойственны многим родителям. Мать сознавала, что мне надо хоть немного зарабатывать, по, без сомнения, считала, что спешить не следует. Однако я не догадывался о скорбной причине ее отказа. Я не знал, что жить ей осталось недолго.
Однажды в Пресбурге, вскоре после смерти моей сестры, я вернулся домой в более растрепанных чувствах, чем обычно. Я очень любил сестру. Не хочу сказать, что как-то особенно глубоко переживал ее смерть, у меня было слишком много душевных терзаний, чтобы горевать о ней. Страдание превращает нас в эгоистов, потому что поглощает нас целиком: только позднее, когда мы предаемся воспоминаниям, оно учит нас состраданию. Вернулся я домой чуть позже, чем собирался, но матери я не говорил, когда приду, так что она меня не ждала. Открыв дверь в комнату, я увидел, что она сидит в темноте. В последние месяцы жизни мать любила с наступлением сумерек сидеть в праздности. Словно она заранее приучала себя к бездействию и потемкам. Наверное, ее лицо приобретало тогда более спокойное, более открытое выражение, какое появляется у нас, когда мы знаем, что мы одни, а кругом непроглядная тьма. Я вошел. Мать не любила, когда ее застигали врасплох. Словно извиняясь, она объяснила, что лампа только что погасла, но я прикоснулся к стеклу руками — оно не было даже теплым. Мать почувствовала, что со мной что-то неладно: в темноте мы всегда более проницательны, потому что нас не обманывает зрение. Я ощупью подошел к ней ближе и сел рядом. Я находился в каком-то особенно размягченном состоянии, слишком хорошо мне знакомом; мне казалось, что признания вот-вот непроизвольно хлынут из меня, как слезы. Я уже готов был рассказать все, когда служанка внесла лампу.
Я почувствовал, что ничего не могу сказать, что не вынесу выражения, какое появится на лице матери, когда она все поймет. Слабый огонек лампы избавил меня от непоправимой, бесполезной ошибки. Признания, мой друг, всегда пагубны, если их делают не ради того, чтобы облегчить жизнь другого человека.
Но я зашел уже слишком далеко, чтобы хранить молчание, я должен был что-то сказать. Я стал говорить о том, как печальна моя жизнь, как мои надежды на будущее отодвигаются на неопределенный срок, и о том, насколько в семье я завишу от братьев. А думал я о куда более тяжкой зависимости, от которой надеялся избавиться, если уеду. В свои жалкие сетования я вложил всю тоску, какую вложил бы в другое признание, сделать которое я не мог и которое было важно только для меня самого. Мать молчала; я понял, что убедил ее. Она встала и направилась к двери. Она была слабой, усталой, я почувствовал, чего ей стоило не ответить мне отказом. Быть может, ей казалось, что она теряет второго ребенка. Я страдал от того, что не мог открыть ей истинную причину моей настойчивости; она должна была считать меня эгоистом, я почти готов был сказать ей, что никуда не уеду.
Назавтра мать позвала меня к себе; мы говорили о моем отъезде как о деле давно уже решенном. У семьи не хватало средств, чтобы назначить мне какое-то содержание, надо было самому зарабатывать себе на хлеб. Чтобы облегчить мне начало самостоятельной жизни, мать тайком дала мне денег из собственных сбережений. Сумма была невелика, хотя нам обоим казалась значительной. Как только смог, я частично вернул долг, но мать умерла слишком скоро, я не успел возвратить ей деньги полностью. Мать верила в мое будущее. Если я и хотел снискать какую-то известность, то только потому, что знал — ее это осчастливит. По мере того как уходят те, кого мы любили, все меньше причин добиваться счастья, какое мы уже не можем с ними разделить.
Близилась девятнадцатая годовщина моего рождения. Мать хотела, чтобы я уехал только после этого дня, поэтому я вернулся в Вороино. За те несколько недель, что я там провел, мне не в чем было себя упрекнуть — ни в поступках, ни почти даже в желаниях. Я простодушно готовился к отъезду; мне хотелось уехать до Пасхи, когда в наши края съезжается слишком много чужих людей. В последний вечер я простился с матерью. Мы расстались очень просто. Есть что-то неблаговидное в изъявлениях чрезмерной нежности при отъезде — словно ты хочешь, чтобы о тебе жалели. К тому же поцелуи сладострастия отучают нас от всяких других: ты уже не умеешь или не смеешь. Я хотел уехать наутро, спозаранку, никого не обеспокоив. Ночь я провел в своей комнате у открытого окна, пытаясь представить себе свое будущее. Ночь была светлой, бескрайней. Парк отделяла от дороги только решетчатая ограда, за ней молча шли запоздалые путники, я слышал глухой звук их отдаляющихся шагов, и вдруг зазвучала какая-то печальная песня. Возможно, эти бедняки и мыслили, и страдали, едва сознавая это, почти как неодушевленные предметы. Но в песне сказалось все, что в них могло называться душой. Пели они, просто чтобы облегчить себе ходьбу, они не знали, что таким образом выражают себя. Помню женский голос, такой прозрачный, что казалось, он мог бы без устали, бесконечно лететь ввысь до самого Господа. Я не видел ничего невозможного в том, чтобы вся жизнь стала таким устремлением ввысь, и торжественно пообещал себе это. При свете звезд нетрудно отдаваться прекрасным мыслям. Труднее сохранить их в неприкосновенности в череде мелочных будней; труднее оставаться перед людьми такими же, какими мы бываем перед лицом Бога.
Я приехал в Вену. Мать внушила мне по отношению к австрийцам все предубеждения, свойственные жителям Моравии; первая неделя в Вене прошла для меня так тяжко, что я предпочитаю о ней не вспоминать. Я снял комнату в очень бедном доме. Преисполнен я был самых добрых намерений. Помнится, я считал, что смогу методически разложить по полочкам все свои желания и горести, как раскладывают по ящикам вещи. В двадцать лет самоограничение полно какой-то горькой отрады. Я прочел, не помню уж в какой книге, что в известный период отрочества некоторые отклонения случаются довольно часто, и старался привязать свои воспоминания к более ранним временам, чтобы доказать себе, что речь шла о совершенно банальных случаях, ограниченных тем отрезком моей жизни, который уже миновал. Предаваться радостям в другой форме мне и в голову не приходило, стало быть, надо было выбирать между моими склонностями, которые я считал преступными, и полным отречением, которое, наверное, противоречит человеческой природе. Я сделал выбор. В двадцать лет я приговорил себя к полному одиночеству души и тела. Так начались несколько лет борьбы, наваждений, непреклонности. Не мне называть эти усилия похвальными, кто-то, может быть, назовет их безрассудными. Так или иначе, они все же кое-что значат, ибо позволяют мне теперь с большей долей самоуважения принять себя таким, какой я есть. Именно потому, что в этом незнакомом городе было куда больше возможностей поддаться соблазнам, я считал своим долгом отвергать их все; я не хотел обмануть доверие, какое мне оказали, разрешив уехать. И, однако, странно, как быстро мы привыкаем к самим себе; я вменял себе в заслугу отказ от того, что еще несколько месяцев назад, казалось бы, внушало мне ужас.
Я уже сказал Вам, что поселился в довольно жалком доме. Господи, ни на что другое я и не претендовал. Но бедность трудно переносить не из-за лишений, а из-за тесноты. Положение нашей семьи в Пресбурге избавляло меня от соприкосновения с гнусной средой, которое приходится терпеть в городе. Несмотря на рекомендации, какими меня снабдили родные, я долго не мог найти уроки из-за моей молодости. Я не любил выставлять себя в выгодном свете и не знал, как взяться за дело. Работа аккомпаниатором в театре, где окружающие думали меня подбодрить, обращаясь со мной запанибрата, оказалась для меня тягостной. Именно там у меня сложилось далеко не лучшее впечатление о женщинах, которые считаются достойными любви. К несчастью, я был очень чувствителен к внешней стороне вещей; я страдал из-за дома, в котором жил, страдал из-за людей, которых мне иногда приходилось там встречать. Вы сами понимаете, какими вульгарными они были. Но в отношениях с людьми меня всегда поддерживала мысль, что они не слишком счастливы. Да и вещи тоже не очень счастливы, вот почему мы привязываемся к ним. Моя комната вначале внушала мне отвращение, она была унылой, а от ее безвкусного шика сжималось сердце, потому что с первого взгляда становилось понятно, что на лучшее денег не хватило. Чистотой она тоже не отличалась: видно было, что до меня здесь жили другие люди, и это вызывало у меня некоторую брезгливость. Но потом я стал раздумывать, что это были за люди, стал рисовать себе их жизнь. Они словно бы сделались моими друзьями, и поссориться с ними я не мог, потому что не был с ними знаком. Я говорил себе, что они сидели вот за этим столом, горестно подсчитывая расходы минувшего дня, что на этой самой кровати они спали или проводили бессонные ночи. Я Думал о том, что у них, как и у меня самого, были свои мечты, свои достоинства, свои пороки и свои несчастья. Не знаю, мой друг, к чему послужили бы наши собственные изъяны, если бы они не учили нас жалости.
Я привык Привыкают легко. Есть что-то отрадное в сознании, что ты беден, одинок и никто о тебе не думает. Это упрощает жизнь. Но в этом таится и большое искушение. Изо дня в день поздней ночью возвращался я по улицам предместья, почти безлюдным в этот час, усталый настолько, что уже не чувствовал усталости. Когда встречаешь людей на улице днем, создается впечатление, будто они идут, стремясь к какой-то определенной цели, и она кажется разумной, но ночью люди бредут точно во сне. Мне казалось, что фигуры прохожих, как и моя собственная фигура, размыты, словно у образов, которые являются нам в сновидениях; я вообще уже не был уверен, что сама жизнь — не бесконечный, изнурительный и нелепый кошмар. Не стану описывать Вам унылость этих венских ночей. Иногда я видел любовные парочки, которые, расположившись на пороге дома, продолжали без стеснения ворковать, а может, и целоваться; окружавшая их темнота в какой-то мере извиняла обоюдную иллюзию любви, и я завидовал этому благодушному довольству, которого не желал. Странные мы люди, мой друг. Я впервые испытывал порочную радость оттого, что я не такой, как все; трудно не счесть себя лучше других, когда страдаешь больше, чем эти другие, — при виде тех, кто счастлив, тебя начинает тошнить.
Я боялся вернуться к себе в комнату, вытянуться на кровати, зная заранее, что не усну. И однако надо было возвращаться. Даже когда я приходил домой на заре, нарушив данные самому себе обещания (поверьте, Моника, это случалось очень редко), все равно надо было подняться на свой этаж, снять с себя одежду (а мне, наверное, хотелось сбросить с себя так же свое тело) и лечь в постель, где в таких случаях я забывался сном. Наслаждение слишком мимолетно, музыка возвышает нас только на миг, а потом мы становимся еще печальнее, но сон вознаграждает нас за все. Даже когда мы открываем глаза, проходит еще несколько мгновений, прежде чем мы снова начинаем страдать, а засыпая, мы каждый раз грезим, что предаемся другу. Знаю, друг этот неверен, как все друзья; когда мы слишком несчастны, он тоже нас покидает. Но мы уверены: рано или поздно он вернется, может быть, под другим именем, и мы отдохнем в его лоне. Он совершенен тогда, когда лишен сновидений; можно сказать, что каждый вечер он пробуждает нас от жизни.
Я был совершенно одинок. До сих пор я умалчивал о тех лицах, в которых воплощалось мое желание; я населил пространство между Вами и мной лишь анонимными призраками. Не думайте, что меня побуждает к этому стыдливость или ревность, какую испытываешь даже по отношению к собственным воспоминаниям. Не стану хвалиться, будто я познал любовь. Я слишком хорошо узнал, сколь недолговечны самые пылкие эмоции, чтобы из сближения существ, которые обречены гибели, которых со всех сторон подстерегает смерть, желать извлечь чувство, именующее себя бессмертным. В конечном счете, в другом существе нас притягивает то, что жизнь одолжила ему только на время. Мне слишком хорошо известно, что душа стареет так же, как плоть, что даже у лучших она цветет недолго, что это чудо мимолетно, как сама молодость. К чему же, друг мой, привязываться к тому, что преходяще?
Я боялся уз привычки, сотканных из деланного умиления, обмана чувственности и ленивого обыкновения. Мне кажется, я мог бы полюбить только совершенное существо, но сам я был слишком посредственным, чтобы такое существо, если бы я его однажды встретил, захотело меня при-пять. Это еще не все, мой друг. Требования нашей души, нашего ума, нашего тела чаще всего противоречат друг другу; трудно, я думаю, пытаться удовлетворить сразу все, не унижая одни и не разочаровывая другие. Вот почему я разложил любовь на составные части. Не стану оправдывать свои поступки метафизическими объяснениями, довольно будет одной причины — моей робости. Я почти всегда удовлетворялся самыми заурядными партнерами из смутной боязни привязаться и страдать. Довольно того, что ты пленник инстинкта, чтобы не становиться еще и пленником страсти. Я искренно думаю, что никогда не любил.
Но вот приходят воспоминания. Не бойтесь, я не стану ничего описывать, не назову имен, да я и забыл имена, а может, никогда и не знал.
Передо мной встает какой-то особенный изгиб шеи, очерк рта или рисунок век, встают лица, которые привлекали меня выражением печали, усталой складкой, оттягивающей книзу губы, или даже своеобразным простодушием, свойственным порочному молодому существу, невежественному и смешливому, всем тем, что на поверхности тела прикосновенно к душе. Я думаю о тех незнакомцах, которых больше не приходится, да и не хочется увидеть и которые именно поэтому искренно рассказывают о себе или, наоборот, так же искренно молчат. Я их не любил: я не старался удержать в руках тот клочок счастья, который мне давали; я не желал от них ни понимания, ни даже продолжения отношений — я просто выслушивал их жизнь. Жизнь каждого существа — это тайна, она так прекрасна, что ее всегда можно полюбить. Страсть требует криков, да и самой любви нравятся слова, а симпатия может быть безмолвной. Я испытывал ее не только в понятные минуты успокоения и признательности, но и по отношению к тем, с кем я не связывал никаких радостей. Я ощущал ее молча, поскольку те, кто ее мне внушали, ее бы не поняли, да она и не нуждается в понимании. Такое чувство я питал к образам, населявшим мои сны, к некоторым самым заурядным беднякам, а иногда и к женщинам. Но женщины, что бы они ни утверждали, в нежности всегда видят начало любви.
В соседней со мной комнате жила молодая особа по имени Мари. Не подумайте, что Мари была хороша собой, — у нее была самая обыкновенная, ничем не примечательная внешность. По положению Мари была чуть выше служанки. Она, однако, где-то работала, хотя не думаю, что она могла существовать на этот свой заработок. Но так или иначе, заходя к ней, я всегда заставал ее одну. Думаю, она нарочно устраивала, чтобы в эти минуты у нее никого не было.
Мари не отличалась ни умом, ни, наверное, чрезмерной добротой, но она была услужлива, как все бедняки, познавшие необходимость взаимопомощи. Похоже, среди таких людей солидарность расходится ежедневной мелкой монетой. Мы должны быть благодарны за любой пустяк, вот почему я упоминаю о Мари. Ей не над кем было проявить свою власть, и, кажется, ей нравилось командовать мной; она давала мне советы, как потеплее одеться, как разжечь огонь в комнате, и брала на себя заботу о множестве полезных мелочей. Не смею сказать, что Мари напоминала мне моих сестер, но в общении с ней я вновь встречал то ласковое женское попечение, которым так дорожил в детстве. Видно было, что она старается соблюдать хорошие манеры, а сами эти усилия уже похвальны. Мари казалось, что она любит музыку, она и в самом деле ее любила, но, на беду, у нее был ужасный вкус. Этот дурной вкус был почти трогателен, потому что простодушен; самыми прекрасными чувствами ей казались чувства самые что ни на есть обывательские: можно было бы сказать, что ее душа, как и она сама, довольствуется фальшивыми драгоценностями. Лгать Мари могла самым искренним образом. Думаю, что, как и большинство женщин, Мари жила в вымышленном мире, где она была лучше и счастливее, чем в действительности. К примеру, вздумай я спросить о ее любовниках, она поклялась бы мне, что у нее их никогда не было, и стала бы плакать, если бы я ей не поверил. Где-то в глубине души она хранила воспоминание о деревенском детстве в приличной семье и о туманном образе какого-то жениха. Были у нее и другие воспоминания — о них она не говорила. Женская память похожа на старинные столики для рукоделия. В них есть потайные ящички; есть и такие, что слишком долго оставались на замке и теперь не открываются; там хранятся засушенные цветы, превратившиеся в розовую пыль, запутанные клубки, иногда булавки. Память Мари была очень сговорчива — она помогала ей вышивать узорами прошлое.
Я заходил к ней по вечерам, когда бывало холодно и я боялся оставаться один. Само собой, говорили мы о каких-то пустяках, но для того, кто терзаем постоянным душевным смятением, есть что-то успокоительное в голосе женщины, болтающей о том о сем. Мари была ленива — ее не удивляло, что я так мало работаю. Во мне нет ничего от сказочного принца. Я не знал, что женщины, особенно бедные, часто воображают, будто встретили героя своих мечтаний, даже когда новый знакомец весьма мало похож на этого героя. Мое положение, а может, и мое имя были в глазах Мари окружены романтическим ореолом, что не укладывалось у меня в голове. Само собой, я всегда держался с ней очень сдержанно; вначале она усмотрела в этом проявление деликатности, к которой не привыкла, и была польщена. Я не догадывался, о чем она думает, молча сидя за шитьем, я полагал, что она желает мне добра; к тому же некоторые мысли просто не приходили мне на ум.
Но мало-помалу я стал замечать, что Мари держится со мной все холоднее. В каждом ее слове сквозила теперь какая-то вызывающая почтительность, словно она вдруг уяснила, что я принадлежу к кругу, который считается много выше ее собственного. Я чувствовал, что она сердится. Меня не удивляло, что привязанность Мари ко мне прошла, — все проходит. Я видел только, что она грустит, и был настолько наивен, что не догадывался о причине. Я считал, что она не может подозревать об определенной стороне моего существования, но не понимал, что это, вероятно, шокировало бы ее куда меньше, чем меня самого. Потом обстоятельства изменились, мне пришлось переселиться в другое жилье — платить за прежнюю комнату стало дорого. Больше я с Мари не встречался. Как трудно не причинять страданий другому человеку, каких бы предосторожностей ты ни принимал…
Я продолжал бороться. Если добродетель состоит в череде усилий, меня не в чем упрекнуть. Я понял, как опасно отрекаться слишком поспешно, я уже не верил, что, дав себе зарок, сразу обретаешь совершенство. Я увидел, что благоразумие, как и сама жизнь, состоит в непрерывном продвижении вперед, в постоянной необходимости начинать сначала, в терпении. Более медленное выздоровление показалось мне более надежным: подобно беднякам, я довольствовался крохами успеха. Я старался, чтобы кризисы наступали реже, и дошел до того, что с упорством маньяка вел счет месяцам, неделям, дням. Я сам себе в том не признавался, но в периоды особенного самообуздания меня поддерживало ожидание той минуты, когда я позволю себе пасть. И в конце концов я уступал первому подвернувшемуся искушению, просто потому, что слишком долго налагал на себя запрет. Я заранее намечал себе примерный срок, когда я дрогну, и уступал всегда немного слишком поспешно, не столько из-за нетерпеливого желания вкусить это жалкое счастье, сколько для того, чтобы избавиться от мучительного сознания, что очередной приступ неминуемо случится и мне придется его пережить. Не буду обременять Вас рассказом о том, какие меры я принимал против самого себя, теперь они кажутся мне унизительней самих грехов. Сначала я считал, что надо избегать возможности согрешить, но вскоре понял, что наши поступки всего лишь симптомы: изменять надо собственную природу. Прежде я боялся событий, теперь стал бояться своего тела. В конце концов я пришел к выводу, что наши инстинкты передаются душе и пропитывают нас целиком. У меня больше не осталось убежища. В самых невинных мыслях я угадывал зародыш искушения, ни одной из них не удавалось надолго сохранять в моих глазах свою невинность, они словно бы загнивали во мне, и моя душа с тех пор, как я узнал ее получше, стала мне так же отвратительна, как и мое тело.
Особенно опасными для меня были некоторые периоды — конец недели, начало месяца, может быть, потому, что именно в эти дни у меня появлялось немного больше денег, а я приобрел привычку к платным партнерам. (Такие вот жалкие бывают причины, дорогая.) Боялся я также канунов праздников, пустых и грустных для тех, кто одинок. В такие дни я запирался дома. Делать мне было нечего, я расхаживал по комнате, стараясь не видеть своего отражения в зеркале. Я ненавидел стекло, навязывавшее мне мое собственное присутствие. Мутные сумерки затопляли комнату, на все предметы наползала тень, словно еще одно грязное пятно. Я не закрывал окна — мне не хватало воздуха, но уличные шумы утомляли меня настолько, что мешали думать. Я садился, стараясь сосредоточиться на какой-нибудь мысли, но одна мысль всегда влечет за собой другую, и никогда не известно, куда это может завести. Лучше было двигаться, ходить. Нет ничего предосудительного в том, чтобы выйти на улицу в сумерках; однако это уже было поражением, предвещавшим другое, которое последует за ним. Я любил этот час, когда город треплет лихорадка. Не стану описывать безумные поиски наслаждения, случавшиеся неудачи, горечь морального унижения, куда более тяжкую, чем после совершившегося греха, потому что в этом случае ее не утишает никакое умиротоворение. Промолчу о сомнамбулизме желания, о внезапном решении, сметающем все принятые прежде, о ликовании плоти, наконец-то повинующейся только самой себе. Мы часто описываем восторг души, сбросившей с себя оковы тела, — бывают в жизни минуты, когда тело сбрасывает с себя оковы души.
Господи! Когда же придет мой смертный час… Вы, конечно, помните эти слова, Моника. Ими начинается старинная немецкая молитва. Я устал от этого заурядного существа, лишенного будущего, лишенного веры в будущее, существа, которое я вынужден называть «я», потому что не могу отделить его от себя. Оно докучает мне своими печалями, своими горестями, я вижу, как оно страдает, но не способен даже его утешить. Я, без сомнения, лучше него, я могу говорить о нем как о ком-то постороннем, я не понимаю, какие причины держат меня у него в плену. И может, самое ужасное в том, что для других я всегда останусь только этим существом в вечных борениях с жизнью. И бесполезно желать, чтобы оно умерло, — ведь с его смертью умру и я. В Вене за время этих долгих лет душевной борьбы я не раз желал умереть.
Страдают не от своих пороков, страдают только от того, что не могут с ними смириться. Я познал все софизмы страсти, познал также и все софизмы совести. Люди воображают, будто осуждают некоторые поступки, поскольку они противоречат морали; на деле люди повинуются (имеют счастье повиноваться) собственному инстинктивному отвращению. Меня невольно поражало, сколь несущественны наши самые страшные грехи, сколь мало места занимали бы они в нашей жизни, не продлевай им жизнь угрызения. Наше тело забывчиво, как и наша душа; может, этим и объясняется, что некоторые из нас снова становятся невинными. Я старался забыть; я почти забывал. Потом эта амнезия начинала меня пугать. Я принимался вспоминать, но не мог вспомнить все, и это терзало меня еще больше. Я углублялся в прошлое, стараясь его оживить. Я приходил в отчаяние оттого, что воспоминания тускнеют. Только они могли избавить меня от настоящего и будущего, от которых я отказывался. Наложив на себя множество запретов, я не находил в себе сил наложить запрет и на свое прошлое.
Я победил. В результате жалких рецидивов и еще более жалких побед я прожил целый год так, как хотел бы прожить всю жизнь. Не улыбайтесь, мой друг. Я вовсе не преувеличиваю своих заслуг: считать заслугой воздержание от греха значит грешить на свой лад. Иногда удается управлять своими поступками, труднее управлять своими мыслями, но своими грезами управлять нельзя. Я грезил. Я познал опасность стоячих вод. Похоже, что поступки отпускают нам грех. По сравнению с мыслями, какие в нас порождает грех, даже само греховное действие кажется более чистым. Или, если угодно, менее грязным. Отнесем это на счет заурядности, свойственной реальной жизни. В тот год, когда я, поверьте мне, не совершил ничего предосудительного, меня, как никогда, преследовали навязчивые мечты, и притом самого низкого пошиба. Можно было подумать, что рана, слишком быстро зарубцевавшись на теле, открылась в душе и в конце концов отравила ее. Мне не составило бы труда драматизировать свой рассказ, но мы с Вами не любим драм — есть вещи, которые можно выразить полнее, умолчав о них. Так вот, я любил жизнь. Во имя жизни, вернее, во имя моего будущего я заставил себя одержать над собой победу. Но тот, кто страдает, начинает ненавидеть жизнь. Меня стали преследовать мысли о самоубийстве и другие мысли, еще более ужасные. В самых безобидных будничных предметах я усматривал орудия возможного разрушения. Я боялся тканей, потому что их можно связать узлом, ножниц — из-за их острых концов, и в особенности режущих предметов. Меня искушали эти грубые обличья избавления: я запирал дверь между собой и своим безумием.
Я стал жестким. До сих пор я избегал осуждать других; теперь, если бы смог, я стал бы так же беспощаден к ним, как к самому себе. Я не прощал ближним самых мелких прегрешений, опасаясь, что снисходительность к другим толкнет мою совесть извинять мои собственные грехи. Я боялся расслабленности, какую вызывают приятные ощущения, и дошел до того, что возненавидел самую природу за ласку весны. Я старался по возможности избегать волнующей музыки: мои собственные руки, лежащие на клавишах, приводили меня в смятение, напоминая о ласках. Я боялся неожиданных светских встреч, мне чудилась опасность в человеческих лицах. Я замкнулся в одиночестве. Потом одиночество стало меня пугать. Ведь быть совсем одиноким невозможно: к несчастью, ты никогда не расстаешься с самим собой.
Музыка, радость сильных натур, служит утешением для слабых. Музыка стала для меня ремеслом, дававшим мне средства к существованию. Учить музыке детей — мучительное испытание, поскольку техника отбивает у них интерес к душе.
А я думаю, следовало бы сначала давать им почувствовать душу. Но так делать не принято, а мои ученики и их родители вовсе не хотели отступать от принятых правил. И все же я предпочитал детей взрослым ученикам, которые появились у меня позднее и считали, что должны что-то выражать своей игрой. К тому же перед детьми я не так робел. Я мог бы, если бы захотел, иметь больше уроков, но тех, что у меня были, мне хватало, чтобы прокормиться. А я и так уже работал слишком много. Мне не свойствен культ работы, когда ее результаты важны лишь для тебя самого. Конечно, изнурять себя — это тоже способ самоукрощения, но изнурение тела приводит в конце концов к изнурению души. А кто знает, Моника, что лучше: душа мятущаяся или душа спящая?
Вечерами я был свободен. И каждый вечер некоторое время играл для самого себя. Конечно, такое одинокое наслаждение бесплодно, но никакое наслаждение не может быть бесплодным, если оно примиряет нас с жизнью. Музыка переносит меня в мир, откуда страдание не исчезает, но оно ширится, утихает, становясь более спокойным и в то же время более глубоким, как поток, который разливается озером. Когда возвращаешься поздно, нельзя играть музыку слишком громкую, впрочем, я такую и не любил. Я чувствовал, что соседи по дому только терпят мою игру, да и сон усталых людей, без сомнения, стоит дороже всех мелодий.
Вот таким образом, мой друг, я и привык почти всегда играть с сурдиной, словно боясь кого-то разбудить. Безмолвие возмещает не только бессилие человеческой речи, у посредственных музыкантов оно возмещает скудость звучания. Мне всегда казалось, что музыка должна быть просто безмолвием, тайной безмолвия, которое пытается себя выразить. Возьмите, например, фонтан. Безмолвная вода наполняет трубы, собирается в них, переливается через край, и падающая капля обретает звук. Мне всегда казалось, что музыка должна быть не чем иным, как перелившимся через край великим безмолвием.
Ребенком я мечтал о славе. В годы детства мы жаждем славы, как жаждем любви: мы нуждаемся в других, чтобы понять себя. Не скажу, что честолюбие порок бесполезный, оно может подстегнуть. Но оно же истощает душу. Мне не приходилось видеть успеха, который не был бы куплен ценой полулжи, я не встречал слушателей, которые не вынуждали бы нас что-то опускать или что-то преувеличивать. Я часто с грустью думал, что душа воистину прекрасная не добьется славы, потому что не станет ее желать. Эта мысль, разочаровавшая меня в славе, разочаровала меня и в таланте. Мне часто приходило в голову, что талант — это просто особое красноречие, шумный дар выражения. Будь я даже Шопеном, Моцартом или Перголезе, я все равно высказал бы, да притом, вероятно, несовершенным образом, лишь то, что каждый день испытывает деревенский музыкант, без всяких притязаний старающийся делать свое дело как можно лучше. Я тоже старался играть как можно лучше. Мой первый концерт нельзя было назвать провалом, дело обстояло хуже: то был полу-успех. Чтобы я решился дать этот концерт, понадобились самые веские материальные причины и вся та власть, какую приобретают над нами светские люди, когда они желают нам помочь. У моей семьи в Вене было довольно много дальних родственников. Оставаясь для меня совершенно чужими, они стали мне как бы покровительствовать. Моя бедность их немного унижала; им хотелось, чтобы я стал знаменитым, тогда они могли бы не стесняться, когда упоминают мое имя. Я редко встречался с ними, они на это сердились, может, потому, что я лишал их случая отказать мне в помощи. И тем не менее, они мне помогли. Я знаю, что они сделали это самым необременительным для себя способом, но не вижу, мой друг, по какому праву мы стали бы требовать доброты. Помню, как я вышел на сцену на своем первом концерте. Собравшихся было немного, но для меня и это было слишком. Я задыхался. Я не любил публики, для которой искусство лишь необходимое проявление тщеславия, не любил лиц с выражением наигранного участия, призванным скрыть душу, отсутствие души. Я плохо представлял себе, как можно играть перед незнакомыми людьми, в назначенный час, за заранее обусловленную плату. Я угадывал банальные оценки, какие они считают своим долгом высказать, уходя с концерта; я ненавидел их пристрастие к бессмысленной патетике, мне был противен даже интерес, какой я им внушал, поскольку принадлежал к их кругу, и фальшивый блеск женских украшений. Я предпочитал слушателей тех концертов, которые давались для простонародья в каком-нибудь убогом зале и на которых я иногда соглашался играть бесплатно. Люди приходили туда в надежде что-то узнать. Они были не умнее тех, других, но они проявляли больше доброй воли. Им приходилось после ужина принарядиться, а потом в течение двух долгих часов зябнуть в полутемном зале. Люди, идущие в театр, стараются забыться, люди, идущие на концерт, пожалуй, стремятся обрести самих себя. День рассеивает их внимание, ночь растворяет его в снах, а в эти часы они углубляются в себя. Усталые лица вечерних слушателей, лица, размягченные мечтами, словно купающиеся в них. Мое собственное лицо… Ведь я и сам страшно беден — у меня нет ни любви, ни веры, ни желаний, в которых не стыдно признаться, я могу рассчитывать только на самого себя и почти все время сам себя предаю.
Следующая зима была дождливой. Я простудился. Я так привык недомогать, что не встревожился, когда заболел всерьез. В годы, которые я Вам описываю, у меня часто возобновлялись нервные приступы, мучившие меня в детстве. Простуда, которую я не пытался лечить, подорвала мои силы — я заболел снова, и на сей раз очень тяжело.
Тут я понял, какое счастье быть одному. Если бы я тогда умер, мне не о ком было бы сожалеть. Я полностью от всего отрешился. Из письма одного из моих братьев я как раз узнал о том, что моя мать уже месяц как умерла. Я опечалился, в особенности от того, что у меня украли несколько лишних недель скорби. Я был совсем один. Пользовавший жителей квартала врач, которого в конце концов ко мне позвали, вскоре перестал меня навещать, соседям надоело за мной ухаживать. Меня это устраивало. Я был так спокоен, что у меня даже не было нужды смириться. Я наблюдал за своим телом — оно боролось, задыхалось, страдало. Оно хотело жить. В нем была вера в жизнь, которой я не мог не восхищаться: я почти раскаивался, что презирал его, доводил до отчаяния, жестоко наказывал. Когда мне стало немного лучше и я смог подняться с кровати, мой мозг, еще слишком слабый, был неспособен к долгим размышлениям; первые радости я познал через свое тело. Помню почти священную красоту хлеба, робкий луч солнца, которому я подставлял лицо, и как меня ошеломила жизнь. Настал день, когда я смог облокотиться на подоконник раскрытого окна.
Я жил на унылой окраинной улице Вены, но бывают минуты, когда довольно какого-нибудь дерева, ветки которого нависли над стеной, чтобы напомнить тебе, что на свете есть леса. В тот день всем своим телом, пораженным тем, что оно возвращается к жизни, я вновь открыл для себя красоту мира. Вы знаете, как я открыл ее впервые. И, как в первый раз, я плакал, не столько от счастья и благодарности, сколько при мысли о том, что жизнь так проста и была бы такой легкой, будь мы сами способны просто принимать ее.
Болезнь я упрекаю за то, что для больного отречение становится слишком доступным. Ты начинаешь думать, что излечился от желания, но выздоровление влечет за собой рецидив, и ты замечаешь все так же ошеломленно, что радость еще может стать причиной страдания. В течение первых месяцев я думал, что смогу продолжать смотреть на жизнь равнодушными глазами больного. Я упорно цеплялся за мысль что, скорее всего, жить мне осталось недолго: я прощал себе свои грехи, как Господь, без сомнения, простит нас после нашей смерти. Я уже не укорял себя за то, что меня слишком волнует человеческая красота; в том, что при виде ее сердце у меня начинает трепетать, я видел слабость выздоравливающего, простительное смятение тела, так сказать, обновленного для жизни. Я вновь стал давать уроки, давал и концерты. Это было необходимо — болезнь потребовала больших расходов. Никто ни разу не справился обо мне, и теперь люди, в семьях которых учительствовал, не замечали, насколько я еще слаб. Не стоит на них за это сердиться. Я был для них всего лишь молодым человеком, очень незлобивым, очень благоразумным с виду и дешево бравшим за уроки. Они смотрели на меня только под этим углом зрения, и то, что я какое-то время отсутствовал, восприняли как досадную помеху. Едва у меня хватило сил совершить более долгую прогулку, я отправился к княгине Катарине.
В ту пору князь и княгиня Майнау зимние месяцы проводили в Вене. Боюсь, дорогая, их маленькие светские причуды помешали нам с Вами оценить некоторые редкие качества этих людей минувшей эпохи. Они были пережитками мира более здравого, чем наш, потому что более легкого. Князь и княгиня отличались той радушной приветливостью, которая в мелочах часто заменяет истинную доброту. Мы состояли в дальнем родстве по женской линии; княгиня помнила, как воспитывалась с моей бабушкой по матери у немецких канонисс. Она любила вспоминать об этой давней дружбе, потому что принадлежала к числу тех женщин, для которых возраст — еще один дворянский титул. Быть может, ее кокетство состояло единственно в желании омолодить свою душу. Красота Катарины Майнау была теперь только воспоминанием; вместо зеркал в ее спальне висели ее давние портреты. Но все знали, что когда-то она была красавицей. Говорили, что она внушала пылкие чувства, что она сама их вкусила; познала она и горести, хотя страдала от них недолго. Думаю, эти горести были сродни бальным платьям, которые она надевала лишь однажды. Но она сохраняла их в шкафах все до одного и так же бережно хранила воспоминания. Вы говорили, дорогая, что у княгини Катарины кружевная душа.
Я редко бывал у княгини на вечерах для узкого круг друзей, но она всегда очень ласково меня принимала. Я чувствовал — она испытывает ко мне не настоящую привязанность, а всего лишь рассеянную благосклонность старой дамы. И все же я ее почти любил. Любил ее немного отекшие руки в кольцах, ее усталые глаза, ее легкий акцент. Как и моя мать, княгиня говорила на певучем французском версальской эпохи, который сообщает каждому слову старомодное изящество мертвого языка. Я обнаружил в ней, как впоследствии в Вас, отголоски моего родного говора. Княгиня изо всех сил старалась приобщить меня к светской жизни; она давала мне книги своих любимых поэтов — нежные, поверхностные и трудные для понимания. Она считала меня благоразумным — то был единственный порок, которого она не прощала. Смеясь, она расспрашивала меня о молодых женщинах, которых я встречал в ее доме, и удивлялась, как это я ни в одну из них не влюбился. Эти простые вопросы меня терзали. Само собой, княгиня этого не замечала; она считала, что я робок и моложе своих лет; я был благодарен ей за это мнение. Когда ты несчастлив и считаешь себя преступником, есть что-то успокоительное в том, что в тебе видят обыкновенного ребенка.
Княгиня знала, что я очень беден. Бедность, как и болезнь, была уродством, от которого она отворачивалась. Ни за что на свете она не поднялась бы на шестой этаж. Не спешите осуждать ее, мой друг: она отличалась бесконечной деликатностью. Может, именно для того, чтобы меня не обидеть, она делала мне только бесполезные подарки, а самые бесполезные подарки — самые необходимые. Узнав, что я болен, она прислала мне цветы. Перед цветами не стыдно, что ты живешь в трущобе. Такой щедрости я ни от кого не ждал — я и не представлял, что на свете может найтись душа настолько добрая, чтобы прислать мне цветы. В эту пору княгиня обожала сиреневые лилии; благодаря ей я выздоравливал среди благоухания. Я уже говорил Вам, какой унылой была моя комната, — быть может, без лилий княгини Катарины у меня не хватило бы духу выздороветь.
Когда я пришел, чтобы ее поблагодарить, я был еще очень слаб. Я застал ее, как обычно, за вышиванием — у нее редко хватало терпения довести свою работу до конца. Моя благодарность ее удивила: она уже забыла, что послала мне цветы. Это меня возмутило, мой друг: по-моему, прелесть подарка уменьшается, если тот, кто его преподнес, не придает ему значения. В комнате княгини жалюзи, как всегда, были закрыты; она предпочитала жить в неизменном сумраке, и однако в комнату проникал запах уличной пыли — чувствовалось, что начинается лето. Я испытывал мучительную усталость при мысли, что впереди четыре летних месяца. Я представил себе, как уроков у меня станет меньше, как я буду по вечерам выходить, на улицу в тщетных поисках прохлады, представил себе тревогу, бессонницу, а также другие опасности. Я боялся возвращения болезни и кое-чего похуже болезни. Словом, я вслух пожалел о том, что лето настанет так скоро. Княгиня Майнау проводила лето в Ванде, в старом поместье, доставшемся ей по наследству. Ванд был для меня просто смутным названием одного из тех мест, где тебе никогда не придется побывать, — я не сразу понял, что княгиня меня туда приглашает. Она пригласила меня из жалости. Пригласила весело, заранее выбирая для меня комнату и, так сказать, вплоть до будущей осени завладев моей жизнью. Мне стало стыдно, что, жалуясь, я словно бы на что-то напросился. Но приглашение я принял. Мне не хватило духа наказать себя отказом, к тому же Вы знаете, мой друг, противиться княгине Катарине невозможно.
Я отправился в Ванд, чтобы провести там всего три недели, а остался на много месяцев. То были долгие, неподвижные месяцы. Они текли медленно, однообразно и воистину незаметно, словно я, сам того не сознавая, чего-то ждал. Жизнь в Ванде была церемонной и в то же время совершенно простой; это беззаботное существование умиротворяло меня. Не могу сказать, что Ванд напоминал мне Вороино, хотя на нем и лежала та же печать старины и спокойной долговременности. Видимо, богатство утвердилось в нем со столь же давних пор, как в нашем доме бедность. Князья Майнау всегда были богаты, так что никто этому не удивлялся, и даже бедных это не раздражало. Князь и княгиня часто устраивали приемы; они жили среди книг, только что присланных из Франции, среди открытых партитур и звякающих упряжек. В этой культурной, хотя и легкомысленной среде интеллигентность считалась как бы дополнительной роскошью. Без сомнения, князь и княгиня не были моими друзьями — они мне всего лишь покровительствовали. Княгиня со смехом называла меня своим сверхштатным музыкантом; по вечерам от меня требовали, чтобы я усаживался за фортепиано. Я чувствовал, что перед этими светскими людьми играть можно только легкую музыку, такую же поверхностную, как сказанные перед этим слова, но в забытых ариетках была своя прелесть.
Месяцы, проведенные в Ванде, были похожи на долгую сиесту, во время которой я старался не думать. Княгиня не хотела, чтобы я оставил свои концерты; я не раз уезжал из Ванда выступать в больших немецких городах. Там мне случалась подвергаться привычным искушениям, но то бывали лишь редкие случаи. Вернувшись в Ванд, я даже не вспоминал о них: я снова, в который раз, пользовался своей чудовищной способностью забывать. Мир светских людей на поверхности сводится к набору приятных или, во всяком случае, благопристойных представлений. Тут дело даже не в лицемерии — просто они избегают намекать на то, что, будучи облечено в слова, шокирует. Всем известно, что в жизни существуют стороны унизительные, но люди живут так, словно к ним это отношения не имеет. Это все равно как если бы, в конце концов, они стали принимать свою одежду за свое тело. Само собой, я не способен был так грубо заблуждаться — мне случалось видеть себя голым. Я просто закрывал глаза. До Вашего приезда в Ванд я не был счастлив, я лишь погрузился в спячку. Потом приехали Вы. Рядом с Вами я тоже не был счастлив — я только стал воображать, что счастье существует. Это было похоже на послеполуденную грезу в летний день.
Я загодя узнал о Вас все, что можно было узнать, то есть очень мало, и притом вещи незначительные. Мне сказали, что Вы очень красивы, очень богаты и вообще совершенство во всех отношениях. Мне не сказали о том, как Вы добры; княгиня этого не знала, а может, доброта была для нее чем-то излишним, — на взгляд княгини, ее вполне заменяла любезность. Многие молодые девушки очень красивы, есть среди них и очень богатые и во всех отношениях совершенные, но у меня не было никаких причин всем этим заинтересоваться. Не удивляйтесь, друг мой, что описания княгини оказались бесплодными: в каждом совершенном создании есть своя уникальность, похвалы тут бессильны. Княгиня хотела, чтобы я заранее восхищался Вами, поэтому Вы показались мне менее простой, чем это свойственно Вам на самом деле. До этой минуты я не имел ничего против того, чтобы играть в Ванде роль скромного гостя, но мне показалось, что перед Вами меня хотят принудить блистать. Мне это было не под силу, да и я всегда робел в присутствии новых лиц. Если бы это зависело от меня, я уехал бы до Вашего появления, но это было невозможно. Теперь я понимаю, с какой целью князь с княгиней удержали меня: к несчастью, рядом со мной оказалась престарелая чета, желавшая устроить мое счастье. Вы должны, дорогая, простить княгиню Катарину: она слишком мало знала меня и потому воображала, что я достоин Вас. Ей было известно, что Вы очень благочестивы, сам я до знакомства с Вами отличался боязливой детской набожностью. Правда, я был католиком, а Вы протестанткой, но это не имело значения. Княгиня решила, что мое старинное имя вполне способно искупить мою бедность, Ваша родня рассудила так же. Катарина Майнау сожалела, быть может сгущая краски, о моей одинокой и подчас трудной жизни, а с другой стороны, боялась, как бы Вы не вышли замуж за какого-нибудь заурядного человека; она будто считала себя обязанной заменить мать и Вам, и мне. К тому же она была моей родственницей и хотела оказать услугу моей семье. Княгиня Майнау была сентиментальна: ей нравилось жить в пресноватой атмосфере немецких помолвок; брак был для нее салонной комедией, расцвеченной умилением и улыбками, где в пятом действии наступает счастливый конец. К нам счастье не пришло, Моника, но, может быть, мы не способны быть счастливыми, и вины княгини Катарины тут нет.
По-моему, я говорил Вам, что князь Майнау рассказал мне Вашу историю. Вернее, историю Ваших родителей, потому что вся история молодой девушки в том, что происходит в ее душе; ее жизнь — это поэма, которая позднее превращается в драму. Я выслушал эту историю равнодушно, как слушал бесконечные охотничьи рассказы, которые вечерами после долгой трапезы заводил князь, или его воспоминания о путешествиях. А это как раз было воспоминание о путешествии, поскольку князь познакомился с Вашим отцом во время давней экспедиции на французские Антильские острова. Доктор Тьебо был знаменитым путешественником, женился он уже в годах, Вы родились на Антилах. Овдовев, Ваш отец покинул острова. Поселившись в одной из французских провинций у отцовской родни, Вы выросли в кругу строгих, хотя и очень любящих людей. У Вас было счастливое детство. Впрочем, друг мой, мне не к чему пересказывать Вам Вашу биографию: Вы знаете ее лучше, чем я. Она разворачивалась для Вас день за днем, строфа за строфой, как псалом. Вам даже нет нужды ее вспоминать: она сделала Вас такой, какая Вы есть, на Ваших жестах, на Вашем голосе, на всем Вашем внешнем и внутреннем облике лежит отпечаток этого безмятежного прошлого.
Вы приехали в Ванд однажды в сумерках, в конце сентября. Подробностей Вашего приезда я не помню; я не знал, что Вы вошли не только в этот немецкий дом, но и в мою жизнь. Помню только, что уже смеркалось, а лампы в прихожей еще не зажгли. Вы не впервые приехали погостить в Ванд, все предметы здесь были для Вас привычными, и Вы были им знакомы. В темноте я не смог разглядеть Ваши черты, только почувствовал, что Вы очень спокойны. Женщины, друг мой, редко бывают спокойными — они либо благодушны, либо суетливы. Вы же источали ровный свет, как зажженная лампада. Вы разговаривали с хозяевами дома, не произнося при этом никаких лишних слов, не делая лишних движений, все в Вас было безупречно. Я в этот вечер робел больше обычного, наверное, это было слишком даже для Вашей доброты. Но я на Вас не сердился, впрочем, и не восхищался Вами: Вы были слишком далеки от меня. Просто Ваше появление оказалось для меня не таким тягостным, как я опасался. Видите, друг мой, я говорю Вам все как есть.
Я пытаюсь воскресить в подробностях, как можно более точных, те недели, которые привели к нашей помолвке. Это не легко, Моника. Я должен избегать таких слов, как «счастье» и «любовь», ведь я Вас не любил. Но Вы стали мне дороги. Я уже говорил Вам, как трогала меня женская кротость: возле Вас я испытывал новое для себя чувство доверия и умиротворения. Вы, как и я, любили долгие прогулки без всякой цели. Мне и не нужна была цель — рядом с Вами мне было покойно. Ваша задумчивость хорошо согласовалась с моей робостью — мы молчали вдвоем. Потом Ваш прекрасный низкий, глуховатый, оттененный безмолвием голос задавал мне вопросы о моем искусстве, обо мне; я уже понимал, что Вы испытываете по отношению ко мне какую-то нежную жалость. Вы были добры. Вы знали, что такое страдание. Вам не раз приходилось врачевать и утешать страждущих: Вы угадывали во мне молодого больного или молодого бедняка. А я и в самом деле был бедным; бедным настолько, что даже не любил Вас. Я только чувствовал, как Вы сострадательны. Мне случалось думать, что я мог бы быть счастлив, будь Вы моей сестрой. Дальше этих мыслей я не шел. Я был не настолько самонадеян, чтобы мечтать о чем-то большем, а может быть, просто моя натура молчала. Как подумаешь об этом, много уже и того, что она молчала.
Вы были чрезвычайно благочестивы. В ту пору мы оба еще верили в Бога, я подразумеваю того Бога, какого многие люди описывают так, будто они Его знают. Но Вы о Нем никогда не говорили. Может, Вы считали, что о Нем говорить нельзя, а может, Вы не говорили о Нем потому, что всегда чувствовали Его присутствие. Ведь о тех, кого любят, чаще всего говорят тогда, когда они далеко. Вы жили в Боге. Вы, как и я, любили книги старинных мистиков, которые смотрят на жизнь и смерть словно бы сквозь кристалл. Мы с Вами обменивались книгами. Мы читали их вместе, но не вслух, мы слишком хорошо знали, что слова всегда что-то разрушают. То были два согласных молчания. Мы ждали друг друга в конце страницы; Ваш палец, строка за строкой, следовал за начатой молитвой, словно указывая мне дорогу. Однажды, когда я расхрабрился больше обычного, а Вы были еще ласковей, чем всегда, я признался Вам, что боюсь вечной погибели. Вы улыбнулись серьезной улыбкой, как бы желая меня ободрить. И вдруг, неожиданно, эта мысль показалась мне мелкой, жалкой и, главное, далекой: в тот день я понял, что такое милосердие Господне.
Выходит, у меня есть любовные воспоминания. Конечно, то не была истинная страсть, хотя я не уверен, что истинная страсть могла бы сделать меня лучше или хотя бы счастливее. И однако я слишком ясно вижу, насколько эгоистичным было мое чувство, — я привязался к Вам. Привязался — к несчастью, здесь подходит только это слово. Недели шли; княгиня каждый день находила предлоги, чтобы удержать Вас еще на некоторое время; думаю, Вы начали привыкать ко мне. Мы уже поверяли друг другу наши детские воспоминания: благодаря Вам я обнаружил среди своих счастливые, благодаря мне Вы обнаружили среди своих печальные; мы как бы удваивали свое прошлое. Каждый час добавлял что-то еще к этой несмелой братской близости, и я с ужасом заметил, что нас уже считают женихом и невестой.
Я открылся княгине Катарине. Все сказать я не мог — я ссылался на страшную бедность, в которой прозябает моя семья: к несчастью, Вы слишком для меня богаты. Ваше имя, в течение уже двух поколений прославленное в мире науки, вероятно, стоит больше, чем имя бедного австрийского дворянина. Наконец, я решился намекнуть на мои прежние грехи, очень серьезные, назвать которые я, конечно, не мог, но которые возбраняли мне притязать на Вашу любовь. Это полупризнание, такое для меня мучительное, вызвало только улыбку. Мне даже не поверили, Моника. Я натолкнулся на упрямство беспечных людей. Княгиня раз и навсегда решила соединить нас: обо мне у нее сложилось благоприятное впечатление, и она его больше не меняла. Свет, порой чересчур строгий, искупает свою жестокость невниманием. На наш счет просто не питают подозрений. Княгиня Майнау говорила, что опыт сделал ее легкомысленной: ни она, ни ее муж не принимали меня всерьез. Мои колебания, на их взгляд, свидетельствовали об истинной любви; поскольку я сомневался, меня сочли бескорыстным.
Добродетель тоже может вводить в искушение, тем более опасное, что ее мы не опасаемся. До знакомства с Вами я мечтал о женитьбе. Может, те, чье существование безгрешно, мечтают о чем-то другом; таким образом мы вознаграждаем себя за то, что у нас всего одна натура и нам знакома лишь одна сторона счастья. Никогда, даже в минуты полного самозабвения, я не считал свое состояние окончательным или даже сколько-нибудь длительным. В моей семье я наблюдал прекрасные примеры женской нежности; в силу религиозных убеждений я видел в браке единственный чистый и дозволенный идеал. Мне случалось воображать, как однажды какая-нибудь очень добрая, очень преданная и очень серьезная девушка сумеет внушить мне любовь. Подобных девушек я встречал только в кругу своей семьи; но я думал о тех героинях, которые улыбаются нам поблекшей улыбкой со страниц старых книг, таких как Юлия фон Шарпантье или Тереза Брунсвик[5]. Мечты эти были довольно смутные и, к сожалению, совершенно безгрешные. Впрочем, мечта, милый друг, отличается от надежды; мечта удовлетворяется сама собой; более того, она тем слаще, чем несбыточнее, потому что не приходится бояться, что однажды придется пережить ее наяву.
Что было делать? Молодой девушке всего не скажешь, даже если у этой девушки женская душа. Я бы не нашел нужных выражений; я смягчил бы или, наоборот, преувеличил значение своих поступков. Сказать все означало потерять Вас. А если бы Вы все-таки согласились выйти за меня, Ваше доверие ко мне было бы подорвано. А я нуждался в этом доверии, чтобы в каком-то смысле вынудить себя его не обмануть. Я считал, что вправе (или, вернее, что обязан) не отталкивать единственную возможность спасения, какую предоставляет мне жизнь. Я чувствовал, что мужество мое на исходе: я понимал, что в одиночестве уже не излечусь. А в эту пору я хотел излечиться. Человек устает довольствоваться только потаенной, презираемой формой счастья. Я мог бы одним словом расторгнуть нашу молчаливую помолвку — я нашел бы оправдание: довольно было сказать, что я Вас не люблю. Но я этого не сделал, потому что княгиня, единственная моя покровительница, мне бы этого не простила; я этого не сделал, потому что надеялся на Вас. Я позволил состояться — нет, не счастью (ведь мы несчастливы, моя дорогая), а, скорее, преступлению. Желание поступить как можно лучше привело меня к большей низости, чем самые гадкие расчеты, — я украл у Вас будущее. Я не дал Вам ничего, даже той любви, на какую Вы рассчитывали; те мои свойства, какие можно было назвать достоинствами, стали моими сообщниками в этой лжи, и мой эгоизм был тем более чудовищен, что считал себя оправданным.
Вы любили меня. Я не настолько тщеславен, чтобы думать, будто то была настоящая любовь; я до сих пор удивляюсь, как Вы могли, не скажу, влюбиться в меня, но меня принять. Каждый из нас так плохо представляет себе, что понимают под словом «любовь» другие; быть может, для Вас любовь — это просто страстная доброта. А может, я Вам понравился. Понравился именно за те свойства натуры, которые очень часто произрастают под сенью наших самых больших недостатков: за слабость, нерешительность, чувствительность. Но главное, Вы меня пожалели. Я имел неосторожность внушить Вам сострадание; Вы были добры ко мне в течение нескольких недель и поэтому сочли естественным проявлять эту доброту всю жизнь: Вы полагали, что для того, чтобы быть счастливой, достаточно быть безупречной; я счел, что для того, чтобы быть счастливым, достаточно перестать грешить.
Мы обвенчались в Ванде дождливым октябрьским днем. Быть может, Моника, я предпочел бы, чтобы наша помолвка затянулась: мне нравится, когда время потихоньку ведет нас за собой, а не стремительно увлекает. Я не без тревоги думал о жизни, которая нас ждала: не забудьте, мне было двадцать два и Вы стали первой женщиной в моей жизни. Но рядом с Вами все казалось всегда таким простым: я был благодарен Вам за то, что Вы почти не внушали мне страха. Гости один за другим покинули замок, нам предстояло уехать тоже, уехать вдвоем. Нас обвенчали в деревенской церкви, и, поскольку Ваш отец отправился в очередную далекую экспедицию, на бракосочетании присутствовали только немногочисленные друзья и мой брат. Брат приехал, хотя дорога стоила недешево; он поблагодарил меня с некоторой даже горячностью за то, что, по его словам, я спас нашу семью; я понял, что он намекает на Ваше богатство, и мне стало стыдно. Я ничего ему не ответил. Хотя не знаю, мой друг, была ли бы моя вина больше, принеси я Вас в жертву не самому себе, а своей семье? Сколько мне помнится, был один из тех дней, который, словно человеческое лицо, все время меняет выражение, чередуя дождь и солнце. Он старался быть погожим, как я старался быть счастливым. Господи, я и был счастлив. Робким счастьем.
А теперь, Моника, должно наступить молчание. Здесь кончается мой диалог с самим собой — начинается диалог двух соединившихся душ и тел. Соединившихся или просто соединенных. Чтобы сказать все, дорогая, нужна смелость, на которую я запрещаю себе отважиться, а главное, нужно тоже быть женщиной. Я хотел бы только сравнить свои воспоминания с Вашими, прожить как бы в замедленным темпе те минуты печали или мучительной радости, какие мы пережили, может быть, слишком поспешно. Они возвращаются как почти забытые мысли, как робкие, сделанные шепотом признания, как тихая музыка, в которую надо вслушиваться, чтобы услышать. Но я хочу проверить, нельзя ли так же шепотом писать.
Я по-прежнему был не очень здоров, и это Вас беспокоило тем более, что я не жаловался. Вы захотели, чтобы первые месяцы совместной жизни мы провели в более мягком климате: обвенчавшись, мы в тот же день уехали в Меран. Зима погнала нас в еще более теплые края; я впервые увидел море, море под солнцем. Но это не имеет значения. Наоборот, я предпочел бы другие места, более печальные, более суровые, которые гармонировали бы с тем существованием, к которому я стремился. А эти беззаботные края, где царило плотское счастье, вызывали во мне и недоверие, и смятение; во всякой радости мне всегда чудился грех. Чем более предосудительным казалось мне мое поведение, тем более проникался я суровой ригористической моралью, осуждавшей мои поступки. Наши теории, Моника, если в них не отражаются наши инстинкты, становятся преградой, какую мы возводим против этих инстинктов. Я сердился, когда Вы обращали мое внимание на слишком алую чашечку розы, на статую, на смуглую красоту проходящего мимо ребенка; эти невинные вещи вызывали во мне подобие аскетического отторжения. По тем же причинам я предпочел бы, чтобы Вы были не так хороши собой.
По какому-то молчаливому согласию мы отодвигали мгновение, когда станем полностью принадлежать друг другу. Мысль об этом заранее меня тревожила, да и отталкивала; мне казалось, что чрезмерная близость что-то нарушит, что-то опошлит. И потом, никогда заранее не знаешь, что произойдет между двумя людьми из-за телесного соответсвия или несоответствия. Может, эти мысли не назовешь здоровыми, но таковы уж они были. Каждый вечер я задавал себе вопрос, решусь ли я войти к Вам; и не решался, мой друг. Но, наконец, дольше уклоняться было нельзя, Вы бы этого не поняли. Не без грусти думаю я о том, насколько любой другой оценил бы ту красоту (доброту), с какой Вы так просто отдали себя. Я не хочу сказать ничего, что могло бы покоробить Вас, и тем более того, что могло бы вызвать у Вас улыбку, но мне кажется, то был материнский дар. Позднее, видя, как прижимается к Вам Ваш ребенок, я думал, что всякий мужчина ищет в женщине прежде всего воспоминание о том времени, когда его держала в объятиях мать. Во всяком случае, со мной это именно так. С бесконечной жалостью вспоминаю я, как Вы пытались меня ободрить, утешить, может быть, развеселить, и мне почти кажется, что первым Вашим ребенком оказался я.
Я не был счастлив. Конечно, это меня немного разочаровывало, но, в общем, я смирился. В каком-то смысле я отказался от счастья или, по крайней мере, от радости. К тому же я говорил себе, что первые месяцы брака редко бывают самыми отрадными, что два человека, внезапно соединенные жизнью, не могут так быстро раствориться друг в друге, стать по-настоящему единым существом. Тут нужно много терпения и доброй воли. И мы оба ими обладаем. Я говорил себе слова, еще более справедливые, о том, что мы не имеем права требовать радости и потому не должны роптать. В конце концов, если мы будем благоразумны, одно стоит другого, и, может быть, счастье — это просто умение переносить несчастье. Я твердил себе это, потому что, когда ты не в силах изменить обстоятельства, мужество состоит в том, чтобы пытаться их объяснить. Но в чем бы ни крылся источник ущербности, в жизни или в нас самих, ущербность от этого не становится меньше, и мы от нее равно страдаем. Вы, мой друг, тоже не были счастливы.
Вам было двадцать четыре года. Почти столько, сколько моим старшим сестрам. Но, в отличие от них, Вы не были робкой и незаметной: в Вас ключом била жизненная энергия. Вы не были рождены для мелких забот или маленьких радостей — у Вас была слишком сильная натура. В девичестве у Вас сложилось очень строгое и ответственное представление о Вашей будущей роли супруги: то был идеал нежности, исполненной не столько любви, сколько привязанности. Но в тесную череду скучных, а подчас и трудных обязанностей, какими, на Ваш взгляд, должно было стать Ваше будущее, Вы, сами того не сознавая, привносили нечто иное. Принятые правила не позволяют женщинам испытывать страсть, они позволяют им только любить, может, поэтому они любят так безоглядно. Я не решаюсь сказать, что Вы были рождены для наслаждения; в этом слове есть что-то греховное или, во всяком случае, запретное; скажу лучше, мой друг, что Вы были созданы, чтобы испытывать радость и дарить ее. Надо постараться снова стать чистым, и тогда ты поймешь всю безгрешность радости, этой солнечной формы счастья. Вы думали, что достаточно самой дарить радость, чтобы получать ее в ответ; не стану утверждать, что Вы были разочарованы: нужно длительное время, чтобы женское чувство облеклось в мысль, — Вы просто грустили.
Итак, я Вас не любил. Вы уже не требовали от меня великой любви, какую мне, конечно, не внушит никакая женщина, раз уж мне не дано было почувствовать ее к Вам. Но этого Вы не знали. Вы были слишком благоразумны, чтобы не смириться с этой безысходной жизнью, но Вы были слишком здоровой натурой, чтобы не страдать от нее. Страдание, какое причиняешь ты сам, замечаешь в последнюю очередь; к тому же Вы его скрывали: в первое время я думал, что Вы почти счастливы. Вы старались в каком-то смысле приглушить себя, чтобы мне угодить; Вы носили темную, плотную одежду, скрывавшую Вашу красоту, потому что малейшая Ваша попытка принарядиться меня пугала (Вы это уже поняли), словно мне предлагалась любовь. Не любя Вас, я испытывал по отношению к Вам какую-то беспокойную привязанность; стоило Вам на мгновение отлучиться, я целый день пребывал в унынии, и трудно сказать, от чего я страдал, — от того, что разлучен с Вами, или просто от того, что боюсь быть один. Я и сам этого не знал. Впрочем, быть вместе с Вами я тоже боялся, боялся одиночества вдвоем. Я окружал Вас надрывной нежностью, двадцать раз в день спрашивал Вас, дорог ли я Вам, слишком хорошо понимая, что это невозможно.
Мы подчеркнуто соблюдали церковные обряды, проявляя в благочестии рвение, уже не соответствовавшее нашей вере: те, у кого почва уходит из-под ног, хватаются за Бога, но именно в эти мгновения Бог тоже уходит от них. Мы часто задерживались в тех старинных, уютных церквах, куда обычно заглядывают путешественники, мы даже привыкли молиться в них. Вечером мы возвращались к себе, прижавшись друг к другу, соединенные хотя бы этим общим порывом; мы искали предлогов, чтобы постоять на улице, наблюдая жизнь других: чужая жизнь всегда кажется легкой, ведь ты ее не проживаешь. Мы слишком хорошо знали, что где-то нас ждет наше временное пристанище, комната, холодная, голая, тщетно распахнутая в теплую итальянскую ночь, комната, где нет одиночества, но нет и интимности. Мы ведь жили в одной комнате, этого хотел я. Каждый вечер мы не торопились зажигать лампу, свет мешал нам, но потом мы не решались ее погасить. Вы находили, что я бледен, а сами тоже были бледны; я боялся, не простудились ли Вы; Вы ласково укоряли меня за то, что я устаю от слишком долгих молитв: мы проявляли друг к другу мучительную доброту. В эту пору Вы страдали изнурительной бессонницей, мне тоже было трудно заснуть; мы оба притворялись спящими, чтобы не начать жалеть друг друга. А иногда Вы плакали. Плакали как можно беззвучнее, чтобы я ничего не заметил, и я делал вид, что ничего не слышу. Наверное, лучше не замечать слез, когда не можешь их осушить.
У меня изменился характер: я стал капризен, несговорчив, раздражителен, словно одна обретенная добродетель освобождала меня от всех других. Я сердился на Вас за то, что Вы не смогли дать мне того покоя, на какой я рассчитывал, — Господи, я ведь только и мечтал о том, чтобы его обрести. Я пристрастился к полупризнаниям, я мучил Вас своими душевными излияниями, вселявшими в Вас тем большую тревогу, что они были недосказанными. Мы находили жалкое утешение в слезах — наше общее горе в конце концов объединило нас так, как могло бы объединить счастье. Вы тоже изменились. Казалось, я отнял у Вас былую ясность души, хоть и не сумел присвоить ее себе. Вы, как и я, вдруг ни с того ни с сего проявляли нетерпение или становились сумрачной; мы превратились в двух больных, ищущих опоры друг в друге.
Я полностью забросил музыку. Я смирился с тем, что уже никогда не буду жить в том мире, частью которого она была. Говорят, музыка — вселенная души; возможно, дорогая; это только доказывает, что душа и плоть нераздельны и одна заключает в себе другую, как клавиатура заключает в себе звуки. Тишина, сменяющая аккорды, — это не обычная тишина, это тишина чуткая, живая. Много неведомого нам самим шепчется в нас под сенью этой тишины — мы никогда не знаем, что скажет нам умолкнувшая музыка. Картина, статуя, даже поэма вызывают в нас совершенно определенные мысли, которые, как правило, не уводят нас за свои пределы, но музыка говорит нам о безграничных возможностях. Очень опасно отдавать себя эмоциям в искусстве, если ты решил отрешиться от них в жизни. Поэтому я перестал играть и сочинять музыку. Я не из тех, кто ждет от искусства подмены наслаждения; я люблю обе эти немного грустные формы, в какие облекается любое человеческое желание, люблю и то и другое, а не подменяю одно другим. Я перестал сочинять. Мое отвращение к жизни мало-помалу распространялось и на мечты об идеальной жизни, ведь шедевр, Моника, — эта вымечтанная жизнь. Даже та простая радость, какую дает художнику законченное творение, засохла или, лучше сказать, замерзла во мне. Может, причина была в том, что Вы не музыкантша: мое самоотречение, моя верность были бы неполными, вступай я каждый вечер в мир гармонии, куда Вы не были вхожи. От работы я отказался. Я был беден, до женитьбы я трудился, чтобы жить. Теперь я находил особое сладострастие в том, чтобы зависеть от Вас, и даже от Ваших денег, такое положение, несколько даже унизительное, ограждало меня от былого греха. Всем нам, Моника, свойственны странные предрассудки: предать женщину, которая тебя любит, всего лишь жестоко, но обмануть ту, на деньги которой живешь, — чудовищно. И Вы, такая трудолюбивая, не смели осудить вслух мое полнейшее безделье — Вы боялись, как бы я не подумал, что Вы укоряете меня за мою бедность.
Прошла зима, потом весна; безмерная печаль изнурила нас, как самый безоглядный разгул. Сердца у нас иссохли, как бывает всегда после слишком обильных слез, мое уныние походило на спокойствие. Меня почти пугало то, что я так спокоен; я считал, что одержал над собой победу. Увы! Мы так быстро начинаем тяготиться своими победами! Мы оба решили, что устали от путешествий и потому так подавлены, и поселились в Вене. Мне было не очень приятно возвращаться в город, где я когда-то жил один, но Вы из душевной деликатности хотели, чтобы я поселился поближе к родным краям. Я старался поверить, что в Вене буду теперь не так несчастлив, как прежде; главное же, я был теперь не так свободен. Я предоставил Вам выбирать обстановку и обои для нашего жилья, не без горечи наблюдая за тем, как Вы ходите по еще пустым комнатам, в которых будут заперты две наши жизни. Венское общество пленила Ваша смуглая, хоть и печальная, красота; у нас обоих не было привычки к светской жизни, и на какое-то время она заставила нас забыть, насколько мы одиноки; потом она стала нас утомлять. Мы с каким-то странным упорством терпели уныние слишком нового дома, где ни с одним предметом не было связано никаких воспоминаний и где зеркала не знали нас. Несмотря на мои старания быть добродетельным, несмотря на Ваши попытки любить, мы не научились даже развлекать друг друга. При известной трезвости ума пользу можно извлечь из всего, даже из порока: он позволяет взглянуть на мир немного по-иному, чем принято. Жизнь, уже не такая замкнутая, как прежде, и книги, которые я прочел, открыли мне, насколько велика разница между внешними приличиями и глубинной моралью. Люди никогда не говорят всей правды, но, когда у тебя создается привычка кое о чем умалчивать, ты вскоре замечаешь, что так поступают все. Я приобрел странную способность распознавать тайные пороки и слабости; моя обнаженная совесть обнажала передо мной совесть других. Наверняка те, с кем я себя сравнивал, возмутились бы таким сопоставлением; они видели в себе людей нормальных, может, потому, что их пороки были из числа самых заурядных; но почему я должен был считать себя ниже тех, кто ищет наслаждения ради наслаждения, которое чаще всего даже не стремится к появлению ребенка? И вот я стал говорить себе, что мой единственный изъян (вернее, мое единственное несчастье) состоит в том, что я — нет, не хуже других, а просто отличаюсь от них. К тому же многие люди прекрасно приспосабливаются к инстинктам, похожим на мои; они не так уж редки и, главное, не так уж странны. Я злился на себя, что так трагически воспринял заповеди, опровергаемые столькими примерами, да и вообще ведь человеческая мораль — не что иное, как великий компромисс. Господи, я никого не осуждаю: каждый молча лелеет свои тайны и мечты, не сознаваясь в них никому, даже самому себе, и все объяснилось бы, если бы люди не лгали. Выходит, я, быть может, мучил себя из-за ерунды. Подчиняясь правилам самой строгой морали, я теперь считал себя вправе судить эти правила — можно подумать, что с тех пор, как я отказался от какой бы то ни было свободы в жизни, я отважился стать более свободным в мыслях.
Я еще не сказал о том, как Вы мечтали о сыне. Я тоже страстно о нем мечтал. Однако, узнав, что у нас будет ребенок, я почти не ощутил радости. Конечно, брак без детей — всего лишь разрешенный разврат; если любовь к женщине достойна уважения, какого не заслуживает любовь иного рода, то это только потому, что любовь к женщине чревата будущим. Но когда жизнь кажется тебе абсурдной и бесцельной, ты не станешь радоваться ее продолжению. Ребенку, которого мы оба хотели, предстояло появиться на свет у двух чужих друг другу людей: он не был ни доказательством счастья, ни дополнением к нему: он его замещал. Мы смутно надеялись, что с появлением ребенка все образуется; я желал его только потому, что Вы грустили. Вначале Вы даже стеснялись говорить со мной о нем — это больше чем что-либо другое доказывает, насколько наши жизни оставались далекими друг другу. И все же это маленькое существо начало нам помогать. Я думал о нем отчасти так, как если бы то был не мой ребенок; я наслаждался теплом близости, которая снова стала братской и в которой уже не могло быть места страсти. Мне почти казалось, что Вы моя сестра или родственница, которую доверили моему попечению, и я должен заботиться о Вас, ободрять, а может, и утешать, чтобы Вы не горевали о том, что чего-то лишены. Вы заранее любили это крохотное создание — для Вас оно уже было живым. В том, что меня это радует, я вполне мог признаться, но и в этой радости была доля эгоизма: не сумев сделать Вас счастливой, я находил естественным переложить эту обязанность на ребенка.
Даниель родился в июне, в Вороино, в печальных краях Белогорья, где когда-то родился я сам. Вы во что бы то ни стало хотели, чтобы он появился на свет среди этого старинного пейзажа — этим Вы как бы с большей полнотой вручали мне моего сына. Дом, хотя его отремонтировали и заново покрасили, остался прежним — он только казался более просторным, потому что нас стало меньше. Мой брат (у меня остался только один брат) жил здесь со своей женой; это были самые настоящие провинциалы: привыкнув к одиночеству, они дичились людей, привыкнув к бедности, стали боязливыми. Они приняли нас с какой-то неловкой услужливостью и, поскольку дорога Вас утомила, предложили Вам, желая оказать Вам честь, большую комнату, где умерла моя мать и где родились мы все. Ваши руки на белом пододеяльнике были почти такими, как у нее, и каждое утро, как в те времена, когда я входил к матери, я ждал, чтобы эти длинные хрупкие пальцы легли мне на голову, благословляя меня. Но я не смел об этом просить и просто целовал их. Между тем я так нуждался в благословении. Комната была сумрачная, нарядную постель с двух сторон затенял тяжелый полог. Думаю, многие женщины моей семьи в былые времена лежали здесь, ожидая ребенка или смерти, и как знать, может быть, смерть это просто рождение души.
Последние недели Вашей беременности были тяжелыми: однажды вечером невестка пришла сказать мне, чтобы я молился. Я не стал молиться, я только твердил себе, что Вы непременно умрете. Я боялся, что не испытаю подлинного отчаяния, и заранее угрызался. А Вы смирились. Смирились, как те, кто не слишком дорожит жизнью, и в этом спокойствии я тоже видел упрек себе. Может быть, Вы чувствовали, что наш союз не из тех, которые длятся всю жизнь, что однажды Вы полюбите кого-нибудь другого. Когда боишься будущего, легче умереть. Я держал в своих руках Ваши руки, всегда лихорадочно горячие, мы оба молчали, думая об одном — о том, что Вы, вероятно, скоро умрете; Вы были такой усталой, что даже не задавались вопросом, что станется с ребенком. А я с негодованием говорил себе, что природа несправедлива к тем, кто подчиняется самым внятным ее законам, поскольку каждое рождение подвергает опасности две жизни. Каждый, кто появляется на свет, причиняет страдания, а умирая, страдает сам. Но беда даже не в том, что жизнь жестока, а в том, что она тщетна и лишена красоты. Торжественность рождения, как и торжественность смерти, для тех, кто при них присутствует, тонет в отвратительных или просто вульгарных подробностях. Меня перестали пускать в Вашу спальню, Вы боролись в окружении женщин, которые хлопотали вокруг Вас и молились, и, поскольку лампы горели всю ночь, чувствовалось, что кого-то ждут. В Ваших криках, долетавших до меня через закрытую дверь, было что-то нечеловеческое, внушавшее ужас. До этого я как-то не представлял себе, что Вам предстоит схватка с этой чисто животной формой страдания, и корил себя за этого ребенка, который повинен в Ваших криках. Вот так, Моника, все связано не только в жизни, но и в душе: воспоминание о тех часах, когда я считал, что Вы обречены, может, и способствовало моему возвращению к тому, к чему меня всегда влекли мои инстинкты.
Меня ввели в Вашу спальню, чтобы показать ребенка. Все здесь уже успокоилось; Вы были счастливы, но счастьем физическим, в котором больше всего было усталости и освобождения. Только ребенок плакал на руках у женщин. Думаю, он страдал от холода, от звука слов, от прикосновения пеленок и рук, которые им манипулировали. Жизнь только что вырвала его из жаркого сумрака материнского лона; наверное, ему было страшно, и ничто, даже ночь, даже смерть не заменили бы ему этого воистину первородного убежища, потому что в сумраке ночи и в сумраке смерти царит холод и его не оживляет биение сердца. Я оробел перед ребенком, которого надо было поцеловать. Он не внушал мне ни нежности, ни даже привязанности, а только огромную жалость, ведь, глядя на новорожденного, никогда не знаешь, какую причину для слез уготовило ему будущее.
Я говорил себе, что это будет Ваш ребенок, Моника, не столько мой, сколько Ваш. Он унаследует от Вас не только богатство, которого так давно было лишено Вороино (богатство, друг мой, не дает счастья, но часто открывает к нему путь); он унаследует также Вашу прекрасную, спокойную повадку, Ваш ум и ту ясную улыбку, какую мы часто встречаем на холстах французских художников. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Повинуясь слепому чувству долга, я взял на себя ответственность за его жизнь, которой, возможно, грозила опасность стать несчастливой — ведь он мой сын; единственное мое оправдание в том, что я дал ему такую замечательную мать. Но при этом я твердил себе, что он наследник имени Жера, что он принадлежит к семье, члены которой заботливо передают друг другу представления такие давние, что они уже вышли из употребления, как позолоченные сани и придворные кареты. Как и я, он потомок жителей Польши, Подолии и Богемии; ему будут свойственнны их страсти, их внезапные разочарования, их склонность к печали и диковинным наслаждениям, судьба начертает ему все, что начертала им, что начертала мне. Ведь мы — представители той странной человеческой породы, в которой из века в век меланхолия чередуется с безумием, как чередуются в ней карие и голубые глаза. У нас с Даниелем глаза голубые. Теперь ребенок спал в колыбели, пододвинутой к кровати; составленные на стол лампы смутно освещали комнату, и семейные портреты, на которые обычно не смотришь, потому что они все время перед глазами, вдруг перестали быть просто частью обстановки и заявили о себе. Воля, которую выражали лица этих предков, осуществилась: наш брак привел к рождению ребенка. Через него старинный род продолжится в будущем; теперь в моем существовании больше не было нужды — я уже не интересовал мертвых, я мог теперь исчезнуть, умереть или, наоборот, заново начать жить.
Рождение Даниеля нас не сблизило — оно принесло нам такое же разочарование, как и любовь. Мы больше не возобновляли совместной жизни; я уже не прижимался к Вам по ночам, как ребенок, боящийся темноты, — мне вернули комнату, в которой я спал, когда мне было шестнадцать. В этой постели, где я обрел не только мои былые сны, но даже углубление, образовавшееся в ней под тяжестью моего тела, мне стало казаться, что я вновь воссоединился с самим собой. Мы напрасно воображаем, мой друг, будто жизнь нас меняет — она изнашивает нас, и притом изнашивает в нас только благоприобретенное. Я не изменился, просто между мной и моей натурой вклинились обстоятельства; я оставался таким, каким был прежде, и, пожалуй, в большей степени, чем прежде, ибо по мере того, как рушатся одна за другой наши иллюзии и верования, мы все глубже познаем свою истинную сущность. Все мои похвальные усилия и добрая воля привели к тому, что я обрел себя такого, каким был раньше: душу, все еще в какой-то мере мятущуюся, но разочарованную двумя годами добродетельной жизни. Есть от чего пасть духом, Моника. Казалось также, что долгая материнская работа, свершавшаяся в Вас, вернула Вашей натуре ее исконную простоту: Вы стали такой, какой были до замужества, — молодым существом, жаждущим счастья, только более твердым, более спокойным, в меньшей мере обремененным душой. Ваша красота достигла какого-то умиротворенного расцвета — а я чувствовал себя больным и радовался этому. Мне неловко и сегодня говорить Вам о том, сколько раз в те летние месяцы я желал умереть, и я не хочу знать, что думали Вы, — не сравнивали ли Вы себя с женщинами более счастливыми и не винили ли меня за то, что я погубил Ваше будущее. И однако мы продолжали любить друг друга, насколько можно любить, не испытывая взаимной страсти. Теплый сезон (второй за время нашего брака) кончился вдруг слишком быстро, как это обычно бывает в северных краях; мы молча присутствовали при закате лета и закате нежности, которые принесли свои плоды и которым теперь оставалось только умереть. В этой печальной атмосфере ко мне и вернулась музыка.
Однажды сентябрьским вечером, накануне нашего отъезда в Вену, я поддался соблазну, влекшему меня к фортепиано, которое все это время стояло закрытым. Я был один в полутемной гостиной; случилось это, как я уже сказал, в последний вечер перед отъездом из Вороино. Уже в течение многих недель меня снедали какая-то физическая тревога, лихорадка, бессонница; я пытался с ними бороться, виня во всем наступившую осень. Бывают мелодии, такие свежие, что ими можно утолить жажду, так, по крайней мере, я думал. И начал играть. Я играл; сначала осторожно, тихо, бережно, словно хотел убаюкать собственную душу. Я выбирал самые умиротворяющие пьесы, чистое зеркало духа, Дебюсси и Моцарта, — казалось, я, как когда-то в Вене, боялся будоражащей музыки. Но моя душа, Моника, не хотела забыться сном. А может, то была и не душа. Я играл рассеянно, продлевая тишиной звучание каждой ноты. То был (я уже упомянул об этом) мой последний вечер в Вороино. Я знал, что мои руки никогда больше не коснутся этих клавиш, никогда больше не наполнят звуками эту комнату. В своих физических страданиях я видел зловещее предзнаменование: я решил, что не стану противиться смерти. Отдавая душу вершинам арпеджио, как отдают тело готовящейся опасть волне, я ждал, что музыка поможет мне рухнуть в бездну и в забвение. Я играл, изнемогая. Я говорил себе, что жизнь надо было прожить иначе и что излечить нас не может ничто — даже выздоровление. Я чувствовал, что слишком устал от смены усилий и падений, равно изнурительных, и однако в музыке я уже наслаждался собственной слабостью и отказом от борьбы. Я уже не мог, как прежде, презирать жизнь страстей, хотя ее страшился. Моя душа проникла в глубины тела, и, возвращаясь, мысль за мыслью, аккорд за аккордом, к моему самому интимному, самому потаенному прошлому, я сожалел уже не о своих грехах, а о тех радостях, возможности которых упустил. Не о том, что я слишком часто поддавался соблазну, а о том, что слишком долго и жестоко сопротивлялся ему.
Я играл с отчаянием. Душа человека не поспевает за ним, вот почему я готов допустить, что она живет дольше него. Она всегда немного отстает от той жизни, что мы ведем в данную минуту. Я только начинал понимать смысл той глубинной музыки, мелодии радости и необузданного желания, которую в себе душил. Я свел свою душу к одной-единственной мелодии, жалобной и монотонной; я превратил свою жизнь в тишину, в которой мог звучать только псалом. Но вера моя не так сильна, дорогая, чтобы ограничиться лишь псалмами; и если я в чем-то раскаиваюсь, то только в собственном раскаянии. Звуки, Моника, расположены во времени, как формы — в пространстве, и пока музыка не умолкнет, она отчасти устремлена в будущее. Есть для импровизатора что-то волнующее в том, какую следующую ноту выбрать. Я начал понимать, что такое свобода искусства и жизни, которые развиваются, повинуясь только собственным законам. Ритм следует нарастанию внутреннего смятения, и, когда сердце бьется слишком быстро, его отголосок ужасен. В инструменте, в котором я на два года заточил все, что было мной самим, теперь рождалась песня не о жертвоприношении, не о желании, даже не о близкой радости — о ненависти. О ненависти ко всему, что так долго искажало, уничтожало меня. С каким-то злорадным удовольствием я думал о том, что Вы слышите мою игру из своей комнаты. Я говорил себе, что других признаний и объяснений не понадобится.
И вот в эту самую минуту я увидел свои руки. Они лежали на клавишах две голые руки, без перстней, без обручального кольца, и я словно бы увидел перед собой мою вдвойне живую душу. Мои руки (я могу говорить о них — ведь это мои единственные друзья) показались мне вдруг удивительно чувственными; даже оставаясь неподвижными, они словно бы прикасались к тишине, исторгая из нее звуки. Они отдыхали, еще чуть подрагивая в ритме и храня в себе все будущие жесты, подобно тому, как клавиатура хранила в себе все дремлющие пока звуки. Эти руки когда-то обвивались вокруг других тел в краткой радости объятий, нащупывали на звучных клавишах форму невидимых нот, осязали в потемках контуры спящего тела. Часто я поднимал их вверх в молитве; часто соединял их с Вашими руками, но об этом они теперь не помнили. Это были безымянные руки, руки музыканта. Они были моими посредниками, — благодаря им, через музыку, я причащался бесконечности, которую мы склонны называть Богом, и, через ласки, соприкасался с жизнью других. Это были безвестные руки, бледные, как слоновая кость клавиш, на которых они лежали, — ведь я лишал их солнца, работы и радости. И все-таки то были верные служанки: они кормили меня тогда, когда музыка давала мне хлеб насущный; и я начинал понимать, что есть красота в том, чтобы жить своим искусством, ведь это освобождает нас от всего, что лежит за его пределами. Мои руки, Моника, освободили меня от Вас. Я снова мог протягивать их без помех, мои освободительницы-руки открывали передо мной дверь, через которую я мог уйти. Быть может, друг мой, глупо рассказывать все, но в тот вечер я, как бы скрепляя договор с самим собой, неловко поцеловал обе свои руки. Я лишь бегло упомяну о последующих днях, ибо то, что я тогда чувствовал, касается и волнует меня одного. Я предпочитаю хранить про себя мои интимные воспоминания, потому что с Вами я могу говорить о них лишь с осторожностью, похожей на стыд, а если я буду изображать раскаяние — я солгу. Нет чувства слаще, чем поражение, когда сознаешь, что оно окончательное: в Вене, в эти последние солнечные дни осени я познал восторг обретения собственного тела. Тела, которое излечило меня от присутствия души. Вы видели во мне только страхи, сомнения, укоры совести, собственно, даже не моей совести, а совести других людей, которой я руководствовался. Я не сумел или не посмел сказать Вам ни того, какое пламенное восхищение вызывает во мне красота и тайна тела, ни того, что, отдаваясь, каждое из них словно одаривает меня частицей юности человечества. Жить трудно, мой друг. Я построил слишком много моральных теорий, чтобы не строить теперь других, противоречащих им, и притом противоречивых: я слишком разумен, чтобы воображать, будто счастье покоится только на краю греха: порок, как и добродетель, не способен подарить радость тому, кто не носит их в самом себе. И все же я предпочитаю грех (если это грех) отречению от самого себя, граничащему с безумием. Жизнь сделала меня таким, какой я есть, пленником (если угодно) инстинктов, которых я не выбирал, но с которыми я примиряюсь в надежде, что это согласие принесет мне пусть не счастье, но ясность духа. Дорогая моя, я всегда считал, что Вы способны все понять, а этот дар встречается куда реже, чем способность все простить.
А теперь я говорю Вам: «Прощайте». С бесконечной нежностью думаю я о Вашей женской, или, скорее, материнской, доброте — я покидаю Вас с сожалением, но завидую Вашему ребенку. Вы — единственная, перед кем я чувствовал себя виноватым, но, описывая свою жизнь, я утвердился в самом себе, и теперь, сожалея о Вас, не осуждаю себя слишком строго. Я Вас предал, но я не хотел Вас обманывать. Вы принадлежите к тем, кто из чувства долга всегда выбирает самую тесную и трудную стезю: я не хочу взывать к Вашей жалости и тем самым дать Вам предлог продолжать жертвовать собой. Не сумев жить в согласии с обычной моралью, я постараюсь хотя бы жить в согласии с собой: когда отбрасываешь все принципы, следует вооружиться щепетильностью. Я принял на себя по отношению к Вам неосторожные обязательства, которые опрокинула жизнь; со всем доступным мне смирением я прошу Вас простить меня не за то, что я Вас покидаю, а за то, что так долго оставался с Вами.
Лозанна, 31 августа — 17 сентября 1928 годаПримечания
1
Луи Бурдалу (1632–1704), Жан-Батист Массийон (1663–1742) — французские проповедники. (Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)2
Пьер-Амбруаз-Франсуа Шодерло де Лакло (1741–1803) — французский романист, автор знаменитого романа «Опасные связи».
(обратно)3
Эта эклога, воспевающая однополую любовь, представляет собой монолог пастуха Коридона о его безответной любви к юному Алексису.
(обратно)4
В русском переводе «Трактат о тщетности желаний».
(обратно)5
Юлия фон Шарпантье — невеста немецкого поэта-романтика Новалиса. Графиня Тереза Брунсвик — приятельница Бетховена; по некоторым предположениям, именно ее композитор называл своей «бессмертной возлюбленной».
(обратно)

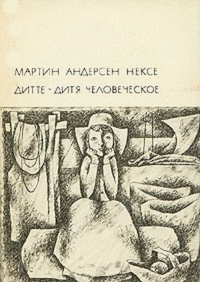

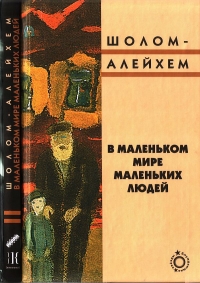
Комментарии к книге «Алексис или Рассуждение о тщетной борьбе», Маргерит Юрсенар
Всего 0 комментариев