Бернард Маламуд Помощник
От издательства
Автор книги Бернард Маламуд, американский писатель, родился в 1914 году в Бруклине, в семье еврейских иммигрантов. Преподавал в Орегонском колледже и в Гарварде.
Его первый роман «Прирожденный мастер» (1952), повествующий о карьере молодого спортсмена, его взлете и падении, продемонстрировал умение автора сочетать реалистическое описание деталей быта с элементами условности и фантастики. Пользуясь разными стилистическими приемами, автор добивается библейски-возвышенной интонации, повествуя о вещах, казалось бы, довольно заурядных. О понятиях же возвышенных он говорит иногда самым простым языком. Слава к Маламуду пришла только в 1957 году, после выхода в свет его второго романа «Помощник» и сборника рассказов «Волшебный бочонок» (1958), за который ему была присуждена премия Пулицера.
Произведения Б.Маламуда отмечены глубоким психологизмом и бескомпромиссностью в изображении конфликта между героем и окружением; сострадание и боль все время прорываются сквозь мудрую и горькую иронию. С неповторимой виртуозностью и мастерством он (наподобие Сола Беллоу и Генри Рота) использует своеобразный диалект английского языка в сочетании с идиш, присущий иммигрантам из Восточной Европы в США. В его произведениях характеры потомков бывших «местечковых» евреев, эмигрировавших в Америку, вырисовываются ярче и образнее, чем у кого-либо из предшествовавших ему американских писателей. Однако при всем своеобразии тематики и стиля, при всем национальном колорите языка его героев, творчество Маламуда развивается в традициях лучших образцов классической американской прозы 19–20 вв. и ставит его имя в один ряд с именами лучших прозаиков современной американской литературы.
Маламуд пишет о неустроенности быта и жизни «маленького человека», о трагедии изгнанника. Его повествование окрашено печальным еврейским юмором, который порой переходит в язвительную сатиру. В своем романе «Помощник» автор с особой любовью рисует образ бакалейщика-шлимазела Морриса Бобера, который так и не смог «выбиться в люди», но остался честным человеком; взаимоотношения между евреями и неевреями показаны на примере любви итальянца Фрэнка, который в конце повествования выполняет обряд обрезания и становится евреем, и Элен, дочери Морриса Бобера.
Перу Маламуда принадлежат романы: «Новая жизнь» (1961) — автобиографическое повествование о времени, проведенном в Орегонском колледже: сатирическая картина нравов современного провинциального колледжа, история незадачливого, непрактичного преподавателя; «Наладчик» (1966, Национальная премия по литературе и премия Пулицера) — роман написан по мотивам знаменитого процесса по делу Бейлиса, сфабрикованного царской охранкой. Сборники новелл: «Дорогу идиотам» (1963), «Картины Фидельмана» или «Выставка» (1969) и др.
Помощник
Судя по времени, могло бы уже светать, но на улице было еще совсем темно, а ветер — чего Моррис Бобер никак не ждал в первых числах ноября — пронимал до костей. Бакалейщик нагнулся за ящиком с молочными бутылками, и ветер тут же залепил ему лицо передником. Моррис, отдуваясь, подтащил тяжеленные ящики к двери. У входа в лавку уже стоял коричневый мешок со сдобными булочками, а рядом ожидала седая полька с кислой физиономией: пришла за булочкой.
— Почему так поздно? — спросила она.
— Десять минут седьмого, — сказал бакалейщик.
— Холодно сегодня, — пожаловалась полька.
Моррис отпер дверь и впустил покупательницу в лавку. Обычно он втаскивал молоко и первым делом включал газовый камин. Но сейчас у него над душой стояла полька. Моррис высыпал содержимое мешка в проволочную корзину на прилавке, выбрал булочку посвежее, разрезал ее пополам и, обернув белой вощеной бумагой, протянул польке. Женщина сунула булочку в плетеную сумку и положила на прилавок три цента. Моррис отбил покупку на старом, гулко позванивающем кассовом аппарате, сложил и спрятал мешок из-под булочек, втащил в лавку ящики, составил бутылки с молоком на дно холодильника. Включив отопление в передней комнате лавки, он перешел в заднюю комнату, чтобы там тоже зажечь газ. Потом сварил кофе в почерневшем эмалированном кофейнике и принялся запивать булочку, хотя вкуса ее он не чувствовал. Покончив с завтраком, Моррис прибрал за собой и стал ждать Ника Фузо, который снимал у Боберов верхний этаж; Ник работал автомехаником в гараже по соседству. Каждое утро, в семь, Ник спускался, чтобы купить ветчины на двадцать центов и буханку хлеба.
Как раз около семи входная дверь открылась, но вошел не Ник, а девочка лет десяти с худым, изможденным лицом и лихорадочно блестевшими глазами. Моррис был не в восторге от ее появления.
— Мама спрашивает, — затараторила девочка, — не можете ли вы в кредит до завтра дать фунт масла, буханку ржаного хлеба и бутылочку уксуса?
Моррис прекрасно знал, что за птица мать этой девочки.
— Все! Никаких кредитов, — сказал он.
Девочка заплакала.
Моррис дал ей четверть фунта масла, хлеб и уксус. На обшарпанном прилавке, подле кассового аппарата, там, где бакалейщик отмечал должников, он против записи «пьянчужка» проставил сумму, на которую отпустил девочке продуктов. Вместе с прежним она задолжала ему уже два доллара и три цента, и, конечно же, не видать ему этих денег, как своих ушей. Но Ида будет его пилить, если увидит, что он опять продает в кредит «пьянчужке», и, подумав, Моррис переправил цифру на 1 доллар 61 цент. Собственный покой — если у него был еще хоть какой-нибудь покой — дороже сорока двух центов.
После этого Моррис удалился в заднюю комнату, сел в кресло перед круглым деревянным столом и принялся, то и дело высоко поднимая брови, заново изучать еврейскую газету, которую успел прочитать еще вчера. Время от времени он вскидывал голову и поглядывал на незастекленный проем в стене, разделявшей лавку на две комнаты: вдруг кто-нибудь войдет? Когда-то не раз бывало так, что оторвешься от газеты, а у прилавка, глядь, — уже стоит покупатель, ждет, когда его обслужишь.
Теперь же здесь было сумрачно и пусто, и вообще все помещение напоминало не столько лавку, сколько длинный, темный туннель.
Бакалейщик вздыхал, думая о том, что дела идут хуже некуда. Если уж времена плохие, так они-таки да плохие. Полный застой, когда словно бы даже время стоит на месте, распространяя запах гнили.
Какой-то работяга заскочил за банкой норвежских сардин «Король Оскар».
И снова ждать. За двадцать один год в лавке почти ничего не изменилось, если не считать того, что Моррис дважды красил стены и прилавок да пристроил новые полки. Вместо двух старомодных окошечек столяр прорубил на фасаде одно большое окно. Лет десять назад обвалилась вывеска, а завести другую Моррис так и не удосужился. Было время, что дела шли получше, и тогда он купил себе шикарную белую стойку-холодильник вместо прежней, деревянной. Новая стойка красовалась рядом со старым замызганным прилавком, и Моррис частенько облокачивался на нее, глядя в окно. Все прочее как было, так и осталось. Когда-то Моррис больше всего выручал на деликатесах, но теперь и деликатесы не шли, и вообще это была всего-навсего жалкая бакалейня.
Прошло полчаса, прежде чем Моррис понял, что Ник Фузо уже не явится. Тогда Моррис встал и примостился у выходящего на улицу окна, в котором стояла реклама пива, наклеенная на кусок картона, — единственная реклама в Моррисовой витрине. Прошло еще сколько-то времени, парадная дверь отворилась, и из нее все-таки вышел Ник в толстом зеленом свитере ручной вязки. Он рысцой пробежал за угол и вскоре вернулся с бумажным кульком в руке. Моррис все еще стоял и глазел в окно, так что его хорошо было видно с улицы. Ник заметил, что Моррис на него смотрит, и быстро отвернулся. Он со всех ног побежал к дому, притворяясь, что озяб и спешит укрыться от колючего ветра. За ним громко стукнула парадная дверь.
Бакалейщик по-прежнему глядел в окно. Иногда ему хотелось опять, как в детстве, чуть не весь день дышать свежим воздухом, а не сидеть в четырех стенах, — но там, на улице, бушевал неистовый ветер, и бакалейщику было страшно. Если б ему удалось продать лавку! Только кто ж ее купит? Впрочем, Ида надеется, что покупатель еще придет. Она всегда на что-то надеется. Вспомнив об Иде, Моррис невесело усмехнулся, хоть ему было и не до смеха. Продать лавку — дело безнадежное, так что об этом и думать нечего. А все же бывает, что Моррис нальет себе иной раз чашку кофе, расслабится и с удовольствием помечтает о том, как отделается от этой лавки. Ну, а вдруг сотворится чудо, и он умудрится продать лавку, — так куда же ему тогда деваться? Он поежился, представив, что у него нет крыши над головой — а мало ли какая погода бывает на дворе: и дождь, и снег, и мороз, долго ли простудиться! Моррис уже не помнил, когда он последний раз пробыл день под открытым небом — так давно это было! Ну, в детстве, конечно, он целыми днями гонял по грязным ухабистым деревенским улицам и окрестным полям, вместе с другими пацанами купался в речке; но взрослым — уже в Америке — он редко видел над головой небо. Правда, в молодости, когда он подрабатывал извозом, ну, тогда — да, но с тех пор, как связался с этой лавочкой, с тех пор — нет. Сидел в своей лавке как замурованный.
Тем временем подкатил на своем грузовичке молочник, вылез из кабины и — грузный, как бык — ввалился в лавку, чтобы взять пустые бутылки. Вынес ящик с бутылками и вернулся забрать полпинты сливок. Затем мясник Отто Фогель, немец с пушистыми усами, притащил засаленную корзину с ливерной колбасой и копчеными сосисками. За колбасу Моррис расплатился наличными — никаких одолжений от немца! — от сосисок же отказался, и Фогель их унес. На хлебном фургоне подъехал булочник — какой-то новенький, Моррис прежде его не видел, — обменял три черствых батона на свежие и, ничего не сказав, исчез. Явился кондитер Лео, мельком взглянул на коробку с тортом, что лежала на стойке, и сказал:
— Пока, Моррис, я в понедельник загляну.
Моррис не ответил.
Лео помялся.
— Что, дела неважнецкие?
— Да уж хуже некуда.
— Ну, так до понедельника.
Молодая хозяйка из соседнего дома купила бакалеи на шестьдесят три цента; другая — еще на сорок один. Так Моррис заработал сегодня первый доллар.
Брейтбарт, разносчик лампочек, опустил на землю две огромные коробки со своим товаром и робко заглянул в заднюю дверь.
— Заходи! — пригласил Моррис.
Он вскипятил чай и налил два граненых стакана, бросив в каждый по ломтику лимона. Брейтбарт устроился в кресле, не сняв пальто и шляпы, и начал прихлебывать горячий чай; кадык его судорожно двигался.
— Как дела? — спросил бакалейщик.
— Так себе, — Брейтбарт пожал плечами.
Моррис вздохнул и спросил:
— Как твой парень?
Брейтбарт рассеянно кивнул и углубился в еврейскую газету. Минут через десять он, почесываясь, встал, взвалил связанные шпагатом коробки с лампочками на свои узкие, сутулые плечи и ушел.
Моррис проводил его взглядом.
Всем на свете плохо. У всякого свой шмерц. Уж он-то знал это.
К обеду Ида сошла вниз. Она уже прибрала весь дом.
Моррис стоял рядом с облезлой кушеткой, глядя в окно, выходившее на задний двор. Он думал об Эфраиме.
Ида увидела, что у него в глазах блестят слезы.
— Ты перестанешь или нет, наконец?
А у самой глаза тоже на мокром месте.
Моррис подошел к раковине, набрал холодной воды в ладони и сполоснул лицо.
— Итальянец ходил сегодня в лавку напротив, — сказал он, вытираясь полотенцем.
Ида вскинулась.
— Ты даешь ему пять комнат за двадцать девять долларов, и за это он еще плюнет тебе в лицо!
— Там ведь нет горячей воды, — напомнил Моррис.
— Но ты установил газовое отопление!
— А кто сказал, что он плюет? Я этого не говорил.
— Ты что, нагрубил ему?
— Я?
— Так чего же он пошел в лавку напротив?
— Чего? Спроси у него! — разозлился Моррис.
— Сколько заработал сегодня?
— А, ерунду.
Она отвернулась. Моррис рассеянно чиркнул спичкой и зажег сигарету.
— Перестань курить! — прикрикнула Ида.
Моррис быстро затянулся, потушил сигарету и спрятал окурок в карман брюк, под передник. От дыма он закашлялся. Кашлял надсадно, и лицо его покраснело, как спелый помидор. Ида заткнула уши. Наконец, Моррис отхаркался и вытер носовым платком губы, потом глаза.
— Опять сигареты! — с горечью сказала Ида. — И почему ты не слушаешь, что тебе говорит доктор?
— А ну его! — отмахнулся Моррис.
Тут он заметил Идино платье.
— Что за праздник сегодня?
— Я подумала, а вдруг покупатель явится, — неуверенно ответила Ида.
В ее пятьдесят один год — на девять лет моложе Морриса — голова у нее была почти без седины. Но лицо — все в морщинах, и ноги ныли, если подольше стоять на них, хоть она и ходила теперь в туфлях со специальными пластинками. Сегодня она проснулась, опять негодуя на мужа за то, что когда-то он заставил ее переехать сюда из еврейского квартала, где они раньше жили. До сих пор скучала она по тогдашним друзьям, ей не хватало тогдашних ландслойте — и все это ради парносе, которой они так-таки и не дождались. Одного этого было бы уже достаточно, но мало того, что они здесь совсем одни, так вдобавок еще вечно думай о том, где взять денег, чтобы свести концы с концами. Она тоже отчасти виновата во всех этих цорес, но старалась не вспоминать об этом и срывала свою злость на муже; а ведь кто же, как не она, убедил мужа пойти в бакалейную торговлю, когда он учился в вечерней школе и хотел идти учиться на фармацевта? Его всегда трудно было в чем-либо убедить; но раньше ей это хоть как-то удавалось, а теперь — ни в какую.
— Покупатель… — пробормотал Моррис. — Явится твой покупатель, когда рак свистнет…
— Оставь свои шуточки. Карп звонил ему.
— Карп звонил? — насмешливо переспросил Моррис. — Хотел бы я знать, откуда он мог звонить?
— Отсюда.
— Когда?
— Вчера. Пока ты спал.
— И что же он ему сказал?
— Что продается лавка — твоя, значит, — по дешевке.
— Что значит по дешевке?
— Такая лавка, как у тебя, вообще ничего не стоит. Оборудование старое, ветхое, ему грош цена в базарный день. Ну, тысячи три, а то и меньше.
— Я же сам платил четыре!
— Двадцать один год назад, — отрезала Ида. — Ну не продавай, пусти с молотка.
— Он и дом тоже купит?
— Не знаю. Карп говорит, что может быть.
— Да врет он все! Ну, подумай сама: за три года человека четыре раза грабили, а ему все жалко денег, чтобы поставить себе телефон. Не верь ни одному его слову. Когда портной уехал, он обещал не сдавать его лавку бакалейщику. И кому же он ее сдал? Именно бакалейщику. Так зачем он ищет теперь мне покупателей? Почему он лучше не отшил того немца, который открыл бакалейную там, за углом?
Ида вздохнула.
— Теперь он хочет тебе помочь, потому что ему жаль тебя.
— Кому нужна его жалость? И вообще кому он сам нужен?
— А почему у тебя не хватило ума сделать из своей бакалеи винную лавку, когда давали разрешение?
— А где у меня были деньги на спиртное?
— Ну, если денег нет, так сиди и помалкивай!
— Тоже мне бизнес — пьянчуг обслуживать!
— Бизнес есть бизнес. Карп за один день имеет больше, чем мы за две недели.
Тут Ида спохватилась, что перегнула палку, и поспешила переменить тему.
— Почему ты пол не натер?
— Забыл.
— Я же специально тебя просила. Был бы уже сухой.
— Ну так высохнет немного позже.
— А позже придут покупатели, пол еще не подсохнет, и разведут тут грязь.
— Какие покупатели! — закричал Моррис. — Где они? Кто сюда придет?
— Хватит, — спокойно сказала Ида. — Пойди наверх и поспи. Я сама натру.
Моррис взял банку с мастикой и принялся натирать ею пол до влажного блеска. Ни один человек так и не зашел в лавку.
Тем временем Ида сварила суп.
— Элен сегодня ушла без завтрака.
— Значит, есть не хотела.
— Ее что-то беспокоит.
— Интересно, о чем ей беспокоиться? — спросил он с усмешкой.
За этой иронией таилось: «О лавке, о моем здоровье, о том, что ее грошовое жалованье уходит на оплату дома? Или о том, что хотела поступить в колледж, а вместо этого пришлось поступить на работу, которая ей не по душе? Как никак она дочь своего отца, чего же удивляться, что ей по утрам не до еды?»
— Хоть бы замуж вышла, — пробормотала Ида.
— Успеется!
— Да, конечно, — Ида еле удерживалась от слез.
Он хмыкнул.
— Интересно, что это Нат Перл больше не заходит? — снова заговорила Ида. — Все лето ходили как влюбленная пара, водой не разольешь.
— А, дурака валяли!
— Подожди, он еще станет богатым адвокатом.
— Не нравится он мне.
— И Луис Карп тоже заглядывается на Элен. Могла бы дать ему хоть какой-то шанс.
— Дурак твой Луис, — сказал Моррис, — точь-в-точь его папочка.
— Да, да, все на свете дураки, один только Моррис Бобер такой умный!
Он безучастно глядел на задний двор.
— Поешь и пойди ляг, — нетерпеливо сказала Ида.
Он съел суп и пошел наверх. Почему-то подниматься по лестнице было легче, чем спускаться. Войдя в спальню, он вздохнул и опустил на окнах тяжелые, черные шторы. Он уже клевал носом и предвкушал, как сладко поспит сейчас. Сон действовал на него поистине освежающе. Моррис снял передник, галстук и брюки, положил все это на стул. Сидя на краешке широкой скрипучей кровати, он расшнуровал стоптанные ботинки и скользнул под холодные простыни в рубашке, кальсонах и белых носках. Уткнулся лицом в подушку и ждал, пока согреется. Но не успел он задремать, как на верхнем этаже Тесси Фузо включила пылесос, и хотя бакалейщик старался не думать о том, что случилось утром, он не мог забыть, как Ник пошел за покупками к немцу, поэтому и не спалось ему теперь.
Он вспомнил, что и раньше бывали худые времена, но теперь — хуже, чем когда бы то ни было: прямо невозможно, жить стало. У него всегда так было — то густо, то пусто: сегодня отбою нет от покупателей, а завтра — хоть шаром покати. За какой-нибудь день он мог иной раз потерять столько, что хоть гевалт кричи, но потом обычно все помаленьку налаживалось, и казалось, что так будет и всегда — не то, что он богатеем станет, но и по миру, слава Богу, не пойдет. Когда он купил лавку, это был хороший район, тут приличные люди жили; только потом они начали переселяться отсюда, а понаехала всякая шантрапа; ну, и дело, конечно, тоже стало хиреть. И все-таки еще год тому назад, не закрывая лавку от зари до зари, вкалывая по шестнадцать часов в сутки, без выходных, он ухитрялся зарабатывать на жизнь. Конечно, какая это жизнь? Но все-таки живет человек, и ладно! А теперь, работая точно так же и еще больше выматываясь, он совсем на грани разорения. Раньше, даже в худые времена, он как-то всегда умудрялся выкарабкаться, а когда наступало доброе время, оно наступало и для него. А теперь — с тех пор, как десять месяцев назад появился напротив, за углом, этот Г.Шмитц, ему, Моррису, совсем житья не стало.
В прошлом году разорившийся бедняк-портной, у которого всего и было, что больная жена, закрыл свою мастерскую и уехал с глаз долой, зато Моррис начал с беспокойством поглядывать на запертую дверь. Дом принадлежал Карпу, и Моррис пошел к нему и попросил, чтобы тот, когда будет сдавать помещение, сдал его кому угодно, только не другому бакалейщику. На такой район, как этот, и одного бакалейщика за глаза достаточно. Если появится еще один, то оба хоть с голоду подохни. Карп ответил, что квартал не так уж плох, как думает Моррис («Еще бы, ты ведь шнапсом торгуешь!» — подумал бакалейщик), однако обещал, что поищет другого портного или, может быть, сапожника. Так он сказал, но Моррис ему не верил. Впрочем, время шло, а мастерская портного пустовала. И хоть Ида смеялась над его страхами, у Морриса все время было сердце не на месте. А однажды — он все время этого ждал — в пустой витрине появилось объявление, что скоро тут откроется магазин деликатесов и бакалейных товаров.
Моррис кинулся к Карпу.
— Ну, что ты делаешь? Ты же меня без ножа режешь!
Виноторговец только пожал плечами.
— Так ты же сам видел, как долго она пустовала. А кто будет за меня налоги платить? Но ты не беспокойся, он собирается торговать все больше деликатесами, а ты бакалею продавай. Погоди, еще и у тебя от него покупателей прибавится.
Моррис только застонал: он знал, что его ждет.
Однако день шел за днем, а лавка все стояла пустая, и Моррис начал уже было надеяться, что так будет всегда. Может быть, новый бакалейщик передумал? Что тут удивительного? Увидел, что вокруг беднота живет, вот и не осмелился открыть вторую бакалейную. Морриса так и подмывало спросить у Карпа, верна ли его догадка, но все не мог решиться, чтобы вновь не испытать такое же унижение.
Иногда, вечером, заперев свою лавку, Моррис, пугливо озираясь, пробирался за угол и смотрел на пустую витрину. Внутри было темно, а рядом сияла огнями аптека, и если на улице никого не было, то бакалейщик прилипал к стеклу пытаясь разглядеть, не изменилось ли что-то там, внутри. Два месяца лавка стояла закрытой, и всякий раз Моррис возвращался домой успокоенный. А затем однажды — между прочим, ему еще раньше показалось, будто Карп его почему-то избегает, — Моррис увидел, что заднюю стенку бывшей портняжной мастерской покрыла паутина новехоньких полок; и в эту минуту все его тайные надежды пошли прахом.
Через несколько дней полки были водружены и на остальные стены, а вскоре все помещение засияло свежей краской. Моррис пытался заставить себя не ходить и не смотреть, как продвигается ремонт будущей лавки, но все же нет-нет да и пробирался вечером поглядеть, что там творится. Он оценивал то, что сделано, а потом подсчитывал, сколько долларов он от этого потеряет. Каждый день в помещении появлялось какое-нибудь новшество — то сверкающий никелем прилавок, то громадный холодильник новейшей марки, то лампы дневного света, то свежепокрашенные стеллажи для фруктов, то хромированный кассовый аппарат. А затем оптовики навезли горы всевозможных коробок и деревянных ящиков всех размеров. И, наконец, при свете ламп дневного света появился в лавке незнакомец — сухопарый немец с типично немецкой прической «помпадур» и стал проводить в лавке долгие вечера, засиживаясь иной раз заполночь: попыхивая трубкой, он распаковывал и симметрично расставлял рядами банки, бидоны, кувшины, сверкающие бутылки с яркими наклейками. И как ни проклинал Моррис новую лавку, она ему до того нравилась, что когда он входил в свое обшарпанное заведение, ему становилось противно. И он понимал, почему сегодня утром Ник Фузо побежал туда, за угол: Нику хотелось полюбоваться чистотой и никелированным блеском нового магазина, хотелось, чтобы его обслужил сам Генрих Шмитц, энергичный, деловитый немец, одетый, словно доктор, в ослепительно белую парусиновую куртку. И туда же повадились ходить многие из его бывших покупателей, так что и без того мизерные Моррисовы доходы урезались на добрую половину.
Моррис пытался заснуть, но только беспокойно ерзал и ворочался в постели. Промаявшись так минут пятнадцать, он хотел было одеться и сойти вниз, в лавку, но тут в его сознание — не вызвав ни боли, ни горечи, а принеся даже какое-то облегчение, — вошел образ его сына Эфраима, о котором Моррис давно уже не вспоминал; и тогда он забылся сном, глубоким и спокойным.
Элен Бобер, стиснутая на скамейке вагона метро какими-то двумя женщинами, дочитывала очередную главу, когда стоявший перед ней мужчина исчез, а его место занял кто-то другой. Даже не подняв головы, Элен поняла, что это — Нат Перл. Она хотела как ни в чем не бывало читать дальше, но не смогла — и закрыла книгу.
— Хэлло, Элен!
Затянутой в перчатку рукой Нат дотронулся до полей новехонькой, с иголочки, шляпы. Он был, как всегда, приветлив, но за этой приветливостью скрывалось нечто — его блестящее будущее. Под мышкой он держал толстую книгу по юриспруденции, так что Элен вполне могла укрыться от него за собственной книгой. Но нет, то было плохое укрытие: Элен вдруг осознала, что шляпка и пальто на ней поношенные (непонятный ход мысли — ведь раньше ей это не мешало).
— «Дон Кихот?»
Элен кивнула.
Он уважительно взглянул на нее и понизил голос:
— Я давно тебя не видел. Где ты прячешься?
Она покраснела даже под одеждой.
— Надеюсь, я тебя ничем не обидел?
Женщины, сидевшие по обеим сторонам от нее, словно оглохли. Одна из них держала в больших, тяжелых руках четки.
— Нет, — в ее голосе звучала обида на себя.
— Так что же ты дуешься? — Нат говорил негромко, но в его серых глазах отразилось раздражение.
— Я не дуюсь, — пробормотала она.
— Так в чем же дело?
— Ты — это ты, а я — это я.
Он помедлил с минуту, обдумывая ее слова, затем ответил:
— Я не оракул, чтобы разгадывать загадки.
Но, впрочем, она высказалась достаточно ясно.
Он попробовал подойти к ней по-другому:
— Бетти про тебя спрашивала.
— Передай ей привет.
Не это она хотела сказать, и фраза прозвучала смешно: они жили в одном квартале, через дом.
Не зная, как поддержать разговор, он раскрыл свой фолиант. Она снова взялась за «Дон Кихота», чтобы отвлечься от своих мыслей выходками безумца, но нахлынули воспоминания, и она опять ощутила себя отброшенной в прошедшее лето, которого лучше бы вовсе не было, хотя в общем она любила лето. Но как можно зачеркнуть то, что не только случилось летом, но и повторилось осенью, — что она делала, сама того не желая? Она рассталась со своей девственностью без колебаний и жалоб, и сама удивлялась, почему ее мучит совесть; а может быть, это было просто разочарование и досада оттого, что, как оказалось, ею дорожили меньше, чем она ожидала. Просто Нату Перлу — записному красавцу с квадратным подбородком, талантливому и честолюбивому — хотелось с кем-нибудь переспать без больших хлопот; а она им увлеклась и подчинилась ему, и потом жалела. Жалела не о том, что отдалась ему, а что так долго обольщалась, будто она ему дорога, а по сути дела ему от нее нужна была лишь маленькая услуга, а вовсе не сама она, Элен Бобер.
Да и почему, собственно, она должна быть нужна ему? Кто она такая? Он окончил колледж с отличием, теперь — студент Колумбийского университета, уже на втором курсе юридического факультета. А она? Всего-навсего школу кончила, да еще год посещала вечерний курс в колледже, где получила какой-то жалкий зачет по литературе. У Ната — блестящее будущее, богатые друзья, которым он, кстати, так и не удосужился ее представить; а у нее за душой ни цента — о чем сразу можно догадаться по ее несолидной, смешной фамилии — и никаких видов на будущее. Она не раз спрашивала себя, не слишком ли много требует от него за то, что позволила ему лишить себя невинности. И всегда отвечала: нет. Ей недоставало какого-то признания, а главное — уважения к тому, кто дает то, что у него есть; и она надеялась, что простое желание перерастет во что-то большее. Ей хотелось просто какого-то будущего в любви. Наслаждение — это она получила, ее трогала и увлекала свобода интимных отношений с мужчиной. Этого-то она хотела бы еще и еще — но только без таких осложнений, как муки совести, или уязвленная гордость, или чувство понапрасну принесенной жертвы. И она обещала себе, что в следующий раз все будет по-другому: сначала взаимная любовь, а потом уже постель — тогда, может быть, прибавится нервотрепки, но зато вспоминать об этом будет легче. Так она рассуждала; но вот как-то вечером в сентябре она пришла навестить его сестру Бетти и оказалась одна в квартире вместе с Натом, и там снова сделала то, чего поклялась не делать. А потом ненавидела себя и боролась со своим чувством. С того вечера и до сегодняшнего дня она избегала Ната Перла, хотя и не говорила ему, в чем дело.
За две остановки до той, где ей с Натом нужно было выходить, Элен закрыла книгу, молча встала и вышла из вагона. Стоя на платформе, пока поезд проносился мимо, она на мгновение увидела Ната: он все еще стоял возле пустого места, с которого она только что встала, и продолжал читать. Элен пошла прочь, разбитая, несчастная, чувствуя, что чего-то ей недостает, чего-то не хватает.
Выйдя из метро, она через боковой вход вошла в парк и, хотя дул леденящий ветер, а пальтишко у нее было воздухом подбитое, направилась к дому кружным путем. Голые деревья нагоняли тоску. Элен подумала о предстоящей долгой зиме и о том, как одиноко ей будет, и пожалела, что пошла этой дорогой. Она вышла из парка и быстро зашагала по Парквею, вглядываясь в лица прохожих, хотя ей было неприятно, когда те тоже глядели на нее. На ходу она с завистью поглядывала на освещенные окна особняков, которые — она знала это — не для нее, хоть и непонятно, почему. Элен поклялась себе, что будет экономить каждый цент, лишь бы следующей осенью поступить на вечернее отделение Нью-Йоркского университета.
Подойдя к своему кварталу — ряду облезлых кирпичных домов, где вторые этажи нависали над ветхими древними лавчонками, — она увидела Сэма Перла: подавляя зевоту, Сэм устанавливал фонарь в витрине своей кондитерской, находившейся в угловом доме. Элен ускорила шаги. Сэм, бывший шофер такси — полный, всегда приветливый, в толстых очках, неизменно жующий жвачку — радушно улыбнулся ей, но она сделала вид, что не заметила. Сэм Перл чуть ли не все время проводил, склонившись над стойкой, на которой, рядом с аппаратом для содовой воды, было разостлано расписание заездов на ипподроме, и огрызком карандаша делал какие-то пометки рядом с кличками лошадей. Лавкой своей он совсем не занимался, всю торговлю свалил на свою жену Голди — дюжую, широкоплечую женщину; но она не жаловалась, потому что Сэму чертовски везло на скачках, так что он мог свободно платить за Ната в университет, пока тому не удалось добиться стипендии.
В лавке за углом сквозь заставленную бутылками витрину, залитую светом неоновой надписи «КАРП: ВИНА, КРЕПКИЕ НАПИТКИ», она увидела самого Джулиуса Карпа — пузатого, с кустистыми бровями и большим ртом; он сдувал воображаемую пыль с какой-то бутылки, прежде чем ловко опустить ее в бумажный мешок; а рядом стоял Луис, его пучеглазый сын и наследник — он подстригал ногти и, время от времени поднимая голову, с видимым удовольствием следил за отцом. Карпы, Перлы и Боберы, жившие бок о бок и державшие лавки по соседству, были еврейским островком в этом квартале гоев. Сначала ее отец, за ним Карп, а потом и Перл переселились зачем-то в этот квартал, где поблизости больше не было евреев. Поначалу у всех троих дела шли так, что хоть с моста в реку, не было денег даже на то, чтобы переехать куда-нибудь в место получше, но потом Карпа осенила блестящая идея: когда отменили сухой закон и стало проще с лицензиями на торговлю спиртным, Карп занял у своего седобородого богатого дядюшки крупную сумму и вложил ее в винную лавку. Ко всеобщему изумлению, лицензию ему без волокиты выдали — хотя, когда его спрашивали, как это ему удалось, он закатывал глаза и темнил. И как только дешевую обувь в его лавке заменили дорогие бутылки с яркими наклейками, дела Карпа круто пошли в гору — несмотря на то, что в округе жила сплошная беднота (а может быть, думала Элен, как раз поэтому). Карп переселил свою дородную супругу из убогой квартирки над лавкой, с окнами на линию надземки, в роскошный особняк на Парквее с гаражом на две машины; с тех пор миссис Карп из этого особняка, кажется, ни разу даже не вылезала. И когда Карпу привалила удача, он заделался — как выражался Моррис Бобер — большим умником.
А вот бакалейщику удача никогда не приваливала, у него бывали лишь разные степени неудачи; удача если и не враждовала с ним, то, по крайней мере, и дружбы с ним не водила. Он часто корпел в лавке с утра до поздней ночи, — честная душа: обмануть кого-то было для него равносильно потрясению всех устоев бытия, — он в то же время доверял всем, кому только не лень было обвести его вокруг пальца; он ничего ни от кого не хотел и становился лишь все беднее и беднее. Чем больше он работал, — а работа была для него времяпровождением, поглощавшим все его время, — тем, казалось, беднее он становился. Он был Моррис Бобер — просто трудолюбивый и бессловесный, как бобер, — и не мог стать никем и ничем более солидным. Человеку с такой фамилией, очевидно, на роду написано не нажить никакого добра, а если каким-то чудом и заиметь хоть что-то, так только для того, чтобы каждодневно бояться потерять то, что заимел. И в итоге в шестьдесят лет у Морриса Бобера было меньше, чем когда-то в тридцать. Для того, чтобы дойти до жизни такой, подумала Элен, нужен особый талант.
Войдя в лавку, Элен сняла шляпку.
— Это я! — крикнула она, как привыкла с детства, давая знать тому, кто сидит в задней комнате, чтобы тот спокойно продолжал сидеть и не думал, будто вот сейчас он разбогатеет.
Моррис долго спал днем и проснулся раздраженный, с тяжелой головой. Он оделся, провел беззубой расческой по волосам и тяжело заковылял вниз — грузный, усталый человек со сгорбленными плечами и всклокоченной седой шевелюрой. Он спустился уже в переднике. Хотя ему было зябко, Моррис нацедил себе чашечку холодного кофе и стал медленно его потягивать, прислонясь к газовому камину. Ида сидела за столом и читала.
— Ты чего даешь мне так долго спать? — упрекнул он жену.
Ида не ответила.
— Газета свежая или вчерашняя?
— Вчерашняя.
Моррис вымыл чашку и поставил ее на крышку газовой плиты. Войдя в лавку, он нажал на кассовом аппарате клавишу «откл.» и вынул из ящика пятицентовую монету. Потом поднял крышку аппарата, чиркнул спичкой о нижнюю доску прилавка и, прикрывая ладонью огонек, посмотрел на цифру, показывающую сегодняшний заработок. Ида наторговала на три доллара. Да при таких доходах кто может позволить себе и газету-то покупать?
Тем не менее, он отправился за газетой, сам сомневаясь, доставит ли она ему хоть малейшее удовольствие. Стоит ли вообще читать, что происходит в мире? Проходя мимо лавки Карпа, Моррис посмотрел через окно, как Луис обслуживает покупателя, а у прилавка толпятся, ожидая своей очереди, еще четверо. Дер ойлем из а гоилем! Моррис взял со стенда газетного киоска сегодняшний номер «Форвертс» и опустил пять центов в ящик из-под сигар. Сэм Перл, изучавший зеленую афишку с расписанием заездов, помахал Моррису рукой. Они никогда не разговаривали. Что Моррис знал про скачки? А что знал Сэм про то, как тяжело иной раз живется человеку? Голова у него была не столько светлая, сколько крепкая.
Бакалейщик вернулся в лавку, прошел в заднюю комнату и сел на кушетку, повернувшись так, чтобы со двора падал на газету серый сумеречный свет. И пока он пробегал газету близорукими, широко расставленными глазами, мысли его витали далеко-далеко, и долго читать он не смог.
— Ну, где твой покупатель? — спросил он Иду, отложив газету.
Она безучастно глядела через проем на переднюю комнату лавки и не ответила.
После минутной паузы она сказала:
— Тебе давно уже надо было продать лавку.
— Пока лавка хороша была, кому хотелось продавать ее? А как стала плохой, кто захочет ее купить?
— Что бы мы ни делали, все делаем слишком поздно. И лавку тоже во-время не продали. Я тебе говорила: «Моррис, пора продавать лавку». А ты говорил: «Успеется». Ну и что? Дом мы купили слишком поздно; теперь у нас такая задолженность по закладной, что мы не можем выплачивать каждый месяц. Я тебе говорила: «Моррис, не покупай, сейчас плохие времена». А ты говорил: «Купим, времена будут лучше, мы сэкономим на квартирной плате».
Моррис не ответил. Если уж не успел во-время сделать то, что нужно, так говори, не говори — все без толку.
Вошла Элен, спросила, был ли покупатель. Она совсем забыла об этом, но сейчас вспомнила, увидев мамино платье.
Она открыла сумочку, достала чек на свое жалованье и вручила отцу. Бакалейщик, не сказав ни слова, сунул чек под передник.
— Еще нет, — смущенно ответила Ида дочери. — Наверно, придет позже.
— Лавку не ходят покупать на ночь глядя! — сказал Моррис. — Лавку ходят покупать днем, когда видно, много ли покупателей. Если этот человек придет, он в два счета увидит, что лавка — как мертвая, и сразу убежит.
— Ты обедала? — спросила мать у Элен.
— Да.
— Что ты ела?
— Мама, я не собираю коллекцию обеденных меню.
— Садись, ужин готов.
Ида зажгла газовую плиту и поставила чайник.
— Почему ты думаешь, что он придет сегодня?
— Карп сказал, что у него есть знакомый иммигрант, который хочет купить лавку. Он работает в Бронксе, так что будет здесь поздно.
Моррис покачал головой.
— Это молодой человек, — продолжала Ида, — ему лет тридцать или тридцать два. Карп говорит, что он скопил капельку денег. Так он что-нибудь тут изменит, купит новый товар, сделает ремонт, устроит все по-современному, немножко рекламы — и будет у него приличное свое дело.
— Чтобы Карпу так жить, как это сбудется, — сказал бакалейщик.
— Давайте ужинать, — сказала Элен, садясь за стол.
— Я потом, — отозвалась Ида.
— А ты, папа?
— Я не голоден.
Моррис снова взялся за газету.
Элен принялась за еду одна. Было бы чудесно, если бы удалось в самом деле продать лавку и уехать отсюда, но это казалось ей несбыточной мечтой. Если так долго — собственно говоря, всю жизнь, не считая первых двух лет, — жить на одном и том же месте, то за один день никуда не переедешь.
Покончив с ужином, Элен встала из-за стола и хотела помочь матери вымыть посуду, но Ида не подпустила ее к раковине.
— Иди, отдыхай, — сказала она.
Элен взяла свои вещи и поднялась наверх.
Ей осточертела эта обшарпанная пятикомнатная квартира, особенно серая кухня, где она по утрам второпях проглатывала завтрак перед тем, как бежать на работу. Гостиная тоже выглядела тусклой, облезлой; несмотря на то, что была вся заставлена старомодной мебелью двадцатилетней давности, она казалась пустой, потому что в ней редко кто-нибудь бывал: родители семь дней в неделю копошились в лавке, и даже редкие гости, которые к ним заглядывали, предпочитали оставаться в задней комнате. Иногда Элен приглашала к себе кого-нибудь из подруг, и та поднималась наверх, в гостиную; однако Элен старалась поменьше бывать дома и предпочитала сама ходить в гости. Ее спальня была еще хуже гостиной — крошечная, темная, несмотря на стенной проем шириной в два и длиной в три фута, через который можно было видеть окна гостиной. А по вечерам Моррис и Ида должны были проходить через ее спальню, чтобы попасть к себе, а потом еще раз, чтобы попасть в ванную. Несколько раз заходил разговор о том, чтобы отдать Элен большую комнату — единственную удобную в квартире, — но больше нигде не вместилась бы родительская двуспальная кровать. А пятая комната — просто чулан под лестницей — была холодной, как ледник: Ида хранила там старые вещи, мебель и всякое барахло. Вот так они и жили. Однажды Элен, рассердившись, крикнула, что жить в такой квартире — это тихий ужас, и потом у нее долго было гадко на душе из-за того, что отцу и без того плохо, а она еще подливает масла в огонь.
На лестнице послышались тяжелые, медленные шаги Морриса. Он, сам не зная зачем, вошел в гостиную и плюхнулся в жесткое кресло, пытаясь устроиться поудобнее. Глаза у него были печальными, но он ничего не говорил — так всегда бывало, когда ему хотелось что-то сказать.
Когда Элен с братом были детьми, то по крайней мере в еврейские праздники Моррис запирал лавку и возил их в еврейский театр на Второй авеню — смотреть спектакль на идиш, или же приглашал каких-нибудь знакомых всей семьей в гости. Но после того, как Эфраим умер, Моррис редко ходил дальше соседнего перекрестка. Когда Элен думала о своей жизни, она всегда с горечью ощущала, как много теряет.
«Она похожа на маленькую птичку, — подумал Моррис. — Почему ей надо быть такой одинокой? Ведь это же только посмотреть, какая красавица! Ну, у кого еще такие синие глаза?»
Он порылся в кармане брюк и вынул пятидолларовую бумажку.
— Возьми, — сказал он, поднимаясь с кресла и смущенно протягивая ей деньги. — Тебе нужны туфли.
— Ты мне только что внизу дал пять долларов.
— Ну, и вот еще пять.
— Папа, в среду ведь было первое число.
— Я не могу забирать все твои деньги.
— Ты не забираешь. Я сама даю.
Она заставила его спрятать пять долларов. Он сунул их обратно в карман, но ему было стыдно.
— Что я когда-либо дал тебе? Из-за меня ты даже колледж бросила.
— Ты тут ни при чем, я сама решила бросить; но, может быть, я опять поступлю в колледж. Кто может знать?
— Ну, как ты поступишь? Тебе двадцать три года.
— Ты же сам говорил, что учиться никогда не поздно.
— Девочка моя, — вздохнул он. — О себе я не забочусь, но чтоб ты была счастлива, вот чего я хочу; а что я тебе дал?
— Я все дам себе сама, — улыбнулась Элен. — Ничего еще не потеряно.
Это должно было его успокоить. Он все еще верил в ее будущее.
Перед тем, как спуститься вниз, Моррис мягко сказал:
— Почему ты теперь все больше сидишь дома? Ты поссорилась с Натом?
— Нет, — ответила Элен, покраснев. — Просто, по-моему, у нас разные взгляды на жизнь.
Он не решился уточнить, что она имеет в виду.
Спускаясь по лестнице, он встретил Иду и понял, что она идет говорить с Элен на ту же тему.
Вечером в лавку вдруг повалили покупатели. Моррис повеселел, стал обмениваться любезностями с клиентами. Грустно улыбаясь, вошел Карл Йенсен, швед-художник, которого Моррис не видел уже несколько недель, — взял на два доллара пива, холодной грудинки и тонко нарезанного шведского сыра. Сперва бакалейщик боялся, что Йенсен попросит в долг — он никогда не платил того, что был должен, и Моррис закрыл ему кредит, — но нет, художник рассчитался наличными. Миссис Андерсон, старая надежная покупательница, купила продуктов на доллар. Затем появился какой-то незнакомый Моррису человек — оставил в лавке восемьдесят восемь центов. После него пришло еще двое покупателей. Моррис приободрился, он ощутил крошечный прилив надежды. Может быть, дай-то Бог, дела начинают поправляться. Но вот после половины девятого снова наступило затишье, и у Морриса заломило в руках от безделья. Уже много лет он был единственным в округе бакалейщиком, который держал лавку открытой по вечерам, до поздней ночи, и при этом едва-едва зарабатывал на жизнь. А теперь вот еще и Генрих Шмитц наносил ему поражение за поражением, и что останется от его жалких доходов, один Бог знает. Моррис закурил и тут же закашлялся. Ида наверху постучала чем-то тяжелым по полу; Моррис оторвал горящий кончик сигареты и спрятал окурок. Почему-то ему было не по себе; он подошел к окну и стал смотреть на улицу. Мимо проехал фургон. Прошел мистер Лоулер, когда-то постоянный покупатель, который по пятницам брал продуктов не меньше, чем на пять долларов. Моррис не видел его уже месяца два или три, но знал, куда мистер Лоулер идет сейчас; а тот, заметив Морриса в окне, поспешно отвернулся и прибавил шагу. Моррис следил за ним, пока тот не исчез за углом. Затем Моррис опять зажег спичку и проверил выручку: девять с половиной долларов; это не окупало даже расходов.
Парадная дверь открылась, и в лавку заглянула тупая физиономия Джулиуса Карпа.
— Подольский приходил?
— Какой такой Подольский?
— Иммигрант.
— Какой иммигрант? — спросил Моррис с раздражением.
Что-то буркнув, Карп вошел и притворил за собой дверь. Он был маленького роста, самодовольный и одет не по возрасту франтовато. Когда-то он, так же как и Моррис, маялся с утра до ночи в своей обувной лавчонке, а теперь, глядите-ка, весь день разгуливает по своей квартире в шелковой пижаме, пока перед ужином не наступит пора сменить Луиса. Несмотря на бесчувственность и нечуткость коротышки Карпа, Моррис раньше довольно легко с ним ладил, но с тех пор, как Карп сдал мастерскую портного другому бакалейщику, дело доходило до того, что они с Моррисом иной раз просто не разговаривали друг с другом. Когда-то, давным-давно, Карп проводил долгие часы в задней комнатке бакалейной лавки, сетуя на свою бедность, как будто бедность была каким-то новейшим изобретением, а Карп — первой в мире жертвой этого изобретения. Но по мере того, как Карп богател на продаже спиртного, он все реже и реже заходил к Моррису; а теперь заделался таким толстосумом, что если и заходил, так разве только для того, чтобы оглядеть лавку и дать какой-нибудь дурацкий непрошеный совет. Входным билетом для него была удача, которая так и шла к нему отовсюду, куда он только мог дотянуться, — а ведь кто-то от этого, небось, терял свое последнее. Однажды какой-то пьяный хулиган швырнул Карпу в окно камнем, а выбил стекла ему, Моррису. В другой раз Сэм Перл намекнул виноторговцу, на какую лошадь стоит поставить, а сам это сделать забыл, и Карп загреб на свою десятку целых пятьсот долларов. Много лет бакалейщик подавлял в себе недоброе чувство к Карпу, убеждая себя не питать к человеку злобу лишь за то, что он удачлив; но недавно Моррис поймал себя на том, что желает Карпу какой-нибудь небольшой напасти.
— Подольский — это тот, кого я звал посмотреть на твой гешефт, — ответил Карп.
— А что, этот иммигрант, враг он тебе, или что?
Карп бросил на Морриса неприязненный взгляд.
— Да разве, — гнул свое Моррис, — да разве кто-нибудь посоветует другу покупать вот такую лавку после того, как сам же и сделал, чтобы эта лавка горела синим огнем?
— Подольский — это тебе не ты, — ответил виноторговец. — Я ему все сказал про твой бизнес. Я ему сказал: «Квартал становится лучше, квартал становится зажиточней». Я сказал: «Ты можешь купить по дешевке и устроить хорошую лавку. Уже много лет торговля не идет, потому что двадцать лет ничего здесь не менялось».
— Дай Бог тебе прожить столько лет на свете, сколько я менял в своей лавке! — начал было Моррис, но не окончил, потому что Карп неожиданно повернулся к окну и стал озабоченно вглядываться в темную улицу.
— Видел серую машину, что сейчас проехала? — спросил виноторговец. — Я уже третий раз за последние двадцать минут вижу, как она тут проезжает.
У него в глазах мелькнула тревога.
Моррис знал, чего он боится.
— Так поставь у себя в лавке телефон, — посоветовал Моррис, — и будет тебе спокойнее.
Карп с минуту смотрел на улицу, потом ответил все еще взволнованным тоном:
— Никак нельзя держать телефон при винной лавке в таком квартале. Не успеешь завести себе телефон, как все пьяные бродяги станут заказывать выпивку по телефону, а когда принесешь заказ такому, оказывается, у него ни гроша в кармане.
Карп открыл было дверь, намереваясь уйти, но вспомнил что-то еще.
— Слушай, Моррис, — сказал он, понизив голос. — Если они снова проедут, так я запру парадную дверь и погашу свет. А потом крикну тебе через заднее окно, и ты сразу же звони в полицию.
— Это обойдется тебе в пять центов, — мрачно сказал Моррис.
— За мной не пропадет.
Все еще обеспокоенный, Карп вышел из лавки.
«Боже, благослови Джулиуса Карпа, — подумал Моррис. — Без него я жил бы слишком легкой жизнью. Так Бог создал Джулиуса Карпа, чтобы бедный бакалейщик никогда не забывал, какую жизнь он имеет. Из-за Карпа жизнь каким-то чудом кажется не такой уж и трудной, но чему тут завидовать? Да ну его со всеми его бутылками и его гелт, не надо мне ничего этого, только не быть таким, как Карп. Разве жизнь и без того не достаточно плохая?»
В половине десятого какой-то незнакомец зашел купить коробок спичек. Через пятнадцать минут Моррис погасил свет в витрине. Улица была как вымершая, только напротив, у прачечной, стояла какая-то машина. Моррис пригляделся: в машине было пусто. Он хотел закрыть лавку и идти спать, но потом решил подождать еще четверть часа. Иной раз покупатель заходил даже около десяти вечера. Десять центов — это десять центов, они тоже на земле не валяются.
У боковой двери, ведущей в прихожую, послышался шум, и Моррис почувствовал некоторое беспокойство.
— Ида?
Дверь медленно отворилась. Вошла Тесси Фузо, одетая в домашний жакет, — невзрачная большелицая итальянка.
— У вас уже закрыто, мистер Бобер? — спросила она застенчиво.
— Входите, — сказал Моррис.
— Простите, что я через заднюю дверь, но я не одета, а так не хотелось выходить на улицу.
— Ничего, ну что вы!
— Пожалуйста, дайте мне на двадцать центов ветчины, Нику на завтрак.
Он все понял. Она этим как бы просила у него прощения за то, что утром Ник побежал к Шмитцу. Моррис прибавил лишний ломтик ветчины.
Тесси купила еще кварту молока, пачку бумажных салфеток и батон. Когда она ушла, Моррис поднял крышку кассового аппарата. Десять долларов.
«Всю жизнь трудился, как раб, и все впустую», — подумал он.
Тут он услышал сзади голос Карпа. Усталый бакалейщик прошел в заднюю комнату, поднял окно и высунулся наружу.
— В чем дело? — крикнул он.
— Звони в полицию, — прокричал в ответ Карп. — Напротив на улице машина.
— Какая машина?
— Налетчики!
— Машина пустая, я сам видел.
— Рада Бога, говорю тебе, звони в полицию. Я оплачу звонок.
Моррис закрыл окно. Он достал телефонную книгу, нашел номер и хотел уже было звонить, но услышал, что дверь в передней комнате отворилась, и поспешил туда.
Около прилавка стояли двое; их лица до самых глаз были обвязаны носовыми платками — у одного грязно-желтым, у другого белым. Мужчина с белым платком начал выключать свет. Моррису потребовалось добрых полминуты, чтобы сообразить, что налет не на Карпа, а на него.
Моррис сидел у стола в задней комнате, тусклый свет запыленной лампочки падал ему на голову; он тупо глядел на лежавшие перед ним несколько скомканных бумажек, в том числе чек с жалованьем Элен, и небольшую горку серебра. Налетчик в грязно-желтом платке — толстый, обрюзгший, в ворсистой черной шляпе — махал перед Моррисом пистолетом; на прыщеватом лбу у него выступили капельки пота; время от времени его бегающие глазки вглядывались через проем в затемненную лавку. Другой налетчик, высокий, в поношенной кепке и кедах, прислонился к раковине, чтобы унять дрожь, и чистил спичкой ногти. Позади него над раковиной висело на стене потрескавшееся зеркало, и он то и дело оборачивался, чтобы взглянуть в него.
— Черт побери меня, если это вся твоя выручка! — сказал толстый налетчик неестественно хриплым голосом. — А ну, гони остальное!
У Морриса началась резь в животе, он не мог сказать ни слова.
— Ну, говори, гад!
Толстяк нацелился пистолетом прямо в рот Моррису.
— Времена худые, — прошептал бакалейщик.
— Врешь, жидовская морда!
Налетчик у раковины поманил толстого рукой. Они сошлись на середине комнаты, и налетчик в кепке склонился к уху налетчика в шляпе и зашептал ему что-то на ухо.
— Нет! — угрюмо отозвался толстый.
Его напарник нагнулся еще ниже и стал что-то доказывать.
— Говорю тебе, он их прячет! — огрызнулся толстый. — Он у меня их выложит, как миленький, хоть бы мне пришлось раскроить его проклятую башку!
Налетчик подошел к столу и наотмашь ударил Моррис по лицу.
Моррис застонал.
Высокий неторопливо взял чашку, налил в нее воды и поднес к губам Морриса; часть питья расплескалась по переднику.
Моррис попытался глотнуть воды, но ему удалось всосать лишь несколько капель. Он испуганно искал взгляд высокого, но тот смотрел в сторону.
— Прошу вас! — прошептал бакалейщик.
— Пошевеливайся! — сказал налетчик с пистолетом. Высокий выпрямился, сам выпил воду, сполоснул чашку и поставил ее на полку буфета.
Затем он стал шарить среди чашек и тарелок: вытащил из нижней части буфета несколько кастрюль, торопливо перерыл ящики стоявшего в комнате старого бюро, затем, опустившись на четвереньки, заглянул под кушетку. Пройдя в лавку, он вынул пустой ящик кассового аппарата и засунул руку в щель, но там тоже ничего не нашел.
Возвратясь в кухню, он взял толстого под руку и снова что-то настойчиво зашептал ему. Толстый отстранил его локтем.
— Нам лучше сматываться.
— Несолоно хлебавши?
— У него больше ни хрена нет, черт с ним!
— Покупатели не ходят, — пробормотал Моррис.
— Это твой жидовский зад в сортир не ходит, понял?
— Не трогайте меня!
— В последний раз спрашиваю: куда ты их упрятал?
— Я бедный человек, — прошептал Моррис, с трудом шевеля потрескавшимися губами.
Толстый поднял пистолет. Высокий, глядя в зеркало расширенными глазами, взмахнул рукой, пытаясь упредить толстого, но удар уже обрушился на Морриса; на какое-то мгновение ему стало жаль себя, своих несбывшихся надежд, бесконечных разочарований, долгих лет, ушедших псу под хвост — уж и не упомнить, скольких лет. Он когда-то так много ждал от Америки и так мало получил. А из-за него Элен и Ида получили еще меньше. Он обманул их — он и эта проклятая лавка.
Он упал без крика. Этот день как начался, так и кончился плохо. Такой уж он невезучий — все у него не как у людей.
Всю неделю, что Моррис лежал в кровати с туго забинтованной головой, Ида хозяйничала в лавке. Двадцать раз на дню она поднималась наверх и спускалась вниз, так что к вечеру ноги у нее гудели, а голова раскалывалась на части от всех забот. В субботу, а потом и в понедельник Элен осталась дома, чтобы помочь матери, но больше не могла пропускать работу, и Иде, которая ела от случая к случаю и совершенно вымоталась, пришлось на целый день закрыть лавку, хотя Моррис сердито протестовал. Он говорил, что совершенно не нуждается в уходе, и просил, чтобы она поработала хоть полдня, иначе они, того и гляди, потеряют последних покупателей, которые еще оставались, но Ида сказала, что нет, у нее нет больше никаких сил и страшно болят ноги. Бакалейщик попытался подняться с постели и натянуть брюки, но приступ отчаянной головной боли снова свалил его в постель.
Во вторник, когда лавка была закрыта, в квартале появился какой-то незнакомый парень, который только и делал, что торчал на углу Сэма Перла и ковырял во рту зубочисткой, глазея на прохожих, или же прохаживался взад и вперед по кварталу вдоль ряда лавок, от кондитерской Перла до бара на дальнем углу улицы. Выпив раз-другой в баре пива, он заворачивал за угол и шел вдоль высокого забора, что огораживал угольный склад, до следующего угла, а затем возвращался к кондитерской. Иной раз он подходил вплотную к закрытой лавке Морриса и, прикрывая ладонями глаза, вглядывался в окно, а затем вздыхал, отходил и снова шел до кондитерской. Вдоволь находившись вдоль лавок, он снова заворачивал за угол или бродил еще где-нибудь по соседству.
Элен приклеила к окну, рядом с парадной дверью, бумагу, на которой написала, что отец ее нездоров, но лавка откроется в среду. Незнакомый парень долго и внимательно изучал эту надпись. У него была черная бородка, одет он был в поношенную, давно не чищенную коричневую шляпу потрескавшиеся ботинки из хорошей кожи и длинное черное пальто, которое выглядело так, будто его никогда не снимают. Парень был высокого роста и недурен собой, но его нос был сбит набок, и лицо казалось слегка перекошенным. Глаза у него были печальные. Порой он сидел, задумавшись, в кондитерской Сэма Перла около аппарата для содовой воды, покуривая дешевые сигареты, которые он вытряхивал одну за другой из мятой пачки. Сэм, повидавший на своем веку немало чудаков, которые появлялись в квартале и снова исчезали, не обращал на парня никакого внимания, но вот Голди, после того, как он однажды просидел в кондитерской целый день, заявила: что чересчур — то чересчур, не комнату же он у нас снял! Сэм заметил, что у парня, видать, что-то стряслось, он то и дело вздыхает и бормочет про себя, как потерянный. Однако Сэм ему не досаждал: мало ли что, у каждого свои цорес. А порой парень вдруг казался повеселевшим, даже довольным, словно у него гора с плеч свалилась. Он просматривал журналы, лежавшие у Сэма, слонялся по округе и, возвращаясь в Сэмову лавку, закуривал новую сигарету и открывал книгу в бумажной обложке, взятую с полки. Сэм подносил ему кофе, когда он просил, и парень, выкуривая сигарету до того, что она чуть не обжигала ему губы, тщательно отсчитывал пять центов. Хотя никто его ни о чем не спрашивал, все уже знали, что его зовут Фрэнк Элпайн и что он недавно приехал с Запада попытать счастья. Сэм посоветовал ему получить профессиональные права, и тогда он сможет устроиться шофером, это неплохая работа. Парень согласился, что да, это дело стоящее, но все продолжал слоняться по кварталу, словно чего-то выжидая. Сэм сказал, что у парня, видать, заскоки.
В тот день, когда Ида открыла бакалейную лавку, парень исчез, но назавтра снова явился в кондитерскую, устроился у прилавка и попросил кофе. Вид у него был усталый, измученный, лицо бледное, особенно по контрасту с черной нечесанной бородкой. Он шмыгал носом, и голос у него был хриплый. «Да ты выглядишь так, что краше в гроб кладут, — подумал Сзм. — Один Бог знает, в какой дыре ты провел ночь!»
Потягивая кофе, Фрэнк Элпайн открыл журнал, лежавший на прилавке, и задержал взгляд на цветном рисунке, изображавшем какого-то монаха. Он поднял чашку, но снова опустил ее на блюдце и минут пять внимательно смотрел на картинку.
Сэм любопытства ради прошел за спиной у Фрэнка со шваброй, чтобы взглянуть, что его так заинтересовало. На картинке был изображен худой, узколицый монах с черной бородкой, в грубой коричневой сутане; он стоял босиком на залитой солнцем проселочной дороге, и его обветренные волосатые руки были подняты к небу, к стае птиц, пролетавшей у него над головой. На заднем плане виднелась какая-то роща, а за ней — блестевший на солнце церковный шпиль.
— Это, вроде бы, какой-то священник, — осторожно сказал Сэм.
— Нет, это Святой Франциск Ассизский, — ответил Фрэнк. — Это видно по его коричневой сутане и всем этим птицам. Когда я был пацаном, к нам в приют приходил старый падре, и каждый раз он нам читал какой-нибудь рассказ из жизни Святого Франциска. Я как сейчас их помню.
— Рассказы — это рассказы, — заметил Сэм.
— Я никогда не забуду их.
Сэм повнимательнее пригляделся к рисунку.
— Проповедует птицам? Он что, чокнутый? Я, конечно, не хочу сказать ничего худого…
Парень улыбнулся еврею.
— Он был великий человек. Это ведь надо набраться смелости — проповедовать птицам.
— Он и великим стал потому, что проповедовал птицам?
— Не только. Например, он отдал бедным все, что у него было, до последнего гроша, даже одежду. Ему нравилось быть бедным. Он говорил, что нищета — это королева, и он любит ее, как прекрасную женщину.
Сэм покачал головой.
— Ничего тут прекрасного нет, сынок. Бедность — это паршивая штука.
— А он смотрел на мир по-иному.
Сэм снова бросил взгляд на Святого Франциска, затем ткнул швабру в темный угол. Фрэнк пил кофе, продолжая смотреть на рисунок.
— Каждый раз, когда я читаю о таком человеке, как он, — сказал Фрэнк, — мне кажется, что я должен за что-то бороться, а то совсем раскисну. Он родился, чтобы делать добро, а это большой дар, не всякому он дается.
Фрэнк говорил смущенно, и это смущало и Сэма.
Фрэнк допил кофе и ушел.
В тот вечер, проходя мимо лавки Морриса, он заглянул в открытую дверь и увидел Элен, которая помогала матери. Она подняла голову и заметила, что Фрэнк на нее смотрит. Его наружность произвела на нее впечатление: глаза у него были загнанные, голодные, грустные. Ей показалось, что он хочет войти и попросить милостыню, и она уже решила дать ему десять центов, но вместо этого он двинулся прочь и исчез.
В пятницу, в шесть утра, Моррис, пошатываясь, спустился по лестнице, и Ида, ругаясь, спустилась следом. Пока он был болен, она открывала в восемь, и умоляла его делать то же самое, но он решительно заявил, что должен продать польке ее булочку.
— Что, получить три цента за какую-то паршивую булочку тебе дороже, чем час поспать? — спросила Ида.
— Кто сейчас может спать?
— Доктор сказал: тебе нужен отдых.
— В могиле мне будет отдых!
Ида пожала плечами.
— Пятнадцать лет, — сказал Моррис, — она покупает тут булочку, так пусть покупает и дальше.
— Ладно, тогда я сама открою. Дам я ей твою булочку, иди, ляг в постель.
— Я уже належался в постели! Мне от этого только хуже!
Однако, польки не было, и Моррис забеспокоился: не дай Бог, она пошла к немцу. Ида хотела во что бы то ни стало втащить ящики с молочными бутылками и угрожала, что если он вздумает их таскать, то она устроит гвалт на всю улицу. Она загрузила бутылки в холодильник. Пришел Ник Фузо, и после этого они больше часа ждали следующего покупателя. Моррис сидел у стола с газетой, изредка поднимая руку и притрагиваясь к повязке на голове. Когда он закрывал глаза, у него все еще кружилась голова. К полудню он с удовольствием взобрался наверх, лег в постель и не вставал, пока не пришла Элен.
На следующее утро он добился того, что Ида сдалась и позволила ему открыть лавку одному. Полька была уже там. Он не знал, как ее зовут. Она работала где-то в прачечной, и у нее была собачка по кличке Полечка. По вечерам, приходя домой с работы, она брала Полечку и выгуливала ее по кварталу. Собачка любила свободно бегать по двору угольного склада. Полька жила в каком-то из домов по соседству. Ида называла ее «ди антисемитке», но Морриса это не трогало. То был антисемитизм, который полька привезла с собой из Старого света, — какой-то другой, совсем не тот антисемитизм, какой бывает в Америке. Иногда ему казалось, что она нарочно хочет его уязвить, когда спрашивает «еврейскую булочку», а раз или два она со странной улыбкой попросила «еврейских маринованных огурцов». Обычно же она ничего не говорила. В это утро Моррис продал польке ее неизменную булочку, и она ничего не сказала. Даже не спросила, почему у Морриса забинтована голова, хотя ее быстрые, проницательные глаза с интересом скользнули по повязке; не спросила она и о том, почему лавка целую неделю была закрыта. Но вместо трех центов положила на прилавок шесть. Он подумал, что в один из дней, когда лавка была закрыта, она сама взяла булку из мешка. Он пробил на кассовом аппарате шесть центов.
Продав булочку, Моррис вышел на тротуар взять ящики с молоком. В ящиках были словно не бутылки, а камни, поэтому Моррис поставил один ящик на землю и попытался поднять другой, но в глазах у него потемнело и в голове набухло какое-то облако величиной с дом; Моррис зашатался и едва не упал, но неожиданно кто-то поддержал его. Это был Фрэнк Элпайн: он ухватил Морриса за плечи и ввел в лавку. Затем втащил ящики и поставил бутылки в холодильник. Покончив с этим, он вошел в заднюю комнату. Моррис, который слегка оправился, с чувством поблагодарил его.
Фрэнк хриплым голосом сказал, глядя на свои тяжелые, покрытые шрамами руки, что он здесь недавно и живет у своей замужней сестры. Он приехал с Запада и теперь ищет какую-нибудь приличную работу.
Бакалейщик предложил ему чашку кофе, и Фрэнк сразу согласился. Сев за стол, он положил шляпу на пол у свои ног и сахару в кофе насыпал три ложки с верхом, чтобы как он сказал, побыстрей согреться. Моррис предложил ему булочку, и Фрэнк жадно впился в нее зубами.
— Господи, — сказал он, — как вкусно!
Кончив, он вытер рот платком, смел со стола крошки в согнутую лодочкой ладонь и, хотя Моррис возражал, вымыл под умывальником чашку и блюдечко, вытер их и поставил на крышку газовой плиты, откуда бакалейщик их взял.
— Большое спасибо за все, — сказал Фрэнк.
Он поднял шляпу, но не двигался.
— Когда-то в Сан-Франциско я месяца два работал в бакалейном отделе, — сказал он. — Но это было в супермаркете большой фирмы, у которой целая сеть магазинов.
— Вот такие фирмы и губят маленького человека.
— Мне лично по душе маленькие лавки. Когда-нибудь я и сам куплю такую.
— Лавка — это тюрьма. Поищите что-нибудь получше.
— По крайней мере, ты сам себе хозяин.
— Когда у хозяина ничего нет, то нечем и хозяйничать.
— А все равно, это неплохо. Только чего мне нужно, так это поднабраться опыта. Разобраться, значит, какие товары есть, какой марки, ну, и все такое прочее. Хорошо бы найти работу в лавке и попривыкнуть к делу.
— Попытайте счастья в фирме «Эй энд Пи», — посоветовал Моррис.
— Может быть.
Моррис замолчал. Фрэнк надел шляпу.
— А что с вами? — спросил он, глядя на Моррисову забинтованную голову. — Несчастный случай?
Моррис кивнул. Ему не хотелось говорить о том, что произошло; Фрэнк был несколько разочарован, но ушел, так ничего и не сказав.
В понедельник, когда Моррис снова мучился над ящиками, Фрэнк опять оказался под боком. Он приподнял шляпу и сообщил, что отправляется в город искать работу, но у него есть время и он поможет Моррису с ящиками. Он втащил ящики, загрузил бутылки в холодильник и сразу же ушел. Однако, Моррису показалось, что час спустя Фрэнк прошел мимо лавки в обратном направлении. После обеда, когда Моррис ходил за своим «Форвертсом», он увидел, что Фрэнк сидит в кондитерской и беседует с Сэмом Перлом. На следующее утро в шесть часов Фрэнк снова помог Моррису втащить ящики и благодарно согласился зайти в лавку на чашку кофе, которую ему Моррис с готовностью предложил: он сразу видел, когда человек голоден.
— Как с работой? — спросил Моррис за завтраком.
— Так себе, — сказал Фрэнк, не глядя Моррису в глаза.
Он был возбужден и думал как будто о другом. Каждые несколько минут он ставил чашку на блюдечко и беспокойно озирался. Выражение глаз у него было какое-то измученное, он несколько раз раскрывал рот, но ничего не произносил, словно решив, что говорить не стоит. Казалось, ему обязательно нужно было что-то сказать, на лбу у него выступил пот, зрачки расширились, но он так и не мог решиться выдавить из себя ни слова. Он глядел на Морриса так, словно его сейчас стошнит; но после нескольких безуспешных попыток высказаться он, вроде бы, сдался, и глаза у него потускнели; он глубоко вздохнул и допил кофе. Затем он громко рыгнул, и это его как будто облегчило.
«Что бы ты ни хотел сказать, — подумал Моррис, — скажи это кому-нибудь другому. Я всего лишь бакалейщик».
Он поежился в кресле, со страхом подумав, что ему, кажется, снова становится хуже.
Фрэнк подался вперед и, казалось, готов был заговорить, но лицо его вдруг перекосилось, и тело забил озноб.
Бакалейщик кинулся к газовой плите и налил чашку дымящегося, горячего кофе. Фрэнк проглотил ее в два глотка. Дрожь унялась, но он выглядел жалким, несчастным, как будто, подумал Моррис, вдруг потерял надежду получить то, что страстно хотел иметь.
— У вас грипп? — участливо спросил Моррис.
Фрэнк кивнул, чиркнул спичкой о подошву, зажег сигарету и стал молча курить.
— Паршивая у меня была жизнь, — сказал он вдруг и снова замолчал.
Бакалейщик не ответил. Немного помолчав, он решил, что хорошо бы разрядить гнетущую обстановку, и спросил:
— А где живет ваша сестра? Может, я ее знаю?
— Я не помню точного адреса, — монотонно ответу Фрэнк. — Где-то возле Парка.
— А как ее зовут?
— Миссис Гарибальди.
— Странное имя.
— То есть, как это? — Фрэнк взглянул на Морриса.
— Я имею в виду, кто она по национальности.
— Итальянка. Я итальянец по происхождению. Меня зовут Фрэнк Элпайн, а по-итальянски — Альпино.
Запах сигареты Фрэнка дразнил Морриса, ему безумно хотелось закурить, и он тоже достал сигарету. Моррис думал, что сумеет удержаться от кашля, — но не сумел. Он закашлялся так, что у него, казалось, голова разламывается. Фрэнк с интересом следил за ним. Ида застучала сверху, и Моррис смущенно бросил окурок в мусорное ведро.
— Она не любит, когда я курю, — объяснил он между двумя приступами кашля. — У меня что-то не в порядке с легкими.
— Кто это?
— Моя жена. У меня катар или что-то в этом роде. У моей матери был катар всю жизнь, а она, слава Богу, прожила восемьдесят четыре года. Но в прошлом году мне делали рентген и нашли два очажка. И мою жену это напугало.
Фрэнк молча отложил сигарету.
— Что я хотел сказать про свою жизнь, — проговорил он медленно, с натугой, — так это то, что жизнь у меня была чудная: то есть не чудная, а так какая-то. То есть, мне крепко досталось. Сколько раз, казалось, плывет в руки мне что-то, чего я хотел: например, хорошая работа, или образование, женщины — и в последний момент все срывалось. — Он сидел, крепко зажав руки между коленями. — Не спрашивайте, почему, но рано или поздно все, что я хотел бы иметь, от меня уходит — так или иначе, но уходит. Я работаю, как лошадь, чтобы получить то, что мне хочется, а когда уже кажется, вот оно, близко, я делаю какую-нибудь глупость, и все летит вверх тормашками.
— Только не отказывайтесь от того, чтобы пойти в колледж, — сказал Моррис. — Для молодого человека это самое лучшее дело.
— Я бы мог сейчас уже кончить колледж, но когда мне нужно было пойти учиться, подвернулось что-то другое, и я ухватился за это. Одна глупость влечет за собой другую, а в конце концов понимаешь, что ты в тупике. Хочешь луну поймать, а ловишь кусок сыра.
— Вы еще молоды.
— Мне двадцать пять, — горько сказал Фрэнк.
— Выглядите вы старше.
— Я и чувствую себя старше… Чувствую себя чертовски старым.
Моррис покачал головой.
— Мне иногда кажется, что как начинается жизнь, так она и идет, — продолжал Фрэнк. — Моя мать умерла через неделю после моего рождения. Я никогда не видел ее лица, даже фотографии. Когда мне было пять лет, мой старик вышел из меблированных комнат, где мы с ним жили, пошел купить сигарет, и с тех пор я его не видел. Через год нашли, куда он скрылся, только он к тому времени уже помер. Я рос в приюте, а когда мне было восемь лет, меня отдали на воспитание фермерам. Они были суровые, недобрые, я от них десять раз убегал. Меня взяла другая семья, я и от них убегал. Я часто думаю о своей жизни и говорю себе: «Чего же ты после этого хочешь от нее?» Конечно, иногда встречаются хорошие люди, но их так мало, и они чужие тебе; и кончается тем, что ты снова при том же, с чего начал…
Бакалейщик расчувствовался. Бедняга!
— Я много раз хотел что-то изменить, чего-то добиться, но не знаю, как это сделать. А даже если мне и кажется, что знаю, то на самом деле я все равно ничего не знаю. Мне так хочется сделать что-то, что-то большое, но я даже упомнить всего не могу. — Он помолчал, откашлялся и продолжал. — Это звучит глупо, я понимаю, но все так трудно. Я хочу сказать, что когда мне что-то нужно, у меня обычно не хватает пороху добиться этого, чего-то мне не хватает, и я сам, наверно, в этом виноват. Сколько раз мне снился один и тот же сон: хочу сказать кому-то по телефону что-то злое, обидное, а когда вхожу в будку, там вместо телефона на крючке висит гроздь бананов.
Фрэнк поглядел на бакалейщика, а потом уставился в пол.
— Всю жизнь я хотел сделать что-то стоящее, что-то такое, что нужно людям, да так и не сумел. Может, я слишком непоседлив. Полгода на одном месте — это для меня мука мученическая. И я все хочу получить слишком быстро, не умею ждать. Я не делаю того, что мне нужно делать, вот у меня и нет ничего. Вы меня понимаете?
— Да, — сказал Моррис.
Фрэнк помолчал, потом снова заговорил.
— Я сам себя не понимаю. Не знаю толком, что я тут говорю и почему я вам говорю это.
— Успокойтесь, — сказал Моррис.
— Что может сделать в жизни человек в мои годы?
Он ждал, чтобы Моррис что-нибудь сказал, посоветовал ему, как жить, но бакалейщик молчал. «Мне шестьдесят, — подумал он, — а этот парень говорит то же, что и я».
— Хотите еще кофе? — спросил он.
— Нет, спасибо.
Фрэнк зажег еще одну сигарету и докурил ее до конца. Казалось, он слегка успокоился, как бы чего-то добившись («Чего?» — спрашивал себя Моррис), хотя на самом деле ничего он не добился. На лице у него появилось умиротворенное выражение — почти сонное, но он с хрустом сгибал и разгибал пальцы и молча вздыхал.
«Почему он не идет домой? — подумал бакалейщик. — Я человек рабочий, у меня куча дел».
— Ну, я пошел, — сказал Фрэнк и встал, но не двинулся.
— Что у вас с головой? — спросил он снова.
Моррис пощупал повязку.
— В эту пятницу на меня был налет.
— Они вас ударили?
Моррис кивнул.
— Таких мерзавцев надо расстреливать! — яростно сказал Фрэнк.
Моррис поглядел на него.
Фрэнк потер рукав.
— Вы еврей, да?
— Да, — ответил Моррис, все еще глядя на Фрэнка.
— Мне всегда нравились евреи, — сказал Фрэнк, опустив глаза.
Моррис не ответил.
— У вас есть дети? — спросил Фрэнк.
— У меня?
— Простите за любопытство.
— Дочь, — сказал Моррис, вздохнув. — У меня еще был сын, но он умер от воспаления среднего уха, тогда это еще плохо умели лечить.
— М-да, — сказал Фрэнк сочувственно и шмыгнул носом. — Плохо.
«Ведет себя как джентельмен», — подумал Моррис, и это расположило его к парню.
— А ваша дочь — это та девушка, которая стояла за прилавком на прошлой неделе?
— Да, — сказал бакалейщик, поколебавшись.
— Ну, большое спасибо вам за кофе.
— Хотите бутерброд? А то потом проголодаетесь.
— Нет, спасибо.
Моррис настаивал, но Фрэнк решил, что он сегодня получил от еврея все, что хотел.
Оставшись один, Моррис с тревогой подумал о своем здоровье. Его то и дело поташнивало, нередко болела голова. «Убийцы!» — подумал он, подошел к умывальнику и, глядя в мутное, потрескавшееся зеркало, начал разбинтовывать голову. Он хотел совсем снять повязку, но шрам выглядел уж очень уродливо, это будет неприятно покупателям, и он снова наложил повязку, с горечью вспоминая тот злосчастный вечер: покупатель лавки так и не пришел тогда, и позже он тоже не пришел, и вообще никогда-то он не появится. С тех пор, как Моррис встал с постели, он не разговаривал с Карпом. В ответ на каждое его слово у виноторговца было два, но когда Моррис упорно молчал, Карпу становилось не по себе.
Несколько позднее Моррис поднял глаза от газеты и с удивлением увидел, что кто-то, стоя снаружи, моет шваброй окно его лавки. Он выбежал на улицу, чтобы прогнать незваного доброхота: не раз уже случалось, что мойщик, у которого нет заказов, начинал без спросу мыть чужое окно, а потом требовал плату за работу. Однако, выйдя из лавки, Моррис увидел, что непрошеным окномоем был на этот раз Фрэнк Элпайн.
— Мне хотелось вас как-то отблагодарить, — сказал Фрэнк.
Он объяснил, что одолжил у Сэма Перла ведро, а в мясной лавке рядом — швабру.
Ида из верхних комнат тоже спустилась в лавку и, увидев незваного помощника, заторопилась наружу.
— Ты что, разбогател? — накинулась она на Морриса.
— Он делает мне мицву, — ответил бакалейщик.
— Верно, — подтвердил Фрэнк, водя по стеклу шваброй.
— Войди в лавку, тут холодно.
Внутри Ида спросила:
— Кто этот гой?
— Бедняга-итальянец, ищет работу. Он помогал мне утром с молочными ящиками.
— Тысячу раз я тебе говорила, бери пластмассовые пакеты, и не будет возни с бутылками.
— Пакеты часто текут. Мне больше нравятся бутылки.
— Тебе хоть кол на голове теши… — сказала Ида.
Фрэнк вошел в лавку, дуя на окоченевшие пальцы.
— Ну, как? Хотя по-настоящему нельзя сказать, пока не вымыто изнутри.
— Плати теперь за свою мицву, — вполголоса заметила Ида.
— Ладно, — сказал Моррис. Он подошел к кассовому аппарату и поставил его на «откл.».
— Нет, спасибо, — возразил Фрэнк, предостерегающе протягивая руку. — Это просто услуга за услугу.
Ида покраснела.
— Еще чашку кофе? — спросил Моррис.
— Спасибо, в другой раз.
— Может быть, бутерброд?
— Я только что ел.
Фрэнк вышел из лавки, выплеснул ведро в водосток, отнес ведро и швабру и вернулся в лавку. Он зашел за прилавок и, постучав в притолоку, вошел в заднюю комнату.
— Как вам нравится чистое окно? — спросил он Иду.
— Чистое — это чистое, — ответила она ледяным тоном.
— Я не хотел быть назойливым, но ваш муж был ко мне так добр, и я подумал, что, может быть, я смогу попросить еще об одном маленьком одолжении. Видите ли, я ищу работу и хочу поработать где-нибудь в бакалейной лавке, чтоб набраться опыта. Кто знает, может, это мне понравится? А то я совсем забыл, как резать, взвешивать, и все такое. Вот я и подумал: может быть, вы мне разрешите поработать у вас две-три недели, бесплатно, просто чтоб я поучился, как это делается… Это вам не будет стоить ни цента. Я понимаю, вы меня не знаете, но правда, я не жулик. По-моему, стоит только на меня посмотреть, и это сразу видно. Это по-честному, верно?
— Здесь вам не школа, мистер, — сказала Ида.
— А вы что скажете? — обратился Фрэнк к Моррису.
— Если я кого не знаю, так это еще не значит, что он жулик, — ответил бакалейщик. — Об этом я не беспокоюсь. Что меня беспокоит, так это чему вы здесь научитесь. Одно вот только, — он положил руку на грудь, — плохо у меня с сердцем.
— Вам ведь это ничего не будет стоить, правда, миссис? — обратился Фрэнк к Иде. — Я же понимаю, он все еще плохо себя чувствует, и если я буду помогать неделю или две, он сможет побыстрее поправиться, разве не так?
Ида ничего не ответила.
Но Моррис решительно сказал:
— Нет, это бедная маленькая лавка. Трех человек на нее слишком много.
Фрэнк снял передник с крюка над дверью и прежде, чем кто-нибудь успел произнести хоть слово, он скинул шляпу, надел на себя передник и завязал сзади лямки.
— Ну, как?
Ида опять покраснела.
Моррис приказал Фрэнку снять передник и повесить обратно на крюк.
— Надеюсь, вы не обиделись, — сказал Фрэнк, выходя из лавки.
В осенних сумерках по аллее Кони-Айленда шли рядом, не берясь за руки, Элен Бобер и Луис Карп.
Сегодня Луис остановил Элен перед винной лавкой, когда она шла домой с работы.
— Элен, не хочешь ли прокатиться в моем «меркурии»? Я так редко тебя теперь вижу. В старые добрые школьные дни ты ко мне лучше относилась.
Элен улыбнулась.
— Ах, Луис, это было так давно!
Ее снова охватило чувство сожаления, которое она так старалась в себе подавить.
— Давно или недавно, для меня ты все та же самая.
У него были широкие плечи и узкое лицо, и несмотря на то, что глаза были несколько навыкате, выглядел он импозантно. Когда-то, в школе, он смачивал волосы, чтобы они лучше лежали. Тщательно изучив однажды фотографию известного киноактера в газете «Дейли Ньюс», он сделал себе пробор. Больше он, сколько ей помнится, никогда и никак не менял свою внешность. Если Нат Перл был честолюбив, то Луис жил легко, без претензий, просто стриг купоны с отцовского богатства.
— Как бы там ни было, — предложил он, — почему бы не покататься: тряхнем стариной, вспомним нашу дружбу?
Она поколебалась с минуту, прижала палец в перчатке к щеке; но это был наигранный жест: на самом деле она чувствовала себя слишком одинокой, чтобы отказаться.
— Тряхнем стариной — где?
— Полностью к твоим услугам: выбирай.
— Кони-Айленд?
Он поднял воротник пальто.
— Брр, такая холодина, да к тому же и ветер! Ты хочешь промерзнуть насквозь?
Но видя, что она вот-вот откажется, он быстро добавил:
— Ладно, где наше не пропадало! Когда за тобой заехать?
— Позвони мне сразу после восьми, и я выйду.
— Решено! — сказал Луис. — В восемь.
И вот они шли к Морским Воротам, где кончалась аллея. Элен с завистью смотрела на палисадники больших освещенных домов, выходивших фасадами к океану. На Кони-Айленде было пустынно, только тут и там попадались ресторанчики, где подавали сэндвичи со шницелями, да стояли игорные автоматы. Зонтик розового света, который заливал это место в летние месяцы, исчез, и на небе стали выступать звездочки. На горизонте виднелись очертания большого «чертова колеса», похожего на остановившиеся часы. Они остановились у перил и стали вглядываться в черное, бурное море.
Все время, пока они ехали, а потом шли по парку, Элен думала о своей жизни, о том, как она сейчас одинока и как все было иначе в школьные годы, когда она всегда была окружена подругами и приятелями, проводила лето в оживленной компании ребят на пляже. Но теперь все ее школьные друзья переженились, повыходили замуж и постепенно перестали с ней видеться. А некоторые уже кончили колледж, и Элен им завидовала, ей было совестно, что она ничего не достигла, и самой не хотелось с ними видеться. Сначала было больно терять друзей, но потом она привыкла, и это ее больше не трогало. Теперь она почти никого из них не видела — только иногда встречалась с Бетти Перл; Бетти понимала ее, но не настолько, чтобы это имело для Элен большое значение.
Лицо Луиса раскраснелось от ветра; он чувствовал, в каком она настроении.
— Элен, что тебя угнетает? — спросил он, обняв ее за плечи.
— Трудно объяснить. Весь вечер я думала о том времени, когда мы школьниками резвились на пляже. А помнишь наши вечеринки? Наверно, мне грустно потому, что мне уже не семнадцать лет.
— Ну, и что? Чем плохо, что тебе двадцать три?
— Это уже много, Луис. Жизнь так быстро проходит. Ты знаешь, что такое молодость?
— Конечно! И я не собираюсь от нее отказываться. Я еще достаточно молод.
— У молодого уйма возможностей. С тобой могут произойти самые чудесные вещи: просыпаешься утром и чувствуешь — вот оно! Это и есть юность. А у меня этого больше нет. Теперь я думаю, что каждый новый день — такой же, какой был вчера и, что еще хуже, такой же, как будет завтра.
— Ну, ты уже говоришь как бабушка!
— Чего-то во мне нет.
— А кем ты хочешь стать — наследницей фирмы «Пиво Рейнгольд»?
— Я хочу жить лучше, интереснее, так, чтобы в жизни было что-то значительное. Чтобы у меня были возможности, надежды…
— Например?
Она схватилась за поручень — холод передавался рукам даже сквозь перчатки.
— Образование, — сказала она. — Надежда на что-то интересное. То, чего я хотела, но чего у меня никогда не было.
— И мужчина?
— И мужчина.
Он обхватил ее за талию.
— Стоять и разговаривать так холодно, детка. Может, поцелуемся?
Она легко коснулась его холодных губ и отвернула голову. Он не настаивал.
— Луис, — сказала Элен, глядя на далекий огонек, мерцавший на воде, — чего ты хочешь от жизни?
Он все не отнимал руку.
— Того, что уже есть, плюс…
— Плюс — что?
— Плюс немного больше, так, чтобы моя жена и дети тоже могли хорошо жить.
— А что, если твоей жене захочется чего-то другого, не того же, что и тебе?
— Все, что ей захочется, я охотно предоставлю.
— А если ей захочется стать лучше, расширить свой кругозор, жить более интересно? Жизнь так коротка, и все мы беспомощны перед смертью. У жизни должен быть какой-то высший смысл.
— Я не против, чтобы кто-то становился лучше, — сказал Луис. — Это личное дело каждого.
— Наверно, — сказала Элен.
— Вот что, детка, давай оставим на время философию и пойдем, сжуем по сэндвичу со шницелем. У меня в животе урчит.
— Подождем еще минутку! Я здесь целый век не была в такое время.
Он похлопал себя по рукам.
— Черт, ветрила так под брюки и задувает! Ну, по крайней мере, еще один поцелуй!
Он расстегнул пальто.
Элен позволила Луису поцеловать себя. Он прижался к ее груди. Она отступила и высвободилась из его объятий.
— Не надо, Луис.
— Почему не надо?
Вид у него был растерянный и обиженный.
— Мне это не доставляет удовольствия.
— Может быть, я первый, кто тебя чмокнул?
— А ты что, статистику собираешь?
— Ладно, — сказал он, — прости. Ты знаешь, Элен, я не такой уж плохой парень.
— Конечно, только, пожалуйста, не надо делать того, что мне не нравится.
— Когда-то ты относилась ко мне лучше.
— Что было, то прошло; мы были детьми.
Смешно! Она вспомнила радужные мечты, которые возникали раньше, когда она обнималась с парнями.
— А потом, когда мы стали старше и когда Нат Перл поступил в колледж, у тебя что-то было к нему. Небось, ты его держишь про запас, на будущее?
— Во всяком случае, мне ничего об этом не известно.
— Но ты думаешь о нем, правда? Интересно, что у этого пижона есть, кроме образования? Я работаю и зарабатываю себе на жизнь…
— Нет, Луис, я о нем не думаю.
Но это была неправда, она думала о нем. Что, если бы Нат признался ей в любви? О, в ответ на волшебные слова девушка и сама способна стать волшебницей.
— Ну, если так, то чем же я плох?
— Ничем. Мы просто друзья.
— Друзей-то у меня хватает!
— А чего тебе не хватает?
— Ладно, Элен, хватит ходить вокруг да около! А что ты скажешь, если я хочу жениться на тебе?
У него самого дух захватило от собственной смелости.
Она была удивлена и тронута.
— Спасибо, — пробормотала она.
— Спасибо — этого мало. Скажи: да или нет?
— Нет, Луис.
— Так я и думал!
Он тупо уставился на океан.
— Мне даже в голову не приходило, что ты хоть сколько нибудь мной интересуешься. Ты гуляешь совсем не с такими девушками, как я.
— Ты же не знаешь, о чем я думаю, гуляя с ними.
— Конечно, нет.
— Со мной тебе будет лучше, чем сейчас. Я дам тебе то, чего у тебя нет.
— Конечно. Но, видишь ли, я хочу, чтобы жизнь у меня была другая, не такая, как моя сейчас, и не такая, как у тебя. Я не хочу быть женой лавочника.
— Вино и виски — это совсем не то же, что бакалея.
— Знаю.
— Может быть, это потому, что твой старик недолюбливает моего?
— Нет, не потому.
Она слушала, как под порывами ветра ревел прибой.
— Ладно, пойдем и съедим по шницелю, — предложил Луис,
— С удовольствием.
Она взяла его за руку, но уже по тому, как его рука напряглась, поняла, что он обижен.
Когда они ехали домой по Парквею, Луис сказал:
— Если ты не можешь получить всего, что хочешь, постарайся взять хотя бы часть. Не будь такой заносчивой.
— Что я должна взять, Луис?
Он помолчал.
— Довольствуйся хотя бы частью.
— Никогда.
— Люди идут на компромисс.
— На компромисс со своей мечтой? Нет.
— Так что ж, ты хочешь остаться в старых девах? Быть этакой сушеной сливой? Этого ты хочешь?
— Нет.
— Так что ж ты будешь делать?
— Ждать. Мечтать. Что-нибудь случится.
— Чепуха!
Он высадил ее перед бакалейной лавкой.
— Спасибо за все.
— Ты меня смешишь, — сказал Луис и дал газ.
Лавка была закрыта, свет наверху выключен. Наверно, отец спит после долгого, трудного дня, и ему снится Эфраим. «Для кого я себя берегу?» — подумала она. «Семейная невезучесть Боберов!»
На следующий день выпал первый легкий снежок — Ида пожаловалась, что никогда еще не было снега так рано. Он вскоре растаял, но потом выпал снова. Одеваясь поутру, в темноте, бакалейщик сказал, что вот он откроет лавку и потом расчистит снег перед домом. Он любил чистить снег. Это напоминало ему детство. Однако Ида запретила ему возиться со снегом: он все еще неважно себя чувствовал, и его иногда поташнивало. Когда он попытался подтащить прямо по снегу ящик с бутылками к двери лавки, это ему не удалось. А Фрэнка Элпайна не было, чтобы помочь: вымыв у Морриса окно, Фрэнк исчез.
Ида спустилась вниз следом за мужем; на ней было тяжелое, теплое пальто, толстый шерстяной головной платок и галоши. Она расчистила лопатой снег, и они вместе подтащили ящики с молоком. Только тогда Моррис заметил, что в одном из ящиков не хватает бутылки.
— Кто ее взял? — закричала Ида.
— Откуда мне знать?
— Ты уже сосчитал булочки?
— Нет.
— Сколько раз я говорила: считай все сразу!
— Что, булочник будет воровать у меня? Я его знаю двадцать лет.
— Я тебе тысячу раз говорила: сразу считай все, что тебе доставили.
Он высыпал булочки в корзину и пересчитал их. Трех булочек не хватало, а ведь он продал только одну — польке. Чтобы утихомирить Иду, он сказал, что все булочки на месте.
На следующее утро пропала еще бутылка молока и две булочки. Он обеспокоился, но когда Ида его спросила, сказал, что все в порядке. Он нередко скрывал от нее неприятные новости, потому что она очень раздражалась и делала только хуже. Он сказал об этих исчезнувших булочках молочнику.
— Моррис, клянусь тебе, когда я оставлял ящик, в нем были все бутылки, — заверил тот. — Но разве я могу отвечать за этот нищий район?
Он обещал несколько дней ставить ящики с молоком между дверьми. Может быть, вор побоится туда зайти. Моррис стал подумывать о том, чтобы заказать у молочной фирмы запирающиеся ящики. Много лет назад он пользовался таким ящиком — тяжелым, деревянным, с висячим замком. Но ему так осточертело поднимать каждый день эту тяжесть, что он перешел на обычные ящики, и до сих пор все было в порядке.
На третий день, когда снова исчезла бутылка молока и две булочки, бакалейщик, отчаявшись, стал думать, не обратиться ли ему в полицию. Бывало, что молоко и булочки пропадали и раньше. Обычно их воровал какой-нибудь бедолага, которому было нечего есть. Поэтому Моррис предпочитал в полицию не обращаться, а избавлялся от вора собственными силами. Он просыпался очень рано и ждал в темноте у окна спальни. Стоило какому-нибудь мужчине — или женщине — подойти к ящику и взять бутылку молока или булочку, как Моррис тут же поднимал окно и орал:
— Эй ты, проклятый вор, а ну, марш отсюда!
Обычно после этого вор бросал то, что пытался украсть, и убегал. Иногда это бывал постоянный покупатель, которому было вполне по средствам купить себе молоко и булочку, — в таком случае Моррис терял клиента. Как правило, этот вор больше не показывался — в следующий раз молоко крал кто-нибудь другой.
И вот Моррис проснулся на следующее утро в половине пятого, незадолго до того, когда обычно доставляли молоко, и сел в нижнем белье караулить у окна. На улице было темно. Вскоре подъехал молочник. Отдуваясь, он поставил ящики между дверьми. Затем улица снова опустела: было темно, падал снег. Кто-то прошел по улице, спустя некоторое время еще кто-то. Через час появился Витциг, булочник, он привез мешок с булочками. Но около двери никто не останавливался. В шесть часов Моррис торопливо оделся а сошел вниз. Снова не хватало бутылки молока и двух булочек.
Он и на этот раз скрыл пропажу от Иды. На следующую ночь она вдруг проснулась и обнаружила, что Моррис сидит у окна.
— В чем дело? — спросила она, садясь в постели.
— Мне не спится.
— Не сиди у окна в нижнем белье, ты простудишься. Ложись в постель.
Он послушался и лег. На утро одной бутылки и двух булочек снова недоставало.
Подавая польке ее ежедневную булочку, он спросил, не видела ли она, чтобы кто-нибудь проскальзывал в дверь и выносил бутылку молока. Она вытаращила свои маленькие глазки, потом схватила булочку и, не ответив, хлопнула дверью.
Пораскинув умом, Моррис решил, что вор живет у них в квартале. Ник Фузо такой вещи не сделает; да и Моррис услышал бы, как он спускается и поднимается по лестнице. Нет, вор, должно быть, пробирался вдоль улицы, прижимаясь к стенам домов, так что Моррис со второго этажа не мог его увидеть под карнизом; затем он осторожно открывал дверь, брал молоко и булочки и исчезал, опять-таки под прикрытием карниза.
Моррис заподозрил Майка Пападопулоса, паренька-грека, который жил над лавкой Карпа. Ему было восемнадцать лет, и он уже был раз осужден условно. В прошлом году, глубокой ночью, он поднялся со двора по пожарной лестнице и залез в окно бакалейной Морриса. Украл три блока сигарет и кучку десятицентовиков, которые Моррис оставил возле кассового аппарата. Утром, когда бакалейщик открывал лавку, мать Майка, худощавая, преждевременно постаревшая женщина, принесла Моррису сигареты и мелочь. Она, оказывается, увидела, как Майк все это притащил домой, и долго била его туфлей по голове. В конце концов он признался, что сигареты и мелочь украл, и сказал, у кого именно. Она вернула Моррису украденное и умоляла не сообщать в полицию, чтобы мальчика не посадили: клялась, что больше тот ничего не возьмет.
Решив, что новое воровство — это дело рук Майка, Моррис в девятом часу утра поднялся на третий этаж и скрепя сердце постучал в квартиру миссис Пападопулос.
— Простите за беспокойство, — и он рассказал, что происходит с молоком и булочками.
— Майк по ночам работает в ресторане, — сказала миссис Пападопулос. — Он возвращается домой в девять часов утра и спит как убитый.
Глаза ее пылали гневом. Моррис извинился и ушел.
Он был очень встревожен. Может быть, рассказать обо всем Иде и сообщить в полицию? Примерно раз в неделю к нему приходили из полиции и задавали все новые вопросы насчет налета, но пока все это ничего не дало. Но, может быть, все же стоит сообщить в полицию? Как-никак, эти кражи продолжаются уже почти неделю. Кто в наши дни может позволить себе такое? И все же Моррис медлил. Вечером он, как обычно, запер лавку изнутри, вышел через боковую дверь, навесил на нее замок и включил свет в подвале. Он посмотрел вниз, и сердце у него забилось: ему померещилось, будто в подвале кто-то заперся и ждет. Моррис отомкнул замок, вернулся в лавку и взял небольшой топорик. Призвав на помощь все свое мужество, бакалейщик медленно спустился по деревянной лестнице в подвал. Никого. Он осмотрел большие пыльные лари, стоявшие в подвале, обшарил все углы: кругом было пусто.
Утром он рассказал Иде, что происходит; она обозвала его идиотом и сразу позвонила в полицию. Вскоре в лавке появился полный, краснолицый детектив из ближайшего участка, мистер Миногью; он-то как раз и расследовал дело о налете на Моррисову лавку. Это был спокойный, неулыбчивый человек с лысой головой; когда-то он жил тут по соседству, потом овдовел и переехал в другое место. У него был сын по имени Уорд, который учился в школе вместе с Элен; Уорд был хулиган и задира и все время издевался над девочками. Увидев, что кто-нибудь из его соучениц играет перед домом или на крыльце, он накидывался на нее и загонял в прихожую; а там, как бы девочка ни сопротивлялась и ни просила, он хватал ее за грудь и сжимал так, что бедняжка начинала кричать. При появлении разгневанной мамаши Уорд убегал, а девочка захлебывалась слезами. Родители жаловались мистеру Миногью, и тот бил сына смертным боем, но это не помогало. Восемь лет назад Уорда уволили с работы за кражу. Отец избил его до полусмерти и выгнал из дому. После этого Уорд исчез, и никто не знал, куда он делся. Мистера Миногью все жалели, потому что он был честный, порядочный человек, и все понимали, каково ему иметь такого сына.
Придя в лавку Морриса, мистер Миногью прошел в заднюю комнату, сел у стола и выслушал жалобы Иды. Он надел очки и что-то записал в маленькой черной записной книжке. Затем он сказал, что поставит полисмена наблюдать за домом Морриса после доставки молока и хлеба; если будут еще какие жалобы, пусть Моррис даст ему знать.
Перед уходом он сказал:
— Скажите, Моррис, если бы вы сейчас увидели Уорда, вы бы его узнали? Я слышал, он снова околачивается где-то здесь, но точно не знаю, где.
— Не знаю, — ответил Моррис. — Может, да, а может, и нет. Я же столько лет его не видел!
— Если я его встречу, — сказал мистер Миногью, — я, возможно, заведу его к вам.
— Для чего?
— Сам не знаю. Просто для того, чтобы вы его знали.
Когда мистер Миногью ушел, Ида заметила, что, позвони Моррис в полицию сразу же после первой кражи, он сэкономил бы несколько бутылок молока, а в его положении едва ли можно позволить себе швыряться товаром.
В этот вечер, повинуясь какому-то неясному импульсу, Моррис закрыл лавку на час позже, чем обычно. Он включил свет в подвале, взял топорик и спустился вниз. Уже на последней ступеньке лестницы он вдруг остановился и вскрикнул. Он увидел перед собой изможденное лицо, в смущении повернувшееся к нему. Это был Фрэнк Элпайн; он был грязен и небрит. Он спал в одежде и в шляпе, сидя на ящике и прислонившись к стене. Его разбудил свет.
— Чего вам здесь нужно? — закричал Моррис.
— Ничего, — еле слышно сказал Фрэнк. — Я просто спал в подвале. Я ничего плохого не хотел сделать.
— Это вы воровали у меня молоко и булочки?
— Да, — признался Фрэнк. — Я был голоден.
— Почему вы не попросили у меня?
Фрэнк встал.
— До меня никому нет дела. Работы я найти не смог. Я истратил все, что у меня было, до последнего цента. А в такую погоду это пальтишко не греет. Ноги у меня все время мокрые от снега и дождя, и меня все время знобит. И спать мне негде. Вот поэтому я сюда и забрался.
— Вы больше не живете у своей сестры?
— Нет у меня никакой сестры. Я вам соврал. Никого у меня нет.
— Зачем же вы говорили, что у вас есть сестра?
— Я не хотел, чтобы вы считали меня бродягой.
Моррис молча смотрел на Фрэнка.
— Вы когда-нибудь сидели в тюрьме?
— Никогда, клянусь Христом!
— А как вы попали ко мне в подвал?
— Случайно. Как-то я шел мимо и увидел дверь, попробовал, а она незаперта, ну, я и стал забираться сюда, после того, как вы закрывали лавку. А утром, когда привозили молоко и булки, я выходил и брал себе чуть-чуть, чтобы поесть. Больше я целый день ничего не ел. А когда вы спускались вниз и занимались покупателями, или принимали товар, я выносил под пальто пустую бутылку и потом ее выбрасывал. Вот и все. Сегодня я не выдержал и пробрался сюда еще до того, как вы ушли из лавки, потому что очень холодно, а я простудился и не очень хорошо себя чувствую.
— Как вы можете спать в таком подвале?
— Мне приходилось спать в местах и похуже этого.
— А сейчас вы голодны?
— Я всегда голоден.
— Поднимитесь наверх.
Моррис со своим топориком стал подниматься по лестнице. Фрэнк шумно высморкался в мокрый носовой платок и последовал за ним.
Моррис зажег в лавке свет, приготовил два сэндвича с ливерной колбасой и горчицей и подогрел в кастрюле остатки бобового супа. Фрэнк сел за стол прямо в пальто, положив шляпу на пол у своих ног. Ел он жадно, и когда подносил ложку ко рту, руки у него тряслись. Бакалейщику это было неприятно, и пока Фрэнк ел, Моррис старался не смотреть на него.
Фрэнк уже заканчивал ужин и пил кофе с булочками, когда сверху спустилась Ида в халате и домашних туфлях.
— Что случилось? — испугалась она, увидев Фрэнка.
— Он голоден, — сказал Моррис.
Она сразу же догадалась, в чем дело.
— Это он воровал молоко!
— Он был голоден, — объяснил Моррис. — Он спал у нас в подвале.
— Я помирал с голоду, — сказал Фрэнк.
— Почему вы не искали работу? — спросила Ида.
— Я всюду искал, но не нашел.
Помолчав, Ида сказала:
— Когда поужинаете, будьте любезны, поищите себе какое-нибудь другое место.
Она повернулась к мужу.
— Моррис, скажи ему, чтобы он поискал другое место. Мы люди бедные.
— Это он знает.
— Я уйду, — сказал Фрэнк, — раз вы хотите, чтобы я ушел.
— Сейчас уже поздно, — сказал Моррис. — Что ому, всю ночь гулять по улицам?
— Я не хочу, чтобы он был здесь, — сурово сказала Ида.
— А куда он пойдет?
Фрэнк поставил чашку на блюдечко и с интересом слушал.
— Это не мое дело, — сказала Ида.
— Не беспокойтесь, — вставил Фрэнк. — Через десять минут я уйду. У вас не найдется сигареты?
Бакалейщик открыл буфет и достал смятую пачку сигарет.
— Они лежалые, — сказал он, как бы извиняясь.
— Неважно.
Фрэнк прикурил и с удовольствием затянулся сигаретой.
— Я скоро уйду, — повторил он, обращаясь к Иде.
— Не надо мне всяких неприятностей, — сказала Ида.
— Никаких неприятностей от меня не будет, — сказал Фрэнк. — Может, я и выгляжу, как бродяга, в этом-то пальто, но только я не бродяга. Всю жизнь я жил среди хороших людей.
— Пусть он спит эту ночь вот здесь, на кушетке, — сказал Моррис.
— Нет, лучше дай ему доллар, и пусть убирается, куда хочет.
— Я могу переночевать и в подвале, — вставил Фрэнк.
— Там сыро. И еще крысы.
— Если вы мне разрешите остаться на ночь, я обещаю, что рано утром уйду. Можете меня не бояться. Я не жулик.
— Вы можете спать на кушетке, — сказал Моррис.
— Моррис, ты с ума сошел! — взвизгнула Ида.
— Я это вам отработаю, — сказал Фрэнк. — Все, что я вам должен, я заплачу. До последнего цента. И я сделаю все, что вы попросите.
— Посмотрим, — сказал Моррис.
— Нет! — стояла на своем Ида.
Но Моррис победил, и они поднялись наверх, оставив Фрэнка спать на кушетке. Перед тем, как уйти, бакалейщик включил обогреватель.
— Он обчистит нам всю лавку, — зловеще сказала Ида.
— Где у него грузовик? — улыбаясь, спросил Моррис. — Бедный парень, — добавил он серьезно, — мне его жаль.
Они легли. Ида спала плохо, и ей снилось что-то страшное. Через некоторое время она проснулась и села на кровати, прислушиваясь, нет ли в доме каких-нибудь угрожающих звуков: Фрэнк пакует их бакалею в большие мешки, чтобы украсть. Но все было тихо. Ей представлялось, что утром она спускается в лавку, а в лавке ничего нет — все украдено, и полки пустые, как гнезда улетевших птиц. И еще ей представлялось, будто макаронник уже в квартире и сейчас попадает в комнату Элен сквозь замочную скважину. Лишь когда Моррис встал и пошел открывать лавку, Ида, наконец, забылась тревожным, неспокойным сном.
Бакалейщик с трудом спустился по лестнице: у него болела голова, ныли ноги. Сон не освежил его.
Снег растаял, и ящики с бутылками снова стояли у кромки тротуара. Все бутылки были на месте. Моррис собирался втаскивать ящики в лавку, когда явилась полька. Она вошла и положила на прилавок три цента. Моррис втащил мешок булочек, вынул одну из них, разрезал пополам и завернул. Полька, не сказав ни слова, взяла пакет и ушла.
Моррис поглядел сквозь проем в стене. Фрэнк спал в одежде на кушетке, укрывшись вместо одеяла своим пальто. Его черная борода топорщилась, рот был открыт.
Бакалейщик вышел на улицу, поставил ящики один на другой и рывком попытался их поднять. В глазах у него потемнело, что-то вроде черной шляпы набухло в голове, заслонило свет и лопнуло. Он думал, что сейчас взлетит в воздух, но вместо этого почувствовал, что падает.
Фрэнк втащил Морриса в лавку и положил на кушетку. Потом взбежал вверх по лестнице и забарабанил в дверь. Элен, накинув жакет поверх ночной сорочки, открыла ему и еле сдержала возглас изумления.
— Скажите своей матери, что у вашего отца обморок. Я вызвал скорую помощь
Она вскрикнула. Сбегая вниз по лестнице, Фрэнк услышал причитания Иды. Он поспешил в заднюю комнату лавки. Еврей лежал на кушетке неподвижно, белый, как мел. Фрэнк осторожно снял с него передник, надел на себя и завязал сзади лямки.
— Мне нужно набраться опыта, — пробормотал он.
У Морриса снова открылась рана на голове. Врач скорой помощи — тот самый, который приезжал к нему в ночь налета — сказал, что бакалейщик слишком рано встал с постели и переутомился. Он снова перевязал Моррису голову, сказав Иде:
— И пусть лежит в постели не меньше двух недель, пока совсем не поправится.
— Скажите ему вы сами, доктор, — попросила Ида, — меня он не слушает.
Доктор повторил то же самое Моррису, и тот бессильно кивнул.
Ида весь день просидела у его постели. Элен тоже не пошла на работу и помогала ухаживать за Моррисом. Она позвонила к себе на работу и сказала, что сегодня не придет. Фрэнк Элпайн все время оставался в лавке. В полдень Ида спустилась вниз, чтобы приказать ему убираться. Она вспомнила свой сон, и в ее представлении это связалось с несчастьем, которое их постигло. Ей почему-то казалось, что если бы Фрэнк не остался ночевать, не случилось бы ничего худого.
Фрэнк побрился Моррисовой бритвой, аккуратно причесался, и когда Ида вошла, он вскочил и открыл кассовый аппарат, показывая ей пухлую пачку денег.
— Пятнадцать, — сказал он, — можете пересчитать.
Она удивилась.
— Откуда столько?
Он объяснил:
— Сегодня утром было много покупателей. Люди приходили и спрашивали, что случилось с Моррисом.
Спускаясь в лавку, Ида собиралась выгнать Фрэнка и послать в лавку Элен. Но теперь заколебалась.
— Может быть, вам пока и остаться, — задумчиво сказала она. — Если хотите, оставайтесь до завтра.
— Я могу спать в подвале, — сказал он. — Вы за меня не беспокойтесь. Честно, я не жулик.
— Зачем же в подвале? — неуверенно отозвалась Ида. — Муж велел вам спать на кушетке. Что у нас воровать? У нас ничего нет.
— Как он теперь? — спросил Фрэнк, понизив голос.
Она высморкалась.
На следующее утро Элен нехотя пошла на работу. В десять часов Ида спустилась посмотреть, что происходит в лавке. В ящике кассового аппарата было на этот раз только восемь долларов, но и это было больше обычной выручки. Фрэнк сказал извиняющимся тоном:
— Сегодня меньше, чем вчера, но я подробно записал все, что продал, чтобы вы знали, что к пальцам у меня ничего не пристало.
Он вынул клочок оберточной бумаги, на котором были записаны проданные им товары. Ида обратила внимание, что первой покупкой была булочка за три цента. Оглядевшись, она заметила, что Фрэнк распаковал несколько коробок, доставленных еще вчера, подмел в лавке, вымыл изнутри окно и аккуратно расставил на полках банки. В лавке было теперь куда уютнее, не так уныло, как раньше.
Весь день Фрэнк не только торговал, но и занимался всякими мелкими, но нужными делами. Он прочистил засорившееся колено под раковиной на кухне, и теперь вода стала проходить как следует, а не еле-еле, как прежде; починил испорченный выключатель, из-за которого нельзя было включать одну лампочку. Теперь уже ни Ида, ни Фрэнк не говорили о том, что он уйдет. Ида, которую присутствие Фрэнка все еще беспокоило, была бы, конечно, не прочь от него избавиться, но у нее не хватало духу попросить Элен снова пропустить работу; и ее приводила в ужас мысль о том, что она на две недели вынуждена будет остаться в лавке одна, да еще нужно ведь ухаживать за Моррисом, который лежал наверху. Ладно, пусть уж этот итальянец поработает дней десять. Такого нахлебника не поздно будет выгнать и потом, когда Моррис поправится. А пока пускай потрудится за стол и кров. В конце концов, ну что за торговля тут у них! И пока Моррис не встает с постели, она могла бы изменить кое-что из того, что не успела раньше. И вот, когда приехал молочник, чтобы забрать пустые бутылки, Ида велела ему со следующего дня привозить уже не бутылки, а пластиковые пакеты. Франк Элпайн удовлетворенно кивнул и одобрительно сказал:
— И точно, зачем возиться с бутылками?
Несмотря на то, что у Иды был хлопот полон рот с больным Моррисом и что, к тому же, Фрэнк ей все больше и больше нравился, она по-прежнему не спускала с него глаз. Беспокоилась она еще и потому, что теперь именно она, а не Моррис, отвечала за то, чтобы с лавкой все было в порядке. Если что случится, это будет ее вина. Поэтому, поднимаясь наверх сделать что-нибудь для Морриса, она старалась управиться как можно скорее и тут же опрометью мчалась в лавку — посмотреть, что делает Фрэнк.
Но все, что делал, он делал правильно, и уму непостижимо, как они обошлись бы без него. Постепенно Идины подозрения улетучивались, хотя окончательно так и не исчезли.
Она старалась быть с ним построже, старалась подчеркнуть разделявшее их расстояние. Если им случалось оказаться вместе в задней комнате или остаться хотя бы несколько минут наедине, когда Фрэнк стоял за прилавком, она пресекала все его попытки заговорить, а чтобы не вступать с ним в беседу, сразу же принималась что-то делать: убирать, чистить или, на худой конец, хваталась за газету. Учить же Фрэнка торговым премудростям почти не приходилось: мало было такого, чего он бы не знал. На полках у Морриса под каждым видом товара был приклеен ярлычок с ценой, так что Ида вручила Фрэнку лишь прейскурант с ценами на мясо, зелень и нерасфасованные продукты, вроде кофе, риса, бобов. Она научила его, аккуратно и плотно заворачивать покупки, подобно тому, как когда-то давным-давно Моррис научил ее; показала Фрэнку, как пользоваться весами и как устанавливать ручку-регулятор электрической мясорезки. Фрэнк был сметлив и все схватывал на лету, Ида даже заподозрила, что он просто прикидывается неучем, а на самом деле знает куда больше, чем хочет показать. Фрэнк быстро и точно складывал цифры, довольно верно на глаз определял, какой ломтик мяса нужно отрезать на такой-то вес, и, согласно указаниям Иды, не перегружал весы; он правильно соразмерял, сколько оторвать бумаги, чтобы завернуть ту или иную покупку, и размер пакета с величиной товара, стараясь экономить при этом большие пакеты, которые стоили дороже. Убедившись, что Фрэнк быстро наловчился торговать, и не заметив никаких признаков жульничества (изголодавшийся человек, который берет бутылку молока и булочку, — это, конечно, не образец), Ида уговаривала себя, что может и подольше оставаться наверху, чтобы вовремя подать Моррису лекарство, вымыть ему ноги, которые все время ныли, и прибрать в комнатах, где всегда было очень пыльно, потому что по соседству находился двор угольного склада. И все-таки, как она себя ни убеждала, у нее всегда сердце было не на месте: она ни на минуту не могла забыть, что внизу хозяйничает чужак, гой, и с нетерпением ждала, когда можно будет от него избавиться.
Хотя рабочий день Фрэнка длился с шести утра до шести вечера, после чего Ида кормила его обедом, — он был вполне доволен. Лавка защищала его от окружающего мира, он не мерз, не голодал и спал на чистой постели. У него было вдоволь сигарет, и Моррис дал ему чистую одежду, которая пришлась впору — даже брюки: Ида их удлинила, отпустив манжеты, и погладила. В лавке было уютно, спокойно, и он забился в нее, как зверь в теплое логово. Всю свою жизнь, где бы Фрэнк ни жил, он вечно куда-то спешил, двигался; а теперь мог никуда не торопиться. Он с удовольствием подолгу стоял у окна и удовлетворенно смотрел на то, как мир движется мимо него.
Это была совсем неплохая жизнь. Фрэнк просыпался чуть свет. Польская леди уже стояла, застыв у двери, точно статуя, и недоверчиво таращила на Фрэнка свои круглые глазки, пока он отпирал лавку, чтобы выдать ее всегдашнюю булочку перед тем, как она отправится на работу. Она ему не очень-то нравилась; он с удовольствием поспал бы еще часок. Вставать ни свет ни заря ради каких-то паршивых трех центов — это, действительно, придумать надо! Но ради еврея, который был к нему добр, он это делал. Втащив в лавку ящики с молоком и перевернув иной протекающий пакет вверх дном, Фрэнк подметал в лавке, а потом и тротуар перед нею. Затем уходил в заднюю комнату, мылся, брился, выпивал чашку кофе и съедал сэндвич — первые день-два он клал на хлеб ветчины или копченого окорока, а потом стал позволять себе ломтик и чего-нибудь получше. Выкуривая после кофе сигарету, Фрэнк размышлял о том, какие нововведения он мог бы придумать в лавке, если бы она принадлежала ему. Когда кто-нибудь входил, Фрэнк выскакивал и, лучезарно улыбаясь, мчался обслуживать покупателя. Ник Фузо, придя в лавку в первый день, когда там был Фрэнк, очень удивился: он ведь знал, что Моррис не может позволить себе взять приказчика. Однако Фрэнк объяснил Нику, что хоть платят здесь не густо, зато есть другие преимущества. Они поговорили о том, о сем; и когда Ник узнал, что Фрэнк Элпайн — тоже итальянец, он тут же пригласил его в гости к себе и Тесси; позже Тесси сама зашла в лавку и радушно позвала Фрэнка в тот же вечер на макароны, и Фрэнк сказал, что придет, если они позволят ему макароны принести с собой.
Через несколько дней Ида перестала вскакивать чуть свет и снова стала спускаться в лавку лишь около десяти утра, после того, как переделает всю работу по дому. И она занялась тем, что стала регистрировать в записной книжке все счета, которые они получили и которые оплатили. Кроме того, она дрожащей рукой выписывала особые чеки шоферам — на суммы, которые не могла выдать наличными, и еще мыла пол на кухне, опорожняла мусорное ведро в большой металлический бак, стоявший снаружи на тротуаре, или готовила салат. Фрэнк наблюдал, как она ворочает кочан, шинкуя капусту на той же мясорезке; Ида не резала помногу, потому что капуста могла скиснуть и остаток пришлось бы выбросить. Еще больше труда отнимал картофельный салат: Ида варила большой котел картошки в мундире, и Фрэнк помогал ей эту картошку чистить. По пятницам Ида пекла пирог с рыбой и жарила запеканку из бобов, предварительно выдержав мелкие бобы целую ночь в воде, а перед тем, как жарить, посыпав желтым сахаром. Фрэнк подглядел однажды выражение ее лица, когда она клала в вымоченные бобы кусочки свинины, отрезанные от большого окорока, и почувствовал, как неприятно ей прикасаться к свинине, и ему стало жаль Иду и себя заодно, потому что он еще никогда не жил у евреев.
В обеденное время начинался «час пик»: в лавку приходили рабочие угольного склада с черными подтеками на лицах, а также продавцы из окрестных магазинов, и все они просили сэндвичи и горячий кофе. Тогда Фрэнк и Ида вынуждены были вдвоем становиться за прилавок, но этот «час пик» длился всего несколько минут, а потом наступала мертвая пора. Ида говорила Фрэнку, чтобы он, если хочет, шел погулять, но он отвечал, что у него нет никаких особых дел, и уходил в заднюю комнату полежать на кушетке и почитать «Дейли Ньюс» или полистать журналы, которые приносил из местной библиотеки; он обнаружил эту библиотеку, гуляя как-то в одиночестве по окрестным улицам.
В три Ида на часок-другой уходила наверх — взглянуть, не нужно ли чего Моррису, и отдохнуть; и Фрэнк, оставшись один, облегченно вздыхал. Время от времени он что-нибудь съедал, получая от этого настоящее удовольствие. Он пробовал орехи, изюм, выуживал из плоских ящичков слежавшиеся финики или инжир, который ему тоже пришелся по вкусу. Иногда он вскрывал жестяную коробку с крекерами, макаронами, бисквитами или пышками; обертку же рвал на мелкие кусочки и смывал в унитаз. Бывало, что жуя какие-нибудь сладости, Фрэнк чувствовал непреодолимое желание съесть что-нибудь более существенное; тогда он отрезал себе добрый ломоть мяса или делал сэндвич со швейцарским сыром, намазанным еще и горчицей, и наскоро проглатывал его, запивая ледяным пивом. Насытившись, он переставал бродить по лавке и блаженствовал, сидя на месте.
Иногда вдруг начинался приток покупателей, в большинстве своем женщин; Фрэнк обслуживал их очень вежливо, внимательно, беседуя с ними обо всем на свете. Его общительность и разговорчивость понравилась также шоферам, которые стали чаще останавливаться здесь, чтобы перекусить. Как-то Отто Фогель, пока Фрэнк отвешивал ему ветчину, понизил голос и топотом предупредил его:
— Слушай, парень, зря ты на жидов ишачишь. У них только задницу в кровь собьешь, а ни хрена не заработаешь.
Фрэнк бодро ответил, что долго тут не задержится, но слова Фогеля его задели и смутили. А затем, к своему удивлению, он получил новое предупреждение — и на этот раз от еврея, от коммивояжера Эла Маркуса, торговавшего писчебумажными товарами и канцелярскими принадлежностями; дело Маркуса процветало, и он был человек зажиточный, но очень больной, а потому всегда мрачный; однако, несмотря на все свои немощи, он ни за что не бросал работу.
— Слушай меня, — сказал Маркус. — Эта лавка — все равно что могила, это я тебе точно говорю. Сматывайся отсюда, как только сможешь. Поверь моему слову: если ты через полгода отсюда не сбежишь, так застрянешь тут навек.
— Ну, уж об этом не беспокойтесь, — ответил Фрэнк.
Оставшись после этого один, он задумчиво уставился в окно, думая о своем незадачливом прошлом и мечтая о новой жизни. Добьется ли он того, чего хочет? А иной раз он смотрел в окно задней комнаты, откуда и смотреть-то было не на что, если не считать веревок с бельем, развешанным после стирки: на ветру плескались штаны и куртки, Морриса, годные разве лишь на то, чтобы обрядить в них огородное пугало, да еще необъятных размеров Идины панталоны и домашние платья, среди которых сиротливо, как чахлые цветочки, затесались крохотные трусики и лифчики ее дочери.
Вечером, хотел он того или нет, его отправляли «погулять». Ида настаивала: это было только справедливо, не мог же он работать с утра до ночи. Она на скорую руку кормила его ужином и давала полдоллара на мелкие расходы, извиняясь, что больше денег у нее нет. Иногда он проводил время наверху у Ника и Тесси, или ходил с ними в кино в соседний квартал. Иногда, невзирая на холод, он просто бродил по улицам или заглядывал в комнату с игральными автоматами, находившуюся примерно в полутора милях от лавки. Когда он возвращался — а возвращался он до закрытия лавки, ибо Ида не могла доверить ему ключ, — она подсчитывала дневную выручку, клала большую часть денег в небольшой бумажный мешочек и уносила с собой, оставляя Фрэнку пять долларов, чтобы он мог открыть лавку и начать работать утром. Когда она уходила наверх, Фрэнк запирал парадный вход, закрывал на щеколду боковую дверь, выключал в лавке свет и в одном белье садился в задней комнате почитать перед сном газету, которую днем прихватывал в кондитерской Сэма Перла. Затем он раздевался и залезал в постель, напялив на себя Моррисову фланелевую пижаму, непомерно широкую для него; сам Моррис почти не надевал ее.
«Эта старуха, — думал Фрэнк с раздражением, — каждый раз гонит меня из своей дыры до того, как ее дочь возвращается с работы к ужину».
А об Элен он думал часто, ничего не мог с этим поделать. Он представлял ее в трусиках и лифчике, висевших на бельевой веревке, которую он видел из заднего окна; фантазия у него всегда была богатая. Он воображал, как она утром спускается сверху или как он сам стоит и смотрит на нее, когда она входит в дом, возвращаясь с работы, и взбегает по лестнице, а вокруг ее ног обворачивается юбка. Видел он ее редко, а говорил с ней всего дважды — в тот день, когда Моррис потерял сознание. Она держалась от него подальше — это, впрочем, ее дело! Кто он для нее такой, как он одет, разве он ей пара? Но как ни мало ему довелось с ней разговаривать, у него было такое чувство, что он знает о ней гораздо больше, чем кажется другим. Эта мысль появилась у него еще тогда, когда он впервые увидел ее через окно лавки. Когда она на него взглянула, он уловил в ее глазах какую-то загнанность, какой-то затаенный внутренний голод, — голод, который он не мог забыть, потому что и сам был так же голоден, и поэтому думал, что ее понимает. Но нет, он не собирался ее обхаживать; говорят, эти еврейские кошечки иной раз больно царапаются, а ему не нужно больше никаких неприятностей — по крайней мере, новых неприятностей, вдобавок к тем, которых у него и так достаточно.
И еще — он не хотел испортить все еще до того, как что-то начнется. Некоторых баб приходится долго ждать — ждать, пока они сами к тебе придут.
Но чем дальше, тем больше ему хотелось познакомиться с ней поближе — может быть, потому, думал он, что она никогда при нем не входила в лавку, разве что на секунду, перед тем, как он запирал на ночь. Не было никакой возможности остаться с ней с глазу на глаз, но это только разжигало его любопытство. Он чувствовал, что она очень одинока так же, как и он, однако старуха делала все возможное, чтобы держать их подальше друг от друга, словно он какой-то заразный. И, как это часто бывает, — запретный плод сладок, — он еще больше хотел узнать Элен покороче, понять ее, подружиться с ней, что бы там ни было. И потому, видя ее так редко, он выискивал малейшие следы ее присутствия. Заслышав, что Элен спускается по лестнице, он прилипал к окну и ждал, пока она выйдет из дому; он старался сделать вид, что просто так, от скуки в окно глазеет, а вовсе не следит за кем-нибудь или за чем-нибудь, на случай, если она обернется и его увидит; но она ни разу не обернулась, уходя, как будто ей до того не нравился собственный дом, что и глядеть-то на него лишний раз не хотелось. У нее было красивое лицо и хорошая фигура, маленькая, изящная грудь, которая так подходила к ее сложению, как будто девушка сама себе выбрала размер. Ему нравилось смотреть, как она легкой походкой идет по улице и сворачивает за угол. В ее походке было что-то чувственное, манящее; она покачивалась при ходьбе, и казалось, будто вместо того, чтобы идти вперед, она в любую минуту может скользнуть куда-то в сторону. Ноги у нее были слегка кривые, возможно, в этом и была их привлекательность. После того, как она уже исчезала за углом, Фрэнк все еще мысленно видел ее ноги, и маленькую грудь, и облегавший эту грудь розовый лифчик. Иной раз он что-нибудь читал или просто думал, лежа на кушетке, и вдруг она возникала перед ним: он снова видел, как она сворачивает за угол. Для того, чтобы ее представить, ему не нужно было даже закрывать глаза; мысленно он заклинал ее: «Обернись!» Но даже в его воображении она ни разу не обернулась.
Чтобы видеть, как она идет навстречу ему, он вечерами подолгу выстаивал у освещенного окна лавки, но часто прежде, чем он успевал ее увидеть, она уже взбегала вверх по лестнице и переодевалась у себя в комнате, так что на сегодня все его возможности увидеть ее были исчерпаны. Она приходила домой примерно без четверти шесть, иногда немного раньше; Фрэнк всегда старался в это время оказаться поближе к окну, что было не так-то просто, потому что именно в это время немногочисленные Моррисовы клиенты приходили купить что-нибудь к ужину. Поэтому Фрэнку редко удавалось увидеть, как Элен возвращалась домой с работы, хотя он всегда слышал стук ее каблучков, когда она взбегала по лестнице. Однажды в лавке было меньше покупателей, чем обычно, и уже в половине шестого Фрэнк остался один. «Ну, сегодня-то я ее увижу!» — подумал он. Он причесался — в уборной, чтобы Ида не видела, — надел чистый передник, закурил сигарету и уставился в окно; в свете витрины его было хорошо видно. Без двадцати шесть, как раз после того, как он чуть не выдворил какую-то покупательницу — женщину, которая сошла с трамвая неподалеку от лавки, — Фрэнк увидел, как из-за угла, где находилась кондитерская Сэма Перла, появилась Элен. Она была сегодня красивее, чем когда-либо на его памяти, и пока проходила мимо, в двух футах от него, у него даже дыхание перехватило. Он впился взглядом в ее голубые глаза, в длинные, до плеч, каштановые волосы, которые она машинальным движением откидывала набок. Казалось, Элен думает о чем-то, чего ей хочется, но так никогда и не удается заиметь. Фрэнк подумал: «А она не похожа на еврейку — и это к лучшему». Он был взволнован, и когда Элен подняла глаза, заметив, что на нее смотрят, у него на лице отразилось все, что он в этот момент чувствовал. Кажется, девушке это было неприятно, потому что она передернула плечами и, войдя в лавку, сразу, даже не посмотрев на Фрэнка, взбежала по лестнице и скрылась в комнатах.
На следующее утро Фрэнк ее не увидел — он даже не заметил, как она выскользнула из дому. А вечером, когда она возвращалась с работы, он как раз кого-то обслуживал, и лишь успел услышать, как наверху за ней захлопнулась дверь. У него стало тяжело на сердце; каждый взгляд, брошенный на кого-то другого, казался ему потерянным навсегда.
Фрэнк стал думать о том, как устроить, чтобы встретиться с Элен и обменяться с ней хотя бы несколькими словами. То, что ему хотелось бы ей сказать, казалось, начинало его душить, хотя он даже в мыслях толком не представлял, что же он ей скажет. Сперва Фрэнк решил взять и заговорить с ней, когда она обедает, но вскоре отказался от этого намерения, потому что тогда ему пришлось бы говорить с Элен при Иде, а что при ней скажешь? Потом Фрэнк задумал, как только увидит Элен, открыть дверь и зазвать ее в лавку — сказать, например, что какой-то парень зовет ее к телефону, а потом уже заговорить о чем-нибудь другом. Но ей никто не звонил. Элен жила, как одинокая птица, и это ему нравилось, хотя он не мог понять, почему она, с ее-то красотой, стала такой одинокой птицей? Фрэнку казалось, что Элен ждет от жизни чего-то большего, чего-то очень важного, и это его пугало. И все же он ломал голову, как бы заманить ее в лавку. Может быть, спросить у нее что-нибудь, что она наверное должна знать, например, где у ее старикана лежит пила? Но это ей может не понравиться, да и мамаша, которая целый день шастает по лавке, будет тут как тут. Нужно быть очень осторожным, чтобы с самого начала не отпугнуть Элен, а то она станет еще более недосягаемой, чем даже хочет того старуха.
Два вечера подряд, окончив работу в лавке, Фрэнк переходил через улицу и подолгу стоял в подъезде напротив, надеясь, что Элен зачем-нибудь выйдет из дома. Тогда он тоже мог бы выйти ей навстречу, вежливо прикоснуться пальцами к шляпе и спросить, не позволит ли она ему проводить ее туда, куда она идет. Но из этого плана тоже ничего не вышло: Элен ни разу не вышла из дому. Во второй вечер он прождал до той минуты, когда Ида потушила свет в витрине, но все без толку.
Однажды, в конце второй недели, Фрэнк неожиданно почувствовал, что начинает сходить с ума от одиночества. Несколько минут назад Элен вернулась с работы; Фрэнк как раз ужинал, а Ида зачем-то поднялась наверх. Сегодня, еще когда Элен подходила к дому, он ей кивнул — вот тогда-то его и охватило это невыносимое чувство одиночества. За ужином Фрэнк думал, как бы заманить Элен в лавку, прежде чем старуха спустится сверху и ему пора будет уходить из дому. Единственное, до чего он мог додуматься, — это позвать Элен к телефону, а потом сказать, что кто-то ей звонил, но повесил трубку. Конечно, это было не совсем честно, но ничего другого Фрэнку не оставалось. Он пытался убедить себя, что делать этого не стоит: даже если трюк удастся, их знакомство начнется с обмана, и когда-нибудь он об этом пожалеет. Он старался придумать что-нибудь получше, но времени у него было мало, и ничего другого ему в голову не приходило.
Фрэнк встал из-за стола, подошел к комоду и поднял телефонную трубку. Затем он вышел в вестибюль, открыл дверь и, затаив дыхание, нажал кнопку, над которой было написано «Бобер».
Наверху открылась дверь, и Ида свесилась через перила.
— В чем дело? — спросила она.
— Элен к телефону.
Фрэнк увидел, что Ида колеблется, и быстро вернулся в лавку. Он сел за стол, делая вид, что ест, и сердце его колотилось так, что было больно в груди. Он подумал: «Я всего-то и хочу, чтобы минутку поговорить с ней, а в другой раз это будет уже проще».
Элен с радостным ожиданием в глазах впорхнула в кухню. Уже на лестнице она почувствовала какое-то возбуждение. «Боже мой, — подумала она, — телефонный звонок — и то уже событие. Если это Нат, я дам ему еще один шанс…».
Когда она вошла, Фрэнк вежливо приподнялся и снова сел.
— Спасибо, — сказала ему Элен и взяла трубку. — Алло!
Фрэнк услышал, как в трубке звучит гудок.
— Никто не отвечает, — недоуменно сказала Элен.
Он положил вилку.
— Это была какая-то девушка, — сказал он негромко.
Но увидев, какое у нее в глазах разочарование, он почувствовал себя совершеннейшей свиньей.
— Наверное, что-то разъединилось.
Элен окинула его долгим взглядом. На ней была белая блузка, под которой хорошо вырисовывалась ее небольшая грудь. Фрэнк облизал засохшие губы, напряженно думая, что бы ему сейчас сказать, но его буйное воображение, обычно переполненное самыми яркими картинами, было сейчас совершенно бесплодно. Он чувствовал себя прескверно; да ведь он и заранее знал, что так будет, — знал сразу же, как только сделал то, что сделал. Если бы он мог вернуть прошлое, этого бы не случилось.
— Она не сказала, как ее зовут? — спросила Элен.
— Нет.
— Может, это Бетти Перл?
— Не знаю.
Элен привычным движением отбросила волосы.
— Она что-нибудь сказала?
— Только попросила вас позвать, — ответил Фрэнк и, помедлив, добавил? — Голос приятный, похож на ваш. Может, она не поверила, когда я сказал, что вы наверху, и пока я ходил звонить, она повесила трубку.
— Не понимаю, почему нужно вешать трубку из-за того, что кто-то пошел звонить.
Он тоже не понимал. И не знал, как выпутаться из создавшегося положения, разве что лгать напропалую. Но если продолжать лгать, их беседа станет совершенно бессмысленной. Когда Фрэнк лгал, он был сам не свой, и лгал тоже кому-то другому, а не тому, с кем говорил. И он был не он, и она — не она. Ему не следовало забывать это.
Элен стояла у комода с телефонной трубкой в руках, как бы ожидая, что сквозь гудок прорвется чей-то голос. Точно так же, как и Фрэнк ждал какого-то голоса, который подтвердил бы, что Фрэнк говорит правду и что вообще он — славный малый. Но ни Фрэнк, ни Элен не дождались того, чего ждали.
Он смотрел на Элен, подумывая, не признаться ли во всем, не сказать ли правду, прямо так, здесь, а уж там — будь что будет! Но не решился: мысль о том, чтобы признаться, вгоняла его в дрожь.
— Простите, — сказал он еле слышно, но она уже ушла, а он лишь старался восстановить в памяти, как она выглядела, когда стояла здесь, так близко к нему.
А Элен тоже охватило смутное беспокойство. Она не могла объяснить, почему поверила Фрэнку и в то же время не совсем поверила; не могла объяснить, почему в последнее время стала замечать его присутствие в доме, хотя он почти все время проводил в лавке. И ее тоже раздражали настойчивые старания Иды не давать им встречаться.
— Поужинаешь, когда он уйдет, — говорила она дочери. — Я не люблю, когда у меня в доме гоим.
Элен чувствовала досаду; ее коробили даже намеки на то, что она должна сторониться какого-то человека только потому, что он — не еврей. Из всего этого было ясно, что мать ей ни капли не доверяет. Не будь Ида так настойчива, Фрэнк был бы для Элен вообще пустым местом; именно неуклюжие попытки матери оградить Элен от Фрэнка заставили девушку обратить на него внимание. Конечно, он парень смазливый, но кто он такой? Приказчик в бакалейной лавке? Смешно! Ида явно делала из мухи слона.
Хотя Ида все еще нервничала из-за того, что в лавке день-деньской торчит какой-то итальянец, она с приятным изумлением обнаружила, что после того, как он появился, дела все больше и больше стали идти на лад. Уже в первую неделю были дни, когда выручка оказывалась на целых шесть-семь долларов больше, чем обычно с тех пор, как наступила осень. То же повторилось и на следующей неделе. Конечно, доход все равно был такой, что курам на смех, но эти лишние сорок-пятьдесят долларов в неделю все-таки помогали продержаться до того, как найдется покупатель на лавку. Сначала Ида не могла понять, почему торговля вдруг так оживилась, почему стало продаваться больше товаров. Само собой, такое иной раз случалось и раньше. Бывало, что ни с того ни с сего, после нескольких месяцев застоя в один прекрасный день появлялось несколько старых покупателей, давно переставших приходить, — как будто их насильно держали в их убогих комнатенках, а тут наконец выпустили, дав несколько центов на расходы. А иные отчаянные скряги, экономившие на еде, неожиданно начинали покупать больше. Бакалейщики всегда первыми замечают, когда времена начинают меняться к лучшему: люди сразу становятся менее озабоченными, менее раздраженными, уже не так отчаянно борются за место под солнцем. Однако, судя по тому, что рассказывали шоферы, сейчас бизнес по всей стране вроде бы не улучшается. Один шофер говорил, что Шмитц, хозяин новой бакалейной лавки за углом, тоже не так-то уж процветает, и настроение у него неважное. Потому Ида рассудила, что неожиданное оживление в их торговле началось благодаря появлению Фрэнка Элпайна, а без него дела, наверно, шли бы все так же худо. Впрочем, потребовалась добрая неделя, пока Ида нехотя самой себе в этом призналась.
А покупателям Фрэнк, вроде бы, нравился. Обслуживая их, он чесал языком, как заведенный; иногда он отмачивал, правда, что-нибудь такое, что Иду вгоняло в краску, но покупателей особенно гоек-домохозяек — это смешило. Он заманивал в лавку новых людей — не только женщин, но и мужчин, которых Ида сроду не видела в квартале. Фрэнк делал такие вещи, на которые ни Моррис, ни Ида никогда бы не решились: например, нередко он старался всучить покупателю какой-нибудь товар, который тот вовсе не собирался покупать, — и обычно это ему удавалось.
— Ну, что вам четверть фунта? — спрашивал Фрэнк. — Ведь это же птичке клюнуть, и то не хватит! Возьмите уж сразу полфунта!
И покупательница действительно брала полфунта.
Или он говорил:
— А вот у нас новый сорт горчицы, только сегодня получили. В этой банке — на две унции больше, чем в той, что вам за ту же цену продают в супермаркете. Попробуйте, чем вы рискуете? Если горчица вам не понравится, принесите обратно, и я на ваших глазах буду полоскать ею горло.
Покупатель смеялся и покупал. И тогда Иде приходило в голову, что Моррис, видать, не родился торговцем, не умеет он торговать, и все тут. Ни он, ни она для этого не годились.
Какая-то покупательница назвала Фрэнка «суперпродавцом», и он довольно ухмыльнулся. Парень он был не глупый и умел работать. Ида все больше и больше проникалась к нему уважением; постепенно она стала чувствовать себя свободнее в его присутствии. Моррис правильно сказал, что Фрэнк — не бродяга, а просто горемыка, у которого в жизни трудная полоса. Ей было жаль его: ведь он, бедолага, рос в приюте. А работал он быстро, никогда не жаловался, одевался опрятно и часто мылся — теперь, когда у него было вдоволь воды и мыла, он мог это себе позволить, — и на вопросы Иды отвечал культурно, вежливо. Раз или два за последние дни ему случилось при ней говорить с Элен: вел он себя как джентльмен и говорил по делу, а не пытался морочить ей голову. Ида переговорила с Моррисом, и они решили увеличить ему карманные деньги с пятидесяти центов в день до пяти долларов в неделю. При всем ее добром отношении к Фрэнку, Иде было ужасно жаль этих денег; но ведь в конце концов только благодаря ему лавка начала приносить хоть какой-то доход, и помещение выглядело теперь уютно, весело, — так пусть парень получит свои пять долларов из их нищенского дохода. Дела все еще шли ни шатко, ни валко, но Фрэнк охотно делал все, что нужно по лавке, даже то, что совсем не требовалось от продавца, — так как же они могли не прибавить ему хоть самую малость? А кроме того, думала Ида, вот поправится Моррис, и Фрэнка здесь не будет.
Фрэнк принял свою крошечную «прибавку» со смущенной улыбкой.
— Не нужно платить мне больше, миссис, — сказал он. — Я же говорил, что буду работать бесплатно, за все то добро, что раньше мне сделал ваш муж, и еще чтоб научиться ремеслу. А ведь еще я у вас живу и столуюсь, так что вы мне ничего не должны.
— Берите, — сказала она и вручила ему скомканную пятидолларовую бумажку.
Он все не хотел брать, и деньги лежали на прилавке, пока Ида чуть не силой заставила Фрэнка спрятать их в карман. Прибавка смутила Фрэнка еще и потому, что он уже имел кое-какой приработок, о котором Ида не знала. Дело было в том, что торговля шла еще лучше, чем думала Ида. В ее отсутствие он иной раз делал одну-две продажи — доллара на полтора или даже больше, — которые не прокручивал на кассовом аппарате. Ида ничего не подозревала: они еще раньше решили, что не стоит записывать все проданное, как Фрэнк делал в первый день. Нередко он недодавал два-три цента сдачи, что было совсем несложно; так что к концу недели у него накопилось целых десять долларов. Эти деньги плюс те пять долларов, что дала Ида, он истратил на бритвенный прибор, пару изящных ботинок, две рубашки и два галстука. Фрэнк прикинул, что если проработает в лавке еще недели две, то сможет позволить себе дешевый костюм. Он полагал, что стыдиться ему нечего: это же фактически был его честный заработок. Бакалейщик с женой об этих деньгах жалеть не будут, потому что ничего о них не знали; а если бы Фрэнк тут не вкалывал, Моррис так и так их не получил бы. И вообще, его доход был бы куда меньше, чем при нем, Фрэнке, если даже учесть, что они его кормили и давали ему карманные деньги.
Вернее говоря, во всем этом он себя неустанно пытался убедить, и все-таки постоянно чувствовал угрызения совести. Он стонал, нервно почесывал кисти рук. Иногда у него перехватывало дыхание, на лбу выступали капли пота. Будучи один в лавке — обычно это бывало утром, во время бритья, или в уборной, — он убеждал себя, что надо быть честным. Но, как ни странно, все эти терзания доставляли ему какое-то странное, извращенное удовольствие (как это бывало прежде, когда он делал что-нибудь непозволительное), и он, ругая себя последними словами, тем не менее продолжал опускать в карман пятаки и четвертаки.
В один из вечеров, когда Фрэнк испытывал особенно сильные укоры совести, он решил исправиться. «Нужно только один раз поступить как надо, — подумал он, — и это будет началом, а дальше все пойдет как по маслу». Тут ему пришло на ум, что если он вернет себе пистолет и выбросит его, то почувствует себя лучше. После ужина Фрэнк ушел из лавки и двинулся по мглистой улице; у него ныло под ложечкой — от долгих дней, проведенных в лавке, и от того что с тех пор, как он тут появился, его жизнь так изменилась. Проходя мимо кладбища, он старался прогнать воспоминания о налете, но это ему не удалось. Он живо вспомнил, как сидел с Уордом Миногью в припаркованной машине, ожидая, пока Карп выйдет из бакалейной, но потом огни в его лавке вдруг погасли, а сам он спрятался за бутылками. Уорд велел Фрэнку быстро объехать вокруг квартала, чтобы перехватить еврея и отобрать его толстый бумажник; но когда они объехали квартал, машина Карпа уже исчезла, и Уорд пожелал ему провалиться сквозь землю. Фрэнк сказал, что Карп их надул, так что придется им убираться, несолоно хлебавши, но Уорд сидел, мучаясь изжогой, и своими маленькими глазками глядел на бакалейную лавку, единственное освещенное место во всем квартале, не считая еще кондитерской на углу.
— Нет, — сказал Фрэнк, — это жалкая дыра; там сегодня, небось, и тридцати долларов не найдешь.
— Тридцать долларов — тоже деньги, — сказал Уорд. — Мне наплевать, кто это, Карп или Бобер, все равно жид.
— А может, попробуем кондитерскую?
Уорд скорчил гримасу.
— Терпеть не могу грошовых конфет, — сказал он.
— Откуда ты знаешь, как его зовут? — спросил Фрэнк.
— Кого?
— Бакалейщика.
— Когда-то я ходил в школу с его дочкой. Недурная попка у девчонки…
— Так он же тебя узнает!
— Ну да! Я обвяжусь тряпкой и голос изменю. Он же меня не видел лет восемь или девять. И тогда я был еще сопливый щенок.
— Ну, как хочешь. Я включу мотор.
— Пошли со мной! — сказал Уорд. — Весь квартал как вымер. Никому и в голову не придет, что кто-нибудь польстится на эту вшивую дыру.
Но Фрэнк колебался.
— Ты, вроде, говорил, что хочешь добраться до Карпа?
— В другой раз. Пошли!
Фрэнк надел кепку и вместе с Уордом перешел через улицу.
— Это твои похороны, — сказал он; но оказалось, что это его собственные похороны.
Фрэнк помнил, о чем он думал, когда они входили в лавку: «Тот еврей, или этот — какая разница?» А теперь он думал: «Я его грабил, потому что он еврей. А что они мне такого сделали, чтобы я не любил евреев?»
Он не знал, как на это ответить, и пошел быстрее, бросая сквозь редкий штакетник беглые взгляды на надгробные памятники. В какой-то момент Фрэнку почудилось, будто за ним кто-то идет; он еще прибавил шагу и завернул в первую же улицу, стараясь держаться поближе к домам. Когда он дошел до игрального заведения, стало легче на душе.
Это было замызганное, темное, мрачное место; его хозяин — угрюмый старик-итальянец по имени Поп: лысая голова и сухие, худые руки — сидел за кассовым аппаратом.
— Уорд здесь? — спросил Фрэнк.
Поп показал в дальний конец зала. Уорд Миногью, в своей ворсистой шляпе и длинном пальто, которое было ему велико, в одиночестве гонял бильярдные шары, набивая руку. Фрэнк направился к нему. Уорд поставил черный шар перед угловой лузой и стал целиться в него белым шаром. Он весь подался вперед, лицо его напряглось; с нижней губы воспаленного рта свисал погасший окурок. Он ударил — и промазал. В сердцах Уорд стукнул кием об пол.
Фрэнк пробирался к Уорду, обходя игроков, гонявших шары на других столах. Уорд поднял глаза на приближавшегося человека, и в его глазах вспыхнул страх, который тут же исчез, едва Уорд узнал Фрэнка. На его прыщавом лице блестели капельки пота.
Он сплюнул свой окурок на пол.
— Что у тебя на ногах, болван? Галоши?
— Я не хотел испортить тебе удар.
— Я сам испортил.
— Я ищу тебя целую неделю.
— У меня были каникулы. — Уорд криво улыбнулся.
— Запил, что ли?
Уорд положил руку себе на грудь и рыгнул.
— Хотел бы я, чтоб это был запой! Кто-то настучал моему старику, что я где-то тут, так что мне надо было на время смыться. Ох, и тошно же мне было: опять изжога разыгралась.
Он поставил кий и вытер лицо грязным носовым платком.
— Сходил бы к доктору, — сказал Фрэнк.
— А ну его…
— Может, он даст какое-нибудь лекарство, это тебе поможет.
— Что мне поможет, так это если мой проклятый старик даст дуба.
— Уорд, мне надо с тобой поговорить, — сказал Фрэнк тихим голосом.
— Валяй!
Фрэнк кивнул на игроков за соседним столом.
— Пошли во двор, — сказал Уорд. — Мне тоже надо с тобой поговорить.
Они вышли через черный ход в небольшой, стиснутый домами двор. У одной из стен стояла деревянная скамья. Над дверью была ввинчена тусклая лампочка.
Уорд сел на скамью и закурил сигарету. Фрэнк тоже закурил, достав сигарету из своей пачки. Он выпустил клуб дыма, но не почувствовал удовольствия от курения и отбросил сигарету.
— Садись, — сказал Уорд.
Фрэнк сел на скамью. «Даже в таком зловонии от него чем-то несет», — подумал он про Уорда.
— Ну, чего тебе? — спросил Уорд, беспокойно шаря узкими глазками.
— Мне нужен мой пистолет. Где он?
— Зачем?
— Я хочу бросить его в море.
Уорд фыркнул.
— Ты что, опупел?
— Я не хочу, чтобы ко мне пришли и спросили, был ли у меня пистолет.
— Ты же говорил, что купил его с рук.
— Да.
— Ну, так он нигде не зарегистрирован, чего ты дрейфишь?
— Если ты его потеряешь, — сказал Фрэнк, — они и без регистрадии пронюхают, чей он.
— Не волнуйся, не потеряю! — сказал Уорд; он бросил сигарету и вдавил ее в грязь. — Я его тебе верну, когда мы обтяпаем дельце, о котором я хотел с тобой поговорить.
Фрэнк взглянул на него.
— Что за дельце?
— Карп. Я хочу его обчистить.
— Почему Карп? Есть винные лавки и побольше…
— Этот сукин сын давно у меня в печенках сидит, да еще его пучеглазый Луис! Когда-то, мальчишкой, я малость тискал девчонок, только и всего; а Карп доносил моему старику, и тот меня каждый раз порол.
— Они ведь тебя узнают.
— Бобер-то не узнал! Я закрою лицо платком и сменю костюм. Завтра же пойду и найму машину. Твое дело — только править и ждать, пока я все сделаю.
— Лучше держись подальше от этого квартала. Кто-нибудь тебя все-таки может узнать.
Уорд задумчиво почесал себе грудь.
— Ясно! Уговорил. Ладно, найдем кого-нибудь другого.
— Только не меня.
— А если подумать?
— Нет, с меня хватит.
Уорд был раздосадован.
— Как только я тебя увидел, я сразу смекнул, что ты хочешь завязать.
Фрэнк не ответил.
— Не строй из себя святую невинность, — сердито сказал Уорд. — Мы с тобой одной веревочкой связаны — ты и я.
— Знаю, — сказал Фрэнк.
— Я его треснул, чтобы не валял дурака и говорил, где остальные башли.
— У него ничего нет. Это бедная, дерьмовая лавчонка.
— Ну да, кому и знать, как не тебе!
— Что ты имеешь в виду?
— Чего виляешь? Я же знаю, что ты у него работаешь.
У Фрэнка перехватило дыхание.
— Ты что, Уорд, следишь за мной, что ли?
Уорд улыбнулся.
— Я шел за тобой в тот вечер, когда ты здесь был. Ну, и узнал, что ты работаешь на этого жида и живешь у него на птичьих правах.
Фрэнк медленно поднялся.
— Когда ты его ударил, мне стало жаль его. Потому-то я вернулся туда и помог ему, когда он попал в беду. Но я там долго не останусь.
— Очень мило с твоей стороны. Ты, небось, вернул ему и семь с половиной долларов — твою долю?
— Я положил их в кассу. И сказал хозяйке, что в тот день было много покупателей.
— Никогда не думал, что я свяжусь с таким придурком от Армии Спасения.
— Я сделал это, чтоб совесть не мучила, — сказал Фрэнк.
Уорд встал.
— Врешь! Дело тут не в совести.
— А в чем же, по-твоему?
— Кое в чем другом. Говорят, эти жидовочки хороши в постели.
Фрэнк ушел, так и не получив своего пистолета.
Ида пересчитывала деньги, а рядом сидела Элен.
Фрэнк стоял за прилавком и чистил перочинным ножом ногти, ожидая, когда они уйдут, чтобы закрыть лавку.
— Я, пожалуй, приму перед сном горячий душ, — сказала Элен матери. — Сегодня вечером что-то очень холодно.
— Спокойной ночи, — сказала Ида Фрэнку. — Я оставила в кассе пять долларов на утро.
— Спокойной ночи, — ответил Фрэнк.
Ида с Элен вышли через боковую дверь, и Фрэнк слышал, как они поднялись по лестнице. Он запер лавку и прошел в заднюю комнату. Полистал свежий выпуск «Ньюс», но что-то беспокоило его.
Отложив газету, Фрэнк вернулся в лавку и постоял у двери, прислушиваясь. Затем он открыл замок, включил свет в подвале и, притворив за собой дверь, чтобы свет не проникал наверх, осторожно спустился вниз.
Там обнаружил узкую шахту грузового лифта, который когда-то поднимал ящики с продуктами; лифтом давно уже никто не пользовался. Фрэнк отодвинул покрытый пылью ящик и заглянул в вертикальный колодец, уходящий под самую крышу. Там было темно. Ни у Ника Фузо, ни в окне ванной комнаты Боберов не было света.
Фрэнк пытался бороться с искушением, но вскоре сдался. Он втиснулся в шахту и взобрался на лифт. Сердце у него колотилось так, что и сам он весь трясся.
Когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что окно ванной — всего в двух футах над его головой. Он пошарил го стене и обнаружил на ней узкий карниз, который опоясывал всю шахту. Фрэнк подумал, что, может быть, на этот карниз не трудно взобраться, и тогда он сможет заглянуть в ванную.
«Но если ты это сделаешь, — сказал он сам себе, — ты потом будешь мучиться».
Он обливался потом, и воротник рубашки был совсем мокрый, однако мысль о том, что он может там увидеть, возбуждала, подхлестывала его и толкала вверх.
Перекрестившись, Фрэнк ухватился за тросы лифта и подтянулся, молясь, чтобы тросы не очень скрипели.
Над его головой зажегся свет.
Затаив дыхание, он съежился, вцепившись в тросы. Затем окно ванной с треском захлопнулось. Какое-то время он не мог пошевелиться, он совсем обессилел. Фрэнк испугался, что может отпустить трос и упасть, и еще подумал о том, что будет, когда Элен откроет окно ванной комнаты и увидит его, лежащего бесформенной грудой на дне шахты.
«Зря я это затеял», — подумал он.
Но она могла принять душ до того, как у него будет возможность на нее посмотреть; и, дрожа как лист, он снова стал подтягиваться на тросах. Через несколько минут он утвердился на карнизе и, держась за тросы, подался вперед. Теперь он смог увидеть через незавешенное окно старомодную ванную комнату. Там была Элен. Печальными глазами она смотрела на себя в зеркало. Фрэнк подумал: «Что, она вечно будет так стоять?» Но в эту минуту Элен спустила молнию на халатике и скинула его.
Увидев ее голую, Фрэнк ощутил спазмы боли, ощутил непреодолимое желание обладать ею и в то же время горечь от того, что это потеряно, невозможно, что он никогда не получает того, чего больше всего желает, и на него нахлынули воспоминания, от которых он хотел бы навек отделаться.
У нее было молодое, нежное, красивое тело, груди выступали, как птички в полете, и ягодицы были, как два цветка. Но это было одинокое тело — хотя и красивое, но одинокое. «Тела бывают одинокими, — подумал Фрэнк, — но не в постели». Теперь Элен казалась ему реальнее, чем раньше, без одежды она была более земной, более доступной. Он смотрел и не мог насмотреться, он насыщал свои глаза, это было как бы пиршество для изголодавшегося человека. Но по мере того, как он смотрел, девушка становилась все недостижимее, становилась чем-то, что можно только видеть; в ее глазах отражался его грех, его порочное прошлое, разбитые идеалы, его страсть, отравленная стыдом.
Глаза у Фрэнка сделались влажными, и он вытер их одной рукой. Когда же он глянул снова, то ужаснулся: ему показалось, что она смотрит в окно прямо на него, и на губах у нее усмешка, безжалостная и презрительная. Он подумал: «Бежать, бежать, сломя голову, из этого дома!» Но в этот момент она повернулась и ступила в ванну, задернув за собой пластиковый занавес.
Окно быстро покрылось паром. «Слава богу!» — подумал Фрэнк и бесшумно спустился вниз. Против ожидания он испытывал не раскаяние, а живую радость.
Наконец, в декабре, когда голова у Морриса стала болеть немного меньше, он, провалявшись больше двух недель в постели, спустился в лавку. Было субботнее утро. Ида еще накануне предупредила Фрэнка, что со следующего дня они в его помощи не нуждаются; но когда она сказала об этом Моррису, он заспорил. Он со страхом думал (хотя не решался признаться в этом Иде), как после вынужденного отдыха ему снова придется тянуть лямку от зари до зари. Его заранее угнетали долгие томительные часы в ожидании покупателей, и он с грустью вспоминал о том, что угробил на это свои молодые годы. То, что дело сдвинулось с мертвой точки, все-таки его несколько утешало, но не слишком, потому что, судя по словам Иды, торговля шла бойчее только благодаря новому помощнику, а у этого парня голодные глаза, и его стоит пожалеть. Но если разобраться, что и почему, то ясно как дважды два: лавка стала давать кое-какую прибыль не потому, что Фрэнк — маг и волшебник, а потому, что он — не еврей. Конечно же, окрестным гоям приятнее иметь дело со своим. Еврей был у них, как бельмо на глазу. Ну да, они к нему приходили, они у него покупали, и называли его по имени, и просили отпустить в кредит, как будто он им обязан. Но в душе они его все равно ненавидели, все они такие. Будь это не так, то есть Фрэнк или нету Фрэнка, не могли бы дела так быстро пойти на лад. Вот Моррис и боялся, что стоит итальянцу уйти, как тут же ухнут лишние сорок пять долларов в неделю; он так все это Иде и высказал. Ида согласилась, что Моррис прав, но продолжала стоять на том, что Фрэнку в их лавке больше нечего делать. Не могут же они заставлять его вкалывать семь дней в неделю по двенадцать часов на дню, и все за какие-то несчастные пять долларов! Моррис ответил, что да, верно, но зачем же выгонять бедолагу на улицу, если ему тут нравится? Пять долларов — это пустяк, конечно, а не деньги, но ведь Фрэнк у них и спит, и столуется, да еще курит в лавке бесплатно сигареты и, сама же Ида говорит, дует пиво. А ну как дело и впрямь наладится, тогда они смогут предложить ему больше — может, кое-какие комиссионные, пусть небольшие, ведь и всей-то выручки у них долларов полтораста в неделю (хотя и таких денег они без Фрэнка давно не видывали — с тех пор, как Шмитц открыл свою лавку за углом); и можно дать Фрэнку выходной по воскресеньям и рабочий день ему короче сделать. Раз уж Моррис достаточно окреп, чтобы суметь утром открыть лавку, Фрэнк может до девяти часов валяться в постели. Условия эти, конечно, не сахар, но, говорил бакалейщик, это все, что он может предложить, а уж пусть Фрэнк сам смотрит — соглашаться или нет.
Услышав все это, Ида чуть не задохнулась от негодования.
— Ты с ума сошел, Моррис? — вскричала она. — Ну пусть он делает нам эти лишние сорок долларов, из которых пять мы ему же и выплачиваем, только разве мы можем себе позволить такую роскошь — содержать его? Ты только посмотри, как он уплетает за обе щеки! Нет, это невозможно!
— Мы не можем себе позволить его содержать, но и потерять его мы тоже не можем, — возразил Моррис. — Если он тут останется, он может и вовсе наладить дело.
— Да троим и повернуться негде в такой лавчонке, — сказала Ида.
— Отдохни, у тебя больные ноги, — ответил Моррис. — Будешь больше дома сидеть, дольше спать по утрам. Кому это нужно, чтобы ты каждый вечер с ног валилась от усталости?
— И еще, — добавила Ида, — разве это дело, что он ночует внизу? Если нам что понадобится, так и в лавку не войдем.
— Об этом я тоже подумал. Мы сбавим Нику Фузо на пару долларов квартплату, а за это пускай Фрэнк ночует у них в маленькой комнатке. Она же им ни к чему, просто держат там всякую рухлядь. Дать ему сколько хочет одеял, и будет удобно; а дверь оттуда выходит прямо в коридор, так сделать ему свой ключ, и пусть приходит и уходит, когда ему вздумается, и никому он не будет мешать. А умываться может и в лавке.
— Если сбавить на пару долларов квартплату Ника, так эта пара долларов тоже пойдет из нашего кармана, а там и без того не густо, — ответила Ида, прижимая руки к груди. — Но, самое главное, я не хочу его здесь из-за Элен. Мне не нравится, как он на нее смотрит.
Моррис пристально взглянул на Иду.
— А как Нат на нее смотрит, тебе нравится? Или Луис Карп? Все они так смотрят, все нынешние молодые люди. Нет, ты мне лучше вот что скажи: как она на него смотрит?
Ида пожала плечами.
— Вот то-то же! Сама знаешь, такой парень — не для Элен. Приказчик из бакалейной лавки — разве об этом она мечтает? Уж как продавцы у нее на работе с ней заигрывают, а разве она с ними гуляет? Нет. Ей хочется чего-то получше — так пусть она и выбирает.
— Быть беде, — пробормотала Ида.
Моррис высмеял ее страхи, а когда в субботу утром он сошел вниз, тут же спросил Фрэнка, не хочет ли тот остаться у них еще на какое-то время. Фрэнк, невыспавшийся — он встал в шесть утра — понуро сидел на кушетке. Он обрадовался и согласился остаться, без разговоров принимая все Моррисовы условия.
Сразу воспрянув духом, Фрэнк, сказал, что ему будет очень приятно жить рядом с Ником и Тесси. И Моррис, невзирая на Идины мрачные предчувствия, в тот же день все устроил, посулив Фузо скостить три доллара с квартплаты. Тесси выволокла из маленькой комнаты сундук, сумки и кое-какую мелкую мебель, прошлась повсюду мокрой тряпкой и пылесосом. Вместе с Моррисом, который кое-что извлек из подвала, Фрэнк вполне прилично обставил свое новое жилище: он получил кровать с довольно хорошим матрацем, вместительный комод, стул, небольшой столик, электрокамин и даже старенький радиоприемник, оказавшийся у Ника. Несмотря на то, что комната была холодная, без отопления, и отрезана теплой спальней Фузо от туалета, Фрэнк остался доволен. Тесси волновалась, как Фрэнк будет обходиться, если ночью вдруг захочет в уборную, и Ник поговорил насчет этого с Фрэнком, извинившись, что жене будет неловко, если Фрэнк станет шастать через их спальню; но Фрэнк заверил Ника, что он по ночам никогда не просыпается. Как бы там ни было, Ник пошел и заказал для Фрэнка ключ от входной двери. Он сказал, что Фрэнк сможет пользоваться парадным ходом и попадать к себе прямо из коридора, не беспокоя их. И еще он может пользоваться их ванной комнатой, только пусть предупреждает заранее его и Тесси, когда ему понадобится ванна.
Эти меры вполне успокоили Тесси. Словом; каждый был доволен, кроме одной только Иды: очень уж ей было не по душе, что Фрэнк остался в доме. Она взяла с Морриса обещание, что к лету Фрэнка не будет. Зная, что летом торговля всегда идет бойчее, Моррис обещал ей это. И она попросила мужа сразу же предупредить Фрэнка, чтобы к лету он себе что-нибудь подыскал; но когда Моррис сказал об этом Фрэнку, тот широко улыбнулся и ответил, что до лета немало воды утечет, — во всяком случае, его это устраивает.
Бакалейщик повеселел. Повеселел даже больше, чем сам того ожидал. В лавку стал возвращаться кое-кто из прежних клиентов, кого уже и след простыл. Одна покупательница сказала Моррису, что Шмитц последнее время хуже обслуживает: у него стало пошаливать здоровье, и он даже подумывает, не продать ли лавку. Моррис подумал: «Дай-то Бог!» — и еще он подумал: «Чтоб он сдох!» — но тут же устыдился и больно ударил себя кулаком в грудь.
Ида теперь все больше отсиживалась наверху; сперва ей от этого было как-то не по себе, но потом свыклась. Вниз она спускалась, чтобы сварить обед и ужин — Фрэнк по-прежнему обедал раньше, чем Элен садилась за стол, — или для того, чтобы заготовить салат. Теперь она мало занималась лавкой: Фрэнк там и пыль вытирал и пол мыл. Ида у себя наверху следила за порядком в квартире, немного читала, слушала по радио передачи на идиш и вязала. Элен купила шерсти, и мать связала ей свитер. По вечерам, когда Фрэнк уходил, Ида возилась в лавке, подсчитывала выручку и уходила наверх вместе с Моррисом, когда он запирал лавку.
Бакалейщик отлично ладил со своим помощником. Они распределили между собой работу, и каждый обслуживал своих покупателей, хотя в лавке все еще подолгу бывали мертвые часы. Моррис убедил Фрэнка делать днем большой перерыв, чтобы отдохнуть от монотонной работы. Фрэнк почему-то забеспокоился и поначалу стал артачиться, но потом согласился. Иногда он поднимался к себе в комнату и лежал на кровати, слушая радио, а чаще надевал пальто прямо поверх передника и уходил посидеть в какой-нибудь из окрестных лавочек. Особенно он любить проводить время у старого итальянца Джаннолы, державшего парикмахерскую через улицу; Джаннола недавно овдовел и целыми днями сидел сиднем у себя в парикмахерской, даже когда давно пора уже было идти домой. И мастер он был отменный. Иногда Фрэнк заглядывал к Луису Карпу — пропустить с ним стаканчик, но Луис ему быстро надоедал. А иногда он шел в лавку мясника, Моррисова соседа, чтобы в задней комнате поболтать с его сыном Арчи, блондинистым парнем с землистым цветом лица, любителем скаковых лошадей. Фрэнк говорил, что как-нибудь он отправится с Арчи поездить верхом, но так и не собрался, хотя Арчи его усиленно звал. Время от времени Фрэнк выпивал в баре на углу кружку пива; ему очень нравился бармен Эрл. Но когда Фрэнк возвращался в лавку, он всегда с удовольствием снова брался за работу.
Когда он оставался с Моррисом наедине, они много беседовали. Моррису нравилось бывать с Фрэнком; он любил слушать, как Фрэнк рассказывает про другие города, где он бывал, а Моррис не бывал, и про те места, где Фрэнку доводилось работать. Часть своей юности Фрэнк провел в Окленде, в Калифорнии, но больше жил на другом берегу залива, в Сан-Франциско. Он рассказывал Моррису про свое безрадостное детство. Когда его второй раз взяли приемышем, опекун заставлял его с утра до ночи работать в своей механической мастерской.
— Мне и двенадцати не было, — рассказывал Фрэнк, — а он чего только не устраивал, чтобы я как можно меньше ходил в школу!
Прожив в этой семье три года, Фрэнк сбежал.
— Вот тут-то я и начал бродяжить.
Фрэнк замолчал, и будильник на полке над раковиной стал тикать как-то особенно тяжело и гулко.
— Если я чему-то и научился, так только самоучкой, — закончил Фрэнк.
А Моррис рассказал Фрэнку, как он жил в той стране, из которой приехал в Америку. Они были бедными, отец торговал вразнос маслом и яйцами, и еще там бывали погромы. Когда пришел срок Моррису идти в царскую армию, отец сказал:
— Беги в Америку.
Один их земляк, друг отца, прислал денег ему на дорогу. Но Моррису пришлось ждать, пока русские возьмут его в армию, потому что если бы он скрылся до призыва, то его отца арестовали бы и судили. Но если сын сбегал после, то отец не был виноват, за это отвечала армия. Моррис с отцом решили, что он в первый же день постарается бежать из казармы.
Когда его забрили, Моррис сказал фельдфебелю — деревенскому мужику со слезящимися глазами и густыми усами, пропахшими табаком, — что хочет пойти в город, купить папирос. Ему было страшно, но он делал все так, как они с отцом задумали. Полупьяный фельдфебель отпустил его, но так как Моррису еще не выдали форму, пошел вместе с ним. Был сентябрь, и только что прошел дождь. По грязному проселку притопали они в город, и там Моррис зашел в трактир и купил папирос для себя и для фельдфебеля. Потом, как они и решили с отцом, Моррис предложил фельдфебелю выпить с ним. А у самого поджилки тряслись от страха. Он еще ни разу в жизни не был в трактире и никогда не решался на такой дерзкий обман. Фельдфебель за штофом водки стал рассказывать Моррису про свою жизнь и принялся горько плакать, когда дошел до того, как забыл приехать на похороны родной матери. Потом он высморкался и, ткнув пальцем Моррису в лицо, предупредил новобранца: ежели тот думает смыться, то пусть лучше об этом забудет, коли жить охота; кто будет плакать по мертвому еврею? Моррис почувствовал, что ему, видно, не сдобровать. Он уже подумал, что много лет теперь, небось, не видать ему свободы. Но когда они вышли из трактира и двинулись по проселку назад в казарму, фельдфебель, которого еще больше развезло, стал то и дело спотыкаться и отставать. Моррис все уходил вперед, а фельдфебель орал ему вслед, чтобы он подождал. Тогда Моррис останавливался и ждал, и они шли вместе, и фельдфебель что-то про себя бормотал и матерился. И Моррис понятия не имел, что теперь с ним будет. Потом фельдфебель остановился у придорожной канавы, чтобы помочиться, и Моррис сделал вид, что тоже остановился и ждет, а сам стал все уходить и уходить, каждую минуту ожидая пули в спину и представляя себе, как он лежит ничком в грязи и его гложут черви. И тогда он пустился наутек. Ему вдогонку несся отборный мат; фельдфебель выхватил револьвер и пытался догнать Морриса, но он нетвердо держался на ногах и спотыкался, а когда добежал до поворота, на котором потерял Морриса из виду, того уже и след простыл, и фельдфебель увидел там только бородатого мужика, который погонял лошадь, тащившую воз с сеном.
Рассказывая об этом, Моррис разволновался. Он закурил сигарету, и, странно, его не мучил кашель. Но когда он кончил, ему стало грустно. Он сидел в кресле, маленький, одинокий человек. Пока он лежал наверху, волосы у него отросли и растрепались, и шея была не подбрита, от чего лицо казалось более тонким, чем раньше.
Фрэнк раздумывал над тем, что услышал. То было большим событием в жизни Морриса, но что это дало? Он сумел избавиться от русской армии, добрался до Америки, и здесь навеки застрял в своей лавке — теперь сидит в ней, как рак на мели.
— Я приехал в Америку и хотел стать аптекарем, — продолжал Моррис. — Целый год я ходил в вечернюю школу. Учил алгебру, да еще английский, немецкий… Помню, было такое стихотворение:
«Ветер листьям промолвил: — Летите со мной, И играть на лужайках мы будем весной…»Но у меня не хватило терпения днем работать, а по вечерам учиться. Ну, и когда я познакомился со своей женой, я решил рискнуть.
Он вдохнул и добавил:
— Без образования ничего в жизни не добьешься!
Фрэнк кивнул.
— Вы еще молоды, — сказал Моррис. — Молодой человек, без семьи, свободен делать все, что хочет. Не делайте того, что я сделал.
— Да, — сказал Фрэнк.
Но бакалейщик, казалось, ему не поверил. И Фрэнку стало не по себе: «Чего этот старый хрыч надо мной трясется? — подумал он. — Жалость у него чуть ли не из штанов течет!» Но он решил, что к этому можно притерпеться.
Когда они снова оказались вместе за прилавком, Моррис стал внимательно смотреть, как Фрэнк работает, и поправлять, если тот делал что-то не так. Фрэнк был способным учеником и делал все, как надо. Словно стыдясь того, что его занятие можно так быстро освоить, Моррис начал объяснять Фрэнку, что еще несколько лет тому назад работать было куда труднее. Тогда нужно было многое уметь, бакалейщик был своего рода мастером, виртуозом. А теперь — кому теперь нужно, чтобы бакалейщик тонкими ломтиками нарезал для покупателя — хлеб, раз у всех есть хлеборезки? Или чтобы он отмерил черпаком ровно кварту молока?
— Сейчас все на свете расфасовано: в банках, коробках, пакетах. Даже сыр, который бакалейщики испокон веков резали ножом, теперь нарезают на сырорезке и фасуют в целлофановые пакеты. Теперь и уметь-то нечего.
— Я помню, — сказал Фрэнк, — были когда-то специальные семейные бидоны для молока. У нас ими пользовались для пива.
Но Моррис сказал, что это-то как раз хорошо: разливное молоко — дело для покупателя опасное.
— Иные бакалейщики снимали сливки, а в бидон добавляли воды и продавали как обычное молоко.
Он рассказал Фрэнку, на какие хитрости пускались бакалейщики.
— Иной бакалейщик покупал два сорта нерасфасованных кофейных зерен или два бочонка масла — один низкого сорта, а другой среднего, а потом примешивал и то и другое к высшему. Так что покупатель платил за высший сорт, а получал средний, вот и вся премудрость.
Фрэнк засмеялся.
— Пари держу, покупатели потом ходили и говорили, насколько масло высшего сорта вкуснее среднего.
— Обжуливать людей — это дело нетрудное, — сказал Моррис.
— Моррис, а почему вы сами ничего такого не делаете? Ведь выручка у вас — кот наплакал.
Моррис удивленно взглянул на Фрэнка.
— Зачем это я буду обворовывать своих покупателей? Ведь они же у меня не воруют.
— Воровали бы, если б могли.
— Когда человек честен, он спит спокойно. А это важнее, чем украсть какие-то пять центов.
Фрэнк кивнул.
Однако сам по-прежнему подворовывал. Несколько дней он этого не делал, а потом снова взялся за старое. Иногда, как ни странно, у него от этого становилось спокойнее на душе. Совсем неплохо было иметь в кармане какую-то мелочь; и еще Фрэнк находил непонятное удовлетворение в том, чтобы под носом у еврея стащить у него доллар или два; когда он незаметно опускал эти деньги в карман, то едва удерживался от смеха. На эти доходы, плюс свой законный заработок, Фрэнк купил костюм и шляпу, и еще вставил новые лампы в радиоприемник Ника. Раз или два он через Сэма Перла делал ставки на скачках, но обычно денег на ветер не бросал. Он открыл себе небольшой текущий счет в банке напротив библиотеки, а чековую книжку сунул под матрац. Эти деньги надо было приберечь про запас.
Фрэнк не очень переживал из-за своих мелких краж еще и потому, что прекрасно понимал, какую удачу он принес Моррису. Почему-то он был уверен, что если бросит воровать, то, как пить дать, выручка опять упадет. Он оказывал Моррису услугу, но в то же самое время и себя не забывал. Урывая что-то для себя, Фрэнк как бы показывал, что и он может что-то дать. А кроме того, он был уверен, что когда-нибудь все эти ворованные деньги он вернет, — иначе зачем бы он стал тщательно записывать все, что украл у Морриса? Он заносил эти цифры на карточку, которую прятал под стельку ботинка. Когда-нибудь он поставит десятку на какую-нибудь стоящую лошадь и сможет отдать Моррису все, что взял, до последнего паршивого цента.
Хоть Фрэнк и верил в это, однако не мог сам себе объяснить, почему чем дальше, тем больше он чувствовал угрызения совести из-за этих долларов, которые он таскал у Морриса. Иногда на него накатывало какое-то тихое отчаяние, словно он только что похоронил друга, и на душе у него было как на кладбище. Такое с ним бывало и раньше, он помнил, как это ощущение овладевало им еще много лет назад. В те дни, когда оно возникало, у Фрэнка начиналась головная боль, и он все время что-то про себя бормотал. Он избегал глядеться в зеркало, боясь, что оно расколется и упадет в раковину. Иногда он вдруг начинал злиться на самого себя. Это были худшие его дни, и он жестоко страдал, пытаясь скрыть свои чувства. Но в конце концов злость все-таки исчезала, как внезапно улегшаяся буря, и Фрэнк чувствовал, что его заполняют доброта и кротость. В такие минуты ему хотелось обнять и расцеловать своих покупателей, он испытывал к ним нежность — особенно к детям, которым давал бесплатно ломтики одноцентового печенья. Он был любезен с Моррисом, и еврей был любезен с ним. И он чувствовал нежность к Элен, и больше не лазил в шахту лифта, чтобы подсматривать за ней, голой, в ванной комнате.
А были дни, когда ему все осточертевало. Иногда это случалось и раньше. Спускаясь утром по лестнице, Фрэнк ощущал, что, начнись сейчас в лавке пожар, он с радостью плеснул бы в огонь керосину. Когда он думал о том, как Моррис изо дня в день, год за годом обслуживает все одних и тех же дурацких покупателей, а они своими грязными пальцами изо дня в день, год за годом, берут все одни и те же дурацкие продукты, которые потом лопают изо дня в день, всю свою поганую жизнь, а Моррис после того, как покупатели уйдут, ждет и ждет, чтоб они снова к нему пришли, — когда Фрэнк обо всем этом думал, ему становилось так тошно, что хотелось перегнуться через перила и блевать. Кем нужно было родиться, чтобы добровольно запереться в этом просторном гробу и с утра до вечера, кроме разве двух минут, нужных на то, чтобы купить еврейскую газету, — с утра до вечера не высовывать нос из двери, чтоб глотнуть свежего воздуха? Ответ напрашивался сам собой: чтобы так жить, нужно было быть евреем. Все они просто рождены для тюрьмы. Таков же был и Моррис — со своей беспредельной терпеливостью, или выдержкой, или как это еще к чертям назвать. Этим все и объясняется: и то, как жил Эл Маркус, торговец канцелярскими принадлежностями; и то, как жил этот высохший петух Брейтбарт, который день-деньской таскал от лавки к лавке свои два тяжелых ящика с лампочками.
Эл Маркус — тот самый, который как-то с извиняющейся улыбкой предупредил Фрэнка, чтобы тот не позволил заманить себя в этот бакалейный капкан, — этот Эл Маркус был элегантно одетый человек сорока шести лет, однако всегда, когда бы его ни застали, он выглядел так, словно только что хлебнул цианистого калия. Еще ни разу в жизни Фрэнк не видел, чтобы у человека было такое иссиня белое лицо, как у Эла; а смотрел Эл так, что, взглянув ему в глаза, можно было надолго потерять аппетит. Дело было в том, как Моррис по секрету сообщил Фрэнку, что у Эла Маркуса был рак в последней стадии, и уже год назад все ждали, что он отдаст богу душу, но Эл обманул всех врачей и все еще был жив, если только это можно назвать жизнью. Хотя у него было приличное состояние, он отказывался бросить работу и регулярно раз в месяц появлялся в лавке Морриса, чтобы взять заказ на бумажные мешки, оберточную бумагу и пакеты. Как бы плохо у Морриса ни шли дела, он всегда старался сделать у Эла Маркуса хоть небольшой заказ. Эл, посасывая потухшую сигару, делал пометки на розоватой бумаге в своем блокноте, и потом проводил в лавке еще минуту-другую, судача о том, о сем, но по глазам его было ясно, что мысли Эла витают далеко-далеко; а затем он прикасался пальцами к шляпе и отправлялся к следующему клиенту. Все знали, что он уже одной ногой в гробу, и время от времени кто-нибудь из лавочников серьезно советовал ему бросить работу, но Эл, вынимая сигару изо рта и миролюбиво улыбаясь, говорил:
— Если я буду сидеть дома, то старая карга с косой в руке поднимется по лестнице и постучит ко мне в дверь, это будет очень просто. А так пусть она еще по крайней мере пошевелит своим костлявым задом и порыскает, пока найдет меня.
Что же до Брейтбарта, то, как рассказывал Моррис, девять лет назад Брейтбарт владел вместе со своим братом хорошим, процветающим делом; но брат пристрастился к азартным играм и спустил все в карты, а потом прихватил с собой все, что оставалось у них на счету, и был таков, да еще уговорил жену Брейтбарта сбежать вместе с ним. У Брейтбарта осталось лишь ровно столько денег, сколько он держал у себя в ящике стола, и никакого кредита, да еще пятилетний мальчик. Брейтбарт был объявлен банкротом; кредиторы ощипали его до последней нитки. У него нехватило смелости идти просить работу, и он много месяцев жил вместе с сыном в крохотной, грязной клетушке. Времена были плохие. Сначала он получал пособие, потом занялся мелочной торговлей. Сейчас ему было лишь немногим за пятьдесят, но волосы у него совсем побелели, и он выглядел и держался, как глубокий старик. Он покупал по оптовой цене электрические лампочки и, таская два ящика с лампочками на перекинутой через плечо веревке, ковылял в своих тяжелых стоптанных башмаках от лавки к лавке, заглядывал внутрь и провозглашал замогильным голосом-
— Продаю лампочки!
Вечерами он возвращался домой и готовил ужин для своего Хайми, который играл в баскетбол в команде профессионального училища, где учился на сапожника.
Когда Брейтбарт впервые заглянул в лавку Морриса, бакалейщик, видя, что разносчик от усталости едва волочит ноги, предложил ему стакан чаю с лимоном. Брейтбарт ослабил веревку, поставил на пол ящики и молча выпил чай в задней комнате лавки, грея руки о стакан. И хотя у Брейтбарта, вдобавок ко всем его несчастьям, уже семь лет была жестокая чесотка, не дававшая ему спать по ночам, он никогда не жаловался. Минут через десять он поднялся, поблагодарил бакалейщика, снова приладил на свое чесучее плечо веревку и ушел. Как-то, уже позднее, он рассказал Моррису историю своей жизни, и они оба плакали.
«Вот для чего живут эти люди — чтобы страдать, — думал Фрэнк. — И тот, у кого больше всего горя и кто дольше всех это горе выносит, вместо того, чтобы как-нибудь запереться в сортире и со всем этим покончить, — такой человек и есть самый лучший еврей!» Неудивительно, что эти люди действовали Фрэнку на нервы.
Зима была для Элен мучительным временем года. Девушка пыталась убежать от зимы, пряталась от нее в доме. А там она мстила зиме тем, что вычеркивала из календаря все декабрьские дни. «Хоть бы Нат позвонил!» — постоянно думала она, но телефон как онемел. Нат снился ей по ночам, она была в него влюблена, ей ужасно хотелось быть с ним; она готова была вприпрыжку бежать в его теплую белую постель, только бы он ее поманил, и она не побоялась бы сказать ему, как ей хочется, чтобы он ее захотел; но Нат не звонил. С тех пор, как она в начале ноября нарвалась на него в метро, она его не видела. Он жил тут рядом, за углом, но это было все равно, как если бы он жил в раю. И она острым карандашом вычеркивала из календаря все эти мертвые дни еще до того как они кончались.
А с Фрэнком, который умирал от желания с ней побыть, она почти не разговаривала. Они то и дело встречались на улице. Она бормотала что-то вроде «добрый день» и шла дальше, держа под мышкой свои книги и понимая, что он провожает ее глазами. Иной раз в лавке, словно бросая вызов матери, Элен останавливалась поболтать с Фрэнком минуту-другую. Однажды он изумил ее тем, что назвал книгу, которую тогда читал. Ему ужасно хотелось куда-нибудь ее пригласить, но он не решался. По глазам Иды было видно, что она все понимает. И Фрэнк ждал. Чаще всего он видел Элен из окна. Он следил за ее лицом, он ощущал, что ей чего-то не хватает, и это только усиливало его горечь из-за того, чего не хватало ему; но он не видел выхода.
Декабрьская стужа не давала никаких поблажек весне. Каждое утро Элен просыпалась, чтобы прожить еще один холодный, одинокий день, и ей было тоскливо. А потом однажды, в воскресенье, зима вдруг отступила на час или два, и Элен вышла погулять. Неожиданно она почувствовала, что все всем прощает. Достаточно было дуновения теплого ветерка, чтобы ее подбодрить; она опять ощутила радость жизни. Но вскоре солнце скрылось и повалил крупный снег. Элен вернулась домой совсем закоченевшая. На пустом перекрестке, возле кондитерской Сэма Перла, стоял Фрэнк, но она его вроде бы и не заметила, хотя прошла рядом. А у него на душе скребли кошки. Он тянулся к ней, но тут была такая преграда, которую не одолеть: они были евреи, а он — нет. Если он станет ухаживать за Элен, старуха задаст ему жару, и Моррис еще подбавит. А что до самой Элен, то глядя на нее — как она себя ведет, как ходит, — Фрэнк чувствовал, что она ждет от жизни чего-то большего, чем он может ей дать, что вовсе не нужен ей такой парень, как Ф.Элпайн. У него ничего не было за душой, только трудное прошлое, и он совершил преступление против ее старикана, да и теперь, несмотря на все укоры совести, воровал у него. Как же можно достичь недостижимого?
Фрэнк видел только один способ разрубить этот гордиев узел: прежде всего надо было сбросить груз со своей совести и признаться Моррису, что он, Фрэнк, был одним из тех двух грабителей. Но вот что странно: если Фрэнк и не раскаивался по-настоящему в том, что пошел тогда грабить какого-то неведомого ему еврея, то уж никак нельзя было ожидать что он будет раскаиваться в ограблении именно этого еврея, Бобера; а ведь теперь так и было. В тот день он не возражал против налета — если слово «возражать» относится к тому, на что идешь, — однако возражал он тогда или нет, теперь это не имело никакого значения. Теперь имело значение только то, что Фрэнк ощущал сейчас. А сейчас Фрэнк ощущал, что зря он тогда на это пошел. А когда он видел Элен, так ему становилось совсем худо.
Итак, начать нужно было с признания — оно застряло у Фрэнка, как кость в горле. Начиная с той самой минуты, как он следом за Уордом вошел в бакалейную лавку Морриса, у Фрэнка постоянно было болезненное ощущение, что рано или поздно, как это ни будет тяжело и отвратительно, ему придется исторгнуть из себя в словах то, то он сделал. Ему казалось, что по какому-то пугающему волшебству он знал все это еще задолго до того, как вошел в лавку, до того, как познакомился с Уордом, даже до того, как приехал на Восток, — всю свою жизнь он знал, что когда-нибудь, хотя у него горло сожмется от стыда, он опустит глаза к земле и расскажет какому-нибудь несчастному сукину сыну о том, как он, Фрэнк, его предал или причинил ему горе. Такая мысль всегда в нем жила, она когтями скребла ему сердце, она была как комок в горле, который он не мог выплюнуть; это была болезненная необходимость выблевать из себя все, что он сделал — ибо что бы он ни сделал, это наверняка должно было быть что-то дурное, — очистить себя от скверны и дать себе этим немного покоя, что-то в себе наладить, начать все с начала, вернуться в прошлое, которое всегда, вплоть до сегодняшнего дня, издавало тошнотворное зловоние, — заново начать свою жизнь, изменить ее, да поскорее, пока это зловоние не задушило его.
И все же, когда Фрэнку представилась возможность признаться, — в то ноябрьское утро, в которое он остался в задней комнате один на один с Моррисом, и еврей угостил его чашкой кофе, и у Фрэнка возникло сильное искушение выложить все тут же, немедленно, — тогда он весь напрягся, чтобы выдохнуть из себя признание; но это означало бы перевернуть всю свою жизнь, со всеми ее разорванными корнями, с кровью; и в нем зародился страх, что если он начнет рассказывать обо всем дурном, что он натворил, то не кончит, пока не очернит себя до конца; и потому он лишь скороговоркой промямлил что-то о том, чего он в жизни натерпелся, и даже не упомянул о том, что так и рвалось наружу. Разговаривая с Моррисом, он бил на жалость, и ушел, отчасти удовлетворенный, — но ненадолго, потому что вскоре снова почувствовал, что должен во всем признаться, — он уже явственно слышал свои стоны, но ведь стоны — это не слова.
Фрэнк спорил сам с собой, пытаясь убедить себя, что рассказав о себе только то, что было сказано, он поступил благоразумно. Хватит, хватит. И, к тому же, стоит ли исповедоваться перед евреем за его жалкие семь с половиной долларов, которые Фрэнк, к тому же, потом положил ему назад в кассу, да за удар по голове, который Моррис получил от Уорда? А ведь Фрэнк тогда с Уордом и идти-то не хотел — вернее, может, и хотел, но хотел вовсе не того, чем все это кончилось на самом деле. Это еще следовало обмозговать, не так ли? Мало того, Фрэнк просил же этого гада никого не бить, а потом отшил его, когда тот стал предлагать ему идти грабить Карпа, на которого они с самого начала и нацелились. Это доказывало, что у Фрэнка самые лучшие намерения на будущее, разве не так? И кто, как не он, после всего того, что произошло, чуть свет трясся от стужи и торчал за углом на таком ветру, что штаны к ногам примерзали, поджидая, пока Моррис выползет из дому, и помогал ему втаскивать эти ящики с бутылками, а потом вкалывал по двенадцать часов в сутки, пока еврей отдыхал себе наверху и валялся в постели? Да и теперь — кто, как не он, Фрэнк, приносит лавке хорошую выручку, чтобы еврей не подох с голоду в своей крысиной норе? Все это ведь тоже кое-что значило.
Так Фрэнк спорил сам с собой, но если это и помогало, то ненадолго, и он снова и снова ломал голову, как бы вырваться из кого дерьма, в которое сам себя загнал. Он давал себе обещание, что когда-нибудь во всем признается. Если Моррис примет его объяснения и простит его, это расчистит путь для следующего шага. Что же до его нынешних мелких краж, то Фрэнк решил, что как только расскажет бакалейщику о своем участии в налете, тут же начнет постепенно выплачивать все, что взял, — из своей скудной зарплаты еще из тех жалких долларов, что лежат у него на счету в банке, — и тогда они будут квиты. Это, конечно, вовсе не значит, что тогда Элен Бобер кинется к нему в объятия, — может статься, все будет как раз наоборот, — но если бы такое случилось, он ничего не имел бы против.
Фрэнк заранее знал наизусть, что скажет бакалейщику. Как-нибудь, когда они останутся вдвоем в задней комнате, он начнет, как уже было однажды, рассказывать о своей прошлой жизни и об упущенных возможностях — некоторые из них были такими великолепными, что до сих пор ему было больно о них вспомнить. Ну вот, и после того, как ему много раз не везло — чаще всего по собственной вине (ему хватало, о чем в жизни пожалеть), — после многих таких неудач (хоть он и старался как можно меньше оступаться, но безуспешно), — после всего этого он сдался и стал бродягой. Он спал в канавах или, если посчастливится, в подвалах, в каких-то дырах, ел то, от чего собаки нос воротят, какие-то отбросы из мусорных баков. Он ходил в выброшенном людьми тряпье, найденном на свалках, спал, где придется, и глотал, что придется.
Казалось бы, все это должно было его убить; но он жил — обросший щетиной, пахнущий потом и грязью, жил от лета к зиме и от зимы к лету, без надежды, без радости. Сколько месяцев он так прожил, он уже и не помнил. Никто этого не считал. Но однажды, когда Фрэнк лежал в какой-то щели, куда ему удалось забиться, ему пришла в голову ошеломляющая идея, что на самом деле он совершенно выдающийся человек; в его повседневные размышления вкралась мысль, которая начисто лишила его покоя, — мысль о том, что он живет такой жизнью только потому, что не знает, какой удел ему уготован в жизни, — а уготовано ему нечто гораздо более высокое, ему предназначено совершить что-то значительное или даже великое, совсем не то, что он делает. Просто до той минуты он этого не понимал. В прошлом он думал о себе как о самом обыкновенном, заурядном парне, но тут его осенило, что это совсем не так. Вот почему ему так не везло — потому, что он не понимал, что он собой представляет, и тратил силы на то, чтобы делать такие вещи, которые делать вовсе не следовало. Тогда он спросил себя: «А что, что на самом деле я должен делать?» И тогда ему в голову пришла новая идея: он создан для того, чтобы быть преступником. Он и раньше смутно подумывал об этом, но теперь эта идея полностью завладела им. Преступление — вот что принесет ему удачу: он будет жить захватывающе интересной, полной приключений жизнью, к нему придет удача, власть… Он даже поежился, предвкушая свои будущие налеты, ограбления — а если надо, так и убийства, — и каждый такой акт будет не только обогащать его, но и удовлетворять его затаенные желания. И наконец-то поняв, что если такой человек, как он, поставит себе в жизни иную, более значительную цель, он достигнет ее скорее, чем горемыка, мечтающий о чем-то низменном, — поняв это, Фрэнк почувствовал огромное облегчение.
Тогда он кончил бродяжить. Он нашел работу, снял комнату, скопил немного денег и купил пистолет. Затем он двинулся на Восток, где, ему казалось, он сможет достичь предела своих желаний: там были деньги, ночные кабаре, девчонки. Поболтавшись с неделю по Бостону и так и не решив, с чего начать, Фрэнк вскочил в товарный поезд, доехал зайцем до Бруклина, и там через два дня познакомился с Уордом Миногью. Однажды вечером, играя в бильярд, Уорд выяснил, что у Фрэнка есть пистолет, и предложил ему вместе кого-нибудь ограбить. Фрэнк сказал, что в принципе ее возражает против того, чтобы как-то начать действовать, но ему надо подумать. Он отправился на Кони-Айленд, и когда сидел там на набережной, размышляя, как быть, у него вдруг возникло гнетущее ощущение, что за ним следят.
Од обернулся и увидел Уорда. Уорд сел рядом и сказал, что собирается ограбить еврея, и Фрэнк согласился пойти с ним на дело.
Но в тот вечер, когда они собирались совершить налет, Фрэнку стало не по себе. Еще в машине Уорд это заметил и обругал Фрэнка. Фрэнк подумал, что надо держаться до конца, но уже в лавке Морриса он вдруг осознал, что напрочь расстался с мыслью стать грабителем. Он почувствовал себя таким несчастным, что ему захотелось тут же все бросить и бежать куда глаза глядят, но не мог же он оставить Уорда в лавке одного. Когда Уорд ударил еврея, Фрэнк, глядя на Моррисову окровавленную голову, понял, что совершил сейчас самую страшную свою ошибку — ошибку, которую труднее всего исправить. Так окончилась его короткая карьера отчаянного налетчика, рухнула еще одна дурацкая мечта и теперь он беспомощно барахтался в путанице всего того что сам же и натворил.
Вот это он и собирался поведать Моррису — не сейчас, а когда-нибудь. Он уже знал еврея достаточно хорошо, чтобы рассчитывать на его доброжелательность и милосердие.
Однако, иной раз он мечтал о том, как скажет это не Моррису, а самой Элен. Он хотел сделать что-то, что открыло бы ей глаза на него; но разве можно стать героем, торгуя в бакалейной лавке? Чтобы выложить все это Элен, нужна была недюжинная смелость, а смелость — это уже что-то. Фрэнк и сейчас чувствовал, что заслужил в жизни лучшую участь, и он ее найдет, если хотя бы раз, всего один раз, сделает что-то правильное, такое, что следует сделать, — и сделает это в нужное время. Конечно, сперва Элен смутится, но когда он расскажет ей о своей жизни, она, конечно, дослушает его до конца. А потом — кто знает? Если хочешь добиться женщины, очень важно найти подход к ней.
Впрочем, по зрелом размышлении Фрэнк понял, что все его планы — сентиментальная чушь (в глубине души он оставался очень сентиментальным), просто еще одна мечта идиота. Да неужели он всерьез может думать, что если хотя бы заикнется Элен о том, что грабил ее старика, у него будет еще какой-то шанс ее добиться?
Так Фрэнк пришел к мысли, что самый лучший выход — это держать язык за зубами. И в то же время в нем зарождалось предчувствие, что если он сейчас все Моррису не расскажет, то настанет день, когда ему придется открыть куда более грязное свое прошлое.
Через несколько дней после Рождества, в полнолуние, Фрэнк надел свой новый костюм и отправился в библиотеку, которая находилась в нескольких кварталах от дома. Библиотека помещалась в здании, где когда-то был большой магазин; к нему пристроили новые комнаты, там было светло и уютно, и в холодные зимние вечера приятно было вдыхать запах книжных полок. В задней части читального зала располагалось несколько столов. Сюда очень хорошо было прийти с мороза. Фрэнк рассчитал правильно, вскоре появилась Элен. На голове у нее была красная вязаная шаль, один конец которой она перебросила через плечо. Фрэнк в это время сидел за столом и читал. Элен заметила его еще тогда, когда вошла в зал и закрывала за собой дверь. Он понял, что она его заметила. Как-то раньше они тут тоже встретились, но та встреча была очень короткой: ей стало интересно, что он такое читает, и, проходя мимо его стола, она заглянула ему через плечо. Ей показалось, что он читает «Популярную механику», но она ошиблась, он тогда читал чью-то биографию. Сегодня, как всегда, она, проходя вдоль полок, ощутила на себе его взгляд. Когда, пробыв в библиотеке около часу, Элен уходила, Фрэнк заметил, что она бросила взгляд в его сторону. Тогда он встал и сдал книгу. Он догнал Элен, когда она уже успела пройти полквартала по улице.
— Какая большая луна! — сказал он и поднял руку, чтобы дотронуться до своей шляпы, но смущенно обнаружил, что шляпы на нем нет.
— Похоже, пойдет снег, — ответила Элен.
Он вопросительно поглядел на нее: может, она шутит?
На небе не виднелось ни облачка, все было залито лунным светом.
— Может быть.
Когда они приближались к перекрестку, Фрэнк заметил:
— Может, прогуляемся по парку, если вы не возражаете?
Услышав это предложение. Элен поежилась, но с нервным смешком повернула и пошла рядом с ним. С тех пор, как тогда, вечером, он позвал ее к телефону, а в трубке никто не отозвался, она с ним почти ни словом не перемолвилась. Она так никогда и не узнает, кто тогда звонил, но этот звонок ее до сих пор интриговал.
Идя рядом с Фрэнком, Элен почувствовала, что он вызывает в ней раздражение, а то и что-то похуже. Она понимала, чем это вызвано; тут была виновата ее мать, для которой всякий нееврей был заведомо опасен; следовательно, Фрэнк и она, вместе, воплощали собою какое-то потенциальное зло. Кроме того, ее раздражало, что он всегда пожирал ее глазами; она чувствовала, что он видел в ней гораздо больше, чем можно было судить по случайно перехваченному взгляду. Она боролась со своей неприязнью, убеждая себя, что если мать и видит в нем врага, то это совсем не его вина, он тут ни при чем; а если он так смотрит на нее, значит, находит ее привлекательной, иначе зачем бы он стал на нее смотреть? К тому же, она была так одинока в жизни, и поэтому чувствовала к нему даже что-то вроде признательности.
Неприятное ощущение прошло, и Элен испытующе поглядела на Фрэнка. Он безмятежно шагал в лунном свете, не обращая внимания на то, как она с ним держалась. Она решила, что с ее стороны стыдно было бы не воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить его за все то, что он сделал для ее отца.
В парке луна казалась такой большой; она медленно плыла по белому небу. Он говорил о зиме.
— Любопытно, что вы сказали про снег, — сказал Фрэнк. — Я как раз читал в библиотеке биографию Святого Франциска Ассизского, и когда вы сказали про снег, я вспомнил ту историю, когда он проснулся зимней ночью и подумал, правильно ли он сделал, что стал монахом. Он подумал: «Боже мой, а если бы я встретил хорошую девушку, и женился на ней, и теперь у меня была бы жена и дети?» И ему стало так не по себе, что он больше не мог заснуть. Тогда он встал со своей соломы, на которой всегда спал, и вышел из церкви, или из монастыря, где он там тогда был. Все было покрыто снегом. И он скатал снежную бабу и сказал: «Вот моя жена!» А потом слепил несколько детишек, тоже из снега. Потом он их всех поцеловал, и пошел, и снова лег на солому. И тогда ему полегчало, и он уснул.
Рассказ Фрэнка удивил и тронул Элен.
— Вы только что об этом прочли?
— Нет. Я помню это еще с детства. Я знаю кучу таких историй, неизвестно почему. Нам в приюте читал их священник, и я все эти истории так с тех пор и не забыл. До сих пор то и дело их вспоминаю — вроде бы, без всякой причины.
Элен заметила, что он постригся, и в новом костюме он мало походил на того обтрепанного приказчика, который неделю спал в подвале ее отца. Сегодня он выглядел так, что, казалось, она его впервые увидела. Одет он был со вкусом, и вообще ом был недурен собой. Без передника он казался моложе.
Ош прошли мимо пустой скамьи.
— А что, если немного посидеть? — спросил Фрэнк.
— Я бы лучше погуляла.
— Вы курите?
— Нет.
Он остановился и закурил, потом догнал ее.
— Наверно, иногда все же курите.
— Я хотела вас поблагодарить за то. что вы помогаете моему отцу. — сказала Элен. — Вы были очень добры. Мне надо было бы раньше об этом вам сказать.
— Не за что меня благодарить. Ваш отец тоже оказывал мне услуги.
Он почувствовал себя неловко.
— Но, во всяком случае, не посвящайте свою жизнь бакалейной торговле, — сказала Элен. — В этом нет будущего.
Он выпустил дым и улыбнулся.
— Все меня предупреждают. Не беспокойтесь, у меня чересчур богатое воображение, чтобы оставаться продавцом. Это для меня только временная работа.
— А разве обычно вы не этим занимались?
— Нет. — Он решил быть честным. — Я, как это говорится, завязываю. Я дурно начал, и мне надо изменить свою жизнь. Так уж случилось, что я оказался в лавке у вашего отца, но я останусь тут только до того, как надумаю, что мне делать дальше.
Фрэнк наизусть помнил свое признание, которое он когда-нибудь выложит, но время еще не приспело. Одно дело признаться, когда ты незнакомец, и совсем другое — когда ты друг.
— Чего я только не пробовал! — продолжал Фрэнк. — Теперь мне нужно выбрать свой путь и идти по нему. Надоело метаться от одного к другому.
— Не слишком ли поздно начинать жизнь?
— Мне двадцать пять. Сколько угодно на свете людей, которые находят себя в этом возрасте, а то и позже, я много раз об этом читал. Возраст — это чепуха. Сколько бы тебе ни было лет, почему ты из-за этого должен быть хуже, чем кто-то другой?
— Я так не говорила.
Около следующей скамейки она замедлила шаги.
— Если хотите, можем немного посидеть.
— Конечно.
Фрэнк вытер скамейку платком, и она села. Он снова предложил ей сигарету.
— Я же сказала, что не курю.
— Простите, я просто подумал, что вы не любите курить на ходу. Некоторые девушки не любят.
Он спрятал сигареты.
Она бросила взгляд на книгу, которую он держал в руке.
— Что вы читаете?
Он показал.
— «Жизнь Наполеона»?
— Да.
— Почему вас интересует Наполеон?
— Почему бы и нет? Это был великий человек, не так ли?
— Были люди, великие в другом — в чем-то лучшем.
— Я читаю и другие биографии.
— Вы много читаете?
— Да. Я любопытен. Мне хочется узнать, зачем люди живут на этом шарике. Почему они делают то, а не другое. Понимаете, о чем я говорю?
Она кивнула.
Фрэнк спросил, что читает она.
— «Идиот». Вы читали эту книгу?
— Нет. О чем это?
— Это роман.
— Я больше люблю читать правду, — сказал Фрэнк.
— Этот роман — правда.
Потом Элен спросила:
— Среднюю школу вы кончили?
— Конечно, — засмеялся Фрэнк. — В нашей стране образование бесплатное.
Элен покраснела.
— Простите, это был глупый вопрос.
— Я и не думал обижаться, — сказал он быстро.
— А я и не подумала, что вы обиделись.
— Я учился в школе в трех разных штатах, и в конце концов учился по вечерам. Вечернюю школу я и кончил. Хотел поступить в колледж, но подвернулась работа, я не мог от нее отказаться и решил подождать. Но это была ошибка.
— А я должна была помогать родителям, — сказала Элен, — и поэтому тоже не смогла поступить в колледж. Я ходила на вечернее отделение в Нью-Йоркский университет — слушала лекции по литературе. У меня почти достаточно зачетов за первый курс; но учиться по вечерам, после работы, очень трудно. Работа моя мне не нравится. Я хотела бы учиться днем, как все.
Он бросил окурок.
— Я подумываю о том, чтобы все-таки поступить в колледж, — сказал он. — Неважно, что мне уже двадцать пять. Я знаю одного парня, который тоже поступил в колледж, когда ему было двадцать пять.
— Вы хотите на вечернее отделение? — спросила Элен.
— Может быть, а может, буду учиться днем, если удастся найти подходящую работу — например, в ночном кафетерии или еще что-нибудь. Тот парень, о котором я говорил, он был заместителем управляющего, или что-то в этом роде. Прошло лет пять-шесть, и он стал инженером. А теперь у него навалом работы по всей стране, и он делает хорошие деньги.
— Учиться и работать — это очень тяжело.
— Времени не хватает, но к этому привыкаешь. Когда есть, к чему руки приложить, сон — пустая трата времени.
— На вечернем учиться дольше.
— Для меня это неважно.
— А для меня важно.
— По-моему, ничего нет невозможного. Я часто вспоминаю, что мне подвертывалось в жизни и что я упустил. Поэтому у меня в голове засело: не давай себе заниматься чем-то одним — может быть, что-то другое ты можешь делать лучше. Из-за этого, наверно, я такой беспокойный. Я вечно пробовал — не то, так это. У меня еще есть какие-то мечты, и я хочу чего-то добиться. Главное, это получить хорошее образование. Я не всегда так думал, но чем дальше я живу, тем больше так считаю. Теперь я только об этом и думаю.
— Я всегда так думала, — сказала Элен.
Он закурил новую сигарету и отбросил спичку.
— А кем вы работаете?
— Я секретарша.
— Вам это нравится?
Он курил, прищурив глаза. Она чувствовала, что он понимает, насколько ей осточертела ее работа; может быть, он случайно слышал, как об этом говорили ее отец или мать.
Помолчав, Элен ответила:
— Нет, не нравится. Работа очень однообразная. Изо дня в день одно и то же. А кроме того, меня с души воротит от всех этих типов, которые с утра до вечера увиваются вокруг меня.
— Каких типов?
— Коммивояжеров.
— Они что, пристают к вам?
— Они слишком много языками чешут. Мне хотелось бы делать что-нибудь полезное: быть преподавателем или социальным работником. То, что я сейчас делаю, не дает мне никакого удовлетворения. Я жду не дождусь, когда пробьет пять и я смогу наконец пойти домой. Вот и все, чем я живу.
Элен говорила о ежедневной рабочей рутине, но Фрэнк вдруг поймал себя на том, что почти не слушает. Он засмотрелся на силуэты деревьев в лунном свете, и на лице у него появилось отсутствующее выражение, мысли витали где-то далеко.
Элен чихнула; она размотала свою шаль и снова закутала голову, только более плотно.
— Может, пойдем?
— Сейчас, только докурю.
«Он нервничает», — подумала Элен.
Фрэнк глубоко вздохнул.
— Вы чем-то расстроены? — спросила она.
Фрэнк откашлялся, но все равно голос у него был хриплый.
— Нет, я просто смотрел на луну, и в голову лезло всякое. Знаете, как иногда бывает…
— Природа навевает на вас мечтательное настроение?
— Я люблю природу.
— Я тоже, поэтому я много хожу.
— Я люблю ночное небо; но на Западе небо — красивее. Здесь оно слишком высокое, потому что видишь его между небоскребов.
Фрэнк раздавил каблуком окурок и нехотя поднялся; он выглядел так, словно с юностью прощается.
Элен встала и пошла с ним рядом. По бесприютному небу катилась луна.
После долгой паузы Фрэнк сказал:
— Я хотел бы рассказать вам, о чем я думал.
— Пожалуйста, но это совсем не обязательно.
— Нет, я сам хочу. Я вспомнил о том, как я работал в карнавальном городке. Мне был тогда двадцать один год. И там я влюбился в одну акробатку. Фигурка у нее была вроде как у вас — такая же стройная. Сначала, по-моему, она меня не очень-то жаловала. Наверно, думала, что я слишком прост для нее. А сама она была ого какая серьезная, и настроение у нее было неустойчивое из-за того, что она вечно решала про себя кучу всяких проблем. Как-то раз она мне сказала, что хочет уйти в монастырь. Я говорю: «По-моему, это не для тебя». А она спрашивает: «Что ты обо мне знаешь?» Я ей ничего не ответил, но вообще-то я в людях немного разбираюсь, не спрашивайте, почему; наверно, что-то дается нам от рождения. Но, так или иначе, все лето я по ней сохнул, а она меня в грош не ставила — хотя, по-моему, больше никто за ней не приударял. Я ее спрашиваю: «В чем дело? Может, я для тебя слишком молод?» А она говорит: «Нет, но ты не знаешь жизни». Я говорил: «Если бы ты только могла заглянуть ко мне в душу, ты бы поняла, сколько я пережил». Но, по-моему, она мне не верила. Мы только говорили друг с другом, и дальше дело не пошло. Время от времени я пытался назначить ей свидание, но так ничего и не добился. И тогда я себе сказал: «Отступись, забудь ее, она интересуется только сама собой». А потом, как-то утром, уже в конце лета — чувствовалось, что осень на дворе — я ей сказал, что, как карнавал закончится, я уезжаю. Она спросила, куда я поеду. Я сказал: «Куда-нибудь, где можно получше устроиться». Она ничего не ответила, и тогда я спросил: «А ты все еще хочешь в монастырь?» Она покраснела, отвела глаза и сказала, что теперь она в этом не так уж уверена. Я видел, что в ней что-то изменилось, но я был не так глуп, чтобы подумать, что это из-за меня. Но кажется, что это-таки было из-за меня, потому что когда я случайно коснулся ее руки, она на меня так поглядела, что мне стало даже дышать трудно. «Боже ты мой! — подумал я. — Да ведь мы оба влюблены!» И тогда я сказал: «Дорогая, давай встретимся сегодня после представления и проведем вечер вдвоем». Она согласилась и быстро меня поцеловала. Но в тот вечер она взяла у своего старикана машину — старый такой, раздрызганный драндулет — и поехала покупать себе блузку; ей там в витрине приглянулась какая-то блузка; а когда она ехала назад, шел дождь, и я уже не знаю, что случилось — может, она не заметила поворота, — и этот драндулет съехал с дороги и сорвался в обрыв, и она погибла. Вот так все и кончилось.
Некоторое время они шли молча. Элен была растрогана. «Но зачем, — подумала она, — зачем все эти минорные воспоминания?»
— Мне очень жаль, — сказала Элен.
— Это было давно.
— Я понимаю, вы, наверно, чувствовали себя ужасно.
— Уж это точно, — сказал Фрэнк.
— Но жизнь продолжается.
— Да; а мне везет по-прежнему.
— Поступайте в колледж, как вы решили.
— Да. Обязательно поступлю.
Глаза их встретились, и у Элен мурашки пробежали по коже.
Они вышли из парка и направились к дому.
Перед входом в лавку Элен быстро пожелала ему спокойной ночи.
— Я еще постою на улице, — сказал Фрэнк. — Погляжу на луну.
Элен поднялась наверх.
Лежа в постели, она вспоминала прогулку с Фрэнком. «Интересно, — подумала она, — правду он мне рассказал о себе и о своих планах поступить в колледж?» Он не мог бы сказать ничего, что произвело бы на Элен лучшее впечатление. Но зачем он рассказал ей эту историю про девушку в карнавальном городке? Кто он такой, чтобы ухаживать за акробатками? Но говорил он обо всем этом просто, без всякой попытки разжалобить ее. Может быть, все это правда, и вспомнил он эту печальную историю потому, что сейчас ему так одиноко. А у нее есть свои невеселые воспоминания, которые тоже находят на нее при лунном свете. Думая про Фрэнка, Элен попыталась представить его себе, но — странно! — не смогла, все смешалось: помощник бакалейщика с голодными глазами смешивался в ее воображении с бывшим рабочим карнавального городка и с будущим серьезным студентом — человеком с перспективами.
Уже засыпая, Элен вдруг сообразила: а ведь Фрэнк хочет, чтобы она вошла в его жизнь! Она опять ощутила было прежнюю неприязнь к нему, но тут же без всяких усилий подавила ее. Жаль, что из окна ее спальни не видать неба, не выглянуть на улицу. Кто он такой, этот парень, который хочет залучить себе жену с помощью снежного лунного света?
А в бакалейной лавке Морриса выручка продолжала расти; особенно много покупателей было к Рождеству и к Новому году. За последние две недели декабря Моррис выручил сто девяносто долларов: сумма для него необыкновенная, просто сказочная. У Иды появилась новая теория, почему торговля шла так хорошо: в нескольких кварталах от них построили новый многоквартирный дом — это во-первых; во-вторых, поговаривали, что у Генриха Шмитца обслуживание стало гораздо хуже, чем было сразу после того, как он открыл свою лавку; и вообще, бакалейщик-холостяк — это было что-то необычное и даже подозрительное. Моррис не отрицал, что все это, наверно, так, но продолжал стоять на том, что главная причина — это появление Франка. Покупателям Фрэнк нравился — Моррис отлично понимал, почему, — поэтому они и сами приходили и своих знакомых сюда посылали. В результате дела у Морриса поправились, он стал сводить концы с концами и даже заплатил по кое-каким срочным счетам. В благодарность Фрэнку — который, впрочем, принимал рост выручки как должное, — Моррис решил прибавить ему жалованье, а то каждый раз было не по себе, когда он вручал Фрэнку эти несчастные пять долларов; но сначала, сказал он себе, нужно посмотреть, что будет в январе, такая же будет выручка или нет; в январе обычно дела шли хуже, чем всегда. Даже если он станет зарабатывать двести в неделю, после всех выплат ему будет оставаться так мало, что на эти деньги едва ли можно себе позволить держать в лавке приказчика. Для этого нужно, чтобы лавка давала как минимум двести пятьдесят или триста, а это — просто фантазия.
Однако, коль скоро дела все-таки пошли на лад, он сказал дочери, что теперь она может оставлять себе больше денег из своих двадцати пяти долларов в неделю, которые она с таким трудом зарабатывала.
— Оставляй себе пятнадцать долларов, — сказал он. — А если так же пойдет и дальше, ты сможешь всю зарплату себе оставлять.
Он надеялся, что так оно и будет. Элен, получив возможность тратить на себя огромную сумму — пятнадцать долларов в неделю, — была на седьмом небе от радости. Ей позарез нужны были новые туфли, и неплохо было бы еще купить новое пальто — ее пальто совсем уже поизносилось — и одно-другое платье. И еще она хотела начать откладывать деньги, чтобы снова записаться на курс в Нью-Йоркский университет. Она была согласна с отцом относительно Фрэнка: он и вправду принес им удачу. Вспоминая, как тогда, в парке, он говорил о своем желании получить образование, Элен чувствовала, что рано или поздно он добьется всего, чего хочет добиться, — чувствовала, что в нем что-то есть, что он — не просто обычный парень, каких много.
Он часто бывал в библиотеке. Почти каждый раз, когда Элен приходила в библиотеку, она видела, что он сидит за столом, а перед ним — раскрытая книга. «Интересно, — думала, она, — он что, проводит здесь все свободное время?» Тем, что Фрэнк много читал, он вызывал у нее уважение к себе. Сама Элен ходила в библиотеку раза два в неделю, каждый раз брала только одну или две книги, потому что ей нравилось брать и отдавать книги. Даже когда у нее бывало совсем уж похоронное настроение, ей всегда доставляло удовольствие видеть вокруг себя много-много книг, — хотя иной раз ее угнетала мысль о том, сколько она еще не прочла книг, которые стоит прочесть. Поначалу ей было не по себе от того, что она так часто сталкивалась с Фрэнком: чего ради он тут постоянно торчит? Но библиотека — это библиотека; Фрэнк, так же как и она, приходил сюда, потому что ему здесь что-то было нужно. Как и она, он много читал, потому что ему было одиноко. Впервые эта мысль пришла ей в голову после того, как он рассказал ей историю про акробатку. Постепенно ее неловкость прошла.
Хотя обычно он уходил из библиотеки одновременно с ней, но если она хотела идти домой одна, он не настаивал на том, чтобы ее провожать. Иногда она шла пешком, а он садился на трамвай. Но обычно, особенно если погода была хорошая, они шли домой вместе. Иногда — раза два — они сворачивали в парк. Он рассказал ей еще кое-что о себе. У него была совсем не такая жизнь, как у большинства ее знакомых, и она ему немного завидовала: он столько повидал! Ее собственная жизнь, думала она, была серой и унылой, как у ее отца: все вертелось вокруг его лавки и его привычек. Моррис не то что в другие города, но и дальше, чем за угол, едва ли заходил, разве что изредка — например, если нужно было вернуть покупателю какую-нибудь вещь, которую тот забыл на прилавке. Когда они были детьми и Эфраим был жив, отец любил по воскресеньям купаться на Кони-Айленде; а в еврейские праздники он брал детей посмотреть еврейский спектакль или вез их на метро в Бронкс к своим ландслойте. Но после того как умер Эфраим, Моррис годами не вылезал за пределы своего квартала. И она тоже — правда, по другим причинам. Да и куда ей было податься, у нее же ни цента не было. Она с жадностью читала о далеких странах, а сама все время сидела дома. Она дорого бы отдала, чтобы съездить в Чарлстон, или в Новый Орлеан, или в Сан-Франциско; она столько слышала об этих городах — а сама, пожалуй, никогда не бывала даже за пределами Манхеттена. Слушая рассказы Фрэнка про Мексику, Техас, Калифорнию и другие такие места, она с особой остротой понимала, какая у нее жалкая жизнь: каждый день, кроме воскресенья, она ехала на метро до 34-й улицы, а потом обратно. Кроме того, два вечера в неделю — в библиотеку и обратно. Летом, так же, как раньше, она — обычно во время отпуска — ездила на Манхеттенский пляж. Ну, и если посчасчастливится, выбиралась на концерт в Льюисон-Стейдиум, Когда ей было двадцать лет и она как-то особенно переутомилась, мать настояла, чтобы Элен съездила на неделю в недорогой летний лагерь в Нью-Джерси. А до этого, еще школьницей, она ездила вместе с классом на уик-энд в Вашингтон по программе «История Америки», и там их водили по правительственным учреждениям. Вот и все, и больше нигде она не была. Это же просто преступление — все время жить там, где родилась и выросла, и никуда больше носу не казать. Рассказы Фрэнка распаляли Элен — ей не терпелось путешествовать, испытывать приключения, жить!
Как-то вечером они сидели на скамейке в тенистой части парка, в стороне от большой лужайки, окруженной деревьями, и Фрэнк сказал, что он твердо решил осенью поступить, наконец, в колледж. Это почему-то привело Элен в странное возбуждение, несколько часов она ни о чем другом и думать не могла. Ей представлялось, какие интересные курсы он будет слушать и каких умных людей встретит среди товарищей-студентов, и как это будет прекрасно — учиться в колледже. Она воображала, как он будет выглядеть студентом: в элегантном костюме, коротко остриженный, причесанный; может быть, даже нос у него станет ровнее, а его английский сделается более культурным, правильным; он будет интересоваться музыкой, литературой, будет изучать философию, политику, психологию; и чем больше он будет знать, тем больше ему будет хотеться узнать, и он подымется во мнении других и в своем собственном. Она представляла себе, как он пригласит ее в колледж на концерт или на спектакль, и там она познакомится с другими студентами, его друзьями — людьми, которых ждет блестящее будущее. А потом они будут в темноте идти по саду, прилегающему к колледжу, и Фрэнк покажет, где находится какой корпус, и в каком здании он слушает лекции знаменитых профессоров. А если закрыть глаза, можно даже себе представить, что она — о чудо из чудес! — и сама здесь занимается, что она не случайная визитерша, которая слушает один или два вечерних курса, а утром возвращается в фирму «Левеншпиль — дамское белье». Он-таки заставил ее помечтать.
Чтобы помочь Фрэнку подготовиться к поступлению в колледж, Элен посоветовала ему прочесть несколько хороших книг — великих романов. Ей хотелось, чтобы эти романы Фрэнку понравились и доставили ему такое же наслаждение, какое получила она. Элен взяла в библиотеке «Мадам Бовари», «Анну Каренину» и «Преступление и наказание» — Фрэнк лишь краем уха слыхал об авторах этих произведений — и посоветовала ему прочесть. Он обратил внимание, что с каждой пожелтевшей страницей этих книг Элен обращается так, точно это Слово Божье. В этих книгах — сказала она — можно прочитать все, что человек не имеет права не знать, всю Правду Жизни. Фрэнк унес все три книги к себе в комнату и, завернувшись в одеяло, — в комнате было довольно холодно, — принялся читать. Это было нелегкое чтение: места и люди, которые в книгах описывались, были ему совсем незнакомы, об эти сумасшедшие имена и названия можно было язык сломать, а уж запомнить их, казалось, совершенно невозможно; и многие фразы были такие длинные и сложные, что Фрэнк, дойдя до конца предложения, забывал начало. Читая первые страницы, он раздражался: кому это нужно, продираться сквозь дебри непонятных обстоятельств и поступков? Он начал одну книгу, потом вторую, потом третью — и в конце концов в отчаянии сдался и бросил книги.
Но ведь Элен читала и так ценила эти книги; ему стало стыдно, что он не может их осилить, и он снова взялся за чтение. По мере того, как он одолевал все новые и новые главы, читать становилось легче, и люди, герои книги, начали его все больше и больше интересовать; у всех у них была несчастная жизнь — по той или по другой причине — и некоторые из них в конце концов погибли. Сначала Фрэнк читал урывками, но постепенно все больше вчитывался, и в конце концов одолел все три книги. Начал он с «Мадам Бовари» — сперва было просто любопытно, но когда он закрыл книгу, по спине у него пробегал холодок, он чувствовал себя опустошенным и разбитым. Фрэнк не понимал, почему этому писателю захотелось написать книгу о такой дамочке. Но ему было жалко бедную Эмму, жалко, что у нее все так получилось и она не нашла другого выхода, кроме как покончить с собой. Потом он взялся за «Анну Каренину». Эта женщина вызывала больше симпатии, и, наверно, в постели она была тоже лучше. И какая обида, что в конце романа она бросилась под поезд. И хотя Фрэнку казалось, что не так уж обязательно было эту книгу читать, его тронуло, как изменилось настроение Левина в лесу, когда он уже решил было повеситься. Вот уж этот, по крайней мере, хотел жить! «Преступление и наказание» вызвало у Фрэнка неприязнь, и в то же время книга его очень увлекла; все эти люда, едва они открывали рот, тут же начинали в чем-нибудь каяться: в какой-нибудь слабости, или в болезни, или в преступлении. А про Раскольникова читать было просто больно — про все его напасти. Сначала Фрэнку показалось, что Раскольников еврей, и он очень удивился, когда узнал, что вовсе нет. При всем том волнении, которое вызвала у Фрэнка эта книга, он иногда чувствовал, что Достоевский окунает его лицом в канаву с грязной водой, а иногда — что он уже месяц как в запое. Фрэнк был рад, когда дочитал книгу до конца, хотя проститутка Соня ему очень нравилась, и он еще много дней размышлял о ее судьбе.
Потом Элен посоветовала Фрэнку прочесть и другие книги этих писателей, чтобы лучше их понять, но Фрэнк стал отговариваться, что он и эти-то книги не очень понял.
— Я уверена, что вы все поняли, — сказала Элен, — если вы действительно, как сам говорите, разбираетесь в людях.
— Разбираюсь, — пробормотал Фрэнк.
Чтобы доставить ей удовольствие, он осилил еще две толстые книги; когда он их читал, ему порой становилось так тошно, что в глазах темнело, и, закрыв книгу, он чувствовал облегчение. «Интересно, — думал он, — что такого Элен находит в этих описаниях всяких напастей?» Он заподозрил, что она заметила, как он подсматривал за ней в ванной, и этими книгами хочет его наказать. Но потом сообразил, что это очень маловероятно. По крайней мере, после всех этих книг он задумался о том, что жизнь часто катится ко всем чертям, если человек не знает, что ему делать, как раз тогда, когда надо что-то сделать. И он понял, как легко сломать свою жизнь каким-то одним-единственным неверным поступком. Сделал неверный шаг — и потом всю жизнь будешь мучиться, как бы ты ни старался загладить то, что натворил. Временами Фрэнк, сидя поздно вечером у себя в комнате с книгой на коленях, завернувшись в одеяло и нахлобучив шляпу и все же дрожа от холода, ловил себя на том, что у него появляется странное ощущение, будто он читает про самого себя. Сначала это его забавляло и даже веселило, но потом стало угнетать.
Как-то тусклым, дождливым вечером Элен чуть было не поднялась в комнату Фрэнка, чтобы вернуть ему то, что он ей дал, а она не хотела; но в это время зазвонил телефон, Ида взяла трубку и позвала Элен. Фрэнк, который лежал в своей комнате на кровати и смотрел, как оконное стекло заливает струями дождя, слышал, что Элен спустилась по лестнице. Моррис был в лавке, он кого-то обслуживал, а Ида сидела в задней комнате и пила чай.
— Это Нат, — прошептала Ида, не двигаясь с места.
«Она скажет, что не прислушивается», — подумала Элен.
Ее первым побуждением было отказаться от разговора; но в голосе Ната была теплота (небось, приложил немало усилий для этого), а добрый, участливый голос в дождливый вечер — это добрый и участливый голос. Она легко могла себе представить, как Нат сейчас выглядит. Как было бы хорошо, если бы он позвонил ей раньше, еще в декабре, когда она так отчаянно хотела, чтобы он позвонил! А теперь она снова почувствовала, что она ему — чужая, хоть и сама не понимала, откуда взялось это чувство.
— Элен, что это тебя не видно? — спросил Нат. — Где ты пропадаешь?
— Я все время здесь, — сказала Элен, пытаясь скрыть легкую дрожь в голосе. — А ты?
— Что, кто-нибудь есть в комнате? Ты не можешь говорить свободно?
— Вот именно.
— Так я и думал. Я буду краток. Элен, это тянется уже Бог знает сколько времени. Я хочу тебя видеть. Что, если в субботу вечером вместе сходить в театр? Я завтра буду в центре и куплю билеты.
— Спасибо, Нат, но я, пожалуй, не пойду.
Нат прокашлялся.
— Элен, мне бы хотелось знать, как может человек защищаться, если он не знает, о чем говорится в обвинительном акте? Что я тебе сделал? Скажи!
— Я не прокурор и никого ни в чем не виню.
— Ну, если не винишь, назовем это просто делом — в чем дело? То мы с тобой так дружны, а то на другой день я — словно один-одинешенек на необитаемом острове. Что я тебе сделал, скажи?
— Не будем об этом говорить.
Ида поднялась и ушла в лавку, осторожно притворив за собой дверь. «Спасибо», — подумала Элен. Она понизила голос, чтобы ее не было слышно через стенной проем.
— Ты странная, — сказал Нат. — У тебя кое в чем совершенно старомодные понятия. Я всегда говорил, что ты напрасно мучаешь сама себя. Ну, к чему эти дурацкие угрызения совести из-за всякой ерунды? В наше-то время! В двадцатом веке люди чувствуют себя свободнее. Извини меня, что я тебе это говорю, но ведь это так.
Элен покраснела. К его чести, он достаточно проницателен.
— Мои понятия — это мои понятия, — сказала она.
— Что была бы за жизнь, — горячился Нат, — если бы люди стали жалеть о каждой своей счастливой минуте?
— Ты, наверно, один в комнате, — сердито сказала Элен, — что так откровенно обо всем рассуждаешь?
— Конечно, один, — сказал он обиженно. — Боже мой, Элен, неужели ты обо мне так плохо думаешь?
— Я же тебе сказала, что я не одна. Мама только что вышла из комнаты.
— Прости, я забыл.
— Ничего, все в порядке.
— Послушай, девочка, — сказал он мягко, — сложно выяснять отношения по телефону. Что, если я сейчас к тебе подскочу? Может, мы сумеем друг друга понять. Поверь, Элен, я вовсе не такая уж скотина. То, чего ты не хочешь, ты не хочешь, и это — твое личное дело. Но давай останемся друзьями и будем хоть иногда встречаться. Можно, я к тебе сейчас приду, и мы потолкуем?
— В другой раз, Нат, сейчас я занята.
— Чем?
— В другой раз.
— Ну что ж, ладно, — сказал он любезно.
Когда Нат повесил трубку, Элен несколько секунд стояла около телефона, раздумывая о том, права она была или не права, разговаривая с Натом таким образом. «Наверно, нет», — подумала она.
В кухню вошла Ида.
— Это был Нат? Чего он звонил?
— Просто так, поговорить.
— Он тебя куда-нибудь приглашал?
Элен кивнула.
— Ну, и что ты ответила?
— Я сказала, что в другой раз.
— Как это в другой раз? Что это значит? — вскинулась Ида. — Да что ты, Элен, старуха, что ли? Почему ты все время корпишь одна у себя в комнате? Этими твоими книжками не проживешь. Что с тобой?
— Ничего, мама.
Она двинулась к двери.
— Не забудь, что тебе уже двадцать три года, — крикнула Ида ей вслед.
— Знаю.
Элен поднялась в свою комнату, но и там не находила себе места. Она еще раньше думала о том, что должна будет сегодня сделать, и чувствовала, что делать это ей совсем не хочется.
Накануне вечером Элен повстречалась в библиотеке с Фрэнком — в третий раз за последние восемь дней. Когда они выходили, она заметила у него под мышкой какой-то пакет. «Рубашки, или белье», — подумала она. Но по пути домой Фрэнк бросил сигарету и, остановившись под уличным фонарем, протянул ей пакет.
— Это мне? Что там?
— Увидите.
Элен взяла пакет и поблагодарила Фрэнка. Дальше они почти не разговаривали. Он застал ее врасплох. Если бы ей хоть минуту подумать, она отказалась бы взять пакет, предложила бы ему остаться просто друзьями. Ведь они друг друга совсем не знали. Но раз уж она взяла, ей не хватало духу тут же вернуть пакет. Это была какая-то картонная коробка, и в ней — что-то тяжелое. Может быть, книга? Нет, для книги коробка слишком большая. Элен прижала пакет к груди и почувствовала, что где-то внутри нее зреет желание, толкающее ее к Фрэнку, и это вызвало в ней раздражение. Не доходя до лавки примерно полквартала, Элен попрощалась с Фрэнком и пошла вперед. В окне лавки еще горел свет.
Когда Элен вошла, родители были внизу, но ни Ида, ни Моррис ничего не спросили. Элен поднялась к себе и, дрожа, распаковала картонку. Там лежали два свертка, каждый был завернут в белую оберточную бумагу и перевязан красной тесьмой. Элен раскрыла первый сверток и обомлела: там был большой шарф ручной работы из отличной толстой черной шерсти. Во втором свертке лежало дорогое издание пьес Шекспира в красном кожаном переплете. Никакой карточки с надписью в коробке не было.
Элен опустилась на кровать. «Не могу, — подумала она. — Это дорогие вещи, он, небось, потратил на них чуть ли не весь свой заработок, который откладывает на колледж. Даже если и не так, все равно я не могу себе позволить принимать такие дорогие подарки. Это и вообще нехорошо, а уж когда дело касается Фрэнка, то вдвойне скверно».
Элен хотела сразу же пойти и оставить подарки у его двери с запиской. Но она не смогла это сделать сейчас — в тот же вечер, что он их ей вручил.
На следующий вечер она пожалела, что не вернула подарки накануне: тогда бы она могла непринужденнее разговаривать с Натом. Но подарки надо было как можно скорее вернуть.
Элен опустилась на четвереньки и вытащила картонку из-под кровати. Ее тронуло, что он преподнес такие хорошие вещи, каких ей еще никто никогда не дарил. Нат, в лучшем случае, приносил полдюжины маленьких красных роз.
«А ведь за подарки надо платить», — подумала Элен. Она затаила дыхание, поднялась с коробкой в руках по лестнице и осторожно постучалась к Фрэнку. Он, видимо, узнал ее шаги и уже ждал около двери. Кулаки у него были сжаты, ногти впились в ладони.
Когда дверь открылась, он взглянул на коробку в руке Элен и нахмурился.
Элен вошла и тихонько притворила за собой дверь. Ее удивило, что комнатушка у Фрэнка такая маленькая и бедная. На разобранной постели лежал носок, который он штопал.
— Ник и Тесси дома? — спросила Элен.
— Они вышли, — безжизненным голосом сказал Фрэнк, не отрывая отчаянного взгляда от своего подарка.
Элен протянула ему коробку.
— Большое вам спасибо, Фрэнк, — сказала она, пытаясь улыбнуться. — Но, по-моему, я не должна это брать. Вы будете поступать в колледж, и вам надо экономить каждый цент.
— Вы не поэтому возвращаете, — сказал он.
Элен покраснела. Она уже хотела было объяснить, что мать, если увидит подарки, устроит ей скандал; но вместо этого сказала:
— Я не могу их принять.
— Почему?
Это было трудно объяснить, и он не хотел облегчить ее положение, он просто держал в своих больших руках отвергнутые дары, как будто это были живые существа, которые только что умерли.
— Не могу, — сказала Элен. — У вас хороший вкус. Мне очень жаль, простите.
— Ладно, — сказал Фрэнк грустно.
Он бросил коробку на кровать, и книга упала на пол. Элен нагнулась, чтобы поднять, и ее поразило, что книга открылась на «Ромео и Джульетте».
— Спокойной ночи!
Элен выскользнула из комнаты и не слыша ног под собой сбежала по ступенькам лестницы. Когда она была уже в своей комнате, ей показалось, что где-то плачет мужчина. Она прислушалась, схватившись рукой за горло, но больше ничего не услышала.
Чтобы успокоиться, Элен приняла душ, влезла в ночную сорочку, набросила жакет и попыталась читать, но не смогла. Она и раньше замечала некоторые признаки, по которым можно было предположить, что Фрэнк в нее влюбился, но теперь была в этом совершенно уверена. Когда он шел с ней рядом, неся пакет, вид у него был какой-то необычный, хотя и шляпа и пальто на нем были те же. В нем было что-то серьезное, солидное, весомое, чего она раньше не замечала. Когда он вручил ей пакет, ее словно озарило. Это она была виновата, что все зашло так далеко. Она же себя предупреждала, что не нужно с ним связываться, поощрять его. Но она была так одинока, и ей нравилось иной раз побыть с ним вместе. Да и что она сделала? Просто ходила в библиотеку, зная, что и он там сидит. А на обратном пути она вместе с ним заходила куда-нибудь съесть пиццу и выпить кофе, слушала его рассказы, обсуждала с ним его планы поступить в колледж, говорила с ним о книгах, которые он читал. Но от родителей она все это скрывала. Он это знал. Неудивительно, что у него появились надежды.
Самое странное было то, что временами она чувствовала к нему какую-то нежность, он ей нравился. Фрэнк во многих отношениях был интересный человек, и если он выказывал какое-то искреннее чувство, то кто она такая, машина, что ли, чтобы не ответить ему тем же? Но она знала, что не следует всерьез им увлекаться, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Нет уж, она по горло сыта неприятностями! Она хотела жить спокойно, хватит с нее всяческих волнений. Они могли стать друзьями, могли даже в лунную ночь подержаться за руки, но больше — ни-ни! Ей нужно было ему что-то об этом сказать, дать ему понять; тогда бы он не тратил деньги ни на какие подарки ей, а сберег бы их на что-то более нужное для себя, а она сейчас не мучилась бы из-за того, что так его обидела. И все же она сама удивилась, что это ее так затронуло. Она не ожидала, что нечто подобное может случиться так быстро: у нее все всегда бывало наоборот — сначала она влюблялась, а потом уж мужчина, если это был не Нат Перл, отвечал ей взаимностью. Конечно, интересно, если для разнообразия однажды будет иначе, и неплохо, если бы такое случалось чаще, — но только не с таким человеком, как Фрэнк. Элен решила пореже ходить в библиотеку; тогда он все поймет — если до сих пор еще не понял — и оставит всякую надежду, что она его полюбит. Когда он поймет, что к чему, он преодолеет свою боль. Но чем больше Элен думала о Фрэнке, тем больше ее мучило беспокойство, и она никак не могла — хотя пыталась — сосредоточиться на книге. Когда Моррис и Ида заглянули к ней в комнату, свет был погашен и она, вроде бы, спала.
На следующее утро, уходя на работу, она, к своему удивлению, обнаружила, что в одном из мусорных баков, стоявших перед лавкой на краю тротуара, на самом верху лежит коробка, которую она накануне вернула Фрэнку. Элен раскрыла коробку и обнаружила там оба подарка. «Разве можно так обращаться с такими дорогими вещами!» — сердито подумала Элен. Она вынула из коробки шарф и книгу и вошла в лавку. Если она понесет эти вещи наверх, Ида спросит, откуда она их взяла, поэтому она решила спрятать все в подвале. Она включила свет, сбежала вниз по лестнице, стараясь не стучать каблучками, и спрятала книгу и шарф в нижнем ящике сломанного шифоньера. Грязную оберточную бумагу и красную тесьму она завернула в старую газету и бросила в мусорный бак. Проделав это, она заметила, что из окна глядит на нее отец, но лицо его не выражает никакого любопытства, лишь полное безучастие. Она вошла в лавку, поздоровалась, вымыла руки и отправилась на работу. В метро она чувствовала себя подавленной.
Вечером, после ужина, пока Ида мыла тарелки, Элен пробралась в подвал, достала шарф и книгу и поднялась к комнате Фрэнка. Она постучала, никто не ответил. Она хотела было положить вещи около двери, но подумала, что Фрэнк снова выбросит их, если она не поговорит с ним.
Дверь открыла Тесси.
— Он только что ушел, — сказала она.
Взгляд Тесси_был устремлен на книгу и шарф. Элен покраснела.
— Спасибо, Тесси.
— Что-нибудь передать?
— Нет, не надо.
Элен вернулась к себе и сунула вещи под кровать. Потом передумала и разложила их по разным ящикам комода, спрятав под своим бельем. Когда Ида вошла к ней в комнату, Элен слушала радио.
— Элен, ты сегодня вечером идешь куда-нибудь?
— Не знаю, может быть. Может, я схожу в библиотеку.
— Зачем ты так часто ходишь в библиотеку? Ты же пару дней назад там была.
— Мама, я иду на свидание с Кларком Гейблом.
— Элен, не дерзи.
Элен вздохнула и извинилась.
Ида тоже вздохнула.
— Некоторые родители хотят, чтобы их дети больше читали. А я хотела бы, чтобы ты поменьше читала.
— От этого я не выйду замуж быстрее.
Ида немного повязала в комнате у Элен, но потом забеспокоилась и спустилась в лавку. Элен вынула Фрэнковы подарки, запаковала их в толстую оберточную бумагу, которую купила по пути с работы, перевязала пакет веревкой и поехала на трамвае в библиотеку. Фрэнка там не было.
На следующий день после работы она снова постучалась к нему в комнату, потом сходила в библиотеку, но его не было ни тут, ни там.
— Фрэнк еще работает? — спросила она на следующее утро у отца.
— Конечно.
— Я его несколько дней не видела, — сказала Элен. — Я думала, что, может быть, он ушел.
— Он уйдет к лету.
— Он так сказал?
— Мама так сказала.
— И он об этом знает?
— Знает. А почему ты об этом спрашиваешь?
— Просто так, любопытно.
Элен отправилась на работу. Когда она вечером вернулась домой и вошла в лавку, Фрэнк спускался по лестнице. Она подождала, пока он сойдет вниз. Он приподнял шляпу и хотел уже было пройти мимо, но она остановила его.
— Фрэнк, зачем вы бросили ваши подарки в мусорный бак?
— А на что они мне?
— Но как же это? Так швыряться деньгами! Вы могли бы получить деньги обратно, у вас ведь их не густо.
Он улыбнулся:
— Разом густо, разом пусто.
— Не шутите. Я вынула эти вещи из бака, они у меня в комнате. Вы можете их взять.
— Спасибо.
— Снесите их назад в магазин и получите обратно деньги. Вам ведь сейчас нужно беречь каждый цент.
— С детства я терпеть не мог приносить обратно в магазин вещи, которые уже купил.
— Ну, так дайте мне чеки, и я сама это сделаю.
— Чеки я потерял.
— Фрэнк, — мягко сказала Элен, — иногда не все бывает так, как нам хочется. Не обижайтесь.
— Надеюсь, я буду уже на том свете, когда перестану обижаться, — ответил Фрэнк и вышел на улицу.
Элен вернулась к себе.
В выходной день Элен снова принялась вычеркивать дни в календаре. Она этого не делала с Нового года. В воскресенье на дворе потеплело, и Элен снова почувствовала беспокойство. Ей опять хотелось, чтобы позвонил Нат; но вместо Ната позвонила его сестра, и они в час или два пополудни пошли вдвоем прогуляться по Парквею.
Бетти было двадцать семь лет, и она была похожа на Сэма Перла. Крупная, костистая и довольно невзрачная на вид, она умела как следует причесать свои рыжие волосы и следила за своей внешностью. А вообще-то, по мнению Элен, с ней было скучно. У Бетти было мало общего с Элен, и виделись они редко, но время от времени им нравилось потолковать друг с другом или вместе сходить в кино. Недавно Бетти была помолвлена с бухгалтером из ее конторы и большую часть времени проводила с ним. На пальце у нее красовалось кольцо с бриллиантом. Элен ей немного завидовала, и добродушная Бетти, как будто догадываясь об этом, желала ей того же.
— Я уверена, это будет очень скоро, — сказала она.
— Спасибо, Бетти.
После того как они прошли несколько кварталов, Бетти сказала:
— Элен, я не люблю лезть в чужие дела, но я давно тебя хотела спросить, что произошло между тобой и моим братцем Натом. Я его однажды спросила, и он не мог толком ничего мне сказать.
— Ты знаешь, что в таких случаях бывает.
— Мне казалось, он тебе нравился.
— Нравился.
— Почему же ты больше не хочешь его видеть? Вы что поцапались?
— Ничего мы не цапались. Просто, мы думаем о разных вещах.
Больше Бетти ни о чем не спрашивала, но спустя какое-то время сказала:
— Может быть, Элен, дашь ему еще одну попытку. Он ведь вправду неплохой парень. И мой Шеп тоже так думает. Хуже всего то, что он думает, будто он умнее других и поэтому ему позволено больше, чем другим. Но он перебесится, и это пройдет.
— Может быть, — сказала Элен. — Я подумаю.
Они зашли в кондитерскую. Там уже дожидался Шеп Хирш — будущий муж Бетти, дородный человек в очках; он как раз собирался покататься с Бетти в своем понтиаке.
— Поехали с нами, Элен, — сказала Бетти.
— Мы будем рады, — сказал Хирш, приподнимая шляпу.
— Соглашайся, Элен! — подхватила Голди Перл.
— Спасибо, большое вам спасибо, — ответила Элен, — но я тороплюсь, мне нужно еще погладить белье.
Вернувшись домой, Элен немного постояла у окна своей комнаты. На заднем дворе чернели клочья грязного снега, выпавшего на прошлой неделе; нигде не было даже полоски зелени — ни травинки, ни цветочка, чтобы порадовать глаз, чтобы легче стало на сердце. Элен почувствовала себя так, словно всю ее скрутили и выжали; она в отчаянии схватила пальто, повязала желтую косынку и снова кинулась прочь из дому. Не зная, куда идти, она направилась к облетевшему, голому парку.
Неподалеку от входа в парк на перекрестке двух улиц находился маленький островок спокойствия — небольшой бетонный треугольник. Здесь люди днем отдыхали на скамейках, бросали арахис или крошки хлеба шумливым голубям. Вот и сейчас на одной скамейке сидел какой-то мужчина и кормил голубей. Кроме него на треугольнике никого не было. Человек поднялся, и голуби заколотили вокруг него крыльями и повзлетали вверх, два-три голубя примостились у мужчины на плечах, а один опустился на руку и стал клевать прямо из раскрытой ладони; я еще один голубь взгромоздился на шляпу. Орешки кончились, мужчина хлопнул в ладоши, и голуби разлетелись в стороны.
Элен узнала Фрэнка Элпайна. Она поколебалась: подойти или нет? Сначала ей не хотелось к нему подходить, но она вспомнила о свертках, лежавших у нее в комоде, и решила раз и навсегда покончить со всем этим. Дойдя до угла, она сошла с тротуара и направилась к треугольнику.
Фрэнк видел, что Элен идет к нему, но он еще сам не решил, хочет он с ней сейчас говорить или нет. Когда она вернула ему подарки, все его надежды рухнули. Он думал, что если бы Элен его полюбила, жизнь могла бы перемениться к лучшему, — а с другой стороны, его иногда пугала мысль о том, что придется как-то менять свою жизнь, пусть даже и таким образом. Что он выигрывает, например, если женится на ней и всю жизнь будет жить среди евреев? И, поколебавшись, он сказал себе: «Нет, это не для меня».
— Привет! — сказала Элен.
Фрэнк прикоснулся пальцами к шляпе. Выглядел он усталым, но глаза были ясные и спокойные, словно он прошел через какое-то испытание и с честью его выдержал. Элен мучилась угрызениями совести, что причинила ему столько страданий.
— Я был простужен, — объяснил Фрэнк.
— Вам нужно больше бывать на солнце.
Элен присела на самый краешек скамейки, словно боялась, что это — чужая собственность, и ее отсюда попросят. Фрэнк сел несколько поодаль. Один голубь стал по кругу гоняться за другим и вспорхнул на спинку скамейки. Элен отвела глаза от Фрэнка, но Фрэнк на нее и не смотрел, он следил за птицами.
— Фрэнк, — сказала Элен, — мне очень неприятно снова вам со всем этим надоедать, но я не могу вынести такого расточительства. Я знаю, вы не Рокфеллер, так что, пожалуйста, скажите мне, где вы купили такие прекрасные подарки, и я их верну. Может, мне отдадут деньги даже без товарных чеков.
Элен заметила, что глаза у Фрэнка темно-синие; как это ни смешно, он, казалось, ее боялся, словно она была для него слишком решительной, слишком серьезной. И в то же время она ему все еще нравилась. В последние несколько дней Фрэнк совсем о ней не думал, но сейчас, когда они сидели на одной скамейке, ему пришло в голову, что она все еще ему нравится. Это было бессмысленно, безнадежно, и в то же время — не совсем, потому что сейчас, сидя почти рядом с ней и видя ее осунувшееся, безрадостное лицо, он вдруг подумал, что надежда вовсе не потеряна.
Фрэнк повернулся к ней.
— Послушайте, Элен. — сказал он, хрустнув костяшками пальцев. — Может быть, я слишком поторопился. Если так, то извините, пожалуйста. Уж такой я человек, что если мне кто нравится, не умею скрывать, я люблю это показывать, люблю делать подарки… Понимаете? Хотя я знаю: не все любят, когда им делают подарки. Это их дело. А я вот люблю делать подарки, и тут ничего не попишешь: не могу себя переделать, даже если бы и хотел. Так-то вот! Вы меня тоже простите, что я психанул и выбросил подарки в мусорный бак, а вам пришлось их оттуда вытаскивать. Но я вам вот что хочу сказать. Давайте заключим соглашение. Вы возьмете одну из этих вещей, какую хотите, а другую отдадите мне. Пусть это будет вам на память от парня, с которым вы были когда-то знакомы и который хотел вас поблагодарить за то, что вы ему посоветовали прочитать хорошие книжки. Не беспокойтесь, я совсем не жду, что вы мне должны что-то взамен.
— Фрэнк… — сказала Элен, покраснев.
— Погодите, дайте мне кончить. Ну как, идет? Если вы возьмете себе что-то одно, мы поставим на этом крест; я верну другую вещь в магазин и возьму деньги. Ну, по рукам?
Элен не знала, что ответить, но ей так хотелось поскорее со всем этим развязаться, что она почти машинально кивнула головой.
— Отлично! — сказал Фрэнк. — Ну, что вы берете?
— Мм, шарф очень хороший, но я бы предпочла книгу.
— Ну, так берите книгу. Когда у вас будет время, принесите мне шарф, и я снесу его в магазин, обещаю вам.
Фрэнк закурил сигарету и сделал глубокую затяжку. Элен решила, что теперь, когда дело сделано, нужно с ним попрощаться и пойти дальше.
— Вы сейчас заняты? — вдруг спросил Фрэнк.
Она догадывалась, к чему он клонит.
— Нет.
— Не сходить ли нам в кино?
Элен задумалась. Что он, сначала все начинает, что ли? Она почувствовала, что нужно сразу поставить его на место, не то он зайдет слишком далеко. Однако, не желая снова его огорчать, решила сперва хорошенько обдумать, что она ему скажет, а потом уже поговорить с ним.
— Мне нужно рано вернуться домой.
— Ну, так пошли, — сказал он и встал.
Элен медленно развязала косынку, затем завязала ее снова, и они двинулись.
По дороге Элен думала, правильно ли она поступила, согласившись взять книгу, — взять, несмотря на все Фрэнковы заверения, что он от нее ничего не ждет. И когда Элен опять невольно спросила себя, нравится ей Фрэнк или нет, она вынуждена была признаться, что да, немного нравится. Нравится — но, впрочем, не настолько, чтобы это ее беспокоило, не настолько, чтобы это переросло во что-нибудь серьезное. Не в такого человека хотела бы она влюбиться! Она очень ясно себе это сказала — ибо, помимо всего прочего, в Фрэнке было что-то непонятное, скрытое, ускользающее; иногда казалось, что он лучше, чем кажется, иногда — хуже. Элен интуитивно чувствовала, что его надежды и мечты — это одно, а его личность — что-то другое; то есть, его настоящая личность — то, что он собой на самом деле представляет, когда ведет себя естественно и не пытается притворяться не тем, кто он есть; но поскольку притворяется он почти всегда, то, следовательно, тогда, когда он притворяется меньше. Элен не могла толком разобраться, как это все получается, ибо если Фрэнку все-таки удается делать вид, что он лучше, умнее, образованнее, чем на самом деле, то значит, в нем все это в какой-то степени есть, потому что если у человека вовсе этого нет, то никакими силами не удастся сделать вид, что есть. И все же Фрэнк скрывал и то, что в нем есть, и то, чего в нем нет. Одной рукой фокусник показывал, какие он держит карты, а другой рукой превращал их в дым. И в ту минуту, когда он раскрывался, объясняя, кто он такой, вы уже сомневались, правду ли он сейчас говорит. Это как смотреть в зеркало против зеркала и не знать, что верно, и что реально, и что имеет значение. Постепенно у Элен появилось ощущение, будто Фрэнк только притворяется искренним и, рассказывая о своих приключениях, о том, что он перенес в жизни, он лишь скрывает свою истинную сущность. Может быть, даже бессознательно, сам не понимая того, что делает. Элен спросила себя: а может быть, он уже женат? Как-то он ей сказал, что никогда не был женат. А не было ли чего-нибудь более серьезного с той девушкой-акробаткой, с которой он якобы только раз поцеловался? Он говорил, что нет. Если нет, то почему у Элен такое чувство, будто он что-то сделал, будто на нем какая-то ответственность, а за что именно, она не знает?
Они уже подходили к кинотеатру, когда она почему-то вспомнила слова матери и, к собственному удивлению, услышала, как у нее вдруг вырвалось:
— Не забывайте, что я еврейка.
— Ну и что? — спросил Фрэнк.
В темноте зала, вспомнив, что именно он ей ответил, Элен почувствовала себя несколько возбужденно — как будто она с разбегу ударилась головой о кирпичную стену, а на голове не осталось ни синяка, ни ссадины.
Она прикусила язык, но ничего не сказала.
«Ну, ладно, — подумала она, — во всяком случае, к лету его у нас не будет».
Ида страшно ругала себя за то, что согласилась оставить Фрэнка в лавке, хотя легко могла от него отделаться. Это была ее вина, и это — ее головная боль. Хотя у нее не было никаких доказательств, она подозревала, что Элен как-то заинтересовалась Фрэнком. Между ними что-то происходило. Спросить об этом дочь прямо она не решалась: ведь она сгорит от стыда, если Элен ей твердо ответит: «Нет». И Ида, как ни пыталась, не могла заставить себя доверять Фрэнку. Да, действительно, благодаря ему дела в лавке пошли в гору; но чем им придется с ним расплачиваться? Иногда, когда Ида входила в лавку и Фрэнк был там один, у него на лице появлялось, как она себя уверяла, какое-то угодливое выражение. Он часто вздыхал, что-то про себя бормотал, а если замечал, что за ним наблюдают, то сразу же притворялся веселым и беззаботным. Чем бы он ни занимался, казалось, он скрытно делает что-то еще, помимо того, что делает явно. Он напоминал человека с раздвоением личности: один Фрэнк находился в лавке, а другой — где-то в другом месте. Читая книгу, он тоже как бы не только читал, но и делал что-то еще. Даже его молчание говорило на языке, который невозможно было понять. Что-то тревожило Фрэнка, и Ида подозревала, что тут замешана ее дочь. Стоило Элен войти в лавку, как Фрэнк начинал чувствовать себя свободно, естественно, переставал быть озабоченным и становился вполне единой личностью. И хотя Элен, вроде бы, не замечала его, у Иды все же сердце было не на месте. Элен в присутствии Фрэнка вела себя совершенно спокойно, почти не обращала на него внимания, в ответ на его беспокойные взгляды только оборачивалась к нему спиной. И все-таки, — а может быть, отчасти именно поэтому, — Ида беспокоилась.
Как-то вечером, когда Элен ушла из дому, Ида услышала, как Фрэнк спускается по лестнице. Она быстро надела пальто, накинула на голову платок и побежала следом за ним на улицу. Он дошел до кинотеатра в нескольких кварталах от лавки, купил билет и вошел внутрь. Ида была почти уверена, что Элен уже сидит в кино и ждет Фрэнка. Она вернулась домой, вся кипя, и обнаружила, что Элен дома — гладит белье. В другой раз Ида следила за дочерью до самой библиотеки, битый час прождала на морозе, пока Элен не вышла, и потом кралась за ней обратно к дому. Она проклинала свою подозрительность, но ничего не могла с собой поделать: тревога не покидала ее. Однажды она подслушала, как Элен и Фрэнк говорят о какой-то книжке. Это насторожило ее. И когда позднее Элен как-то упомянула о том, что Фрэнк собирается осенью поступать в колледж, Иде показалось, будто дочь говорит это только для того, чтобы Ида заинтересовалась Фрэнком.
Ида завела обо всем этом разговор с Моррисом и спросила, не замечал ли тот чего-нибудь между Фрэнком и Элен.
— А, не говори глупостей! — отмахнулся бакалейщик.
Он подумал было про такую возможность, но, обмозговав все как следует, выбросил эту мысль из головы.
— Моррис, я боюсь, — сказала Ида.
— А! Ты всегда боишься, даже того, чего и нет вовсе.
— Скажи ему, чтоб он ушел: дела в лавке пошли лучше.
— Так-то так, — пробурчал бакалейщик, — но кто знает, как будут идти дела через неделю? Мы же решили, что он останется здесь до лета.
— Моррис, будут неприятности.
— Ну, какие могут быть от него неприятности?
— Моррис, — сказала Ида, скрестив руки, — помяни мое слово: не миновать беды.
На Морриса эти слова сначала не действовали, но потом он тоже заволновался.
На следующее утро бакалейщик и его помощник сидели за столом и чистили вареный картофель для салата. Кастрюля была освобождена от воды и стояла на боку. Они сидели рядом, наклонясь над грудой горячей, дымящейся картошки, маленькими ножами снимая тонкую кожуру с крупинками соли. Вид у Фрэнка был болезненный, он не брился, и под глазами лежала густая тень. Моррис подумывал, уж не запил ли его помощник, но от Фрэнка никогда не пахло спиртным. Они работали молча, каждый был погружен в свои мысли. Через полчаса Фрэнк вдруг заерзал на стуле и сказал:
— Послушайте, Моррис, если бы кто-нибудь спросил вас, в чем заключается еврейская вера, что бы вы ответили?
Моррис перестал чистить картошку и задумался.
— Я хотел бы понять, — продолжал Фрэнк, — что же все-таки такое евреи?
Моррис стыдился, что ему не хватает образования, и подобные вопросы его всегда смущали. Однако он чувствовал, что сейчас обязан ответить.
— Мой отец говаривал: для того, чтобы быть евреем, достаточно иметь доброе сердце.
— А что скажете вы?
— Ну, самое главное — Тора. Это — Закон. Еврей обязан верить в Закон.
— Можно вас кое о чем спросить? — продолжал Фрэнк. — Вы считаете себя настоящим евреем?
Моррис вскинулся.
— То есть как это так, считаю ли я себя настоящим евреем?
— Не обижайтесь, пожалуйста, — сказал Фрэнк. — Но, по-моему, я могу доказать, что вы не настоящий еврей. Во-первых, вы не ходите в синагогу; по крайней мере, я ни разу не видел, чтобы вы туда ходили. Во-вторых, ни вы, ни ваша семья не соблюдаете кошер. Вы даже не носите этой маленькой шапочки — я помню, один еврей-портной, с которым я познакомился в Чикаго, никогда не снимал ее. И еще тот портной три раза в день молился. Я слышал, как ваша супруга говорила, что вы открываете лавку даже по еврейским праздникам, хотя она рвет и мечет, чтобы вы этого не делали.
— Ну, иногда, — краснея, сказал Моррис, — приходится открывать лавку и по праздникам, коли хочешь что-то есть. Но в Иом-Киппур я-таки лавку не открываю. А что касается кошера, так за это у меня голова не болит: по-моему, в наши дни это устарело. Если я и стараюсь что-то делать, так это жить по еврейскому Закону.
— Но ведь все эти вещи — часть Закона, не так ли? И разве Закон не запрещает вам есть свинину? А я видал, вы ели бутерброд с ветчиной.
— Ну, по-моему, не так уж важно, пробую я свинину или нет. Для некоторых евреев это самое важное, но не для меня. Никто не скажет, что я не еврей, если мне вдруг захочется отведать ломтик ветчины. Но мне-таки да скажут, что я еврей, и будут правы, если я забуду Закон. Соблюдать Закон — значит делать то, что правильно: быть честным и творить добро. То есть, я имею в виду, не делать зла другим людям. Жизнь и так тяжела, зачем же мы будем еще кого-то обижать? Всем должно быть лучше, не только вам и мне. Мы ведь не животные. Поэтому и нуждаемся в Законе. Вот во что верит еврей.
— Но, по-моему, и в других религиях тоже есть эти идеи, — заметил Фрэнк. — Скажите, Моррис, почему евреи столько страдают? Такое впечатление, что им даже нравится страдать, а?
— Вам нравится страдать? Кому нравится страдать? Мы страдаем, потому что мы евреи.
— Вот я и говорю. Евреи страдают больше, чем надо.
— Раз уж ты живешь, значит, ты страдаешь. Одни люди страдают больше других, но это не потому, что им так хочется. Но я думаю, что если еврей не страдает ради Закона, так чего ради будет он страдать?
— А ради чего вы страдаете, Моррис? — спросил Фрэнк.
— Я страдаю ради вас, — спокойно сказал Моррис.
Фрэнк положил нож на стол и раскрыл рот.
— Что вы этим хотите сказать?
— Я хочу сказать, что вы страдаете ради меня.
Фрэнк промолчал.
— Если еврей забывает Закон, — закончил Моррис, — он нехороший еврей и плохой человек.
Фрэнк снова взял нож и стал скоблить картошку. Бакалейщик умолк, и Фрэнк больше не задавал вопросов.
Пока картошка остывала, Моррис, которого эта беседа взволновала, спросил себя, для чего Фрэнк ее затеял. Почему-то ему на мысль пришла Элен.
— Скажите правду, — обратился он к Фрэнку, — почему вы меня об этом спрашивали?
Фрэнк поерзал на стуле и медленно ответил:
— По правде говоря, Моррис, было время, когда я недолюбливал евреев.
Моррис, не двигаясь, глядел на Фрэнка.
— Но это было давно, — продолжал Фрэнк, — а после этого я узнал евреев получше. По-моему, я их просто тогда не понимал.
Лоб его покрылся испариной.
— Такое бывает, и часто, — сказал Моррис.
Но от этого Моррисова объяснения на душе у Фрэнка не стало спокойнее.
Как-то после обеда, взглянув на себя в зеркало, Моррис обратил внимание, что сильно оброс, и ему стало совестно. Он сказал Фрэнку, что ему нужно пойти в парикмахерскую, которая была напротив, через улицу. Фрэнк, молча изучавший страницу газеты «Миррор», посвященную скачкам, молча кивнул. Моррис снял передник, повесил на крюк и зашел в лавку, чтобы захвалив из кассы немного мелочи. Взяв из ящика несколько двадцатипятицентовых монет, он проверил, сколько они с Фрэнком сегодня наторговали, и остался доволен. После этого Моррис вышел из лавки, перешел через улицу и вошел в парикмахерскую.
В парикмахерской никого не было, и ему не пришлось ждать. Пока пахнущий оливковым маслом мистер Джаннола обрабатывал его голову и они беседовали о том, о сем. Моррис, хоть и смущенный тем. что заставил парикмахера состричь столько волос, поймал себя на том, что думает он почти все время о своей лавке. Если дело и дальше пойдет так же, как сейчас, — это, конечно, не рай, как у Карпа, но и не та ужасная нужда, что была всего несколько месяцев назад, — Моррис будет вполне доволен. Ида все еще пилила его, что он должен продать лавку, но какой толк продавать сейчас, когда повсюду спад и некуда вложить деньги? Эл Маркус, Брейтбарт, шоферы, с которыми он беседовал, — все жаловались, что дела швах. Может быть, летом, когда Фрэнк уйдет, он продаст лавку и поищет что-нибудь более стоящее.
Сидя в кресле парикмахера и поглядывая в окно на свою собственную лавку, Моррис с удовольствием отметил, что, пока он стригся, в ней побывало по крайней мере три покупателя. Один из них ушел с большой сумкой, в которой, наверно, представлял себе Моррис, унес не менее шести бутылок пива. И еще две женщины вышли с объемистыми пакетами, а одна при этом несла еще большую сумку. Если, рассуждал Моррис, каждая женщина взяла провизии на два доллара, то, значит, на круг он получил за это время добрых пять долларов и, значит, заработал себе на стрижку. Когда парикмахер размотал простыню и Моррис возвратился к себе в лавку, он зажег спичку и вгляделся в цифры на кассовом аппарате. К его удивлению, там было всего на три доллара больше той суммы, которую он заметил, уходя в парикмахерскую. Он был поражен. Как это может быть, что лавка наторговала всего на три доллара, если он сам видел, как покупатели выходили с бумажными пакетами и сумками, набитыми товаром? Может быть, там были большие коробки с дешевыми продуктами, вроде кукурузных хлопьев? Моррис едва верил своим глазам, у него от огорчения даже голова заболела.
В задней комнате он повесил на крюк пиджак и трясущимися руками завязал передник.
Фрэнк глянул на Морриса поверх газеты и улыбнулся.
— А после стрижки вы совсем иначе выглядите! Как овца, с которой состригли шерсть.
Бакалейщик, все еще сам не свой, молча кивнул.
— Почему вы такой бледный, Моррис?
— Я что-то плохо себя чувствую.
— Вам бы пойти наверх и вздремнуть.
— Позже.
Трясущейся рукой Моррис налил себе чашку кофе.
— Как дела? — спросил он, стоя спиной к Фрэнку.
— Потихоньку, — сказал Фрэнк.
— Много было покупателей, пока я стригся?
— Двое или трое.
Не смея посмотреть Фрэнку в глаза, Моррис прошел в лавку и постоял у окна, глядя на парикмахерскую; мысли его путались. Неужели итальянец ворует из кассы? Покупатели вышли, неся с собой горы продуктов, а сколько они заплатили? Может быть, он отпускает в кредит? Но Моррис говорил ему никогда этого не делать. Так что же?
В лавку вошел покупатель, и Моррис его обслужил. Покупатель потратил сорок девять центов. Проворачивая на кассовом аппарате покупку, Моррис увидел, что сумма подведена точно. Значит, аппарат работает исправно. Теперь Моррис был почти уверен, что Фрэнк подворовывает, и спросил себя, с каких пор он занимается этим, но ответить не мог.
Фрэнк вошел в лавку и увидел, что бакалейщик стоит у окна и вид у него, прямо сказать, неважный.
— Вы все еще плохо себя чувствуете, Моррис?
— Пройдет.
— Не шутите с этим. А то опять заболеете.
Моррис облизал языком губы, но не ответил. Весь день он ходил как в воду опущенный. Иде он ничего не сказал — боялся.
Несколько дней после этого он тщательно проверял Фрэнка. Поскольку у него не было точной уверенности, что Фрэнк ворует, Моррис решил, как в суде, трактовать сомнение в пользу обвиняемого; однако теперь за помощником нужен глаз да глаз, и Моррис решил, что не успокоится, пока не выяснит, ворует Фрэнк или нет. Иногда Фрэнк работал, а он сидел за газетой в задней комнате, притворяясь, что читает, но сам внимательно слушал, что именно берет тот или иной покупатель. Он складывал цены, и пока Фрэнк упаковывал покупки, быстро подводил приблизительный итог, а когда покупатель уходил, шел к кассе и старался как можно незаметнее проверить, сколько Фрэнк накрутил. Сумма всегда сходилась с его подсчетами, разве что на цент-другой больше или меньше. Иной раз Моррис говорил, что идет на несколько минут наверх, но вместо этого оставался за дверью и прислушивался к тому, что происходит в лавке. Сквозь щель в рассохшейся двери он мог даже видеть кое-что из того, что там делается. Он в уме складывал цены, а минут через пятнадцать проверял чеки — и всегда получалось именно то или примерно то, что он вычислил. Может быть, он зря усомнился в Фрэнке? Может быть, сидя в парикмахерской, он плохо рассмотрел, какие у покупателей были сумки — большие или не очень большие? И все-таки он не мог поверить, что тогда все трое истратили всего три доллара. Может быть, придя из парикмахерской, он своим вопросом неосмотрительно спугнул Фрэнка, и теперь тот стал осторожнее?
Поразмыслив, Моррис решил: да, возможно, Фрэнк действительно подворовывает, но это больше его, Моррисова вина, чем самого Фрэнка. Фрэнк ведь взрослый человек, у него есть свои потребности, а что Моррис ему платит? Каких-то шесть или семь долларов в неделю, включая жалкие комиссионные. Само собой, Фрэнк имеет бесплатную комнату и полный пансион, да еще сигареты, но что такое в наши дни шесть-семь долларов, когда пара приличных туфель стоит от восьми до десяти? Так что он, Моррис, сам во всем и виноват, если платит своему приказчику, как какому-нибудь рабу, — а ведь тот работает, как вол, да еще много чего делает по дому: на прошлой неделе, например, Фрэнк прочистил канализационную трубу в подвале и тем сберег Моррису пять, а то и все десять долларов, которые иначе пришлось бы заплатить водопроводчику; не говоря уже о том, что само присутствие Фрэнка в лавке привлекало покупателей.
И вот, хотя и при нынешней выручке Моррис только-только сводил доходы с расходами, однажды вечером, когда они с Фрэнком распаковывали только что полученные ящики с товаром и Моррис подавал коробки, а Фрэнк, стоя на стремянке, расставлял их по полкам, бакалейщик сказал:
— Фрэнк, по-моему, отныне и до лета вы заслужили, чтобы вам повысили жалованье. Теперь я буду платить вам пятнадцать долларов в неделю, без всяких комиссионных. Да я бы вам и еще больше платил, но вы же сами знаете, какие у нас дела.
Фрэнк сверху поглядел на бакалейщика.
— Зачем, Моррис? — спросил он. — Торговля идет так, что едва ли вы можете себе позволить платить мне больше, чем платите. Если вы будете давать мне пятнадцать долларов, ваша прибыль будет меньше. Пусть все остается, как есть, я вполне доволен.
— Вы молодой человек, у вас есть свои расходы.
— У меня есть все, что мне надо.
— Пусть будет так, как я сказал.
— Поверьте, это лишнее, — возразил Фрэнк, и в его голосе послышалось беспокойство.
— Нет, — твердо сказал Моррис, — берите.
Фрэнк кончил расставлять товары на полке, спустился вниз и сказал, что сходит к Сэму Перлу. Проходя мимо бакалейщика, он отвел глаза.
Моррис продолжал работать. Сказать Иде о новой прибавке Фрэнка он не решился, опасаясь, что та устроит ему скандал, поэтому решил ежедневно брать понемногу из кассы и в конце недели вручать эти деньги Фрэнку перед тем, как Ида будет выплачивать ему законное жалованье.
Элен чувствовала, что несмотря на все сомнения она начнет влюбляться в Фрэнка. Ей совсем не хотелось пускаться в этот головокружительный танец. Погода стояла холодная, часто шел снег, и у Элен было тяжелое время: она боролась со своими колебаниями, боясь совершить роковую ошибку, которая приведет к беде. Как-то ночью ей приснилось, что дом сгорел дотла и ее бедным родителям некуда идти: они стоят на тротуаре в одном белье и плачут. Проснувшись, Элен попыталась вызвать в себе былое недоверие к этому чужаку, но безуспешно. Чужак изменился, он перестал быть чужаком. И в этом было все дело, тут-то и крылась разгадка всего, что с ней происходило. Когда-то Фрэнк был неведомой, загадочной фигурой, он скрывался где-то в темноте, в углу подвала; теперь же он стоял, улыбаясь, в ярком солнечном свете, как будто все, что Элен о нем знала и не знала, слилось в какое-то здоровое, единое, легко запоминающееся целое. «Если он что-то скрывает, — думала Элен, — то только свое несчастное прошлое, когда он рос без родителей и ему пришлось хлебнуть горя». Теперь глаза его стали спокойнее, мудрее. Его сбитый набок нос, казалось, шел к его лицу, а лицо шло ему. Он вел себя благородно и если чего-то ждал, то с достоинством, заслуживавшим уважения. Элен чувствовала, что заставила его в чем-то измениться, и это в свою очередь сказалось и на ней. И сейчас было уже неважно, что раньше ей хотелось держаться от него подальше. Она чувствовала нежность к Фрэнку, хотела чаще быть с ним рядом. «Изменив его, я и сама изменилась», — думала Элен.
После того, как она согласилась принять книгу, их отношения стали какими-то иными. Более того, читая Шекспира, Элен теперь думала о Фрэнке, и ей даже казалось, что шекспировские герои говорят его голосом. Что бы она ни читала, Фрэнк все время занимал ее мысли — он произносил реплики персонажей, он принимал участие в сюжете, как будто вся литература сводилась к одним и тем же ассоциациям. И они, не сговариваясь, снова стали встречаться в библиотеке. То, что они виделись среди книг, успокаивало Элен; она думала: «Что плохого могу я сделать здесь, в библиотеке, к чему худому это может здесь привести?»
И Фрэнк тоже чувствовал себя в библиотеке увереннее, хотя, когда они шли домой, он отдалялся от нее и становился каким-то напряженным, словно чего-то опасался; он оглядывался назад, как бы желая проверить, не идет ли кто за ними. Но кому пришло бы в голову за ними следить? Он никогда не доходил с ней вместе до самой лавки; как и прежде, по взаимному молчаливому соглашению, она уходила вперед и входила в дом с черного хода, чтобы из окна лавки не было видно, что он пришел с той же стороны, откуда пришла и она. Элен объясняла осторожность Фрэнка тем, что он предчувствовал победу и не хотел из-за какой-нибудь нелепой случайности эту победу упустить. Значит, он ценил ее даже больше, чем ей того хотелось бы.
А затем, как-то вечером, они миновали поляну в парке и повернулись друг к другу. Она пыталась пробудить в себе чувство опасности, но он обнял ее, и это чувство куда-то провалилось и растворилось. Прижавшись к нему, ощущая его тепло, она почувствовала, что ее обдало жаром и она уплывает куда-то в ночь. Ее губы раскрылись, и она забылась в поцелуе, которого так долго ждала. Однако в эту минуту самой сладкой радости в ней вдруг опять проснулись прежние опасения, и они вызвали в ней боль, опечалили ее.
Но это была уже ее вина. Значит, она еще не готова к тому, чтобы полностью принять Фрэнка. Все еще что-то в ней говорило: «Нет!», действовало ей на нервы. Но по дороге домой ни он, ни она не могли забыть радость этого первого поцелуя. Но почему поцелуй должен вызывать такое волнение? Она видела тогда, что глаза у Фрэнка — печальные, и, оставшись одна, Элен расплакалась. Ну когда же придет, наконец, весна?
Элен пыталась одолеть любовь аргументами разума, и сама удавилась, насколько это не помогает, насколько вообще все эти аргументы зыбки; ей не удавалось, как прежде, спрятаться за своими логическими выкладками; они всплывали в мозгу, сменяя друг друга и исчезая, как будто появилось нечто, изменившее все знакомые и привычные нормы, ценности, даже жизненный опыт. Например, Фрэнк не был евреем. Еще недавно это поставило бы между Элен и Фрэнком непреодолимую преграду — а теперь ей казалось, что это совсем не так уж важно. Да и почему это должно иметь какое-нибудь значение, в наши-то дни? Вообще, что может иметь значение, кроме любви и счастья? Только позже, обдумав все это, Элен осознала, что нееврейство Фрэнка беспокоит ее не столько из-за нее самой, сколько из-за родителей. Хотя традиционного еврейского воспитания Элен почти не получила, она все-таки думала о себе как о еврейке, осознавала себя еврейкой, причисляла себя к евреям — не потому даже, что ей было кое-что известно о еврейской истории или еврейской религии, а скорее из-за того, через что евреи прошли в своей истории. Ей никогда даже в голову не приходило, что она может выйти замуж за кого-нибудь, кроме еврея. Но в последнее время она стала задумываться о том, что в нынешние трудные времена, когда так мало надежды найти счастье в жизни, любовь — это нечто почти невозможное и недостижимое, и поэтому самое главное — чтобы два человека были нужны друг другу, а на все остальное — наплевать. Что важнее: чтобы у ее будущего мужа были такие же религиозные убеждения, как и у нее (если уж вообще говорить о религии), или чтобы у него были такие же идеалы, чтобы они оба были влюблены, и хотели эту любовь сохранить, и еще хотели бы сохранить в себе все, что было в них лучшего? Чем меньше будут различия между людьми, тем лучше. Так она для себя решила, и ей было жалко тех людей, которые не пришли к тому же решению.
Однако ее логика, если это была логика, не могла подсказать, как быть с ее бедными родителями, если они дознаются, что происходит. Когда Фрэнк поступит в колледж, Ида, может быть, и перестанет недооценивать Фрэнка как человека. Но колледж — не синагога, а степень бакалавра — не бар-мицва; и Ида — и даже Моррис со всеми его либеральными идеями — все-таки будут настаивать на том, что Фрэнк должен быть тем, кем он вовсе не был. Элен была далеко не уверена, что сумеет уговорить родителей. Она приходила в ужас при мысли о том, какая в доме разразится гроза, как отец и мать со слезами на глазах будут ее умолять, и какой подлой по отношению к ним она будет себя чувствовать за то, что отняла у них даже то мизерное спокойствие и удовлетворение от жизни, какое у них еще оставалось; за то, что сделала их, и без того несчастных, еще несчастнее. Видит Бог, они уже достаточно настрадались! И все-таки — юность так коротка, много ли ее еще осталось? А ведь нужно жить дальше, и приходилось принимать трудные решения, делать выбор. Элен предвидела, что ей придется отстаивать себя, придется немало вытерпеть — но настоять на своем. Для Морриса и Иды это будет удар, но со временем они успокоятся и примирятся с тем, что случилось; и при этом Элен все-таки втайне надеялась, что когда-нибудь ее сын женится на еврейке, ее дочь выйдет замуж за еврея.
И если Элен выйдет за Фрэнка, первое, что она должна будет сделать, — это поддержать в нем мечту добиться чего-то большего. Нат Перл хотел стать кем-то; но для Ната это означало делать деньги, много денег, чтобы вести такой же образ жизни, какой вели некоторые его богатые друзья с юридического факультета. А Фрэнк был совсем другой: он хотел осознать себя как личность, у него были более достойные желания. Хотя Нат получил хорошее образование, Фрэнк лучше знал жизнь, он был глубже и умнее. Элен хотела, чтобы Фрэнк стал таким, каким он может стать, и у нее возник план, как помочь ему получить высшее образование. Может быть, позднее он получит не только степень бакалавра, но и магистра, — нужно только, чтобы он осознал, чего хочет. Элен поняла, что это значит сказать «прощай» своим собственным туманным планам окончить колледж, но она уже давно поняла, что этим планам едва ли суждено сбыться, и ей придется смириться с этим — только бы Фрэнк достиг всего, чего он может достигнуть, а она не может. Может быть, потом, когда он начнет работать, станет инженером или химиком, она тоже сможет поступить в колледж. К тому времени ей будет уже под тридцать, но можно пока подождать с детьми, чтобы помочь Фрэнку встать на ноги и чтобы она тоже почувствовала, что делает нечто важное и нужное. Кроме того, она надеялась, что они смогут уехать из Нью-Йорка. Ей хотелось поездить по стране. А если все будет хорошо, может быть, Ида и Моррис когда-нибудь продадут лавку и приедут жить возле них. Они могли бы поселиться в Калифорнии, у ее родителей был бы собственный домик, где они могли бы спокойно и счастливо доживать свою старость и часто видеться с внучатами. Многое еще можно сделать в будущем, если только не бояться этого будущего, не бояться идти на риск. Вопрос только в том, хватит ли у нее характера, чтобы не бояться?
Элен решила отложить принятие ответственного решения. Больше всего она боялась компромисса; сколько раз она видела, как люди высоко метили, а потом соглашались на что-то гораздо более скромное. Она боялась, что в определенный момент и сама пойдет на то, что удовлетворится каким-нибудь суррогатом своих мечтаний, не достигнет своих идеалов, пойдет на сделку со своим честолюбием. Этого ни в коем случае нельзя допустить, этого надо избежать любой ценой; если нужно, она выйдет замуж за Фрэнка, но если ее мечты потребуют, она откажется от него. Элен всегда терзалась страхом — этот страх был внутри нее, был основой всех ее прочих опасений, — страхом, что жизнь пойдет не так, как ей хотелось. Она была готова изменить те или иные частности, принять что-то вместо чего-то, но главное — самая суть ее мечты — это нечто такое, от чего она не могла отказаться. Ну, ладно, к лету она будет знать, что ей делать.
А тем временем Фрэнк каждый третий вечер приходил в библиотеку, и Элен встречалась с ним там. Но вот библиотекарша, симпатичная старая дева, стала улыбаться им, как старым знакомым; Элен смутилась, и они с Фрэнком начали встречаться в других местах: в кино, в пиццериях, в закусочных; но там трудно было как следует поговорить, а обняться тем более невозможно, — и, чтобы поговорить, они гуляли по улицам, а чтобы поцеловаться, прятались в укромных уголках парка.
Фрэнк сказал, что ему прислали из колледжа бюллетени, которые он запросил, и он договорился, что в мае копию его школьного аттестата пошлют в тот колледж, который он для себя выберет. Он дал ей понять, что знает о ее планах относительно него. Он был немногословен, так как боялся, что к нему вернется былая невезучесть, если он будет слишком много болтать.
Сначала он терпеливо ждал. А что ему еще оставалось делать? Ему и раньше приходилось подолгу ждать, он родился для того, чтобы ждать. Но вскоре, хотя он старался это скрывать, воздержание стало ему надоедать. Он устал целоваться в парадных или на холодной скамье в парке. Он вспоминал, как видел Элен в ванной комнате, и это воспоминание давило на него, как тяжелое бремя. Он так желал ее, что начал даже обдумывать, как бы заманить ее к себе в комнату и в постель. Он хотел освободиться, хотел почувствовать удовлетворение, заручиться каким-то залогом будущего. «Пока она тебе не отдастся, она не твоя, — думал он, — все они такие; это не всегда так, но тут это так». Он устал мучиться: «Я уже намучился в жизни, спасибо, хватит». Он хотел ее всю, целиком.
Теперь они встречались чаще. На скамейке Парквея, на уличных перекрестках — в широком мире, обдуваемом холодным зимним ветром. Когда шел дождь или снег, они скрывались в подъездах или шли домой.
Как-то Фрэнк пожаловался:
— Смешно! Мы уходим из одного и того же теплого дома, чтобы встречаться здесь на холоде.
Элен не ответила.
— Ладно, неважно, — сказал Фрэнк, глядя на ее взволнованное лицо, — пусть все будет, как есть.
Он хотел пригласить ее зайти к нему в комнату, но чувствовал, что она откажется, и промолчал.
Как-то холодным вечером, когда небо было усыпано крупными звездами, она повела его сквозь густые заросли, около которых они обычно сидели, к широкой лужайке, где в летние ночи на траве лежали влюбленные.
— Посидим минутку на земле, — предложил Фрэнк, — здесь никого нет.
Но Элен отказалась.
— Почему? — спросил он.
— Не сейчас, — сказала она.
Она поняла, хотя он потом отрицал это, что им овладело нетерпение. Иногда он целыми часами был в скверном настроении. Это ее волновало, и она думала о том, какие ржавые раны открыла в нем их бездомность.
Однажды вечером они сидели вдвоем на скамейке на Парквее; Фрэнк обнял ее; но они были слишком близко от дома, и поэтому Элен в таких случаях высвобождалась и вскакивала каждый раз, как кто-нибудь проходил мимо.
После того, как Элен трижды вскакивала и снова потом садилась, Фрэнк сказал:
— Послушай, Элен, это не дело. Нужно пойти куда-нибудь, где мы будем не на улице.
— Куда? — спросила Элен.
— А куда бы ты хотела?
— Никуда, Фрэнк. Я не знаю.
— И долго так будет продолжаться?
— Пока нам не надоест, — сказала Элен, улыбаясь, — или пока мы друг другу нравимся.
— Я не об этом. Меня бесит, что нам буквально некуда приткнуться, негде побыть вдвоем. Может быть, как-нибудь вечером ты придешь ко мне в комнату? Это нетрудно. Не сегодня — а, может быть, в пятницу, когда Ник и Тесси уйдут развлекаться, а твоя мать будет внизу, в лавке. Я купил электрокамин, в комнате теперь тепло. Никто и знать не будет, что ты там. Мы бы смогли побыть наедине. Мы же ни разу не были совсем одни.
— Я не могу, — сказала Элен.
— Почему?
— Не могу, Фрэнк.
— Будет у меня когда-нибудь возможность обнять тебя без того, чтобы совершать акробатические пируэты?
— Фрэнк, — сказала Элен, — я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Я не лягу с тобой в постель сейчас, если ты это имеешь в виду. Я не сделаю этого до тех пор, пока не буду уверена, что действительно тебя люблю, — может быть, пока мы не поженимся, если вообще до этого дойдет.
— Но я тебя об этом и не просил, — сказал Фрэнк. — Я просил только прийти ко мне в комнату, чтобы мы могли пробыть сколько-то времени вместе, в тепле и уюте, а не так, как здесь, где ты шарахаешься от любой тени.
Он закурил сигарету и стал молча пускать дым.
— Прости, — сказала она, помедлив. — Мне казалось, я должна тебе сказать, что я об этом думаю. Так или иначе, я собиралась тебе сказать об этом.
Они встали и пошли. Фрэнковы раны уже гноились.
Холодный дождь вымыл желтую слякоть из канав. Он не прекращался два дня. Элен обещала Фрэнку встретиться с ним в пятницу вечером, но ей смерть как не хотелось выходить под дождь. Улучив удобный момент, она сунула ему под дверь записку, а потом сошла вниз. В записке было сказано, что если Ник и Тесси пойдут в кино, Элен попробует пробраться в комнату Фрэнка.
В половине восьмого Ник постучал к Фрэнку и спросил, не хочет ли тот в кино. Фрэнк отказался, сославшись на то, что видел этот фильм. Ник сказал: «Пока!», и они с Тесси, завернутые в плащи и с зонтиками в руках, вышли из дому. Элен ждала, пока Ида спустится в лавку, к Моррису, но Ида сказала, что у нее болят ноги и она хочет отдохнуть. Тогда Элен сама спустилась вниз, громко стуча каблучками; она решила, что Фрэнк услышит, как она спускается, и догадается, в чем дело. Он поймет, что пока Ида слышит, куда Элен идет, она не сможет к нему прийти.
Однако через несколько минут Ида все-таки сошла вниз и сказала, что ей боязно наверху. Элен сообщила, что хочет зайти к Бетти Перл и сходить вместе с ней к портному, который шьет Бетти свадебное платье.
— На улице дождь, — сказала Ида.
— Знаю, мама, — ответила Элен, кляня себя за то, что вынуждена лгать.
Элен поднялась в свою комнату, надела шляпку, пальто и боты, взяла зонтик. Затем она спустилась вниз и громко хлопнула дверью, словно только что ушла. Потом осторожно отворила дверь и на цыпочках поднялась по лестнице.
Фрэнк догадался, что происходит, и как только она еле слышно постучала, сразу же открыл дверь. Элен была бледна, взволнована, но очень красива. Фрэнк обнял ее и почувствовал, как у нее бьется сердце.
«Сегодня она мне позволит» — подумал Фрэнк. Элен все еще чувствовала себя неловко. Ей потребовалось какое-то время для того, чтобы прийти в себя после того, как она солгала матери. Фрэнк выключил свет и настроил радиоприемник на легкую танцевальную музыку; теперь он лежал на кровати и курил. Элен несколько минут посидела в кресле, наблюдая за тем, как он курит, и слушая, как в окно, озаренное отблеском уличного фонаря, стучит дождь. Но когда он бросил окурок в стоявшую на полу пепельницу, она разулась и легла к нему на кровать, подвинув его к стенке.
— Вот так-то лучше, — вздохнул он.
Она лежала в его объятьях, закрыв глаза, ощущая спиной теплое, как рука, дыхание электрокамина. Сначала она как бы задремала, но потом очнулась: он начал ее целовать. Слегка напрягшись, Элен лежала без движения, а когда он перестал целовать, она обмякла. В окно тихо постукивал дождь, и Элен воображала, что это — теплый весенний дождь, хотя до весны еще было далеко. И в этом дожде росли всевозможные цветы, в том числе и весенние. И в цветочной тьме — сладкой цветочной ночью — она лежала с ним под звездным небом и подносила розу к своему горлу. Когда Фрэнк снова ее поцеловал, она страстно прильнула к нему.
— Дорогой!
— Элен, девочка моя, я тебя люблю!
Они еще раз, затаив дыхание, поцеловались, а потом Фрэнк стал расстегивать на ней блузку. Она села, чтобы расстегнуть лифчик, и почувствовала его пальцы у себя под юбкой.
Элен схватила его за руку.
— Пожалуйста, Фрэнк! Не надо так распаляться!
— Милая, чего мы ждем?
Он попытался просунуть руку дальше, но она сжала ноги. Тогда он схватил ее за плечи и повалил обратно на кровать. Она почувствовала, как он дрожит, прижавшись к ней, и на какое-то мгновение ей показалось, что он сейчас причинит ей боль, но этого не случилось.
Она лежала на кровати, застыв, не отвечая. Когда он снова ее поцеловал, она не шелохнулась. Через некоторое время он отпустил ее. При слабом свете электрокамина Элен увидела, какое у него несчастное лицо.
Она села на край кровати и застегнула блузку.
Фрэнк закрыл лицо руками. Он ничего не сказал, но она чувствовала, как он дрожит.
— О, Господи, — пробормотал он.
— Прости, — сказала Элен мягко. — Я тебе говорила, что не сделаю этого.
Прошло минут пять. Фрэнк медленно сел на кровати.
— Ты девушка, и поэтому боишься?
— Нет, не девушка, — сказала Элен.
— Я думал, что да, — сказал он удивленно. — Ты ведешь себя, как девушка.
— Я ведь сказала, что нет.
— Так почему же ты такая? Разве ты не понимаешь, каково это человеку?
— Я тоже человек.
— Так зачем ты это делаешь?
— Потому, что я считаю, что так надо.
— По-моему, ты сказала, что ты не девушка.
— Не обязательно быть девушкой, чтобы иметь свои идеалы по части секса.
— Я не понимаю. Если ты делала это раньше, почему ты не можешь этого теперь?
— Не могу — именно потому, что я делала это раньше, — сказала Элен, откидывая волосы. — В этом-то и суть. Я это делала, и потому не могу делать это с тобой. Я тебя предупреждала еще тогда, на Парквее.
— Не понимаю, — сказал Фрэнк.
— Это должно быть, когда любишь.
— Я же тебе сказал, Элен: я тебя люблю, — ты это знаешь.
— Но я тоже должна тебя любить. Иногда я думаю, что люблю, а иногда не уверена.
Он снова замолчал. Она отрешенно слушала музыку по радио.
— Фрэнк, не обижайся.
— Я устал от этого, — сказал он резко.
— Фрэнк, — продолжала Элен, — я сказала, что спала с кем-то другим, и, по правде говоря, мне жаль, что я это делала. Конечно, это доставило мне удовольствие, но потом я подумала, что дело того не стоило; только тогда, когда я соглашалась, я не знала, что буду такое думать, потому что я еще вообще не знала, чего хочу. Наверно, мне хотелось быть свободной, и я решила прийти к этому через секс. Но если не любишь, секс не приносит освобождения, и поэтому я дала себе слово, что не лягу в постель с мужчиной, которого не буду действительно любить. Я не хочу быть сама себе противна. Я не хочу поддаваться своим страстям, я хочу властвовать над собой, и ты тоже должен уметь владеть собой, если я тебя прошу. Я прошу это для того, чтобы когда-нибудь я могла тебя любить и не сдерживать себя.
— Ерунда какая-то, — сказал Фрэнк, — но, к его собственному удивлению, эти слова подействовали на него: он подумал, как прекрасно владеть собой, и ему захотелось, чтобы так было.
— Элен, — сказал он, — я не то хотел сказать.
— Знаю, — ответила она.
— Элен, — сказал он хрипло, — я хочу, чтобы ты знала, что я на самом деле очень хороший парень.
— Я так и думаю.
— Даже если я делаю что-нибудь плохое, я все равно хороший.
— Я понимаю, что ты имеешь в виду.
Они поцеловались, потом еще раз. Он подумал, что в жизни бывают вещи и похуже, чем ждать чего-то, от чего будет очень хорошо, когда ты это получишь.
Элен откинулась на кровати и задремала; она проснулась, когда вернулись Ник и Тесси и прошли к себе в спальню, обсуждая кинокартину, которую они только что смотрели. Это была картина о любви, и Тесси она очень понравилась. Когда они разделись и легли в постель, их двуспальная кровать заскрипела. Элен было не по себе из-за Фрэнка, но Фрэнк, казалось, вовсе не чувствовал неловкости. Ник и Тесси вскоре заснули. Элен прислушивалась к их тяжелому дыханию и думала, как ей спуститься на свой этаж, потому что если Ида не спит, она услышит шаги на лестнице. Но Фрэнк сказал, что он снесет ее на руках, а потом, через несколько минут, она поднимется наверх, как будто только что откуда-то пришла.
Она надела пальто, шляпку и боты, не забыла также зонтик. Фрэнк снес ее вниз по лестнице. Ида могла услышать на лестнице лишь его тяжелые шаги. Он поцеловал Элен на прощанье, пожелал ей спокойной ночи и пошел прогуляться под дождем, а вскоре Элен с шумом открыла дверь и поднялась к себе наверх.
После этого Ида заснула.
В дальнейшем Элен и Фрэнк снова встречались где-нибудь вне дома.
Однажды вечером, когда шел снег, входная дверь отворилась, и в лавку вошел сыщик Миногью; он толкал перед собою какого-то небритого верзилу в наручниках, лет двадцати семи, с усталыми глазами, без шляпы, в выцветшем зеленом плаще и хлопчатобумажных брюках. Войдя в лавку, тот поднял свои скованные руки и смахнул с мокрых волос снег.
— Где Моррис? — спросил Миногью у Фрэнка.
— В задней комнате.
— Проходи, — сказал Миногью верзиле в наручниках.
Они вошли в заднюю комнату. Моррис, сидя на кушетке, втихомолку курил. Он быстро выбросил окурок в мусорное ведро.
— Моррис, — сказал Миногью, — мне кажется, я поймал того субчика, который стукнул тебя по голове.
Лицо бакалейщика побелело, как мел. Он взглянул на верзилу, не вставая с кушетки.
— Я не знаю, он ли это, — пробормотал Моррис. — У него лицо было закрыто платком.
— Этот сукин сын — рослый малый, — сказал Миногью. — Тот, который тебя стукнул, тоже был высокий, правда?
— Нет, — сказал Моррис, — он был плечистый. Высокий был другой.
Фрэнк стоял в дверях, наблюдая за происходящим.
Мистер Миногью повернулся к нему:
— А это кто такой?
— Мой помощник, — сказал Моррис.
Сыщик расстегнул пальто и вынул из кармана чистый платок.
— Будьте любезны, — сказал он Фрэнку, — повяжите ему Я1 это на рожу.
— Мне что-то не хочется, — сказал Фрэнк.
— Уж будьте любезны! А то меня он может стукнуть наручниками.
Как это ни претило Фрэнку, он взял платок и обвязал им лицо верзилы, который стоял спокойно и даже не шелохнулся.
— Ну, как, Моррис, похож?
— Гм! Не могу сказать, — выдавил из себя Моррис и вынужден был снова опуститься на кушетку.
— Моррис, дать вам воды? — спросил Фрэнк.
— Не нужно.
— Не торопитесь, — сказал Миногью, — поглядите на него как следует.
— По-моему, это не он. Тот вел себя очень грубо. И голос у него был грубый, неприятный голос.
— А ну, скажи что-нибудь, сынок, — обратился Миногью i к верзиле.
— Этого я не грабил, — произнес тот безжизненным голосом.
— Ну, как, Моррис?
— Нет.
— Может, он больше похож на второго, на напарника?
— Нет, он совсем другой.
— Почему вы так уверены, Моррис?
— Так тот напарник был очень нервный. И ростом он был выше. У этого вон маленькие руки, а у того напарника руки были большие, крупные.
— Вы уверены? Этого парня мы взяли вчера с поличным. Он грабил бакалейную лавку; с ним был еще один субчик, но тот успел удрать.
Миногью снял с лица верзилы платок.
— Я его не знаю, — решительно сказал Моррис.
Мистер Миногью сложил платок и спрятал в карман. Затем он снял очки, положил их в кожаный очешник.
— Кажется, Моррис, я уже вас однажды спрашивал про моего сына, Уорда. После этого вы так его и не видели?
— Нет, — ответил бакалейщик.
Фрэнк подошел к раковине, набрал стакан воды и прополоскал рот.
— А вы — может быть, вы его знаете? — спросил сыщик Фрэнка.
— Нет.
— Ну, ладно, — сказал Миногью, застегивая пальто. — Кстати, Моррис, вы так и не обнаружили, кто тогда таскал у вас молоко?
— Больше никто ничего не таскает, — сказал Моррис.
— Пошли, сынок, — сказал сыщик верзиле.
Фрэнк наблюдал через окно, как они влезли в полицейскую машину, и ему стало жаль парня.
«Что, если бы меня сейчас так арестовали? — подумал он. — А ведь сейчас я — совсем не тот человек, что был тогда».
Моррис, вспомнив о пропаже молочных бутылок, виновато взглянул на Фрэнка.
Фрэнк посмотрел на свои большие руки и пошел в туалет.
Лежа после ужина на кровати и думая о своей жизни Фрэнк услышал, что кто-то поднимается по лестнице, затем раздался стук в его дверь. Он так и обмер от страха, но заставил себя встать и открыть дверь. На пороге, улыбаясь из-под своей дурацкой бесформенной шляпы, стоял Уорд Миногью. Он был тощ, бледен — краше в гроб кладут.
Фрэнк впустил Уорда и включил радио. Уорд сел на кровать; его ботинки были в снегу, и с них капало.
— Кто тебе сказал, что я здесь живу? — спросил Фрэнк.
— Я видел, как ты вошел в холл, и слышал, что ты поднялся сюда и хлопнул дверью.
«Неужели я так никогда и не отделаюсь от этого подонка?» — в отчаянии подумал Фрэнк.
— Тебе лучше держаться отсюда подальше, — сказал он. — Если Моррис тебя узнает, а это в твоей дурацкой шляпе проще пареной репы, так нам обоим придется видеть небо в клеточку.
— Я навестил моего пучеглазого дружка Луиса Карпа, — сказал Уорд. — Я хотел взять бутылку, но он не дал, потому что у меня наличных не хватает. Вот я и подумал, что мой красавчик приятель Фрэнк Элпайн одолжит мне пару центов. Он же честный, работящий сукин сын.
— Ты обратился не по адресу. Я сам нищий.
Уорд покосился на Фрэнка.
— Я уверен, ты кое-что поднакопил из того, что натаскал у еврея.
Фрэнк посмотрел на него, но ничего не ответил.
Уорд огляделся по сторонам.
— Впрочем, сколько ты у него тащишь, это не моя забота. А пришел я вот за чем. Есть тут у меня на примете одно дельце, и мы с тобой могли бы его обтяпать, без всякого риска.
— Я уже тебе сказал, Уорд, меня твои делишки не интересуют.
— А я думал, ты хочешь получить назад твою пушку. А то вдруг она случайно потеряется, а на ней — твое имя.
Фрэнк потер руки.
— Тебе ничего не придется делать, только вести машину, — осклабясь, продолжал Уорд. — Это большой винный магазин в Бей-Ридже. После девяти часов там остается только один продавец. Есть шанс взять больше трех кусков.
— Уорд, еще раз тебе говорю: на меня в таких делах больше не рассчитывай. И, по-моему, как ты выглядишь, так тебе нужнее не винный магазин, а больница.
— Вот еще! Небольшая изжога!
— Лучше подумай о своем здоровье.
— Ой, ты меня разжалобил, я сейчас просто заплачу!
— Почему бы тебе не завязать?
— А тебе?
— Я завязал.
— Это твоя жидовочка тебя вдохновляет?
— Не говори о ней, Уорд.
— Я за вами следил на той неделе, вы ходили в парк. Лакомый кусочек! И часто ты с ней?…
— А ну, проваливай отсюда!
Уорд встал.
— Гони на бочку пятьдесят монет, не то я доложу твоему жидовскому боссу, какие у тебя шашни с его дочуркой. И еще я напишу ему письмецо, где расскажу, кто именно был в ноябре участником налета на его вшивую дыру.
Фрэнк поднялся, лицо его исказилось. Вынув из кармана бумажник, он выпотрошил его на кровать. Там было восемь долларовых бумажек.
— Вот все, что у меня есть.
Уорд схватил деньги.
— Хорошо, за остальным я приду в другой раз.
— Уорд, — сказал Фрэнк, стиснув зубы, — если ты еще раз притащишь сюда свой зад или будешь следить за мной и этой девушкой, или хоть слово скажешь Моррису, то первое, что я сделаю, это позвоню в полицию и сообщу твоему старику, где он может тебя найти. Он как раз сегодня был в лавке и спрашивал про тебя. И, по-моему, если он тебя встретит, он тебе голову оторвет.
Уорд выругался и плюнул в Фрэнка, но не попал; плевок угодил в стену.
— Жид вонючий! — крикнул он.
Выскочив из комнаты, он скатился по лестнице. Моррис и Ида выглянули, чтобы посмотреть, кто это наделал такой тарарам, но Уорда уже и след простыл.
Фрэнк лег на кровать и закрыл глаза.
Однажды темным, ветреным вечером, когда Элен в довольно поздний час ушла из дому, Ида выскользнула следом за ней и засеменила по холодным, выстуженным улицам, через продуваемую насквозь площадь в темный, тенистый, пустой парк. Там она увидела, как ее дочь встретилась с Фрэнком Элпайном. В парке, между полукружием высоких кустов сирени и густой кленовой рощицей, спряталась укромная лужайка; на лужайке стояло несколько скамеек, здесь было темно и сюда редко кто заглядывал. Элен с Фрэнком любили сюда приходить, чтобы побыть вдвоем. Ида подсмотрела, как они уселись на одну из скамеек и поцеловались. У нее потемнело в глазах, и она ни жива ни мертва поплелась домой. Моррис уже спал, будить его ей не хотелось, и она села на кухне и заплакала.
Когда она вернулась и увидела, что мать плачет, сидя за кухонным столом, она сразу же поняла, что Ида все знает; Элен была одновременно и тронута и напугана.
Она с жалостью спросила:
— Мама, почему ты плачешь?
Ида подняла, наконец, заплаканное лицо и в отчаянии заголосила:
— Почему я плачу? Я оплакиваю весь мир! Я оплакиваю мою пропащую жизнь! Я оплакиваю тебя!
— Что я такого сделала?
— Ты меня ударила прямо в сердце.
— Я не сделала ничего дурного, ничего такого, отчего мне должно быть стыдно.
— И тебе не стыдно, что ты целуешься с гоем?
Элен задохнулась.
— Мама, неужели ты за мной следила?
— Да, — сказала Ида плачущим голосом.
— Мама, как ты могла?
— А как ты могла целоваться с гоем?
— Мне не стыдно, что мы целовались.
Она все еще надеялась, что ей удастся избежать тягостной сцены. Все произошло слишком быстро, Элен к этому разговору не подготовилась.
— Если ты выйдешь замуж за такого человека, — сказала Ида, — вся жизнь у тебя будет разбита.
— Мама, успокойся. Я пока ни за кого не собираюсь замуж.
— Какое может быть замужество с человеком, которому девушка позволяет себя целовать в парке, где их никто не видит?
— Я целовалась и раньше.
— Но он же гой, итальянер!
— Он человек, мама, такой же человек, как мы.
— Человек — этого еще мало. Еврейской девушке нужен только еврей.
— Мама, уже поздно. Мне не хочется спорить. Мы можем разбудить папу.
— Фрэнк — не для тебя. Не нравится он мне. Его глаза не смотрят на того, с кем он говорит.
— У него просто печальные глаза. Потому что он в жизни хлебнул горя.
— Так пусть он пойдет и найдет себе какую-нибудь шиксу, а не еврейскую девушку.
— Мама, мне утром на работу, я устала, я пошла спать.
Ида немного успокоилась и вошла в комнату дочери, когда та уже раздевалась.
— Элен, — сказала она, стараясь удержаться от слез, — ведь я же тебе добра хочу. Не сделай такой ошибки, какую сделала я. Ты же испортишь свою жизнь, он же бедный человек, простой продавец в бакалейной лавке, и мы о нем ничего не знаем. Выйди замуж за кого-нибудь, кто даст тебе хорошую жизнь, за какого-нибудь приличного молодого человека, с профессией, с высшим образованием. Ну, что тебе делать с этим чужаком? Элен, я знаю, что говорю, поверь мне, знаю.
Она снова заплакала.
— Я постараюсь, — сказала Элен.
Ида вытерла глаза платком.
— Элен, дорогая, сделай для меня одну вещь.
— Что еще такое? Я очень устала.
— Пожалуйста, позвони завтра Нату. Просто поговори с ним. Скажи: «Здравствуй», и если он тебя куда-нибудь пригласит, согласись. Дай ему возможность за тобой поухаживать.
— Я уже давала.
— Прошлым летом тебе было с ним так хорошо. Вы вместе ездили на пляж, ходили на концерты… Что случилось?
— У нас разные вкусы, — уныло сказала Элен.
— Прошлым летом ты говорила, что они у вас одинаковые.
— А потом я поняла, что это не так.
— Элен, он — хороший еврейский парень, он учится в университете. Дай ему возможность…
— Хорошо, мама, я уже сказала. Теперь ты ляжешь спать?
— И не ходи больше с Фрэнком. Не давай ему себя целовать, это нехорошо.
— Я ничего не обещаю.
— Пожалуйста, Элен.
— Я же сказала: Нату я позвоню. И хватит об этом. Спокойной ночи, мама.
— Спокойной ночи, — грустно сказала Ида.
Хотя выполнять просьбу матери Элен ужасно не хотелось, все же на следующий день она позвонила с работы Нату. Он ее радостно приветствовал, сообщил, что купил у будущего зятя подержанную машину, и пригласил Элен с ним прокатиться.
— Хорошо, давай как-нибудь прокатимся, — сказала Элен.
— Как насчет того, чтобы в пятницу вечером? — предложил Нат.
На пятницу у Элен было назначено свидание с Фрэнком.
— А, может быть, в субботу? — спросила она.
— В субботу я занят, и в четверг тоже: у меня дела на факультете.
— Хорошо, тогда в пятницу, — неохотно согласилась Элен, подумав, что лучше перенести свидание с Фрэнком, только бы выполнить просьбу матери.
Вечером, когда Моррис, поспав после обеда, сошел вниз, Ида в отчаянии попросила его немедленно рассчитать Фрэнка.
— Дай мне десять минут подумать, — сказал Моррис.
— Моррис, — сказала Ида, — вчера вечером я вышла из дому следом за Элен, и она встретилась с Фрэнком в парке, и они целовались.
Моррис нахмурился.
— Он ее целовал?
— Да.
— И она его целовала?
— Я собственными глазами видела.
Подумав, бакалейщик устало сказал:
— Ну, и что же, что они целовались? Что такое поцелуй? Поцелуй — это ничего.
— Ты что, рехнулся? — вскипела Ида.
— Он же скоро уйдет, — напомнил Моррис. — Летом.
Глаза Иды наполнились слезами.
— До того, как будет лето, десять раз стрясется беда.
— Какая беда? Смертоубийство, что ли? — спросил Моррис.
— Хуже! — крикнула Ида.
У него захолонуло сердце, и, потеряв терпение, он заорал:
— Оставь меня одного, дай подумать, слышишь?
— Увидишь, быть беде! — горько предупредила Ида.
В четверг на этой неделе Джулиус Карп оставил в лавке Луиса и вышел на улицу, чтобы заглянуть в окно Моррисовой лавки и выяснить, тут ли Моррис и один ли он у себя. Карп не появлялся здесь с того вечера, как бакалейщика ограбили, и теперь поеживался, думая о том, как отнесется Моррис к его визиту. Обычно после ссоры именно Моррис делал первый шаг к примирению, так как не умел слишком долго сердиться; но на этот раз он выкинул из головы всякую мысль о том, чтобы восстановить добрососедские отношения с виноторговцем — отношения, которые ни к чему не вели. Когда бакалейщик, выздоравливая, лежал в постели, он много думал о Карпе — и пришел к выводу, что Карп ему очень и очень не нравится — гораздо больше, чем он раньше предполагал. Моррис понял, что Карп — невежественный, глупый человек, которому повезло в жизни и который только поэтому разбогател. Но сама его удача была неудачей для окружающих, как будто на свете людям, всем вместе, было отпущено лишь определенное количество удачи, и Карп отхватил себе львиную долю, так что другим уже мало что осталось. Моррис с горечью вспоминал о том, сколько он вкалывал, не получая полного вознаграждения. Хотя это была не Карпова вина, но в том, что напротив обосновался другой бакалейщик, был виноват Карп. А еще бакалейщик не мог простить ему, что грабители ударили по голове именно его, Морриса, а не Карпа, более богатого и более здорового, которому было бы легче этот удар перенести. И поэтому Моррис испытывал какое-то своеобразное удовлетворение от того, что не разговаривал с Карпом, хотя тот и жил совсем рядом.
С другой стороны, Карп ждал, пока Моррис первый протянет ему руку. В своем воображении он рисовал картину; бакалейщик прерывает свое зловещее молчание, и он, Карп, наслаждается признаками примирения и жалеет беднягу, которому в жизни так не везет — НЕ ВЕЗЕТ, большими буквами. Есть люди, которым на роду написано быть неудачниками. Все, к чему прикасался Карп, превращалось в чистое золото; а вот Моррис Бобер если, вдруг находил на улице яйцо, то оно обязательно оказывалось тухлым. Такому человеку в жизни нужен советчик даже для того, чтоб говорить ему, как одеться, чтобы не вымокнуть под дождем. Но Моррис — неважно, знал ли он или не знал, что чувствует его сосед, — упорно не желал даже замечать Карпа, когда шел покупать свою ежедневную «Форвертс» и проходил мимо винной лавки, а Карп стоял перед входом или глядел из окна, и взгляды их встречались. Прошел месяц, два, теперь уже почти четыре, и Карп с неудовольствием констатировал, что если Ида все еще относится к нему дружелюбно, то Моррис явно не собирается сдаваться, и от него просто так ничего уже не получишь. Сперва Карп решил: ну, что ж, раз так — он будет платить Моррису той же монетой — безразличием. Но потом понял, что безразличие — это не тот товар, которым он хотел бы обмениваться с Моррисом. Почему-то — он и сам не понимал, почему, — Карпу хотелось, чтобы Моррис к нему хорошо относился, и его брало за живое, что Моррис продолжает воротить нос от него. Ну, ограбили его, ну, стукнули по голове — а причем тут Карп? Ведь он-то, Карп, стерегся — так чего же не стерегся этот шлимазель Моррис? Когда Карп предупредил Морриса, что на улице — двое налетчиков, почему бакалейщик не поступил, как разумный человек: сперва запер бы дверь, а потом звонил в полицию? Почему? Потому что он — гойлем, недотепа, и на него все шишки валятся!
Сперва его стукнули по упрямой голове, а потом он еще нанял этого Фрэнка Элпайна. Карп — стреляный воробей, он сразу понял, откуда ветер дует. Этот Фрэнк, с которым Карп успел чуть-чуть познакомиться, этот перекати-поле — от него только и жди беды. Жалкая Моррисова лавчонка, засиженная мухами, изгрызенная червями, не такой уж давала доход, чтобы держать приказчика на полный рабочий день, и было непозволительной роскошью, — едва дела пошли чуть лучше, сразу взять такого помощника. Вскоре Карп узнал от Луиса, что в своих мрачных пророчествах был прав. Он выяснил, что Фрэнк частенько покупает бутылочку чего получше и, само собой, платит наличными — а откуда у него деньги? Мало того, что Сэм Перл, сам тоже хороший мот, как-то обмолвился, что Моррисов помощник иной раз ставит доллар или два на какую-нибудь идиотскую лошадь — ну, и деньги, ясно, уходят на ветер. И это делает парень, которому платят гроши и который пробавляется тем, что ворует. А у кого он может воровать? Конечно, у Морриса, у кого же еще? А тот и сам — хоть по миру иди. Рокфеллер, небось, знает, как распорядиться своими миллионами, а Моррис, если и заработает лишние десять центов, так эти десять центов у него тут же летят на ветер, он не успевает положить их в свой дырявый карман. Да какой же приказчик не крадет там, где работает? Ищи дурака… Сам Карп, когда был еще зеленым юнцом, тоже подворовывал у своего босса, полуслепого торговца обувью; и Карп отлично знал, что его сын Луис подворовывает у него — но это совсем другое дело, Луис все-таки сын, у них семейное дело, и когда-нибудь — но, даст Бог, не так уж скоро — лавка будет его. Да и к тому же, при помощи строгих назиданий и внезапных проверок, Карп держал сына в узде, так что тот едва ли много подворовывал, разве что самую малость. А вот уж если чужой человек ворует, так это хуже некуда! Карпа даже мороз по коже продирал, когда он пытался представить, что бы было, если бы этот итальянец работал у него, Карпа.
А раз уж бакалейщику на роду написано быть неудачником, так тут и другой беды не миновать: ой, как опасно держать молодого гоя там, где есть еврейская девушка. Это — как закон, который Карп с радостью объяснил бы Моррису, продолжай они друг с другом разговаривать; и тогда, глядишь, Моррис мог бы уберечься от беды. А в том что эта беда-таки стряслась, Карп на прошлой неделе убедился дважды. Сперва увидел, как Фрэнк и Элен гуляют в парке, а потом, проезжая мимо кинотеатра, заприметил, как они, держась за руку, выходили после сеанса. С тех пор Карп о них часто думал, и это постоянно волновало его, и он чувствовал, что обязан этому недотепе Боберу как-то помочь.
Само собой, Моррис взял Фрэнка, чтобы облегчить себе жизнь; а так как он Моррис Бобер, то и понятия не имеет, что творится у него за спиной. Ну, так он, Джулиус Карп, объяснит этому дураку, какая опасность грозит его дочери. Вежливо, осторожно, он объяснит ему, что к чему. А потом он замолвит словечко за Луиса, который — Карп был уверен в этом — давно уже поглядывает на Элен, да только он робкий и боится, что девчонка отошьет его так, что он потом будет себе грызть ногти от досады. Кое в чем Луису нужно чтобы его подтолкнули. Карп чуял, что может сократить путь своего сына к сердцу Элен, сделав Моррису предложение, о котором думал уже чуть ли не целый год. Он обрисует, как Луис будет устроен после женитьбы, какие у него финансовые, а также прочие возможности, и попросит Морриса, чтобы тот поговорил с Элен, и пусть она вполне серьезно отнесется к ухаживаниям Луиса. Пусть они погуляют месяца два — уж Луис-то сумеет ее развлечь, Карп ему кое-что на это подкинет. И когда все это сработает, будет в выигрыше не только Элен, но и сам бакалейщик, потому что тогда Карп возьмется как следует за Моррисов запущенный гешефт: поможет отремонтировать лавку, превратить ее в хороший современный магазин самообслуживания с новейшим оборудованием и большим выбором товаров. А немцу Шмитцу он не продлит контракт — это очень для Карпа невыгодно, но что поделаешь, на это придется пойти, дело стоит того. А когда он, Карп, будет у Морриса чем-то вроде мудрого советчика, потребуется Бог весть какая страшная катастрофа, чтобы помешать Моррису заработать деньгу и обеспечить себе спокойную старость.
Карп предвидел, что камнем преткновения во всем этом может быть сама Элен; он знал, что она девушка независимая и вполне достойная, даже если у нее и есть желание выйти замуж за парня с высшим образованием, — хотя, впрочем, с Натом Перлом у них бы тоже не выгорело. Чтобы стать человеком, Нату нужно было то, что в избытке водилось у Луиса Карпа, а вовсе не бедная девушка. Так что Нат умно сделал, отставив Элен, когда она стала чересчур настойчивой; все это Карп узнал от Сэма Перла. А вот Луис вполне мог себе позволить жениться на такой девушке, как Элен; и Элен, интеллигентная, независимая, будет Луису хорошей женой. Карп решил при случае поговорить с ней начистоту: он терпеливо растолкует Элен, что если она свяжет свою судьбу с Фрэнком, ее ждет жалкая жизнь и нищета — она будет даже беднее, чем ее отец. После того, как Фрэнк исчезнет, думал Карп, Элен станет сговорчивее, разумнее и оценит, что ей предлагают. Когда девушке двадцать три или двадцать четыре, и она не замужем, это для нее опасный возраст. В эти годы она начинает понимать, что моложе не становится, и тут даже гой начинает казаться ей хорошей партий.
Заметив, что Фрэнк вошел в кондитерскую Сэма Перла и Моррис сидит один в задней комнате лавки, Карп прокашлялся и открыл дверь. Когда Моррис, вышедший из задней комнаты обслужить появившегося покупателя, увидел, кто это, поначалу он испытал чувство мстительного торжества, но тут же у него в сердце что-то кольнуло: он вспомнил, что Карп, как ни появится, всегда приносит с собой плохие вести. Поэтому он ничего не сказал, ожидая, пока Карп заговорит первый. Карп был нелепо разодет в дорогой спортивный пиджак и габардиновые брюки, но этот наряд не мог замаскировать его толстое брюхо или компенсировать глупое выражение лица. А Карп, всегда бойкий на язык, теперь смущенно молчал — он увидел шрам на голове у Морриса и вспомнил последствия своего последнего посещения бакалейной лавки.
Наконец, пожалев Карпа, Моррис нарушил молчание (причем тоном гораздо более дружелюбным, чем сам того ожидал):
— Ну, как дела, Карп?
— Спасибо. На что мне жаловаться?
Лучезарно улыбаясь, он протянул через прилавок свою пухлую руку, и Моррис с неудовольствием ощутил, как к его ладони прижимается надетое на палец Карпа кольцо с дорогим камнем.
Карп не мог с места в карьер обрушить на Морриса неприятные вести насчет его дочери и Фрэнка, нужно было сначала поговорить о том, о сем. Поэтому он спросил:
— Ну, как торговля?
Моррис так и думал, что Карп задаст этот вопрос.
— Хорошо, — сказал он. — И что ни день, все лучше.
Карп сдвинул брови. Но ему пришло в голову, что, может быть, дела бакалейщика идут еще лучше, чем он, Карп, думал, когда видел сквозь окно, что в лавке у Морриса не пусто, а стоят один-два покупателя. Сейчас — после того, как не был в лавке несколько месяцев, — Карп заметил, что в помещении стало чище, опрятнее, что на полках полно товаров. Но если дела у Морриса стали лучше, Карп сразу мог понять, почему.
Однако он спросил небрежным тоном:
— И как же это случилось? Может, ты даешь объявления в газете?
Моррис улыбнулся этой неудачной шутке. Если у человека нет остроумия, за деньги его не купишь.
— Самое лучшее, — сказал он, — когда сам о себе объявляешь.
— Это смотря что объявляешь, — сказал Карп.
— Я объявляю, — гордо сказал Моррис, — что у меня хороший приказчик, который наладил мои дела. Обычно зимой торговля глохнет, а нынче идет во всю.
— И все из-за твоего помощника? — спросил Карп, задумчиво почесывая собственный зад.
— Покупателям он нравится. Гой приходит покупать к гою.
— Есть новые покупатели?
— Новые, старые.
— И еще что-нибудь есть, что помогает?
— Еще то, что в декабре неподалеку заселили многоквартирный дом.
— Гм! — сказал Карп. — И больше ничего?
Моррис пожал плечами.
— Едва ли что еще. Я слышал, твой Шмитц жалуется на здоровье и обслуживать стал хуже. Кое-кто из моих клиентов, перешедших было к нему, опять покупают у меня. Но что больше всего мне помогло, так это Фрэнк.
Карп был изумлен. Неужели человек и впрямь не видит того, что творится у него под носом? Карп увидел, что Бог дает ему отличную возможность раз и навсегда отделаться от нового приказчика.
— Вовсе не Фрэнк Элпайн поправил твой бизнес, — сказал Карп решительным и твердым тоном. — Тут другая причина.
Моррис слегка улыбнулся. Ну, конечно, этот умник, как всегда, знает больше всех.
Однако, Карп не сдавался.
— Давно он у тебя работает?
— Ты ведь знаешь, когда он появился, — в ноябре.
— И сразу же дела пошли лучше?
— Потихоньку, помаленьку.
— Это случилось, — возбужденно сказал Карп, — совсем не потому, что в твоей лавке появился этот гой. Что он смыслил в бакалейной торговле? Ничего. Твои дела пошли лучше, потому что мой арендатор Шмитц заболел и часть дня держит свою лавку закрытой. Или ты этого не знал?
— Я слышал, что он болен, — сказал Моррис и почувствовал, что в горле у него появился какой-то комок. — Но шоферы говорят, что ему помогает по лавке старик отец.
— Это верно, — сказал Карп, — но с середины декабря Шмитц каждое утро ходит в больницу на лечение. Сначала в лавке оставался старик отец, это так, но потом старик стал уставать, и лавка Шмитца начала открываться не в семь часов, а в девять, а то и в десять. И закрывал он лавку тоже не в десять, а в восемь. А в прошлом месяце он мог открывать лавку не раньше, чем в одиннадцать, и полдня как не бывало. Он уже пытался и продать лавку, да никто тогда не купил. А вчера она весь день была закрыта. Разве никто тебе об этом не говорил?
— Кто-то говорил, — в отчаянии ответил Моррис, — но я не думаю, что это так серьезно.
— Он очень болен, — мрачно сказал Карп. — Он и вовсе больше не откроет лавку.
«Мой Бог! — подумал Моррис. — Я же месяцами xoдил смотреть на ту лавку, пока она была пустая, и потом, когда там делали перестройку и нововведения, а с тех пор, как она открылась, я так ни разу и не взглянул на нее!» Да, у Морриса не хватало духу ходить глядеть на лавку Шмитца! Но почему никто ему не сказал, что она уже больше двух месяцев работает только полдня — ни Ида, ни Элен? Может, они проходили мимо, не замечая, открыта она или закрыта?! Им, как и Моррису, казалось, что она всегда открыта, лишь бы портить ему бизнес.
— Я не говорю, — продолжал Карп, — что твой новый приказчик тебе так ничем и не помог, но главная причина — это то, что когда Шмитц стал работать всего полдня, его покупатель пошел к тебе. Само собой, Фрэнк тебе этого не говорил.
Моррис переваривал то, что сказал ему виноторговец.
— А что со Шмитцем? — спросил он.
— У него тяжелая болезнь крови, и сейчас он лежит в больнице.
— Бедняга! — вздохнул бакалейщик.
Надежда боролась в нем с чувством стыда, когда он спросил:
— А его лавка не пойдет с торгов?
Карп был безжалостен.
— Что ты имеешь в виду? Это же хорошая лавка. В среду он продал ее двум компаньонам-норвежцам, и на будущей неделе они собираются открыть там магазин бакалейных товаров и деликатесов, оборудованный совсем по-современному. Вот тогда-то ты увидишь, что будет с твоим бизнесом.
Моррис закрыл глаза и почувствовал, что медленно умирает.
Карп, к своему ужасу, понял, что выстрелил в приказчика, а ранил самого бакалейщика. Он поспешно добавил:
— Но что я мог сделать? Я же не мог ему сказать, чтобы он продавал с торгов, если ему вдруг подвернулся случай выгодно сбыть свое дело.
Но бакалейщик уже не слушал. Он думал о Фрэнке с яростью: у него было такое чувство, что его обманули.
— Слушай, Моррис, — быстро сказал Карп. — У меня есть к тебе предложение насчет твоего гешефта. Сначала вышвырни вон своего макаронника, а потом скажи Элен, что мой Луис…
Но когда этот призрак за прилавком неожиданно обругал Карпа на непонятном ему языке за недобрые вести, Карп выкатился из Моррисовой лавки и заперся в своей.
После жуткой ночи, в течение которой Морриса терзали его давние враги, он вскочил с постели и появился в лавке в пять часов утра. Всю ночь Моррис сражался со скверными известиями, которые принес Карп; он был в ярости, что никто ему не сказал, насколько серьезно болен немец — ни кто-либо из коммивояжеров, ни Брейтбарт, ни какой-нибудь покупатель. А может быть, никто и не знал, не понимал, как это важно? Благо до вчерашнего дня лавка Шмитца все-таки каждый день открывалась. Понятно, немец болел, и кто-то Моррису об этом даже говорил; но почему они должны были повторять ему одно и то же по десять раз? Ведь сегодня человеку лучше, завтра хуже, а потом опять лучше — что ж тут такого? Так разве и сам он, Моррис, не болел — но кто же об этом судачил по всей округе? Может, и никто. У каждого хватает своих забот. А что до той новости, что Шмитц продал свою лавку норвежцам, так тут бакалейщику грех было жаловаться: об этом ему сообщили сразу же, и это его как обухом по голове ударило.
Что же насчет Фрэнка, то по зрелом размышлении, вспомнив, как вел себя приказчик, — будто бы только из-за него одного дела в лавке пошли в гору, — Моррис пришел к выводу, что Фрэнк вовсе и не пытался (как ему показалось в первый момент, когда Карп обрушил свои новости) намеренно обмануть Морриса и заставить его поверить, что без Фрэнка торговля бы не улучшилась. Вполне резонно было предположить, что Фрэнк, как и сам Моррис, ни сном ни духом не знал, почему бакалейщику вдруг стало везти. Может быть, Фрэнку следовало об этом знать — ведь, как-никак, он днем выходил из лавки, гулял по округе, слушал новости, сплети — может быть, ему и следовало бы знать, но, скорее всего, он-таки не знал: ведь и ему самому приятно было думать, что он спасает Морриса. Оттого-то, небось, и был он слишком слеп — не видя того, что надо было видеть, и слишком глух — не слыша того, что надо было слышать.
Справившись с первым смятением и испугом, Моррис решил, что надо продавать лавку. К восьми часам утра он уже успел попросить двух шоферов, чтобы они пустили слушок: дескать, в таком-то и таком-то квартале продается бакалейная лавка. Но, как бы там ни было, Фрэнка ни в коем случае не следовало отпускать: требовалось сделать все, чтобы не дать норвежцам снова переманить у Морриса тех покупателей, которые повадились было ходить к Шмитцу. Не может быть, чтобы Фрэнк совсем ничем не помог. Ведь не в Верховном же суде доказано было, что Моррисовы дела стали поправляться только из-за болезни немца. Так сказал Карп, но с каких это пор устами Карпа глаголет Господь Бог? Конечно же, Фрэнк здорово помог — только не настолько, насколько они все думали. Ида не так уж была неправа, когда обо всем этом говорила. Но, может быть, Фрэнк сможет удержать кое-каких покупателей и после того, как откроются норвежцы; Моррис сомневался, что сможет сам это сделать. У него, попросту говоря, не хватало сил оставаться одному в лавке теперь, когда дело опять оборачивалось к худшему. Его силы ушли с годами.
Когда Фрэнк спустился вниз, он сразу заметил, что бакалейщик сам не свой, однако у Фрэнка хватало сейчас других забот, и он не спросил Морриса, что того беспокоит. С тех пор, как Элен побывала у него в комнате, он много раз вспоминал ее фразу о том, что он должен владеть собой, и удивлялся, почему эти слова его так тронули и поразили, почему они постоянно стучат у него в голове, как барабанные палочки. Мысль о необходимости владеть собой вызвала за собой другую — о том, что в этом есть что-то красивое, благородное, о том, как хорошо быть человеком, который способен поступать так, как ему хочется, и творить добро, если он этого желает. А за этими мыслями пришло сожаление — сожаление о том, что он постепенно деградирует, становится хуже (это началось уже давно) и пальцем о палец не ударит для того, чтобы этого не происходило. Но сегодня, пока скреб безопасной бритвой щетину на подбородке, он твердо решил: мало-помалу, частями надо возвращать сто сорок долларов, которые он украл у Морриса за те месяцы, работал на него (именно с этой целью он вел строгий тех денег, которые брал из кассы, и итоговая цифра была записана на карточке, спрятанной в ботинке под стелькой).
Он опять подумал о том, что хорошо бы одним махом покончить с прошлым и признаться Моррису, что он был одним из двух налетчиков. Неделю тому назад он уже принял было такое решение и даже окликнул Морриса по имени, но когда тот отозвался, Фрэнк в последний момент струхнул и сказал что-то вроде «Нет, ничего». Он подумал, что, видать, на роду ему написано терзаться угрызениями совести, хотя порой они доставляли ему даже удовольствие, так как благодаря им Фрэнк чувствовал себя непохожим на других людей. Это могло помочь ему стать на правильный путь и завоевать Элен — что давно уже пора было сделать.
Но едва Фрэнк представлял себе, что исповедуется Моррису, а тот слушает, как он начинал сомневаться, стоит ли это делать. Почему он должен доставлять себе лишние неприятности, рискуя так и не достичь своей цели — исправиться и заявить лучшей жизнью? Что было, то прошло, пропади оно пропадом! Он нехотя участвовал в грабеже и, подобно Моррису, сам тоже был жертвой Уорда Миногью. Это, конечно, его ни капельки не оправдывало, но, по крайней мере, свидетельствовало о том, что он в действительности чувствует. Так почему же он должен во всем признаваться, если в грабеже-то принял участие чисто случайно? Кто старое помянет, тому глаз вон. Он не мог изменить прошлое — он мог только постараться его так или иначе исправить, насколько это возможно, и покончить с ним навсегда. Он должен думать о завтрашнем дне, а не о вчерашнем, и завтра он должен вести более достойную жизнь, чем вчера. Он переделает себя и будет жить достойно.
Фрэнку не терпелось начать новую жизнь и поскорее переложить содержимое своего бумажника в кассу. Сначала он думал, что сделает это, когда Моррис пойдет вздремнуть. Но тут — всегда так! — сверху спустилась Ида, хотя делать в лавке ей было сегодня совершенно нечего, и засела в задней комнате. Лицо у нее было изможденное, мрачное; она ничего не говорила, только часто вздыхала, и по ее виду было ясно, что она не хочет даже смотреть на Фрэнка. Он знал, в чем дело, Элен ему рассказала, и теперь чувствовал себя неловко, как будто на нем была мокрая одежда, которую нельзя было снять. Однако, все, что он мог сделать, — это ничего не делать и предоставить Элен успокаивать разыгравшуюся бурю.
А Ида все сидела в лавке, и он не мог при ней положить деньги в кассу, и искушение сделать это поскорее становилось совершенно невыносимым. Как только кто-нибудь входил в лавку, Ида кидалась сама его обслужить; но вот после очередного покупателя старуха сказала Фрэнку, который, покуривая, сидел на кушетке, что она неважно себя чувствует и пойдет наверх.
— Желаю вам хорошо отдохнуть, — сказал Фрэнк, но она не ответила и ушла.
Фрэнк быстро прошел в лавку, прислушиваясь при этом, как Ида поднималась вверх по лестнице. В его бумажнике были две бумажки — пятидолларовая и однодолларовая, и он собирался положить их в кассу; у него самого оставалось только несколько центов, но это ничего, завтра — получка. Он положил деньги в кассовый ящик и провернул на аппарате шесть долларов. Его так обрадовало то, что он сделал, что на глазах у него даже слезы появились. Фрэнк прошел в заднюю комнату лавки, снял ботинок, достал из-под стельки карточку и вычел шесть долларов из той суммы, которую должен был вернуть Моррису. По его расчетам, он мог бы полностью расплатиться месяца в три; он снимет со счета все, что накопил — около восьмидесяти долларов — и будет возвращать в кассу постепенно, изо дня в день, а когда эти деньги исчерпаются, он станет подкладывать часть своей зарплаты — до тех пор, пока не погасит весь долг. Трудность заключалась в том, чтобы подкладывать деньги, не вызывая при этом подозрения, что в кассовом ящике больше денег, чем в действительности дает торговля.
Фрэнк все еще пребывал в приятном настроении, восхищаясь собственным поступком, как вдруг позвонила Элен.
— Фрэнк, — сказала она, — ты один? Если нет, то скажи: «Вы ошиблись номером», и повесь трубку.
— Я один.
— Ты заметал, какая сегодня чудная погода? Я в обеденный перерыв прогулялась по улице; такое впечатление, что уже весна.
— Пока что на дворе еще февраль. Не снимай пальто слишком рано.
— После дня рождения Вашингтона зима идет на убыль. Ты не чувствуешь, как пахнет в воздухе?
— Только в данную минуту.
— Выйди на солнце; там тепло и чудесно.
— А для чего ты мне звонишь? — спросил Фрэнк.
— А разве обязательно звонить только по делу?
— Но ведь раньше ты никогда не звонила.
— Я звоню тебе потому, что я хотела бы сегодня пойти на свидание с тобой, а не с Натом.
— Ты не обязана ходить на свидание с Натом, если тебе этого не хочется.
— Но лучше все-таки пойти — из-за мамы.
— Позвони ему и договорись встретиться в другой день.
Элен подумала и сказала, что лучше уж сегодня, сразу с этим развязаться.
— Делай так, как считаешь нужным.
— А что если нам с тобой встретиться после того, как кончится мое свидание с Натом? В половине двенадцатого или в двенадцать? Хочешь?
— Конечно. Только в чем дело? Что-нибудь случилось?
— Вот когда увидимся, тогда и скажу, — ответила Элен с коротким смешком. — Где именно: на Парквее или в нашем обычном месте, возле кустов сирени?
— Где хочешь. Можно в парке.
— Мне стало так неприятно туда ходить, с тех пор, как мама нас там выследила.
— Не думай больше об этом, дорогая, — сказал Франк. — Ты хочешь сказать мне что-нибудь хорошее?
— Очень хорошее, — ответила Элен.
«По-моему, я знаю», — подумал Фрэнк. Он принесет ее, как невесту, в свою комнату, а когда все будет кончено, снесет вниз, чтобы она могла потом подняться к себе и мать не заподозрила, где она была.
В этот момент в лавке появился Моррис, и Фрэнк повесил трубку.
Бакалейщик посмотрел на цифры на кассовом аппарате и удовлетворенно крякнул, но тут же вздохнул. К субботе они наверняка сделают двести сорок или двести пятьдесят, но потом, когда норвежцы откроют свою лавку, выручка упадет.
Увидев, что Моррис глядит на цифры на кассовом аппарате, Фрэнк вспомнил, что у него осталось всего семьдесят центов. Как жаль, что Элен не позвонила прежде, чем он опустил свои деньги в кассовый ящик. Если вечером будет дождь, им, возможно, придется взять такси, чтобы приехать домой из парка, а может быть, если они пойдут к нему в комнату, она будет голодна и захочет пиццу или что-нибудь еще. Конечно, он всегда сможет одолжить у нее доллар-другой. Можно также занять у Луиса Карпа, но делать это Фрэнку не хотелось.
Моррис вышел и купил свою газету; расстелил ее на столе, но не читал. Он грустно думал о будущем. Лежа в постели после обеда, Моррис думал о том, как сократить свои расходы. Пятнадцать долларов в неделю Фрэнку — это же огромная сумма! Он вспоминал и о том, что Элен целовалась с приказчиком, вспоминал Идины предупреждения, и все это действовало ему на нервы. Хорошо было бы рассчитать Фрэнка; но у Морриса не хватало духу это сделать. Жаль, что он в свое время позволил ему остаться.
Фрэнк тем временем решил, что негоже просить деньги у Элен; некрасиво, когда просишь деньги у девушки, которую любишь. Он решил, что лучше взять доллар из кассового ящика — из тех денег, которые только что сам туда положил. «Надо было, — подумал он, — положить пять долларов, а доллар оставить себе».
Моррис кинул беглый взгляд на Фрэнка и вспомнил, как однажды сидел в кресле у парикмахера и видел покупателей, выходящих из лавки с тяжелыми сумками и пакетами в руках. Ему снова стало не по себе. «Интересно, крадет он у меня или нет?» — подумал Моррис. Когда он спрашивал себя об этом, у него всегда по коже пробегали мурашки, потому что он ведь так ни разу и не смог на этот вопрос определенно ответить.
В лавку вошла покупательница. Фрэнк встал с кушетки
— Я обслужу ее, — сказал он.
Моррис проговорил, глядя в газету:
— А я пока спущусь в подвал, мне там кое-что нужно.
— Что именно?
— Да так, пустяки.
Пока Фрэнк шел к прилавку, Моррис спустился в подвал, но там не остался. Он на цыпочках снова поднялся вверх по лестнице и, затаив дыхание, остановился около двери. Сквозь щель он видел покупательницу и слышал, что она покупала. Пока она говорила, что ей нужно, он складывал в уме цифры. Получилось — один доллар восемьдесят один цент. Пока Фрэнк пробивал покупку на кассовом аппарате, бакалейщик задержал на секунду дыхание, открыл дверь и вошел в лавку.
Покупательница, прижимая к груди пакет с покупками, уже выходила в дверь. Правая рука Фрэнка была под передником, в кармане брюк. На кассовом аппарате стояла цифра — восемьдесят один цент.
Моррис так и охнул.
Фрэнк, сгорая от стыда, пытался сделать вид, что все в порядке. Это окончательно вывело Морриса из себя.
— Она взяла на доллар больше, почему вы выбили на доллар меньше?
Фрэнк, готовый сквозь землю провалиться, помолчал и наконец выдавил из себя:
— Моррис, я просто ошибся.
— Ошибся? — взревел бакалейщик. — Я слышал из-за двери, сколько она покупала. Думаете, я не знаю, что вы то же самое много раз делали раньше?
Фрэнк был не в силах слова вымолвить.
— Давайте сюда доллар! — сказал бакалейщик, протягивая дрожащую руку.
В отчаянии Фрэнк попытался прибегнуть к спасительной лжи.
— Моррис, вы ошибаетесь. Аппарат должен мне доллар. У меня было мало мелочи, поэтому я разменял у Сэма свой собственный доллар на пятицентовики. А потом я случайно прокрутил доллар вместо «откл». Потому-то я просто взял доллар назад. Честное слово, все это правда.
— Вранье! — закричал Моррис. — Я оставил тут, внутри, целый ролик пятицентовиков, если кому-то будет нужно.
Он зашел за прилавок и вынул ролик пятицентовиков.
— Говорите правду!
«Это не должно было случиться, — думал Фрэнк я другой человек теперь».
— Я был без гроша, — признался он, — вот вам правда, решил, что верну вам деньги завтра, когда вы дадите мне получку.
Он вынул из кармана скомканный доллар, и Моррис вырвал этот доллар у него из руки.
— Вы могли попросить у меня доллар взаймы вместо того, чтобы воровать.
Фрэнку просто не приходило в голову одолжить доллар у Морриса. Причина была ясна: он никогда у Морриса не одалживал денег, потому что сам брал из кассы.
— Я об этом не подумал. Простите, это было нехорошо с моей стороны.
— Все нехорошо да нехорошо! — сердито сказал Моррис.
— И так всю жизнь, — подтвердил Фрэнк.
— Вы у меня воровали с тех пор, как я вас взял.
— Ну да, сознаюсь, — сказал Фрэнк. — Но ради Бога, Моррис, поверьте, я возвращал вам взятые деньги, клянусь вам. Как раз сегодня я положил шесть долларов. Вот почему сегодня было так много денег после того, как вы пошли наверх вздремнуть. Спросите вашу жену: пока вы спали, мы наторговали не больше, чем на два доллара, а остальное положил я.
Фрэнк хотел было даже снять ботинок, вытащить из-под стельки карточку и показать Моррису, как тщательно он ведет свою бухгалтерию, но тут же отказался от этой мысли: сумма на карточке была так велика, что Моррис разъярился бы еще больше.
— Вы положили то, — закричал Моррис, — что и без того принадлежит мне. Мне тут вор не нужен!
Он вынул из кассового ящика деньги и отсчитал пятнадцать долларов.
— Вот ваше недельное жалованье. Это — последняя получка. И, пожалуйста, оставьте лавку.
Гнев Морриса уже испарился и в голосе у него звучали теперь грусть и страх перед завтрашним днем.
— Пожалуйста, Моррис, — попросил Фрэнк, — проверьте меня еще раз.
Лицо его вытянулось, глаза смотрели затравленно.
Морриса уже было тронула мольба Фрэнка, но тут он вспомнил про Элен.
— Нет!
Фрэнк посмотрел на седого, несчастного еврея и понял, что хотя у того в глазах блестят слезы, просьбы тут не помогут; он замолчал, повесил передник на крюк и вышел из лавки.
Новая красота ночи вызвала в Элен скорбное ощущение потери. Была уже половина первого; Элен шла по освещенному фонарями парку. Сегодня утром, когда она — в новом платье под своим стареньким пальто — вышла на улицу, душистый запах весны, носившийся в воздухе, вызвал у нее слезы радости, и она почувствовала, что действительно любит Фрэнка. Часом раньше, когда она была еще с Натом Перлом — они зашли выпить в придорожный ресторанчик, а затем он настоял, чтобы поехать на Лонг-Айленд, — Элен все время думала о Фрэнке и нетерпеливо ждала встречи с ним.
Нат это был Нат. Сегодня он превзошел сам себя, он просто излучал очарование. Он говорил с очарованием и даже был уязвлен с очарованием. Он был такой же, как несколько месяцев назад, когда Элен его в последний раз видела; он припарковал машину у темного берега Лонг-Айлендского залива, произнес несколько очаровательных любезностей, а потом обнял ее и спросил:
— Элен, разве мы можем забыть, как мы были когда-то счастливы?
Она сердито оттолкнула его.
— Это прошло и забыто, — сказала Элен. — И если ты действительно джентельмен, Нат, ты тоже об этом должен забыть. Или тем, что ты со мной переспал, ты купил мое будущее?
— Элен, ну, зачем ты говоришь как чужая? Ради Бога, веди себя по-человечески.
— Я веду себя по-человечески, и я человек, — пожалуйста, не забывай об этом.
— Когда-то мы были добрыми друзьями. Я хочу, чтобы мы и теперь дружили.
— Говоря о дружбе, ты имеешь в виду что-то другое?
— Элен!
— Нет.
Он снова сел на свое место за рулем.
— Почему ты стала такой подозрительной?
— Кое-что изменилось, — сказала Элен. — Ты должен это понять.
— Ну, и на кого ты меня сменила? — спросил Нат мрачно. — На этого макаронника, с которым ты, говорят, гуляешь?
Она ответила ледяным взглядом.
По дороге домой Нат, сообразив, что вел себя не лучшим образом, пытался извиниться за то, что ляпнул в сердцах, но Элен на прощанье лишь бросила короткое: «Пока!» Она рассталась с ним и почувствовала облегчение, хотя ей было горько, что зря потеряла такой хороший вечер.
Беспокоясь, что Фрэнк уже заждался, она почти бежала по гравиевой дорожке, окаймленной кустами сирени, к их излюбленному месту встречи. Уже приближаясь к облюбованной скамейке, она вдруг заволновалась, что Фрэнка не будет; она не могла в это поверить, но когда увидала скамейку, ее кольнула боль разочарования: там был кто-то другой, не Фрэнк.
Неужели он пришел и, не дождавшись, ушел? Непохоже на него: он всегда ее ждал, как бы она ни опаздывала. А уж раз она ему сказала, что должна сообщить кое-что очень важное — ни мало, ни много, что она его действительно любит и абсолютно в том уверена, — так уж и подавно он должен был ее дождаться, чтобы узнать, что она скажет. Она села на скамью, опасаясь, что, не дай Бог, с ним случилось какое-нибудь несчастье.
Место это было пустынное, и сюда редко кто, кроме них, заглядывал; но сейчас, в первый теплый февральский вечер, тут появился народ. На скамье наискосок от Элен в тени ветвей сидели молодой человек и девушка, они слились в поцелуе. Скамейка слева от Элен была пуста, а на скамейке справа под тусклым фонарем спал человек. В него потыкалась носом: кошка, потом она ушла прочь. Человек что-то пробурчал, проснулся, зевнул, посмотрел на Элен заспанными глазами и снова уснул. Молодой человек и девушка наконец кончили целоваться и молча ушли. Элен от души позавидовала этой девушке. А вот она… Ужасно закончить день с таким чувством.
Элен взглянула на часы: было уже начало второго. Ее начал пробирать холод; она встала, потом снова села, решив подождать последние пять минут. В небе гроздьями висели звезды, и свет их, казалось, давил ей на голову. Элен почувствовала себя одинокой; ночь уже не казалась такой чудесной — вернее, это была, конечно, чудесная ночь, но вся ее красота пропадала для Элен. Она устала ждать — ждать без толку.
Перед ней остановился какой-то мужчина — грузный, грязный; от него пахло спиртным. У Элен екнуло сердце, она поднялась.
Мужчина приподнял шляпу и сиплым голосом сказал:
— Не бойтесь, Элен. Я, в общем, отличный парень, сын полисмена. Да вы меня, небось, помните. Меня зовут Уорд Миногью, мы с вами учились в одной школе. Мой старик еще меня как-то выдрал из-за девчонки.
Хотя Элен много лет не видела Уорда, она его теперь узнала; и она вспомнила, как когда-то избил его отец за то, что Уорд следом за какой-то девочкой ворвался в женский туалет. Инстинктивно Элен вскинула руку, защищаясь. Она подавила в себе крик, боясь, что если начнет кричать, он может броситься на нее. «Как глупо сидеть и ждать этого», — подумала она.
— Я вас помню, Уорд.
— Можно сесть?
Она поколебалась.
— Садитесь.
Он сел, и Элен отодвинулась от него на самый край скамьи. Вид у него был осоловелый. «Если он придвинется ко мне ближе, — подумала она, — я закричу, побегу…»
— А как вы узнали меня в темноте? — спросила она, притворяясь, что ничуть не волнуется, хотя на самом деле украдкой посматривала, куда бы убежать. За деревьями оставалось еще футов двадцать темной тропинки, но дальше — открытое место, и там площадь, люди — можно будет позвать на помощь.
«Только Бог мне поможет», — подумала она.
— Я недавно вас видел пару раз, — ответил Уорд, медленно потирая рукой грудь.
— Где?
— Поблизости. Как-то вы вышли из лавки своего старика, и я сообразил, что это вы. Вы все такая же хорошенькая.
Он улыбнулся.
— Спасибо. Вы что, плохо себя чувствуете?
— Изжога и чертовская головная боль.
— Если хотите, у меня в сумочке есть аспирин.
— Нет, меня от него тошнит.
Элен заметила, что Уорд смотрит на деревья. Она еще больше забеспокоилась. «Отдала бы ему свою сумочку, только бы он меня не тронул», — подумала она.
— А как ваш дружок Фрэнк Элпайн? — спросил Уорд, моргая.
— Вы знаете Фрэнка? — удивилась она.
— Это мой старый дружок, — ответил Уорд. — Он был тут, искал вас.
— С ним… все в порядке?
— А, что с ним сделается! — сказал Уорд. — Ему пришлось пойти домой.
Элен встала.
— Мне пора идти.
Уорд тоже встал.
— Спокойной ночи, — сказала Элен и двинулась прочь.
— Он попросил передать вам записку, — сказал Уорд и сунул руку в карман пальто.
Элен не поверила ему, но замешкалась, и этого оказалось достаточно, чтобы Уорд успел кинуться на нее. С поразительным проворством он обхватил ее и заглушил ее крик, закрыв ей рот своей грязной рукой, а потом потащил ее к деревьям.
— Я хочу получить то же, что и этот макаронник, — прорычал Уорд,
Элен пыталась брыкаться, царапаться; стараясь высвободиться, укусила его за руку. Уорд схватил ее за ворот пальто, рванул. Она опять закричала и рванулась вперед, но он зажал ей рот и больно ударил спиной о дерево, так что у нее перехватило дыхание. Одной рукой Уорд взял ее за горло, а другой расстегнул пальто и рванул с плеча платье, обнажив лифчик.
Борясь, отбиваясь, лягаясь, Элен попала ему между ног коленом. Уорд вскрикнул и наотмашь ударил ее по лицу. Ее замутило, она отчаянно старалась не потерять сознания. Она закричала, но сама своего крика не услышала.
Уорд прижался к Элен всем телом, и она почувствовала, как его пробирает нетерпеливая дрожь.
«Я опозорена», — подумала она, ощутив какое-то странное освобождение от его потного, дурно пахнущего тела, как будто он растворился в банке с грязью и она эту банку отбросила прочь. Ее ноги подкашивались, и она опустилась на землю. «Я теряю сознание», — подумала Элен, но чувствовала, что все еще продолжает сопротивляться.
А затем она поняла, что возня продолжается уже где-то рядом. Она услышала звук удара, и Уорд Миногью, закричав от боли, заковылял прочь.
«Фрэнк!» — нодумала Элен с радостью, чувствуя, как ее нежно поднимают чьи-то руки. Она облегченно заплакала. Он поцеловал ее глаза, губы и полуголую грудь. Она обняла Фрэнка, плача, смеясь, бормоча, что она пришла сюда признаться ему в любви.
Он положил ее на землю, и они поцеловались в тени деревьев. Элен почувствовала слабый запах виски и на мгновение испугалась.
— Элен, я тебя люблю, — прошептал Фрэнк, неуклюже пытаясь прикрыть ее грудь порванным платьем и увлекая ее все глубже в темноту, под сень деревьев, откуда виднелось усыпанное звездами небесное поле.
Они опустились на холодную землю.
— Пожалуйста, дорогой, не сейчас, — шептала Элен.
Но он говорил о своей давней, неутоленной своей любви и бесконечном ожидании. И даже когда он говорил, она в его мыслях оставалась недосягаемой, какой была в ванной, и он заглушил ее мольбы поцелуями…
А потом она плакала;
— Собака, пес необрезанный!
На следующее утро, когда Моррис сидел один в задней комнате лавки, появился какой-то мальчишка и оставила на прилавке розовый рекламный листок. Бакалейщик взял его и прочел. В нем объявлялось, что новые владельцы бакалейной лавки за углом, Тааст и Педерсен, заново откроют лавку, которая теперь будет называться «Бакалея и деликатесы». Дальше крупным шрифтом был напечатан перечень особых сниженных цен, по которым будут продаваться товары у Тааста и Педерсена в течение первой недели. Тут Моррису было не под силу с ними тягаться: он не мог себя позволить потерять столько денег, сколько собирались, рекламы ради, выбросить норвежцы. Бакалейщику казалось, что он стоит на холодном сквозняке, который дует из какой-то непонятной щели у него в лавке. И хотя он прижался ногами и задом к батарее центрального отопления, потребовалась целая вечность, пока он смог наконец унять холод, пронизавший ему все кости.
Все утро Моррис читал и перечитывал скомканный рекламный листок и что-то про себя бормотал; он потягивал холодный кофе и мрачно думал о будущем, снова и снова вспоминая про Фрэнка Элпайна. Накануне вечером Фрэнк ушел, не взяв свои пятнадцать долларов. Моррис думал, что Фрэнк вернется за деньгами утром, но час проходил за часом, и бакалейщик все больше убеждался, что Фрэнк так и не вернется. Может быть, он оставил Моррису эти пятнадцать долларов как частичное возмещение за то, что украл, — а может быть, и нет. В тысячный раз Моррис спрашивал себя, правильно ли он поступил, уволив Фрэнка. Несомненно, тот и раньше подворовывал, но несомненно и то, что он теперь возвращал украденное. Может, он и впрямь положил в кассу шесть долларов, а потом спохватился, что остался без гроша: уже после того, как Фрэнк ушел, Моррис убедился, что на кассовом аппарате действительно значилась гораздо большая сумма, чем то, что они обычно выручали в лавке в мертвые послеобеденные часы, когда Моррис уходил наверх вздремнуть. Действительно, Фрэнку, как всегда, опять не повезло; но так уж случилось, и Моррис этому то радовался, то огорчался. Он радовался, что наконец отделался от Фрэнка — это следовало сделать ради Элен и ради спокойствия Иды, — и в то же время огорчался, что потерял своего помощника и остался в лавке один как раз тогда, когда у него появились такие опасные конкуренты, как эти норвежцы.
В лавку спустилась заспанная, с опухшими глазами Ида. Она в бессильной ярости ругала весь мир. «Что будет с Элен?» — спрашивала она сама себя и ломала руки в отчаянии. Но когда Моррис поднял глаза, готовый выслушать ее жалобы, она побоялась что-нибудь сказать. Через полчаса, сообразив, что в лавке что-то изменилось, она вспомнила про Фрэнка.
— Где он? — спросила она Морриса.
— Ушел, — ответил бакалейщик.
— Куда? — не поняла Ида.
— Совсем ушел.
Она взглянула на мужа.
— Моррис, что случилось, скажи?
— Ничего, — сказал Моррис и отвел глаза. — Я его рассчитал.
— С чего бы это вдруг?
— Так ты же сама хотела, чтобы его тут не было.
— Да, я всегда это говорила, а ты всегда говорил: «Нет».
— Ну, а сейчас я говорю: «Да».
— У меня просто камень с души свалился.
Однако, этого ей было мало.
— А с квартиры он тоже съехал?
— Не знаю.
— Я пойду и спрошу Элен.
— Не трогай ее. Мы и так узнаем, когда он съедет.
— Когда ты его рассчитал?
— Вчера вечером.
— А почему ты мне вчера же не сказал? — спросила она сердито. — Почему ты мне сказал, что он пошел и кино?
— Я нервничал.
— Моррис, — сказала Ида с испугом, — что случилось? Или Элен…
— Ничего не случилось!
— Элен знает, что ты его рассчитал?
— Я ей не говорил. Почему она сегодня утром ушла чуть свет?
— А она ушла чуть свет?
— Да.
— Я не знаю, — забеспокоилась Ида.
Моррис вынул рекламный листок норвежцев.
— Я нервничаю вот из-за этого.
Ида, не понимая, глянула на листок.
— Немец, — пояснил Моррис, — Шмитц. Он перепродал свою лавку двум норвежцам.
— Когда? — воскликнула Ида.
— На этой неделе. Шмитц болен. Он теперь в больнице.
— А что я тебе говорила! — сказала Ида.
— Что ты мне говорила?
— Вейз мир! Я тебе говорила еще после Рождества, когда дела стали идти лучше. Я тебе говорила: шоферы толкуют, что у немца убыло покупателей. А ты сказал: «Нет, дала пошли лучше из-за Фрэнка». Ты сказал: «Гой идет покупать у гоя». А разве у меня были силы с тобой спорить?
— А ты мне говорила, что лавка у Шмитца по утрам бывает закрыта?
— Кто это сказал? Я об этом ничего не знаю.
— Карп мне сказал.
— Карп был тут?
— Он пришел в четверг меня обрадовать.
— Обрадовать — чем?
— Что Шмитц продал лавку.
— Есть чему радоваться!
— Ему есть, а мне — нет.
— Ты не говорил, что Карп приходил.
— Так я теперь тебе говорю, — раздраженно сказал Моррис. — Шмитц продал лавку. В понедельник норвежцы ее откроют. Нашим заработкам снова скажи прощай. Мы тут все с голоду передохнем.
— Когда тебе что-нибудь говорят, ты и слушать не хочешь, хоть кол на голове теши! — горько сказала Ида. — Я тебя сколько раз просила уволить Фрэнка!
— Я слышал это.
Помолчав, Ида добавила:
— Значит, узнав от Карпа, что Шмитц продал лавку, ты и уволил Фрэнка?
— На другой день.
— Слава Богу!
— Посмотрим, скажешь ли ты то же самое через неделю.
— А причем тут Фрэнк? Помогал он нам, что ли?
— Может, да, а может, и нет, не знаю.
— Не знаешь? Да ведь ты же сам только сейчас сказал, что уволил Фрэнка, когда понял, почему дела пошли на лад.
— Не знаю! — повторил Моррис с жалким видом. — Я не знаю, почему они пошли на лад.
— Почему бы ни пошли, но только не из-за Фрэнка!
— А мне теперь один черт, почему. Мне важно не то, что было, а то, что будет через неделю.
Моррис еще раз перечел список товаров, которые норвежцы собирались продавать со скидкой.
Ида сжала руки так, что они побелели.
— Моррис, — сказала она, — надо продавать лавку.
— Так продавай.
Моррис вздохнул и снял передник.
— А я пойду, отдохну, — добавил он.
— Сейчас только пол двенадцатого.
— Меня знобит.
Вид у него был такой, что краше в гроб кладут.
— Поешь сначала. Подогреть суп?
— Кто сейчас может есть?
— Выпей стакан горячего чаю.
— Нет.
— Моррис, — тихо сказала Ида. — Не надо так переживать. Как-нибудь обойдется. Не помрем с голоду.
Моррис не ответил. Он аккуратно сложил рекламный листок норвежцев, превратив его в маленький квадратик, и унес с собой наверх.
В комнатах было холодно. Ида всегда, сходя вниз, отключала отопление, а к вечеру, примерно за час до возвращения Элен, включала снова. Теперь в квартире стоял жуткий холод. Моррис отвернул газовый вентиль в спальне, потом спохватился, что у него в кармане нет спичек, и сходил за ними на кухню.
Он залез под одеяло, но его все еще тряс озноб. Он накрылся двумя одеялами, но и это не помогло. Он подумал. «Может, я болен», но вскоре уснул. Почувствовав, что засыпает, он обрадовался — хотя так будет ближе ночь. Но если человек спит, то это всегда ночь, как бы ни шли твои дела. И в этой ночи Моррис заглянул с улицы в окно своей лавки и увидел в ней Тааста и Педерсена: у одного были пшеничного цвета усики, у другого — плешь, которая поблескивала в электрическом свете; они стояли за его прилавком и совали руки в ящик его кассового аппарата. Моррис рванулся в лавку, но Тааст и Педерсен лопотали по-немецки и на его сбивчивый, нечленораздельный идиш не обращали ни малейшего внимания. В этот момент из задней комнаты вышел Фрэнк вместе с Элен. Хотя приказчик говорил на итальянском языке — таком музыкальном, — Моррис распознал в его речи грязное ругательство. Он влепил ему пощечину, и они яростно сцепились и покатились по полу, а Элен беззвучно закричала. Фрэнк с силой ударил Морриса по спине и сел на его старую грудь; Моррису показалось, что у него сейчас легкие разорвутся. Он попытался закричать, но крик застрял у него в горле, и никто не хотел ему помочь. У него возникла мысль, что он, может быть, умирает, — и ему захотелось умереть.
Тесси Фузо спала, и ей снилось дерево, сваленное бурей и расщепленное молнией; ей снилось, что кто-то страшно кричит, и она в страхе проснулась. Она прислушалась, но все было тихо, и она уснула снова.
Фрэнк Элпайн проснулся после долгой, черной ночи. Перед тем, как проснуться, он вскрикнул; ему казалось, что он проснулся навсегда и больше никогда уже не заснет. Сперва он хотел было, по привычке, выпрыгнуть из постели и мчаться в лавку; но затем вспомнил, что Моррис выгнал его. Было серое, унылое зимнее утро. Ник уже ушел на работу, а Тесси в купальном халате сидела на кухне и пила кофе. Она слышала, как Фрэнк снова вскрикнул, но поскольку совсем недавно обнаружила, что беременна, ей теперь было не до чужих кошмаров.
Он лежал в постели, натянув одеяло на голову, и пытался заглушить в себе мысли, но они разбегались, и от них было горько на душе. И чем больше он пытался их заглушить, тем ему было горше. Фрэнку казалось, что постель у него пахнет отбросами, но он не мог пошевелиться, чтобы встать. Не мог, потому что ощущал своим перебитым носом этот неприятный запах. Он взглянул на высунувшуюся из-под одеяла собственную голую ногу, и вид этой ноги был ему неприятен. Ему страсть как хотелось курить, но он боялся зажечь спичку, потому что боялся увидеть свою руку. Он закрыл глаза и зажег спичку. Спичка опалила ему нос. Он наступил на спичку босой ногой и запрыгал от боли.
«Боже мой, для чего я это сделал? И вообще, зачем я раньше это делал? Зачем я это делал?»
Мысли душили его. Это было невыносимо. Он сел на край постели, на которой простыни перепутались с одеялом, и его переполненная мыслями голова, казалось, готова была разорваться у него в руках. Он хотел бежать, куда глаза глядят. Но еще не успев бежать, он уже хотел вернуться. Ему снова хотелось быть вместе с Элен, хотелось получить прощение. Неужели это так трудно? Люди ведь прощают людей — как же иначе? Он бы все объяснил, если бы она согласилась выслушать. Он рассказал бы, что пришел в парк, чтобы дождаться ее прихода и услышать, что именно она хотела ему сообщить. Ему казалось, он знает, что именно она ему скажет: скажет, что любит его, а это значит, что скоро он будет обладать ею. Об этом Фрэнк думал все время, пока ждал Элен в парке, и в то же время страшно боялся, что она скажет ему что-то совсем другое или что он потеряет ее, как только расскажет, что ее отец выгнал его из лавки. Как рассказать об этом? Он несколько часов думал, как преподнести эту новость Элен, но так ничего путного и не придумал. Около двенадцати он решил зайти в пиццерию подкрепиться, но вместо этого заглянул в бар. Там он увидел в зеркале свое лицо с перебитым носом. «Где, в каких местах тебе доводилось бывать? — спросил он сам себя. — Всю жизнь ты крутишься в беличьем колесе! И что ты в жизни сделал? Всю жизнь ты делал только дурное». Он задержался в баре и поспел в парк как раз тогда, когда Уорд Миногью набросился на Элен. Он чуть не убил Уорда. А когда Элен уже была у него в объятиях и он кричал, что любит ее, и она плакала и отвечала, что тоже любит его, что она в этом наконец уверена, у него появилось какое-то болезненное, безнадежное ощущение, что это — конец, что они видятся в последний раз, и он подумал, что должен овладеть ею тут же, сейчас же, а иначе она для него навек пропала. Она говорила: «Нет, не надо», но он не мог ей поверить — поверить в ту самую минуту, когда она сказала, что любит его. «Лишь бы начать, — подумал он, — а потом уж она всегда будет моей». И он сделал это. Он любил ее, и не мог любить иначе. Ей следовало это знать. И зря она взбеленилась, била его по лицу кулаками, ругательски его ругала и в конце концов убежала от него, не слушая его заклинаний, извинений, просьб и клятв.
«Боже, что я наделал!»
Он застонал. Вместо счастья, которого он ждал от этого свидания, было тошно на душе. О, если бы он мог вернуть то, что сделал, смять и уничтожить. Но что сделано, то сделано. И теперь оно хранилось там, откуда ничего нельзя вынуть, — в его дурной башке. Фрэнку казалось, мысли задушат его. Снова он сплоховал — в который уже раз! Где-то, когда-то он оступился, свернул с предназначенного пути, на котором его ждали достойная жизнь, образование, работа, хорошая девушка. А у него не хватало воли жить так, как следует жить, он предал все свои добрые намерения. Разве не воровал он деньги у Морриса до той самой минуты, как тот его накрыл? И одним-единственным ужасным поступком в парке разве не убил он навек свою надежду, свою любовь, которую так долго ждал, свой шанс на лучшее будущее? Проклятая жизнь! И вот куда он зашел: в никуда. Его крутило и вертело любым ветерком, которому только случалось подуть, и у него ничего не было — ровным счетом ничего, даже опыта, который подсказал бы ему, что было так или не так в его прошлом. Если у тебя есть опыт, ты знаешь, по крайности, когда начать и где кончить; а все, что знал Фрэнк, — это мучить самого себя. Его сущность, которую он втайне считал чего-то стоящей, на самом деле не стоила ни шиша. Он был просто дрянь, и все тут.
На этот раз его крик напугал Тесси. Фрэнк рад был бы бежать куда глаза глядят, но разве было такое место на свете, куда бы он мог скрыться? Комната сжалась, кровать взлетела в воздух и ринулась на него. Он чувствовал себя в западне; его тошнило, он хотел закричать, и не мог. Подумывал о самоубийстве, а в то же время размышлял: «Я веду себя так, словно это не я, а кто-то другой. Но ведь в самом-те деле я очень хороший человек».
Ида проснулась среди ночи и услышала, что Элен плачет. «Нат сделал ей что-то плохое», — подумала она; но ей было стыдно вставать и идти спрашивать у Элен, в чем дело. «Наверно, он вел себя, как хам: неудивительно, что Элен не хочет его видеть». Всю ночь Ида ругала себя за то, что уговорила дочь пойти на свидание с Натом. Наконец, она забылась беспокойным сном.
Моррис встал на заре. Элен с трудом заставила себя вылезти из постели; с покрасневшими глазами она сидела в ванной комнате, зашивая ворот пальто. Рядом с ее работой есть портновская мастерская, надо отдать туда пальто, пусть его зашьют так, чтобы шов не был виден. А вот со своим новым платьем она уже ничего не могла поделать. Скатав его, она засунула сверток в нижний ящик комода. В понедельник она купит точно такое же и повесит в своем шкафу. Раздевшись, чтобы принять душ, — в третий раз за несколько часов, — она увидела в зеркале свое тело и разразилась слезами. Почему в ее отношениях со всеми мужчинами — одна только грязь? За что на ней такое проклятье? Она ненавидела себя за то, что доверяла Фрэнку; с самого начала у нее было смутное ощущение, что верить ему нельзя. Как могла она себе позволить влюбиться в такого типа? Сейчас все ее фантазии казались ей отвратительными — все эти фантазии, в которых она рисовала Фрэнка таким, каким он никогда не может стать: образованным, многообещающим, добрым, хорошим, — а ведь он всего лишь жалкий бродяга. Где была ее голова, где было ее чувство самосохранения?
Она густо намылилась под душем — и, намыливаясь, плакала. В семь часов, не дожидаясь, пока проснется мать, Элен оделась и ушла без завтрака — аппетита у нее не было. Она с радостью покончила бы все счеты с жизнью, просто уснула, забыла обо всем; но оставаться дома и подвергаться расспросам не могла. Сегодня, после короткого рабочего дня, она вернется домой и скажет ему, чтобы он убирался вон, иначе она устроит такой скандал, что он сам пулей вылетит отсюда.
Вернувшись из гаража, Ник втянул воздух носом и почувствовал в прихожей залах газа. У него в квартире все былов порядке, тогда Ник постучал к Фрэнку.
Через минуту дверь приоткрылась.
— Ты не знаешь, чем пахнет? — спросил Ник, глядя на Фрэнка через узкую щель.
— Не суй нос не в свое дело, — отрезал Фрэнк.
— Дурак! В доме пахнет газом, это опасно.
— Газом? — Фрэнк открыл дверь; он был в пижаме, лицо его осунулось.
— Что с тобой? — спросил Ник. — Ты болен?
— Где пахнет газом?
— Неужели ты не чувствуешь?
— У меня сильный насморк, — сказал Фрэнк хриплым, голосом.
— Может быть, это из подвала? — спросил Ник.
Они спустились на один пролет, и тут даже Фрэнк, со всем своим насморком, почувствовал, что, действительно, пахнет газом.
— Это отсюда, — сказал Ник.
Фрэнк стукнул в дверь.
— Элен! — крикнул он. — Пахнет газом! Можно войти?
Никто не ответил.
— А ну, толкни! — сказал Фрэнк.
Фрэнк приналег на дверь плечом. Дверь оказалась незапертой, и он ввалился в комнату. Ник быстро открыл кухонное окно, а Фрэнк босиком прошлепал через квартиру. Элен не было дома, а Моррис лежал в постели.
Фрэнк притащил Морриса в гостиную, положив там на пол. Ник выключил газ и распахнул настежь все окна. Фрэнк опустился на колени перед Моррисом и стал делать ему искусственное дыхание.
В комнату вбежала испуганная Тесси, и Ник заорал ей, заорал ей, чтоб она позвала Иду.
Ида, причитая и всхлипывая, спустилась по лестнице.
— Боже, Боже!
Увидев, что Моррис лежит на полу в нижнем белье и лицо у него — цвета вареной свеклы, а в уголках рта — пена, Ида истошно закричала.
Элен, которая в это время как раз вошла в дом, услышала крик матери. Она почувствовала запах газа и опрометью кинулась наверх, ожидая самого худшего.
Увидев, что Фрэнк — в пижаме — склонился над ее отцом, Элен задохнулась от отвращения. Она громко вскрикнула, и в этом крике были страх и ненависть.
Фрэнк боялся поднять голову и взглянуть на нее.
— У него сейчас веки дрогнули, — сказал Ник.
Моррис очнулся; у него страшно болела грудь, голова словно налилась ржавым металлом, во рту было сухо, а в животе все переворачивалось от боли. Ему было совестно, что он в нижнем белье лежит на полу.
— Моррис! — закричала Ида.
Фрэнк встал, смущенный тем, что он — босой и в пижаме.
— Папа, папа! — звала Элен, опустившись на колени перед отцом.
— Зачем ты это сделал? — завопила Ида в ухо бакалейщику.
— Что случилось? — полузадушенным голосом спросил Моррис.
— Для чего ты это сделал?
— Ты с ума сошла! — пробормотал Моррис. — Я забыл зажечь газ. Ошибся.
Слезы текли из глаз Элен, ее губы дрожали. Фрэнк отвернулся.
— Его спасло то, что в комнату проходил воздух, — сказал Ник. — Моррис, вам повезло, что в окнах — щели.
Тесси дрожала.
— Тут же холодно! Накрой его, он весь потный.
— Ложись в постель, — сказала Ида.
Фрэнк и Ник подняли бакалейщика и снесли его в постель. Ида и Элен накрыли его одеялом, а сверху еще периной.
— Спасибо, — сказал Моррис.
Он взглянул на Фрэнка. Фрэнк уставился в пол.
— Закройте окна, — сказала Тесси. — Газ уже выветрился.
— Подождем еще немного, — ответил Фрэнк.
Он взглянул на Элен, но та стояла к нему спиной. Она все еще плакала.
— Почему он это сделал? — причитала Ида.
Моррис долгим взглядом поглядел на нее, потом закрыл глаза.
— Дайте ему отдохнуть, — посоветовал Ник.
— Еще час-полтора не зажигайте спичек, — посоветовал Фрэнк Иде.
Тесси закрыла все окна, кроме одного, и вышла. Ида и Элен остались в спальне с Моррисом.
Фрэнк помедлил в комнате Элен, но никто не пригласил его остаться.
Потом он оделся и спустился в лавку, где сегодня было довольно оживленно. Вскоре спустилась Ида и закрыла лавку, хотя Фрэнк просил этого не делать.
Во второй половине дня у Морриса начался сильный жар; вызвали врача, и он сказал, что Морриса нужно положить в больницу. Приехала машина скорой помощи и увезла его, с ним поехали Ида и Элен.
Из своего окна наверху Фрэнк видел, как они уезжали.
В воскресенье утром лавка все была закрыта. Фрэнк подумывал о том, чтобы, преодолев свой страх, постучать к Иде и попросить ключ. Но дверь могла открыть Элен, а он понятия не имел, что скажет ей на пороге. Поэтому Фрэнк спустился в подвал и оттуда, через шахту лифта, проник в туалет при лавке. Очутившись, наконец, в задней комнате, он побрился и сварил себе кофе. Он решил, что останется в лавке на весь день, пока ему не прикажут сматываться, а даже если и прикажут, он все же постарается задержаться. В этом была его последняя надежда — если[1] у него оставалась хоть какая-то надежда. Открыв входную дверь лавки, он втащил молоко и булочки и был готов приступить к работе. Ящик кассового аппарата был пуст, поэтому Ник[2] сбегал к Сэму Перлу и одолжил у него пять долларов мелочью, сказав что вернет после того, как расторгуется в лавке. Сэм спросил, как чувствует себя Моррис, и Фрэнк ответил, что не знает.
Около девяти часов, когда Фрэнк стоял за прилавком, Ида и Элен ушли из дому. Элен выглядела, как прошлогодний цветок. Видя это, Фрэнк испытывал ощущение потери, стыда и сожаления. У него на душе кошки скребли — еще вчера он чуть было не добился осуществления своих мечтаний, а сегодня от этого ничего не осталось, кроме воспоминания, которое делало сегодняшний день еще горше. Особенно обидно было, что он почти достиг цели, и это выводило его из себя. Когда Элен выходила из дому, у него возникло безумное желание — ринуться за ней, схватить за руку, втащить в лавку и рассказать, как он ее любит. Но он ничего не сделал. Он не пытался прятаться от Иды и Элен, но и не старался маячить у них перед глазами. Они ушли по направлению к станции метро.
Потом Фрэнк подумал, что хорошо бы сходить проведать Морриса в больнице — надо только узнать, куда его отвезли; это можно будет сделать, когда Ида и Элен вернутся домой. Однако, они пропадали весь день и вернулись лишь к полночи. К этому времени лавка была уже закрыта, и он видел их из окна своей комнаты — они вышли перед домом из такси. В понедельник — в день, когда норвежцы должны были открыть свою новую лавку, — Ида спустилась в семь часов утра, чтобы приклеить к двери бумажку, извещавшую, что Моррис болен и лавка будет закрыта до среды или четверга. К ее удивлению, за прилавком стоял Фрэнк Элпайн, уже в переднике. Она пришла в ярость.
Фрэнк нервничал: если либо Моррис, либо Элен, либо они оба рассказали Иде, как он перед ними провинился, то ему крышка.
— Как вы сюда попали? — грозно спросила Ида.
Он рассказал, как пробрался в лавку через шахту старого грузового лифта.
— У вас неприятности, и поэтому я не хотел вас тревожить, просить ключ.
Она сердито сказала, что запрещает ему когда бы то ни было проникать в лавку таким образом. На лице у нее за два эти дня прибавилось морщин, в глазах была усталость, губы горько сжались; но он был уже почти уверен, что по какой-то мистической причине она понятия не имеет о его художествах.
Фрэнк вытащил из кармана горсть долларовых бумажек и небольшой мешочек мелочи и положил все это на прилавок.
— Вчера я продал на сорок один доллар.
— Вы и вчера были тут?
— Я попал в лавку, как я вам говорил. От четырех да шести торговля шла очень бойко. У нас кончился картофельный салат.
На глазах у Иды показались слезы. Фрэнк спросил, как чувствует себя Моррис.
Ида вытерла глаза платком.
— У Морриса воспаление легких.
— Ой, плохо! Если можете, передайте ему от меня привет. Ну, и как он?
— Он очень болен, у него слабые легкие.
— Я схожу в больницу его проведать.
— Не сейчас, попозже, — сказала Ида.
— Когда ему станет лучше. Как вы думаете, долго он будет лежать в больнице?
— Не знаю. Доктор сегодня позвонит.
— Послушайте, — сказал Фрэнк, — зачем вам беспокоиться о лавке, пока Моррис болен? Я с ней отлично справлюсь. Вы же знаете, я многого не требую.
— Муж сказал, чтобы вы ушли.
Фрэнк пристально поглядел на Иду, но на ее лице не было никаких признаков гнева.
— Я тут долго не останусь, — ответил Фрэнк. — Вы можете не волноваться. Я поработаю, пока Моррис не поправится. Вам сейчас нужно беречь каждый цент, чтобы заплатить за больницу. Я ничего для себя не прошу.
— Моррис вам сказал, почему он вас увольняет?
Сердце у него так и застучало. Знает она или не знает? Если знает, то надо сказать, что Моррис ошибся, — что он, Фрэнк, не трогал ни цента из их денег. Разве кучка денег, лежащая на прилавке, — не доказательство?
Однако он ответил:
— Конечно, он не хотел, чтобы я крутился возле Элен,
— Да, она еврейская девушка. Вы должны найти себе кого-нибудь другого. Но, кроме того, он узнал, что Шмитц с декабря болеет, и поэтому его лавка по утрам была закрыта и вечером он тоже раньше закрывался. Вот поэтому наши дела и стали лучше, а не из-за вас.
Затем она сообщила Фрэнку, что немец продал свою лавку двум норвежцам, которые собираются сегодня начать торговлю.
Фрэнк покраснел.
— Я знал, что Шмитц болен и иногда не открывает лавку, но ваши дела не потому пошли лучше. Дела пошли лучше потому, что я очень много работал и много делал, чтобы наладить торговлю. Пари держу, я мог бы выручать ту же прибыль, даже если не только эти два норвежца откроют свою лавку, а еще трое греков прибавятся. Мало того, я спорить готов, что выручка увеличится.
Ида и хотела бы ему поверить, но не могла.
— Погодите немного, и увидите, что вы ошибаетесь.
— Так дайте мне показать себя. Не надо жалования, достаточно того, что будет еда и комната.
— Чего вы от нас хотите? — спросила она в отчаянии.
— Я хочу вам помочь, Я в долгу перед Моррисом.
— Ничего вы нам не должны. Он вам должен, вы спасли его от смерти, когда он отравился газом.
— Я тут ни при чем. Запах газа почувствовал Ник. И, как бы там ни было, я ему обязан за все, что он для меня сделал. Такой уж я человек: если я кому-то за что-то благодарен, так до конца.
— Пожалуйста, оставьте в покое Элен. Она не для вас.
— Хорошо.
Ида позволила ему остаться. А что еще она могла сделать при такой-то бедности?
Тааст и Педерсен открыли свою лавку, на витрине которой красовалась подкова, сплетенная из весенних цветов. Розовые рекламные листки привлекли к норвежцам покупателей, и у Фрэнка было не много работы. За весь понедельник в лавку Морриса заглянуло лишь несколько постоянных покупателей. Поздно вечером, после того как норвежцы закрылись, в лавке стало пооживленнее, но когда около одиннадцати часов Фрэнк погасил свет, в ящике кассового аппарата было всего пятнадцать долларов. Но он не очень беспокоился. В понедельник торговля всегда идет хуже, да к тому же, люди обычно клюют на новинку да на цены со скидкой. Видимо, раньше, чем через две недели, нельзя будет точно сказать, насколько лавка норвежцев повлияла на Моррисов бизнес, — лишь к тому времени жители квартала привыкнут к новой лавке и дела войдут в свою колею. Нельзя же постоянно продавать продукты по ценам со скидкой. Лавка — это не богадельня; и когда норвежцы перестанут торговать себе в убыток, Фрэнк побьет их по качеству обслуживания, а то даже и по ценам, и вернет былых Моррисовых покупателей.
Во вторник торговля шла вяло — тоже как всегда. В среду выручка была немного лучше, но в четверг опять уменьшилась. В пятницу покупателей прибавилось. Лучше всего торговля шла в субботу — хотя и не так хорошо, как в прошлые субботы. Недельная выручка была почти на сто долларов меньше, чем в среднем за предыдущие недели. Фрэнк этого ожидал, поэтому в четверг он на полчаса закрыл лавку и проехался на трамвае до банка. Он снял со своего счета двадцать пять долларов и положил их в кассовый ящик — пять в четверг, десять в пятницу и десять в субботу, — чтобы Ида, когда будет подсчитывать выручку, не слишком расстраивалась. На семьдесят пять долларов в неделю меньше — это все-таки лучше, чем на сто.
Пролежав десять дней в больнице, Моррис немного оправился, и Ида с Элен привезли его на такси домой и положили в постель до окончательного выздоровления. Фрэнк, набравшись храбрости, подумал, что нужно пойти и повидаться с ним; хорошо бы принести с собой чего-нибудь вкусного — может быть, пару пирожных, кусок творожного пудинга (Фрэнк знал, что Моррис любит творожный пудинг) или несколько ломтиков яблочного пирога. Однако, это может оказаться преждевременным: а вдруг Моррис закричит: «Ах ты, вор, ты только потому еще здесь, что я лежу больней!» Впрочем, если бы Моррис принял окончательное решение, он открыл бы Иде, за что рассчитал Фрэнка. Теперь Фрэнк был уверен, что Моррис ей ничего не говорил: иначе она не стала бы терпеть его в лавке. Фрэнк много думал о том, почему Моррис сохранил в тайне его проступок. Так поступает обычно человек, который не уверен, прав ли он и хорошо ли он поступил. Может быть, обдумав все хладнокровно, Моррис стал относиться к Фрэнку иначе, чем в тот момент, когда сгоряча велел ему убираться вон. Фрэнк думал и о том, как бы убедить Морриса, что в его же, Морриса, интересах оставить Фрэнка в лавке. Он готов был все, что угодно, обещать, только бы остаться. «Не беспокойтесь, — скажет он, — я больше никогда не буду красть — ни у вас, ни у кого бы то ни было другого. Разрази меня на этом месте, если я что-нибудь такое сделаю». Он надеялся, что его обещания, плюс хорошее поведение во время Моррисовой болезни, когда благодаря Фрэнку лавка оставалась открытой и продолжала приносить какой-то доход, — что все это смягчит Морриса и убедит его в искренности Фрэнковых намерений. Тем не менее, он решил не спешить с визитом к больному бакалейщику.
Элен тоже никому ничего о нем не сказала, и понятно, почему. Фрэнк все время думал о том, какое зло он ей причинил. Он не хотел причинять ей зла, но сделал это; теперь он обязан загладить свою вину. Он сделает все, что она хочет, а если она ничего не хочет, он сделает что-нибудь такое, что должен сделать; и сделает это сам, без всякого понуждения. Он покажет, что умеет владеть собой и что любит ее.
Все эти дни он видел ее лишь мельком, и у него на сердце тяжелым грузом лежало то, что он хотел ей сказать. Он подглядывал за ней из окна — Элен не обращала на него внимания. Сквозь зеленоватое стекло она казалась угрюмой. «Боже милостивый, — думал он, — больше никогда не будет она ласкова со мной». Он испытывал к ней благородное сочувствие, смешанное с ощущением собственной вины за то, что принес ей горе. Однажды она пришла с работы и взглянула на Фрэнка, проходя через лавку: он уловил в ее глазах презрение. «Мне крышка, — подумал он, — сейчас она подойдет и пошлет меня ко всем чертям». Но Элен смотрела уже в другую сторону и просто-напросто не замечала Фрэнка. Ему было больно и обидно, что он от нее так близко и в то же время так далеко, что он просит прошения не у Элен, а у ее тени, у запаха, который она, уходя, оставляет за собой в комнате. В том, что он сделал, он каялся перед самим собой, но не перед ней. Проклятье! Ну, что тут поделаешь: он хочет объясниться, повиниться, но никто не желает его слушать. Временами он готов был от этого заплакать, но ведь не ребенок же он, в самом деле. Плакать Фрэнк не любил и не умел.
Как-то раз он столкнулся с Элен в прихожей. Но, прежде чем он успел открыть рот, она исчезла. Он особенно остро почувствовал, что любит ее. Когда она ушла, Фрэнк подумал: «А может быть, безнадежность — это и есть мое наказание?» Он ожидал, что наказание будет суровым и обрушится на него быстро, а оно вместо этого медлило: вроде бы, никакого наказания и не было, но вся его жизнь теперь была — сплошное мучение.
Фрэнк не знал, как подойти к Элен. То, что случилось, не просто отдалило ее от Фрэнка — она жила теперь как бы в другом мире, куда ему не было доступа.
Как-то рано утром он стоял в прихожей, а она спускалась по лестнице.
— Элен, — сказал он, срывая с себя матерчатую шапочку, которую теперь носил, когда был в лавке, — поверь, мне очень жаль. Я хотел бы попросить прощения…
Ее губы дрогнули.
— Нам не о чем разговаривать, — сказала она презрительно. — И не надо мне твоих извинений. Я не хочу тебя видеть, не хочу тебя знать. Как только отец поправится, пожалуйста, уходи отсюда. Ты очень помог ему и маме, и большое тебе за это спасибо, но мне ты не нужен. Меня от тебя тошнит.
И она хлопнула дверью.
Той ночью ему приснилось, что он стоит у нее под окном в снегу, не чувствуя холода босыми ногами. Он долго так стоял, и снежинки садились ему на голову, и он весь замерз, и только лицо еще оставалось теплым. Но он все ждал и ждал, пока она не сжалилась над ним и не бросила что-то, приоткрыв окошко. Это что-то летело вниз. Сначала он думал, что это записка, но потом увидел, что это белый цветок, невесть откуда взявшийся среди зимы. Фрэнк поймал его обеими руками. Когда она бросала цветок, он успел заметить лишь кончики ее пальцев, но все-таки увидел свет в комнате Элен и даже почувствовал, как там тепло. И снова смотрел на замурованные морозом стекла. Даже во сне он знал, что окошко это никогда не открывалось. И вообще никакого окошка не было. Фрэнк опустил голову, чтобы взглянуть на цветок в своих руках, но — прежде чем увидел его, — проснулся.
На следующий день он поджидал ее в прихожей, на его непокрытую голову падал свет от лампы.
Элен спустилась по лестнице; лицо у нее было точно каменное, и она не посмотрела на Фрэнка.
— Элен, я люблю тебя, и ничто не может убить мою любовь.
— У тебя это слово звучит, как ругательство.
— Если человек сделал ошибку, неужели он должен страдать вечно?
— А мне совершенно нет дела, страдаешь ты или нет.
И потом, когда они встречались на лестнице, она проходила мимо, не произнося ни слова, как будто он не существовал. Для нее он и вправду не существовал.
«Если лавка в один прекрасный день прогорит, то мне впору хоть удавиться», — думал Фрэнк. Он делал все, что мог. Торговля шла из рук вон плохо. Неизвестно, сколько времени еще лавка сумеет продержаться, или сколько времени Моррис и Ида позволят Фрэнку работать в ней. Если лавка закроется — все кончено. Но если Фрэнк будет продолжать, то всегда есть надежда на какие-то перемены, а если изменится что-нибудь одно, то может измениться и что-либо другое. Если он продержится здесь до тех пор, пока бакалейщик окончательно поправится, значит, у него в запасе есть еще две-три недели, чтобы постараться что-то изменить. Две-три недели — это ничто; чтобы выполнить то, что он задумал, Фрэнку нужны были годы.
Особые цены со скидкой в лавке Тааста и Педерсена оставались в действии в течение всей второй недели, потом и в течение третьей. Постоянные покупатели Фрэнка исчезали один за другим. Некоторые из них теперь, встречая его на улице, даже не здоровались. Иной раз кто-нибудь из бывших покупателей, завидев в окне лавки печальное лицо Фрэнка, переходил на другую сторону улицы. Фрэнк снял со своего счета все деньги, что успел накопить, и каждый день добавлял в кассу несколько долларов, но Ида видела, как скверно идут дела. Она начала отчаиваться и поговаривать о том чтобы пустить лавку с торгов. Это бесило Фрэнка. Он понимал: надо что-то придумать, что-то сделать.
И он не сидел, сложа руки. Он тоже ввел цены со скидкой и кое-что сумел продать, но когда норвежцы стали продавать еще дешевле, торговля снова замерла. Несколько раз он держал лавку открытой всю ночь, но заработал за это время столько, что этого не хватило бы даже заплатить за электричество. Свободного времени у него теперь было вдоволь, и он решил благоустроить лавку, навести в ней порядок. На свои последние пять долларов он купил несколько галлонов дешевой краски. Затем, сняв товары с одной секции, он соскреб старые обои и покрасил стены в красивый желтый цвет. Поставив товары обратно, он занялся другой секцией. Закончив красить стены, он одолжил высокую стремянку и побелил потолок. Он даже снял несколько полок и покрыл их отличным лаком. Закончив все это, он вынужден был себе признаться, что его труд пропал даром: он не приобрел ни одного лишнего покупателя.
Торговля шла все хуже и хуже — хотя это, казалось бы, уже совершенно невозможно.
— Что вы говорите Моррису о том, как идут дела? — спросил Фрэнк однажды у Иды.
— Он меня не спрашивает, а я ничего не говорю, — сказала она грустно.
— Как его самочувствие?
— Он еще очень слаб. Доктор говорит, что у него легкие — как бумага. Он читает или спит. Иногда слушает радио.
— Пусть отдыхает. Это ему полезно.
— Почему вы так много работаете задаром? — снова, в который уже раз, спросила Ида. — Чего ради вы здесь остались?
Он хотел бы ответить: «Ради любви», но не решился.
— Ради Морриса, — сказал он.
Но она не поверила. Даже сейчас, когда он буквально спасал их с Моррисом от голодной смерти, Ида уволила бы его, не знай она точно, что Элен больше не знается с Фрэнком. Наверно, он сделал какую-нибудь глупость и этим настроил Элен против себя. А может быть, просто, когда отец заболел, она стала больше думать о родителях. «Дура я была. что беспокоилась», — думала Ида. Теперь ее волновало, что Элен, в ее-то возрасте, так мало думает о мужчинах. Несколько раз звонил Нат, но Элен даже не захотела подойти к телефону.
Фрэнк, как мог, старался сократить расходы. С разрешения Иды он отключил телефон. Делать это ему очень не хотелось: а вдруг кто-нибудь позвонит Элен, и она спустится, чтобы ответить. Экономя на отоплении, он включал теперь только один или два радиатора — в самой лавке, чтобы покупателям не было холодно, но не на кухне. Работал он в грубошерстном свитере и в жилетке под передником, а на голове носил шапочку. Ида, чтобы не мерзнуть в лавке, все больше времени проводила наверху. Однажды, когда она вошла в кухню и увидела, что Фрэнк солит себе на обед тарелку вареной картошки без мяса, она расплакалась.
Он все время думал об Элен. Откуда она знает, что он чувствует? Если бы она взглянула на него, то увидела бы того же самого парня, какого видела раньше. Но никто не мог заглянуть к нему внутрь.
Когда Бетти Перл выходила замуж, Элен не пошла на свадьбу. Накануне она неуклюже извинилась, сказала, что плохо себя чувствует, сослалась на болезнь отца. Бетти сказала, что все понимает, но подумала, что дело тут не в болезни, а в ее брате.
— Ладно, в следующий раз, — со смешком сказала она, когда Элен отказалась прийти на свадьбу.
Элен, впрочем, поняла, что Бетти обижена, и почувствовала себя виноватой. Она решила, что сходит хотя бы на брачную церемонию, и наплевать ей, будет или не будет там Нат; однако, она не могла заставить себя пойти, ей было не до свадеб. Ей могли бы сказать: «С таким лицом не на свадьбу ходят, а на похороны».
Элен целыми ночами плакала, но не могла избавиться от воспоминаний. Идиотка, как она могла полюбить такого человека? Как вообще могло ей в голову взбрести, что она выйдет замуж за нееврея? Кто он? Чужой, совсем чужой человек! Сам Бог не допустил, чтобы она сделала эту роковую ошибку. И с такими-то мыслями — разве могла она заставить себя пойти на чужую свадьбу?
Она мучилась бессонницей. Днем Элен со страхом думала о том, что наступит ночь и ей придется лечь в постель. Она забывалась тревожным сном на несколько жалких часов, в течение которых много раз просыпалась. Ей даже во сне снилось, что она вот-вот проснется, и она-таки просыпалась. Когда она по ночам не спала, ей было ужасно жаль себя, а начав себя жалеть, она уже не могла остановиться, эта жалость разрасталась до такой степени, что никакое снотворное не помогало. Она все думала и думала о бесконечных напастях, которые преследовали ее и ее родителей, — например, о болезни отца (он никак не мог выздороветь), — ну, и конечно, о лавке.
— Не говори отцу, — шептала ей Ида на кухне.
Но рано или поздно, им придется в конце концов рассказать, что дела в лавке идут из рук вон плохо. Да будь они прокляты, все эти бакалейные лавки! И никакого просвета, никакой надежды! Каждое утро после бессонной ночи Элен зачеркивала день в календаре — новый день, за которым последует еще одна бессонная ночь. Таких дней своему врагу не пожелаешь!
Хотя Элен оставляла себе теперь от зарплаты всего каких-нибудь четыре доллара, а все остальное отдавала родителям, им все больше и больше не хватало на необходимые расходы. Однажды Фрэнк придумал, как раздобыть немного денег: нужно, чтобы Карл, швед-художник, заплатил около семидесяти долларов, которые он давным-давно задолжал Моррису за покупки, сделанные в кредит. Фрэнк целыми днями высматривал, не появится ли Карл, а тот как сквозь землю провалился.
Но однажды утром, стоя у окна, Фрэнк увидел, что Карл вышел из винной лавки Карпа; под мышкой у него была бутылка, завернутая в бумагу.
Фрэнк выбежал на улицу, напомнил Карлу о том, что он задолжал Моррису, и спросил, не может ли Карл заплатить хотя бы часть.
— Я имел дело с Моррисом, а не с тобой, — ответил Карл, — так что не суй свой грязный нос не в свое дело.
— Моррис болен, и ему позарез нужны деньги, — сказал Фрэнк.
Карл отпихнул Фрэнка плечом и пошел своей дорогой.
— Я с этого пропойцы сдеру деньги! — в ярости сказал Фрэнк.
В лавке была Ида, и Фрэнк сказал ей, что скоро вернется. Он повесил на крюк свой передник, надел пальто и побежал следом за Карлом, который направлялся с купленной бутылкой к себе домой. Проследив, где Карл живет, Фрэнк вернулся в лавку. Он был чертовски зол на Карла — даже не за то, что художник не расплатился, а за то, как тот ответил на просьбу Фрэнка вернуть долг.
Вечером он отправился к Карлу; тот жил в ветхом четырехэтажном доме, на верхнем этаже, куда вела скрипучая, шаткая лестница. Фрэнку открыла тощая черноволосая женщина; увидев незнакомого человека, она насторожилась. Сперва она показалась Фрэнку старухой; только когда его глаза привыкли к полумраку, он понял, что она молода, но выглядит, как старуха.
— Вы жена Карла?
— Да.
— Могу я с ним поговорить?
— О работе? — спросила она, и в глазах ее мелькнула надежда.
— Нет. Кое о чем другом.
Она опять выглядела старухой.
— Он уже несколько месяцев без работы.
— Мне просто нужно с ним потолковать.
Женщина впустила Фрэнка в большую комнату, которая была одновременно и кухней и жилым помещением; комната была разделена на две части занавеской. Посреди жилой части стоял керогаз, распространявший тошнотворный чад, смешанный с кислым запахом капусты, шедшим от кастрюли. В комнате было четверо детей: двенадцатилетний мальчик и три девочки помладше; они что-то рисовали на листах бумаги, резали и клеили. Когда Фрэнк вошел, они молча посмотрели на него и продолжали заниматься своим делом. Фрэнк почувствовал себя неловко. Он остановился у окна и посмотрел вниз, на унылую улицу, тускло освещенную фонарем. «Ладно, скощу ему половину долга, только пусть уплатит остальное», — подумал он.
Жена художника накрыла кастрюлю крышкой и ушла в спальню; вернувшись, она сказала, что муж спит.
— Ладно, я подожду, — сказал Фрэнк.
Женщина занялась своей стряпней. Старшая девочка накрыла на стол, и все сели есть. Фрэнк заметил, что они поставили прибор и для Карла. Стало быть, скоро он выползет из своей норы. Мать за стол не села. Не обращая на Фрэнка никакого внимания, она разлила по стаканам молоко для детей и дала каждому по сардельке с кислой капустой.
Дети жадно накинулись на еду; ели они молча. Старшая девочка поглядела на Фрэнка, он улыбнулся ей в ответ, и она уставилась в тарелку.
Когда все было съедено, она спросила:
— Мама, есть что-нибудь еще?
— Иди спать! — сказала женщина.
У Фрэнка от запаха и чада разболелась голова.
— Я наведаюсь к Карлу попозже, — сказал он.
Во рту у него был привкус меди.
— Простите, он так и не проснулся, — ответила жена Карла.
Фрэнк побежал в лавку. У него под матрацем были спрятаны последние его три доллара. Он схватил деньги и помчался обратно к Карлу. Однако на улице он неожиданно столкнулся с Уордом Миногью. Уорд так осунулся, что на него было страшно смотреть, — казалось, это мертвец, сбежавший из морга.
— Я тебя искал, — сказал Уорд и вынул из бумажного мешка револьвер Фрэнка. — Сколько ты за это дашь?
— Кусок дерьма, — ответил Фрэнк.
— Я болен, — пожаловался Уорд.
Фрэнк отдал ему три доллара. Потом он выбросил револьвер в канализационный люк.
Фрэнк прочел краткую историю еврейского народа. Он не раз видел эту книгу на библиотечной полке, но теперь он взял ее, чтобы постараться понять, что же все-таки это за люди — евреи. Первую часть он прочел с интересом, но начиная с глав про крестовые походы и про инквизицию Фрэнк буквально заставлял себя продолжать чтение. Эти тяжелые главы он лишь бегло просмотрел, но очень внимательно прочел все, что говорилось о еврейской культуре, о том, чего евреи сумели достичь в науке. Он прочел описания разнообразных гетто, где жили полуголодные, обросшие бородами узники, которые пытались понять, почему они — избранный народ. Фрэнк тоже пытался понять это, но так и не понял. Он не смог закончить книгу и отнес ее в библиотеку, не дочитав до конца.
Иногда вечерами Фрэнк отправлялся посмотреть, как идут дела у норвежцев. Он выходил на улицу, сняв передник, и стоял в подъезде у Сэма Перла, глядя через улицу на магазин бакалейных товаров и деликатесов. Вся витрина у норвежцев была уставлена красивыми банками и коробками, а полки ломились от аппетитных продуктов, и у Фрэнка, когда он на все это смотрел, неизменно разыгрывался аппетит. Там весь день толпились покупатели — Моррисова же лавка почти всегда бывала пуста. Иной раз, когда норвежцы закрывали лавку и уходили домой, Фрэнк пересекал улицу и сквозь стекло вглядывался в темную лавку, как бы пытаясь разгадать секрет Тааста и Педерсена, которые умудряются делать такой бизнес.
Однажды, закрыв лавку, Фрэнк отправился в дальнюю прогулку и забрел в кафе под названием «Кофейник»; оно работало круглые сутки, Фрэнк здесь прежде раз или два бывал.
— Нет ли у вас случайно какой-нибудь ночной работы? — спросил Фрэнк хозяина кафе.
— Мне нужен человек, чтобы стоять за стойкой, варить кофе и подавать холодные закуски, и еще немного мыть посуду, — сказал хозяин.
— Идет, — сказал Фрэнк.
Рабочий день Фрэнка длился с десяти вечера до шести утра, и хозяин кафе платил ему тридцать пять долларов в неделю. Возвращаясь по утрам, Фрэнк открывал лавку. Так прошла неделя, и в субботу Фрэнк положил в ящик тридцать пять долларов, не пробив их на кассовом аппарате. Эта деньги, да еще зарплата Элен, позволили им с грехом пополам свести концы с концами.
Днем Фрэнк отсыпался на кушетке в задней комнате лавки. Он установил звонок, который будил его, когда кто-нибудь отворял входную дверь, но покупателей было так мало, что Фрэнк успевал отлично выспаться.
Так и жил он в своем заточении, сокрушаясь, что свел к плохому все хорошее, и эти мысли растравляли его сердце. Фрэнк видел дурные сны, ему снился ночной парк, его постоянно преследовал запах помойки. Он проклинал свою долю, у него на языке вертелись слова, которые он не решался произнести вслух. По утрам он стоял у окна лавки, глядя, как Элен уходит на службу. Он был на том же месте и когда она возвращалась. Элен входила в дом с опущенной головой, потупив глаза, которые, казалось, не замечали Фрэнка. Ему хотелось сказать ей много такого, что было необычным для него самого, но не мог разобраться в этой путанице, подкатывавшей комом к горлу, так что все изо дня в день умирало внутри него. Он частенько подумывал, а не сбежать ли ему, но это было именно то, что он всегда делал и от чего решил отказаться наотрез. Нет, он останется здесь. Его вынесут отсюда только вперед ногами. И если будут рушиться стены, его придется откапывать лопатами.
Как-то Фрэнк нашел в погребе деревянный брусок и от нечего делать стал кромсать его ножом. К его собственному изумлению, получилось нечто вроде летящей птицы. Он подумал было подарить эту птицу Элен, но птица получилась грубой и какой-то кособокой: первый блин всегда комом. Тогда Фрэнк попробовал вырезать что-нибудь еще. Он решил вырезать цветок — и получилась распускающаяся роза. У розы были тонкие лепестки и толстый стебель, и она была куда больше похожа на розу, чем вырезанная прежде птица — на птицу. Сперва Фрэнк хотел раскрасить розу, но потом решил, что без краски она выглядит лучше. Он завернул деревянный цветок в оберточную бумагу, написал на ней печатными буквами имя и фамилию Элен и за несколько минут до того, как она должна была вернуться с работы, прикрепил пакет клейкой лентой к почтовому ящику. Фрэнк видел, как Элен пришла, слышал, как она поднялась по лестнице. Выглянув, он обнаружил, что пакет исчез.
Деревянный цветок напомнил Элен о ее несчастьях. Она ненавидела себя за то, что полюбила Фрэнка, зная, что делает ошибку. Она влюбилась, думала Элен, чтобы выбраться из трудного положения. Теперь же ей более, чем когда-либо, было ясно, что она жертва обстоятельств, как бы привидевшихся в дурном сне, и символизировала все это лавка внизу и безжалостное присутствие в ней Фрэнка, которого она должна была выгнать со скандалом, но вместо этого позволила ему остаться на месте.
Когда Моррис вернулся из больницы, он сперва хотел тут же одеться и бежать в лавку, но доктор, прослушав его легкие и постучав пальцами по волосатой груди, спросил:
— Дела у вас идут хорошо, так куда вам торопиться?
А Иде он втихомолку сказал:
— Ему нужно хорошенько отлежаться — и это обязательно.
И, видя, что Ида перепугалась, добавил:
— Шестьдесят лет — это вам не шестнадцать.
Моррис, немного поворчав и поспорив, все же позволил уложить себя в постель и после этого уже не рвался в лавку: да гори она огнем, век бы глаза на нее не глядели! Поправлялся он медленно.
А тем временем весна уже пробивала себе дорогу. Дни стали длиннее, в окна спальни чаще заглядывало солнце. Но по улицам еще гулял холодный ветер, прохожие зябко кутались в пальто и шарфы, и иногда, после нескольких часов солнечной погоды, небо темнело и начинал валить крупными хлопьями снег. Моррис лежал в постели, грустил и часами вспоминал свое детство. Вспоминал зеленые поля. Никогда ему не забыть, как мальчишкой носился он по полям, как оглашенный. Отец, мать, единственная сестра — сколько уже лет он их не видел, о Господи! И в завывании ветра Моррису чудились их голоса.
Он слупил, как внизу на улице хлопает на ветру парусиновый навес над витриной, и со страхом думал о своей лавке. Моррис уже бог знает сколько времени не спрашивал Иду, как идет торговля, но он и без того знал это — нутром чуял, что дело швах. Прислушиваясь, он замечал, что кассовый аппарат позванивает редко, и это ему все объясняло. Внизу стояла зловещая тишина. Да и какие звуки можно услышать на кладбище, где над угрюмой землей возвышаются одни лишь могильные плиты? Сквозь щели в полу просачивался запах смерти. Моррис понимал, почему Ида так редко отваживается спускаться вниз, а старается найти себе хоть какое-нибудь дело в квартире. Да и кто может оставаться часами в такой лавке? Разве что гой, у которого нет сердца. Лавка представлялась Моррису какой-то зловещей черной птицей; а когда он начал чувствовать себя лучше, птица стала широко открывать горящие глаза и выпяливаться на него, и он все больше и больше беспокоился.
Как-то утром Моррис сидел, опершись спиной о подушку, и просматривал вчерашний «Форвертс»; и вдруг на него что-то накатило, ему стало так тошно, что он весь покрылся холодным потом и сердце застучало часто-часто. Моррис отбросил одеяло, вылез из постели и начал поспешно одеваться.
В комнату вбежала Ида.
— Моррис, что ты делаешь? — закричала она. — Ты же болен!
— Я должен сойти вниз.
— Да кому ты там нужен? Нечего тебе делать внизу. Ложись и отдыхай.
Моррису смерть как хотелось снова лечь в постель и лежать там хоть всю жизнь, до скончания века, но он не мог справиться с охватившим его почему-то возбуждением.
— Я должен сойти вниз, — упрямо повторил он.
Ида умоляла его лечь в постель, но Моррис ее не слушал.
— Сколько Фрэнк сейчас наторговывает? — спросил он Иду, натягивая брюки.
— Пару пустяков. Может, семьдесят пять.
— В неделю?
— А что же, в день?
Это было паршиво, но Моррис ожидал худшего. Он лихорадочно перебирал в голове один план за другим, как спасти лавку. Авось, когда он сам начнет работать, дела пойдут лучше. Ему стало страшно, что он тут валяется в постели, а ведь ему нужно быть внизу, спасать лавку.
— Лавка открыта весь день?
— Весь день, с утра до поздней ночи; и Бог его знает, чего ради он так работает.
— А почему он все еще здесь? — спросил Моррис с внезапным раздражением.
— Он остался, — ответила Ида, пожав плечами.
— Сколько ты ему платишь?
— Нисколько; он говорит, ему ничего не нужно.
— А что же ему нужно? Пить мою кровь?
— Он говорит, что хочет тебе помочь.
Моррис что-то пробормотал.
— Ты за ним хоть приглядываешь?
— А чего мне за ним приглядывать? — насторожилась Ида. — Он что, воровал у тебя, что ли?
— Не хочу я, чтоб он здесь оставался. И не хочу, чтоб он был рядом с Элен.
— Элен с ним даже разговаривать не хочет.
Моррис уставился на Иду.
— А что случилось?
— Пойди, спроси ее! А какая кошка пробежала между ней и Натом? Она — вроде тебя: никому ничего не говорит.
— Так пусть он сегодня же убирается! Я не хочу, чтобы он был здесь.
— Моррис, — с запинкой сказала Ида, — поверь, Фрэнк тебе очень, очень помог. Пускай побудет тут еще неделю, пока ты не станешь на ноги.
— Нет!
Моррис застегнул пуловер и, не слушая ее заклинаний, начал, шатаясь, спускаться вниз по лестнице.
Фрэнк услышал, как Моррис спускается по лестнице, и весь похолодел.
С тех пор, как Моррис выписался из больницы, Фрэнк со страхом думал о том, что будет, когда бакалейщик в один прекрасный день спустится в лавку; хотя, как ни странно, в то же время Фрэнк в глубине души даже хотел, чтобы это случилось поскорее. Он часами думал, как убедить Морриса в своем раскаянии, чтобы тот позволил ему остаться. Он собирался сказать: «Разве я не голодал, вместо того, чтобы потратить свою долю денег, которые мы с Уордом у вас взяли, — для того только, чтобы положить их вам обратно в кассу, что я в конце концов и сделал? Единственное, что я у вас взял, — это пару булочек да немного молока, чтобы не помереть с голоду!» Однако Фрэнк не очень-то верил, что этим сумеет убедить Морриса. Может, он сошлется на то, как долго и терпеливо работал у бакалейщика, какие оказал ему услуги? Однако он ведь в то же самое время воровал у Морриса деньги — и это портило всю картину. Он мог бы напомнить Моррису, что спас его, когда тот отравился газом, — но Ник Фузо спас его в той же мере, что и он, Фрэнк. Фрэнк понимал, что нет у него никаких козырей, которыми он мог бы крыть, — понимал, что он уже исчерпал все свои аргументы. Но тут ему в голову пришла сумасшедшая идея — идея жутко рискованная, но, если повезет, она могла бы оказаться козырным тузом. Он подумал: «А что, если я как раз сейчас расскажу ему про налет — может быть, тогда-то Моррис действительно поймет, что я за человек, и тогда он меня пожалеет; ведь я же столько сделал, чтобы загладить свое прошлое». Когда Моррис поймет, почему Фрэнк так долго вкалывал у него за гроши, он растрогается и позволит Фрэнку остаться — а тогда у Фрэнка будет возможность сделать все так, как ему и хочется. Обдумывая эту шальную идею, Фрэнк понимал, что идет ва-банк, что это может его окончательно погубить, но в крайнем случае, если Моррис ни за что не согласится оставить Фрэнка в лавке, нужно будет пустить в ход этот козырь. В конце концов, что ему терять? Но когда Фрэнк рисовал в своем воображении, как он во всем признается и Моррис его прощает, и пытался при этом представить себе, что вздохнет с облегчением, то понимал, что ни черта он не вздохнет с облегчением, — потому что его исповедь не будет полной и совершенно чистосердечной, если он не признается Моррису и в том, как он поступил с его дочерью. А об этом, он знал, ему лучше даже не заикаться; и потому Фрэнк чувствовал, что как бы он ни пытался облегчить свою душу признанием, это будет всегда угнетать его.
Когда бакалейщик — бледный, хмурый, с неприязненным взглядом — вошел в лавку, Фрэнк стоял возле кассового аппарата и чистил перочинным ножом ногти. Он притронулся пальцем к своей матерчатой шапочке и сделал шаг навстречу Моррису.
— Рад вас видеть снова здоровым, Моррис, — сказал он, сожалея в душе, что за весь месяц так и не отважился подняться наверх и повидаться с Моррисом. Моррис холодно кивнул и зашел за прилавок. Фрэнк последовал за ним, опустился на одно колено и включил обогреватель.
— Здесь холодновато, так что лучше включить. Я не включал, чтобы меньше платить за отопление.
— Фрэнк, — твердо сказал Моррис, — спасибо вам за то, что вы мне помогли, когда я отравился газом, и за то, что вы работали в лавке, пока я болел. А теперь вы можете идти.
— Моррис, — ответил Фрэнк, и сердце его сжалось в комок, — клянусь вам, я за последнее время не украл у вас ни цента, и да разразит меня Господь на этом самом месте, если я вру.
— Я не потому хочу, чтобы вы ушли, — сказал Моррис.
— А почему же? — спросил Фрэнк, краснея.
— Вы знаете, — сказал Моррис, опустив глаза.
— Моррис, — сказал Фрэнк, пуская в ход свой последний козырь. — Я должен рассказать вам одну важную вещь. Я хотел сказать вам об этом раньше, но никак не мог набраться храбрости. Моррис, не укоряйте меня за то, что я когда-то сделал; теперь я совсем изменился, я — совсем другой человек. Я был одним из тех двух парней, которые вас ограбили. Клянусь Богом, я этого не хотел, но так уж получилось, я не мог пойти на попятный. Я хотел вам об этом сразу рассказать — потому-то я на другой день пришел к вам, и при первой возможности я положил мою долю денег обратно в кассу; но рассказать вам обо всем у меня духу не хватило. Я не мог вам в глаза смотреть. Мне тяжело об этом говорить, у меня все внутри переворачивается, но я вам все-таки об этом рассказываю, чтобы вы знали, как меня все это мучило, и я очень у вас прошу прощения за тот удар по голове, хотя ударил вас не я. Вы должны понять, что я теперь — не тот человек, каким был тогда. Может, я и выгляжу тем же самым человеком, но если бы вы видели, что у меня на душе, вы бы поняли, что я — совсем другой. Теперь вы можете мне доверять, клянусь вам. Потому-то я и прошу вас: разрешите мне остаться и помочь вам.
Закончив свою речь, Фрэнк почувствовал невыразимое облегчение: дерево, усыпанное птицами, разразилось песней. Однако песня сразу прервалась, когда Моррис, угрюмо глядя на Фрэнка, сказал:
— Так все это я уже знаю, вы не сказали мне ничего нового.
— Знаете? — простонал Фрэнк. — Откуда?
— Я это сообразил, когда лежал наверху, больной. Мне однажды приснилось, что вы меня ударили, и тут я понял…
— Но я не бил вас! — воскликнул Фрэнк. — Я был тот, который дал вам воды. Помните?
— Помню. И я помню ваши руки. И помню ваши глаза. В тот день, как Миногью привел сюда того громилу, так я по вашим глазам увидел, что вы передо мной в чем-то виноваты. А потом, когда я стоял за дверью, а вы украли у меня доллар и положили его себе в карман, я подумал, что я вас раньше где-то видел, но не мог вспомнить, где. А как вы меня откачали, когда я отравился, так я вас почти узнал. И потом, лежа в постели, — делать мне было нечего — я думал обо всех своих неудачах, и как я угробил свою жизнь на эту паршивую лавку. И я вспомнил, как вы впервые сюда пришли, и как вы сидели за этим столом, и вы тогда сказали, что вы всегда делаете какую-нибудь глупость, и все летит вверх тормашками. И тут я понял и сам себе сказал: «Фрэнк — это один из тех двоих, что сделали на меня налет».
— Моррис, — сказал Фрэнк дрожащим голосом, — простите меня.
У Морриса было слишком тяжко на душе, чтобы отвечать. «Жаль парня, — подумал он, — но ведь нельзя же, чтобы в лавке у меня работал повинившийся преступник. Даже если он исправился — какой толк его здесь держать? Лишний рот надо кормить, лишняя пара глаз будет видеть, как я помираю».
— Вы рассказали Элен, что я сделал? — вздохнув, спросил Фрэнк.
— Элен не хочет с вами знаться.
— Моррис, дайте мне последнюю возможность, — взмолился Фрэнк.
— Кто был этот антисемит, который ударил меня по голове?
— Уорд Миногью, — сказал Фрэнк, помолчав. — Сейчас он очень болен.
— Ах! — вздохнул Моррис. — Бедняга Миногью: иметь такого сына!
— Он сперва хотел ограбить не вас, а Карпа. Пожалуйста, дайте мне остаться хоть на месяц. Я буду платить за еду и за жилье.
— Чем же вы будете платить, если я вам платить не буду? Моими долгами?
— Я подрабатываю по ночам, когда закрываю лавку. Мне кое-что платят.
— Нет, — сказал бакалейщик.
— Моррис, я вам нужен. Вы даже не представляете себе, как плохо сейчас идет торговля.
Но Моррис уже твердо решил уволить своего приказчика, и никакая сила в мире не могла его поколебать.
Фрэнк повесил передник на крюк и ушел. Он купил дешевый чемодан и уложил в него свои нехитрые пожитки. Потом он постучал к Нику, чтобы вернуть ему радиоприемник. Ника не было дома, и Фрэнк попрощался с Тесси.
— Куда вы пойдете, Фрэнк? — спросила она.
— Не знаю.
— Вывернетесь?
— Не знаю. Передайте от меня привет Нику.
Перед тем, как уйти, Фрэнк написал записку Элен; в этой записке он еще раз попросил прощения за все зло, которое ей причинил. Он написал, что она — самая лучшая девушка, которую он когда-либо встречал, и что он сам погубил свое счастье.
Прочтя записку, Элен разрыдалась, но ей даже в голову не пришло ответить Фрэнку.
Хотя Моррису понравились те нововведения, которые Фрэнк произвел в лавке, он сразу же понял, что на торговле это никак не отразилось, торговля шла из рук вон плохо
А на следующий же день после ухода Фрэнка она пошла еще хуже: выручка оказалась на десять долларов ниже, чем при Фрэнке. Моррис-то думал, что он уже пережил свои худшие времена, а они, видать, еще впереди.
— Что будем делать? — в отчаянии спросил он Иду и Элен, когда они в воскресенье вечером сидели на кухне, завернувшись в свои пальто.
— А что мы можем делать? — грустно отозвалась Ида. — Устрой в лавке аукцион-распродажу.
— Уж если мы откажемся от лавки, так лучше найти на нее покупателя, — возразил Моррис. — Если мы ее кому-то продадим, то можем продать и дом и что-то за него выручить. Тогда я смогу расплатиться с долгами и, глядишь, у нас останется еще пара тысяч долларов. А пойдет с молотка — так кто купит дом?
— Где же ты найдешь покупателя? — спросила Ида.
— А можно распродать все так, чтобы избежать банкротства? — спросила Элен.
— После распродажи у нас останутся гроши. А когда лавка будет стоять пустая и сдаваться внаем, так дом уж точно никто не купит. В этом квартале уже есть два помещения, которые сдаются внаем. Стоит оптовикам пронюхать, что я пошел на распродажу, они доведут меня до полного банкротства, и заберут дом тоже. А если нам удастся найти покупателя на лавку, мы и за дом сможем получить больше денег.
— Кто эту лавку купит? — вздохнула Ида. — Я тебе говорила, когда надо было продавать, а ты не слушал.
— Предположим, ты продашь и лавку и дом, — сказала Элен. — Что ты будешь делать дальше?
— Может быть, я смог бы купить какое-нибудь крохотное дело, может быть, маленькую кондитерскую. Если бы найти партнера, мы бы открыли кондитерскую в хорошем районе.
— Грошовыми конфетами я торговать не стану, — сказала Ида. — И партнер у нас тоже был, чтоб он сдох…
— А не можешь ты поискать работу? — спросила Элен.
— Кто мне даст работу, в мои-то годы?
— У тебя ведь есть знакомства в торговом мире, — сказала Элен. — Может быть, тебе найдут место кассира в супермаркете.
— Ты что, хочешь, чтобы твой отец весь день стоял на ногах? — закричала Ида. — Ведь у него же расширение сосудов!
— Это все-таки лучше, чем торчать в холодной, пустой лавке.
— Ну, так что мы будем делать? — спросил Моррис.
Никто не ответил.
Когда Ида и Элен остались одни, Ида сказала:
— Все было бы иначе, если бы ты вышла замуж.
— За кого, мама?
— За Луиса Карпа.
На следующий день Ида пошла к Карпу, когда тот был один в своей винной лавке, и рассказала ему о своих заботах. Виноторговец присвистнул сквозь зубы.
— Помните, — сказала Ида, — в ноябре прошлого года вы хотели послать к нам человека по имени Подольский, иммигранта, который хотел открыть бакалейную лавку?
— Да. Он сказал, что придет посмотреть лавку, но в тот самый день заболел гриппом.
— Ну, и купил он уже лавку?
— Кажется, нет, — осторожно сказал Карп.
— И он все еще хочет купить?
— Может быть. Но что я ему могу сказать про такую лавку, как ваша?
— Не надо ему ничего говорить про лавку, скажите ему про цену. Моррис сейчас в таком положении, что он продаст лавку тысячи за две. Если этот ваш Подольский захочет купать еще и дом, мы продадим недорого, и он получит свою выгоду. Этот иммигрант — молодой человек, у него есть силы; если он засучит рукава и хорошо возьмется за дело, то сможет потягаться с этими гоями.
— Пожалуй, я ему как-нибудь позвоню, — сказал Карп.
Потом он, как бы невзначай, спросил про Элен:
— Небось, она того гляди выйдет замуж?
Ида сразу поняла, что ветер дует туда, куда ей нужно.
— Скажите Луису, чтобы не был таким тихоней. Элен очень одинока, а ее никто даже никуда не пригласит.
Карп кашлянул в кулак.
— Я что-то уже несколько дней не видал вашего приказчика. В чем дело?
Он говорил небрежным тоном, но осторожно продвигался и глядел в оба.
— Фрэнк у нас больше не работает, — торжественно заявила Ида. — Моррис его рассчитал, и на прошлой неделе он съехал.
Карп приподнял свои мохнатые брови.
— Пожалуй, — сказал он медленно, — я позвоню Подольскому и скажу, чтобы он пришел завтра вечером. Он работает днем.
— Лучше бы он пришел утром. По утрам приходят некоторые Моррисовы постоянные покупатели.
— Я ему скажу, чтобы в среду он взял выходной, — сказал Карп.
Позднее он рассказал Луису, о чем они беседовали с Идой, но Луис, меланхолически подстригавший ногти, поднял голову и сказал, что Элен — не в его вкусе.
— Когда у тебя в карманах гелт, любая бабенка — в твоем вкусе, — сказал Карп.
— Только не Элен.
— Ладно, увидим.
На следующее утро Карп заявился к Моррису и таким тоном, будто они друзья — водой не разольешь, посоветовал:
— Пусть Подольский тут все осмотрит, но пусть не очень долго смотрит. И помалкивай насчет того, как идет торговля. Не пытайся ему чего-нибудь продать. Когда он кончит, он придет ко мне, и я ему объясню, что к чему.
Моррис, пытаясь скрыть свои чувства, молча кивнул. Ему хотелось поскорее отделаться и от лавки и от Карпа, пока он еще не протянул ноги. С неохотой согласился он послушать совета Карпа.
Подольский появился в среду рано утром. Это был тихий, застенчивый молодой человек в зеленом костюме из такой толстой шерсти, словно этот костюм сшили из попоны. На нем была маленькая шляпа, какие носят в Европе, и в руке он держал разболтанный зонтик. У него было простодушное лицо и добрые глаза.
Моррис, который собирался по совету Карпа пускать Подольскому пыль в глаза и потому чувствовал себя очень неловко, пригласил Подольского в заднюю комнату лавки, где уже нервно ожидала Ида. Но Подольский прикоснулся пальцем к шляпе и сказал, что лучше побудет в лавке. Он забился в угол около двери, и никакой силой нельзя было его оттуда выгнать. К счастью, как раз появилось несколько покупателей, и Подольский с интересом наблюдал, как Моррис умело их обслуживал.
Когда лавка опустела, бакалейщик, стоя за прилавком, пытался завести что-то вроде светской беседы, но Подольский упорно отмалчивался, лишь то и дело покашливая. Моррис почувствовал жалость к молодому иммигранту: небось, ему пришлось-таки хлебнуть лиха и как следует повкалывать, чтобы скопить какие-то жалкие гроши; и, не в силах пойти на сознательный обман, он взял Подольского за лацкан пиджака и честно рассказал ему, что торговля в лавке идет неважно, но энергичный юноша, у которого есть силы и здоровье, если он немного потратится и оснастит лавку на современный лад, сможет за недолгое время поправить дело и начать прилично зарабатывать.
Ида крикнула из кухни, чтобы Моррис помог ей чистить картошку, но Морриса занесло, и он продолжал рассказывать о том, как он выбивается из сил, плывя по морю печали. Потом Моррис вспомнил предостережение Карпа и, хотя он сейчас больше, чем когда-либо, презирал этого осла, он все же на середине оборвал рассказ о своих напастях. Однако, прежде чем отпустить Подольского, он заметил:
— Я мог бы продать за две тысячи, но если кто даст мне тысячу пятьсот, тысячу шестьсот наличными, чтоб деньги на бочку, так пусть берет лавку хоть сегодня. А о доме мы поговорим отдельно. Ну, разве это не хорошее предложение?
— Почему нет? — пробормотал Подольский и опять замолчал.
Моррис удалился в кухню. Ида посмотрела на него так, словно он убил человека, но промолчала. Появилось еще несколько покупателей, но после половины одиннадцатого лавка совершенно опустела. Ида нервничала и думала, как бы поскорее выжить Подольского, но тот никак не уходил. Она пригласила его выпить стакан чаю, но он вежливо отказался. Она заметила, что, наверно, Карп хочет его видеть; Подольский кивнул, но не ушел. Он занялся своим зонтиком. Не зная, что еще сказать, Ида обещала подарить ему рецепты всех своих салатов. К ее удивлению, он рассыпался в цветистых благодарностях.
С половины одиннадцатого до полудня в лавку не зашел ни один покупатель. Моррис спустился в подвал, чтобы не мозолить глаза Подольскому. Ида сидела в задней комнате. Никто не заметил, как Подольский вместе со своим зонтиком незаметно бежал из лавки.
В четверг утром Моррис, поплевав на сапожную щетку, начистил ботинки и облачился в свой парадный костюм, белую рубашку и галстук. Он позвонил в дверной звонок, чтобы Ида спустилась вниз, и надел пальто и шляпу; пальто и шляпа были куплены несколько лет назад, но выглядели совсем новыми, потому что Моррис больно уж редко их надевал. Одевшись, он прокрутил на кассовом аппарате «откл.» и неохотно взял из ящика два доллара мелочью.
Он решил отправиться к Чарли Собелову, своему бывшему компаньону. Много лет назад Чарли, который был хоть и косоглаз, но дальновиден, пришел к Моррису с тысячей долларов в кармане, взятых в долг, и предложил, чтобы Моррис стал его компаньоном — и вложил в дело четыре тысячи долларов; Чарли хотел вместе с Моррисом купить бакалейную лавку, которую он где-то приглядел. Моррис недолюбливал Чарли за нервозность и за его косоглазие (никогда нельзя было сказать, в какую сторону Чарли смотрит), но энтузиазм Чарли его заразил, и они купили лавку. Дела сразу же пошли хорошо, и Моррис был доволен. Но Чарли, который ходил на вечерние бухгалтерские курсы, предложил полностью взять на себя ведение конторских книг, и Моррис, несмотря на предупреждения Иды, согласился — потому что, как он сказал, книги все равно всегда у него перед глазами, и он может в любую минуту их проверить. Но у Чарли, видать, был нюх на простаков. Моррис за все время ни разу не удосужился заглянуть в книги, и через два года после покупки лавки оказалось, что они прогорели.
Сначала, когда на него обрушился этот удар, Моррис никак не мог понять, что произошло. Но Чарли с цифрами в руках доказал, что им не избежать банкротства. Слишком велики были расходы (они платили самим себе чересчур шикарное жалованье, и Чарли признал, что в этом — его вина), а доходы были ничтожны, и цены все росли. Моррис понял, что его компаньон у него за спиной занялся мошенническими сделками, спекулировал, комбинировал — в общем, пустился во все тяжкие. Они продали лавку за смехотворную цену, Моррис отказался наотрез когда-нибудь иметь дело с Чарли, а тот довольно скоро наскреб денег, снова выкупил лавку, переоборудовал ее и постепенно превратил в процветающий супермаркет. Моррис много лет не видел Чарли, но в последние годы бывший Моррисов компаньон, возвращаясь весной из Майами, где он проводил зиму, почему-то стал навещать Морриса, охотно распивал с ним чаи в задней комнате лавки, постукивая пальцем по столу и ностальгически вспоминая о добрых старых временах, когда они были молоды. С годами Моррис перестал ненавидеть Чарли, но Ида его до сих пор терпеть не могла. И вот именно к Чарли Собелову отчаявшийся бакалейщик решил теперь обратиться за помощью — попросить у него работу, что ли…
Когда Ида спустилась вниз и увидела, что Моррис грустно стоит у двери в пальто и шляпе, она удивленно спросила:
— Моррис, куда ты идешь?
— Я иду за своей смертью, — ответил бакалейщик.
Видя, что он дошел до последней степени отчаяния, Ида разрыдалась и стала ломать руки:
— Куда ты идешь, скажи?
— Я иду просить работу, — сказал Моррис, открывая дверь.
— Вернись! — сердито закричала Ида. — Кто даст тебе работу?
Но Моррис заранее знал все, что она скажет, и, недослушав, выскочил на улицу.
Проходя мимо лавки Карпа, он бросил на нее беглый взгляд и увидел сквозь стекло, что перед стойкой, за которой стоит Луис, толпятся покупатели, человек пять или шесть — все, небось, забулдыги! — и Луис делает бойкий бизнес. А он за четыре часа продал только две кварты молока. Мысленно Моррис пожелал, чтобы эта проклятая винная лавка дотла сгорела — хотя тут же устыдился своей мысли.
На перекрестке он остановился, соображая, в какую сторону повернуть. Он уж и забыл, в каком большом городе живет, — в городе, где столько разных улиц, по которым можно пойти. Решив, как ему лучше добираться, Моррис безрадостно пустился в путь. Было ветрено, но солнечно и не холодно, погода явно начинала меняться к лучшему, в воздухе пахло весной; но Моррис теперь был совершенно равнодушен к природе. Что давала она еврею? Он шел, подгоняемый мартовским ветром, и чувствовал себя беспомощным, невесомым — жертвой всего того, что было у него за, спиной: ветра, забот, долгов, Карпа, налетчиков, разорения.
Он не шел, его толкала судьба. У него не было никаких желаний, лишь одно стремление принести себя в жертву.
Чего ради я всю жизнь надрывался? — спрашивал он себя. — Где моя молодость, на что она ушла?
Прошли годы, не принеся ему ни барыша, ни человеческого сочувствия. И кто виноват? Чего не сотворила ему судьба, то он сам себе натворил. Нужно было делать правильный выбор, а он делал неправильный. Но даже делая правильный выбор, он вел себя неверно. Понять, почему это так, мог лишь человек образованный, а у него образования не было.
Он знал только, что хотел все сделать, как лучше, но за все эти годы так и не понял, что для этого нужно. Удача — это дар свыше. У Карпа был этот дар, и у некоторых его бывших друзей тоже — у зажиточных людей, которые уже обзавелись внуками, а Моррису даже в этом было отказано, и его дочери, сотворенной по его образу и подобию, грозит судьба остаться в старых девах, да она сама чуть ли не к этому и стремится. Жизнь — сплошная скудость, и мир становится все хуже и хуже. Сложно жить в Америке. Один человек ничего не стоит. Слишком много кругом магазинов, кризисов, волнений. Куда бежать от этого?
Вагон метро был переполнен, и он вынужден был стоять, пока сидевшая перед ним беременная женщина не встала со своего места, сделав ему знак, что он может сесть. Моррису было неловко садиться, но никто больше не двинулся, так что он все-таки сел. Посидев немного, он почувствовал, что ему хорошо и приятно, и он готов был ехать так долго-долго и никогда не попасть на свою станцию. Но он все-таки попал. На Миртл-авеню он негромко вздохнул и вышел из поезда.
Дойдя до собеловского супермаркета, Моррис, хоть уже был о нем наслышан, поразился его величине. Помещение, где когда-то была их бакалейня, Чарли увеличил втрое: он купил соседний дом и прорубил стену, а потом пристроил еще помещение, заняв часть двора. Получился огромный супермаркет со множеством полок и секций, ломившихся от товаров. В супермаркете толпилось столько народу, что Моррису, когда он заглянул в окна, сперва показалось, что это — универсальный магазин. Он подумал, что часть всего этого великолепия могла бы принадлежать ему, если бы он не разбазарил того, чем когда-то владел, и эта мысль причинила Моррису боль. Нет, он не завидовал Чарли Собелову, который нажил все это мошенническим образом, но мысль о том, что мог бы он сделать для Элен, будь у него хоть немного денег, погрузила Морриса в еще большее отчаяние.
Он разглядел, что балабос стоит в отделе фруктов и с удовлетворением обозревает свое хозяйство. На Чарли был изящный синий костюм, а под пиджаком, поверх жилета — шелковый передник, и в таком наряде он шествовал по своим владениям, надзирая за продавцами. Глядя сквозь стекло, Моррис увидел себя как бы со стороны — увидел, как он отворяет дверь и подходит к Чарли.
Он хочет заговорить, но не может, и молчание продолжается до тех пор, пока Чарли не заявляет, что он — человек занятой, так что пусть Моррис будет так добр и скажет, зачем он пришел.
— Чарли, — бормочет бакалейщик, — не найдется ли у тебя для меня какой-нибудь работы? Может, кассира, или ещечто-нибудь? Мои дела совсем плохи, и лавка, наверно, пойдет с торгов.
Чарли, все еще не решаясь взглянуть Моррису в глаза, улыбается.
— У меня пять кассиров на ставке, — говорит он, — но, пожалуй, я возьму тебя на полставки. Повесь пиджак в стенной шкаф внизу, и я покажу тебе, что нужно делать.
Моррис представил себе, как он снимает пиджак и надевает белую куртку, где на груди, прямо над сердцем, пришит ярлык с красной надписью: «Собелов — самообслуживание». А затем он стоит по несколько часов в день за кассой, упаковывает покупки, складывает, вычитает и вертит ручку массивного хромированного аппарата. А перед концом рабочего дня босс подходит к Моррису и проверяет, сколько у него в кассе денег.
— Моррис, у тебя доллар недостачи, — говорит Чарли, посмеиваясь, — но неважно, мы закроем на это глаза.
— Нет! — слышит Моррис собственный голос. — У меня доллар недостачи, так вот тебе доллар.
Он вынимает из кармана горстку четвертаков, отсчитывает четыре монеты и вручает своему бывшему компаньону. Затем заявляет, что с этим покончено, вешает свою накрахмаленную куртку в шкафчик и с достоинством направляется к двери…
Моррис постоял у окна и побрел прочь.
Моррис держался с краю молчаливого клубка людей, катившегося по Шестой авеню, останавливаясь у дверей агентств по найму и бесстрастно читая списки рабочих мест, написанные мелом на черных досках. Нередко приглашались на работу повара, пекари, официанты, носильщики, разнорабочие. Время от времени от кучки людей, глазевших на объявление, отделялся кто-нибудь, чтобы незаметно юркнуть в двери агентства. Моррис дошел до Сорок четвертой улицы, где в окне одного из агентств увидел объявление о том, что в кафетерии требуется буфетчик. Моррис поднялся на второй этаж по узкой лестнице и вошел в прокуренную комнату. Бакалейщик неуверенно остановился со смущенным видом; после того, как он постоял некоторое время, грузный владелец агентства поднял голову от бумаг и увидел Морриса.
— Вы что-нибудь ищете?
— Я буфетчик, — сказал Моррис.
— И долго вы этим делом занимались?
— Тридцать лет.
Владелец агентства рассмеялся.
— Ну, да вы просто чемпион! — сказал он. — Но им нужен молодой парень, которому они будут платить двадцать в неделю.
— А нет у вас чего-нибудь для человека с таким стажем, как у меня?
— Вы умеете резать мясо для сэндвичей на тонкие ломтики?
— Еще как!
— Приходите на следующей неделе; может быть, я что-нибудь для вас найду.
Бакалейщик вышел на улицу и продолжал свое путешествие. На Сорок седьмой улице он предложил свою кандидатуру на должность официанта в кошерном ресторане, но оказалось, что место уже занято, просто в агентстве забыли вовремя стереть надпись с доски.
— Что-нибудь еще у вас для меня найдется? — спросил Моррис.
— А что вы умеете делать? — спросил клерк.
— У меня была своя лавка: бакалея и деликатесы.
— А почему вы хотите стать официантом?
— Я не видел, чтобы где-нибудь был нужен буфетчик.
— Сколько вам лет?
— Пятьдесят пять.
— Если вам пятьдесят пять, так я проживу сто лет, — сказал клерк.
Моррис уже повернулся было, чтобы уйти, но тут клерк предложил ему сигарету; Моррис отказался, сказав, что у него от курения разыгрывается кашель.
На Пятидесятой улице он поднялся по темной лестнице и сел на деревянную скамью в дальнем конце длинной комнаты.
Управляющий — человек с широкой спиной и таким же широким задом — держал во рту потухшую сигару и, положив ногу на стул перед собой, вполголоса беседовал с двумя филиппинцами в серых шляпах.
Увидев Морриса, сидящего на скамье, он подозвал его:
— А вам что угодно, папаша?
— Ничего; я просто устал и хочу посидеть.
— Идите домой, — сказал управляющий.
Моррис спустился на улицу и выпил чашку кофе в кафе-автомате.
Америка!
Моррис доехал на автобусе до Тринадцатой улицы в нижнем Ист-сайде, где жил Брейтбарт. Он надеялся застать разносчика дома, но дома был только его сын Хайми. Хайми сидел на кухне, ел кукурузные хлопья с молоком и читал комикс.
— Когда твой папа приходит домой? — спросил Моррис.
— В семь, а то и в восемь, — пробормотал Хайми.
Моррис сел, чтобы дать отдых ногам. Хайми продолжал есть, читая комикс. У него были большие, тревожные глаза.
— Сколько тебе лет?
— Четырнадцать.
Бакалейщик встал. Он вытащил из кармана два четвертака и положил на стол.
— Будь хорошим мальчиком. Твой папа тебя любит.
Он спустился в метро на Юнион-сквер и поехал в Бронкс, где в большом многоквартирном доме жил Эл Маркус. Почему-то Моррису казалось, что Эл Маркус сможет ему помочь. «Ведь мне же, — думал он, — совсем немного надо: может, место ночного сторожа, или что-нибудь в этом роде». Когда он позвонил в дверь Эла Маркуса, ему открыла хорошо одетая женщина с печальными глазами.
— Простите, — сказал Моррис, — меня зовут мистер Бобер. Я — старый клиент мистера Маркуса. Мне нужно с ним повидаться.
— Я его свояченица, меня зовут миссис Марголис.
— Если его нет дома, я подожду.
— Вам долгонько придется ждать, — сказала миссис Марголис. — Его вчера положили в больницу.
Понимая, что ничего уже не изменишь, Моррис все-таки не удержался от того, чтобы спросить:
— Как жить тому, кто умер?
Когда он в сумерки вернулся домой, Ида, только взглянув на него, сразу заплакала.
— Ну, что я тебе говорила?
Вечером, после того как Ида, простоявшая весь день на ногах, пошла наверх, Моррис задержался в лавке и почему-то ощутил непреодолимое желание выпить густых, сладких сливок. Он вспомнил, с каким удовольствием в детстве ел хлеб, обмакнутый в сливки. Он достал из холодильника полпинты сливок и, чувствуя себя преступником, выпил их в задней комнате лавки с куском белого хлеба. Налив сливок в блюдечко, он макал в них хлеб и жадно поедал его.
В лавке раздался какой-то шум. Моррис быстро сунул сливки и хлеб в духовку.
Около прилавка стоял тощий человек в потертой шляпе и черном пальто — длинном, до самых лодыжек. У него был длинный нос, тощая шея, и на костлявом подбородке торчали рыжие клочья бороды.
— А гут шабес! — сказало это огородное пугало.
— А гут шабес! — ответил Моррис, хотя суббота была позавчера.
— Здесь пахнет, — сказал тощий незнакомец, сузив и без того маленькие глазки, — как в открытой могиле.
— Торговля не идет.
Незнакомец облизал языком губы и прошептал:
— А страховка есть? Вы застрахованы от пожара?
Моррис испугался.
— Что вам за дело?
— Сколько?
— Что сколько?
— Умный человек слышит одно слово, а понимает два. На сколько вы застрахованы от пожара?
— Лавка на две тысячи.
— Фу!
— Дом на пять тысяч.
— Просто стыдно. Надо на десять.
— Кто же даст десять за такой дом?
— Это еще неизвестно.
— Что вам тут нужно? — спросил Моррис, начиная раздражаться.
Незнакомец потер свои костлявые руки, поросшие рыжеватым пушком.
— Что нужно махеру?
— Какому махеру? Что вы такое делаете?
Незнакомец пожал плечами.
— Я зарабатываю на жизнь, — проговорил он почти беззвучно. — Я делаю пожары.
Моррис так и отпрянул.
— Мы люди бедные, — пробормотал махер, прикрыв глаза, и выжидательно замолчал.
— Чего вы от меня хотите?
— Мы — люди бедные, — сказал махер извиняющимся тоном. — Бог любит бедных, но помогает он богатым. Страховщики — богачи. Они берут твои деньги, а что они тебе дают? Ничего. Зачем же надо жалеть страховщиков?
Он предложил Моррису устроить в лавке пожар. Он сделает это быстро, безопасно, экономно — прибыль гарантирована.
Он вынул из кармана пиджака кусок целлулоида.
— Знаете, что это?
Моррис решил промолчать.
— Целлулоид, — прошептал махер.
Он чиркнул большой желтой спичкой и зажег целлулоид. Целлулоид сразу вспыхнул. Махер подержал его секунду и уронил на прилавок. Целлулоид быстро догорел и исчез. Махер дунул, но дуть было не на что. Только в воздухе остался легкий запашок.
— Волшебство! — сказал махер громким шопотом. — Никакого пепла. Поэтому мы работаем с целлулоидом, не с бумагой, не с тряпками. Только сунуть кусок целлулоида в щель — и через минуту пожар. А потом приходят детективы, которые работают на страховщиков, и что они находят? Ничего они не находят. А за ничего они платят деньги — две тысячи за лавку, пять тысяч за дом.
По лицу махера проползла улыбка.
Морриса передернуло.
— Вы хотите, чтобы я сжег свой дом, чтобы взять страховую премию?
— Я хочу, — вкрадчиво сказал махер, — цу вы хотите.
Бакалейщик промолчал.
— Возьмите семью, — продолжал махер, — и езжайте на Кони-Айленд. Когда вы вернетесь, все будет сделано. С вас пятьсот.
Он слегка потер двумя пальцами.
— Наверху живут еще муж с женой.
— Они когда-нибудь уходят?
— Иногда в кино. В пятницу вечером.
Он говорил глухим голосом, сам не понимая, зачем он все эти секреты выкладывает незнакомцу.
— Ну, пусть будет канун субботы. Я не праведник.
— У кого есть пятьсот долларов?
Махер нахмурился и вздохнул.
— Я возьму двести. Я сделаю работу. Вы получите шесть или семь тысяч. Потом заплатите мне триста.
Но Моррис был неколебим.
— Нет! — сказал он.
— Вам не нравится цена?
— Мне не нравятся пожары. Мне не нравится жульничество.
Поубеждав Морриса еще с полчаса и ничего не добившись, махер ушел.
На следующий вечер к парадной двери подъехал автомобиль, и бакалейщик увидел, как Ник и Тесси, одетые по-парадному, сели в него и куда-то уехали. Через двадцать минут Ида и Элен сошли вниз и сказали, что идут в кино. Элен попросила мать пойти вместе с ней, и Ида, видя, что дочь нервничает, согласилась. Когда Моррис понял, что остался в доме один, он неожиданно почувствовал какое-то непонятное возбуждение.
Пробыв в лавке десять минут, он поднялся наверх и порылся в пахнувшей камфорой шкатулке, пытаясь найти целлулоидный воротничок, который когда-то носил. Ида никогда ничего не выбрасывала; но найти воротничок Моррис не сумел. Он порылся в комоде у Эллен и нашел конверт с негативами фотографий. Оставив несколько снимков Элен в школьные годы, он взял пленку с какими-то дурацкими юнцами в плавках. Потом он захватил спички и спустился в погреб. Сначала Моррис подумал, что лучше всего запалить какой-нибудь ларь — их было в погребе несколько, — но потом решил, что больше подходит шахта подъемника: пламя сразу же взовьется вверх и через открытое окно туалета прорвется в лавку. От страха Моррис весь похолодел. Он решил, что зажжет огонь и будет ждать в прихожей. Когда пламя хорошенько займется, Моррис выбежит на улицу и поднимет тревогу. Позже он скажет, что уснул на кушетке и проснулся, почувствовав запах дыма. Пока приедут пожарники, дом успеет сильно пострадать, а пожарные шланги и топоры доведут дело до конца.
Моррис вставил кусок целлулоидной пленки в щель между досками, во внутренней части подъемника. Руки у него тряслись, и, поднося спичку к негативам, он что-то про себя бормотал. А затем, распространяя удушливый запах, в подъемнике взметнулось пламя и поползло по стенке. Сначала Моррис смотрел на это, как зачарованный, а потом дико закричал. Схватив горящую пленку за конец, он вытянул ее из щели и бросил на пол. Он лихорадочно искал, чем бы потушить пламя в подъемнике, но в это время обнаружил, что у него загорелся передник. Он начал сбивать пламя с передника руками, и оно перебросилось на рукава свитера. «Боже милостивый!» — взмолился он про себя, и в это время кто-то обхватил его сзади и швырнул на пол.
Фрэнк Элпайн своим пиджаком сбил пламя на Моррисе, а затем потушил пожар в подъемнике.
Моррис стонал.
— Ради Христа, — сказал Фрэнк, — возьмите меня назад.
Но Моррис приказал ему оставить дом.
В ночь с субботы на воскресенье, около часу пополуночи, загорелась лавка Карпа.
Ранним вечером Уорд Миногью постучался в дверь к Фрэнку. Тесси сказала ему, что Фрэнк съехал.
— Куда?
— Не знаю. Спросите мистера Бобера, — сказала Тесси, желая поскорее избавиться от Уорда.
Спустившись вниз, Уорд увидел через окно Морриса, хозяйничавшего в лавке, и поспешно ретировался. Хотя накануне он так напился, что его до сих пор мутило, теперь ему до смерти хотелось снова выпить. Он подумал, что если он опохмелится, выпив стаканчик-другой, то ему станет лучше. Но в кармане у него было всего десять центов, и он пошел в лавку Карпа и попросил поверить ему в долг чекушку чего-нибудь самого дешевого.
— Я тебе не поверю в долг даже чекушку помоев, — сказал Луис.
Уорд схватил с прилавка бутылку вина и швырнул ее в Луиса. Луис увернулся, но бутылка угодила в полки и разбила там еще несколько бутылок. Луис заорал: «Караул!» и ринулся на улицу. Тогда Уорд схватил с полки бутылку виски и был таков. Когда он пробегал мимо мясной лавки, бутылка, которую он держал под мышкой, выскользнула и разбилась об асфальт. Уорд в отчаянии оглянулся, но не остановился.
К тому времени, как в лавке Карпа появились полисмены, Уорда и след простыл. Позднее, уже после ужина, мистер Миногью, обходя квартал, увидел, что его сын сидит за стойкой в баре Эрла и пьет пиво. Сыщик вошел в бар через боковую дверь, но Уорд увидел его в зеркале, висевшем за стойкой, и пулей выскочил через главный вход на улицу. Задыхаясь, вне себя от страха, он помчался к угольному складу. Слыша позади себя звук шагов отца, Уорд перелез через стену склада, перепрыгнул через ржавую цепь, протянутую перед грузовой платформой, и ринулся на задний двор, а там забрался под какой-то грузовик, стоявший в гараже.
Сыщик, осыпая Уорда ругательствами, минут пятнадцать искал его в темноте. Затем он вытащил револьвер и выстрелил в сторону гаража. Боясь, что мистер Миногью ненароком его прикончит, Уорд выполз из-под грузовика и попал прямо в объятия отца.
Хотя он умолял отца, чтобы тот его не трогал, кричал, что у него диабет, и астма, и наверняка будет гангрена, сыщик безжалостно бил Уорда своей дубинкой, пока тот не свалился без чувств.
Склонившись над сыном, сыщик заорал:
— Я тебе говорил, держись отсюда подальше. Последний раз тебя предупреждаю. Если я тебя тут встречу снова, я тебя убью.
Он отряхнул пальто и ушел.
Уорд лежал на каменных плитах, из носа у него текла кровь. Но вскоре кровотечение прекратилось. Уорд встал; его так мутило, что от жалости к самому себе он заплакал. Он побрел назад в гараж и забрался в кузов грузовика, надеясь там переспать ночь. Но когда он закурил сигарету, его стало тошнить. Уорд отшвырнул сигарету и подождал, пока тошнота прошла. Тогда он снова почувствовал, что ему обязательно надо выпить. Если уж он сумел перелезть через стену угольного склада, то тем более сможет перелезть через стену двора за лавкой Карпа — та стена куда ниже. А во двор, Уорд знал, выходит заднее окно лавки; на окне, правда, железная решетка, но старые прутья проржавели насквозь и шатаются. Может быть, если поднатужиться, их удастся развести в стороны.
Уорд выбрался из угольного склада, и вскоре он уже стоял в заднем дворе за лавкой Карпа. Лавка была закрыта с полуночи, и во всем доме не было ни огонька. Над темным окном бакалейной лавки Бобера на втором этаже горел свет — стало быть, надо действовать осторожно, чтобы еврей ничего не услышал.
Уорд попробовал согнуть прутья, но с первого раза ему это не удалось; он отдохнул и сделал вторую попытку, но снова неудачно. В третий раз, собрав все силы, он сумел развести в стороны два прута. Окно было не заперто. Уорд подсунул под него кончики пальцев и осторожно приподнял, зная, что оно скрипит. Открыв окно, он протиснулся сквозь отогнутые прутья и пролез в заднюю комнату лавки. Оказавшись внутри, он рассмеялся; здесь он уже мог родить спокойно: Карп был слишком скуп, чтобы установить у себя в лавке сигнализацию от грабителей. В задней комнате был небольшой склад бутылок, и Уорд от дегустировал и выплюнул три разных сорта. Затем он выпил из горлышка треть бутылки джина. Уже через несколько минут от боли и муторного состояния не осталось и следа, и Уорд больше не испытывал жалости к себе, как раньше. Он хихикнул, представив себе, какую смешную рожу скорчит наутро Луис, когда обнаружит на полу лавки кучу пустых бутылок. Уорд заглянул в ящик кассового аппарата, но там было пусто. Он в ярости разбил о кассовый аппарат бутылку бренди. Его снова стало тошнить, и он наблевал прямо на прилавок. Почувствовав себя после этого лучше, Уорд начал при слабом свете уличного фонаря, что висел перед лавкой, разбивать одну за другой бутылки о кассовый аппарат.
Этот шум разбудил Майка Пападопулоса, спальня которого была на втором этаже, как раз над лавкой. Полежав минут пять и убедившись, что шум внизу не прекращается, Майк понял, что там что-то неладно, и начал поспешно одеваться.
Тем временем Уорд перебил уже целую полку бутылок, и тут ему захотелось закурить. Спички отсырели и не зажигались; ему потребовалось добрых две минуты, чтобы зажечь спичку; закурив сигарету, он с удовольствием затянулся и, тряхнув рукой, бросил спичку назад через плечо. Спичка, еще горящая, упала прямо в лужу спиртного; лужа разом воспламенилась, и сноп пламени с гулом взметнулся к потолку. На Уорде вспыхнула одежда. Он стал отчаянно бить по себе руками и с воплем ринулся в заднюю часть лавки; он попытался вылезти через окно, но намертво застрял между прутьями, где и погиб.
Майк Пападопулос, почувствовав запах дыма, опрометью скатился вниз по лестнице и, увидев, что в лавке полыхает пламя, ринулся в аптеку напротив и дал сигнал пожарной тревоги. Когда он бежал назад, в витрине лавки с грохотом лопнуло стекло; видно было, что внутри уже вовсю бушует пожар. Выведя из дому свою мать и верхних жильцов, Майк помчался к Моррису, крича, что соседний дом горит. Но в доме Морриса все уже были на ногах; Элен, которая, когда начался пожар, читала перед сном, уже взбежала наверх и предупредила Ника и Тесси. Они все трое, накинув свитера и пальто, выбежали из дома и теперь стояли на улице, окруженные кучкой зевак-полуночников, и наблюдали, как пламя пожирает процветающий бизнес Карпа и уже принимается за дом. Пожарники обрушивали на огонь тяжелые струи воды из шлангов, но это плохо помогало: слишком много было в доме спирта, и пожар добирался уже до крыши. Когда пожарникам удалось, наконец, справиться с огнем, от всей Карповой собственности остался лишь обугленный, дымящийся остов.
Когда пожарники начали длинными крючьями вытаскивать на тротуар куски сгоревшей арматуры, все замолчали. Ида тихо стонала, вспоминая, как она нашла в погребе опаленный свитер Морриса, а у него на руках заметила небольшие ожоги. Сэм Перл, который без очков был беспомощен, как слепой котенок, что-то бурчал про себя. Нат Перл, без шляпы, накинув пальто поверх пижамы, проталкивался сквозь толпу к Элен, пока не оказался с ней рядом. Моррис был сам не свой.
К дому подъехала машина, и из нее вылезли отец и сын Карпы. Они перешли улицу, переступая через пожарные шланги, и подошли к пепелищу. Карп поглядел на свое бывшее заведение и, хотя все было хорошо застраховано, зашатался и, потеряв сознание, упал на мостовую. Луис закричал на отца, чтобы привести его в чувство, а двое пожарников отнесли Карпа в машину, и Луис, сев за руль, отвез его домой.
Моррис всю ночь не мог уснуть. Он стоял в нижнем белье у окна, глядя вниз на груду обугленной арматуры на тротуаре, и растирал холодной рукой грудь, стремясь унять боль в сердце. Он был сам себе противен. Накануне он как раз пожелал Карпу именно этого — чтоб его дом сгорел. И вот — именно так и случилось. И теперь Моррис не находил себе места от отчаяния.
В воскресенье — последний день марта — небо с утра было сплошь обложено тучами, и в воздухе кружились снежинки. «Зима все еще плюет мне в лицо», — уныло думал бакалейщик. Он смотрел, как снежинки тают, касаясь земли. «Слишком тепло, чтобы снег не таял, — подумал он. — А завтра уже апрель». Сегодня он проснулся, чувствуя себя так, словно у него рана в сердце, словно ему продырявили бок, словно, если он выйдет и посмотрит на пепелище Карповой лавки, то тут же сквозь землю провалится. Но земля его держала, и утреннее подавленное настроение начало постепенно испаряться по мере того, как Моррис размышлял, что не так-то уж Карпа стоит и жалеть: лавка у него, видать, застрахована, и мошна достаточно тугая — не будет ему очень плохо. Это беднякам бывает очень плохо. Пожар был трагедией для жильцов в доме Карпа, для бедняги Уорда, который заживо сгорел, и, может быть, для мистера Миногью тоже — но не для Джулиуса Карпа. Моррису, для того чтобы получить пожар, нужно было бы заплатить пятьсот долларов; а Карп получил пожар бесплатно. У кого и так много, тому еще прибавляется.
Пока Моррис обо всем этом размышлял, перед лавкой появился Джулиус Карп собственной персоной — судя по его виду, он, как и Моррис, провел бессонную ночь. Он вынырнул из хлопьев снега, открыл дверь и шагнул через порог. На нем была шляпа с узкими полями и дурацким перышком за лентой и элегантное двубортное пальто; но под глазами у Карпа темнели круги, лицо его посерело, губы посинели, и весь он, несмотря на свое пижонство, выглядел так, что краше в гроб кладут. На лбу у Карпа — на том месте, которым он вчера, потеряв сознание, ударился об асфальт, — красовался кусок лейкопластыря; и вид у него был такой понурый, что дальше некуда. Самое худшее, что можно было сделать с Карпом, — это отнять его бизнес. Он не мог вынести, что местные выпивохи с сегодняшнего дня понесут свои доллары не к нему, Карпу, а к какому-нибудь другому виноторговцу. Моррис, которому снова стало стыдно, пригласил Карпа выпить чаю. Ида, которая тоже сегодня рано встала, засуетилась вокруг Карпа.
Карп отхлебнул глоток или два горячего чаю, а потом поставил чашку на блюдечко и не в силах был ее снова поднять. Помолчав, он заговорил:
— Моррис, я хочу купить у тебя дом. И лавку тоже.
Он глубоко, тяжело вздохнул.
Ида едва сдержала крик. Моррис был ошарашен.
— Зачем? Дела идут паршиво.
— И вовсе не так уж паршиво! — закричала Ида.
— Меня интересует не бакалейная торговля, — мрачно ответил Карп. — Меня интересует место. Рядом…
Он не нашел в себе сил закончить, но Моррис и Ида поняли.
— Если отстраивать мое помещение, так на это уйдет не один месяц, — объяснил Карп. — А как я куплю твою лавку, я ее переоборудую, поставлю новые полки, покрашу, привезу товар — это займет всего неделю-другую. И тут все мои старые клиенты. Так я меньше потеряю от того, что в торговле перерыв.
Моррис своим ушам не верил. Сердце у него стучало так, словно рвалось вон из груди, и он боялся, что того гляди проснется и поймет, что это был только сон, или что Карп, этот жирный рыбец, вдруг превратится в жирную черную птицу и вылетит через окно, каркая: «Не верь, не верь, не верь!», или просто возьмет и передумает.
Моррис затаил дыхание и ничего не сказал, но когда Карп спросил, сколько Моррис с него запросит, у бакалейщика уже был готовый ответ.
— Девять тысяч за дом — на три меньше, чем я заплатил, — и две с половиной за лавку.
В конце концов, как ни плохо шел бизнес, но шел-таки, а один только холодильник обошелся Моррису в девять сотен. С дрожью он представил себе, как после уплаты долгов у него останется пять-шесть тысяч наличными — вполне достаточно, чтобы открыть новое дело. Видя, что Ида вытаращила глаза от изумления, Моррис сам поразился своей храбрости; он подумал, что сейчас Карп расхохочется ему в лицо и предложит половину — и он, конечно, ухватится и за это, как утопающий за соломинку. Но виноторговец молча кивнул.
— Я дам тебе две с половиной за лавку, включая товар и обстановку: их я пущу с молотка.
— Это твое дело, — ответил Моррис.
У Карпа не было сил обсуждать подробности сделки.
— Мой адвокат подготовит контракт, — сказал он.
Когда Карп ушел и растаял в снежных хлопьях, Ида заплакала от радости, а Моррис, все еще ошеломленный, подумал, что, видать, наконец-то ему улыбнулась удача. А вот от Карпа удача отвернулась: ведь то, что Карп потерял, Моррис нашел — и это только справедливо, если вспомнить про те убытки, которые Карп раньше ему, Моррису, причинил. Вчера Моррису и во сне бы не приснилось, что сегодня ему так повезет.
Теперь Моррис с умилением наблюдал, как за окном кружится весенний снег. Он смотрел на падающие хлопья и вспоминал свое детство, вспоминал такие вещи, которые, как ему казалось, он уже давным-давно забыл. Все утро он смотрел на вьющийся в воздухе снег. Он представил самого себя мальчишкой: как он бегает и гикает на дроздов, а они взлетают с заснеженных веток. Моррису неудержимо захотеть снова оказаться где-нибудь за городом, в лесу или в поле.
— Я, пожалуй, возьму лопату и пойду, расчищу снег перед лавкой, — сказал он Иде за обедом.
— Лучше поднимись наверх и поспи.
— А как же покупатели?
— Какие еще покупатели? Кому они нужны?
— Людям трудно ходить по такому снегу.
— Погоди, до завтра он растает.
— Сегодня воскресенье, что подумают гоим, когда они пойдут в церковь?
— Ты что, хочешь схватить воспаление легких? — опросила Ида трагическим шопотом.
— Весна на дворе, — пробормотал он.
— Еще зима.
— Я надену пальто и шляпу.
— Ты промочишь ноги. У тебя нет галош.
— Всего пять минут.
— Нет! — сурово сказала Ида.
«Позже», — подумал он.
Снег шел весь день и к вечеру покрыл землю на добрые шесть дюймов. Когда снегопад прекратился, поднялся ветер, и по улицам замела поземка. Моррис стоял у окна.
Ида весь, день не спускала глаз с мужа. До вечера Моррис не смог даже носа высунуть из дому. Закрыв лавку, он сел, положил перед собой лист бумаги и стал составлять длинный список.
— Чего ты тут сумерничаешь? — спросила Ида.
— Пишу список вещей для распродажи.
— Оставь это Карпу.
— Я должен помочь, он же не знает цен.
Разговоры о скорой продаже лавки успокоили Иду.
— Только кончай поскорее, — сказала она, зевнув.
Моррис подождал, пока Ида уснула, затем спустился в подвал за лопатой. Он надел шляпу и старые перчатки и вышел из дома. К его удивлению, дул очень холодный ветер, передник стал шумно хлопать Морриса по ногам. «Уже конец марта, — подумал Моррис, — могло бы быть и потеплее». Все время, расчищая снег, он думал о том, как это странно, что в конце марта стоит такая стужа, но, работая, он разогрелся. Он старался поворачиваться спиной к Карпову пепелищу: покрытое снегом, оно было хорошо видно даже в темноте.
Набрав на лопату снега, Моррис швырнул его на мостовую: ветер в воздухе превратил снег в снежную пыль и порошей понес по улице.
Моррис вспомнил свои первые студеные зимы в Америке. Спустя пятнадцать лет зимы стали помягче, а теперь вот снова становились морозными. Он прожил суровую, трудную жизнь, но теперь-то, слава Богу, жить станет легче.
Моррис снова набрал на лопату снега и швырнул на улицу.
— Жить станет легче, — пробормотал он.
Ник и Тесси вернулись откуда-то домой.
— Вы хоть оденьтесь потеплее, мистер Бобер, — посоветовала Тесси.
— Я уже почти кончил, — буркнул Моррис.
— Берегите свое здоровье, — сказал Ник.
На втором этаже открылось окно, и в нем появилась Ида с распущенными волосами и в ночной сорочке.
— Ты что, спятил? — заорала она.
— Я кончил, — сказал Моррис.
— Без пальто? Сумасшедший!
— Это заняло десять минут.
Ник и Тесси вошли в дом.
— Поднимайся наверх! — закричала Ида.
— Я кончил! — ответил Моррис.
Он поднял и швырнул в водосток последнюю лопату снега. Осталось расчистить еще пару ярдов, но Ида ругалась, и Моррис решил, что сойдет и так.
Моррис занес лопату в лавку, и его охватило приятное тепло. У него закружилась голова, и он было испугался, но выпил чаю с лимоном, и все прошло.
Пока он пил чай, снова начался снегопад. Моррис смотрел в окно, как снежинки кружатся в воздухе и липнут к стеклу, словно хотят проникнуть через окно в кухню. Снег превратился в колеблющуюся завесу, состоявшую из отдельных, не касающихся друг друга хлопьев.
Ида стала сверху стучать в пол, и Моррис пошел наверх.
Ида сидела в гостиной вместе с Элен. Когда Моррис вошел, она накинулась на него:
— Ты что, маленький ребенок, что ли, что тебе вздумалось бегать по снегу? Ну, что мне с тобой делать?
— Я надел шляпу. Не сахарный, не растаю.
— У тебя только что было воспаление легких! — закричала Ида.
— Мама, тише! — сказала Элен. — Ты разбудишь Ника и Тесси.
— Ну, рада Бога, с чего это ему приспичило расчищать снег?
— Меня тошнит от этой лавки! — ответил Моррис. — Двадцать два года я из нее носу не казал. Могу я хоть раз подышать свежим воздухом?
— Но не в такую стужу.
— Завтра апрель.
— Все равно, папа, — сказала Элен, — не надо искушать судьбу.
— Разве апрель — это зима?
— Иди спать, — сказала Ида.
Он немного посидел с Элен на диване. После того, как Элен узнала о предложении Карпа, с нее слетело подавленная настроение, и она стала такой, какой была раньше. Моррис с грустью подумал, как она красива. Ему так хотелось бы что-нибудь для нее сделать — что-нибудь хорошее.
— Как ты смотришь на продажу лавки? — спросил он.
— Я знаю, что ты чувствуешь.
— Все равно, скажи.
— Словно гора с плеч.
— Мы переедем в другой район, куда ты захочешь. Я найду парнусе получше. И тогда ты сможешь оставлять себе свою зарплату.
Элен улыбнулась.
— Я помню, какая ты была маленькой девочкой, — сказал Моррис.
Она поцеловала ему руку.
— Я хочу, чтобы ты была счастлива.
— Буду, папа, — сказала Элен со слезами на глазах. — Если б ты только знал, как я хотела бы чем-нибудь тебе помочь.
— Ты и помогаешь.
— Мало!
— Посмотри, какой снег!
Некоторое время они молча смотрели в окно, потом Моррис встал и пожелал дочери спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — сказала Элен.
Но Моррис беспокойно ворочался в постели и не мог уснуть. Столько нужно было сделать, вся жизнь скоро переменится, ко многому придется заново привыкать. Завтра Карп принесет задаток. Во вторник придет оценщик и увезет товары и оборудование лавки. В среду будет аукцион. С четверга — впервые за целую вечность — у Морриса не будет своего дела. Проведя столько лет на одном и том же месте, Моррис теперь в ужасе думал о предстоящих переменах. Хотя ему осточертел этот район, уезжать отсюда ему не хотелось. На новом месте он будет чувствовать себя неуютно. Придется найти, прицениться и купить новую лавку. Моррис предпочел бы жить над лавкой, но Элен хочет, чтобы они сняли скромную квартирку, — что ж, пусть будет квартирка. Как только он найдет себе лавку, так пусть сами с Идой ищут, где им хочется поселиться. Но вот лавку он будет искать сам. Больше всего Морриса пугало, что он опять сделает ошибку и опять окажется как в тюрьме. От этого страха он не мог отделаться. Ну для чего какой-нибудь бакалейщик станет продавать свою лавку? Будет это честный человек или какой-нибудь мошенник? А когда Моррис купит лавку, пойдет бизнес лучше или хуже? Какие будут времена? Сможет ли он зарабатывать на жизнь? От всех этих мыслей Моррис совсем извелся. Он чувствовал, как быстро-быстро стучит его бедное сердце, когда он думает о своем тревожном будущем.
Он забылся тяжелым сном, но часа через два проснулся, весь в горячем поту. А в то же время ногам было холодно, и Моррис знал, что если он об этом будет думать, его всего затрясет озноб. Он почувствовал боль в правом плече, а когда заставил себя глубоко вздохнуть, заболело и слева. Моррис понял, что заболевает. Он лежал в темноте и думал, как это было с его стороны глупо выйти холодным вечером расчищать какой-то дурацкий снег. Он, наверно, простудился. А ему-то казалось, что ничего худого не случится. После двадцати двух лет мог же он себе позволить несколько минут свободы.
Теперь со всеми его планами и замыслами придется повременить; дела с Карпом и с аукционистом может закончить Ида. Полежав немного, Моррис свыкся с мыслью, что он простудился и, наверно, у него грипп. Может, разбудить Иду и вызвать врача? Тут он вспомнил, что снял телефон. Конечно, Элен могла бы одеться и сбегать позвонить от Сэма Перла, но это значит разбудить целую семью, а потом еще разбудить и врача, который придет и скажет: «Что за переполох, мистер Бобер? У вас всего-навсего грипп, ложитесь в постель». Ради того, чтобы получить такой совет, не стоило поднимать доктора среди ночи, можно и до утра подождать. Моррис снова задремал, но и во сне ощущал, как его всего трясет. Он проснулся и почувствовал страх. А вдруг у него воспаление легких? Но, полежав немного, он успокоился. Он привык болеть, это его не пугало. Все последние несколько дней он себя неважно чувствовал: побаливала голова, дрожали колени. Может быть, даже и не выйди он нынче расчищать снег, он бы все равно заболел. И все же ему было горько: сейчас заболеть — ой, как не вовремя! Ну да, он расчищал снег на улице; но разве это дело, что в канун апреля идет снег? А если даже и так, то неужели справедливо, что едва он вышел на улицу, как тотчас же простудился. Это же ужас, как обидно: что он ни сделает, все выходит ему боком.
Моррис уснул, и ему приснился Эфраим. Он сразу узнал Эфраима по карим глазам, которые тот унаследовал от отца, На макушке у Эфраима была кипеле, вырезанная из старой Моррисовой шляпы, а одет он был в жуткие лохмотья. Хотя почему-то Моррис этого и ожидал, одежда Эфраима его поразила.
— Я давал тебе есть три раза в день, Эфраим, — воскликнул Моррис, — так почему же ты покинул своего отца.
Эфраим смутился и не ответил, но Моррис, почувствовав прилив отцовской любви, — Эфраим ведь был такой маленький и хрупкий, — обещал помочь ему хорошо начать жизнь.
— Не беспокойся, я сделаю так, что ты сможешь закончить колледж.
Эфраим, как настоящий джентельмен, отвернулся, чтобы Моррис не увидел, как он сдавленно захихикал.
— Я тебе обещаю…
Мальчик рассмеялся и растворился в воздухе.
— Не умирай! — закричал Моррис, но Эфраима уже не было.
Почувствовав, что он просыпается, Моррис попытался снова уснуть и досмотреть сон, но ему уже не спалось. Он грустно подумал о своей впустую прожитой жизни. Он не смог прилично обеспечить свою семью — позор на его бедную, седую голову! Ида спала рядом. Моррису захотелось разбудить жену и попросить у нее прощения. Он подумал про Элен. Как это убудет ужасно, если она так и останется старой девой! Моррис вспомнил про Фрэнка и застонал. Он почувствовал раскаянье. Ради чего он загубил свою жизнь? Но ведь загубил все-таки: что правда, то правда.
«Интересно, — подумал он, — снег все идет или уже нет?»
Моррис умер в больнице три дня спустя, и на следующий же день его похоронили на огромном, растянувшемся на несколько миль, кладбище в Куинсе. Давным-давно, вскоре после того, как он приехал в Америку, Моррис вступил в Погребальное общество, и теперь прощальная церемония состоялась в зале Общества в Нижнем Ист-Сайде — в этом районе Моррис жил в юности. В полдень там появилась Ида, одетая в траур, вся серая, ежеминутно готовая упасть в обморок, и, покачивая головой, села на стул с высокой спинкой. Рядом с ней, всхлипывая, села Элен. Ландслойте, старые друзья, которые прочли о смерти Морриса в еврейской газете, подходили один за другим, целовали Иду и Элен в лоб и говорили что-нибудь утешительное, а затем сами садились на складные стулья и шопотом переговаривались между собой. Пришел Фрэнк Элпайн в неловко сдвинутой шляпе и смущенно постоял в углу. Когда собралось уже довольно много народу, он вышел из угла и сел среди прочих на одной из длинных скамеек, стоявших в длинном зале, скупо освещенном тусклыми желтыми лампами. В центре на металлической подставке стоял простой деревянный гроб.
В час дня седовласый гробовщик, шумно дыша, вывел вдову и дочь покойного в первый ряд, поближе к гробу. Послышались заглушенные всхлипывания. Пришли кое-какие старые друзья, несколько дальних родственников, знакомые из Погребального общества и двое-трое постоянных покупателей Морриса. У стенки понуро сидел Брейтбарт, торговец электрическими лампочками. Появился Чарли Собелов — грузный, пышный, круглолицый, со свежим флоридским загаром, вместе со своей изысканно одетой женой; они сидели и смотрели на Иду. Пришло все семейство Перлов: Сэм, и Бетти с мужем, и Нат — печальный, серьезный, беспокоящийся за Элен, в черной кипе. Позади них сидел Луис Карп, одинокий, больной, и его окружали незнакомые люди. Был тут и Витциг, пекарь, двадцать лет поставлявший Моррису хлеб и сдобные булочки. И мистер Джаннола, парикмахер, и Ник и Тесси Фузо (Фрэнк Элпайн сел на скамью у них за спиной). Когда через боковую дверь вошел бородатый рабби, Фрэнк снял, но тут же снова надел шляпу.
Сначала вперед выступил секретарь Погребального общества — почти совсем лысый человек в толстых очках и с мягким, нежным голосом. Он прочел по бумажке краткое вступительное слово, в котором воздал хвалу усопшему Моррису Боберу и выразил скорбь по поводу его безвременной кончины. Когда он объявил, что теперь можно подойти проститься с покойным, гробовщик и его помощник — человек в шоферской фуражке — откинули крышку гроба, и люди стали подходить и прощаться. Увидев восковое лицо отца, Элен заплакала навзрыд.
Ида выбросила вперед руки и заголосила на идиш:
— Моррис, почему ты меня не слушал? Ты ушел и оставил меня с ребенком, и теперь я одна в целом свете! Зачем ты это сделал?
Она рыдала и вся тряслась, и Элен вместе с гробовщиком довели ее до стула и усадили, и она уткнулась лицом в плечо дочери. Последним подошел к телу Фрэнк. Голова Морриса была обернута талесом, и там, где он чуть-чуть откинулся, Фрэнк увидел маленький шрам — но во всем остальном это был как будто бы и не Моррис. Фрэнк почувствовал, что он чего-то лишился в жизни, но это была уже давняя потеря.
Затем рабби — приземистый человек с остроконечной черной бородкой — сотворил молитву. Он стоял рядом с гробом в потертой шляпе, вылинявшем черном сюртуке, коричневых брюках и больших ботинках на толстой подошве. Прочитав еврейскую молитву, он подождал, пока все уселись, и грустным голосом заговорил о покойном:
— Дорогие друзья мои, я никогда не имел удовольствия встречать этого доброго бакалейщика, который лежит здесь, в этом гробу. Он жил в другом районе, в котором я никогда не бывал. Но сегодня мне довелось побеседовать с людьми, которые его хорошо знали, и теперь мне жаль, что я не был с ним знаком. О, как бы рад я был поговорить с таким человеком! Я познакомился с его вдовой, которая сидит здесь в своей глубокой скорби, ибо она утратила любимого мужа. Я познакомился с его дочерью Элен, которая осталась без отца, без руководителя и наставника на своем жизненном пути. С ними я познакомился, и еще познакомился я с ландслойте и со старыми друзьями усопшего, и каждый из них рассказал мне, что за человек был Моррис Бобер, который столь безвременно ушел от нас — из-за того, что заболел воспалением легких, когда расчищал снег перед своей лавкой, дабы прохожим было удобнее проходить по тротуару, — и, как я понял из их слов, Моррис Бобер был человек такой высокой честности, что честнее уж и быть нельзя. И мне грустно, что не был я знаком с этим замечательным человеком, когда он был еще жив. Если бы я его встретил — может быть, когда он пришел бы в наш еврейский район — может быть, в Рош-Хашана или в Песах, — я бы ему сказал: «Благослови тебя Бог, Моррис Бобер!» Вот Элен, его дорогая дочь, вспоминает, что, когда она была девочкой, ее отец как-то однажды бежал два квартала в метель, без пальто и шляпы, чтобы отдать одной бедной итальянской леди пятицентовую монету, которую она забыла у него на прилавке. Кто станет бежать зимой, в метель, без пальто, и без шляпы, и без галош два квартала, чтобы отдать покупательнице пять центов, которые она забыла взять? Разве нельзя было подождать, пока эта покупательница придет назавтра? Многие могли бы подождать, но не Моррис Бобер, да почиет он в мире! Он не хотел, чтобы бедная женщина беспокоилась, и вот он побежал за ней в метель, чтобы отдать ее пять центов. Вот почему у этого хозяина бакалейной лавки было столько друзей, которые восхищались им.
Рабби остановился и посмотрел поверх голов слушателей.
— И был он трудолюбив, этот человек, который не знал, что такое безделье. Сколько раз он вставал ни свет ни заря, сколько раз одевался холодным ранним утром — это и не сосчитать. А потом он спускался вниз, чтобы весь день не выходить из своей лавки. Он работал долгие, долгие часы. Каждый день он открывал лавку в шесть часов утра и закрывал ее в десять часов вечера, а то и позже. По пятнадцать, по шестнадцать часов в день проводил он в лавке, без выходных, только чтобы заработать своей семье на хлеб насущный. Его дорогая жена Ида рассказала мне, что она никогда не забудет, как каждое утро она слышала его шаги на лестнице, когда он спускался вниз, и как к ночи она слышала его шаги на лестнице, когда он поднимался наверх, закрыв лавку. И так было каждый день, на протяжении двадцати двух лет, день за днем, кроме, разве что, немногих дней, когда Моррис Бобер бывал болен. И только потому, что он работал так много и так самоотверженно, его семье всегда было что есть. Да, он был не только кристально честный человек, но и неутомимый труженик, который не жалел сил ради благополучия своих близких.
Рабби заглянул в молитвенник, потом снова поднял глаза.
— Когда умирает еврей, кто спрашивает, еврей ли он? Он — еврей, и мы ничего не спрашиваем. Есть много способов стать евреем. Но если кто-нибудь подойдет ко мне и спросит: «Рабби, можем ли мы назвать евреем того, кто жил и работал среди неевреев, и продавал им свинину, трефное, которое мы не едим, и за двадцать лет ни разу не зашел в синагогу, можно ли сказать, рабби, что такой человек — еврей?» И я скажу: «Да, для меня Моррис Бобер был настоящий еврей — потому что он жил, как еврей, и у него было, еврейское сердце». Может быть, он не соблюдал наших обрядов — за это я его не извиняю, — но он был верен духу нашей еврейской жизни: он делал другим то, чего он хотел для себя. Он следовал Закону, который Господь Бог дал Моисею на горе Синай и велел донести до его народа. Моррис Бобер страдал, он терпел, но никогда не гасла в его сердце надежда. Кто мне об этом сказал? Я знаю. Для себя он хотел очень малого — ничего он для себя не хотел, но для своей любимой дочери он хотел лучшей жизни, чем та, которую имел он сам. И потому он был еврей. Чего еще наш Бог требует от бедного народа своего? Так пусть же Господь позаботится о вдове усопшего, утешит и защитит ее, и даст сироте то, чего для нее хотел ее бедный отец. «Искадал веискадаш шмей рабо, беолмо дивро…»
Пришедшие на похороны встали и повторили молитву вслед за рабби.
Элен почувствовала себя неловко. «Он переборщил, — подумала она. — Я сказала ему, что папа был честный, но какой прок с этой честности, если из-за нее у него никакой жизни не было? Да, он бежал за этой бедной женщиной два квартала, чтобы отдать ей ее жалкие пять центов, но в то же время он то и дело доверялся мошенникам, которые его обдирали, как липку. Бедный папа! Он сам был честный и потому не верил, что другие — жулики. Он так и не сумел добиться того, ради чего он всю жизнь трудился как вол. Он отдал все, что имел, — по правде говоря, даже больше, чем имел, — а что он получил взамен? Он был совсем не святой, в каком-то смысле он был даже слабый человек; сила его была только в том, что у него было благородное сердце и что он умел понять других людей. По крайней мере, он знал, что хорошо и что дурно, что правильно и что неправильно. И я вовсе не говорила этому рабби, будто у папы было много друзей, которые им восхищались. Все это рабби сам придумал. Да, папу многие любили, но разве можно восхищаться человеком, который всю жизнь провел в такой дыре, как наша паршивая лавка? Папа сам себя в ней похоронил, у него не хватало воображения, чтобы понять, чего он себя в жизни лишил. Он сам сделал себя жертвой. А будь у него хоть чуть побольше мужества, он смог бы достичь куда большего, чем достиг».
Элен молилась, прося Бога даровать мир душе отца.
Ида, прижимая к глазам мокрый платок, думала: «Ну и что, что у нас было, что есть? Когда ты ешь, ты не хочешь думать о том, чьи деньги ты проедаешь — свои деньги или деньги оптовиков. Если у Морриса были какие-нибудь деньги, то у него всегда были и счета; если у него было чуть больше денег, так и счетов тогда тоже было больше. А ведь иногда хочется жить спокойно и не бояться, что завтра, не дай Бог, ты окажешься на улице. Иногда хочется хоть чуть-чуть покоя. Но, может быть, это моя вина: ведь это я же не позволила Моррису тогда пойти учиться на фармацевта».
Ида плакала, потому что, хотя она любила Морриса, она часто его пилила и ругала. «Элен, — подумала она, — должна выйти замуж за человека с образованием».
Кончив читать молитву, рабби ушел через боковую дверь, а несколько членов Общества и помощник гробовщика подняли гроб на плечи, вынесли и положили на катафалк. Все вышли следом за гробом, и большинство поехало домой. Фрэнк Элпайн остался сидеть один.
«Страдание, — думал он, — это как товар. Бьюсь об заклад, евреи могут из страдания шить одежду. И еще то смешно, что их вокруг куда больше, чем, казалось бы, должно быть, и никто не знает, откуда они все взялись».
На кладбище весна была в полном цвету. Снег уже стаял лишь на нескольких могилах остались белые проплешины, и в воздухе был разлит душистый весенний аромат. За гробом шла небольшая группа друзей и родственников; им было жарко в теплых пальто. На участке земли, принадлежавшем Погребальному обществу, двое могильщиков уже вырыли в земле свежую яму и стояли чуть отступя, опершись на лопаты. Когда рабби помолился над открытой могилой — вблизи было видно, что у него в бороде густая седина, — Элен прижалась лицом к гробу, который держали на плечах члены Общества.
Прощай, пала!
Затем рабби прочел молитву над гробом, пока могильщики медленно опускали его на дно могилы.
— Осторожнее… осторожнее…
Ида, которую поддерживали под локти секретарь Общества и Сэм Перл, безудержно рыдала. Потом она наклонилась к могиле и заголосила:
— Моррис, позаботься об Элен, слышишь!
Рабби, благословив могилу, бросил первую лопату земли.
— Осторожнее…
Могильщики принялись засыпать могилу, и рыдания стали громче.
Элен бросила в могилу розу.
Фрэнк, стоя у края могилы, наклонился вперед, чтобы посмотреть, куда упал цветок. Он поскользнулся, не удержал равновесия и, судорожно размахивая руками, свалился ногами вперед прямо на гроб.
Элен отвернулась.
Ида зашлась от крика.
— Убирайся отсюда! — сказал Нат Перл.
Один из могильщиков подал Фрэнку руку, и тот выкарабкался из могилы.
«Вот те на, испортил все похороны!» — подумал он.
Наконец, гроб скрылся под слоем земли. Рабби произнес последний короткий кадиш. Нат Перл взял Элен под руку и повел ее с кладбища.
Один раз она в слезах обернулась назад, а потом пошла с Натом.
Когда Ида и Элен вернулись с кладбища, в парадной их дожидался Луис Карп.
— Простите, что я вас беспокою в такой печальный день, — сказал Луис, держа в руке шляпу. — Но я хотел объяснить, почему папа не был на похоронах. Он очень тяжело заболел, ему придется пролежать в постели, наверно, месяца полтора. Выяснилось, что в ту ночь, когда папа потерял сознание после пожара, у него был сердечный приступ. Еще счастье, что он жив остался.
— Вейз мир! — пробормотала Ида.
— Доктор говорит, что папе придется бросить работу, — продолжал Луис. — И поэтому я не думаю, что он теперь захочет купить у вас лавку. А я, — добавил Луис, — нашел хорошую работу — коммивояжером в фирме по продаже спиртных напитков.
Он попрощался и ушел.
— Хорошо, что отец умер, — вздохнула Ида.
Поднимаясь вверх по лестнице, они услышали, как щелкает кассовый аппарат, и поняли, что тот, кто отплясывал на гробу бакалейщика, сам стал бакалейщиком.
Фрэнк жил в задней комнате лавки и вешал свою одежду в шкаф, который специально для этого купил. Спал он на кушетке, прикрываясь своим пальто. Пока мать и дочь целую неделю соблюдали траур, он сделал все, чтобы сохранить лавку. По крайней мере, лавка была открыта и продолжала как-то дышать. Если бы не Фрэнковы тридцать пять долларов, которые он каждую неделю клал в ящик кассового аппарата, лавка бы уже обанкротилась. Видя, что Фрэнк платит по мелким счетам, оптовики не отказывали ему в кредите. Заходили люди, говорили, как им жаль, что Моррис умер. Один покупатель сказал, что Моррис был единственным лавочником, который ему когда-то поверил в долг, и отдал Фрэнку одиннадцать долларов, которые он задолжал покойному бакалейщику. Тем, кто интересовался, Фрэнк отвечал, что продолжает работать, чтобы сохранить дело для вдовы, пока она в трауре. За это Фрэнк заслужил всеобщее уважение.
Он стал давать Иде по двенадцать долларов в неделю за жилье и сказал, что, когда торговля пойдет лучше, он будет платить больше. Когда это случится, добавил Фрэнк, он, может быть, купит у Иды лавку, но только в рассрочку, потому что у него не будет денег, чтобы заплатить сразу всю сумму. Ида ничего не ответила. Она волновалась за будущее и боялась остаться без куска хлеба. Они с Элен жили на деньги, которые ей платил Фрэнк, плюс на квартплату Ника Фузо да жалованье Элен. Ида нашла небольшую надомную работу пришивать погоны к военным мундирам. Каждый день Моррисов земляк Эйб Рубин привозил ей на машине целый мешок таких мундиров. Это приносило дополнительно около тридцати долларов в месяц. Теперь Ида редко спускалась в лавку. Чтобы с нею поговорить, Фрэнку приходилось подниматься наверх и стучаться. Однажды кто-то пришел взглянуть на лавку — кажется, ему Рубин посоветовал, — и Фрэнк забеспокоился, но человек этот вскоре ушел и больше не возвращался.
Фрэнк жил будущим, надеясь на прощение. Однажды утром, встретив Элен на лестнице, он ей сказал:
— Все изменилось. Я теперь не такой, как был.
— Всегда, — ответила Элеи, — ты напоминаешь мне о том, о чем я хотела бы забыть.
— Те книги, которые ты мне давала читать, — спросил Фрэнк, — ты сама-то их понимаешь?
Элен проснулась. Ночью она увидела неприятный сон. Ей приснилось, что она встала посреди ночи и хотела уйти из дому, чтобы избавиться от Фрэнка, который подстерегал ее на лестнице. Но он стоял там под желтой лампочкой, теребя пальцами свою шляпу. Когда Элен приблизилась к нему, Фрэнк беззвучно произнес одними губами:
— Я тебя люблю.
— Я буду кричать, если ты это скажешь.
Она вскрикнула и проснулась.
Без четверти семь Элен через силу выбралась из постели, заглушила будильник еще до того, как он зазвонил, и скинула ночную сорочку. Вид собственного тела произвел на нее угнетающее впечатление. «Зря добро пропадает», — подумала она. Ей хотелось стать снова девушкой — и в то же время матерью.
Ида все еще спала в своей слишком для нее теперь просторной постели, в которой до недавнего времени спали двое. Элен причесалась, умылась и поставила на плиту кофейник. Из кухонного окна она выглянула на задний двор, где уже пробивалась зелень, и ей стало ужасно жаль отца, который сейчас неподвижно лежит в земле. Что она ему дала, что она сделала, чтобы облегчить ему жизнь? Она всплакнула, вспомнив, как Моррис постоянно шел на уступки и сдавался. Она чувствовала, что хоть теперь должна что-то предпринять, чтобы чего-то достичь и не прожить свою жизнь так, как прожил Моррис. «Я должна, — подумала она, — обязательно должна рано или поздно закончить колледж!» Только если она чего-нибудь добьется, можно будет сказать, что Моррис все-таки прожил свою жизнь не напрасно — потому что он дал жизнь ей. На это уйдет много лет — но это был единственный путь.
Фрэнк перестал караулить ее в холле. Однажды утром она не выдержала и крикнула ему: «Ну, чего ты ко мне лезешь?» — этот возглас ударил его, как обухом по голове, и он ушел. Но после этого он, когда только мог, старался с ней встретиться, увидеть ее — хоть из окна лавки. Он следил за ней, как будто впервые в жизни видел ее стройную фигуру, ее маленькую грудь, ее округлые бедра и тонкие, чуть-чуть кривые ноги. Она всегда выглядела очень одинокой. Фрэнк пытался сообразить, что бы такое он мог для нее сделать, и все, что он мог придумать, — это подарить ей что-нибудь; но он знал, что она не примет от него подарка или выбросит его в мусорный бак.
Мысль что-нибудь ей подарить казалась совершенно утопической до тех пор, пока однажды, когда Фрэнк увидел, как Элен безучастно вошла в дом, ему в голову не пришла такая шальная мысль, что у него даже дух захватило. Он сообразил, что лучший подарок для Элен — если он даст ей возможность поступить в колледж; об этом она мечтала больше всего на свете. Но ведь даже согласись она принять его помощь (что само по себе представлялось Фрэнку сомнительным), где он достанет столько денег, если только не украдет их? Чем больше он размышлял о своем плане, тем больше возбуждался и, наконец, стал просто задыхаться от мысли, что это вряд ли возможно.
Фрэнк хранил у себя в бумажнике записку, которую когда-то написала Элен и в которой сообщалось, что она придет к нему в комнату, если Ник и Тесси уйдут в кино. Фрэнк часто перечитывал эти строчки.
И однажды ему пришла в голову другая идея. Он прикрепил к окну лавки объявление: «Горячие сэндвичи и супы на вынос». Может быть, ему удастся применить свой небогатый поварской опыт, чтобы оживить торговлю в лавке. Он напечатал десять рекламных плакатов с объявлением о новом виде услуг, и соседский мальчишка за полдоллара разнес эти плакаты по окрестным предприятиям. Фрэнк даже прошел следом за мальчишкой несколько кварталов, чтобы убедиться, что тот не выбросил плакаты в мусорный бак. И уже к концу недели в лавку к Фрэнку стали заходить рабочие, чтобы закусить в обеденный перерыв и после работы. Они говорили, что впервые поблизости появилось место, где можно взять что-то горячее и отнести домой. Фрэнк нашел в библиотеке поваренную книгу и по рецептам, которые в ней вычитал, стал приготовлять макароны равиоли и ласанью. Он начал экспериментировать и попробовал готовить в духовке газовой плиты небольшие пиццы — по две на порцию. Макароны и пиццы пользовались гораздо большим успехом, чем горячие сэндвичи, их охотно покупали. Он подумал даже, не поставить ли в лавке один-два стола, но для этого там не хватало места, так что пришлось продавать еду только на вынос и у стойки.
И была еще одна маленькая удача. Молочник рассказал Фрэнку, что у Тааста и Педерсена вошло в привычку орать друг на друга в присутствии покупателей. Вроде бы, выручка у них оказалась меньше, чем они ожидали. Их лавка давала хороший доход для одного человека, но для двоих этого было все же маловато, и каждый из компаньонов хотел выкупить у другого его долю. Первым сдали нервы у Педерсена, и он в конце мая продал свою долю Таасту, который после этого стал распоряжаться в лавке один. Но тут Тааст обнаружил, что после долгого рабочего дня у него начинают болеть ноги. Тогда его жена стала приходить на час-другой и помогать ему. А потом Таасту стало тоскливо, что вечером, когда вся семья дома, он один работает и почти не видит детей, и он решил запирать лавку в половине восьмого. Таким образом, в вечерние часы Фрэнк избавился от конкуренции. Эти два-три часа, когда Фрэнк оставался единственным бакалейщиком в квартале, очень ему помогли. К нему вернулись некоторые прежние покупатели и покупательницы, поздно возвращавшиеся с работы, и нередко вечером прибегала какая-нибудь домохозяйка, хватившаяся в последний момент, что у нее нет чего-то на завтрак. И, вглядевшись раз-другой в окно лавки конкурента после закрытия, Фрэнк заметил, что Тааст больше не предлагает щедрых скидок.
В июле в Нью-Йорке было ужасно жарко. Люди меньше готовили дома и больше покупали деликатесов, консервов и разных прохладительных напитков. Фрэнк стал продавать очень много пива. Его макароны и пиццы тоже шли хорошо. Кто-то ему сказал, что и Тааст пытается готовить пиццы, но они получаются у него слишком рыхлыми. Фрэнк отказался от суповых полуфабрикатов и стал сам готовить овощной суп минестроне, который всем очень нравился. На то, чтобы этот суп сварить, уходило немало времени, но выручка сразу же повысилась. Тогда Фрэнк стал платить Иде девяносто долларов в месяц за жилье и за аренду лавки. Кроме того, она теперь больше зарабатывала на своих погонах и перестала бояться, что умрет с голоду.
— Почему вы даете мне так много? — спросила она Фрэнка, когда он впервые вручил ей девяносто долларов.
— Может быть, Элен сможет оставлять себе больше денег от своего жалованья? — предложил он.
— Элен больше вами не интересуется, — сухо сказала Ида.
Он не ответил.
Но в этот вечер, поужинав яичницей с ветчиной и насладившись сигарой, Фрэнк освободил место на столе и стал подсчитывать, сколько ему понадобится денег, чтобы Элен смогла бросить работу и все свое время посвятить учебе. Подытожив все доходы и расходы и выяснив из справочника, какова будет для Элен минимальная плата за образование, Фрэнк понял, что денег у него ни за что не хватит. Он помрачнел. Позднее он подумал, что, может быть, он сумеет выкарабкаться, если Элен поступит в бесплатный колледж. Он мог бы давать ей достаточно на повседневные расходы и даже вносить ту сумму, которую она сейчас дает матери. Он понимал, что это будет ужасно трудно, но он должен был это сделать, в этом была его единственная надежда, ничего другого он придумать не мог. Все, чего он хотел для себя, — это возможность дать Элен что-то, что она не могла бы вернуть ему обратно.
И еще одна трудность заключалась в том, чтобы поговорить с Элен и сообщить, что именно он собирается сделать. Фрэнк давно хотел ей это сказать, но у него не хватало духу. Заговорить с ней после того, что произошло, казалось ему делом совершенно невозможным — чем-то опасным, постыдным и болезненным. Каким волшебным словом начать разговор? Фрэнк отчаялся когда-нибудь в чем-нибудь ее убедить. Она бесконечно от него отдалилась, он против нее согрешил, она ничего к нему не чувствовала, а если и чувствовала, то только омерзение. Сколько раз он себя ругал за то, что сам выкопал себе яму, из которой теперь не мог выбраться.
В один из августовских вечеров, увидев, что Элен вернулась с работы в сопровождении Ната Перла, Фрэнк, сатанея от неопределенности своего жалкого положения, решил, что разрубит этот гордиев узел. Он стоял за прилавком и укладывал бутылки пива в сумку покупательницы, когда увидел, что Элен прошла мимо окна со связкой книг под мышкой. На ней было новое летнее платье, красное с черным кантом, и при виде ее Фрэнк ощутил новый приступ вожделения. Все лето она бродила одна по вечерним улицам, пытаясь прогулками убить одиночество. Фрэнка подмывало начать ходить за ней следом, но до тех пор, пока он не обдумал как следует свою идею, он не знал, что ей сказать, чтобы она от него попросту не убежала. Постаравшись как можно скорее отделаться от покупательницы, Фрэнк наскоро умылся, причесался и надел новую спортивную рубашку. Затем он запер лавку и кинулся следом за Элен. Днем было жарко, но теперь, к вечеру, повеяло прохладой. Золотисто-зеленое небо постепенно темнело. Пробежав квартал, Фрэнк о чем-то вспомнил и потащился обратно в лавку. Он посидел в задней комнате, прислушиваясь, как у него бьется сердце, и через десять минут зажег свет в витрине лавки. Вокруг лампочки начал кружиться мотылек. Зная, как много времени Элен обычно проводит в библиотеке, Фрэнк побрился. Затем он снова запер лавку и направился по направлению к библиотеке. Он решил подождать на другой стороне улицы, пока Элен не выйдет из библиотеки, а потом перейти улицу и поравняться с ней, когда она будет идти домой. Не успеет она его увидеть, как он выпалит все, что хочет сказать. Элен может ответить «да» или «нет»; если «нет», то он на следующий же день закроет лавочку и смотается.
Фрэнк приближался к библиотеке, когда увидел Элен: она шла ему навстречу по другой стороне улицы и была от него примерно на расстоянии в полквартала. Он остановился. на зная, куда идти, боясь заговорить с ней, такой красивой. и стоял, как собака с подбитой лапой; и она прошла мимо. Он хотел уже было бежать назад, но тут Элен его заметила, повернулась и быстро пошла в обратном направлении. Снова, как раньше, он пошел за ней, и не успела она скрыться, как он ее догнал и коснулся ее руки. Оба вздрогнули. Не дав ей времени высказать свое презрение, он быстро выпалил все, что давно уже собирался ей сказать.
Когда Элен поняла, что именно Фрэнк предлагает, ей показалось, что сердце вот-вот выскочит у нее из груди. Едва увидев его, она поняла, что сейчас он ее догонит и заговорит с ней, но она бы и за тысячу лет не догадалась, что он скажет именно это. Зная, в каких условиях Фрэнк жил, Элен была как громом поражена, что он до сих пор умудряется преподносить ей сюрпризы, и один Бог ведает, что он выкинет в следующий раз. Его настойчивость совершенно ее ошарашивала и даже пугала, ибо с того дня, как погиб Уорд Миногью, она почувствовала, что ее ненависть к Фрэнку медленно, но верно испаряется. Хотя ее до сих пор приводило в ярость даже воспоминание о том, что произошло в парке, теперь она стала вспоминать и о том, как страстно она в ту ночь хотела отдаться Фрэнку — и, может быть, отдалась бы, не прикоснись к ней Уорд Миногью. Она ведь тогда действительно хотела Фрэнка. Не будь Уорда, не было бы и насилия. Если бы он овладел ею не в парке, а в постели, она ответила бы на его страсть. «Я ненавижу его, — подумала Элен, — так же, как и себя».
Но в ответ на его предложение Элен ответила твердым «нет». Она произнесла это слово почти жестоко, чтобы не быть ничем обязанной Фрэнку, чтобы еще раз не попасть к нему в ловушку.
— Об этом и речи быть не может, — сказала она.
Фрэнк сам удивился, сколь многого он сегодня достиг: он снова шел рядом с Элен, только теперь была не зима, а лето, и ее лицо было теперь мягче и нежнее, чем зимой, и она была женственнее; и все же он снова был отвергнут, и чем больше он ее хотел, тем более жестоко она его отвергала.
— Ради памяти твоего отца! — умоляющим тоном сказал Фрэнк. — Если не ради себя, то ради него…
— При чем тут мой отец?
— Это же его лавка. Так пусть эта лавка поможет тебе окончить колледж. Ведь Моррис так этого хотел!
— Без твоей помощи мне это не удастся. А от тебя я помощи не хочу.
— Моррис оказал мне огромную услугу. Я не могу отплатить добром ему, но могу тебе. И еще потому, что в ту ночь я потерял рассудок…
— Ради Бога, не напоминай мне об этом!
Фрэнк замолчал.
Некоторое время они шли молча. Потом Элен, к своему ужасу, осознала, что они двигаются по направлению к парку. Она резко повернула и пошла назад.
Фрэнк догнал ее.
— Ты могла бы закончить колледж в три года. И не беспокойся о расходах. Ты сможешь заниматься столько времени, сколько захочешь.
— Что ты надеешься за это получить? Нимб над головой?
— Я уже сказал: я в долгу перед Моррисом.
— За что? За то, что он взял тебя в свою вонючую лавку и сделал из тебя раба?
Что мог Фрэнк ей ответить? К несчастью, в этот момент он вспомнил, в чем его вина перед Моррисом. Он нередко думал, что когда-нибудь он ей откроется, — но не теперь. Однако сейчас у него возникло непреодолимое желание облегчить душу. Он попытался подавить в себе это искушение; у него запершило в горле, в желудке появилась тяжесть, он сжал зубы, но слова вырвались сами собой и хлынули из него, как рвота.
— Я был один из тех двоих налетчиков, — сказал Фрэнк с надрывом в голосе. — Другой был Уорд Миногью. Уорд сначала хотел обчистить Карпа, но Карп уехал, и ему остался только Моррис. И, конечно, тут есть моя вина, раз я с ним пошел.
Элен вскрикнула и, наверно, продолжала бы кричать, но боялась привлечь внимание прохожих, которые и без того уже начинали на них поглядывать.
— Клянусь тебе, Элен…
— Бандит! Как ты мог ударить такого кроткого человека? Что он тебе сделал?
— Его ударил не я, а Уорд. А я дал ему воды. Он видел, что я не хотел его бить. А потом я пришел я стал у него работать, чтобы загладить свою вину. Ради Христа, Элен, постарайся меня понять.
Но Элен с искаженным лицом уже бежала прочь от Фрэнка. Он только успел крикнуть ей вдогонку:
— Я сам ему в этом признался!
Все лето и всю осень торговля шла так, что грех было жаловаться, но после Рождества наступил спад, и хотя хозяин «Кофейника» платил теперь Фрэнку на пять долларов в неделю больше, чем раньше, ему стало куда труднее сводить концы с концами. Каждый цент казался ему огромным, как луна. Однажды Фрэнк потратил около часа, чтобы разыскать монету, закатившуюся за прилавок. И — какое счастье! — во время поисков он приподнял разболтавшуюся половицу и обнаружил под ней множество мелких монет, закатившихся туда за несколько лет, всего на сумму почти в целых четыре доллара.
На себя Фрэнк теперь почти ничего не тратил, довольствуясь только самым необходимым. Он совсем обтрепался. Когда нижнее белье у него настолько обветшало, что некуда было ставить заплаты, он его выбросил и стал надевать одежду на голое тело. Носки, платки и рубашки он стирал в раковине и сушил на кухне. Раньше он обычно старался вовремя платить по счетам оптовикам и коммивояжерам, однако нынешней зимой им приходилось подолгу дожидаться своих денег. Одному он даже пригрозил, что если тот не отстанет, Фрэнк объявит себя банкротом. Другому обещал заплатить в следующий раз. Самым нужным поставщикам он время от времени выдавал по нескольку долларов, чтобы их успокоить и обнадежить. Однако Иде свою арендную плату он платил исправно. Это было очень важно, ибо в начале осени Элен снова поступила на вечернее отделение в колледж, и если бы Фрэнк не давал Иде достаточно денег, Элен не смогла бы учиться.
Он уставал как собака, и у него все время болела спина. В свои выходные дни, когда он не ходил работать в кафе, он спал мертвым сном, и ему снилось, что он спит. Когда в кафе наступали «мертвые часы», Фрэнк облокачивался о стойку обеими руками, подпирал подбородок ладонями и так сидя спал. В лавке, когда не было покупателей, он тоже урывал для сна каждую свободную минуту, полагаясь на электрический звонок, от которого он всегда просыпался, — а больше ничто на свете не способно было его разбудить. Когда он просыпался, в голове у него гудело, в глазах все двоилось и плыло. Он похудел, осунулся, скулы у него едва не пропарывали щеки, перебитый нос заострился. Он пил крепкий черный кофе в таких неимоверных количествах, что в животе у него постоянно урчало и бурлило. Когда выдавался свободный вечер, он ничего не мог делать, никуда не мог ходить, — только иногда читал немного на сон грядущий или же сидел в задней комнате, потушив свет, курил и слушал по радио легкую музыку.
Были у него заботы и иного рода. Как-то он заметил, что вокруг Элен опять увивается Нат Перл. Раз или два в неделю будущий юрист привозил ее вечером с работы. Иногда в пятницу или в субботу они вместе куда-то уезжали развлекаться. Нат подъезжал, давал сигнал, Элен выходила из дому, нарядно одетая, улыбающаяся, и садилась в машину; ни она, ни Нат не удосуживались даже заметить Фрэнка. Элен поставила у себя в комнате телефон, и раза два-три в неделю Фрэнк слышал телефонный звонок. Эти звонки выводили его из себя: он ревновал к Нату. Однажды за полночь, когда у него был выходной в «Кофейнике», Фрэнк неожиданно проснулся: он услышал, что в дом вошла Элен и с ней еще кто-то. Фрэнк прокрался в лавку и прислушался около боковой двери. Он услышал шопот, а потом все смолкло. «Наверно, обнимаются», — подумал Фрэнк. После этого он еще долго не мог уснуть — так он хотел ее. На следующей неделе, снова прислушиваясь у двери, Фрэнк обнаружил, что парень, который провожает Элен, был Нат. Фрэнк умирал от ревности.
Элен никогда не заходила в лавку. Чтобы ее увидеть, Фрэнку приходилось подолгу стоять у окна, выходившего на улицу.
— Боже! — сказал он как-то сам себе. — Какого черта я так убиваюсь?
Он отвечал себе на этот вопрос по-разному, и один из лучших ответов заключался в том, что тем самым он, по крайней мере, не делает ничего дурного.
Но затем он снова начал делать то, что когда-то обещал себе никогда не делать. Ему самому в таких случаях бывало страшно: что-то он вытворит в следующий раз? Он карабкался по шахте подъемника, чтобы посмотреть на Элен в ванной комнате. Два раза он увидел, как она раздевается. Он до физической боли ее хотел — хотел ее тела, которым некогда насладился на какой-то короткий момент. И он ненавидел ее за то, что когда-то она полюбила его, и за то, что он когда-то ее полюбил и любит до сих пор, за всю эту пытку. Он сам себе поклялся, что никогда не будет подсматривать за ней, когда она в ванной, а потом снова делал то же самое. А в лавке он начал обсчитывать и обвешивать покупателей. Когда кто-нибудь не слишком внимательно смотрел на весы, Фрэнк нажимал на них пальцем, чтобы они показывали побольше весу. Раза два он недодал сдачи одной пожилой леди, которая никогда не знала, сколько у нее в кошельке денег.
А потом, в один прекрасный день, без всякой видимой причины — Фрэнк и сам не мог бы объяснить, почему, — он перестал лазить в шахту подъемника и все расчеты с покупателями начал вести скрупулезно честно.
Как-то январским вечером Элен стояла на краю тротуара, поджидая трамвая. Она была у одной студентки со своего курса; сначала они вместе позанимались, потом послушали пластинки, и теперь Элен возвращалась домой позже, чем обычно. Трамвай все не шел, и, несмотря на холод, она решила пойти домой пешком, благо это было недалеко; но тут ей почудилось, что на нее кто-то смотрит. Она оглянулась: на улице никого не было. Элен стояла около ночного кафе; за стеклом она увидела буфетчика, который оперся обеими руками о стойку и опустил голову на ладони. Лица не было видно, но Элен показалось, что она этого человека где-то видела. В этот момент он поднял заспанное лицо, и Элен с изумлением узнала Фрэнка Элпайна. Воспаленными глазами на исхудалом лице он грустно посмотрел на свое отражение в стекле, а потом опустил голову и опять уснул. Прошла добрая минута, пока Элен сообразила, что Фрэнк ее не видел. У нее к горлу подкатил комок, и она почувствовала себя нехорошо; а вокруг была такая ясная, красивая зимняя ночь.
Вскоре подошел трамвай, Элен села сзади. На душе у нее было муторно. Она вспомнила, как Ида обмолвилась однажды, что Фрэнк где-то работает по ночам, но тогда Элен пропустила это мимо ушей. Теперь, когда она увидела Фрэнка, очумевшего от переутомления, исхудавшего, несчастного, у нее защемило сердце: ведь это было же ясно, как день, ради кого он так выматывается. Он кормил их обеих — ее и Иду; только благодаря ему Элен смогла снова поступить в колледж.
Она вернулась домой и легла в постель; и пока она засыпала, перед ее взором все время был тот, кто смотрел на нее из окна кафе. «Да, — сказала она себе, — это правда, он теперь совсем не тот человек, каким был раньше; мне давно пора было это понять». Элен ненавидела Фрэнка за то, что он ей причинил, и она не понимала, почему он это сделал и как это на него подействовало, она не желала себе признаться, что плохое может кончиться и начаться хорошее.
Странно устроены люди: выглядят точно такими же, как были, а на самом деле — меняются. Фрэнк раньше был низким, дурным человеком; но благодаря чему-то в самом себе — может быть, какому-то воспоминанию или идеалу, о котором он и сам забыл, а потом вспомнил, — он изменился, стал другим, совсем не таким, каким был прежде. Ей надо было это давно понять. «Он причинил мне зло, — думала Элен, — но с тех пор он изменился и ничем мне не обязан».
Через неделю, перед уходом на работу, Элен с портфелем в руке вошла в лавку и увидела, что Фрэнк стоит у окна и ждет, когда она появится. Он смутился, и выражение его лица ее тронуло.
— Я пришла поблагодарить тебя за то, что ты для нас делаешь, — сказала Элен.
— Не за что меня благодарить, — буркнул Фрэнк.
— Ты ничем нам не обязан.
— Это уж позволь мне знать.
Они помолчали, а потом он снова упомянул о своем предложении, чтобы Элен перешла на дневное отделение колледжа, где гораздо удобнее учиться, чем на вечернем.
— Нет, спасибо, — краснея, сказала Элен. — Об этом и речи быть не может, особенно когда ты так тяжело работаешь.
— Мне от этого лишних забот не прибавится.
— Нет, спасибо.
— Может, торговля пойдет бойче, тогда я брошу работу в кафе, и нам хватит выручки с лавки.
— Нет, не нужно.
— Все-таки подумай, — настаивал Фрэнк.
И, поколебавшись, Элен сказала, что подумает.
Фрэнк хотел было спросить, есть ли у него и другая надежда — на нее, но решил оставить это до другого раза.
Прежде чем уйти на работу, Элен открыла портфель, держа его на колене, и вынула оттуда книгу в твердом переплете.
— Я хотела тебе показать, что я все время пользуюсь твоим Шекспиром, — сказала она.
Фрэнк смотрел, как Элен сворачивает за угол — прекрасная девушка с его книгой в своем портфеле. Она была в туфлях на низких, плоских каблуках, и от этого ее ноги казались чуть кривее, чем на самом деле, но Фрэнку и это нравилось.
На следующий день, когда Элен вернулась поздно вечером, Фрэнк, подкравшись к боковой двери, услышал в прихожей какую-то возню или даже борьбу; он хотел было открыть дверь и прийти на помощь Элен, но сдержался и решил не вмешиваться. Нат сказал какую-то грубость, после чего послышался звук пощечины, и вверх по лестнице быстро простучали каблучки.
— Шлюха! — крикнул Нат ей вслед.
Как-то рано утром в середине марта, когда молодой бакалейщик спал на кушетке после ночной работы в «Кофейнике», раздался стук в дверь лавки. Это была старая полька, пришедшая по обыкновению купить свою ежеутреннюю трехцентовую булочку. В последнее время она приходила позднее, чем прежде, но все-таки достаточно рано. «К черту! — подумал Фрэнк. — Имею я право поспать, или нет?» Но, пролежав с минуту, он забеспокоился и начал поспешно одеваться. Торговля все еще шла через пень-колоду. Фрэнк наскоро умылся, глядя в потрескавшееся зеркало. «Пора уже стричься, — решил он. — Но наплевать, еще с неделю можно подождать!» У него была мысль отпустить бороду, но он подумал, что этим может отвадить некоторых покупателей, и потому ограничился усами. Две недели он отращивал усы и поразился, что они получились какого-то рыжеватого оттенка. Он подумал, не была ли его мамаша рыжей.
Открыв дверь, он впустил польку в лавку. Она пожаловалась, что он заставил ее долго ждать на ветру. Фрэнк разрезал для нее булочку, завернул и пробил три цента.
В семь часов он через окно увидел Ника, недавно ставшего отцом. Ник вышел из дому и завернул за угол. Через минуту он появился снова с большим пакетом бакалейных товаров, купленных у Тааста. Он шмыгнул в дверь, и у Фрэнка испортилось настроение.
— По-моему, — сказал он сам себе, — надо переделать эту дыру под ресторан.
Когда он вымыл шваброй пол в кухне и подмел лавку, появился со своими лампочками Брейтбарт. Поставив тяжелые коробки на пол, разносчик вынул желтый носовой платок и шумно высморкался.
— Как дела? — спросил Фрэнк.
— Швер! — сказал Брейтбарт.
Фрэнк угостил Брейтбарта чаем с лимоном; во время чаепития Брейтбарт читал «Форвертс». Просидев минут десять, он аккуратно свернул газету, сунул ее в карман, взвалил на плечи свои коробки и ушел.
За все утро было только шесть покупателей. Чтобы не нервничать, Фрэнк взял книгу и стал читать. Это была Библия. Иногда Фрэнку казалось, что некоторые части из Библии он мог бы написать и сам.
Читая, он наслаждался этой приятной мыслью. И он увидел Святого Франциска Ассизского, который, пританцовывая, вышел в своих лохмотьях из лесу, а над его головой летело несколько птиц. Святой Франциск остановился перед бакалейной лавкой и, запустив руку в мусорный бак, вытащил оттуда деревянную розу. Он подбросил ее в воздух, и она превратилась в живой цветок. Святой Франциск поймал цветок и с поклоном вручил его Элен, которая как раз вышла из Дому.
— Сестрица, вот ваша сестричка-роза, — сказал Святой Франциск.
И Элен взяла цветок у Святого Франциска, хоть это был тот самый цветок, который когда-то с любовью и наилучшими пожеланиями подарил ей Фрэнк.
В начале апреля Фрэнк отправился однажды утром в больницу и попросил сделать ему обрезание. Несколько дней он с трудом ходил, мучаясь болью между ног. Боль раздражала и возбуждала его.
После Пасхи он стал евреем.
Примечания
1
Разрядка здесь и далее заменена на болд — прим. верстальщика.
(обратно)2
Так в книге — прим. верстальщика.
(обратно)


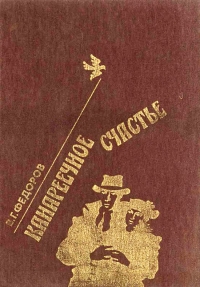
Комментарии к книге «Помощник», Бернард Маламуд
Всего 0 комментариев