____________________
– 1 -
После третьей или четвертой рюмки начали спорить об искусстве. О том о сем и наконец о том, можно ли считать настоящим произведением искусства неопубликованный роман, повесть или рассказ. Тут мнения раскололись. Одни говорили да, другие – нет. И те и другие очень убедительно. Убедительней же всех Кира Георгиевна. Так, во всяком случае, казалось ей. Ну не все ли равно, напечатан рассказ в типографии или написан от руки в детской тетради. Он есть, он появился, родился – и все! Сколько у этого рассказа читателей – неважно, хотя бы один, хотя бы сам автор, важно, чтоб он был написан.
– Вот я высеку из мрамора твою, Лешка, голову. – Лешка, молодой, задиристый художник, был ее главным оппонентом. – Высеку со всеми ее вихрами во все стороны и оставлю в мастерской, на выставку не дам. Что ж, оттого, что она будет стоять у меня на Сивцевом Вражке, а не на Кузнецком, в выставочном зале, что ж, значит, она уже не произведение искусства? Ерунда!
Все это Кира Георгиевна говорила весело, как всегда напористо, не давая себя перебить. Она любила спорить. Ей доставлял удовольствие сам процесс спора, обстановка его. Прокуренная комната, художники, горящие глаза, все друг друга перебивают. Биение мысли… В этом тоже есть что-то от самого искусства.
– А вообще, дело не в этом, – продолжала она, – не в том, где и как выставлено то или иное произведение, а в том умении художника, ухватив самое яркое, своеобразное, создать обобщенный образ…
– Ну и так далее. Ясно! Точка! – перебил ее веселый, лохматый Лешка. – А что ты скажешь о Шубине, великом скульпторе Шубине? Обобщал он или нет? А? Каждый его вельможа сам по себе, индивидуален, черт возьми!
– Погоди, погоди…
Но тут все заговорили хором, Кира Георгиевна сбилась, потеряла нить своих рассуждений и потребовала коньяку. От коньяка вдруг захмелела (она больше говорила, что может много выпить) и вышла на балкон.
Внизу до самого горизонта мигала огнями праздничная Москва. Кремль и высотные здания были освещены прожекторами.
«А вот и красиво, – подумала Кира Георгиевна, – даже очень. И Кремль, и высотные здания, и как все это отражается в воде. И черт с ним, что в этих высотных зданиях нет логики. Сейчас они красивы, именно сейчас, – белые среди ночи, колючие. Вот и вся логика. И машины бегают внизу с красными огоньками… Нет, вниз смотреть не надо… – Она отвернулась. В комнате продолжался спор. – И ребята все славные. Хорошие, славные ребята. И Лешка, и Вовка, и Григорий Александрович… Ну, этот, правда, немного болван и работать не умеет, но старик добрый, покладистый. Пил бы только меньше. И Юрочка, кстати, тоже. Он что-то там подсел к этому пьянице Смородницкому, а ему еще домой меня отвозить…»
И потом, в такси, сидя рядом с Юрочкой, она думала, какой он, Юрочка, славный, какой милый и деликатный, как стесняется, вот даже сейчас, хотя бы нечаянно задеть ее рукой. «А ведь я нравлюсь ему, честное слово, нравлюсь», – подумала она, и эта мысль, что она может нравиться простому, здоровому двадцатидвухлетнему парню, была ей особенно приятна. Она искоса посмотрела на него. Он сидел прямо, положив руки на колени, и через плечо шофера смотрел на бегущий навстречу асфальт.
– Дуешься, Юрочка, а?
Юрочка ничего не ответил. Весь вечер она слегка поддразнивала его, а он, дурачок, обижался. Сначала велела ему снять галстук (у него, мол, красивая шея и незачем этот хомут таскать), и он послушно снял галстук, расстегнул ворот, и все почему-то рассмеялись. Потом при всех стала говорить о лепке его лица, о мужественной линии подбородка, о том, что начала лепить его голову, и тут он совсем смутился. Юрочка вообще всегда смущался в ее компании – он простой электромонтер, а Кирины друзья все художники, скульпторы. Среди них даже несколько заслуженных и один лауреат. От смущения он подсел к Сергею Смородницкому, бывшему моряку, от которого только в третьем часу ночи Кира Георгиевна с трудом его оторвала. Сейчас он дулся. А ей было смешно. И приятно.
У подъезда громадного дома по улице Немировича-Данченко они отпустили такси.
– Я провожу вас наверх, – мрачно сказал Юрочка, – лифт не работает.
– Не стоит, я не боюсь, – сказала Кира Георгиевна, но он, ничего не ответив, вошел в парадное и быстро побежал вверх.
«Славный, хороший, бесхитростный парень, – подумала Кира Георгиевна. – Куда всем Смородницким и Лешкам до него!»
Слегка запыхавшись, она поднялась на шестой этаж. Юрочка стоял, облокотившись о перила, и смотрел в пролет лестницы.
– Ну, спасибо, – сказала она и протянула руку. – До завтра. В одиннадцать прошу, минута в минуту.
Вместо ответа Юрочка решительно притянул ее к себе, неуклюже, крепко поцеловал и так же решительно ринулся вниз.
Первой мыслью Киры Георгиевны было – как хорошо, что не она это сделала, второй – как неприятен запах винного перегара, и только третьей – что завтра Юрочку надо будет отчитать.
Внизу хлопнула дверь.
Кира Георгиевна отворила ключом английский замок. Дома все спали. Она заглянула зачем-то в кухню, потом на цыпочках подошла к комнате Николая Ивановича и слегка приоткрыла дверь. Он, как всегда, сразу же включил свет и приподнялся на своем диване, моргая близорукими глазами.
– Ну как, повеселилась?
– Спи, спи. Повеселилась.
Он надел очки и стал шарить папиросы.
– А Григорий Александрович был?
– Был, был… И зачем ты ночью куришь? Спи.
Он улыбнулся мягкой, виноватой улыбкой и вместо папиросы взял из пепельницы бычок.
– Ну разве это курение? Просто так…
– Вот это «просто так» хуже всего, – сказала Кира Георгиевна и, глядя на его слегка обрюзгшее, с мешками под глазами, доброе лицо, подумала: «Нет, ей-богу, нет на свете человека лучше его». И потом, стоя в своей комнате у раскрытого окна и вдыхая свежий, весенний, совсем не городской воздух, глядя на померкнувшую уже Москву, на четко вырисовывавшийся на востоке силуэт города, она думала, как сейчас хорошо и какой добрый, чуткий, настоящий человек Николай Иванович – ее муж.
– 2 -
Жизнь у Киры Георгиевны – или, как ее называли друзья, Кили (в детстве она долго не могла произнести букву "р") – поначалу сложилась как будто весело и легко. Родилась и жила до войны в Киеве. Отец был врачом-отоларингологом – слово, которое Киля тоже очень долго не могла выговорить, мать, как пишут в анкетах, домохозяйкой. Был еще младший брат Мишка – лентяй, футболист и первый во дворе драчун.
Учась в школе, Киля мечтала стать балериной и ходила даже в балетную студию, потом, поступив в скучнейшую, ненавистную ей торгово-промышленную профшколу («почему-то надо обязательно куда-то поступать»), стала мечтать о карьере киноактрисы – она была стройненькой, с веселыми глазами, кудрявой, подстриженной под мальчика, и профшкольные друзья уверяли ее, что она исключительно фотогенична (в то время очень модным было это слово). В зеркале на ее туалете появились фотографии знаменитых киноартистов тех лет. Одно время она носила даже челочку а-ля Лиа де Путти. Потом она остыла к кино и увлеклась живописью, очень левой, приводившей ее добропорядочных родителей в ужас. На экзамене в художественный институт старика швейцара, позировавшего экзаменующимся сделала зеленым и под Сезанна. Тем не менее ее приняли – правда, не на живописный, а почему-то на скульптурный факультет.
В институте было весело и не очень утомительно. Приятно было ходить с этюдником, отмывать бензином на платье масляную краску и глину, с профессиональным апломбом рассуждать о колорите, густоте тона, прозрачности теней, восторгаться Матиссом, Гогеном, Майолем, скептически улыбаться, когда упоминали Сурикова или Антокольского. В институте она научилась курить. Там же она влюбилась. Сперва в Сашку Лозинского, своего однокурсника, физкультурника, певца и гитариста, потом в очкастого Веньку Лифшица, писавшего стихи. Венька ввел ее в кружок поэтов. Там оказалось еще веселее. Читали друг другу стихи, свои и чужие, писали пародии, спорили, острили, бродили ночами по надднепровским паркам, немножко пили – не столько по охоте, сколько для взрослости. Там же она познакомилась с Вадимом Кудрявцевым.
Все, что ни делала Киля, она делала не задумываясь. Отказывать себе в чем-либо она не любила. Решение принимала сразу и тут же выполняла, родители не успевали даже пикнуть. Как-то вечером она привела в дом высокого, стройного, голубоглазого парня лет двадцати, в зеленой футболке, с копной черных, как у цыгана, волос, падавших на глаза. Представила его как талантливейшего из всех известных ей сейчас поэтов. Тут же, страшно смущаясь, он вынужден был прочесть две свои поэмы – «Муравьиные следы» и «Скучающий бумеранг». Родители, с трудом признававшие даже Блока, растерянно слушали. Киля же не сводила сияющих, восторженных глаз со своего Димки. Через три дня они поженились.
С милым рай и в шалаше. Ей было восемнадцать лет, ему двадцать. Поселились они в крохотной Димкиной комнатке на пятом этаже, которую он снимал, поссорившись с отцом, крупным инженером. Окно комнаты выходило на крышу, но за ней виднелись сотни других крыш, и обоим это очень нравилось – совсем Монмартр, мансарда. «Монмартрскими» казались им и сверхлевые Килины упражнения, развешанные по всем стенам, и две черные негритянские маски с оттопыренными губами, сделанные тоже ею. В комнате всегда был дикий беспорядок, везде валялись на обрывках бумаги Димкины стихи, а одно было написано прямо на стене.
Кроме стихов, у Вадима была еще кинофабрика. Работал он там ассистентом режиссера, хотя никакого специального образования не имел, просто был молод, предприимчив и любил кинематографическую суету. Киля тоже любила суету. И артистов любила, и свет «юпитеров», и ночные съемки, на которые стала ездить вместе с Вадимом, и заезды в ночной «Континенталь» – одним словом, все то, что на пресном языке ее родителей называлось страшным словом «богема».
Занятия в институте были почти совсем заброшены. Их вытеснила лепка и стройка каких-то декораций в громадном павильоне кинофабрики. Кроме удовольствия и кое-каких денег, это давало возможность познакомиться с такими людьми, как Довженко, Пудовкин, Эйзенштейн. С Эйзенштейном Киля как-то завела даже полемику на одном из его докладов. Одним словом, было весело и хорошо. Все это происходило в тридцать шестом году. Через год Вадима арестовали.
Симпатичную «монмартрскую» комнату опечатали. Киля вернулась к родителям. Дома царил траур. Несколько раз Килю вызывали в большой серый дом на улице Короленко и говорили о Димке страшные вещи, которым невозможно было поверить. В институте ее тоже несколько раз приглашали на собеседование и через месяц исключили. Началось хождение по каким-то учреждениям. Отец взял отпуск за свой счет и поехал с Килей в Москву. Через год Килю восстановили, но не на ее курсе, а курсом ниже.
Первые недели и даже месяцы после ареста Вадима Киля ходила сама не своя. Все было так неожиданно, так страшно. Веселый ее Димка, бесшабашный Димка, писавший стихи о «тучках зеленых, стрелою пронзенных Амура, что отдал колчан свой в ломбард», голубоглазый ее Димка, безалаберный, легкий, все всем раздающий, всеобщий любимец, и вдруг – враг народа…
Через год или полтора после его ареста пришло от него письмо. Как и откуда оно было отправлено – неизвестно, но на конверте был штемпель Москвы, и адрес написан незнакомой рукой. В письме было всего несколько строчек – жив, здоров, а кроме того, сказано, что она может не считать себя его женой, он дает ей свободу. Вот и все. «Целую. Твой Димка». Написано на обрывке бумаги торопливым кривым почерком. Больше о нем она ничего не слыхала.
Наложили ли все эти события какую-либо печать на Килю? И да, и нет. Беспечная, жившая как бы на поверхности жизни, весело скользившая по ней, Киля вдруг поняла, что, кроме шумных вечеринок и чтения стихов, кроме милых рисуночков, развешанных по стенам, есть нечто более сложное, важное, не всегда понятное и, увы, не всегда приятное. Но у нее был завидный характер, она умела быстро забывать то, что осложняет жизнь. Возможно, это и не лучшая черта человеческого характера, но Киле самой и ее окружающим эта черта облегчала жизнь. Через три года, в эвакуации, она помогла Кире – теперь ее все реже звали Килей, – ее матери и младшему брату жить в тех не слишком легких условиях, в которых они жили, помогла пережить и смерть отца. Короче, Кира умела не унывать. Она работала в местной газете, снабжая ее карикатурами на Гитлера и Геббельса, писала лозунги в клубе, плакаты для кинотеатра, преподавала рисование в первых классах, стояла в очередях, носила пайки, а иногда по ночам растаскивала вместе с соседями деревянные заборы на дрова. Все это она делала легко, и если не всегда с удовольствием, то никогда не хныча.
О Вадиме она всегда помнила – две его карточки, одна серьезная, паспортная, другая, где он снят делающим стойку на пляже, висели у нее над кроватью, – но, что говорить, время прошло, и первоначальная острота потери притупилась. Как ни странно, чаще вспоминала о Вадиме Софья Григорьевна, Кирина мать, в свое время называвшая его «этот тип», и младший брат Мишка, влюбившийся по уши в своего зятя или шурина (никто толком не знал, кем он ему приходится), научившего его плавать, прыгать в воду вниз головой, соскакивать с трамвая на полном ходу, а главное, курить.
Прошло еще пять лет. В сорок шестом году, в Алма-Ате, Киля познакомилась с Николаем Ивановичем Оболенским, профессором художественного института, и еще через год уехала с ним в Москву. Несколько позже перебралась туда же и Софья Григорьевна с Мишкой.
Бедные матери, как трудно им ко всему привыкать. Куда труднее, чем детям. И как не могла Софья Григорьевна сразу привыкнуть к тому, что их маленькая Киля стала вдруг женой какого-то никому не известного человека в зеленой футболке, от которого пахло табаком, а иногда и водкой, так же трудно было ей свыкнуться с мыслью, что Киля ее вышла замуж за Оболенского. Вадим все-таки был почти ровесником Кили, и, как говорили соседки, они «чудесная пара». И вообще, как вскоре выяснилось, при всем своем легкомыслии Вадим был добрый, веселый, услужливый и, главное, любил Килю. И она его. И Софья Григорьевна полюбила его тоже. А Оболенский? Седой, лысый, пожилой вдовец с брюшком, с диабетом, всегда обсыпанный пеплом, молчаливый, тихий. Правда, известный и состоятельный. Неужели Киля позарилась на положение, на деньги, связи? Не может быть…
– 3 -
Кире Георгиевне шел сорок второй год, но, как ни странно, она этого не чувствовала. Она по-прежнему была стройна (особое удовольствие ей доставляло, когда на улице или в магазине ее называли «девушка»), по-прежнему любила пляж, плаванье, греблю (к сожалению, на это теперь оставалось очень мало времени). Она не думала, в отличие от своих приятельниц, ни о какой диете, сохраняющей фигуру, не жаловалась на сердце, головные боли. Волосы, правда, она уже подкрашивала, и, нужно сказать, довольно тщательно, чтоб не было видно седеющего пробора, но во рту были только две золотые коронки, в самой глубине, видные только, когда она смеялась, и лицо было свежее, почти без морщин – посторонние давали ей никак не больше тридцати двух – тридцати трех лет. Но главное не это. Главное, что она умудрилась за эти годы не растерять то, что с возрастом обычно исчезает, – она осталась такой же увлекающейся в работе, какой была и в двадцать лет. Но, кроме того, она приобрела и нечто новое – и, скажем прямо, для друзей ее неожиданное: она научилась работать. И в этом ей очень помог Николай Иванович Оболенский.
Он был старше Кили более чем на двадцать лет. Родился еще в девятнадцатом веке. К началу революции ему минул двадцать первый год. Как и все молодые художники того времени, он с увлечением рисовал гигантские плакаты с рабочими и красноармейцами, дающими в рыло Деникину, Врангелю, Пилсудскому. Потом увлечение плакатом прошло. Благодаря своему отцу, тоже художнику, учившемуся в Академии вместе с Кустодиевым и Малявиным, он попал в руки к Нестерову и к концу тридцатых годов стал довольно уже известным художником. В годы Отечественной войны удостоен был Сталинской премии. Через некоторое время он был избран членом-корреспондентом Академии художеств.
Как ни странно, несмотря на все эти звания, он по-прежнему оставался скромным, даже застенчивым человеком, любящим свою работу, кисти, мольберты, краски, своих студентов и ту общественную деятельность – он был членом всевозможных жюри и выставок, – которой отдавался с охотой и великой добросовестностью. Больше у него ничего не оставалось: жена умерла еще до войны, а сын, лейтенант-артиллерист, погиб под Москвой в октябре сорок первого года.
Когда Киля впервые пришла к Николаю Ивановичу (это было еще в Алма-Ате, она была тогда агитатором), вид его комнаты ужаснул ее. Портреты, рисунки, немытая посуда, кастрюли – все вперемешку, и среди этого первозданного хаоса мраморная копия гудоновского Вольтера, иронически поглядывавшая с высоты полуживого гардероба на весь этот развал. Возможно, этот хитрый, мудрый старец и сосватал немолодого профессора с тоже уже не совсем молодой недоучившейся студенткой.
Институт она закончила уже в Москве, поселившись в полупустой квартире Николая Ивановича. Кое-кто многозначительно по этому поводу улыбался и подмигивал, но Кира Георгиевна (теперь уже ее так называли) говорила: «Плевала я на это». О дипломной работе ее, получившей отличную оценку, даже старик Матвеев сказал: «У этой шальной девицы что-то есть…» А многозначительные улыбки, переглядывания? Плевала она на это!
Да, у нее старый муж. Но она его любит. Смейтесь сколько угодно – любит. Да, он стар, он часто болеет, у него диабет, гипертония, больное сердце, он беспомощен и беззащитен во всем, что не касается его искусства, в искусстве же, слава богу, не знает никаких компромиссов. Он ни к кому никогда не приспосабливается, и если голосует «за» или «против» такого-то, то потому только, что он сам «за» или «против» такого-то, а не по каким-либо другим причинам. Студенты любят и уважают его, а они-то знают, кого надо, а кого не надо любить и уважать. Да, у него дача в Красной Пахре, но купили ее главным образом потому, что Мишка женился и совсем некстати обзавелся сразу двойней. Да, ее муж стар и не очень красив, у него лысина, брюшко, но с ним легко и просто, он все понимает с полуслова, он удивительно деликатен, он понимает, что у Кили есть свои интересы, свой круг друзей. Ну вот хотя бы Юрочка. Молодой красивый натурщик третий месяц позирует ей для скульптуры «Юность». Другой на месте Николая Ивановича не относился бы так легко к этому, а он, напротив, очень любит Юрочку, приветливо его встречает, пропускает с ним даже рюмочку-другую коньяку. Он прекрасно понимает, что для Киры Юрочка только мальчик с хорошо развитой мускулатурой, которую так приятно лепить, славный, немного неотесанный мальчик, с которым они познакомились в прошлом году на пляже, когда у них испортилась моторка. Юрочка довольно долго возился с их заглохшим мотором, и тогда же, профессионально оценив его подтянутую мальчишескую фигуру, Кира Георгиевна записала его служебный телефон – он работал монтером в каком-то СМУ. Потом подвернулся заказ для сельхозвыставки, она позвонила Юрочке и убедила попозировать ей, хотя он и сопротивлялся, считая, как и большинство людей, что в этом занятии есть что-то недостойное. Вот и все. Теперь он ходит к ней три раза в неделю после работы и позирует ей. И Николай Иванович все это прекрасно понимает. И она понимает – ей все-таки уже перевалило за сорок, к Юрочке у нее чисто материнское чувство, а поддразнивает она его просто потому, что он всегда очень мило, по-детски смущается и обижается. Мальчишка еще. Совсем ведь мальчишка. Взял вдруг и поцеловал ее на лестнице. Что у него, своих девушек нет? И поцеловал-то как медведь. Стиснул своими ручищами, чуть шею ей не свернул.
«Да, надо все-таки его отчитать, – подумала Кира Георгиевна и закрыла окно: становилось прохладно, – и серьезно отчитать. Мальчишка все-таки…»
– 4 -
Следующее утро было солнечным и голубым. Кира Георгиевна проснулась раньше обычного – обычно она вставала часов в девять, половине десятого – и застала Николая Ивановича еще в столовой: он вставал рано и завтракал всегда один.
– Ты что-то плохо выглядишь сегодня, – сказала она, подходя к нему и целуя в лоб.
– Возраст такой, – ответил Николай Иванович, вставая. – Всю ночь чего-то ворочался. И сны всякие дурацкие. – Он закурил. – Ты работаешь сегодня?
– Работаю. А что?
– Да ничего. Просто подумал – праздник, весна… Мало мы воздухом дышим.
– Мало. Но я уже условилась с Юрочкой. А позвонить ему некуда.
– Ну, раз условилась…
Кира Георгиевна прошла в ванную.
Холодный душ согнал последние остатки вчерашнего хмеля. Все показалось сейчас смешным и забавным. И этот спор об искусстве, и восторженные Лешкины – главного ее оппонента – тосты за «творческий» и против «коммерческого» реализма, и смешной обидевшийся Юрочка, его детская выходка на лестнице. Нет, не надо его отчитывать, надо просто с улыбкой сказать, что она старше его на двадцать лет и что ей, в ее возрасте… Нет, не надо. Просто пожурить: «Ай-ай-ай, Юрочка». А может, и совсем промолчать, как будто ничего не было.
В мастерскую – она находилась на Сивцевом Вражке – Кира Георгиевна пошла пешком. Дойдя до Никитских ворот, она решила, что Юрочку все-таки надо отчитать. Собственно говоря, надо было сделать это еще вчера, но поскольку она вчера, растерявшись, не сделала этого, надо сегодня… Выйдя на Арбат, она передумала. В самом деле, смешно всерьез принимать вчерашнее происшествие. Просто глупо.
Так и не приняла она никакого решения.
Юрочка ждал ее уже около получаса. Сидел у окна на старом скрипучем диване и листал «Огонек». Вид был мрачный.
– День-то сегодня какой, настоящая весна, – весело сказала Кира Георгиевна, входя, и тут же окончательно поняла, что отчитывать его не будет, раз с этого прямо не начала.
Юрочка поднял голову и сразу же опустил.
– Настоящая, – сказал он.
– Я вот сейчас шла по Никитскому бульвару, и, знаешь, на деревьях уже почки. Ей-богу. Я даже сорвала одну и съела. «Господи, что я несу», – тут же подумала она.
Юрочка ничего не ответил. Курносый, коротко остриженный с вихрами на макушке, он выглядел совсем мальчишкой. А руки взрослого – жилистые, ладонь широкая, грубая.
– И вообще, надо уже подумывать о лете. А то стоит моторка без дела, никто ею не пользуется. Проверил бы как-нибудь мотор. А?
– Ладно, – мрачно сказал Юрочка и, отложив журнал, направился к каморке, где он переодевался. – Начнем, что ли?
– Да, да, начнем.
Кира Георгиевна стала искать комбинезон, в котором работала, не нашла, подошла к скульптуре – чему-то большому, обмотанному тряпками, – начала ее разматывать, бросила, не докончив, опять стала искать комбинезон – черт его знает, всегда куда-нибудь денется…
Сквозь большое окно-фонарь в мастерскую врывался толстый солнечный луч с дрожащими в нем пылинками. Он освещал часть пола и кусок стенки, на которой висели гипсовые маски.
«Какие они все мертвые, – подумала Кира Георгиевна. – Белые, мертвые, с закрытыми глазами. Ну их… Сниму».
Вышел из каморки Юрочка, слегка поеживаясь: в мастерской было прохладно.
– Ты не видал моего комбинезона?
– Он там. – Юрочка кивнул головой в сторону каморки. – Принести?
– Не надо.
Кира Георгиевна вынесла из каморки комбинезон и с силой встряхнула его – в солнечном луче красиво заклубились облака пыли. Комбинезон был старый, грязный и любимый.
– Слушай, знаешь что? – Кира Георгиевна бросила комбинезон на диван и сердито глянула на Юрочку. Он, чтобы согреться, боксировал воображаемого противника.
– Что? – он прекратил боксировать и обернулся.
«Вот сейчас все ему и скажу. Кратко, спокойно, без лишних слов. Самое глупое – делать вид, что ничего не было… Было… А раз было, надо сказать…»
Юрочка со сжатыми еще кулаками, полуобернувшись, выжидательно смотрел на нее.
– Знаешь что? – сказала она вдруг. – Ну его к черту! Поедем за город…
И они поехали за город.
К пяти часам они вернулись, приятно усталые, голодные.
– Хочу есть, зверски хочу есть, – сказала Кира Георгиевна и заглянула в сумочку, сколько там денег. – Ты был когда-нибудь в «Арарате»?
Юрочка в «Арарате» никогда не был, и они пошли в «Арарат». Там Кира Георгиевна спохватилась, что ее ждет к обеду Николай Иванович, и тут же из директорской клетушки позвонила домой и велела Луше передать Николаю Ивановичу, который еще не вернулся, что она встретила приятельницу и обедать будет у нее, пусть Николай Иванович не дожидается.
В «Арарате» они пили сначала сухое вино, потом коньяк, потом кофе, потом опять коньяк, какой-то особенный, очень дорогой. Потом, уже около одиннадцати часов, Кира Георгиевна опять позвонила домой и, старательно выговаривая все буквы, сообщила Николаю Ивановичу, что приятельница – он не знает ее, они жили вместе в эвакуации – пригласила ее к себе на дачу и ей неловко отказать, поэтому ночевать она сегодня дома не будет.
– Ну что ж, хоть воздухом подышишь, – сказал в трубку Николай Иванович. – Смотри только не простудись. Ты, надеюсь, в пальто?
– В пальто, в пальто… – весело ответила Кира Георгиевна и повесила трубку.
– 5 -
Прошло два месяца. Наступило душное, пыльное московское лето. Тут бы и поехать куда-нибудь на юг, к морю, да не пускала скульптура – к пятнадцатому июля ее надо было сдать. Кира Георгиевна работала сейчас много и упорно. То, что она делала, ей нравилось. Она пригласила друзей и показала им почти законченную уже работу. «Юность» предназначалась для сельскохозяйственной выставки, и большинство друзей говорило, что она не стандартна, что в ней есть что-то свое, очень убедительное. Это был не безликий античный атлет с вытянутой рукой, а просто юноша с обнаженным торсом, в рабочих штанах, глядящий в небо. Даже вихрастый Лешка нашел в скульптуре кое-какие достоинства профессионального характера (уже успех!), хотя в принципе и возражал против нее, считая скульптуру если и не ярчайшим (его любимое словечко), то во всяком случае достаточно ярким образом «коммерческого» реализма. Но это был Лешка, по любому поводу, всегда и со всеми спорящий, так что особого значения этому можно было не придавать.
Приехал как-то в мастерскую и Николай Иванович – делал он это очень редко, – долго стоял и рассматривал скульптуру с разных сторон, потом сказал: «Ну что ж, заканчивай» – и уехал. Значит, понравилось. В противном случае он похвалил бы какие-нибудь детали, а потом, вечером или на следующий день, начав откуда-нибудь издалека, под конец разнес бы в пух и прах. А сейчас он долго стоял, смотрел и сказал «заканчивай». На какую-то долю секунды Кире Георгиевне показалось, что, глядя на скульптуру, он разглядывает в ней конкретное лицо, но, когда он, прощаясь с Юрочкой, сказал ему: «Что-то давно вы у нас не были, заглянули бы как-нибудь, у меня новые альбомы и коньяк есть хороший, французский», – она поняла, что ошиблась.
Тем не менее, когда Николай Иванович уехал, она сказала Юрочке:
– Действительно, зашел бы как-нибудь. Раньше ходил, ходил, а за этот месяц один только раз был, когда проводку в кухне чинил. Неловко как-то.
Юрочка ничего не ответил. С того дня, когда они были в «Арарате», в его отношении к Николаю Ивановичу что-то изменилось. Раньше он приходил довольно часто. Ему нравилась и эта непривычная для него большая квартира, увешанная картинами, нравились и самые картины, хотя не все в них было понятно, нравилось, как о них рассказывает Николай Иванович.
До знакомства с Кирой и Николаем Ивановичем Юрочка, по правде говоря, живописью на очень-то интересовался. Ну, был раза два – в школьные еще годы – в Третьяковке, потом солдатом водили его на какую-то юбилейную выставку, вот и все. В картинах нравилось ему больше всего содержание: Иван Грозный, например, убивающий своего сына, или «Утро стрелецкой казни» – можно довольно долго стоять и рассматривать каждого стрельца в отдельности. Нравилась ему в картинах и «похожесть» их, «всамделишность» – шелк, например, у княжны Таракановой такой, что пальцами хочется пощупать. Но в общем музеи он не любил – слишком много всего, – в других же местах с живописью сталкиваться как-то не приходилось.
И вот столкнулся. И оказалось даже интересно. Николай Иванович брал с полки одну из громадных книг в красивом, с золотом, переплете, и, усевшись рядом на диване, они вдвоем листали ее, иногда целый вечер напролет.
Кира Георгиевна тоже любила говорить о картинах. Вскочив на стул и сняв со стены нечто пестрое, в изломанных линиях, она, как всегда громко, увлекаясь, и неясно начинала объяснять, что это должно значить и почему, хотя и талантливо, очень даже талантливо, но не годится для нашего зрителя. Юрочка покорно слушал и ничего не понимал. Когда же начинал говорить Николай Иванович, ему сразу становилось интересно, хотелось слушать, спрашивать. Они, например, два вечера просидели над одной только книгой про одного художника – Иванова, даже про одну его картину. Юрочка был просто потрясен – бог ты мой, сколько работы, какой труд, всю жизнь человек отдал ему. И как интересно картина сделана – Христос сам маленький и где-то далеко-далеко, а спереди много народу, а вот смотришь в первую очередь на Христа. И про боярыню Морозову тоже очень интересно рассказывал Николай Иванович. И про «передвижников», взбунтовавшихся сто лет тому назад, и про французских художников, рисовавших свои картины так, что на них надо смотреть только издали. Перед Юрочкой открылся новый, совершенно незнакомый ему мир – мир искусства и в то же время мир напряженной работы, борьбы, бунтов, очень, оказывается, неспокойный мир.
И все это открыл ему Николай Иванович. Поэтому Юрочка и полюбил его дом.
Теперь Юрочка перестал заходить. Ему было стыдно. В последний раз, в тот день, когда менял проводку на кухне, вечером, за чаем, он старался не смотреть на Николая Ивановича. Бледный, усталый (сейчас он много работал, заканчивая групповой портрет для выставки), в расстегнутой от жары рубахе, сквозь открытый ворот которой виднелась белая безволосая грудь, тот сидел как раз напротив Юрочки, и Юрочке стало вдруг неловко за свои грубые, поцарапанные, загорелые руки, за свое здоровье, за то, что рядом сидит Кира Георгиевна и как ни в чем не бывало накладывает в блюдечки варенье, а потом – он знал, что так будет, – в передней, перед самым его уходом, прижмется к нему, торопливо откроет дверь и шутливо толкнет его в спину. И оттого, что случилось именно так, ему стало еще неприятнее, еще стыднее. С тех пор он перестал заходить.
А как-то, когда Кира Георгиевна опять упрекнула его, почему он не заходит – это в конце концов неловко, Николай Иванович уже несколько раз спрашивал о нем, – он прямо сказал, что стыдится Николая Ивановича, что трудно смотреть ему в глаза.
Кира Георгиевна помолчала несколько секунд, потом сказала, деланно рассмеявшись:
– Ей-богу, ты в свои двадцать два года совсем еще мальчик. Или наоборот – старик, ханжа. Вот именно, ханжа. Неужели ты не понимаешь, что мои отношения с Николаем Ивановичем построены совсем на другом? Я его считаю, считала и всегда буду считать лучшим человеком на земле, заруби это себе на носу. Ясно это тебе или нет?
Все это было сказано громко и запальчиво. Потом она добавила, глядя куда-то в сторону:
– Но между нами разница все-таки в двадцать лет – деталь, с которой трудно не считаться.
Юрочка ничего не ответил. Когда она упомянула о двадцати годах, он не мог не подумать, что между ними разница тоже в двадцать лет. Кира Георгиевна, очевидно, тоже это сообразила, потому что вдруг резко и раздраженно сказала:
– А вообще, дорогой товарищ, можешь поступать как тебе угодно, у тебя своя башка на плечах.
Он опять промолчал и вскоре ушел. Он не умел так разговаривать. Все это было ему неприятно, и обидно, и жаль старика, и неловко за Киру Георгиевну, у которой всегда на все есть убедительный ответ.
Всю ночь после этого Кира Георгиевна не могла заснуть. Ворочалась с боку на бок, вставала, открывала, потом закрывала окно, искала снотворное, опять ложилась, опять ворочалась с боку на бок.
И зачем она завела этот идиотский разговор? И словечко-то какое нашла – деталь… Дура, болтливая дура…
Последние два месяца все было так хорошо. И работалось хорошо как никогда, весело, с подъемом. И у Николая Ивановича все как будто клеилось, он был доволен, а это случалось редко. И вообще, эти два месяца Кира Георгиевна чувствовала себя молодой, полной сил. Ей было весело. Она перестала обманывать себя, убеждать, что Юркины мускулы ей приятно только лепить. И разве оттого, что он появился, она изменила свое отношение к Николаю Ивановичу? Ничуть. С ним ей всегда уютно, и интересно, и приятно, даже когда он просто сидит за стеной в своем кабинете и она слышит его покашливание. Вот и сейчас он покашливает. Опять, значит, работает. Когда он кончает картину, ему даже на ночь трудно с ней расстаться, он перетаскивает ее из мастерской к себе в кабинет и возится день и ночь…
Кира Георгиевна накинула халат, на цыпочках прошла через столовую и приоткрыла дверь к Николаю Ивановичу. Он стоял перед картиной, в полосатой пижаме, заложив руки за спину, и курил. На скрип двери обернулся.
– Чего это ты вдруг? – Он улыбнулся, снял очки и, подойдя к ней, ласково погладил по голове. – Бессонница?
– А черт его знает, не спится чего-то. Душно.
– Душно. «Вечерка» писала, что Москва не знала такой жары последние семьдесят лет. У них почему-то всегда семьдесят лет. Морозов таких не было семьдесят лет, снега – тоже. Все семьдесят лет…
– А может, ты все-таки ляжешь спать? – сказала Кира Георгиевна. – Четвертый час уже.
Он улыбнулся.
– Зачем же спать, когда гости пришли? Это невежливо.
– В таком случае надо угостить их чаем, – сказала Кира Георгиевна и побежала на кухню.
Потом они пили чай, разостлав салфетку на углу письменного стола, и вспоминали, как Николай Иванович угощал впервые своего агитатора чаем еще в Алма-Ате, тринадцать лет тому назад. Тринадцать лет… Подумать только – тринадцать лет, улыбнулся Николай Иванович, тогда у него еще волосы на голове были, не много, но были, и он старательно зачесывал их из-за левого уха к правому, а теперь…
– Вот видишь этого седого, приличного господина в воротничке и галстуке? – Николай Иванович кивал в сторону своей картины, на которой изображены были три пожилых человека, сидящих за столом. – Сейчас он академик, величина, толстые книги пишет… А ведь когда я писал его в первый раз, был златокудрым красавцем, в кубанке, в красных галифе, с таким вот маузером на боку. С самим Махно, говорят, самогон пил. А теперь – валидольчик, курить бросил, вредно…
Он стал рассказывать об агитбригаде, с которой исколесил всю Украину и Дон, о том, как сделал в один получасовой сеанс портрет Щорса и тот, увидев его, несколько удивился, не обнаружив ни глаз, ни носа, но тем не менее портрет взял и даже поблагодарил, как ездил в Крым, как познакомился с Вересаевым, как поехал потом в Москву и пробился с двумя ребятами к Луначарскому, которые внимательно выслушал их предложение расписать стены Кремля фресками на тему «От Спартака до Ленина», а потом, устало улыбнувшись, сказал: «А может, товарищи, пообедаем, вы, наверное, ничего не ели?» – и они остались обедать и о фресках больше уже не заикались.
Кира Георгиевна, умостившись в кресле, поджав колени, слушала все эти рассказы и, как всегда, поражалась тому, как много на своем веку видел Николай Иванович и как мало об этом рассказывает. Только так, случайно, «под настроение», заговорит и тогда уже может говорить всю ночь, неторопливо, тихо, прикуривая папиросу от папиросы, и слушать его можно без конца, вот так вот, в кресле, поджав колени.
Было уже совсем светло. Чирикали воробьи – днем их никогда не слышно, а сейчас заливались вовсю, – загромыхали на улице грузовики. Николай Иванович зевнул, встал, подошел к картине.
– Вот так вот, Киль, и жизнь прошла. Старичков теперь пишем и молодость вспоминаем. – Он обнял ее за плечи и поцеловал в волосы. – А хочешь, я твой портрет сделаю? Просто так, для себя. И повесим его в столовой рядом с Кончаловским. Идет?
– Идет. – Кира Георгиевна весело рассмеялась. – Только обязательно во весь рост, в бальном платье и с бриллиантами. Иначе не согласна.
Они разошлись по своим комнатам. «Вот и посидели хорошо… Ах, как хорошо посидели…» Кира Георгиевна вытянулась на своей кровати, натянула на голову простыню (привычка с детства), вздохнула и закрыла глаза. После этого тихого, уютного ночного чаепития она чувствовала себя какой-то очищенной, успокоенной. А через несколько часов произошло событие, от которого вся ее, в общем, налаженная, как она считала, спокойная жизнь полетела вверх тормашками.
– 6 -
Юрочка работал у себя в СМУ утром, поэтому условились, что в мастерскую он придет к пяти часам. Сегодня был день подчистки и проверки – в основном скульптура была уже готова. Как всегда, это было и приятно и немного грустно. Приятно потому, что доделывать и отшлифовывать всегда приятно, грустно потому, что всегда жалко расставаться с чем-то, к чему привык, что полюбил. Взобравшись на лестницу, Кира Георгиевна рассматривала скульптуру с верхней точки.
– Что-то левая рука мне отсюда не нравится, – сказала она Юрочке, когда он пришел. – Давай проверим руку.
Но едва Юрочка занял свою обычную позицию, в мастерскую вбежала курносая Люська, соседская девчонка, вечно болтавшаяся во дворе.
– Тетя Кира, вас дядька какой-то спрашивает.
– Какой дядька?
– Откуда я знаю? С усами такой.
– Ну и пусть зайдет.
– А он сказал, чтоб вы во двор вышли.
– Вот еще… – Кира Георгиевна, спустившись с лестницы, влезала в комбинезон и путалась в штанине. – Делать мне нечего. Пусть сюда идет.
Люська убежала.
Через минуту хлопнула дверь в сенях.
– Можно?
В мастерскую вошел немолодой человек в гимнастерке, в сапогах, высокий, седоватый, с усами вроде чапаевских. Вошел и остановился в дверях.
Кира Георгиевна, справившись наконец со штаниной, обернулась. Несколько секунд оба молча смотрели друг на друга. Потом Кира Георгиевна сказала как-то медленно, с паузой:
– Усы… Зачем усы?
Человек улыбнулся.
– Для красоты. Усы украшают мужчину. – Он сделал несколько шагов вперед. – Здравствуй.
– Здравствуй. – Кира Георгиевна пожала протянутую руку и вдруг села на диван.
Человек медленно осмотрел мастерскую. Мимоходом оценивающе взглянул на Юрочку.
– Знакомьтесь, – сказала Кира Георгиевна. – Юра… Вадим Петрович…
Они пожали друг другу руки, крепко, по-мужски, может быть, даже несколько крепче, чем надо.
Кира Георгиевна встала и, зачем-то свернув валявшееся на диване полотенце, положила его на подоконник.
– На этом мы сегодня кончим, – сказала она.
– До четверга? – спросил Юрочка.
– Ага, до четверга. – Кира Георгиевна наморщила брови и, точно соображая что-то, посмотрела на него. – Или нет… Позвони мне в среду вечером… Часиков так в одиннадцать.
– Ладно.
Юрочка кивнул незнакомцу – тот ответил тем же – и вышел.
В среду вечером Юрочка трижды звонил Кире Георгиевне, но два раза никто к телефону не подошел, а на третий ответил Николай Иванович.
– Не знаю, Юрочка, где она, – сказал он. – Растворилась где-то. И записки не оставила. Позвони-ка через часок.
Через час ее тоже не оказалось. Позже звонить было уже неловко.
На следующий день, в четверг, Юрочка был свободен и решил на всякий случай заглянуть в мастерскую.
Во дворе, как всегда, околачивалась соседская Люська.
– А там дядька живет, – сообщила она Юрочке. – Второй день уже.
Дядька, когда Юрочка вошел в мастерскую, стоял у окна и сбривал усы. На нем были трусы и старая, выцветшая, лопнувшая под мышкой майка.
– Очень хорошо, – сказал он, увидев Юрочку. – Подбреете мне шею.
Юра поздоровался.
– А Киры Георгиевны нет?
– Нет и не будет. Просила извиниться перед вами. У нее какое-то совещание.
– Совещание? – Юра удивился. Кира Георгиевна, насколько он знал, ни на какие совещания никогда не ходила.
– Так точно. Просила, чтоб вы ей вечерком позвонили. – Гость протянул бритву: – Прошу.
Пока Юрочка подбривал шею, они говорили о качестве бритв.
Потом гость вытерся одеколоном. Без усов он казался гораздо моложе.
– Вы завтракали? – спросил он, вытирая и складывая в коробочку безопасную бритву.
– Завтракал.
– Жаль.
– А что?
Гость наклонился и молча вынул из-под стола поллитровку.
– Может, за колбасой сбегать? – спросил Юрочка.
Гость засмеялся.
– Понятливый молодой человек! Не надо. Все есть. – Он развернул лежащий на столе сверток. Там оказались ветчина, сыр и банка с маринованными огурцами.
– Открой-ка ее, – он перешел вдруг на «ты», – а я тем временем о посуде позабочусь.
Посудой оказалась вазочка из-под цветов и бритвенный стаканчик.
– Тебя, значит, Юрой зовут? – сказал он, разливая водку. – И работаешь натурщиком?
Юрочка кивнул головой.
– Основная профессия?
– Нет, я электрик.
– Ну, это лучше. А меня зовут Вадим Петрович. Напоминаю, так как уверен, что ты уже забыл. Ну, пошли!
Они закусили ветчиной.
– Такие-то дела… А это, значит, под тряпками – ты? – Вадим Петрович кивнул в сторону скульптуры, обмотанной, как всегда, мокрыми тряпками.
– Я.
– Судя по всему, занимаешься боксом?
– Занимался.
– Почему в прошедшем времени?
– Да так как-то все… Не успеваешь. В армии было время, даже на соревнованиях выступал, а сейчас…
– Семья? – Вадим Петрович искоса посмотрел на Юрочку.
– Мать, сестра…
– Маленькая?
– Да как сказать, четырнадцать лет.
– Отца нет?
– Нет.
– Погиб на фронте?
– Нет, после войны уже. Попал в катастрофу. Шофером был.
– А мать работает?
– Нет. На пенсии. Больная совсем. Сердце, печень, плохо видит…
– Старенькая?
– Не очень. Пятьдесят пять. Скорее даже молодая.
– А братьев не было?
– Был старший. Погиб под Кенигсбергом.
Вадим Петрович налил опять.
– Ты прости, вроде анкету заполняю. Но для меня это как-то… Ну ладно, будь здоров.
Он выпил, поморщился, повертел бутылку за горлышко.
– Самый бы раз за второй сбегать. Но не будем. Не будем… Он пощупал пальцами верхнюю губу и улыбнулся, в первый раз за все время. – Странно как-то. Восемь лет усы носил. А до этого четыре года еще и бороду. Итого двенадцать…
– А может, все-таки сбегать? – спросил Юрочка. – Тут рукой подать, за углом.
– Нет, не надо. Хватит. Успеем еще. – Вадим Петрович похлопал по карману, вынул пачку сигарет. – В город не идешь?
– Могу и пойти. Только сначала давайте все-таки… – Юрочка скрылся в каморке и сразу же вернулся оттуда с бутылкой в руке. – Грамм двести тут есть.
Вадим Петрович хлопнул Юрочку по спине – рука у него оказалась тяжелая.
– А ты, хлопец, видать, любишь это дело.
Юрочка улыбнулся:
– Кто же не любит?
– Я, например, не любил. Когда мне было столько, сколько тебе. До двадцати совсем не пил. Занимался спортом. Между прочим, и боксом тоже.
– Поэтому и нос у вас кривой?
Вадим Петрович рассмеялся.
– А что, здорово видно? – Он посмотрел в зеркало, то самое, перед которым брился. – Кривой-таки… От бокса, ты угадал. Но не на ринге.
Юрочке хотелось спросить, где и когда это произошло, но он постеснялся. Вадим Петрович ему понравился. Простой, держится по-дружески. И глаза умные.
– Ну ладно, раз принес, надо выпить. – Вадим Петрович чокнулся о Юрину вазочку.
Несколько минут молчали. Потом Вадим Петрович встал, прошелся по мастерской, вернулся, сел на диван, пристально посмотрел на Юрочку – тому как-то даже неловко стало.
– Тебе сколько лет? – спросил Вадим Петрович.
– Двадцать два.
– И не женат?
– Не женат. – Юрочка покраснел.
– Почему?
– А кто его знает. – Юрочка еще пуще покраснел. – Школа, потом армия, не вышло как-то.
– Не вышло… Ясно. – Вадим Петрович пожевал губами. – А здесь, значит, натурщиком работаешь?
– Ага…
Вадим Петрович опять пожевал губами.
– Только натурщиком?
– Нет. Я же вам говорил, что основная моя профессия…
– Я не об этом.
– А о чем?
– О чем? Эх, парень, парень. Было и мне когда-то двадцать два года… – Он порылся в кармане и бросил на стол мятую сторублевку. – А ну, валяй-ка в «Гастроном»… Только живо!..
– 7 -
Ни на какое совещание Кира Георгиевна не пошла – она не любила совещаний. Просто бродила по городу. Бог знает когда в последний раз бродила вот так, одна, по улицам, по переулочкам. Когда-то очень это любила, потом почему-то не стало хватать времени.
В Парке культуры и отдыха ее застала гроза – шумная, многоводная, мгновенная. Она забежала от потоков воды в ресторан – как оказалось, чешский. Чтоб не стоять без дела, взяла кружку пива и порцию странных, толстых, каких-то вывернутых наизнанку колбасок, именовавшихся «шпекачками». Пиво было очень холодное, ломило зубы, но приятное и хмельное.
Потом в ресторан вбежала парочка – парень и девушка, оба насквозь промокшие, босые, веселые. Тут же у входа, прыгая на одной ноге и не переставая хохотать, девушка надела туфли, которые парень вынул из-за пазухи. Сели за соседний столик и тоже заказали пива.
Глядя на них – веселых, молодых, – для них гроза была только поводом лишний раз посмеяться, – Кира с грустью подумала, что сейчас вряд ли бы уже сняла вот так туфли и побежала шлепать по лужам. А ведь… В каком году это было? В тридцать шестом, тридцать седьмом? Гроза почище этой застала их как-то с Вадимом на Крещатике. Это была даже не гроза, это был потоп. Тогда залило нижние этажи и подвалы, и об этом даже писали в газетах. Крещатик, наполненный мутными потоками с улицы Ленина, Прорезной, Лютеранской, превратился в бурную, многоводную реку. И они так же, как эта парочка, хохоча от радости, по колено в воде пытались добраться до своего дома. А там тоже был потоп – крыша протекла, всю комнату залило, и в раковину пришлось вылить три полных ведра отжатой тряпками воды. Сколько смеху было тогда: наконец-то пол помыли, а то все собирались, собирались…
С тех пор прошло двадцать два, нет, двадцать три года. Вчера они сидели в какой-то захудалой столовой, кажется, на Ленивке, недалеко от музея Пушкина, и просидели там, пока ее не закрыли. Водки здесь не подавали, и, хотя Кира Георгиевна сказала «и очень хорошо», Вадим сбегал все-таки в соседний магазин. Пить пришлось из граненых стаканов, делая вид, что это нарзан.
О чем они говорили в этот день?
Сперва, когда шли по Арбату, Вадим расспрашивал о Софье Григорьевне, о Мишке («Неужели уже папаша? Ай-ай-ай!»), о старых киевских друзьях, – из них кто погиб, кто исчез, а кто если и жив, то как-то волею судеб и времени отдалился. Вадим слушал внимательно, почти не перебивая. Потом, пересекая Арбатскую площадь, они дружно поругали новый памятник Гоголю и заговорили о скульптуре вообще, о Килиной работе, и тут Вадим сказал, что он очень рад, что Киля добилась таких успехов в деле, которое так любит. «Это не всем удается», – сказал он. Кира Георгиевна промолчала. Потом они несколько минут шли молча, и Кира Георгиевна мучительно искала тему для разговора, и тогда он сказал: «Может, зайдем куда-нибудь, я что-то проголодался». И они зашли в эту самую столовую.
Пока Вадим бегал за котлетами и винегретом, Кира Георгиевна смотрела на него сверху (они устроились наверху, на балкончике) и думала о том, как он, в общем, мало изменился, хотя походка и стала не такая уж легкая и молодая, как была.
Потом Вадим принес две порции мокрых котлет с вермишелью, винегрет, бутылку нарзана и, разлив водку, спросил:
– За что мы пьем?
– За твое возвращение, конечно, – сказала Кира Георгиевна и тут же услыхала свой голос, чужой, далекий, не ее.
…Боже мой, боже мой, что ж это происходит?.. «За твое возвращение…» Куда? К кому? Вот она сидит за этим красным, покрытым стеклом столом и смотрит в тарелку, и перед ней стакан с какой-то гадостью, и ни о чем она еще не спросила и не знает, что спрашивать и как спрашивать, и вообще, нужно ли спрашивать, и он тоже молчит, тоже не спрашивает. Когда они шли мимо Гоголя, она сказала, что старый памятник поставили совсем недалеко, во дворе того дома, где Гоголь умер, и что там ему даже лучше, и он сказал: «Реабилитировали старика», а она даже не спросила, реабилитировали ли его самого. И сейчас она сидит, и смотрит в тарелку, и выпьет эту водку, которая ей противна, выпьет потому, что так надо, так полагается и считается, что от этого становится легче…
Вадим полез в карман, вынул бумажник, старый, лоснящийся, а из него – фотографию: двухлетний мальчик в кудряшках, забавный, большеглазый, удивленный и чуть-чуть кривоногий.
– Мой сын, – сказал Вадим. – Володя.
Кира Георгиевна подняла глаза.
– Давай выпьем за него. Хочешь?
– Давай.
Он пододвинул ей стакан. Она взяла его обеими руками, чувствуя, что они трясутся.
Господи боже мой, что же это творится? Вот были вместе и расстались, и прошло двадцать лет, даже больше, и за эти двадцать лет всего было столько, что и не разберешься. И вот они опять вместе, и ей уже никто не нужен – ни Николай Иванович, ни Юрочка, никто…
Милый Вадим, Димка, не суди меня строго. Я плохая, сама знаю. Но я никогда тебе не врала. И сейчас не вру. Я такая, как есть. Прими меня такой…
Вадим сидел перед ней, слегка наклонясь вперед, положив локти на стол, медленно вращая перед собой стакан, и тоже смотрел на нее. И в глазах его, таких знакомых голубых глазах, в которые она не могла до сих пор взглянуть, она прочла то, на что, может быть, уже и не имела права – ожидание. И она поняла вдруг, что все, что до этой минуты стояло между ними, рухнуло.
И он понял.
– Киль, Киль, – сказал он. – Все ясно. Жаль только, что и у нас мог быть такой Вовка. И было бы ему сейчас двадцать лет, а может, и больше.
Сказал и похлопал ее слегка по руке.
Да, да, их сыну могло быть уже двадцать лет, а может, и больше. Он бы уже брился, и курил, и за девочками бы ухаживал, а может, и женился бы, и был бы у него сын такой, как этот Вовка… И тут Кира невольно подумала: ведь Юрочке как раз столько лет, сколько могло быть их сыну.
– Ну, выпьем же за Вовку, – сказала она.
Он улыбнулся:
– А кто говорил: «И очень хорошо, что нету»?
Она выпила, поперхнулась, долго кашляла, он хлопал ее по спине. Потом она попросила, чтоб он еще рассказал о себе, что хочет. И он рассказал. Он уже пять лет женат – правда, не расписан. Первый ребенок у них умер, второй жив и здоров, рахит пройдет, ножки уже заметно выпрямляются. Жену зовут Марья Кондратьевна, или просто Муся, она моложе его на десять лет, попала на Север позже, чем он, хороший товарищ. Она выходила его в госпитале, она врач по специальности. Красивая ли? Да как сказать – наверно, обыкновенная. Карточки у него с собой нет. Высокая, худая, теперь немного пополнела, глаза голубые, была когда-то брюнеткой, сейчас сильно поседела.
Обо всем этом Вадим говорил просто, спокойно, и по всему было видно, что к жене своей он относится хорошо, может быть, даже любит ее. И Кира Георгиевна вдруг почувствовала, что ей не хочется видеть эту женщину, даже на карточке.
Потом они гуляли по ночной Москве, по тихим, безмолвным набережным. Вадим все рассказывал о себе. Кира молча слушала. Он говорил негромко, спокойно, ничуть не стараясь ее разжалобить или поразить.
Они вышли к Крымскому мосту, долго стояли на нем, глядели в черную, с дрожащими огнями воду. Вадим накинул на нее свой пиджак, обнял за плечи. Так они стояли и молчали, говорить уже не хотелось.
Приехал, вернулся… Он рядом с ней, тут, на мосту, в Москве, через двадцать лет. У него седые волосы, искривлен нос, появились морщины. Они не могли не появиться, но, может быть, их было бы меньше, если б все эти годы он жил в Киеве, в Москве, рядом с нею или даже побывал на фронте. И все же пальцы его – она чувствует их на своем плече – остались такими же сильными, может быть, стали даже сильнее, а глаза… Она на всю жизнь запомнит его глаза, его взгляд – там, за столиком с красным стеклом, – великодушный, все понимающий, все-все понимающий взгляд…
Они долго стояли на мосту. Прошел милиционер, посмотрел на них, ничего не сказал и пошел дальше. Потом, когда начало уже светать и Москва-река из черной, потом лилово-голубой стала розовой и чуть шероховатой, Вадим спросил:
– Ну так как, Киль, что дальше будем делать?
И она ответила:
– Как – что? По-моему, все ясно.
Это было вчера.
– 8 -
Гроза умчалась так же стремительно, как пришла. Воздух стал свежим, чистым, запахло травой, от луж на асфальте подымался легкий, прозрачный пар. Кира Георгиевна вышла из ресторана, кивнув на прощанье милой промокшей паре, – те весело помахали ей, чему-то опять рассмеявшись, – и пошла вдоль Москвы-реки к Крымскому мосту.
Все ясно, все ясно, все ясно…
Она поднялась на мост, остановилась на том месте, где они стояли прошлой ночью. Из-под моста вынырнула лодка, длинная-предлинная, и четверо ребят в белых майках, мерно ударяя по воде веслами, вмиг угнали ее куда-то вниз по течению.
Все ясно, все ясно, все ясно…
Кира Георгиевна шла домой и машинально повторяла, а потом стала даже напевать: «Все ясно, все ясно, все ясно…» И, подымаясь по лестнице к себе на шестой этаж (лифт был на ремонте), повторяла все то же.
Николай Иванович был уже дома. Накрывал на стол. Это была его священная обязанность, так же как нарезание лимона и сыра тончайшими, прозрачными ломтиками. Эти три домашних дела он, нужно сказать, делал с блеском. На этот раз, кроме аккуратно расставленных солонок, перечниц и горчичниц, на столе высилась длинная бутылка венгерского токая.
– Это по какому же случаю? – удивилась и немного даже испугалась, сама не зная чего, Кира Георгиевна.
Николай Иванович загадочно улыбнулся.
– Не догадываешься?
Он старательно разложил крахмальные, белоснежные салфетки возле приборов, потом так же загадочно удалился в свой кабинет и через минуту вышел оттуда, держа нечто квадратное за спиной.
Кира Георгиевна соображала:
– Постой, постой, что ж у нас сегодня такое?
– Неужели не помнишь?
– Не помню.
– А какое у нас сегодня число?
– Бог его знает. Четверг, что ли, или пятница…
Николай Иванович, продолжая улыбаться, торжественно протянул ей то квадратное, что держал за спиной.
– Сегодня, к вашему сведению, четвертое июля, Кира Георгиевна.
Господи, день ее рождения!
Николай Иванович подошел и поцеловал ее в щеку.
– А эту вещь я берег три месяца. Специально в комиссионном на Арбате попросил – как только появится у них Сарьян, оставить мне. Ты же любишь его.
– Люблю. – Кира Георгиевна улыбнулась, посмотрела на очень свежий, солнечный этюд предгорий Алагеза с цветущими вокруг садами и отнесла его к себе в комнату.
«Господи, как все это некстати, – подумала она, кладя картину на стол, – как некстати…» Подымаясь сейчас по лестнице домой, она твердо решила все рассказать Николаю Ивановичу. Тянуть нельзя. Надо говорить сразу и прямо. «И вот, – думала она сейчас с досадой, – как раз сегодня день рождения, Сарьян, торжество, до чего ж некстати…» И в то же время, как часто бывает с людьми, когда надо предпринять какой-то трудный шаг и есть предлог его отложить, Кира Георгиевна внутренне, не признаваясь самой себе, обрадовалась этому предлогу.
«Скажу завтра, – подумала она, – сегодня как-то неловко. А завтра воскресенье, поедем куда-нибудь за город и там обо всем поговорим…» Почему говорить надо за городом, а не дома, было не совсем ясно. Но, так или иначе, решение было принято, и Кира Георгиевна вернулась в столовую приветливой и улыбающейся, как положено имениннице.
Токай оказался очень хорошим (так, во всяком случае, заявил Николай Иванович, тонкий знаток вин), и окрошка тоже, и любимое Килей кисло-сладкое мясо, и вишневый кисель, и оба наперебой расхваливали Лушу, которая по случаю торжества сидела тут же и сияла от счастья.
Пообедав, долго искали место для Сарьяна. Наконец нашли его в столовой, решив перенести в коридор – место изгнания – кем-то подаренную «Ночь в Гурзуфе», слишком традиционную и обоим порядочно надоевшую.
Потом пошли на выставку чехословацкого стекла, часа два бродили по неузнаваемому Манежу, и Кира Георгиевна восторгалась вкусом и умением чехов.
Вечер провели в консерватории – приехал известный немецкий органист, все знакомые говорили, что его обязательно надо послушать. Этого, пожалуй, не стоило делать. За обедом, в поисках места для Сарьяна и потом на выставке Кира Георгиевна немного рассеялась, здесь же, на концерте, где надо было молча сидеть и думать, слушая Баха и Генделя, она почувствовала вдруг прилив жалости и нежности к Николаю Ивановичу. Вот сидит он рядышком в своем сером костюме (на концерты он, страстный любитель музыки, всегда ходил в этом костюме, в нем удобнее, ничто не стесняет), заслонив рукой глаза, внимательно слушает, неслышно притопывая в такт музыке ногой (привычка, от которой никак не мог отделаться), и так ему сейчас хорошо и спокойно, и ничего-то он не знает, а завтра…
Но завтра он тоже ничего не узнал. И послезавтра тоже. И через день, через неделю, через две тоже не узнал.
На следующий день, в воскресенье, им никуда не удалось поехать. Пришел Мишка с каким-то рыжим долговязым приятелем, приехавшим на неделю из Хабаровска, и надо было дать тому приют, потом несколько дней пришлось повозиться со сдачей «Юности», потом не хотелось портить настроение Николаю Ивановичу, который тоже заканчивал свой групповой портрет, потом Вадим уехал в Киев…
В эти дни – Вадим пробыл в Москве дней десять, оформляя свои реабилитационные дела, – все было как-то суетливо. Рано утром Вадим уходил, возвращался поздно – кроме беготни по учреждениям, надо было встречаться с людьми, получать какие-то характеристики, рекомендации. Домой, иными словами, в мастерскую, где он ночевал, приходил около двенадцати, а иногда и позже. Кира Георгиевна тоже много работала, тоже уставала. Виделись мало, урывками.
– Устаю в Москве, – жаловался Вадим. – Ей-богу, больше, чем когда лес рубил.
– Так-таки больше?
– Ну, не больше. Иначе. Отвык от города. Людей здесь много, и все заняты, торопятся…
– На Колыме лучше?
– А ты не смейся, привык я к ней. Ей-богу, привык. Не веришь?
– Что-то не очень.
– Не полюбил, это довольно трудно, но привык. Честное слово. А люблю я только Яреськи. И Псел. Тишину. Никогда там не был, но люблю.
В Яреськах, на Полтавщине, жила его мать, пережившая там войну и оккупацию. Возвращаться в Киев после войны она не захотела: дом разрушен, муж погиб во время бомбежки – зачем ей Киев?
– Она парализована. Живет с моей старшей сестрой. Прислала в Магадан карточку. Трудно узнать. Маленькая, сморщенная. Глаз не видно – карточка дрянная. А глаза у нее чудесные. Я не в мать, я в отца… И вообще, я считаю, надо тебе с ней познакомиться.
Тут они начинали планировать совместную поездку в Яреськи. Недели две, а то и больше, ему придется побегать по киевским учреждениям, выяснить все насчет получения комнаты, потом он ей позвонит или телеграфирует, она приедет в Киев (она ведь тоже бог знает сколько времени там не была), они побродят по городу и поедут в Яреськи. Август там всегда чудесный, и сентябрь тоже. Как раз яблоки будут, у мамы там небольшой садик. Будут купаться в Пеле, есть яблоки, украинский борщ со сметаной, вареники с творогом. Потом…
«Потом» было несколько сложнее, но Кира Георгиевна была оптимисткой.
– Уедем в Киев, и все. Важно, чтоб ты там комнату получил.
– Получу, а как же.
– Значит, жить есть где, это главное.
– А на что?
– Что – на что?
– Жить на что?
– Как – на что? На деньги. У меня там друг есть, Жорка Лыскин. Займу половину его мастерской и буду работать. А ты на киностудии, тоже найдется кто-нибудь из старых друзей. Друзья решают все. Учти.
Вадим смеялся. Ему нравились эти веселые прогнозы («ей-богу, она ничуть не изменилась за эти годы!»), но сам он смотрел на будущее далеко не так оптимистично. Во-первых, он вовсе не уверен, что его примут на студию с распростертыми объятиями. Сохранились ли там друзья – неизвестно, вернее, никого уже нет. Образования специального у него тоже нет.
– Будешь писать сценарии, – сказала Кира Георгиевна. – За них хорошо платят.
Возник и другой вопрос. В Магадане у него сын и мать его сына. Оставлять их там, а самому наслаждаться киевским солнцем и теплом…
– Так отдадим им твою киевскую жилплощадь, – весело перебивала его Кира Георгиевна. – Вот и все. Важно иметь киевскую прописку. Будем снимать за пятьсот рублей комнату. Можно даже не в городе, а где-нибудь в Буче или Ирпене. Это даже лучше, построю себе там мастерскую. Вокруг лес, река, что еще надо?
Одним словом, Кире Георгиевне будущее рисовалось если не в самых, то в достаточно радужных тонах. В свое умение работать и зарабатывать она верила, в Вадима тоже верила – человек, переживший такое, не пропадет. Да и что говорить – самое тяжелое у него позади.
Весь этот радужный оптимизм расцветал всеми красками после полуночи в мастерской, где они встречались после длинного, утомительного, наполненного работой и беготней дня. Кира Георгиевна даже полюбила самую таинственность этих ночных встреч на Сивцевом Вражке. В них было что-то новое, необычное, было что-то где-то вычитанное и в то же время мило-студенческое, от прошлых лет, напоминавшее киевскую «мансарду». Николаю Ивановичу, уходя, она говорила, что идет кончать свою «Юность» (окончание явно затягивалось), брала такси и, забежав по дороге в «Гастроном» на углу Арбата и Смоленской, приходила в мастерскую часов в десять, половина одиннадцатого. Если Вадима еще не было, пыталась работать, поминутно глядя на часы, если же он был, готовила на плитке яичницу или сосиски, которые он уплетал за обе щеки, утверждая, что ничего вкуснее во всю жизнь не ел. Часа в два ночи он отвозил ее на такси до угла улицы Горького и Немировича-Данченко. Там они расставались, Вадим возвращался в мастерскую, а Кира Георгиевна до своего дома шла уже одна. И от всего этого, – от этих встреч, от таинственности, которой они были обставлены, от того, что рядом с ней был Вадим, – она чувствовала себя веселой и счастливой. Лишь сейчас она поняла, что Вадим был для нее не только первым человеком, которого она полюбила, но и единственным, которого она любила. После него любви не было. Было что-то другое…
Как-то – это было в один из самых первых дней после его возвращения – она сказала ему:
– А ты знаешь, я никогда не думала, что могу оказаться верной женой…
– Такая уж верная? – улыбнулся Вадим.
– Ну, не верная, не придирайся к слову, преданная… Вот ты приехал – и мне больше ничего не нужно. И никто – поверишь? – никто.
Сказала и тут же подумала; «Нет, не поверит… Юрочка».
Юрочка… Тут-то, пожалуй, было самое сложное. Или точнее – невыясненное, недоговоренное. Юрочка последнюю неделю не приходил, сослался на какую-то срочную работу. Кира же с Вадимом, точно сговорившись, о нем почти не вспоминали. Так, если к слову придется. И все же он был между ними.
«Нет, с Юрочкой все кончено, – думала Кира Георгиевна, когда оставалась одна. – Славный, хороший мальчик, он мне нравился и нравится до сих пор, но теперь конец. Все. Так прямо и скажу Вадиму – был и нету. Завтра же скажу…»
И ничего не говорила. То ли боялась неожиданной вспышки со стороны Вадима, то ли стеснялась, то ли не верила самой себе. К тому же Кира Георгиевна знала, что они без нее встречались и, кажется, даже понравились друг другу. И, может быть, это сознание, что они в ее отсутствие говорили о ней – а не говорить не могли, она это знала, – может быть, именно это и сковывало ее. Пусть Вадим первый заговорит.
В день отъезда в Киев, на вокзале, когда они прохаживались по перрону, он вдруг сказал ей:
– Знаешь, Киля, что мне хочется тебе сказать? Раз и навсегда.
Она вопросительно, немного тревожно взглянула на него. А он, наклонившись к самому ее уху, тихо сказал:
– Знай, Киля, ничего и никогда я у тебя не спрашивал и спрашивать не буду. И что бы у тебя в жизни раньше ни было, меня это не касается. Понятно тебе?
Кира снизу вверх посмотрела на него.
– И Юрочка? – еле слышно произнесла она.
– И Юрочка…
Тут же, на перроне, она при всех, ни на кого не обращая внимания, привстав на цыпочки, крепко обняла и поцеловала его.
– Ох и дура же я… ох и дура…
Вадим улыбнулся:
– Не смею спорить, – и взялся за поручень вагона: поезд уже дернулся.
– 9 -
Юрочку никто никогда не называл Юрочкой. Называли Юрой, Юркой, иногда Жоркой. Юрочкой же назвала его впервые Кира Георгиевна.
– Почему вы меня так странно зовете? – спросил он как-то ее. – Во мне все-таки восемьдесят три килограмма весу и метр восемьдесят росту.
– А потому, что ты мальчик, – отрезала Кира Георгиевна, и с тех пор он стал Юрочкой.
Со всех точек зрения Юрочка был самым заурядным, нормальным, хорошим парнем. И внешность у него была обыкновенная – в меру симпатичная, простая, в общем привлекательная – таких кинорежиссеры отбирают на роли рабочих парней из бригад коммунистического труда. Как все молодые люди его возраста, любил футбол, знал всех игроков всех команд, в свободное время ходил на пляж, на танцплощадку, ну и, конечно же, в кино. Были у него и знакомые девушки, вздыхавшие по нем, но сам он не слишком увлекался ими, предпочитая посидеть с ребятами или повозиться с мотором.
Как-то – кажется, это было в тот самый вечер в «Арарате» – Кира Георгиевна очень смутила его, спросив:
– Слушай, Юрочка, у тебя есть любовь?
Он не знал, что ответить, он не привык к таким вопросам.
– Ну, девушка? На современном языке это, кажется, так называется.
– Есть, – не очень уверенно ответил он, – а что?
Этим летом он ходил в кино и на танцы с Тоней – красивой, как все говорили, крашеной блондинкой, студенткой института физкультуры.
– И ты собираешься на ней жениться?
– Не думал еще.
– А она?
– Что – она?
– Думает?
– Ну… Все девушки думают.
– А твоя?
– Не знаю. – Юрочка вконец смутился. – Ну что вы от меня хотите, Кира Георгиевна?
– Чтоб ты женился.
Он удивленно взглянул на нее.
– Не понимаю… Почему вам этого хочется?
– А просто так. Все ведь женятся. – И, помолчав, добавила: – Познакомил бы меня с ней.
Он опять удивился – зачем ей это надо, – но она настаивала, и ему пришлось согласиться. Но знакомство так и не состоялось. После всего происшедшего в дальнейшем Юрочке было как-то неловко знакомить их.
Вообще тот вечер в «Арарате» стал чем-то вроде перелома в жизни Юрочки. До этого все, связанное с Кирой Георгиевной, с ее мастерской, с ее мужем, с ее друзьями казалось ему чем-то большим, светлым, незнакомо-притягательным. Он впервые в жизни столкнулся с искусством, с людьми, его делающими, слушал малопонятные споры, листал книги и альбомы, которые показывал ему Николай Иванович, – все это было для него ново, непривычно, заманчиво. Стоя на своих подмостках в мастерской, он дивился тому, как под руками Киры Георгиевны простая глина превращалась вдруг в человека, в него самого.
После «Арарата» все осталось так же и в то же время изменилось. Он по-прежнему приходил в назначенный день и час, по-прежнему выстаивал свои полтора-два часа на подмостках, но светившийся вокруг Киры Георгиевны ореол заметно померк. Она стала приходить в каких-то обтягивающих ее свитерах, работая, напевала или насвистывала довольно фальшиво бодрые песенки, ни с того ни с сего начинала вдруг заливисто смеяться и никак не могла остановиться. От всего этого Юрочке становилось почему-то неловко, и, закончив сеанс, он старался как можно скорее уйти. Иногда ему не удавалось, и от этого становилось еще более неловко.
Появление Вадима Петровича внесло какую-то новую, освежающую струю в его жизнь. Встречались они всего два раза – в мастерской и потом в ресторане, куда его пригласил Вадим Петрович, – но этого оказалось достаточно. Вадим Петрович на своем веку перевидал много людей и умел о них рассказать так, что дыхание захватывало. Но дело даже не в этом – рассказы рассказами, а в той свободной, естественной манере держаться, которая поразила Юрочку еще в первую минуту их знакомства, когда тот, впервые увидев его, сказал, как будто они виделись уже раз сто: «Очень хорошо. Подбреете мне шею». И еще было в Вадиме Петровиче нечто, в чем Юрочка, как психолог не очень опытный, отчета себе не отдавал, но чего не мог внутренне не ощущать. В Вадиме Петровиче не было никакой озлобленности и усталости, на которые он, может быть, и имел право, – напротив, ему все было интересно, все он воспринимал с такой жадностью, что порой казалось, будто ему не сорок три года, а семнадцать-восемнадцать. Особенно забавляло Юрочку, что некоторые вещи, к которым он так уже привык, что даже не замечал их, приводили Вадима Петровича в восторг. Он радовался метро (он видел только первую линию двадцать пять лет назад), радовался его чистоте и четкости (не очень, правда, одобряя пышность оформления), радовался газовым кухонным плитам, широченным мостам через Москву-реку, а когда увидел мотороллер, минут двадцать разговаривал с его владельцем и даже прокатился квартала два. А вот уничтожение бульваров на Садовом кольце его так огорчило, что он несколько раз возвращался к этому; «Подумать только, такие деревья там росли, такие деревья…»
После ресторана они долго еще бродили по ночной Москве, потом до самого утра просидели в мастерской.
В первую их встречу разговор шел главным образом о Кире Георгиевне. Поначалу Юрочка даже растерялся, узнав, что она была женой Вадима Петровича, но тот, заметив Юрочкино смущение, только улыбнулся: «Не пугайся, на дуэль не вызову», – и стал что-то рассказывать о своей и Киры Георгиевны молодости.
Во вторую их встречу разговора о Кире Георгиевне не было. Об искусстве тоже. Говорили о жизни, о том, о чем Юрочке никогда и ни с кем не приходилось говорить так до сих пор. А Вадим Петрович умел не только рассказывать, но и слушать, и не только слушать, но и заставлять других рассказывать.
И Юрочка заговорил. Впервые в жизни.
Вот ему скоро двадцать три года, он молод, здоров, а что он видел? За пределы Москвы дальше Можайска и Александрова никуда не ездил. Даже в Ленинграде не был, а туда только ночь езды… Когда взяли в армию, мечтал о флоте, а попал в зенитчики. Сейчас работает электриком, ползает целый день по стенам да потолкам, как паук, проводку тянет. Другие в его возрасте и в Берлине побывали и черт знает еще где («Кое-кто и голову там положил», – перебил его в этом месте Вадим Петрович, но он тут же ответил: «Положили, знаю, но было за что положить»). Так вот, другие по белу свету дай бог поездили, а он – Лужники, Мневники, Черемушки, Хорошевское шоссе… Нет, он не жалуется, упаси бог, только бы Вадим Петрович не подумал этого. У него товарищи есть хорошие, и на работе к нему относятся неплохо – вот даже недавно профоргом выбрали, а он в этом СМУ и года еще не проработал. Но разве в этом дело? Вот Ванька Щеглов. Только что из Уссурийского края приехал. Поехал на год, а сейчас назад туда же – навсегда, говорит. В «Союзпушнине» устроился. В тайге был. Такого рассказывает! Живых тигров видал. Даже стрелял по ним…
– Ну вот и ты поехал бы туда.
– А мать, а сестра? – Юрочка печально ухмыльнулся. – Был бы отец. А его нет. Я вам говорил, в катастрофу попал. В позапрошлом году, семнадцатого мая. Он «МАЗ» водил. Я тогда еще в армии служил. Вернулся, а его уже нет… А старик хороший был. На вас похож. Только повыше и пошире. Вот так-то… – Юрочка помолчал. – Потому и учиться после армии не пошел. Вальке-то, сестренке, и пятнадцати еще нет, тянуть все мне приходится. А учиться не прочь, ей-богу, не подумайте. Вот Николай Иванович, муж Киры Георгиевны, тоже предлагал устроить…
Тут Юрочка запнулся и вдруг смутился. Наступила пауза. Вадим Петрович встал, подошел к крану, напился воды, потом спросил:
– Тебе нравится Николай Иванович?
– Нравится, – подумав, ответил Юрочка.
– Чем же он тебе нравится?
Юрочка пожал плечами:
– Не знаю. Просто так. Хороший он. Простой.
– А к Кире хорошо относится? – помолчав, спросил Вадим Петрович.
– Хорошо.
Тут Юрочке захотелось рассказать о Тоне, но Вадим Петрович, точно почуяв, о чем он думает, неожиданно сам спросил:
– Слушай, а девушка-то у тебя есть?
И Юрочка, так же, как тогда, когда спросила его Кира Георгиевна, ответил:
– Есть, а что?
Вадим Петрович потянулся, взглянул в окно.
– Ладно, Юрий, давай спать. Светает уже. Ты на чем будешь – на диване или раскладушке?
– 10 -
В конце июля «Юность» была благополучно принята всеми инстанциями. Через несколько дней от Вадима пришла телеграмма до востребования: «Поздравляю жду».
И Кира Георгиевна поехала в Киев.
Она действительно очень устала, поэтому, когда сообщала Николаю Ивановичу, что за последние две недели «дико вымоталась» и хочет поехать куда-нибудь отдохнуть, это была правда – ей на самом деле нужен был отдых.
– Хочу в Киев съездить. Все-таки я там с сорок первого не была, – сказала она и из вежливости, зная, что он откажется, добавила: – Может, и ты туда приедешь?
– Да нет уж, поезжай одна, – улыбнулся Николай Иванович. – Я тебе только мешать буду. У тебя там друзья, знакомые. А мне тут еще порядком с портретом повозиться надо.
На следующий день она уехала. Провожал ее один Николай Иванович, но в последнюю минуту появился у вагона Юрочка. Лицо у него было смущенное, по глазам было видно, что ему нужно что-то Кире сказать. И действительно, когда Николай Иванович отошел к киоску за папиросами, он быстро шепнул ей:
– Там у проводника пакетик небольшой. Это Вадиму Петровичу.
Кира Георгиевна удивилась, но промолчала.
– Ну, садись, зеленый зажегся, – сказал Николай Иванович и поцеловал ее в щеку. – Изредка, но пиши все-таки, хотя бы открыточки. Они у тебя в кармашке, в чемодане.
Поезд тронулся. Кира Георгиевна высунулась в окно и помахала рукой. Николай Иванович и Юрочка тоже махали. Они двигались вдоль поезда, один враскачку, тяжелой походкой сердечника, другой бегом, обгоняя провожающих, потом, когда перрон кончился, они остановились, и такими, стоящими рядом и машущими, они надолго запомнились Кире Георгиевне – рыхлый, с опущенными плечами Николай Иванович и загорелый, с засученными рукавами Юрочка.
Кира Георгиевна долго стояла у окна – в купе укладывали ребенка, – смотрела на проносившиеся мимо дачные поселки, на будки путевых обходчиков, на выложенные из кирпича надписи «Миру – мир», и было ей почему-то невесело. Почему?
Она едет в город своего детства, в город, в котором выросла, провела лучшие дни, едет к человеку, который ее ждет, которого она любит, – и ей невесело. Вот придет сейчас Николай Иванович домой, и встретит его Луша, и спросит, какого варенья ему к чаю дать, и он, чтоб не обидеть ее, скажет «вишневого» или «яблочного», но выпьет только полстакана, к варенью же не притронется и пойдет в кабинет работать. Но и с работой не выйдет, он ляжет на диван, поставит на стул пепельницу и возьмется за нечитаные «Юманите», которых накопилось уже недели за две, потом опять попытается работать, в конце концов примет двойную порцию люминала и утром проснется усталый, вялый, с неприятным вкусом во рту. А она в это время будет подъезжать к Киеву, где у нее, как он сказал, много друзей и знакомых. Может, послать ему сейчас телеграмму? Просто так, с дороги, ему будет приятно… Ведь ее письма и открытки (а сколько их было за эти годы? Штук пять всего или шесть), даже телеграммы он бережно хранит в специальной папке, лежащей в «самом важном», левом ящике его стола… Как дорог ему каждый знак внимания с ее стороны. И как, в сущности, редко видит он внимание. А ведь кто, как не он, заслужил его. Кем бы она без него была? Кто научил ее работать? Кто превратил ее, ветреную, разбрасывающуюся во все стороны девчонку-студентку, в профессионала-скульптора? Кто сумел внушить, что искусство – это не развлечение, а тяжелый, упорный труд, и кто привил ей любовь к труду? А чем она отплатила? Любовью? Неправда. Если говорить начистоту, настоящей-то любви между ними никогда и не было. Да он и не очень ждал ее. Ласка, внимание, забота – вот что ему нужно. Чтоб рядом был человек, друг, кто-то, о ком и он мог бы заботиться. Ведь он по призванию своему учитель, наставник. Пусть он художник, признанный даже художник, но главное для него – это кого-то воспитывать, направлять на путь истинный. Вот и Юрочку он уже куда-то направляет, чему-то учит, «прививает вкус», как он сам говорит, даже хочет устроить в какой-то университет культуры. И ее он учил. И, кажется, она была неплохой ученицей. И не только ученицей, но и другом-женой была. И другом навсегда останется. Но что поделаешь, если, кроме всего этого, есть еще жизнь. Вот такая, какая она есть, – запутанная, сложная, полная противоречий и неожиданностей. Появился Вадим. Это уже не эпизод! Это ломка, перестройка всего. В ее жизни появление Вадима – самое существенное, самое важное, и Николай Иванович не может этого не понять. И он поймет – она знает…
Так, стоя у окна, рассуждала Кира Георгиевна, как всегда приходя в конце концов к выводу, что все, что она делает, верно и что другого выхода у нее, да и у других, нет и быть не может. Только потом, засыпая на второй полке – на нижних спали уже мать с ребенком и какой-то старик на костылях, – она спохватилась, что так и не послала Николаю Ивановичу телеграмму, но тут же подумала: «Ничего, завтра прямо с вокзала пошлю», – и, повернувшись спиной к окну, закрыла глаза и равномерно задышала, чтоб скорее заснуть.
А Николай Иванович в это время действительно пил чай. И действительно, когда пришел, Луша спросила его, какого варенья подать, и он сказал «вишневого». Но пришел он не один, пришел с Юрочкой.
– Может, заедем ко мне? – нерешительно сказал он, когда они вышли с вокзала. – Неприятно как-то в пустой дом приходить. А я вам свой групповой портрет покажу. Не получается что-то. Свежий глаз нужен.
Отказаться было нельзя. Поехали.
В этот вечер Николай Иванович разговорился. Показывал свои старые рисунки и эскизы, один из них даже подарил Юрочке. Тот аккуратно свернул его в трубку и все время держал в руках. Ему хотелось уйти, посидели и хватит, он чувствовал всю фальшь своего положения, но Николай Иванович вынимал все новые папки, одну даже из дивана вынул, и все показывал, показывал…
– Вот так, Юрочка, и проработал я всю жизнь. А это ведь только часть. Почти все, что до войны сделал, погибло. Только эта вот папка чудом сохранилась. Каким-то образом попала в институт, а там ее почему-то не выкинули. – Он развернул папку. – Это портрет моего сына. Когда еще в школе учился. Потом стал лейтенантом, артиллеристом. И тоже рисовал. Между прочим, что-то у него с вами общее. Сам не пойму – то ли улыбка, то ли выражение глаз. Вот сидели вы сейчас за чаем, и я вдруг подумал – совсем Юра, его тоже Юрой звали…
Он показал рисунки сына – несколько портретов, очевидно товарищей по школе, крымские пейзажики, кипарисы, горы, море («это когда он был в Артеке»), звери в зоопарке.
– Способный был мальчик. Мог бы получиться настоящий художник. Именно настоящий…
Николай Иванович стал говорить о сыне. И в рассказе этом чувствовалось, что Юра был для него не только любимым сыном, – в пытливом интересе мальчика ко всему окружающему он ощущал что-то очень нужное для себя как художника. Они были необходимы друг другу. Отец воспитывал, сын вселял бодрость, свежесть взгляда на жизнь.
– Когда он погиб, ему было столько, сколько вам сейчас. Почему-то уверен, что вы с ним сошлись бы. И Кира подружилась бы с ним, хотя она дама несколько сумбурная, а он был тихий, молчаливый. Совсем не представляю себе, как он там командовал своей артиллерией. – Николай Иванович захлопнул папку, завязал тесемки. – А сейчас ему было бы сорок лет… Подумать только, сорок лет.
Прощаясь, он крепко пожал Юрочке руку.
– Заходите, всегда буду рад, честное слово. Надоели мне что-то художники. И сам себе надоел. Приходите, ей-богу…
Но Юрочка решил больше не приходить, хотя ему нравился Николай Иванович. А может быть, именно поэтому.
– 11 -
Все время, что Кира Георгиевна провела в Киеве, дней пять или шесть, она чувствовала себя странно. Родное и в то же время чуждое… Еще когда поезд проезжал по мосту через Днепр и она увидела Лавру (колокольня сейчас была в лесах), что-то екнуло в сердце. Потом проплыли за окном колючие башни костела, но вокруг них выросли новые, незнакомые здания, и Кире они показались чужими. Чужим показался и Крещатик. Он стал шире, торжественнее, с одной стороны появился красивый бульварчик из каштанов, но, что поделаешь, старый и в общем-то не очень красивый Крещатик с его дребезжащими трамваями и гранитной мостовой был ей куда милее.
Они бродили с Вадимом по городу и все вспоминали (старость уже!), все подмечали.
А помнишь, мы здесь простояли всю ночь (тогда эта школа была двухэтажной, сейчас ее надстроили, а тут стоял киоск с сельтерской водой), потом пошли по Пушкинской, по Михайловскому проулку, спустились по лесенке, и ты читал свою поэму (нет, не поэму, я читал тогда стихи, цикл стихов, они назывались «За морем соленым, зеленым», и тебе это название не понравилось, ты сказала, что представляешь себе море в виде зеленых щей, помнишь?), а потом попали на Владимирскую Горку и сидели на ступеньках памятника, и ты, дурак, выцарапал там дату (а ты – инициалы, пойдем проверим?), потом ты меня поцеловал (вот это правда!), и назад мы шли, когда уже поливали улицы. У нашего парадного встретили соседку, старую Каганшу, которая шла в очередь за маслом, и мы оба стали ей мило улыбаться, чтоб задобрить ее. Жива ли она? Дом сгорел, его восстановили и выкрасили в белое, как почему-то все дома теперь в Киеве, с каким-то желтоватым оттенком.
И вот они снова бродят по городу, и им кажется, что им все еще по двадцать лет. Они нашли свою мансарду. Постучались, вошли. «Вам кого?» – «Простите, мы когда-то здесь жили». – «Но там не убрано…» – «Ничего, мы сейчас уйдем». В комнате жило четверо, обоев не было, стены крашеные, а в окно все тот же вид, крыши, крыши, крыши, только сейчас их стало больше и появились телевизионные антенны. Они потоптались, потоптались и ушли – «простите за беспокойство».
Жили они теперь в гостинице «Украина» (когда-то она называлась «Палас»), на углу Пушкинской и бульвара Шевченко. Вставали рано и по тихому городу отправлялись странствовать.
Москва осталась где-то далеко-далеко, о ней не вспоминали, бродили по уличкам окраин, заходили во дворы (по воскресеньям обитатели старых, покосившихся домиков играли в «подкидного» среди развешанного белья), потом садились в автобус и ехали за город, куда глаза глядят…
Старых знакомых почти не было. Во всяком случае тех, которых хотелось бы видеть. Кое-кто нашелся на киностудии, и действительно они помогли Вадиму заключить договор на сценарий, но сходиться с ними ближе почему-то не хотелось. Только одна встреча, случайная, на улице, по-настоящему взбудоражила Киру. В очереди на троллейбус она встретила Лиду Дмоховскую. Когда-то они учились вместе в институте, на одном курсе. Можно сказать, даже дружили. Потом Лида внезапно как-то вышла замуж, вскоре родила, институт бросила – с тех пор они не встречались. Двадцать лет назад это была красивая, кокетливая блондинка, за которой неотступно следовала вереница молодых людей, сейчас с Кирой разговаривала пожилая, совсем седая женщина.
– Зашла бы как-нибудь, – сказала Лида. – Мы все там же живем, мама будет очень рада. Она помнит тебя. И дочку посмотришь. Студентка уже…
И Кира зашла.
Они просидели целый вечер. Пили чай с принесенным Кирой шоколадным тортом, рассматривали старые фотографии, старались вспомнить порой уже забывшиеся фамилии друзей. В углу, склонившись над столом, чертила Лидина дочка – Оля, высокая, застенчивая, за весь вечер не проронившая ни слова. На тахте, к которой был придвинут для чаепития круглый стол, лежала больная Лидина мать, очень похожая на дочь, – вернее, дочь с возрастом стала походить на мать. До войны Людмила Васильевна была одним из самых популярных врачей города. Сейчас она перешла на пенсию. Когда-то очень деятельная и подвижная, она не подымалась с постели. Заболела еще при немцах – эвакуироваться им не удалось, – и два с лишним года, с маленькой Олей на руках, они провели в оккупации.
Сейчас они жили втроем – мать, дочь и внучка. Муж Лиды погиб на фронте. Лида работала в газете корректором. Оля училась в строительном институте. Ее стипендия и пенсия Людмилы Васильевны вдобавок к Лидиному заработку давали им возможность сводить концы с концами. После войны Людмила Васильевна еще работала, последние годы уже не вставая с постели (она была консультантом ВТЭК и принимала на дому), но платили за эти нечастые приемы не много. Просто она не могла жить без работы – проработала ведь без малого шестьдесят лет.
Все это Лида рассказала Кире, провожая ее потом до троллейбуса. Рассказала и об оккупации. Оказывается, немецкое командование трижды вызывало Людмилу Васильевну к себе и предлагало заведовать терапевтическим отделением офицерского госпиталя. Трижды Людмила Васильевна отказывалась, ссылаясь на старость. Ее арестовали. Вскоре, правда, выпустили – продержали дней десять, не больше, но вспоминать о них она не любила. Вот тогда-то, возвращаясь домой, она упала (улицы не убирали, гололедица была страшная), сломала шейку бедра и с тех пор уже не подымается.
Всю ночь после этого визита Кира ворочалась с боку на бок. Господи, до чего же тягостным был вечер! Все время Кире казалось, что она говорит невпопад, рассказывает, о чем не следует. Зачем было, например, вспоминать о своей прошлогодней поездке в Италию? Лида даже отпуска в тот год не брала, заменила денежной компенсацией, чтоб купить дочери зимнее пальто. А Кира гуляла по Флоренции, Венеции, привезла краски, кисти, набор инструментов. Глядя на жалкую обстановку, на покосившийся, изъеденный шашелем шкаф, Кира вспоминала финскую мебель, за которую они с Николаем Ивановичем заплатили бешеные деньги. А этот принесенный Кирой торт, которому так обрадовалась Людмила Васильевна? А Лидин взгляд, когда Кира попыталась предложить ей тысячу рублей? («В долг, в долг, конечно, не пугайся…»)
Весь следующий день был какой-то тоскливый, никуда не хотелось идти. Вечером Кира сказала Вадиму: «А может, хватит Киева? Мне что-то захотелось в Рио-де-Жанейро». И они поехали в Яреськи.
В день отъезда Кира спохватилась, что так ничего и не написала Николаю Ивановичу. В чемодане у нее лежал десяток открыток, на которых он сам надписал свой адрес, она взяла одну из них и размашистым почерком набросала:
«Милый Коля! Прошла уже неделя, а я только сейчас пишу тебе. Устала. Постепенно отхожу. О Киеве расскажу при встрече – ощущение сложное. Как подвигается твой портрет? Привет Луше и всем друзьям. Целую. Твоя Киля».
Больше до возвращения в Москву она ничего выжать из себя не могла – для Киры и эта открытка была уже подвигом.
– 12 -
Август был на исходе – месяц яблок, падающих звезд, последний счастливый месяц школьников. Дни стояли не жаркие, но солнечные, ясные, удивительно прозрачные – первый признак надвигающейся осени.
Вадим любил эту пору года. Особенно утра. Встанешь рано, чуть подымется солнце, и, поеживаясь, босиком, по мокрой траве – к речке. А речка спокойная, прозрачная, тихая. То тут, то там рыбаки – молчаливые, сосредоточенные. Выберешь местечко подальше от них, чтоб не пугать рыбу, зеленый обрывистый бережок, скинешь майку и трусы – и с разбегу головой в воду. До чего же хорошо! Утра уже прохладные, и вода кажется удивительно теплой, вылезать не хочется. А потом сидишь на берегу, затягиваясь первой папироской, и такая она вкусная, так приятно ее курить, поджав колени к животу, глядя на стрекоз, на первые беленькие, зарождающиеся на твоих глазах над дальним лесом тучки… А дома, на увитой диким виноградом (он уже краснеет) и «кручеными панычами» (они уже отцветают) маленькой веранде, тебя ждет кубик творога, стакан желтовато-розовой ряженки с золотистой корочкой и кипящая на сковородке глазунья с салом и зеленым луком.
Кира еще спит, Варя – старшая сестра – возится в огороде. Завтракает с ним только мама. Она очень постарела, почти не ходит. Читает. Очень много читает. Причем обязательно новое. Дима прислал ей еще из Киева книг, в том числе воспоминания Панаевой и несколько комплектов «Русской мысли» за восьмидесятые годы – старики любят перечитывать старое. Мать была очень растрогана, поблагодарила, поцеловала в лоб, а потом сказала:
– А новенького ничего не привез? Сейчас пишут, конечно, не так, как раньше, но ты все-таки, когда приедешь в другой раз, привези.
Он выписал ей «Правду», «Литгазету», «Новый мир», «Знамя», даже «Вопросы литературы», очистил в Миргороде на вокзале чуть ли не весь книжный киоск, и она с увлечением, хотя иногда и поругиваясь, все это читала. Кроме того, она слушала радио и в последние месяцы, когда кончились в приемнике батареи, очень скучала. Сейчас они появились, прислал Юрочка с Кирой – тот самый пакет, о котором он шепнул на вокзале, – и Марья Антоновна совсем ожила. Она слушала все концерты, все художественные передачи, но важнее всего для нее были последние известия. Она не пропускала ни одних, начиная с шести утра, а прослушав, принималась задавать Диме вопросы, на которые он не всегда мог ответить. Когда же, случайно прочитав какую-нибудь заметку или прослушав передачу, он начинал высказывать критические замечания, она сразу же вступала в спор и проявляла такое упорство в отстаивании своей точки зрения, что Диме ничего не оставалось, как умолкать и сдаваться перед «своей передовой старушкой», как он шутя называл мать.
Марья Антоновна никогда не расспрашивала сына о годах его заключения. Как будто их и не было. Если начнет рассказывать, вечером как-нибудь после чая, она возьмет свое вязанье и молчит. Слушает, но молчит. Так было и в самые первые дни их пребывания здесь. Потом он перестал рассказывать. Кира, слушая его рассказы, тоже больше молчала, иногда только вставит какой-нибудь вопрос. Внимательнее всех была Варя – за столом она, правда, тоже только слушала, зато, когда они вдвоем попадали на огород, вопросам ее не было конца.
Варя была человеком замкнутым, молчаливым и работящим. Работала она в школе учительницей. Дети почему-то ее не любили, хотя она не была ни строгой, ни злой, ни слишком требовательной. Все свободное от школы время занималась хозяйством. Ее длинную, сухощавую, нескладную – «незграбну», как говорят на Украине, – фигуру всегда можно было видеть на огороде, или во дворе, или на речке, где она полоскала белье. Вставала она раньше всех, ложилась позже всех. Ни на что никогда не жаловалась. Мать и брата любила до беспамятства. Жизнь у нее сложилась неинтересно. Когда-то в юности она тайно была влюблена в красивого, с усиками, сослуживца своего отца, но он был старше ее, не обращал на нее внимания, а потом погиб на фронте. Память о нем она молча хранила до седых волос.
Она была молчалива и застенчива. Только с матерью и Димой чувствовала себя свободно. И Дима это ощущал и благодарен был за это. Странное дело – именно здесь, на огороде, помогая сестре окучивать картошку, он чувствовал себя легче всего. Он мог говорить или не говорить – его дело. Когда он рассказывал о своих мытарствах другим, ему вдруг начинало казаться, что он на что-то жалуется, старается своих слушателей удивить чем-то, а он не хотел ни жаловаться, ни удивлять, и только здесь, наедине с Варей, ему удавалось просто рассказывать о тех людях, с которыми его свела судьба в тайге, на шахтах, золотых приисках…
– А почему ты обо всем этом не напишешь? – спрашивала по-детски наивная, несмотря на свои пятьдесят лет, Варя.
Дима только улыбался. Еще в ссылке он написал небольшой рассказик о попавшем к ним в лагерь лисенке, но в редакции журнала, в которую он отважился зайти, только развели руками, но, так как способности у автора все же нашли, предложили командировку в один из передовых колхозов. Но что знал Вадим о колхозах, как мог о них писать? В колхоз он не поехал, а пошел с горя в ресторан. Там он и встретил ребят с киностудии, которые уговорили его в конце концов заключить договор на сценарий из жизни рыбаков, узнав, что рыбой он на Севере тоже занимался.
Каждый день после завтрака Вадим брал папку с бумагой, подушку, одеяло – старое-престарое клетчатое одеяло, которым он еще в детстве укрывался, и укладывался в саду под старым, развесистым, единственным на всю округу дубом (говорили, что ему более трехсот лет и что под ним, таким же, какой он сейчас, писал в свое время Гоголь).
Зачем он взялся за этот сценарий? А черт его знает! Они с Кирой в Москве что-то там говорили о сценарии, но серьезного значения он этому не придавал – так, рисовали радужное будущее, – и вообще, строя планы «яреськиной осени», они решили в Яреськах только отдыхать и набираться сил. И вдруг действительно подвернулся этот сценарий о рыбаках. Последние два года в ссылке Вадим работал табельщиком – работа не ахти какая увлекательная, – а тут столичная студия, договор, солидные беседы… Ну как не взяться? И взялся. И начал работать. А работа не шла.
Над головой шумели листья, пробегали облака, с дуба падали иногда желуди, и ни о чем думать не хотелось, а хотелось вот так вот лежать и смотреть в небо, и на дятла, и на белочку, а потом, перевернувшись на живот, следить за толстой, глупой, мохнатой гусеницей или за не менее глупым и старательным муравьем с соломинкой.
Потом приходила Кира.
– Хватит. Пошли на речку.
И они шли на речку.
В Москве Вадим купил себе хороший фотоаппарат, и здесь, на берегу живописного Пела, он беспрестанно щелкал пейзажи – восходы и заходы солнца, клубящиеся над лесом тучи, отражающиеся в тихой воде ивы. По вечерам он пропадал в школе до двенадцати, а то и до часу, проявляя и печатая. Нет более успокаивающего занятия, чем фотография. Да и уж больно красиво было вокруг – в тундре Вадим отвык от такой красоты.
В первые дни Вадим ходил в соседний совхоз. Как и в Москве, ему было все интересно – как люди устроились, как живут. Ведь от всего этого он был так долго оторван. Но тут же ему становилось неловко за свою, как ему казалось, праздную болтовню и любопытство, и он возвращался назад, к своему дубу.
Так прошло две недели. Оба загорели и поправились. Кира лепила из пластилина деревенских ребятишек. Вадим писал сценарий. В общем, все как будто шло чин чином.
Но это было не совсем так.
Вадима смущало отношение матери и сестры к Кире. Правда, пожаловаться на то, что они относятся к ней дурно, он не мог. Внешне все было очень хорошо. И все же Вадим чувствовал, что Кира здесь как-то не пришлась ко двору. Когда они с ней на машине подъезжали к Яреськам, он немного волновался – как мать и сестра встретят ее? Ведь они не знакомы, увидятся впервые. В тридцать шестом году он рассорился с отцом – строгим, деспотичным, не желавшим мириться с кинематографическими, на его взгляд несерьезными, увлечениями сына, – и с того самого дня он не видал ни отца, ни матери, только с Варей изредка встречался, и то не у себя дома. Как-то теперь все произойдет?
В самый день приезда в Яреськи все было как будто хорошо. Чуть-чуть, возможно, напряженно, но Вадим, объяснял это тем, что мать боится дать волю своим чувствам. Потом, на следующий день, появился холодок. Нет, даже не холодок – сдержанность. И Вадим понял: Кира не понравилась. Сначала ему казалось, что причиной всему была бойкость Киры, ее манера безапелляционно обо всем рассуждать. Но потом стало ясно, что дело не в этом.
По каким-то случайно оброненным фразам, по тому, как Марья Антоновна в те утренние часы, когда они вдвоем завтракали на веранде, расспрашивала его о Вовке, о Марии, он понял, что мать не одобряет его возврата к прошлому. И не ошибся. Марье Антоновне незнакомая ей Мария, с которой ее сын встретился в тяжелые для них обоих годы и прошел нелегкий путь, была ближе и роднее, чем эта крашеная молодящаяся столичная дама. К тому же у Вадима есть сын. Марья Антоновна давно мечтала о внуке.
Варя была на стороне матери, это было ясно, хотя так же, как и та, словами своего отношения к Кире не выражала. О Кире в доме вообще не говорили.
Вадим все это чувствовал и тоже ничего не говорил. Он пытался себя убедить, что со временем все как-то само по себе притрется, и в то же время боялся, как бы и Кира не почувствовала того, что было на самом деле.
Первые дни в Яреськах Кире было хорошо и весело. Речка, солнце, чистый воздух, Москва далеко, торопиться некуда, никто ни с чем не пристает. К тому же была маленькая, чистенькая отдельная комнатка, и никого не надо обманывать (как это было в Киеве, в гостинице). Одним словом, поначалу все было хорошо. Потом безделье несколько надоело – Кира стала лепить. Потом обнаружилось, что ее раздражает Варя – и все-то она работает, все работает, уж не демонстрация ли это? Вот вы, москвичи, ни черта, мол, не делаете, а мы, деревенские, с ног сбиваемся, ни на что времени не хватает. Как-то Кира предложила Варе помочь ей в огороде, но та довольно сухо отвергла ее предложение, и, возможно, именно с этого момента и невзлюбила ее Кира. А может, и за то еще, что Димка часами пропадал на огороде. Сестра? Ну так что ж? Можно и к сестре ревновать. Правда, Кира и себя кое в чем винила. Однажды, во время обеда, после какого-то интересного, но довольно длинного Димкиного рассказа о ссылке, она, как ей тогда показалось, очень к месту привела прутковский афоризм о том, что три дела, раз начавши, трудно кончить: вкушать хорошую пищу, беседовать с возвратившимся из похода другом и чесать, где чешется. Сказала и тут же пожалела. Юмор ее (а ведь она сказала это в шутку, ей-богу, в шутку!) не дошел до Вадима – он явно обиделся.
В тот же вечер, когда они укладывались спать, произошел разговор. Разговор очень краткий, но оставивший после себя след. Собственно говоря, это был даже не разговор, а скорее монолог, произнесенный Кирой и вызвавший со стороны Вадима одну только фразу в ответ. Начала она с признания, что во время обеда действительно не очень удачно сострила, но все же не злоупотребляет ли он своими рассказами о ссылке? Только расстраивает Марью Антоновну и Варю. И не только расстраивает их, но и себя самого – эти рассказы возвращают его к прошлому, от которого надо все-таки как-то отдаляться, стараться поменьше о нем думать, а думать о будущем, смотреть вперед… В этом месте Вадим перебил ее, сказал; «Ладно, с завтрашнего дня буду смотреть вперед», – и повернулся лицом к стенке.
На следующий день, сразу после завтрака, Кира пошла в лес собирать грибы (до сих пор она не проявляла к ним никакого интереса) и битых три часа слонялась в одиночестве по лесу, мысленно осуждая Вадима. Нет, она не осуждала его, ей просто было обидно, что он стал таким. Хорошо, все понятно, двадцать лет и тому подобное, но нельзя же все сводить к одному и тому же. О чем бы кто ни заговорил, он сейчас же вспоминает какую-то историю из «тех лет», может быть и подходящую к тому, о чем шел разговор, но обязательно «из тех лет». Передают по радио «Аппассионату» Бетховена. Молчит, слушает, а потом оказывается, что она ему напомнила какого-то Веньку Штока или Штука, который исполнял ее в лагере на вечере самодеятельности, а потом потерял правую руку – история, которая довела Варю до слез. Но дело даже не в этом. Это можно понять – все еще слишком свежо, не успело зарасти, стоит перед глазами. Дело в другом, гораздо более сложном: Димка стал другим.
Да, стал другим. Внешне как будто тот же, прежний, – глядя на него на пляже, она просто поражалась, как он сумел сохраниться. Многие приезжают развалинами, изъеденными болезнями. Видала она и здоровых телом, но ставших вдруг как-то натужно сверхправоверными: «Мы-то уж на себе все испытали и скажем прямо: некоторых – нас, например, – зря посадили, но в общем сажали правильно, надо было в те годы сажать, тяжелая необходимость…» Видала и таких, которые как бы законсервировались, вернулись, какими ушли, и ко всему новому, что появилось, относились без интереса и недоверчиво. Ни на тех, ни на других Вадим не походил. Поражало в нем другое – полный разрыв с тем, что было прожито ими вместе до его ареста. Это прошлое как будто для него не существовало. А если существовало, так только как нечто милое, забавное, трогательное, как все, идущее от детства. Да и то этого «умиления прошлым» у него хватило всего на несколько дней – тех дней, что они провели вместе в Киеве.
Когда-то он писал стихи, пусть с выкрутасами (что поделаешь – Молодость!), но, ей-богу, не банальные и определенно говорившие о таланте автора. Сейчас же, когда она как-то вскользь спросила, не скучает ли он по поэзии, он только рукой махнул: «Смотря по какой… И как. А в общем, этим делом предпочтительно заниматься до двадцати, ну до тридцати лет». А прозой до скольких? «Возможно, и всю жизнь. Но с ней посложней. В ней-то уж дымку не подпустишь. Она не переносит пиротехники… Впрочем, поэзия тоже». Что он хотел этим сказать? Не объясняя, только плечами пожал. Вообще он стал ужасно неразговорчив. Особенно если речь зайдет о чем-нибудь отвлеченном – об искусстве, например. «Да», «Нет», «Может быть», «Тебе так кажется?»… Если же выскажется более определенно, то всегда с оттенком какой-то снисходительности человека, познавшего все на своем веку, – этакий, видите ли, верховный судья: я, мол, давно уже во всей этой неразберихе разобрался – суета сует. А на самом деле не только не разобрался, а начисто оторвался от современной жизни, подходит к ней со своими ни к чему не подходящими мерками.
Были они, например, на выставке в Киеве. Молча ходил по залам, засунув руки в карманы, а потом сказал: «И почему все праздник да праздник? Празднуют свадьбы, играют в снежки, поют песни. Работают играючи, без напряжения. Воюют и то без труда…» Она подвела его тогда к картине, где изображены были похороны краснофлотца. Почетный караул, краснофлотец укрыт знаменем, над ним, склонившись, вся в черном, мать. Он назвал картину «пышным спектаклем».
– Я не был на войне, но смерти видал. Они проще и, я бы сказал, серьезнее.
Ясно и безапелляционно. В этом весь сегодняшний Вадим. Ни с чем не хочет считаться. Ни с тем, что за последние годы пусть еще робко, пусть неуверенно, но появилось в искусстве наконец «человеческое», что все меньше и меньше на выставках официальных полотен, что молодежь стала не только подражать, но и искать. Всего этого он не замечает. Что развитие искусства процесс сложный, требующий не только сил, но и времени, – этого он тоже не видит. А как он иронизировал, когда посмотрел фильм «Судьба человека». «Вот, пожалуйста, режиссер не побоялся, рассказал о нелегком, заставляющем думать. Солдат и брошенный всеми мальчик бредут неизвестно куда. Позади – страдания, да и впереди пока еще не все ясно. Без этой концовки не было бы настоящего смысла в картине. Поэтому она так и берет за душу…» И как она ни пыталась убедить его, что смысл картины не в этом, а в том, что герой сумел преодолеть все то, что он преодолел, Вадим не слушал и твердил одно: «Празднички-то изображать куда спокойнее».
И сам теперь, после всех этих разговоров, бегает до завтрака или после ужина с фотоаппаратом на речку и снимает восходы и заходы солнца или валяется под своим гоголевским дубом, уставившись в небо, и делает вид, что пишет сценарий.
Со сценарием тоже, в общем, ерунда какая-то получается. Третью неделю уже здесь, в Яреськах, а за все время написал десятка два страничек, да и то одного «нащупывания», как он сам признался. Не пишется, мол. Ему, видите ли, не нравится режиссер, его позиции, взгляды. «Тебе, говорит, важно сейчас пролезть, укрепиться как сценаристу, доказать, что можешь, поэтому не хорохорься, не открывай Америк, не проблемничай, а работай как положено – не опаздывай к сроку, прислушивайся к голосу кинообщественности, из десятка поправок с восемью согласись, а две отвергни – это, мол, против моих принципов…»
В этом месте – с Кирой это часто случалось – она вдруг забила отбой. Вспомнила рассказ одного писателя: молодой человек строил свою жизнь тоже на том, что надо сперва на ноги встать. Она подумала: и прав Димка, и пусть пишет, как ему хочется, и плевал он на этого режиссера, и вообще пусть отдыхает. Месяц, два, три, сколько нужно. Пусть занимается съемками, проявлением, пусть говорит, что влезет в голову, пусть молчит, спит – одним словом, пусть делает что хочет. А она, дура, вчера еще поучать его стала – надо так, а не так, надо вперед смотреть… Дура…
Домой она пришла повеселевшая, хотя и с пустой корзинкой – на дне болталось десятка полтора грибов, из которых, как оказалось, только один был съедобным.
Вадим сидел на веранде в одних трусах, чинил стул. Во рту у него были гвозди. Не разжимая губ, сказал, кивнув в сторону стола:
– Телеграмма.
Кира взяла со стола вырванный из тетради листок. На нем кривыми буквами было написано: «З Москвы Яреськи Полтавской Кудрявцеву Вадиму Приезжаем четверг поезд 16 вагон 4 Мария».
Кира повертела листок, потом спросила:
– А сегодня у нас что, среда?
– Вторник.
– Значит, ехать надо завтра?
– Угу. – Вадим кивнул головой и искоса посмотрел на Киру.
Дело в том, что, когда он впервые сообщил о намерении Марии приехать в Киев – это было на второй или на третий день их пребывания в Яреськах, – Кира с удивлением сказала:
– Откуда она узнала, что ты здесь?
Вадим в свою очередь удивился.
– Как откуда? Я ей писал.
– А я думала, что это от всех секрет.
– Как видишь, нет. – И, помолчав, добавил: – Она с Вовкой едет к матери в Винницу.
Оба помолчали, потом Кира спросила:
– И что же ты намерен делать?
– Поехать в Киев. Больше трех-четырех дней это не займет. Надо устроить в гостинице, помочь кое-какие вещи купить и вообще…
– Что – вообще?
Вадим ответил тогда, может быть, несколько резче, чем следовало:
– Поговорить мне с ней надо. Ты как будто забыла, что у меня сын.
Кира тогда ничего не ответила. А сейчас, старательно складывая зачем-то телеграмму вчетверо, сказала:
– И правильно. Поезжай в Киев. Надо наконец все решить. И с комнатой и с пропиской. А заодно купишь мне пластилину. Я тут чудную девчонку нашла. Хочу портрет сделать. Настоящая такая украинка – веселая, хитроглазая.
На следующий день Вадим уехал. Кира проводила его до почты, распрощалась – «смотри, в воскресенье, самое позднее в понедельник, жду» – и, только когда отъехала машина, спохватилась, что так и не написала письма Николаю Ивановичу, которое Вадим должен был опустить в Киеве, чтоб был киевский штемпель. А впрочем, хорошо, что не послала. О чем писать? Еще врать? Зачем? Приеду и все скажу. Так лучше. Честней все-таки.
Вернувшись домой, она тут же побежала за веселой, хитроглазой Катькой и, посадив ее во дворе на табуретку, начала лепить, не дожидаясь нового пластилина.
Три дня Кира с увлечением лепила, забросив даже свой любимый пляж. Катька, одетая во все самое лучшее, сидела точно изваяние, боясь шелохнуться, на своем табурете, и выжать из нее хотя бы признак улыбки оказалось совершенно невозможным. Кира даже начала злиться.
– Ну что ты, аршин проглотила? Сиди свободно, не напрягайся. А то будто на похоронах. Улыбнись! Можешь ты улыбнуться или нет?
– Можу, – растерянно улыбаясь, отвечала Катька и тут же опять застывала, устремив глаза в пространство.
Все-таки работа подвигалась и Кире даже нравилась. Она уже твердо решила дать ее на выставку.
В воскресенье Вадим не приехал. В понедельник утром пришла телеграмма: «Задерживаюсь три дня приеду пятницу».
В этот день Катька была отправлена домой, Кира пошла на пляж.
После обеда Варя, убирая со стола посуду, не глядя на Киру, сказала:
– Хочу поговорить с вами, Кира Георгиевна.
– Пожалуйста.
Варя дождалась, пока мать ушла в комнату, и, все так же не подымая глаз, старательно сметая крошки со стола, тихо сказала:
– Уезжали бы вы, Кира Георгиевна.
– То есть как? Почему? – не поняла Кира.
– А вот так… Уезжали бы.
– Но ведь… – Кира Георгиевна не находила слов. – В пятницу должен вернуться Вадим, и вообще…
– А все-таки лучше бы вы уезжали, – все так же, на одной ноте, не подымая глаз, в третий раз повторила Варя.
Кира Георгиевна встала.
– Может быть, вы мне все-таки объясните, почему?
– Чего тут объяснять? Сами понять должны.
– Это ваше мнение или мнение Марьи Антоновны тоже?
– Ничье это не мнение… Просто я на вашем месте уехала бы.
Варя говорила тихо, не повышая голоса, но в голосе этом чувствовались решительность и твердость.
Кира Георгиевна постаралась придать своему голосу такую же твердость и сказала:
– Так вот, никуда я отсюда не тронусь. Вернется Вадим, уедем с ним вместе.
– Ваше дело…
Варя собрала тарелки и, ни разу так и не взглянув на Киру Георгиевну, пошла мыть их под стоявшим во дворе краном.
– 13 -
В поезде было невыносимо жарко – пассажиры, боясь пыли, закрыли окна. Вадим вышел на площадку. Вспомнив детство, открыл дверь и сел на ступеньки. Вечерело. Смешные тени от вагонов, удлиняясь и сокращаясь, прыгали по полям, огородам, бегущему вдоль путей кустарнику. Ветер приятно трепал волосы. Поезд шел быстро – километров восемьдесят в час.
Завтра Вадим будет уже в Киеве. Вовка повиснет у него на шее, не захочет слезать с рук. Мария силком заберет его – Вадиму нужно тащить чемоданы. Вовка разревется. Потом они отправятся в гостиницу. По дороге будут говорить о том о сем – как ехали, где останавливались в Москве, что надо купить в Киеве. В гостинице пообедают, внизу, в ресторане, потом уложат Вовку спать. И вот тут-то… Предстоящий разговор, о котором Вадим старался не думать и не мог не думать, приближался с каждым днем. Сейчас он подошел вплотную.
О Кире Георгиевне Мария знала давно. Еще в больнице, где она работала врачом, он, выздоравливая после жесточайшей дизентерии, рассказал ей о своей жизни. Рассказал и о Кире. Мария слушала молча, вопросов не задавала. И только на пятый год их совместной жизни, когда он ехал в Москву, спросила:
– А жена твоя первая в Москве сейчас?
– Не знаю, – ответил он. – Возможно, и в Москве. (Как-то в журнале «Искусство» он увидел фотографию скульптуры, под которой стояла Кирина фамилия, а в скобках значилось: «Москва»).
Больше о Кире разговора не было.
Сейчас он должен возобновиться. Он заранее знал, что скажет Мария. Она не будет ни спорить, ни возражать, она только скажет: «Надеюсь, Вовку ты мне оставишь?» И он не сможет ничего ответить, кроме как: «Да, конечно»…
Да, конечно…
Месяц тому назад, когда он впервые вошел в Кирину мастерскую, и потом за красным столиком, и ночью на мосту, и по вечерам на Сивцевом Вражке все было ясно. Вернулось прошлое. То самое прошлое, которого, иной раз казалось, вовсе и не было…
Как-то у них в бараке неизвестно откуда появилась открытка – старенькая, мятая открытка с видом Киевского университета. Он повесил ее у себя над изголовьем. Бог ты мой, сколько лет ходил он мимо этого длинного, с колоннами, темно-красного здания – сначала в школу, потом в профшколу, потом на кинофабрику. Он помнил в нем каждый завиток на колонне, каждое окошко – в первом слева, на втором этаже, вделаны были часы, по ним всегда было видно, на сколько ты опаздываешь, – помнил, как сажали перед университетом первые жалкие каштанчики и топольки… И, сидя на нарах в бараке, он смотрел на эту старую, довоенную, помятую открытку и задавал себе вопрос: неужели я опять это увижу? Неужели это возможно? И оказалось, что возможно. Увидел.
Но странно, именно тут, в Киеве, он впервые почувствовал, как все постепенно смещается. Сначала неясно, почти неощутимо, потом все четче, четче. Сквозь знакомое милое прошлое стало прорисовываться, вырастать что-то новое, как выросли за двадцать лет эти самые тополя и каштаны перед университетом. И то и не то как будто…
В Яреськах все сместилось еще больше.
Вадим знал – Кира всегда была эгоцентрична. В свое время ему это даже нравилось. Я, мол, такая – хотите принимайте, хотите нет. И он принял. А сейчас? Почему сейчас его отчего-то коробит? Так, как будто мелочи… Сидишь за столом, разговариваешь, а она вдруг: «Минуточку!» – и исчезает. Оказывается, что-то там не долепила, переделывает. Потом вернется: «Прости, ты о чем-то рассказывал. Ну ладно, продолжай, продолжай». А ты рассказывал о своем друге, своем самом близком друге… И не то что ей это не интересно, просто она живет в своем собственном мирке. Что-то проходит мимо нее, не коснувшись даже, что-то чуть-чуть заденет, что-то даст вспышку, искру, короткое замыкание и погаснет, а что-то завладеет ею целиком, и тогда начинается одержимость. Как сумасшедшая бегала по Киеву, так же, вероятно, и работает, если ей работа нравится. Все, что, например, произошло с Вадимом за прошедшие годы, коснулось ее, как некая прилетевшая издалека комета – коснулось, дало ослепительно яркую вспышку, потом погасло. Все это для нее нечто далекое, непонятное, ни во что не укладывающееся, абстракция и потому – вот это-то самое страшное – не очень ей нужное. А его стишки двадцатилетней давности – это близкое, родное, свое и, судя по всему, крайне необходимое. А для него, оказывается, все это уже «плюсквамперфектум», как говорил один старичок в тюрьме.
До злополучного ноябрьского вечера тридцать седьмого года они жили одной жизнью. Мое – твое, твое – мое. И все понятно. Теперь у каждого свое. У нее профессия, доставляющая ей не только удовольствие, но и деньги (впрочем, ерунда – деньги она никогда не считала), любящий старый муж, к которому она, очевидно, привыкла так же, как к хорошей мастерской, просторной квартире, разговорам об искусстве. Кроме того, этот Юрочка, к которому Вадим не чувствует ничего дурного, хотя Кира думает, должен был бы чувствовать. Смешно, ей-богу, но не чувствует, потому что и в этом тоже Кира. Раз-два – и влюбилась. Такая и раньше была. Так и в него влюбилась. Так и сейчас, наплевав на все, поехала в Яреськи. Нет, не в этом дело… Дело в другом, в том, что она не понимает и, очевидно, не может, органически не может (так уж она устроена) понять, как трудно человеку включаться в жизнь, от которой он отвык, как трудно заново привыкать к тому, что ты человек, а не «зека», что нет вокруг тебя проволоки, что можешь всем говорить «товарищ». Он в первые дни несколько раз ловил себя на том, что чуть было не обращался к милиционеру «гражданин начальник». Все это трудно, ох как трудно. А не радостно? – спросят его. Глупый вопрос – конечно, радостно, еще бы. Но это не то слово, нужно какое-то другое, еще не придуманное, в которое входили бы и радость, и удивление, и непонимание, и желание наверстать упущенное, и переоценка прошлого, и растерянность, и даже страх перед непривычным, и мысли, мысли, мысли о будущем, которого, казалось, уже не будет, и вдруг оно открылось…
Нет, не понять ей этого.
А может, и хорошо, что не понимает? Может, так и надо? Может, ей, человеку искусства (а для нее искусство, скульптура – это все, так, во всяком случае, она говорит), может, им, людям искусства, надо видеть только ясное, светлое, веселое?.. Вот понравилась же ему на выставке картина молодого художника – он забыл его фамилию и название забыл, кажется, «Май», или «Майское утро», или «Весна». Солдаты спят в лесу вповалку, уткнувшись друг в друга. А молодой солдатик вдруг проснулся. Проснулся, приподнялся на локте и прислушивается. К чему? К утру, к весне, к соловьям? Морда детская, растерянная, удивленная, проснулся и по-ребячьи не понимает еще, где он. И что-то снилось хорошее…
Солдатик этот чем-то напомнил ему Юрочку. То ли круглой курносой физиономией своей, то ли широко раскрытыми, удивленными глазами. Вот так, не мигая, смотрел Юрочка на него в первый день их знакомства. Нет, не в первый, во второй, когда они забежали в мастерскую после ресторана и проболтали всю ночь. Сидел на продавленном диване, обхватив руками прижатые к животу колени, и, широко раскрыв глаза, пытался разобраться в том, что говорил Вадим.
Это был любопытный разговор. С чего он, собственно, начался, Вадим не помнит. Кажется, он рассказывал, как они откачивали затопленную шахту. А может, и нет. Юрочка слушал не перебивая, много курил. Потом, в какую-то из пауз, мучительно морща лоб, заговорил о том, что никак, мол, не укладывается у него в голове, – впрочем, по-настоящему он об этом даже не думал, – как это человек, переживший столько, сколько пережил Вадим, может еще спокойно обо всем этом рассказывать.
– Как видишь, могу. – Вадим улыбнулся.
– Но ведь вас зазря посадили?
– Зазря.
– А сейчас, значит…
Юрочка даже покраснел от напряжения, на лбу его выступил пот.
– Ну как это вы… Как вы не озлобились?
Вадим понял, о чем он спрашивает. Он часто сам задавал себе этот вопрос. И другие задавали.
Да, в двадцать один год его посадили. Ему было тогда почти столько же, сколько Юрочке сейчас. И посадили зазря, как Юрочка выразился. И просидел полжизни. И не было облегчающего чувства, что страдаешь за дело, за идею, – зазря страдал. И вот вышел сейчас на свободу и… «Как вы не озлобились?..» Как ни странно, но злобы у него нет. А была? Чего только не было, не спрашивай. Все было. А сейчас… Сейчас что-то другое. Почему? Может быть, это от счастья, что выжил, вернулся, что сохранились еще силы, что сидишь вот так и, покуривая папиросу, обо всем спокойно рассуждаешь. А может, потому, что это было не твое личное горе, а трагедия народа и ты вместе с ним разделил ее. Трудно сказать почему… А может, и потому, что веришь, что такое не может повториться.
– Не может повториться. – Вадим посмотрел на Юрочку, тот все так же сидел, обхватив руками колени, и пристально смотрел на него. – Ты понимаешь? Не может.
После этого они долго молчали. Вадим думал о Юрочке, о его поколении – поколении молодых людей, для которых тридцать седьмой год уже история. Думал и о Кире. Задумывалась ли она, лепя из глины спокойного, с гордо откинутой головой юношу, что на самом деле творится в живой голове этого двадцатидвухлетнего мальчишки, которому, когда умер Сталин, было шестнадцать лет, и он плакал тогда, боясь, что всему пришел конец. И, глядя на сидящего рядом с ним Юрочку, в котором сейчас все вопрос и ожидание ответа, вера и сомнение, желание разобраться в непонятном и таком нужном, Вадим впервые, быть может, подумал: а не подменяет ли Кира в своем искусстве все живое и сложное чем-то другим, внешне похожим, а внутренне условным, придуманным? И только ли в искусстве?
Думал Вадим и о себе, о своей молодости, беззаботной и веселой, а в сущности пустой, заполненной пустяками и легкомысленной детской болтовней. Думал и о последующих годах…
– Нелегко во всем этом разобраться, – сказал он под конец, как бы подводя итог всему разговору. – Могу тебе только одно сказать: хочешь верь, хочешь нет – вторые двадцать лет моей жизни для меня куда важнее и значительнее, чем первые. Я столкнулся с людьми. С разными людьми. Много передумал. И многому научился. И хорошему в том числе… – Помолчав, Вадим добавил: – А может, и они у меня чему-то научились. Может, и я был кому-то нужен, полезен… Может, еще буду… Ну ладно. Хватит обо мне.
Тут Юрочка впервые заговорил о себе.
– Гражданин, зачем нарушаете?
Вадим вздрогнул. Над ним стоял усатый величественный железнодорожник с полевой сумкой в руке, уставясь в него начальственным взглядом.
– На ступеньках сидеть не разрешается, пора бы знать.
Вадим извинился и пошел в купе. Там «стучали в козла». Два пожилых командировочных и молоденький, безусый паренек в какой-то форменной фуражке. Увидев Вадима, он весело подмигнул ему.
– Не пора ли закусить, товарищ начальник? Я что-то созрел. А через шесть минут Лубны.
В Лубнах он стремительно пронесся мимо окна в одной майке и галифе, заправленных в носки, и через минуту вернулся сияющий, как новый гривенник.
Ему ужасно хотелось быть взрослым, этому пареньку, лихим, обожженным всеми ветрами и в то же время скептическим и все-все на свете понимающим. Переубедить его в чем-либо было невозможно: он все знал, и только потому, что он был молод и весел, на него никто не сердился и не обижался.
– Водку делают теперь из угля, – говорил он, разливая ее в маленькие, вставляющиеся один в другой стаканчики, вынутые им из аккуратненького чемоданчика. – Это я точно знаю.
– А из какого угля? – подавив улыбку, спросил один из командировочных.
– Из бурого, – без запинки отвечал паренек.
– Точно?
– Точно.
Потом он вытащил болгарские сигареты и старательно стал ими всех угощать.
– Лучше «Честерфильда», уверяю вас. У них фильтры делаются с примесью лепестков розы. Они как губка всасывают никотин.
Сам он, очевидно, только недавно начал курить – старательно стряхивал после каждой затяжки пепел в пепельницу и не отрывал глаз от кончика сигареты.
Потом стал рассказывать, как его чуть не выкрали какие-то шпионы (где – неважно, и почему – тоже неважно, тут он многозначительно подмигнул), и только потому, что он занял второе место по самбо, шпионы не только не выкрали его, а были препровождены в надлежащее место. К концу его рассказа по коридору прошла золотоволосая девица в белом свитере, он встрепенулся и скрылся – «произведем-ка рекогносцировочку…» Рекогносцировка, по-видимому, ни к чему не привела, так как он вскоре вернулся, зевнул и, не успев сесть у окна, заснул. Пришлось укладывать его на нижнюю полку. Заснул он как ангелочек, засунув ладошки под щеку.
Вадим забрался на вторую полку. Погасил свет.
Посреди ночи паренек проснулся, завозился, выскочил в коридор, спросил кого-то: «До Иркутска сколько еще? Не проехали?», потом вернулся обратно и опять заснул.
Славный сосунок, подумал Вадим, а в общем балбес. И от водки-то коробит, наливку ему еще вишневую из маминой бутылки сосать… И опять вспомнился Юрочка. Как они не похожи, эти два парня. И насколько Юрочка привлекательнее этого, в общем симпатичного, все знающего и ничем, в общем, не интересующегося болтунишки. Нет, Вовка у него будет не таким… Он из него настоящего человека сделает, из этого маленького кривоногого человечка, которого он увидит завтра на вокзале. «Ты Вовку, конечно, мне оставишь?» – спросит Мария. «Да, конечно», – ответит он.
Ну как ты скажешь это «да, конечно»?
– 14 -
В середине августа Николай Иванович кончил свою работу и отдал ее на выставку. Все ее хвалили, говорили о психологической глубине проникновения и прочее в том же роде, но сам Николай Иванович был недоволен. Картина казалась ему поверхностной и скучной. Похвалы его не радовали. Он тосковал от одиночества, не находил, куда себя деть.
Знал ли Николай Иванович о появлении Вадима? Нет, не знал. Но чувствовал, что что-то неладно. В последние дни перед отъездом Кира как-то изменилась. Была какая-то возбужденная, торопливая, озабоченная. «Просто нервничаю, – объяснила она, – конец работы…» И он верил, что она просто нервничает, кончая работу. Самосохранение – одно из присущих ему качеств – не позволяло ему вникать в причины этой перемены.
Первое время он регулярно писал Кире до востребования в Киев, но в ответ получил только одну открытку и, чтоб не быть назойливым, умолк.
Как-то в Союзе художников ему предложили почему-то билет на соревнования по боксу. Чтобы не сидеть дома (последнее время ему как-то особенно надоела квартира, Луша, телефонные звонки), он взял билет и поехал в Лужники. Там во время перерыва встретил Юрочку. Юрочка был с девушкой, очень хорошенькой, тоненькой, в ситцевом платьице и, что особенно понравилось Николаю Ивановичу, с длинными, закрученными на затылке в узел волосами. Оба стояли в очереди за ситро.
Несколько секунд Николай Иванович колебался, подходить или не подходить, – ему показалось, что Юрочка заметил его и нарочно отвернулся. И все-таки подошел. Юрочка приветливо улыбнулся.
– Вы где сидите, Николай Иванович? Может, к нам перейдете, мы у самого ринга.
Николай Иванович пересел к ним.
В течение почти двух часов здоровенные загорелые молодцы лупили друг друга огромными кожаными кулаками. Зрители кричали, вскакивали с мест. Это был матч между командами СССР и ФРГ, поэтому страсти накалились еще больше, чем обычно. Юрочка оживленно комментировал удары. Тонечка – девушку звали Тонечкой – в наиболее острые моменты вскрикивала и прижималась к Юрочке. Николай Иванович, поглядывая на избивающих друг друга молодцов, только морщился и ждал, когда же это наконец кончится. Но почему-то не уходил – сидел и смотрел.
После матча тысячи людей ринулись к выходу. Юрочка, весь потный, счастливый нашей победой, стал прощаться и вдруг спохватился:
– Ох, что ж это я – даже не спросил про Киру Георгиевну. Как она? Пишет?
– Не очень. На этот счет она ленива.
– Будете ей писать, привет от меня. Большущий. – Юрочка взял свою Тонечку под руку. – Ну, всего хорошего.
И тут, совершенно неожиданно для самого себя, Николай Иванович сказал вдруг:
– А может, пойдем куда-нибудь?
Юрочка сразу и не понял:
– Куда пойдем?
– Ну так, посидим где-нибудь, выпьем чего-нибудь.
Молодые люди переглянулись.
– Мне нельзя, – сказала Тонечка. – Мне завтра рано вставать. А я далеко живу.
– Да, она далеко живет, – поддержал Юрочка. – И ей рано вставать.
– Жаль, – сказал Николай Иванович.
Молодые люди улыбнулись и помахали ему рукой. Когда они отдалились шагов на двадцать, Николай Иванович окликнул их:
– Юрочка, на минутку… – Он догнал их. – У меня к вам нижайшая просьба. Не заглянете ли вы как-нибудь ко мне? У меня лампа дневного света испортилась. Не могу по вечерам работать.
– Что ж, можно. Когда?
– Когда вам удобно. Хоть завтра.
– Ладно. Часиков так в семь-восемь. Вам удобно?
– Удобно.
И они в третий раз попрощались.
Работы с лампой оказалось не больше чем на пять минут. Просто испортился выключатель, и Юрочка заменил его новым.
– Все в порядке. Можете теперь и по вечерам работать, – весело сказал он, пряча свои инструменты в чемоданчик.
Когда Юрочка, помыв руки, вернулся в кабинет, Николай Иванович раскупоривал бутылки. На письменном столе у окна постлана была салфетка, стояли две тарелки, два стакана, бутылка боржома, тонко нарезанные сыр и колбаса, баночка икры.
– Ну зачем это? – запротестовал было Юрочка.
– Надо, – сказал Николай Иванович. – Вы что, торопитесь? На свидание?
– Ага.
– В восемь? В девять?
– В девять.
– У Большого театра или у Центрального телеграфа?
– У Пушкина.
– Туда рукой подать. Сейчас только четверть восьмого. Вам чего – водки, коньяку?
– Все равно. Водки лучше.
– Это другой разговор.
Весь этот недлинный диалог Николай Иванович провел в каком-то несвойственном ему энергичном, напористом темпе. По всему видно было, что ему хочется выпить – грешок, которого раньше Юрочка за Николаем Ивановичем не замечал.
Почти сразу же он налил еще. Потом откусил кусочек хлеба с икрой и налил по третьей.
– Ох, что-то мы заторопились, Николай Иванович. Может, перекурим?
Николай Иванович ничего не ответил и выпил третью. Юрочке ничего не оставалось, как сделать то же. Он сегодня не обедал и с аппетитом принялся за закуску. Николай Иванович ничего не ел. Закурил. Потом сказал:
– А ведь лампу-то эту я терпеть не могу. Свет у нее холодный, мертвый. Три года стоит без дела, только место занимает.
Юрочка удивленно на него посмотрел. Николай Иванович чуть-чуть порозовел, в глазах появился неестественный блеск.
– Просто, скажу прямо, захотелось мне, Юрочка, увидеться с вами, поговорить. – Он несколько раз зажег и потушил лампу. – А она мне вовсе не нужна. Зря заставил вас возиться. Не сердитесь уж…
– Ну что вы, Николай Иванович…
– Ладно, давайте-ка еще по одной. Веселей будет.
Они выпили еще по одной.
Юрочка спросил, как прошло обсуждение выставки, он слышал, что картину Николая Ивановича очень хвалили.
– А ну ее!.. – отмахнулся Николай Иванович. – Не хочется о ней говорить. Ну похвалили. Ну и что? Я к этому уже привык. И знаете, как это у нас? Похвалит авторитет, особенно в центральной прессе, ну, значит, и все хвалить станут. А картина-то, скажем прямо, слабенькая, замученная. Ну ее…
Николай Иванович еще сильнее порозовел и от этого стал даже казаться моложе.
– Нет, не, о ней мне хочется говорить. – Он ткнул папиросу в пепельницу, сразу же потянулся за другой. – О другом… Вот прожил я шестьдесят три года. Многое за это время увидел, многое сделал. Меньше, чем хотел, но все-таки сделал. Вы простите меня, что я о себе говорю. За всю жизнь я никогда или, скажем точнее, почти никогда не позволял себе этого. Мне всегда почему-то кажется, что другим рассказы подобного рода не очень интересны. И вам, боюсь, тоже не очень. Но человеку иногда нужно… – Он запнулся, потянулся опять за водкой, разлил по стопкам. – Ладно, – он поймал осуждающий взгляд Юрочки, – пусть постоит. Вы знаете, Юрочка, мне почему-то с вами легко. Сам не знаю почему. Может, потому, что на сына моего похожи, а может… Вы не обижайтесь на меня, Юрочка, нельзя же в конце концов только умное говорить… Знал я в детстве одного кавалериста. Не молодой уже был и пьяница, горький пьяница. А когда-то красавцем был, на дуэли бог знает сколько раз дрался. И была у него лошадь, знаменитый в свое время скакун «Картежник». И вот, как напьется этот самый Петр Анисимович и станет ему тоскливо, звал он меня в свою комнату (а жил он в одном доме с нами, в маленьком таком мезонинчике) и начинал мне рассказывать о том о сем и почему жизнь у него не удалась. А под конец, когда за мной приходили спать укладывать, всегда говорил: «Ты не сердись на меня, Колька, но есть у меня только два существа, с которыми могу говорить откровенно, – это ты и „Картежник“ мой. Оба вы, я знаю, хотите мне только хорошего. А остальные? Не знаю… А вы – только хорошего. Никогда не обманете, знаю…» А теперь давайте выпьем.
Юрочка сидел, уставившись в свои руки, и молчал.
Николай Иванович взял стопку.
– Не люблю я тостов, но сейчас мне хочется выпить за вас. За то, чтоб вы остались таким, какой вы есть.
Юрочка молчал.
– А какой вы есть, я знаю. Хоть мы и редко встречались. Есть в вас одно качество, которое я особенно ценю в людях. Сейчас оно не очень-то в ходу. Деликатность оно называется.
Юрочка молчал.
– Вы знаете, что это значит – деликатность? – Николай Иванович очень серьезно посмотрел на Юрочку. – Высшая форма уважения к человеку. Чудесное качество. Оно вовсе не исключает других, но те, другие, мне они как-то меньше нужны, а это… Ну ладно, что-то я заболтался. Так за то, чтоб вы остались таким, какой вы есть.
Юрочка молча чокнулся и выпил. Никогда в жизни не попадал он в такое невыносимо тяжелое положение. «Может, напиться? – подумал он. – Может, тогда легче станет? Или поговорить со стариком начистоту? Но как? И нужно ли? Может, просто уйти?» А Николай Иванович шагал по комнате и говорил. Остановился над Юрочкой.
– Вам не скучно, а? Вы прямо скажите. До Пушкинской площади пять минут ходьбы. Не опоздаете. А мне надо выговориться. Не с Лушей же, она тут же перебьет и сама начнет говорить. И друзей у меня как-то нет… То есть есть, и хорошие даже, ничего не скажешь, но начнешь с ними говорить, и через минуту, глядишь, мусор какой-то начинается – что кто где написал или сказал, и что было у художников на последнем пленуме, и где достать краски. А вот о простом, человеческом… – Николай Иванович вдруг остановился и, наклонив как-то набок голову, глянул на Юрочку. – Вот смотрю я на вас и думаю. Сидит передо мной человек, все у него еще впереди. И молчит. И чего ему в жизни хочется, я не знаю. Стать академиком, генералом? Не знаю. Знаю я только…
Тут Юрочка перебил его, все так же не подымая головы:
– Что вы все обо мне, Николай Иванович? Ведь вы ж о себе хотели…
– А я о себе и говорю, именно о себе… – Николай Иванович нервно рассмеялся, подошел к окну, постоял там. – М-да… Через месяц мне стукнет шестьдесят три года. А через семь лет – семьдесят. Если доживу. И появятся тогда в газетах статейки. И орденишко, может, какой-нибудь подкинут. И собрание устроят. И говорить будут. Такой, мол, и такой, и вклад, мол, в советское искусство сделал. А я буду сидеть в кресле, и будет мне, вероятно, все это приятно и даже лестно… А потом приду домой, сяду за этот вот стол, вытащу карточку сына…
– Не надо, Николай Иванович. Зачем это вы?
– Нет, надо. И не перебивайте. – Николай Иванович повернулся. До этого он говорил, стоя у окна, спиной к Юрочке. – Вытащу карточку сына и скажу ему: «Вот и стукнуло мне семьдесят, Юра. И за эти семьдесят лет сделал я то-то и то-то. И не очень стыжусь того, что сделал. А почему-то мне невесело. Почему?»
Весь последующий рассказ Юрочка прослушал, упершись подбородком в сложенные на столе руки, глядя в окно, розовое от заката, ничего не говорящее небо. А рассказ был грустный. Рассказ человека, который прожил длинную, нелегкую и небесполезную жизнь, а к концу ее обнаружил, что он совсем один. Кругом люди, а он один. Это трудно даже объяснить. Есть друзья, знакомые, студенты, есть жена, есть Луша, и все они его любят и уважают, а в общем – пустота. И дело даже не в том, что вот уехала жена и за месяц только одну открытку («В том, в том, именно в том!» – подумал Юрочка), а в чем-то другом, в неумении быть хоть с кем-нибудь совсем близким. А это, вероятно, самое важное – знать, что ты необходим другим людям. Тогда и они тебе будут нужны. А так…
– Я трезво смотрю, Юрочка, на себя и на свою жизнь. Я знаю, какой я художник. Не обольщаюсь. Так, на среднем уровне. Профессионально крепкий, как принято говорить. И не перебивайте, слушайте… Все это я знаю, другой на моем месте стал бы говорить о молодости, о прошедших годах, о том, что люди были тогда не те, «богатыри, не вы…» Нет, не буду. И богатырем я, по правде сказать, не был… Мне просто грустно. Грустно, потому что в жизни нужно чувствовать себя необходимым. А я… я, в лучшем случае, только нужен… Да и то не знаю, очень ли.
До этого Николай Иванович говорил тихо, спокойно, могло даже показаться, что все это давно уже сформулировано – так это было размеренно и ровно, особенно для человека подвыпившего, – в этом же месте он вдруг запнулся, умолк, потянулся было за бутылкой, увидел, что она пуста, растерянно оглянулся по сторонам, потом взял бутылку и вышел из комнаты. Через несколько минут вернулся. Краснота его прошла, он был бледен. Подсел к столу. Улыбнулся. Улыбка получилась немного жалкой.
– Я вспомнил случай, – Николай Иванович вытянул из кармана папиросу (курил он не переставая, прикуривая одну от другой), – к слову, так сказать. Случай на одном юбилее. Рассказик короткий, не пугайтесь. Отмечали какое-то «летие» одного старого, доброго, хорошего художника. Его все любили. По очереди подымались на трибуну, читали адреса, говорили речи, обнимали старика, целовали. И, ей-богу, все это было от чистого сердца. Особенно меня тронули двое студентов. Симпатичные такие ребята, в бархатных курточках, со славными, немного смущенными физиономиями. Они как-то очень просто и хорошо обратились к старику. Он даже прослезился. Грешным делом, и я тоже. А потом на лестнице я услышал их разговор – они меня не видели. Один говорил другому: «Главное, на другой конец стола сесть (речь шла о предстоящем банкете), а то замучает старик разговорами – о цели жизни, и как он свою прожил». Сказали и побежали куда-то вниз.
Юрочка сжал голову руками. Самое ужасное было то, что слушая рассказ Николая Ивановича – а слушал он его внимательно, сочувственно, – он невольно ловил себя на том, что ждет удобной паузы, чтобы встать и распрощаться. Вероятно, надо было другое – сделать веселое лицо и сказать что-нибудь вроде того, что все это неправда, что вовсе он не одинок, что, наоборот, он всем нужен, и ему, Юрочке, в частности, вот он научил его разбираться в картинах, отличать плохое от хорошего, ну и еще что-нибудь в этом роде. Но это почему-то не получалось, и веселое лицо тоже не получилось. Наоборот, Юрочка сидел и тупо смотрел в окно, а когда старик начал свой рассказ о юбилее, подумал: «Вот доскажет, я встану, извинюсь…»
И вдруг ужасно захотелось, чтоб перед ним сидел сейчас не Николай Иванович – милый, хороший, но в общем действительно не очень нужный, а Вадим Петрович. Как он тогда сказал: «А может, и я был кому-то нужен, полезен…» Да, был! Не мог не быть. Юрочка это знал. И ему вдруг смертельно стало жаль, что нет рядом с ним сейчас Вадима Петровича и что бог его знает, встретятся ли они еще когда-нибудь…
В дверь постучались. Потом она приоткрылась, и в ней показалось желтое сердитое лицо Луши.
– Вот, принесла вам…
Она просунула сквозь щель завернутую в бумагу бутылку и тут же захлопнула дверь. Николай Иванович взял бутылку и, не ставя на стол, протянул Юрочке.
– Прошу. Вы это ловко умеете…
– А может, не надо? – сказал Юрочка.
– Надо.
Юрочка выбил пробку. Николай Иванович подставил стопки.
– Мне хотелось бы, Юрочка, – сказал он, глядя не на него, а куда-то в сторону, в угол, – мне хотелось бы, чтоб вы не думали, что я на что-то жалуюсь. Просто хотелось поговорить. Человеку иногда надо поговорить. А вам я верю. Несмотря ни на что…
Юрочка почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. Сразу вдруг стало жарко. Всему, с головы до ног. Он залпом выпил свою стопку, поставил ее на стол и прямо посмотрел на Николая Ивановича.
– Николай Иванович, я не могу больше. Разрешите, я…
– Нет, не разрешаю. – Николай Иванович повернулся, и взгляды их встретились. – Не разрешаю… – Он поднес стопку к губам, всего его передернуло, и залпом ее выпил. – А теперь идите. Десятый час уже. Идите.
Он мягко взял Юрочку за плечи и подтолкнул к двери.
На Пушкинскую площадь Юрочка попал в половине десятого. Тони не было. Он прождал полчаса. В десять ушел. Почему-то опять оказался у дома Николая Ивановича. Окно на шестом этаже еще светилось. Юрочка потоптался, зашел было в парадное, но потом вернулся, взглянул еще раз на освещенное окно и зашагал в сторону улицы Горького.
К этому времени на письменном столе Николая Ивановича стояли уже две пустые бутылки. Сам он лежал на тахте и смотрел в потолок, на старые, давно знакомые трещины. Одна из них похожа на профиль Пушкина.
Когда часам к двенадцати Луша зашла в кабинет, чтоб убрать посуду, она застала Николая Ивановича лежащим. Галстук его был развязан, рука упала на ковер. Глаза были открыты.
Луша тут же бросилась к телефону.
А на улице Горького, у входа в ресторан «София», двое дюжих милиционеров пытались втолкнуть в машину совершенно пьяного, отчаянно сопротивлявшегося молодого человека. Но это им не удалось, человек оказался сильнее их, вырвался и убежал.
Наутро он ничего не помнил, кроме того, что кричал кому-то, что не даст в обиду Николая Ивановича, а сам он сволочь и негодяй, и, проснувшись, боялся взглянуть сестре и матери в глаза. Те тоже ничего не могли понять – такое с их Юрой никогда не случалось.
– 15 -
На харьковский скорый Кира Георгиевна опоздала. Приехала почтовым в начале десятого. «И очень хорошо, – подумала она, – значит, уже встали». Она сдала чемодан и авоську на хранение, чтоб не таскаться с ними по городу, и тут же стала звонить во все киевские гостиницы. Только в пятой или шестой – хорошо, что в Яреськах на почте она наменяла целую кучу пятиалтынных, – ей сказали, что Кудрявцев действительно у них остановился и живет в тридцать восьмом номере.
В троллейбусе было душно и тесно, кондукторша на всех кричала, пассажиры довольно дружно ей отвечали. Между собой тоже перекидывались теплыми словечками. Одна толстая, красная женщина с корзиной в руках, когда Кира Георгиевна пыталась протиснуться к выходу, вдруг вызверилась на нее: «Ну куда, куда? Точно от мужа сбежала, к хахалю торопится». Киру Георгиевну это рассмешило – значит, еще похожа на такую!
Гостиница оказалась третьеразрядной, но над окошком администратора все же висело засиженное мухами объявление: «Свободных номеров нет». В углу сидела маникюрша. Рядом с ней на маленьком столике стоял телефон. Кира Георгиевна набрала тридцать восьмой номер.
– Вас слушают, – ответил женский голос.
– Простите, Вадим Петрович еще спит?
– Спит, а кто спрашивает?
– Ничего, я позвоню тогда позже.
– Это не по поводу квартиры? – Голос был приятный, низкий.
– Нет, не по поводу квартиры. Я позвоню позже.
– Минуточку. – Женщина, очевидно, положила трубку, потом опять взяла. – Проснулся, сейчас подойдет.
И сразу же голос Вадима:
– Алло!
– Это я, Вадим. Ты уже встал?
– Кира?
– Ага, я…
– Откуда ты звонишь?
– Отсюда, снизу.
– Ничего не понимаю… Ты что, приехала? Случилось что-нибудь?
– Нет, ничего не случилось.
– Тогда чего ж?.. В общем, подымайся.
Она хотела сказать, чтоб он спустился вниз, но он повесил трубку.
Кира Георгиевна поднялась на третий этаж. Вадим стоял на площадке в майке и пижамных штанах. Вид был непроспавшийся.
– На самом деле ничего не случилось? – В голосе его была тревога.
– Ничего.
– А я уж испугался: может, с мамой что…
– Нет, все в порядке.
Они пошли по длинному, с бесконечными поворотами коридору.
– А вещи твои где?
– На вокзале.
Вадим открыл дверь и пропустил Киру вперед.
– Знакомьтесь.
Высокая немолодая женщина торопливо прикрыла кровать одеялом.
– Простите, у нас не прибрано, – сказала она.
– Ничего, ничего, – Кира пожала протянутую руку.
Обе мельком, не задерживаясь, взглянули друг на друга. «У нее хорошее лицо», – подумала Кира Георгиевна.
Из ванной комнаты донесся детский голосок: «Уже…» Через минуту в комнату вбежал Вовка – светленький, кудрявый, в красных штанишках на бретельках. Увидев постороннюю тетю, он смутился.
– Тебя как зовут?
Вовка засунул палец под бретельку.
– Ну, дай тете ручку.
Он не шелохнулся. Началось было обычное в таких случаях уговаривание: «Как тебе не стыдно… Ты ж большой уж мальчик… Ну, протяни тете ручку», – но Вовка старательно наматывал бретельку на палец, потом сорвался с места в угол, где лежали грузовики и мишки.
– Он у нас дикарь, – сказала Мария. – Боится чужих…
Воцарилось молчание.
– Так что же все-таки случилось? – спросил Вадим.
– Да, собственно, ничего, – сказала Кира. – Просто соскучилась по Москве. – И тут же очень оживленно, точно боясь, что ее перебьют, заговорила о том, что пора уже и честь знать, что приехала на две-три недели, а вот второй месяц уже пошел, что в середине сентября ожидается распределение заказов на оформление стадиона в Лужниках, и вообще хватит уже загорать, надо за работу браться.
Вадим молча слушал. Сидел на диване, сгибая и разгибая какую-то проволочку. Ему было не совсем понятно, почему все эти разумные и трезвые мысли возникли у Киры столь стремительно и не тогда, когда он был в Яреськах, почему надо было сваливаться как снег на голову, не предупредив, не позвонив, не сообщив телеграммой. Впрочем, Кира не знала адреса. И все же…
– Может, вы с нами позавтракаете? – спросила Мария.
Кира сказала: «Нет, спасибо, я уже поела», но потом выпила все-таки чашку чая.
Вовка взгромоздился на колени к отцу, исподлобья поглядывая на Киру. Несколько раз он шептал отцу что-то на ухо. Вадим говорил: «Ладно, перестань», – и всовывал ему в рот ложку с манной кашей.
– Кстати, почему ты не интересуешься причиной моей задержки? – спросил он Киру.
– Да… Что произошло?
– Сегодня комнаты будут распределять. На студии. Должны списки вывесить.
– А-а… – Кира не нашлась что больше сказать.
Опять помолчали.
Вадим посмотрел на часы.
– Мне пора двигать. В одиннадцать надо уже там быть. – Он спустил Вовку с колен и слегка шлепнул его. – Наелся? Валяй теперь в свой угол. Папе надо штаны натянуть.
Вовка слез с колен и вдруг часто-часто заморгал, потом бросился к матери, уткнулся лицом ей в колени и разревелся: «Пусть тетя уйдет… Пусть тетя уйдет…»
Он ничего не хотел слушать, и сколько его ни убеждали, что в его возрасте мальчики уже не плачут, а тетя хорошая и принесет ему сейчас конфетку, он ревел и все повторял: «Не хочу конфетку… Пусть тетя уйдет… Пусть тетя уйдет…»
И тетя ушла. Вадим тоже ушел с нею – было без четверти одиннадцать.
До чего же глупо все получилось. Господи, до чего глупо! Явилась, затараторила, уселась чай пить… Пила и все боялась, что Вадим и Мария заметят, как она волнуется. Заметили или нет? Мария – нет, или делала вид, что не видит. Какая у нее выдержка! Как спокойно, с каким достоинством она держится! Вадим говорит, что она наотрез отказалась от киевской комнаты. Будет жить у матери. Единственное, что она сказала, когда Вадим ей все рассказал: «Надеюсь, ты Вовку не собираешься у меня отнимать?» Кира будто слышала, как это было сказано. Не вопрос, не просьба, а короткий ответ на все сказанное Вадимом – тихий, спокойный, уверенный. И вся она такая – тихая, спокойная, уверенная. Вероятно, она хороший врач. Больные любят таких – немногословных, внимательных и, вероятно, решительных. И глаза у нее хорошие – чуть усталые, с нависшими сверху веками, но в них… Черт его знает, что в них. Прощаясь, Кира почему-то отвела свой взгляд. Почему?
Прошло, вероятно, полчаса, если не больше, с той минуты, как они расстались с Вадимом, – он вскочил в троллейбус и уехал на студию, а она все еще сидела в скверике, на том месте, где когда-то стояло здание обкома, а по-старому – Думы. Рядом сидела совсем молоденькая мать, очевидно студентка, – одной рукой равномерно качала коляску со спящим младенцем, в другой держала учебник по статике. Один раз он упал на землю: девушка заснула. Кира подняла учебник, и обе они друг другу улыбнулись.
«Вот тоже судьба, – подумала Кира, – девочке лет восемнадцать-девятнадцать, не больше. Миловидная, но очень уж худенькая. Родители были, вероятно, против замужества. Потом смирились и только просили не торопиться с ребенком. А они взяли вот и преподнесли подарок…»
С Вадимом разговор не получился. Оба были напряжены, неестественны, не смотрели друг другу в глаза. Впрочем, когда идешь рядом, в глаза обычно не смотришь. О главном оба не говорили. Он спросил, сколько она думает пробыть в Киеве, где остановится. Остановится у Лиды, проживет дня два и поедет в Москву – чего тянуть? Вадим стал расспрашивать о Лиде, потом, не дослушав, сообщил, что приехал его режиссер и вечером они должны встретиться. Поговорили о сценарии, о режиссере, и, только подойдя к троллейбусной остановке, Вадим, как бы между прочим, спросил:
– Так когда же мы увидимся? И где?
Кира сказала, что вечером позвонит. Подошел троллейбус, и Вадим укатил на студию.
Ребенок в коляске заплакал. Молодая мать спохватилась, посмотрела на часы.
– Ох ты господи… Опять прозевала. Ничего, Вовочка, сейчас покушаешь.
– Вовочка? – спросила Кира.
– Ага… А что?
– Ничего, просто так. Сколько ему?
– Третий месяц. Вчера третий месяц пошел. Он ведь у нас семимесячный.
– Ну и как, ничего? – Кира заглянула в коляску, мальчик уже успокоился, мирно посапывал.
– С ним-то ничего. – Мать улыбнулась. – А вот со статикой… Не успела весной сдать, приходится отдуваться теперь. – Она опять весело улыбнулась, кивнула головой и покатила коляску по асфальтовой дорожке.
Кира поглядела ей вслед – молодая мать быстро и ловко перешла улицу, лавируя среди машин. И впервые в жизни Кира с какой-то невероятной, неожиданной вдруг остротой почувствовала, как ей жаль, что у нее нет такого вот Вовочки. Или такого, как тот, что прогнал ее совсем недавно. Нет и не будет. Никогда не будет…
Страшно громко, перекрывая уличные шумы, пробили куранты. Двенадцать. Кира обернулась. Били часы на Почтамте.
«Надо зайти спросить, – подумала Кира, – может, что-нибудь из Москвы есть…»
Из Москвы оказалась телеграмма.
– Уже больше недели лежит, – укоризненно сказала курносая, вся в кудряшках девушка из «До востребования» и протянула повестку. – Распишитесь вот тут.
Кира расписалась, потом вскрыла телеграмму. В ней сообщалось, что у Николая Ивановича инфаркт, положение тяжелое.
– 16 -
Был третий час ночи, троллейбусы уже не ходили, и Вадим протоптался минут двадцать, если не больше, на пустынной окраинной остановке, пока его не подхватил задрипанный «Москвичек». Развалившись на заднем сиденье, стал размышлять о судьбах человеческих.
Вот, пожалуйста, Ромка… Тоже отсидел свою «десятку», а сейчас всем доволен, весел, сомнений никаких.
Ромка Телюк – а по-лагерному, бог его знает почему, Базука – честно провоевал всю войну разведчиком: сначала рядовым, потом командиром взвода, а к концу войны – командиром разведроты. Грудь его сверкала орденами и медалями, начальство любило, и все было бы хорошо, если б не дернул его черт присвоить чужую корову. К тому же из-за этой же проклятой коровы («нужна она мне была, я тебя спрашиваю?») влепил оплеуху какому-то штабному офицеру. В результате показательный суд и «десятка». С Вадимом встретились они на Колыме в пятьдесят третьем году, незадолго до того, как Ромку амнистировали. Вместе прожили в одном бараке что-то около трех месяцев.
Парень он был молодой – лет на десять моложе Вадима, – веселый, разбитной, красивый, этакий украинский парубок, стройный, «кучерявый», с ослепительно белозубой улыбкой. К тому же играл на гармошке и хорошо пел. В лагере таких любят. На фронте, вероятно, тоже…
Сейчас они встретились совершенно случайно. Найдя в списках свою фамилию, против которой стояло таинственное: 3 ч. – N_14 – 1 к. – 18 м. – 6 Чок (это значило, что Кудрявцев В.П. получает на трех человек одну восемнадцатиметровую комнату в квартире N_14, корпус 6, на Чоколовском массиве), Вадим вместе с другими счастливцами зашел в магазин «Вино» против Бессарабки. Там-то и застукал его Ромка. Вихрем налетел.
– Черт полосатый! Думаешь, сбрил вуса и никто не узнает? Черта с два! – Он обнимал и тискал Вадима так, что кости затрещали. – Двинули ко мне? Как раз получку получил. Жинку увидишь. Таких еще не видал. А малосольные огурчики делает – закачаешься! Отпустите его, хлопцы, шесть лет ведь не видались, ей-бо…
Потом до глубокой ночи сидели в новой Ромкиной квартире, и красивая, под стать ему, рослая, чернобровая Ксана все подставляла и подливала, а Ромка все говорил, говорил, говорил – он вообще был не из молчаливых, а уж когда выпьет…
– Вот так, Димка, и живем. Не жалуемся. Квартирка шо надо. Три года за нее воевал. Сам на стройке работал. Ничего, а? Паркет, правда, неважнец, и уборная вместе с ванной, ну да хрен с ней, зато никаких тебе соседей. От центра на троллейбусе двадцать пять минут, ну тридцать, а есть гроши, бери такси – за десять минут и тут…
Он демонстрировал телевизор «Темп-3», холодильник «Днипро», годовалую дочурку Таню, разметавшуюся сейчас в своей постельке в соседней комнате.
– Ничего девчонку сработали, а? А скоро и хлопец будет, заготовка уже есть. – Он весело хлопал свою красивую жену по животу, а та заливалась краской. – А ну, Ксанка налей нам еще… Димка ж мировой парень. Вот только с работой что-то того… Иди к нам, говорю, а он… Ну чего вылупился, а? Ей-богу, не пожалеешь.
Работает он электросварщиком, начальство его ценит – вот, пожалуйста, грамоты: одна, вторая, третья; зарабатывает прилично – тысячи две, а то и больше.
– Будешь у нас мотористом. Для начала, для раскачки. Восемь бумаг в месяц, работа – не бей лежачего. Потом научу варить. Поступишь на курсы и опять к нам. А хлопцы у нас мировые, что твой разведвзвод… Ну как? Идет?
Вадим молча улыбнулся, кивал головой. Пить не хотелось, было жарко. Ромка давно уже скинул рубаху, сидел в одних штанах, мускулистый, загорелый. Может, действительно плюнуть на все, на все эти студии и сценарии, и пойти к нему?
– Ладно, подумаю. Вот завалят мне сценарий…
– Завалят, как пить дать. Что ты там о рыбаках этих знаешь? Вот ты обо мне сценарий напиши, вот это да… Воевал, сидел, а сейчас, будьте любезны, отличник боевой и политической подготовки, знатный сварщик Украины…
Он опять стал расхваливать свою работу, хлопцев, заработки, жену, дочку…
– Ей-богу, приятно на тебя смотреть, – не выдержал Вадим. – Всем-то ты доволен.
– А что? На что жаловаться? На жену? Баба, правда, другой раз, когда неполную получку принесешь, начинает пилить, ну, прикрикнешь на нее, и все… А Советская власть, – тут он почесал затылок, – с ней я общий язык нашел.
По натуре своей Ромка был анархистом и всякого вмешательства властей не любил. Особенно, если это касалось его. Подумаешь, какую-то там полудохлую корову присвоил. Не для себя ж, для ребят. А этот сопляк несчастный еще к кобуре потянулся. И кого запугать хотел, кого? Его, трижды раненного, прошедшего от Волги до Берлина, кавалера двух орденов Славы, «Звездочки», Красного Знамени, медали «За отвагу»… И вот, пожалуйста, «десятка», отблагодарили… Все это он так часто повторял перед аудиторией 16-го барака с биением себя в грудь, с демонстрацией ран, что Вадим к этому привык и сейчас слегка удивлялся, слушая новые Ромкины речи. Она (то есть Советская власть) вполне его устраивает. У Вадима, может, есть основания на нее обижаться, он ни за что сидел, а он, Роман, прекрасно теперь понимает, что получил по заслугам, что в армии нужна дисциплина и что если каждый разведчик станет лупить по морде старшего офицера, то что же это получится, – и так далее, в том же духе…
– Работу мне Советская власть дала, и неплохую, план я выполняю, воровать не ворую, что еще надо? Мы люды темни, – тут Ромка явно кокетничал, – нам абы гроши. Ну и сто грамм, конечно.
– Ох и дадут тебе когда-нибудь за эти сто грамм, – улыбнулся Вадим. – Вот вчера в «Вечерке» – не читал небось? – за это самое одного товарища крепко почухали.
– А что мне «Вечерка»? У меня у самого башка на плечах есть. Имею понятие, когда это самое можно, а когда нельзя. И никого не подвожу. И зря языком не болтаю. Как ответственное задание, кого вызывают? Телюка Романа. Знают, что не подведет. Правда, Ксанка? А ну, тащи-ка по этому случаю из загашника Петькину, что зажала тот раз… Давай за дочку мою, чтоб росла большая и умная. И за пацана будущего… Ну, и за нас с тобой… Поцелуемся?
Они целовались и после этого сидели еще часа два.
"А может, действительно к нему пойти? – думал Вадим, развалившись на заднем сиденье «Москвича». – Зачем мне эти сценарии, худсоветы, редакторы, высосанные из пальца конфликты? Вот Ромка. Вкалывай под его началом как положено, все тебе будет ясно, как ему. Хороший он все-таки парень, и товарищ хороший, и жена у него хорошая. Хотя, видно, он слегка побаивается ее. Но любит. «Знаешь, никаких левых ходок. Вот тебе крест. И не интересуюсь, ей-бо…» И тут же спрашивал, как у Вадима эти дела сложились. Выслушав краткий его рассказ – Вадиму не хотелось подробно обо всем говорить, – покачал только головой: «Да, брат, влип». Но советов никаких давать не стал. «Тут советом не поможешь, самому виднее».
«Москвич» затормозил. Приехали. Заспанный швейцар долго возился с ключом, никак не мог открыть дверь, потом спросил:
– Вы из какого номера?
– Из тридцать восьмого.
– А вам тут звонили. Женщина какая-то…
Вадим только сейчас вспомнил, что Кира должна была вечером позвонить.
– Жена ваша с мальчиком пошли куда-то, а я дежурил здесь. Часов в восемь так, в начале девятого. Просили передать вам – женщина та, – что в Москву поехали.
– И больше ничего?
– Не, ничего. Едут, мол, в Москву, и все.
«Вот тебе еще один фортель», – подумал Вадим и медленно стал подыматься на свой третий этаж.
Мария спала. Вовка тоже. Посреди стола, под стаканом с компотом лежала записка: «Взяла билеты на утро, на 9:30. М.»
Вадим машинально хлебнул из стакана, подошел к Вовке. Он лежал на двух сдвинутых креслах совсем голенький, крепко прижав к груди безобразного безухого зайца. Вадим постоял над ним, прикрыл простыней – из окна потянуло прохладой, – погасил свет и, не раздеваясь, лег на кушетку.
«Черта с два я с ним расстанусь, черта с два…»
– 17 -
Николай Иванович лежал на тахте, аккуратно укрытый одеялом. Руки были поверх одеяла, вытянутые вдоль тела, очень бледные, с чуть лиловатыми ногтями. Лицо тоже бледное, небритое, опухшее. При виде Киры Георгиевны он сделал какое-то движение головой и попытался улыбнуться.
– Очень прошу вас, не больше трех минут, – шепнула Кире Георгиевне медсестра.
В комнате пахло лекарствами. Окно было закрыто. На покрытом салфеткой стуле возле тахты стояла батарея крохотных бутылочек-пузырьков.
Кира Георгиевна на цыпочках подошла к тахте и стала возле нее на колени. Бог ты мой, как он выглядит! Кажется, она впервые видела его небритым.
– Как ты себя чувствуешь? – спросила она, стараясь говорить как можно спокойнее и чувствуя, что сейчас в ней что-то прорвется.
– Хорошо. – Он опять попытался улыбнуться. Голос был глухой, тихий, незнакомый.
– Вот и молодец. Надеюсь, ты хорошо себя ведешь? – Она посмотрела на сестру, пожилую, аккуратную, очевидно из бывших фельдшериц. – Он хорошо себя ведет?
– Ничего, старается.
– Ну вот и молодец. Дисциплина прежде всего, правда?
– Правда, – ответила сестра и, увидев, что Николай Иванович хочет поднять руку, сказала: – А двигаться не надо, очень вас прошу.
– А можно мне чаю? – спросил Николай Иванович. – Пить хочется.
Сестра вышла. Кира Георгиевна все стояла на коленях. Она смотрела на неузнаваемое, почти чужое, покрытое седой щетиной лицо Николая Ивановича, и ей было страшно, но оторваться от него она не могла.
Николай Иванович с трудом зашевелил запекшимися губами.
– Ну, как ты отдохнула? – спросил он.
Господи, и он ее об этом еще спрашивает! И что отвечать? Хорошо? Плохо? Скучала? Все ложь, ложь…
Николай Иванович смотрел на нее. Глаза его стали совсем маленькими на оплывшем лице, и только где-то в самой глубине их теплилась тихая, почти детская радость. И Кира Георгиевна не выдержала этого взгляда, в котором не было ни осуждения, ни сожаления, ничего того, что должно было в нем быть, а только радость, не выдержала, уткнулась лицом в одеяло и заплакала.
– Не надо, Киль, не надо… Все будет хорошо, очень хорошо…
Хорошо, хорошо, очень хорошо… Конечно же хорошо…
– 18 -
Прошло четыре месяца. Николай Иванович поправлялся. На улицу он еще не выходил, но в солнечные и не слишком морозные дни его, закутанного с головы до ног, усаживали в кресле на балконе.
– Совсем как мой Юрка в детстве, – улыбался он, покорно подставляя шею мохнатому шарфу. – Его тоже на этом балконе прогуливали.
Первые месяц-полтора Кира Георгиевна не отходила от больного. Она не хуже любой сестры научилась делать уколы, поворачивать ставшее вдруг грузным тело, менять простыни, давать лекарства, она была пунктуальна и неумолима. Потом, когда самое страшное прошло, ей позволили читать ему вслух. Они прочли «Войну и мир», «Былое и думы», почти всего Чехова. Николай Иванович не без ехидства говорил, что ей это даже полезнее, чем ему. Иногда приходили навестить друзья, но Кира Георгиевна не давала им засиживаться – через какие-нибудь четверть часа говорила: «А теперь будьте здоровы. Мы люди режима. И режим у нас железный». Все поражались Кире Георгиевне. «Вот это жена, – говорили друзья. – Буквально из гроба вытащила. Инфаркт, воспаление легких, и не одно, а три – все победила». А старичок врач, друг Николая Ивановича еще по студенческим годам, сказал ей как-то: «Знаете что, бросайте-ка свою глину и переходите ко мне в ассистенты. Вместо Шафрана. Пусть пишет свою диссертацию, а мы с вами такую деятельность развернем – мир ахнет…»
Только в конце декабря Кира Георгиевна впервые заглянула к себе в мастерскую. Бог ты мой, что там творилось, – пыль толщиной в палец, инструменты заржавели, любимый ее лыжный костюм почти начисто съеден молью. Она отдала ключи дворничихе и попросила привести на завтра все в порядок. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю в мастерскую она не пришла – ее не тянуло туда.
Вообще она очень изменилась за эти месяцы. Стала рассудительнее, менее разговорчивой. В голосе появились новые нотки, которых раньше не было, – спокойно-приказательные, и даже Луша, домашняя диктаторша, стала ей подчиняться. Кира Георгиевна перестала стричь и красить волосы, за это ее осудили некоторые ее приятельницы: «Что-то наша милая Кира Георгиевна стала опускаться, не следит за собой». Даже Николай Иванович как-то ей сказал: «А не слишком ли много у тебя волос стало? Или это мода такая?» – «Да, мода», – коротко ответила Кира Георгиевна и даже не взглянула в зеркало.
На третий или четвертый день после своего приезда из Киева она написала письмо Вадиму. Письмо было короткое. В нем она сообщала, что решила остаться в Москве с Николаем Ивановичем и что, вероятнее всего, для них обоих лучше будет не встречаться. Сначала написала «пока», но потом старательно вычеркнула это слово. Ответа на письмо она не получила.
О событиях и днях, предшествовавших болезни, в доме почти не говорили. Кира Георгиевна была в Киеве, купалась, отдыхала, встретила там кое-кого из прежних друзей – вот и все. Рассказывая изредка о Киеве, она преимущественно говорила об архитектуре Крещатика и новом мосте через Днепр.
Как-то Николай Иванович спросил о Юрочке – что-то его давно не видно. Кира Георгиевна сказала, что он, кажется, в отъезде – то ли отпуск, то ли командировка. Больше о нем не вспоминали.
Так тихо, в домашних хлопотах и заботах, в доставании лекарств и вызове врачей прошли четыре месяца. Незаметно подкрался Новый год.
На шестом этаже большого дома на улице Немировича-Данченко в этот день был только один гость – старичок врач, Никодим Сергеевич, старый холостяк, любитель тихих семейных вечеров. На столе стояла бутылка венгерского токая и крохотная фляжка настоящего ямайского рома, которую бог весть где достал Никодим Сергеевич в основном для самого себя – он любил экзотические напитки и уверял, что великолепно в них разбирается. Была, правда, еще и бутылка водки, но ее на стол не поставили, пить было некому.
Ровно в двенадцать часов все четверо чокнулись, каждый своим напитком – Луша и Николай Иванович вишневой наливкой, Кира Георгиевна вином, Никодим Сергеевич ромом, – и под звуки Кремлевских курантов пожелали друг другу в новом году счастья, здоровья, успехов. Никодим Сергеевич произнес маленькую речь – он это тоже любил, – составленную очень витиевато и изящно. Он говорил о прошлом и будущем, об узах дружбы, самом прочном цементе человеческих отношений, об искусстве, скрашивающем тяготы жизни и возвышающем дух, и под конец, подняв крошечную рюмку с ромом, восславил веселящие кровь напитки, тут же оговорившись, что злоупотребление чем бы то ни было, особенно в определенном возрасте, приводит к пагубным последствиям. Кончил он свой тост какой-то длинной латинской фразой, которую Кира Георгиевна не поняла.
Все было очень мило и чинно. Зажгли маленькую елочку в углу на круглом столе, и сразу приятно запахло хвоей. Потом начались телефонные звонки. Их было много: все желали счастья, здоровья и успехов; особенно, конечно, здоровья, и Кира Георгиевна всем отвечала так же бодро и весело, хотя ей уже и надоело говорить одно и то же. «И вам также… Обязательно, обязательно… Пьем ваше здоровье… Николай Иванович? Великолепно! Напился так, что двух слов сказать не может… Большое спасибо… Да, главное, чтоб не было войны… Обнимаем… всех, всех…»
Николай Иванович, развеселившись, потянулся было за вином, но Никодим Сергеевич воспротивился и (он любил приводить примеры) напомнил Николаю Ивановичу кинокартину «Машинист», которую оба очень любили. «Почему там так плохо кончилось? А вот именно потому-то…» Николай Иванович покорился.
Потом Никодим Сергеевич предложил сыграть в карты – это тоже была его слабость. Пригласили Лушу, великую преферансистку, взяли лист бумаги и сели за стол. Кира Георгиевна ненавидела преферанс, но что делать – пришлось тоже сесть.
В начале второго опять зазвонил телефон.
– Ну это уж гуляка какой-нибудь, – сказала Кира Георгиевна и сняла трубку. – Да?
Откуда-то очень издалека раздался знакомый голос.
– Кира Георгиевна?
– Да…
– Это Юра говорит. – И после маленькой паузы: – Хочу поздравить вас с Новым годом.
– Юра? Юрочка? – Кира Георгиевна прикрыла дверь в столовую. – Алло! Тебя плохо слышно. Откуда ты говоришь?
Издалека что-то донеслось, но Кира Георгиевна не расслышала.
– Не слышу. Откуда? Говори громче.
– Хочу позд-ра-вить вас с Но-вым го-одом…
– Спасибо, Юрочка. Тебя тоже… Приезжай к нам.
– Не могу… Я далеко… Звоню из автомата.
– Откуда?
– Из авто-ма-та…
– Вот черт! Ничего не слышно… Юрочка, ты слышишь меня?
– Слышу.
– Позвони мне завтра…
– Хорошо…
– Не забудешь? Обязательно позвони. С утра.
– Хорошо… Как Николай Иванович? Привет ему большой.
– Спасибо. Он тоже кланяется. Так не забудешь позвонить?
– Не забуду.
– С Новым годом тебя!
– Спасибо. До свиданья.
Кира Георгиевна повесила трубку.
– Это Юрочка звонил, – сказала она, входя в столовую. – Поздравлял всех с Новым годом. Звонил откуда-то издалека, не поняла откуда.
– А от нас ты ему передала привет? – спросил Николай Иванович.
– Конечно, а как же… Кстати, Никодим Сергеевич, а почему бы нам не прикончить ваш ром? Здесь все-таки встреча Нового года, а не игорный дом. – И она решительным движением спутала карты преферансистов.
– 19 -
На следующее утро Кира Георгиевна проснулась с радостным чувством, с каким просыпалась когда-то в детстве в день своего рождения. Проснешься рано-рано и долго не открываешь глаз – оттягиваешь удовольствие, счастливый миг, когда откроешь наконец глаза и увидишь на стуле, рядом с твоей кроватью, все то, что с вечера тебе приготовили и о чем не переставая думала последние две недели. И вообще, впереди такой длинный, интересный день, и все с тобой ласковы, милы, и ты тоже мила и ласкова, и будет вкусный обед, и вечером гости, хворост и опять подарки. Чудесный день…
Кира Георгиевна проснулась рано, хотя легли вчера около четырех – долго убирали со стола, мыли посуду, – приняла душ, растерлась сухим жестким полотенцем и сразу же принялась за завтрак. Луша ушла за покупками.
В девять она уже кормила Николая Ивановича.
– Пора, пора, нечего залеживаться.
Николай Иванович тоже чувствовал себя хорошо. И день был как на заказ – солнечный, морозный, с расцветшими за ночь узорами на окнах.
Попили кофе со свежими, только принесенными булочками. Николай Иванович просмотрел газеты и в десять уже был на балконе. В этом отношении Кира Георгиевна была неумолима – воздух, воздух и воздух.
Первый телефонный звонок раздался в начале одиннадцатого. Звонил Мишка, который с женой напрашивался на обед. Кира Георгиевна сказала, что обед будет в три, ни минутой позже, и чтоб они не опаздывали. Потом звонил Никодим Сергеевич, осведомлялся о самочувствии Николая Ивановича, потом еще несколько друзей и только в одиннадцать позвонил Юрочка.
Кира Георгиевна все утро думала, где и как им встретиться. Зайти по старой памяти в «Арарат»? Новый год, не пробьешься. Может, сходить на «Балладу о солдате»? Все хвалят эту картину. А потом просто погулять и посидеть где-нибудь в не очень фешенебельном месте? Когда Юрочка позвонил, она все эти варианты вдруг позабыла и почему-то очень серьезным тоном сказала, что сегодня целый день работает, пусть приходит прямо в мастерскую часов так в шесть.
– Хорошо, приду, – донесся из трубки веселый голос Юрочки. – Вот только с ребятами тут малость…
В этом месте разговор был прерван. Дали Ленинград. Звонил и поздравлял с Новым годом двоюродный брат Николая Ивановича.
В половине третьего пришли Мишка с женой. Сразу стало шумно и беспорядочно. Миша очень громко и, смеясь больше остальных, начал рассказывать анекдоты, потом стал доказывать Николаю Ивановичу что-то из области кибернетики, которую тот не знал и не хотел знать. Потом сели за стол.
В четыре Кира Георгиевна сказала, что Николаю Ивановичу надо ложиться, а ей идти в мастерскую, и гости, хотя без особой охоты, вынуждены были уйти.
Кира Георгиевна вышла вместе с ними.
– Часикам к восьми вернусь, – сказала она Николаю Ивановичу, целуя его в лоб. – Надо все-таки посмотреть, что там делается. И Панкратихе за уборку заплатить. Неловко все-таки, столько тяну.
– А ты не замерзнешь там?
– Нет, я звонила утром Родионовым, просила, чтоб там договорились с Семеном, пусть вытопит.
На дворе было морозно. Снег под ногами скрипел и искрился в воздухе крохотными блестками. Идти было приятно и весело.
Во дворе на Сивцевом Вражке ее сразу же поймала хозяйская Люська, как всегда замотанная до макушки.
– Ой, как вас давно не было! А у нас дом на углу снесли.
Действительно, маленький домишко на углу Плотникова снесли, а Кира в прошлый раз была и не заметила. Кроме того, Люська сообщила, что умер старик с желтой бородой из второй квартиры, а сын Михнярских, Бобка, женился, и жена у него летчица. А сама она, Люська, принесла домой табель, и в нем на этот раз ни одной тройки. За это ей купили ананас, вот такой величины, за сорок три рубля…
Мастерская сверкала идеальной, немыслимой чистотой. Панкратиха поработала на славу. Пол был вымыт, занавески выстираны, а скатерть на столе оказалась вдруг розовой, хотя до сих пор была буро-коричневой. Даже развешанные по стенам маски Бетховена и Пушкина были старательно вымыты, отчего стали совсем уж безжизненными.
Последняя модель «Юности» стояла в углу и старательно была обмотана мокрыми тряпками, хотя это никому уже не было нужно. Кира Георгиевна сняла тряпки.
Скульптура ей не понравилась. Чего-то в ней не хватало. Все как будто на месте, а чего-то вот не хватает. Она прошлась по мастерской. Плохо, все плохо. И колхозница, и раненый солдат, и Барбюс, и девочка с голубем. Плохо, плохо, плохо… Ощущение было такое, будто она рассматривает что-то сделанное много-много лет назад, и не ею, а кем-то другим.
Понравилось ей только надгробие актрисы – очень низкий рельеф, профиль женщины на гладкой плите, и еще маленькая группка из пластилина – парень и девушка, сидящие на скамейке. Все же остальное казалось холодным, мертвым, придуманным. И вдруг стало жалко, что не кончила Катьку. Какая славная у нее мордашка была. Вообще, прав Николай Иванович: самое важное – это лицо… Без лица скульптуры нет. Поэтому так хорош Антокольский. В его лицах всегда мысль. В Киеве она долго стояла перед его Спинозой. Или гудоновский Вольтер со своей хитрой, лукавой улыбкой. Ей вспомнилась эта голова, глядевшая на нее с полуразвалившегося шкафа в алма-атинской берлоге Николая Ивановича, – при перевозке ее разбили и до сих пор никак не могли найти хорошую копию. Господи, как все это давно было…
Кира Георгиевна вытащила из сумки пачку сигарет, закурила – дома надо было всегда выходить в переднюю, – легла на диван, придвинула блюдечко, служившее пепельницей.
Вольтер… Спиноза… Мысль… Кира Георгиевна невольно взглянула на стоявшую в углу «Юность». Зажгла крохотную лампочку в черном колпачке, которой обычно пользовалась, когда ночевала в мастерской. Она любила этот свет. Он создавал какие-то неестественные тени, и скульптуры от этого становились непохожими на себя. Иногда даже лучше.
Свет от лампочки осветил грудь и слегка откинутую голову юноши. Ему все ясно, этому юноше, все понятно, даже те неведомые дали, в которые он устремил свой твердый, не знающий сомнений взгляд. Вадим как-то сказал: «Вот уж с кем мне не хотелось бы ни работать, ни пить, так это с этим твоим долдоном». Она тогда возмутилась: «Глупо и неостроумно».
Да, глупо и неостроумно, думала она сейчас, глядя на скульптуру и вспоминая тот разговор. Глупо и неостроумно, потому что дурацкими своими шутками Вадим пытается опровергнуть то светлое и праздничное, к чему она стремится в своем искусстве. Да, светлое и праздничное, она не боится этих слов. Пусть ее скульптура не во всем удалась, это другой вопрос, она сама это видит, но разве дело тут в том, к чему она шла? Чепуха! Вадим упрям как осел. Он не хочет понять, что искусство – это, в конце концов, праздник и что большой, настоящий художник должен уметь в жизни увидеть и впитать из нее все здоровое, светлое, радостное. Упаси бог втянуться в повседневное – утонешь. В том и сила всякого передового искусства, что оно умеет отбрасывать все мелкое, заслоняющее, путающееся в ногах. Жизнь сложна, и художник не имеет права поддаваться ей. Потому-то великие мастера и стали великими, что умели в своем творчестве возвышаться над жизнью. В конце концов, совершенно безразлично, каким в жизни был Вагнер или Микеланджело (они были и такими и сякими), – важно, что они создали великое искусство…
И тут Кира Георгиевна стала себя убеждать, что, может быть, именно потому и не получилась ее скульптура, что Вадим нарушил то приподнятое творческое состояние, в котором она находилась до его появления. Она ни в чем не винит его, упаси бог, так сложилась жизнь; но, трезво говоря, с его приходом настоящее творчество, то есть то, для чего она, Кира, живет, кончилось. И если сейчас она здесь и ждет Юрочку, ничего предосудительного в этом нет. Она хочет вернуться к тому творческому состоянию, в котором была летом, когда работалось так легко, весело, плодотворно. Надо вырваться наконец из заколдованного круга. Поэтому она здесь. Поэтому ждет Юрочку. Она освободит и его, простого, хорошего, ясного, от приземленности и путаницы, куда его – она чувствует, знает – тащит Вадим.
И ей стало легче. Ей даже «Юность» уже не казалась такой плохой. Пусть лицо и не очень удалось, но это, в конце концов, парковая скульптура, а не психологический портрет, и если уж на то пошло, то ни Пракситель, ни Фидий не ставили перед собой никакой другой задачи – об этом тоже хорошо говорил Николай Иванович, – кроме как показать красивое, гармонически развитое тело. Вот и она тоже…
Словом, надо работать. Работать, работать, работать!
В сенях кто-то затоптался, хлопнула наружная дверь. Кира Георгиевна вздрогнула, взглянула на часы. Двадцать минут шестого. Что-то рано. Но это была Панкратиха.
– Отдыхаем? Ну и отдыхай, отдыхай, правильно… С Новым годом тебя, с новым счастьем…
По всему видно было, что Панкратиха уже «поправилась»: маленькие глазки ее блестели, сухие щечки зарумянились.
– Ну как, хорошо я прибрала? Не узнать теперь мастерскую. – Она присела на самый краешек дивана и двумя пальцами вытерла уголки губ. – А сколько мусору было… Четыре мешка вынесла. А бутылочек, бутылочек… – Она весело причмокнула. – А одна целенькая была. Не тронула. Совесть имею. Вон туда, за окошко поставила, чтоб холодней было. Во-он, видишь?
– Вижу, вижу. – Кира Георгиевна стала искать сумочку, нашла, вынула деньги. – Это вам. И за уборку спасибо большое, и с праздничком.
Панкратиха сунула деньги за пазуху.
– Тебе, доченька, спасибо. Чтоб год у тебя был хороший, веселый, чтоб деньжата не переводились. Это главное. Без них-то скучно, ох как скучно… – она вздохнула, опять вытерла уголки губ. – А бутылочка-то в том углу у тебя завалялась, в старом барахле. Я ее вытерла аккуратненько – и за окошко. Чужого мне не надо. Чужое – это святое. Пусть стоит, думаю, на морозце, пригодится еще.
Панкратиха явно напрашивалась на угощение, но Кира Георгиевна делала вид, что не понимает. Панкратиха посидела еще минут пять, пожаловалась на невестку, на жильцов.
– Ну ладно, пойду уж, – вздохнула она, видя, что ничего не получается. – Внучек-то мой из армии приехал, тоже угостить надо. – Она встала и в последний раз, точно прощаясь, взглянула в сторону окна. – А ты кого ж, доченька, ждешь? Молоденького? Или того, что сдаля приехал? – И уж у самых дверей: – А муж-то твой, старичок, все еще хворает? Дай бог ему еще пожить, дай-то бог…
Панкратиха ушла. Кира Георгиевна по-прежнему сидела на диване.
Пушкин и Бетховен, мертвые, чистенькие и умытые, безучастно смотрели на нее со стен. И черная маска из Экваториальной Африки смотрела на нее. И Барбюс из-за гипсового плеча колхозницы. И пионерка с голубем. Только «Юность» смотрела в пространство, гордо закинув безжизненную голову.
«Кого ждешь? Молоденького? Или того, что сдаля приехал?..»
Бог ты мой, как все уже становилось гладким, утрамбованным в ее мыслях… Как красиво и убедительно звучало: искусство, работа… творческое состояние…
И вдруг все рухнуло.
Она сидит на этом диване вот уже битый час и ждет Юрочку и пытается связать его приход с возвратом к искусству, а на самом деле она сидит и ждет Юрочку просто потому, что ждет его, – она не видела его полгода, она соскучилась по его курносой мальчишеской морде, и когда он вчера позвонил, ей сразу стало вдруг хорошо и весело и весь сегодняшний день она чувствовала себя совсем другой, и сейчас он войдет, и от него будет пахнуть морозом, а не лекарствами, которыми она насквозь пропиталась за последние месяцы, и вообще, ничего не надо будет соображать, лгать, придумывать. Он войдет – и все. И они останутся вдвоем.
А потом…
Кира Георгиевна представила себе, как она вернется домой и веселым фальшивым голосом будет разговаривать с Николаем Ивановичем, разливать чай и спрашивать о самочувствии и опять говорить об искусстве, о «Юности», обо всем том, что составляет, как она пытается себя убедить, весь смысл ее жизни, а на самом деле стало просто профессией, привычной профессией, дающей определенное положение, признание, а заодно и эту мастерскую, в которой она сейчас сидит и ждет, когда вернется к ней творческое состояние…
И Кире Георгиевне стало вдруг стыдно.
До сих пор, если говорить прямо, это очень мешающее жить чувство она как-то умела преодолевать. Она всегда оказывалась права. Всему находила оправдание. Пожалуй, с тех пор, как пришло первое письмо от Вадима. Прочтя тогда его кривые строчки о свободе, которую он ей дает, она впервые подавила в себе внутреннее чувство стыда. И стало легче. И с тех пор она всегда находила оправдания. И когда вышла замуж за Николая Ивановича. И когда появился Юрочка. И затем Вадим. И когда Варя сказала ей: «Уезжайте», и она ответила, что никуда из Яресек не тронется… Может быть, только один-единственный раз она почувствовала нечто подобное тому, что испытывала сейчас, – стыд, который ничем не успокоишь. Это было в тот вечер, когда она явилась с шоколадным тортом к Дмоховским. Весь вечер ей было не по себе. В час ночи она стала прощаться с каким-то смешанным чувством облегченности и смущения. Наклонилась над Людмилой Васильевной, поцеловала ее.
– Вряд ли мы увидимся с тобой, Киля, – сказала тогда Людмила Васильевна, и Кира всю ночь видела потом эти глаза, черные, живые, умные, на старческом лице, – вряд ли мы увидимся с тобой, но на прощанье хочу тебе сказать то, что дозволено говорить только нам, старикам… Вот я умираю, мне жить осталось совсем недолго, но я умираю спокойно. Я всем могу смотреть в глаза прямо. Я прожила семьдесят девять лет, возможно, не раз ошибалась, но не сделала ничего такого, за что могла бы покраснеть.
Покраснеть… И это сказала ей старая, больная женщина, которую даже гитлеровцы не могли сломить.
Может быть, именно после этих слов Кира всю ночь тогда и не спала. А потом забыла… Или постаралась забыть.
За стеной пробило три раза. Кира посмотрела на часы. Было без четверти шесть.
Она старательно раздавила окурок о дно блюдечка. Встала, надела пальто, шарф. Порылась в сумочке, вынула оттуда мятый листок бумаги, начала что-то писать, потом скомкала, бросила листок на пол. Огляделась по сторонам, направилась к двери, но вспомнила, что не выключила плитку, которую всегда зажигала, чтоб было теплее, вернулась и выключила ее.
Выходя со двора на Сивцев Вражек, она то ли с надеждой, то ли с опаской взглянула налево, в сторону потонувшего в морозном мареве высотного здания, – улица была пуста, только две кошки пробежали из одного парадного в другое, – и, свернув направо, через Плотников переулок вышла на Арбат. Начал идти снег, очень крупный и густой.
Первый раз в жизни Кира Георгиевна поступила не так, как ей этого сейчас хотелось.
Означало ли это что-нибудь? Сама она не могла еще на это ответить… Она знала только, что сюда, в мастерскую, где летом ей было так весело и хорошо, она вернется не скоро. И что весело и хорошо ей будет тоже не скоро.
Весь вечер надрывался телефон. Друзья поздравляли с Новым годом; Не позвонил только Юрочка. «Обиделся, – думала Кира Георгиевна, подавляя в себе разочарование и в то же время чувствуя гордость за свой решительный поступок. – Но что поделаешь, так надо».
Она не знала, что в мастерскую Юрочка тоже не пришел. Он просто забыл.
1961


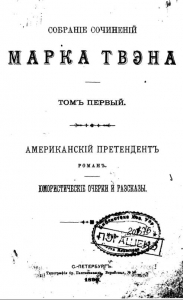
Комментарии к книге «Кира Георгиевна», Виктор Платонович Некрасов
Всего 0 комментариев