Марсель Эме Вуивра
1
Арсен Мюзелье пришёл на Старую Вевру около шести утра и принялся косить луг, обрамлявший с двух сторон ржаное поле. Старая Вевра была участком земли приблизительно с гектар, вырезанным в лесу в пятистах метрах от опушки. Колючий кустарник рос у подножия больших деревьев тёмной линией, по четырём сторонам образованного таким образом прямоугольника. Луг принадлежал семье Мюзелье, а поле — Мендёрам, их троюродным братьям, с которыми они вот уже три поколения были в прохладных отношениях. Ссора между двумя семьями случилась несколько лет спустя после смерти их общего предка, который раскорчевал этот кусок леса во времена Второй империи.
Арсен, двадцатитрехлетний невысокий, крепко скроенный парень, косил, не поднимая головы, так как работа требовала пристального внимания. Луг был ровный, без уклона, и поэтому глинистая почва удерживала воду в течение большей части года. В жаркую погоду усеянный дырами участок походил рельефом и плотностью на сухую губку, и механическая сенокосилка ломала на нём лезвия. Поэтому приходилось косить косой, стараясь делать это осторожно, чтобы не уткнуться остриём в землю. Арсен оставлял позади себя тощие валки жёсткой травы, такой же жёсткой, как рожь Мендёров. Сено почти не стоило затраченного на него времени, и было бы выгоднее засадить луг рожью или любой другой культурой. Об этом уже не раз думали, но у луга было то преимущество, что он создавал неудобства для владельцев поля. Пренебрегая слишком скудной травой, Мюзелье, убрав сено, пускали пастись туда коров, и какой-никакой урон Мендёрам всегда от этого получался.
Часов в восемь утра, остановившись, чтобы поточить косу, Арсен заметил в нескольких шагах от себя гадюку, скользящую по жнивью между двумя валками. По его телу пробежала дрожь, а сердце сжала лёгкая тоска, как иногда в лесу, когда он слышал шум какого-нибудь шевеления в середине густого куста. В пятилетнем возрасте, собирая однажды ландыши, он дотронулся рукой до змеи, и с тех пор у него остался страх перед пресмыкающимися. Гадюка неслась вперёд, прямо, как стрела, едва изгибая тело, держа неподвижной плоскую головку и наблюдая за юношей своим маленьким, проворным, как у птицы, глазом. Полный ненависти и отвращения, Арсен бросил под ноги точильный брусок. Взяв поудобнее косу, он прыгнул вперёд и сделал короткое, точное движение, послав лезвие косы вровень с травой. Змея видела, как он замахивался и отпрянула в сторону, где её нельзя было достать. А когда он опять поднял косу, она уже скользнула под валок. Арсен стоял со сжатым от нервного напряжения горлом и стерёг то место, где гадюка исчезла, предполагая, что она там притаилась, настороженная и готовая к броску, и ему даже показалось, что он видел, как блеснул её маленький глазок с холодным, устремлённым на него из-под складок кожи взглядом, от одной лишь мысли о котором ему делалось нехорошо. Внезапно он заметил, что птицы в лесу перестали петь, и, стоя в центре этой неожиданно воцарившейся тишины, он почувствовал себя слабым и уязвимым. Пока он готовился пошевелить кончиком косы сено, гадюка выползла несколькими метрами дальше, преодолела открытый участок и, скользнув в высокую траву, исчезла. Арсен, не отважившийся сделать ни шага, чтобы преследовать её, заметил в этот момент, что его руки судорожно сжимают косу, а колени дрожат. Застыдившись, он стал мысленно оправдываться перед самим собой за испытанный страх, вспомнив, что не далее как накануне, когда у них во дворе сорвался с привязи бык, он, Арсен, действовал с хладнокровием и смелостью, восхитившими старшего брата. Он снова принялся за работу, но уже без прежней увлечённости, сосредоточенный на тишине и собственном одиночестве. Он чувствовал тяжесть окружающего леса, враждебную неподвижность просторного сумрака, таящего где-то у своего основания незримое подспудное кишение. Он невольно готовился встретиться глазами с какими-нибудь хладнокровными животными, которые могли выглянуть из-под поросли кустарника, из-за остролиста или чёрного тёрна, живой изгородью окаймлявших Старую Вевру.
Упорное молчание птиц стало в конце концов беспокоить его больше, чем ощущаемое им незримое присутствие многочисленной и затаившейся живности. Чтобы развеять свою тревогу, он решился зайти в лес. Нарочно выбрав именно то место, где скрылась гадюка, он направился по тропинке в сторону источника под названием Соляр, куда он надумал сходить напиться прохладной воды. В полумгле подлеска роса отливала серебряным глянцем, но из-за необычной для такого раннего часа тишины казалось, что наступили предгрозовые сумерки. Арсен, примирённый с окружавшей его природой, жадно вдыхал аромат леса. Ещё не совсем забыв ощущение ужаса, охватившего его на лугу, он чувствовал, что почти избавился от него. Стук башмаков Арсена беспокоил прятавшуюся рядом с тропинкой в папоротнике и диких травах пугливую живность, и о её присутствии можно было только догадываться по шуршанию листьев, колыханию лёгкой растительности, которая, вздрагивая, стряхивала на землю росу. Он старался убедить себя, что всё это доставляет ему удовольствие, и приостанавливался, чтобы раздвинуть траву и попытаться застичь беглеца врасплох.
Так он шёл несколько минут и вдруг почти без волнения увидел, как на скрещение тропинок выползла гадюка. Подлиннее и потоньше, чем та, что появилась на лугу, она ползла неторопливо, вызывающе выпрямив шею. Змея повернула к нему свою плоскую голову, словно оценивая его взглядом, и Арсен, успевший рассмотреть кусочек нежной, мягкой кожи под челюстью змеи, почувствовал, как его снова охватывает какое-то паническое возмущение. Впрочем, это чувство не успело в нём развиться. Вслед за гадюкой в поле его зрения появилась девушка, крепко сложенная, с горделивой осанкой. Одетая в белое чуть ниже колен льняное платье без рукавов, босоногая, она шла размашистой походкой, слегка выгнув вперёд спину. В красоте её загорелого, выразительного лица было что-то мужское. Её уложенные венцом чёрные как воронье крыло волосы украшала витая серебряная диадема в виде тонкой змейки, державшей в зубах большой овальной формы прозрачный камень красного цвета. По оставшимся в памяти с детства описаниям, которые до этого он считал выдумками, Арсен узнал Вуивру.
Имя Вуивра на франш-контийском наречии является синонимом старого французского слова «гивра», означающего змею и сохранившегося исключительно в геральдике. Собственно в здешних деревнях Вуивра — это девушка со змеями. Она одна заключает в себе целую франш-контийскую мифологию, если не брать в расчёт Фарамину, чудовище, конечно, очень страшное, но по своей внешности и роду деятельности во многом зависящее от каприза воображения. О Вуивре же накопилось немало обстоятельных свидетельств, немало точных и совпадающих друг с другом упоминаний. Дриада и одновременно наяда, безразличная к человеческим трудам, она бродит по горам и равнинам Юры, купается в реках, ручьях, озёрах, прудах. Носит на голове диадему, украшенную большим рубином такой чистой воды, что для приобретения его понадобилось бы всё золото мира. С этим сокровищем Вуивра расстаётся только тогда, когда купается. Прежде чем войти в воду, она снимает свою диадему и оставляет её вместе с платьем на берегу. Обычно именно этот момент и выбирают смельчаки, чтобы попытаться завладеть драгоценностью, но это предприятие неизбежно обречено на неудачу. Стоит только похитителю броситься бежать, как тысячи змей, появившихся вдруг неведомо откуда, бросаются за ним в погоню, и тогда у него нет иного шанса спастись кроме как побыстрее отделаться от рубина, бросив как можно дальше от себя диадему Вуивры. Те же, кого желание разбогатеть лишает разума, отказываются бросить свою добычу, и их пожирают змеи.
Вуивра, персонаж франш-контийского фольклора, является, очевидно, одним из самых важных во Франции воспоминаний, оставшихся от кельтской традиции. Будучи одним из тех божеств рек и озёр, которых обожали галлы и которые некогда насчитывались тысячами, она пронесла сквозь века популярное верование древней Галлии. Об этом веровании, очень распространённом в ту эпоху, когда римские завоевания были ещё свежи в памяти, Плиний Старший пишет следующее: «А кроме того, в Галлии нередко можно услышать про некое подобие яйца, не упоминаемое греками. Когда наступает лето, то вместе собираются и переплетаются мириады змей. Приклеенные друг к другу своей слюной и пеной, выделяющейся из их тел, они лепят все вместе шар, который принято называть змеиным яйцом. Друиды говорят, что это яйцо удерживается в воздухе свистом рептилий и что нужно подхватить его в плащ, прежде, чем оно коснётся земли. Кроме того, похититель должен быстро ускакать на коне, так как змеи продолжают преследовать его до тех пор, пока он не переберётся на другую сторону реки. Это яйцо можно распознать по тому, что оно не тонет в воде, даже если привязать к нему кусок золота… Я сам видел одно из таких яиц, которое размером было со среднее круглое яблоко…» (Pl. Historia Naturalis).
Рассказанная Плинием легенда, лишь немного видоизменённая, без труда узнаётся в легенде о Вуивре. Этот талисман, который у галлов пользовался репутацией чудодейственного средства, помогающего выигрывать судебные дела, со временем сильно вырос в цене. Впрочем, можно объяснить, не слишком рискуя ошибиться, каким образом змеиное яйцо превратилось в рубин. Весьма вероятно, что метаморфоза произошла в те времена, когда в городах и посёлках верхней Юры стала развиваться индустрия обработки драгоценных камней.
2
Проходя мимо Арсена, Вуивра повернула голову и посмотрела на него с таким безразличием, что это задело его за живое. Её зелёные с минеральным блеском глаза походили на кошачьи не только цветом, но и своим взглядом, который встречается с взглядом человека, как с чем-то неодушевлённым, отказываясь от общения. Вдруг её осветило солнце, отчего ярко заискрился рубин в диадеме и засверкали красные огоньки в чёрных волосах. Вслед за гадюкой она направилась по тропинке к пруду, который назывался Ну, но, пройдя метров сто, свернула в сторону и, заслонённая деревьями и папоротниками, исчезла из поля зрения Арсена. Едва оправившись от удивления, он почувствовал желание догнать Вуивру, и тоже вошёл следом за ней в подлесок. Теперь у него не было ни малейшего страха перед змеями. Размашистой походкой он шагал сквозь папоротники, и роса, стекая с мокрых штанин в башмаки, холодила ему ступни ног. Выйдя из леса, он был ослеплён волной света. Солнце стояло над противоположным берегом пруда, который по всей его длине разделяла надвое сверкающая борозда. Посредине, там, где вода была зажата в узкой горловине, отливали серебром скопления бледных водорослей. Поближе, справа в окаймлявших глубокую бухточку густых камышах задержалось широкое полотнище белого тумана, который растянулся по берегу до самого леса. Не видя Вуивры, Арсен стал высматривать её именно в этой завесе из тумана. Кругом царила тишина. Ни птичьего пения, ни каких-либо других звуков за исключением шума воды, вытекавшей через трещины подъёмного затвора шлюза в расположенный ниже уровня пруда бьеф. Он забрался на один из холмиков, которые подпирали стойки затвора, и менее чем в ста метрах от себя обнаружил Вуивру в маленькой бухточке, защищённой земляной насыпью. Чтобы искупаться, она выбрала самое красивое место, устье ручья, несущего в пруд чистую воду из источника Соляр. Она была совершенно голая и шла с прижатыми к туловищу руками в доходившей ей уже до пояса воде, но вскоре, потеряв под ногами дно, поплыла, и теперь Арсен видел над поверхностью воды только корону её чёрных волос и смуглые руки, попеременные взмахи которые позволяли видеть её обнажённые плечи. Она плыла очень быстро в направлении камышовых зарослей, за которые зацепился шлейф тумана. Арсен миновал затвор и пошёл по берегу, глядя на удалявшуюся Вуивру. Остановился он лишь тогда, когда дошёл до берега ручья, до того места, где она сбросила лежавшее теперь на траве платье. Солнце, игравшее своими лучами в рубине, отбрасывало на белый лён алые, как сок красной смородины, отблески. Он наклонился, чтобы полюбоваться драгоценным камнем, но у него не возникло желания завладеть им. Поймав себя на подобном бескорыстии, он не мог не удивиться ему, и мысленно спросил себя, не страх ли перед змеями наделил его таким благоразумием. В детстве он часто мечтал о том, что, может быть, когда-нибудь ему представится шанс завладеть этим сокровищем, и, как ему тогда казалось, постыдился бы не попытать счастья, ни за что бы не отказался от испытания, связанного с большим риском, но зато сулящего столь же немалую славу. Ещё совсем недавно он обязательно бы сделал это.
И теперь он лениво протянул руку, чтобы взять диадему, и точно взял бы, если бы возникла угроза в виде гадюки. Наверное, змеи вели с Арсеном игру, дожидаясь, когда похищение станет свершившимся фактом, чтобы пуститься за ним в погоню, но пока в поле его зрения змей не было, и в траве не чувствовалось ни малейшей вибрации. Вместо того чтобы опуститься на рубин, его рука, задев платье из белого льна, задержалась на нём. Прикосновение к этой лёгкой, немного шершавой ткани, ещё сохранявшей теплоту жизни, заставило его отказаться от намерения, возникшего вопреки его желаниям. Арсену вдруг захотелось лечь лицом на платье и вдохнуть его запах, но застенчивость не позволила ему сделать это. Вуивра тем временем повернула в пруду назад и плыла широким брассом, звонко и отрывисто шлёпая ладонями по воде, причём совершенно без брызг. Не думая больше о рубине, Арсен выпрямился, чтобы лучше видеть лицо, черты которого с каждым взмахом рук становились всё более отчётливыми. Когда Вуивра в движении склонялась головой к загорелому плечу, её профиль обрамлялся тонким контуром золотистого света. Ясный, звенящий звук шлепков повторяло эхо, но приглушённо, где-то вдали, словно там в глубине леса что-то рубили топором. Метрах в ста от берега Вуивра остановилась и, повернувшись на спину, соединив ладони под затылком, выставив вверх груди, замерла без движения. Может быть, ей хотелось, чтобы юноша подумал немного и всё-таки рискнул. А ещё у него мелькнуло в голове, не стесняется ли она и не мешает ли он ей выйти на берег. Пока он раздумывал, уйти ему или нет, она снова поплыла и коснулась ногами дна раньше, чем он принял решение. Когда их взгляды встретились, Арсен опустил глаза и смутился из-за того, что, стоя вот так на берегу и разглядывая её, он должен был показаться ей чересчур нескромным. Он всё же решил не уходить, а просто лёг на землю в трёх шагах от платья в более независимой, по его мнению, позе. Вуивра, возникнув вдруг вся целиком в солнечных лучах, остановилась перед устьем ручья, который принёс сюда много гальки, устелив ею дно. Она шла, иногда болтая ногой в родниковой воде, иногда с размаху касаясь ступнёй поверхности струящегося потока, и прозрачные капельки воды стекали с её голеней.
Арсен, поражённый необыкновенной красотой Вуивры, созерцал её тело, не испытывая никакого стеснения. Он видел в нём то, о присутствии чего в человеке до сих пор даже не догадывался, хотя и умел ценить, например, в красивой лошади: благородство, гармоничную непринуждённость и чистоту линий, вносившие ему в душу чувство удовлетворённости. Вуивра легла в ручей, чтобы холодной водой обмыть своё тело после пруда, а затем, плеснув из ладоней себе в лицо, вышла на берег. И там, обращая не больше внимания на лежавшего в её тени мужчину, чем на какое-нибудь животное, она стала медленно поворачиваться в лучах солнца, положив ладони на затылок и закрыв глаза. Это оскорбительное безразличие вызвало у него приступ мужского гнева, и он попытался быть грубым, что с ним случалось весьма редко.
— А ну-ка отставь в сторону свои ягодицы. Ты заслонила мне всё солнце.
Она отступила на шаг, и её тень, упавшая на белое платье, погасила сияние рубина. Арсен покраснел, стыдясь вырвавшихся у него слов. Но Вуивра, кажется, не обиделась. Обсушив своё тело, она спросила, как его зовут и где он живёт. Голос у неё был молодой и звонкий, приправленный юрским акцентом с широко открытыми гласными, чистыми, как белый хлеб. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы преодолеть что-то вроде строптивой и обычно совсем не свойственной ему застенчивости.
— А что ты делаешь в лесу? — спросила она. — Тебе же нужно быть на лугу. В этом году лето раннее. Трава скоро пожухнет.
— Сейчас я кошу на Старой Вевре. Это здесь, совсем рядом.
— Ничего сколько-нибудь стоящего на этой Старой Вевре нет. Сплошные осока да камыш.
— Нужно было бы перепахать землю и засеять её нормальной травой на сено, но только я ещё вчера говорил, что тут овчинка выделки не стоит. Луга из болота всё равно не сделаешь, особенно когда под ногами одна глина.
— Я ещё помню времена, когда там были сплошные топи. Не так уж давно это было.
— Ну как-никак лет семьдесят тому назад, но почва долго помнит.
— Да и не так уж долго.
Повернувшись спиной, она резко потянула к себе льняное платье, отчего диадема слетела с него в траву. Казалось, Вуивра забыла про своего собеседника. В тот момент, когда она подняла руки, надевая платье, Арсен обратил внимание, как заиграли у неё мышцы спины, как натянулась кожа на боках, и заинтересовался её круглыми, твёрдыми ляжками, и точёными подколенками. Ему очень понравилось, что, в тот момент, когда ей на голое бедро села муха, она дёрнулась только одной ягодицей, словно какая-нибудь ретивая лошадь. Платье скользнуло вниз по спине и, чуть задержавшись на талии, упало к икрам. Тут Арсен обрёл несколько большую свободу мысли и одновременно у него появилась склонность судить более сурово поведение этого бесстыжего создания. Так вот заголяться и совать свой зад и живот под нос первому встречному — это уж не иначе как какой-нибудь порок. Да и ладно бы просто порок. Ведь девиц, у которых свербёж, в общем хватает, но не всякая же станет показывать всё, что угодно, мужику, потому как понимает, что это не лезет ни в какие ворота. Не то чтобы это было так уж противно, но всё же как-то неправильно. Вот если бы она повозилась целый день с граблями где-нибудь в поле, то у неё не было бы такой охоты выставлять своё тело. Арсен чувствовал, как его душу переполняет презрение.
Вуивра несколько минут приводила в порядок свою причёску. Несмотря на то что его мысли развивались в неблагоприятном для неё направлении, Арсен всё же сумел по достоинству оценить форму её рук и грацию плавных жестов. Повернувшись к нему в профиль, держа губами заколки, она искоса поглядывала на него, и Арсен заметил в её взгляде насмешливый огонёк. Он встал и с неудовольствием обнаружил, что девушка одного с ним роста, даже немного выше его, так как она была босая, а он в башмаках. Он вспомнил, что у него короткий, приплюснутый нос, жёсткие, как коровья шерсть, волосы и маленькие, серые, со стальным отливом и жёстким взглядом глаза, вовсе не из разряда тех глаз, в которых отражаются девичьи грёзы. Он с завистью подумал о гипсовом изображении святого Франциска-Ксаверия, стоявшем у одного из столбов в их деревенской церкви. У святого, несмотря на бороду, было изящное лицо подростка с нежно-розовыми щеками и столькими иными прелестями, что женщины в церкви только тем и занимались, что подкладывали да подкладывали ему в кружку монеты.
Вуивра свистнула и рядом с водой по сухой траве прошла дрожь. Арсен отпрянул, когда в ярко-зелёной траве показалась, пристально глядя ему в глаза, гадюка. Хотя он и отступил на шаг, она проползла настолько близко от него, что задела хвостом носок его башмака. Вздрогнув от ненависти и отвращения, он выругался. Но, обозвав змею падалью, он почувствовал себя обязанным сказать Вуивре что-нибудь вежливое.
— Вы вернётесь? — спросил он.
— Обязательно, — ответила она. — Я прохожу по этим местам каждые два-три года.
Она подобрала свою диадему и надела её на голову, стараясь, чтобы камень пришёлся точно посредине.
— Что, не посмел взять, а?
— Собирался было, — ответил Арсен, — да увидел в пруду, как вы плывёте сюда, и подумал совсем о другом.
— О чём же?
Вуивра смотрела на него своими жгучими глазами, на лице у неё появился румянец, дыхание участилось. Арсен заметил её волнение и почувствовал, как у него самого жар тоже приливает к щекам, но испугался за свою душу и ответил с притворным спокойствием:
— Я подумал о том, о чём вы думаете сейчас, но только это всё глупости. Время удовольствий, оно никуда не убежит, а вот работа, работа не ждёт, а я оставил свою косу на лугу. До свидания.
Арсен пошёл, не оборачиваясь, и углубился в лес.
3
Фермы Мюзелье и Мендёров стояли у дороги, на краю деревни, немного на отшибе, метрах в ста пятидесяти одна от другой. В былые времена у них был один общий источник, откуда они брали питьевую воду. Вода выходила из земли между двумя домами, в двадцати шагах от дороги, на краю огорода, принадлежавшего Мендёрам. Мюзелье попадали туда через широкий пролом в изгороди и брали воду, но какой-либо договорённости по этому поводу не существовало. В 1875 году Мендёры вовсе не из вредности, а лишь желая защитить свои фруктовые деревья от набегов коров, перегородили вход калиткой, снабдив её простой щеколдой. Поскольку они забыли или не соизволили предупредить об этом Мюзелье, своих двоюродных братьев, те обиделись и, встав в позу, всем своим видом показывая, будто верят, что им нарочно преградили доступ к воде, решили ходить за водой в деревню, пока не вырыли колодец у себя во дворе. С тех пор соседи стали более далёкими друг другу, чем если бы они жили на разных концах коммуны. В третьем поколении речь шла уже не о вражде семей, но о вражде домов. Остальные Мендёры, ветви той же семьи, но только жившие в других местах, не несли на себе груза первородного греха и находились в хороших отношениях с Мюзелье.
Арсен вышел из леса на полуденный солнцепёк и направился через пшеничное поле по тропинке, которая выводила на дорогу как раз напротив дома Мендёров. Позади двух ферм поле полого спускалось к реке, и потом, с другой стороны, так же постепенно поднималось к тонкой полоске леса на горизонте. Дорога пересекала деревню Во-ле-Девер, разбросанную по длинному косогору и отделённую от леса широкой полосой пахотной земли. В противоположном, южном направлении она шла к деревне Ронсьер, стоящей на склоне возвышенности, которая прятала её от взглядов прохожих и прикрывала от северных ветров. А дальше, в тридцати километрах, виднелись горы, бледно-голубые, местами сливающиеся с летним небом горы Юры.
На тропинке Арсен обогнал Ноэля Мендёра, теперешнего главу семейства. Тот тащил срубленную в лесу ветку акации, очевидно, чтобы, прокалив её над огнём, сделать из неё черенок для лопаты или вил. Мужчины не обменялись ни словом, ни взглядом, поскольку в семьях давно укоренилась привычка вообще не замечать друг друга, за исключением тех случаев, когда присутствовал кто-нибудь посторонний, и тогда, напротив, демонстрируя свою галантность, обе стороны изощрялись в любезностях, хотя вражда двух кланов ни для кого в Во-ле-Девере тайны не составляла.
Когда Арсен вышел на дорогу, его там ждал неприятный сюрприз. Он увидел своего пса Леопарда морда к морде с Кровопуском, собакой Мендёра: оба стояли неподвижно, но уже оскалились и сердито ворчали друг на друга. Арман, сын Ноэля, стоял в нескольких шагах от них, спрятав за спиной палку. Он был чрезвычайно счастлив оттого, что собака Мюзелье провинилась, и не спешил вмешиваться, выжидая подходящий момент. У него хватило коварства окликнуть своего пса, но это было сделано настолько благодушно, почти ласково, что походило скорее на науськивание. Леопард и Кровопуск бросились друг на друга и покатились в пыли с неистовым рычанием. Арман двинулся к ним мелкими шажками, явно стараясь не мешать бойцам. Леопард схватил противника за горло и тряс его с такой яростью, что Кровопуск жалобно завизжал от боли. Удостоверившись, что чужак основательно вцепился в его собаку, Арман поднял палку и ударил его по спине. Весь поглощённый схваткой, Леопард вначале даже не замечал посыпавшихся на него ударов, но, получив несколько особенно удачных затрещин, в конце концов встревожился. И тут Мендёр схватил его за ошейник, как бы желая оттащить от своей собаки, но на самом деле, чтобы не дать ему убежать раньше времени, и снова принялся дубасить пса палкой. В окно фермы высунулась по пояс его старшая сестра Жермена Мендёра, здоровенная деваха со смешливыми глазами, скроенная как тамбурмажор и слишком часто дававшая повод посудачить о себе. Мендёры стыдились её и побаивались, как бы дурная репутация Жермены не помешала выдать замуж Жюльетту, младшую из двух сестёр, хотя та была и красива, и благоразумна.
Арсен видел, как его собака дрожит от ударов, и ему было нехорошо от её воя, но, согласившись в глубине души, что правда тут на стороне Армана, он подавил в себе вспышку гнева. Решив как бы не замечать происходящего, он перешёл на другую сторону дороги, повернулся спиной к двору, и, весь топорщась от презрения, помочился на грушевое дерево. Затем с рассеянной медлительностью застегнул штаны, повернувшись к ферме Мендёров и как бы стирая её своим взглядом с равнины. Леопард, прихрамывая, вырвался из рук Армана и, зажав хвост между задними лапами, стал ждать своего хозяина у дороги.
Ферма Мюзелье, не будучи более представительной, чем ферма Мендёров, выглядела более аккуратной. При постройке дома, вместо того чтобы экономить на мелочах, используя разнородные материалы, постоянно что-то добавляя и прилепляя, те, кто строили дом, сделали его монолитным: каменщик заранее прикинул, какими будут стены, плотник поразмыслил над тем, как расположить деревянные конструкции. От одного края фасада до другого крыша спускалась, образуя навес, которому балки и стропила из почерневшего дерева придавали приветливую глубину. Деревья и изгороди, расположенные с продуманной тщательностью, обрамляли и одевали дом.
Арсен подошёл к Леопарду, который стоял под аркой из двух крепких орешников, посаженных у входа во двор, и пнул его башмаком в рёбра, дабы тот раз и навсегда понял, что ему и в самом деле нет никакого резона забредать к Мендёрам. Леопард, кстати был готов к этому и счёл жест хозяина справедливым. Эмилия Мюзелье, невестка Арсена, сидя на маленькой скамеечке, полоскала бельё в водоёме, вырытом напротив дома, с другой стороны двора, и окаймлённом с внешней стороны выстроившимися в ряд осинами. Привычка стирать бельё в этой жёлтой воде восходила к тем временам, когда колодец и примыкающее к нему каменное корыто ещё не существовали. Хозяйки из семьи Мюзелье приписывали глинистой воде необыкновенные свойства, благодаря которым и бельё вроде бы лучше отстирывается, и мыло экономится. Эмилия повернула к Арсену своё круглое одутловатое лицо и спросила про собачий бой, отголоски которого до неё донеслись. Он в нескольких словах, не задерживаясь, объяснил, что произошло, и направился на кухню. На пороге он столкнулся с Белеттой, служанкой, которая шла к колодцу за водой. Белетте только что исполнилось шестнадцать лет, но поскольку вся она была крошечная, маленькая росточком и худенькая, ей никто больше тринадцати не давал. Взмахнув рукой, она подобрала прядь жёстких волос, выбившихся из её жёлтой шевелюры, и подняла к нему с дружеской и заговорщической улыбкой своё остренькое личико.
Луиза Мюзелье, мать Арсена, шарила в шкафу, забравшись туда по самый пояс в поисках глиняного горшка, который, как она предполагала, успела разбить сноха. Она ещё никого пока не обвиняла и даже не высказала подозрения, но тон её заглушаемых глубинами шкафа высказываний был уже весьма сварливый. Виктор, старший её сын, читал у окна газету и притворился, что не заметил, как вошёл брат. Эта поза означала, что собачий бой, какими бы ни были его обстоятельства и перипетии, оставил его совершенно равнодушным. Лично он никогда не питал особой вражды к Мендёрам, и старая ссора, давно разделявшая два дома, казалась ему глупой и смешной. Если бы Виктор не знал наверняка, что это вызовет неудовольствие младшего брата, которого он побаивался, то давно бы всё уладил.
Увидев разложенные на столе приборы, Арсен сел перед своей тарелкой. Юрбен уже был на своём месте — как и положено слуге, в самом конце стола. Все тридцать лет, что он проработал у Мюзелье, Юрбен всегда приходил первым и спокойно, не проявляя нетерпения, сидел и ждал, прямой, неподвижный, с застывшим лицом статуи и взглядом, обращённым внутрь себя. Высокая фуражка с откидным клапаном (последняя в деревне), с которой он расставался лишь в постели, удлиняла его костистое лицо, горделивое в своей строгой худобе. Он поднял на Арсена быстрый опасливый взгляд, пытаясь прочитать на лице юного хозяина свою судьбу. Со двора донёсся звук ведра, стукнувшегося о край колодца, и скрип ворота с разматывающейся цепью. Потом послышались смех и голоса.
— Прекратите ради Бога, — кричала пронзительным голосом Белетта. — Из-за вас я сейчас выпущу ручку.
Виктор подумал, что это его два сорванца опять пытаются потрогать служанку за груди и собрался было вмешаться. Однако, поразмыслив, решил, что дело того не стоит, потому что грудей у Белетты всё равно не больше, чем у мальчишки. Когда голова Луизы появилась из-за раскрытой дверцы стенного шкафа, её мнение о том, кто разбил горшок, вполне определилось. Всё сходилось на том, что сделала это Эмилия. Луиза не любила невестку и обращалась с ней холодно, предоставляя, однако, ей право работать не покладая рук и блюсти интересы фермы. Главная причина её недовольства заключалась в непородистости Эмилии. За десять лет совместной жизни Луиза так и не смогла привыкнуть к этому налитому густой кровью широкому счастливому лицу, к её вульгарной любезности. Пышные бёдра и груди Эмилии, обычно являющиеся в сельских семьях предметом гордости, оскорбляли её взгляд. Причём раздражение Луизы усугублялось ещё и тем, что оба мальчишки, Огюст и Пьер, оказались точными копиями своей матери. У обоих были упитанные славные физиономии; пища шла им впрок; раздавались они в ширину, и при этом ещё — ни стати, ни манер. От добродушного толстого парня, у которого все чувства написаны на лице, особого проку, если говорить по сути, ждать не приходится. Поскольку ребята они были совсем юные, природа ещё могла бы внести какие-то поправки, но такое случается редко, и настоящими Мюзелье им теперь всё равно никогда не бывать. Злость да ещё какая-то жестокая весёлость были написаны на луизином тонком лице, которое годы сделали точёным и гладким, не испещрив его морщинами. Никто из сыновей не походил на мать, разве что Арсен вроде бы унаследовал от неё маленькие серые глаза с жёстким взглядом. Эмилия, пышнотелая, со смеющимися глазами, вошла на кухню, всем своим видом показывая, что она сгорает от желания поболтать.
— А вы опять разбили мой горшок, — сухо заметила ей свекровь.
Эмилия стала протестовать чересчур возмущённо, тем самым подтверждая справедливость обвинений в её адрес. Луиза, уточнив, что речь идёт о горшке с жёлтой каёмкой, приступила к изложению обвинительного акта, но тут невестка, прервав её, закричала: «А вот же он!» И, действительно, горшок стоял на дощечке около плиты, на самом виду. Эмилия хлопнула себя по ляжкам, весело затараторила и продолжала ещё говорить, пока все рассаживались, и даже когда все уже давно сидели за столом. Луиза, теперь много бы давшая за то, чтобы горшок и в самом деле разбился, от досады кусала себе губы. Виктор чувствовал, как в ней нарастает гнев и, чтобы уберечь жену от новой сцены, постарался перевести разговор на другую тему, заинтересовавшись, можно сказать помимо собственной воли, не подрались ли где-то у Мендёров собаки. Арсен в мельчайших деталях рассказал про то, как было дело, упирая на жестокость Армана Мендёра. Присутствие Леопарда, который, прихрамывая, слонялся вокруг стола, неплохо дополняло его рассказ. От ненависти лица сотрапезников насупились, а глаза загорелись. Даже Виктор и то чуть было не поддался общему настроению, и ему пришлось вспомнить, что тремя неделями раньше его сыновья под снисходительным взором своего дядюшки ощипали заживо курицу Мендёров, которая ненароком забрела к луже Мюзелье. Когда он напомнил об этом варварском деянии, Арсен счёл нужным уточнить, что тогда речь шла о справедливом возмездии. Виктор в ответ ухмыльнулся, что уязвило души присутствовавших и оживило старые обиды. Белетта, находившаяся на службе у Мюзелье всего три месяца, ощутила, как у неё всё нутро переворачивается от ненависти к кровному врагу. Один только Юрбен оставался спокойным и безучастным. За обедом он по обыкновению своему ел основательно, заботясь о том, чтобы восстановить свои силы, тогда как за ужином, проглотив похлёбку, отрезал ломоть хлеба и ел его всухомятку, полагая, что много есть в конце дня, когда уже не нужно затрачивать больших усилий, в его положении непозволительно.
За столом семья быстро умиротворилась. Ненависть лишь вспыхнула, погорела немного и погасла. Луиза Мюзелье, хотя и признавала за этим соперничеством домов некоторую тонизирующую ценность, всё-таки хотела, чтобы вражда в конце концов закончилась. Сближение позволило бы осуществить обмен кое-какими участками выгодный как для одной, так и для другой семьи. А главное, она была бы рада, если бы Арсен женился на Жюльетте Мендёр, очень красивой, гордой, трудолюбивой девушке, которая народила бы ему красивых детей. В семье лишь одна Луиза поднялась до истинного понимания ценности человека, на которого все обычно смотрели только как на рабочий инструмент и как на источник богатства. Она была даже готова допустить, что красивый ребёнок не менее ценен, чем красивый бык.
Виктора так и подмывало изложить вслух историю конфликта, чтобы показать его нелепость, но как бывало уже не раз, он побоялся рассердить брата, который, несмотря на свою молодость, сдержанность и немногословность, пользовался в семье, не делая для этого никаких усилий, необъяснимым и неоспоримым авторитетом. Кроме того, Арсен не принадлежал к числу тех людей, на которых действуют аргументы чисто морального свойства. Нечего было и думать о том, чтобы унизить его с помощью логических доводов, так как он и не стремился быть правым. Со вздохом человека, опередившего своё время, Виктор опять оставил при себе все свои аргументы, а тем временем Луиза стала расспрашивать Белетту, которая пасла утром коров на коммунальных лугах, расположенных на другом краю коммуны. Среди прочего служанка сообщила им, что, направляясь на луга и проходя мимо леса, она заметила на лесной дороге какую-то босоногую девушку в белом платье.
— Волосы у неё, пожалуй, чёрные, так мне показалось, но только как-то по-чудному она была причёсана. Я не успела как следует разглядеть, но на голове у неё было что-то вроде большого сверкающего гребешка. Если бы не её босые ноги, то я бы подумала, что она из какой-нибудь богатой семьи.
В конце концов решили, что та девушка и в самом деле, наверное, была из какой-нибудь зажиточной семьи, потому как нынче, в наши странные времена, если кто-то и ходит босиком, то это ещё не является слишком серьёзным признаком нищеты и падения.
Так вот Арсену пришлось вспомнить о Вуивре, но по сравнению с собачьей дракой его утренняя встреча выглядела событием в общем незначительным. Лучше не задерживаться подолгу на том, что порой попадается на глаза, но не входит в нашу жизнь. Вопрос сводился к тому, была ли Вуивра существом сверхъестественным. Арсен в этом не сомневался. Он спокойно принимал это как факт, не делая из него никаких выводов. Он поместил утреннее видение в один из уголков своего мозга, в своего рода непроницаемую ячейку, где оно могло пребывать, не рискуя потревожить его мир. Поскольку сверхъестественное ни в каком деле употребить невозможно и поскольку к тому же встречается оно не так уж часто, то разумнее и приличнее вообще не принимать его во внимание. Например, лично Арсена всегда коробило Евангелие. Манера апостолов повсюду рассказывать про увиденные ими чудеса казалась ему неприличной. На их месте он ничего не стал бы говорить. Ведь настоящая вежливость, настоящая воспитанность как раз в том и состоят, чтобы держать при себе всякие истории, которые могли бы потревожить мир. Это было настолько ясно и понятно, что из жителей Во-ле-Девера только слабоумные и алкоголики, вроде могильщика Реквиема, хвастались, что видели Вуивру. Лично Арсена никакая сила не заставила бы рассказать об этом своим родным. К тому же, вскоре он и вообще перестал об этом думать.
После обеда Виктор прошёлся немного с братом, который опять отправлялся на Старую Вевру. Остановившись на краю дороги, они замолчали, увидев приближавшуюся к ним с граблями на плече Жюльетту Мендёр. Ощущая на себе взгляды братьев, она шла гордо и прямо, с высоко задранным подбородком, но при этом щёки у неё горели, а неподвижные глаза, не мигая, смотрели вперёд. Арсен слегка покраснел. Воспоминание о Вуивре, выходящей из пруда, побуждало его угадывать под тканью платья очертания тела. Когда Жюльетта прошла, Виктор прошептал:
— А красивая всё-таки девка. И к тому же непрочь хоть сейчас выйти замуж.
— Ну я ей в этом не помеха, — сухо отпарировал, Арсен.
Хотя вообще Жюльетта ему нравилась и он хотел бы на ней жениться. Однако поскольку она была слишком бедна и её приданое не могло помочь Арсену осуществить некоторые его мечты, то он запретил себе даже думать об этом браке, а ссору с соседями поддерживал как раз для того, чтобы было легче бороться со своими желаниями.
Из коровника вышла Белетта, подгоняя коров, которых она вела на общинное пастбище.
— У каждого, конечно, свой вкус, но мне она кажется красивее Белетты.
Он удалился, всем своим видом показывая, какой он тактичный человек. Арсен на это только улыбнулся и присоединился к пастушке, чтобы проводить её. Он обычно выказывал ей дружбу, к которой в семье Мюзелье относились настороженно. Как-то раз, отправившись в Доль на ярмарку, он на сэкономленные деньги купил ей платье — довольно красноречивый жест щедрости со стороны такого экономного парня. Луизе было не по душе, что её сын снисходит до такого тщедушного создания. На худой конец она бы ещё согласилась, хотя и не без доли сожаления, поскольку считала такие вещи и нечистыми, и нечестными, чтобы он овладел ею где-нибудь на краю оврага, но предпочла бы, чтобы он сделал это с тем необходимым презрением, которое пристало всяким гнусностям. Для Луизы, придававшей большее значение семьям, нежели индивидам, Белетта была прежде всего одной из Беле, одной из представительниц племени нищих и вороватых бездельников, отторгнутых Во-ле-Девером и перебравшихся в Ронсьер, где они продолжали влачить всё такое же позорное существование. Белетиха, мать Белетты, когда пришла предлагать дочь на ферму, имела наглость потребовать дополнительно пять франков в месяц с учётом возможных дополнительных перегрузок от присутствия двух молодых и сильных мужиков в доме. И вот это самое притязание, из-за которого тогда чуть было не сорвались торги, теперь вдруг показалось Луизе оправданным, отчего с некоторых пор её не покидало неприятное ощущение, что она является должницей семейства Беле.
Расставаясь с пастушкой у фермы Мендёров, Арсен посоветовал ей особенно внимательно следить за стельной коровой. Вспоминая об ударах палкой, полученных во вражеском дворе, Леопард пропустил стадо вперёд и, забыв про гордость, спрятался в тени хозяина. Белетта, отпустив замечание по этому поводу, добавила доверительным тоном:
— А всё-таки, что бы там Виктор ни говорил, Мендёры порядочные свиньи. Я не хотела тебе об этом сообщать, но несколько дней назад, как-то вечером, когда я возвращалась с молочного завода, Арман попытался меня лапать.
Однако действия Армана, похоже, не очень возмутили Арсена. Возможно ему не очень верилось, что факт этот действительно имел место, так как он знал за Белеттой склонность привирать. Он просто спросил её:
— Ну и что же он у тебя лапнул?
Белетта только прикусила губу и вся покраснела от злости, а Арсен улыбался, глядя, как она срывает зло на собаке; Белетта напомнила Леопарду палкой о его обязанностях, обзывая пса одновременно старым козлом, чучелом гороховым и вонючей падалью.
4
Косы не было видно ни там, где Арсен её оставил, на последнем скошенном валке, ни вообще на лугу. Ему пришла было в голову мысль, что это Мендёры решили сыграть с ним скверную шутку, но он тут же отмёл это предположение. Подобно большинству жителей края, Мендёры всегда были готовы злоупотребить своими правами, но к чужому добру относились с уважением. Уже совсем собравшись возвращаться домой за другой косой, он вдруг подумал, что такой фарс вполне могла сыграть с ним и Вуивра.
Придя на пруд, Арсен заметил платье Вуивры на том самом месте, где оно лежало утром. Рубин горел ярко-красным пламенем, а железное лезвие косы поблёскивало в траве в нескольких шагах от него. Арсен подобрал косу, осмотрел её, проверил большим пальцем остриё. Успокоившись, он поискал глазами Вуивру в пруду, но вода нигде не дрожала и на берегу тоже никого не было видно.
Прежде чем вернуться на Старую Вевру, он задержался немного, наклонился над льняным платьем, задумчиво посмотрел на рубин. Он был бы рад завладеть огромным богатством, занимавшим так мало места, но эти грёзы не слишком горячили его кровь. Могущество, которое сулило обладание драгоценным камнем, настолько превышало его запросы работящего крестьянина, грозило сделать жизнь настолько несоответствующей его вкусам, настолько чуждой тому, чем он занимался сейчас, что он думал о нём с враждебностью, как будто с ним было связано отречение от чего-то самого важного. Ведь завладев таким сокровищем, он был бы вынужден по существу отказаться от самого себя и от всего того, что приносит радость и гордость, когда человек напрягает свою силу и волю. Многомиллионное состояние сразу отняло бы цель у его стремления преуспеть, у его предпринимательского духа и у его страсти к преодолению трудностей. Самое большее, на что он мог бы рассчитывать, так это на угрюмые радости скупца, осознающего свою силу, но неспособного пользоваться ею. Все эти доводы, которые он, путаясь, перебирал в уме, вносили в его мысли невообразимую сумятицу, однако при этом он твёрдо помнил, что завладеть таким сокровищем всегда считалось большой удачей. Предприятие влекло его ещё и связанной с ним опасностью. Взяв диадему, он посмотрел сквозь рубин на свет и был очарован его красным свечением. Ему подумалось, что, обладай он чрезмерным богатством, при любых поджидавших его огорчениях он бы утешился, женившись на Жюльетте Мендёр и приспособив для всякой подсобной работы Армана, который стал бы приходиться ему шурином, но которого он всё равно продолжал бы презирать. И всё же Арсен смотрел на своё будущее с некоторой обидой. Он нехотя скрутил диадему, сделав из неё восьмёрку, и сунул в карман.
Поднимая косу, он заметил, что по пруду к берегу плывут с поднятыми вверх головами три змеи. Внезапно возникшее подозрение заставило его обернуться и он побледнел от страха и отвращения. Вся трава на подступах к лесу кишела полчищами змей, которые со злобным посвистом направлялись к нему. В тени опушки они покрывали всю землю движущимся переливчатым ковром, тогда как ближайшие ряды образовали торопливую волну, которую яркий солнечный свет расцвечивал всеми цветами радуги. Из ближайших кустов, справа и слева, выползали другие гадюки, а издалека по всему открытому пространству к нему спешили легионы гадюк и ужей, причём некоторые из них достигали ужасающих размеров. Казалось, что всё пространство между прудом и лесом пришло в движение и покрылось зыбью, словно вдруг ожила сама земля.
Стиснув зубы, Арсен вытащил из кармана сплющенную диадему, бросил её на платье и, покрепче зажав косу в похолодевших от страха руках, отступил назад, забыв про тех трёх змей, что плыли по пруду. Перед ним меньше чем в двадцати метрах стремительно двигалась ползущая волна. Справа от Арсена один аспид, опередивший остальное вязкое сонмище, приблизился к его ногам. Резким ударом каблука он размозжил гаду голову. Было слышно, как при ударе о сухую, жёсткую землю хрустнула челюсть змеи, но тело всё ещё продолжало жить, и хвост, стремясь подтянуться к голове, яростно бился о его башмак. Решив, что ему пришёл конец, Арсен подумал было препоручить свою душу Богу, но побоялся отвлечься на молитву и уменьшить таким образом и без того слабые шансы на спасение, которого можно было постараться добиться с помощью силы и ловкости — он довольно безрассудно полагал, что тень надежды на этой земле стоит больше, чем твёрдая гарантия на том свете. Наблюдая за приближающимися рептилиями, он внезапно почувствовал, как холодное, длинное тело обвивает его ногу поверх тонкого полотна штанины, и по форме головы узнал ужа. Его размеры значительно превышали размеры обычного ужа, и мощное объятие уже почти парализовало ногу. Всего каких-нибудь три метра оставалось между ним и ползущей ордой, когда её резко остановил послышавшийся внезапно свист. Десяток змей, немного опередивших остальных, вздыбились, словно кони, и застыли угрожающей в позе. Арсен со свистом махнул своей косой и мастерским ударом снёс все торчавшие головы. Уж, обвивший его ногу, разжал свои кольца и соскользнул на землю. Среди атакующих наметилось попятное движение, но поскольку оно оказалось несогласованным, среди змей возникло настоящее столпотворение. Рептилии сталкивались, наползали одна на другую, стараясь в этой волнообразной ощетинившейся сутолоке опередить друг друга, и вырваться вперёд. Арсен увидел слева от себя бегущую к нему Вуивру, которая только что выскочила из пруда; вся в струях воды, она одним прыжком перескочила через ручей, издавая яростные крики, но он, не помня себя, опьянённый начавшейся бойней, снова поднял свою окровавленную косу и, шлёпая по крови посреди обрубков, которые извивались в поисках недостающих частей своих тел, резанул со всего размаха лезвием косы по самой гуще свалки. Сталь вошла в кучу с такой силой и так метко, что движение её при столкновении с этой живой массой почти не замедлилось. Удар взметнул в воздух головы и хвосты, рассёк переплетённые тела, а одну свернувшуюся кольцом гадюку разделил сразу на три части. Кровь текла ручьём, брызгая на кишащих в красных лужах змей.
Голая, с распущенными волосами, Вуивра налетела на Арсена и влепила ему увесистую, звонкую пощёчину, обозвав скотиной и мужланом. Он отстранил её движением плеча и с диким хохотом продолжил свою косьбу. Его коса и башмаки были красными от крови и его руки тоже были забрыз ганы кровью по локоть. Он словно потерял рассудок, и при каждом взмахе косы его зубы скрипели от кровожадного удовольствия. После первой минуты паники, змеи ускорили своё отступление к лесу, а он бросился за ними в погоню, рыча, как зверь. Вуивра, бежавшая следом, схватила Арсена за запястье и, остановив его, стала обеими руками изо всех сил хлестать по щекам. Её зелёные глаза горели, словно раскалённый добела металл, побледневшая верхняя губа приподнялась, обнажив зубы и приглушив её торопливые слова.
— Мужлан! Убийца! Напрасно я не дала тебя сожрать, — бесилась она.
Внезапно ярость Арсена обернулась против неё. Поскольку малое расстояние между ними не позволяло ему воспользоваться для защиты косой, он отбросил её и попытался схватить на лету руки Вуивры. Более проворная и ловкая, чем он, она ускользнула от него и продолжала метко лепить ему пощёчины. Он бросился на неё и ударил наудачу сразу двумя кулаками с неразмышляющим неистовством человека, который никогда не дрался и не боится ни за себя, ни за противника. Не такая сильная, как он, но более сообразительная, Вуивра отвечала ударом на удар и успешно защищалась. Чтобы поскорее закончить драку, Арсен схватил её в охапку, не сумев, однако, зажать ей руки, и попытался повалить. Она упорно сопротивлялась, изогнув спину, упираясь ногами, мешая ему руками и ногтями осуществить маневр. Иногда, уже совсем было уступая, она вдруг плавным обманным движением восстанавливала равновесие и сбивала его с толку. Когда он прижимал к своей рубашке тело обнажённой девушки, ему вдруг начинало казаться, что он борется со змеёй, змеёй гораздо более опасной, чем все остальные вместе взятые, злой и лукавой, как исчадье ада. Нечаянно наступив башмаком на её голую ступню, он надавил всем своим весом и, когда она от боли закричала, прошептал: «На вот, ори, дрянь такая!» Одновременно он ударил её коленкой в живот и, схватив одной рукой за волосы, а другой за подбородок, крутанул голову вокруг шеи. Вцепившись ногтями ему в предплечье, она вдруг перестала защищаться, и её напрягшееся в борьбе тело обмякло.
— Всё-таки я тебя укротил, — ликовал Арсен.
Увидев, что она закрыла глаза, а по её безжизненному лицу разлилась неестественная бледность, он испугался, что убил Вуивру. Взяв девушку на руки, он отнёс её на берег ручья и положил на траву так, чтобы голова находилась в тени от куста. Вуивра по-прежнему не шевелилась, но лицо её приняло мягкое, умиротворённое выражение, будто смерть застала её во сне. Арсен вспомнил, как когда-то читал в одном епархиальном календаре, что убить человека, не получившего христианского крещения, и таким образом закрыть перед ним врата неба, является одним из самых страшных преступлений. В данном случае он имел дело с существом, разумеется, сверхъестественным, может быть, даже с неким порождением ада, но ведь именно такие и нуждаются в первую очередь в том, чтобы у них всё было приведено в порядок. Ему хотелось надеяться, что в его жертве ещё теплится дыхание жизни, и, зачерпнув из ручья пригоршню воды, он поторопился исполнить над ней обряд крещения. Лицо её было по-прежнему бледно и неподвижно. Приложив влажные пальцы к её лбу, он громко произнёс:
— Я приношу тебе крещение во имя Отца…
Он успел сказать только это. При слове «Отец» она села, широко раскрыв свои сверкающие глаза; щёки её порозовели, к ней снова возвращалась жизнь:
— Во что ты суёшься? — сказала она, хватая его за запястье. — Нельзя же крестить людей, не спрашивая их мнения.
— Когда меня крестили, — заметил Арсен, — моего мнения никто не спрашивал.
Вуивра улыбнулась, и в её взгляде появилась нежность, тронувшая его.
— Так ты, значит, хотел спасти меня от ада?
— О! То что я делал, относилось скорее ко мне. Чтобы не обременять себе совесть.
Она предложила ему сесть рядом, и они стали обсуждать разыгравшееся побоище.
— Я вот сейчас думаю, — сказал Арсен. — Я же чуть было не убил вас, а ведь вам, если бы вы только захотели, было бы достаточно позвать своих змей, и они бы меня сожрали.
— Мне даже и в голову это не пришло.
— А перед этим, если бы не ваш свист, который сразу остановил их, я бы наверняка пропал. Сначала я даже не понял, что происходит.
— Поскольку ты бросил рубин, то, может, и выкрутился бы как-нибудь, но рисковал ты сильно. Часто бывает достаточно двух-трёх укусов гадюки. Обычно, когда кто-нибудь хватает мой рубин, я предоставляю вору самому разбираться со змеями. Это для них в какой-то мере вознаграждение. А вот тебя я не хотела подвергать риску.
Вуивра приблизилась к Арсену, положила руку ему на плечо и продолжала:
— Ты можешь себе представить, что за последние пятьдесят лет ты оказался первым мужчиной, который посмотрел на меня так, как мужчина смотрит на женщину? Другим нужен только мой рубин. На меня они почти не обращают внимания. Ты бы только посмотрел на них, когда они, несчастные идиоты, застывают в стойке перед рубином: голова уходит в плечи, как у хищников, лицо вытягивается, рот перекашивается. И все дрожат мелкой дрожью. А когда, так и не решившись, они видят меня, выходящую из воды, то взгляд, который они бросают в мою сторону, полон испуга и ненависти, как у собаки, которую заставили выпустить кость. Уверяю тебя, они сразу становятся такими некрасивыми в этот момент. Хоть молодые, хоть старые — все на одно лицо. Да вот, например, вчера был такой случай, когда я купалась в Ну. Выхожу, значит, на берег и вижу: стоит возле моего платья на коленях мальчишка лет пятнадцати, весь красный от волнения. От рубина у него прямо глаза на лоб вылезли. Руки тянет к нему, а взять не смеет. Даже зубами стучит. Когда я подошла, он встал. Повернул глаза в мою сторону, но, понимаешь, на такое короткое мгновение, что мне даже не удалось поймать его взгляд. И тут же опять уставился на рубин. Я попыталась с ним заговорить, спросила, видел ли он уже когда-нибудь голых женщин. Нет, я была первой. Я попыталась заинтересовать его вещами, которые, как мне кажется, должны были бы больше привлекать мальчика в таком возрасте, но куда там: мысль, что он может стать богатым так быстро и так просто, превратила его в какого-то бесчувственного идиота. А ведь ему всего пятнадцать лет. А вот ты, ты не такой, как он.
— Не знаю уж, что меня подтолкнуло. Вообще-то меня всякие такие истории не очень волнуют.
— Когда я вышла из воды, я прекрасно видела, что ты не отрываешь от меня глаз. Ты ведь тогда не думал о рубине, а? Меня это так взволновало! Мне нужно было сразу с тобой поговорить, но я почувствовала себя какой-то неловкой. Да я, конечно, и была неловкой.
Вуивра говорила доверительным тоном с трогательными переливами в голосе, то повышая, то понижая тембр. Она взяла своего собеседника за руку и, наклонившись к нему, не сводила с него взгляда своих зелёных глаз, потемневших от нежности. Арсен ясно видел, к какому завершению движется разговор, и, ничего не делая, чтобы уйти от него, всё-таки боялся этой развязки. Не зная, чем это может для него обернуться, он опасался, как бы удовольствие, полученное в обществе существа, связанного с адом, не обошлось ему слишком дорого. Хотя, впрочем, независимо от того, кем было это существо — посланником ада или нет, так или иначе, любое существо, с которым грешишь, всё равно действует по наущению беса. И может быть, даже более простительно уступить какому-нибудь приспешнику дьявола, чем случайным посредникам, мелким, не очень опытным и не очень изощрённым подмастерьям. Впрочем, маневры Вуивры не оставляли ему достаточно свободы духа, чтобы обстоятельно поразмыслить о всех последствиях возможной слабости. Теперь она обняла рукой его шею и говорила тихо-тихо, приблизив свои губы к его губам. Да и он тоже не оставался бездейственным, а когда подошло время, то сделал всё, что было нужно, чтобы обременить свою совесть достойным сожаления воспоминанием.
Вуивра рассчитывала, что весь остаток дня будет посвящён утехам, но Арсен встал и сказал, застёгивая ремень:
— Забавы — это, конечно, хорошее дело, но время-то идёт, а работа стоит.
Она состроила недовольную мину, в которой присутствовало и немного презрения. С серьёзным, почти суровым видом он добавил нравоучительным тоном, словно собираясь читать проповедь:
— Работа — это не такая вещь, которая позволяет о себе забывать. Завтра утром на луг придут сушильщики сена, и если они не увидят скошенной травы, лежащей на земле, то получится, что я не сделал того, что должен был сделать. Нет, работа, как я сказал, — это не такая вещь, которая позволяет о себе забывать.
А между тем на этом открытом пространстве, со всех сторон окружённом лесом, стояло жаркое лето, никак не располагавшее к работе. Голубой, без единого отражённого облачка пруд нагревался посреди своих раскалённых берегов, а рядом с молодыми людьми в горячей, испачканной кровью траве, которую успели облепить рои чёрных мух, лежали разрубленные на части змеи.
— Работа прежде всего, — настоял Арсен.
Единственным ответом Вуивры была приветливая, сдержанная улыбка, похожая на улыбку взрослого человека ребёнку. После чего, встав на цыпочки и широко разведя в стороны руки, она медленно потянулась и пошла надевать платье. Видя, как она удаляется, озарённая солнцем, голая и свободная, Арсен ощутил в себе всплеск энтузиазма, правда, слишком мимолётный, чтобы подвигнуть его на какие-то действия, но всё же оставивший ему напоследок ощущение собственной тяжеловесности.
5
Луны в тот вечер не было, и братья в темноте неторопливо прогуливались по усадебному двору. Леопард молча подбежал к ним, чтобы обнюхать, и когда Арсен, отвечая на дружеское приветствие пса, ткнул его коленкой в бок, отправился снова к себе в конуру. Остановившись на краю дороги, они закурили.
— Ну как Старая Вевра, всё в порядке? — спросил Виктор.
— В порядке.
— Никого там не видел?
— Никого.
— Жалко, что по такой хорошей погоде мы не начали с луга. Мне хотелось бы побыстрее развязаться с этим. Завтра, если начнём в три косы, то скорее всего к двенадцати уже и закончим.
— Хватит там и нас двоих, — ответил Арсен. — Юрбен на тяжёлой работе уже не тянет. На таком участке да ещё с дрожащими руками он только сломает нам косу и всё.
— Да я, в общем, даже и не из-за работы, которую он сделает, — стал оправдываться Виктор. — Я прежде всего из-за матери. Не взять с собой старика завтра утром — это всё равно, что сказать, что он ни на что больше не годится, и тогда она захочет избавиться от него ещё до осени.
— Это я сказал ей уволить его.
Виктор от этих слов потерял дар речи. Хотя он уже достаточно хорошо знал своего брата, ему бы и в голову никогда не пришло, что идея уволить старика могла исходить от него. Юрбен, проработавший у Мюзелье тридцать лет, был свидетелем рождения Арсена, а когда ребёнок ещё в колыбели потерял отца, привязался к нему, как к сыну. На ферме помнили, как этот, обычно невозмутимый и молчаливый человек оживлялся и радовался вместе с ребёнком, находил нежные слова, чтобы утешить его в горе. Позднее он научил его запрягать лошадь, ухаживать за ней, держать косу, вести прямо борозду, сеять зерно и многое другое — забивать свиней, делать изгороди, прививать яблони. Надо сказать, Арсен всегда относился к нему с уважением, а если и проявлял иногда в разговоре своеобразную властную сухость, то она мало чем отличалась от той интонации, с которой он иногда обращался к членам семьи.
— Неужели ты можешь с ним так поступить? — возмутился Виктор.
— Нельзя же держать его вечно. А раз так, то чего ждать? Он ведь уже старый.
Арсен заметил это таким безразличным тоном, словно речь шла об изношенности какого-нибудь инструмента.
— Всё равно, я скорее ожидал, что ты станешь его защищать, — сказал Виктор. — Как вспомнишь, кем он был для нас. Человеком, который никогда не жалел ни времени своего, ни сил, который был у нас просто как член семьи. Боже мой, и что он тебе сделал? Что ты имеешь против него?
— Ничего я против него не имею. Напротив.
— Ну а тогда разве тебе не тяжела сама мысль, что мы больше не будем его видеть?
— Это вовсе не помешает нам видеться.
— Я просто не могу поверить. Из-за какой-то мелочной экономии. К тому же, если его хлеб и будет нам что-то стоить, он всё равно его отработает.
— Ты говоришь не по делу, — отрезал Арсен невозмутимым голосом. — Я о нём позаботился.
Виктор ждал, чтобы брат объяснил, что он имеет в виду. Но Арсен, у которого редко возникала потребность давать объяснения по поводу своих действий, молчал. Да и на протяжении всего разговора он был замкнут, и брат понял, что, продолжая расспросы, ничего не добьётся, а только напрасно будет портить себе нервы. Виктор направился домой, а Арсен медленно пошёл по дороге, гулко ступая в ночи своими башмаками.
Луиза мыла посуду. Эмилия вытирала её, а Белетта пырейной щёткой скоблила большой стол из белого дерева.
— Хорошая будет завтра погода, — сообщил, входя, Виктор. — Во всяком случае ночь довольно тёмная.
И добавил, повернувшись к Белетте:
— В такую вот ночь тварь Фарамина непременно выйдет прогуляться.
Белетта рассмеялась, но лицо её побледнело от охватившей душу тоски, а взгляд сразу стал каким-то отрешённым.
— Это для неё самое что ни на есть время, — поддержала сына Луиза Мюзелье. — В такую чёрную ночь, как эта, когда на дорогах тепло и приятно, тварь Фарамина не может удержаться, чтобы не выйти из леса. Ей нужно поскакать на воле.
Виктор не без удовольствия подумал о том, какую жестокую игру он только что затеял. Ещё накануне, после ужина, мать начала пугать служанку этой самой сказкой, чтобы наказать её, а может, и для того, чтобы разубедить её таким способом выходить на дорогу, чтобы встречаться с Арсеном, как она это делала каждый вечер. Склонившись над своей щёткой, Белетта опасливо смотрела на хозяйку из-под непокорной пряди, падавшей ей то на один глаз, то на другой.
— Я же знаю, что всё это неправда. Никакой твари Фарамины и не существует вовсе.
— Не существует? Ну так ты сходи да спроси у Клотера Герийо, существует она или нет. Он её видел, так что он тебе всё расскажет. Да и я тоже, может, припомню.
Стремясь убедить служанку, Луиза начала рассказывать историю Клотера и мало-помалу сама увлеклась своим рассказом.
— Сказать, чтобы это было вчера, так нет, я не скажу, ясное дело, это было не вчера, я говорю о том ещё времени, довоенном, сорок лет назад, и даже больше того. Вот, вспомнила, это было как раз тем летом, когда у Бувьона горело, вы знаете их дом, по левую руку, там, где две крыши соединялись под углом, немного в глубине. Хотя нет, Виктор, ты его не знал. Подумать только, Клотер-то тогда только-только женился. А его жена, бедняжка Леонтина, она была Турнер, из тех Турнеров, что в Ронсьере, по ремеслу-то они все плотники. Приличные люди, работящие. Дом, где все знали, как себя вести. И вот в один прекрасный день, как вы сейчас сказали бы, а было это в конце июня, случилось так, что Клотеру понадобилось идти туда по делу. Какое уж там дело, может, я тогда-то и знала, какое, а вот сейчас, столько времени прошло, что я уж даже и запамятовала. Если всё держать в голове, сами подумайте. Ну и вот, отправляется он, значит, туда, приезжает, делает свои дела, а вечером остаётся ужинать у своих тестя с тёщей. Вы же сами знаете, что это такое, когда люди встречаются, об одном надо поговорить, о другом, всегда найдётся, что сказать, а там уж и одиннадцать часов на дворе. А от Ронсьера досюда почитай километров пять или шесть будет. Это не так уж и далеко, особенно если как раньше, в то время, про которое я вам говорю, ходили на своих ногах и ног-то не жалели. Ну и вот, когда полночь пробило, собирается всё же мой Клотер в путь. Одним — до свидания, другим — до свидания. Ты главное, говорит ему тесть, не встреть тварь Фарамину. Он-то ему, сами понимаете, говорил смеху ради. Шутил он так. Ночь тогда была хорошая, летняя, но безлунная. Выходит, значит, мой Клотер из Ронсьера, проходит Два Дуба, и вдруг ему как в голову ударит, что идёт кто-то за ним. Шаг-то мягкий такой, словно босиком кто идёт или будто зверь какой лесной. Оборачивается он, даже и не думает ещё ни о чём, не тревожится, оборачивается и ничего не видит. На выходе из Ронсьера лес подступает к дороге с обеих сторон совсем вплотную. Даже когда луна светит, чернота там, как в могиле. Ладно, думает себе Клотер, собака там или кошка, кто бы ни был, не съест же она меня. А сам всё-таки шажочки-то побольше делает. И слышит, шум-то сзади вдруг начинает приближаться; то ли человек идёт, то ли зверь какой с десятью лапами, никак не меньше. А кругом лес-то всё не кончается. Он поторапливается, а тварь чуть не на пятки ему наступает. Прямо слышно, как дышит. Ха, ха, прямо в шею так вот делает. Ха, ха! Ха, ха! И чувствует он, как один раз, потом второй волосатая лапа ему по руке проводит и по лицу.
Луиза прервала свой рассказ, чтобы пойти вылить во двор воду после мытья посуды, а когда вернулась, то притворилась, что больше и не думает рассказывать. Белетта, застыв с щёткой на весу, с болезненным нетерпением ждала продолжения. Между тем Эмилия расставляла посуду в шкафу, и этой работы ей вполне хватало, чтобы больше не думать ни о каких Фараминах. Виктор, слушавший невероятную историю вполуха, в этот момент проверял содержимое школьных ранцев двух своих сыновей. Поскольку Луиза была слишком горда, чтобы самой вернуться к рассказу, история про Клотера вполне могла бы остаться недосказанной. Белетта поняла, что если просьбы не последует, то это будет ударом по самолюбию хозяйки, и, желая отомстить ей, принялась опять скоблить стол. Но в конце концов не выдержала и, помимо собственной воли подняв голову, всё же спросила:
— А потом? Что потом случилось?
— Потом? Ах да, — сказала Луиза, вроде бы не очень торопясь продолжить рассказ. — На чём же это я остановилась? Сейчас. Так вот, как только Клотер вышел из леса, оборачивается он и видит чудовище. О! Ну конечно, насколько можно было что-нибудь разглядеть при свете звёзд. Господи, оборачивается, а перед ним — три головы, бледные такие, всё равно как у мертвецов, боже, и на каждой-то голове по одному большому глазу посреди лба, и качаются все эти головы на длинных шеях со змеиной кожей. А что больше всего его поразило, так это то, что величина этих голов не оставалась одной и той же. От размера тыквы они уменьшались до размера яблока, но не все вместе, а по очереди. Из тела-то он ничего и не видел, кроме серёдки, только вздутое брюхо совсем почти без волос и мягкое, как у крысы. Как сказал Клотер мне как-то раз, он думает, что тело-то у этого зверя нигде и не кончалось, будто края его смешивались с ночью. Представьте-ка себе такое. Ну мой Клотер тут так перепугался! И пришла ему в голову мысль перекреститься. Перекрестился раз, перекрестился десять раз и «Отче наш» прочитал и «Слава Тебе, Боже». В такой момент молитва на ум легко идёт. Да, прочитал, и что же? Эта тварь Фарамина, ей всё нипочём. И молитвы ей были вроде как песенки. Не смутилась даже, идёт рядышком с ним. Он-то старается и не смотреть на неё, а она как вытянет шею да как подтянет прямо ему под нос то одну голову, то другую, а то и три разом. А потом ещё и разговаривать начала. «Иди, — говорит она ему, — в лес, нас с тобой в полночь ждут». Вот тут-то Клотер и потерял голову. Да и то, поставьте-ка себя на его место. Он как пустился бежать, бежит как очумелый, прямо перед собой, всё прямо и прямо, бежит и бежит. А тварь-то тоже не отстаёт, а он, он чувствует себя так, будто даже темень сопротивляется ему. В конце концов он уже и идти даже не мог, стал спотыкаться, изнемогать. Ну а этой твари Фарамине только того и нужно. Она вскакивает на него, хватает его и начинает валять по земле. К счастью, тут он услышал, как лошадь где-то звенит колокольчиками, и закричал. А это были Кудрье, которые возвращались из Омона, где продавали свою муку. Когда они подняли Клотера, он лежал на дороге без сознания, всё лицо в крови, а одежда порвана. Можете себе представить, каково ему было.
Луиза сделала паузу и добавила:
— Само собой, она не каждый вечер попадается на дороге. Но всё-таки, скажу я вам, не очень мне это нравится, когда Арсен ходит где-то тёмной ночью. Лес так близко.
Белетта, застыв с расширенными глазами перед столом, смотрела на двери, отделявшие свет от мрака.
— Вот, я готов был побиться об заклад, — воскликнул Виктор, потрясая тетрадями своих двух сорванцов. — То-то я себе говорил: почему это они пошли так рано спать? А это, оказывается, чтобы задачки не решать.
— Я тебе много раз уже говорила. У этих детей нет гордости.
— Учитель задаёт им слишком трудные задачки, — вступилась Эмилия. — Задачки не по возрасту.
Луиза сурово посмотрела на неё, но сдержалась и ничего не сказала. Замечание невестки было слишком серьёзным и заслуживало такой обстоятельной критики, что служанке при этом лучше было не присутствовать. Луиза обернулась к Белетте и ласково посоветовала ей идти спать.
— Ты стоишь и вроде работаешь, а мысли у тебя совсем о другом. Иди, на сегодня хватит. Иди спать. Я сама домою стол.
А Белетте в этот момент как раз хотелось, чтобы работа удерживала её на кухне как можно дольше. Кладя щётку, она пожелала спокойной ночи таким потухшим голосом, что Луиза даже почувствовала угрызения совести. Выйдя во двор, Белетта сначала ненадолго задержалась в полосе света, едва сочившемся сквозь жалюзи и тут же обрывавшемся под кухонным окном. Она слышала, как Луиза заявила снохе, что та испортит своим детям всю жизнь. Ночь была тёплая, лёгкий ветерок шелестел листьями осин у края лужи, и казалось, что мрак мерцает. Белетта сняла башмаки, взяла их в руки и, набрав в лёгкие побольше воздуха, как перед погружением в воду, босиком перебежала через двор. Под сводом из двух орешников, где тень была ещё гуще, она явственно ощутила прикосновение твари Фарамины и чуть было не закричала, но на дороге скупой свет звёзд придал ей немного храбрости. Белетта понимала, что во время бега она ещё больше поддаётся панике, и поэтому пошла шагом, стараясь убедить себя, что стала жертвой своего расшалившегося воображения. Однако едва она поверила в это, как по коже у неё пробежала дрожь ужаса. Она поняла, что чудовище гонится за ней. Она слышала короткое дыхание у себя за спиной и те же самые мягкие шаги бесчисленных лап, которые слышал когда-то Клотер в ронсьерском лесу. Белетта пошла быстрее, но зверь тоже ускорил шаги, и дыхание его стало более хриплым. Ха, ха! Ха, ха! Обычно, когда Арсен выходил подышать ночным воздухом, он шёл сначала в сторону поля, удаляясь от деревни, но если он вдруг пошёл куда-то в другую сторону, то Белетта была просто обречена идти в ночи до полного изнеможения. Сжав зубы, она старалась не сорваться на бег и не осмеливалась кричать, чтобы не разозлить тварь и не ускорить развязку. «Ха-ха, — дышало чудовище. — Ха-ха». Потом оно заговорило своим невнятным, прерывающимся голосом и зловеще засмеялось. Белетта не поняла, что говорит тварь, но этот жуткий смех окончательно парализовал её. Не смея повернуть голову, она бросила косой взгляд вбок, и перед ней мелькнули три мертвенно-бледные лица, качавшиеся совсем рядом с её плечом. Она чувствовала, как у неё по икре ходит туда-сюда волосатая лапа. Теряя рассудок, она пустилась бежать со всех ног, зовя на помощь Арсена обессиленным, беззвучным голосом умирающей. Фарамина принялась выть, гоготать, подпрыгивать с головокружительной быстротой. Вдруг на дороге перед Белеттой выросла тень.
— Что случилось? — спросил Арсен. — Ты чего-то испугалась?
Белетта бросилась к нему, крепко обняла, прижалась головой к его груди, тычась в неё лбом, как баран, который пытается сделать в чём-то углубление и устроить себе там пристанище. Он со смехом взял её под мышки, приподнял, подержал немного перед собой и поставил на ноги. Белетта уже успокоилась, но продолжала с тревогой вслушиваться в ночные шумы.
— Хватит, Леопард, довольно, — сказал Арсен. — Лежать, дурья голова.
Белетта рассмеялась и, надев опять башмаки, шутливо обратилась к Леопарду. Её маленькая ручка лежала в жёсткой ладони Арсена, две пары башмаков постукивали по дороге, и она ничего не боясь, шагала, глядя на усыпанное звёздами небо и не видя мрака, простиравшегося внизу. Какое-то время они шли молча.
— Ну-ка давай повторим, — произнёс наконец Арсен. — Восемью семь?
— Пятьдесят шесть.
— Восемью девять.
— Семьдесят один. Нет, семьдесят два. У меня на языке вертелось.
Белетта, почти не ходившая в школу, отвечала не так, как требует учитель, а будто она просто беседует, и Арсен с некоторым сожалением вспомнил, как школьники нараспев отвечали в классе. Задав ещё несколько вопросов, он остался доволен её ответами:
— Ты, наверное, помнишь, что я тебе обещал? Если ты будешь хорошо знать таблицу умножения, я привезу тебе что-нибудь с ярмарки в Доле. Что бы ты хотела?
Белетта задумалась. Опасаясь попросить слишком мало, она положилась на его выбор. Когда они возвращались обратно, он стал рассказывать ей о Юре, чтобы она имела хотя бы самое общее представление о крае, где родилась. Белетта сделала вид, что ей очень интересно, хотя про себя думала, что и этот вечер прошёл впустую. Сегодня он тоже явно не собирался говорить ей про любовь. Когда они входили во двор, Белетта спросила Арсена, верит ли он в тварь Фарамину. Он с невозмутимой убеждённостью ответил, что нет, не верит. Однако, немного подумав, добавил как бы для самого себя:
— Хотя почему же? Может быть, она и существует.
Белетта спала в расположенном за ригой помещении, которое называли комнатой для инструментов, там лежали новый и старый инвентарь: лопаты, мотыги, пилы, грабли, садовые ножи, бороны, а также корнерезка и давно уже сломавшаяся веялка. Расположенная с северной стороны и не имевшая в качестве отверстия для света ничего, кроме круглого слухового окна, комната была сырой и холодной. Туда поставили ещё бочку вина а также мешки с картошкой и свёклой. Привыкшая у родителей к условиям ещё менее пригодным для жизни, Белетта не страдала ни от отсутствия комфорта, ни от запаха вина и плесени, но в этом глухом помещении её всегда пугало одиночество. Расставшись с Арсеном, она легла в постель, но через час, который показался ей четырьмя часами, сна у неё всё ещё не было ни в одном глазу. Белетте чудилось, что Фарамина проскользнула вслед за ней в комнату, она слышала, как та шевелится, пыхтит, посмеивается, пришёптывает. Когда девочка поворачивалась на другой бок, шелест набитого кукурузными листьями матраса пугал её так, что от страха начинали стучать зубы. В конце концов она встала, подошла к двери, где находился выключатель, и зажгла свет, но, понимая, что как только он погаснет, Фарамина опять возникнет из мрака, она решилась пойти и разбудить Юрбена.
Старик спал в глубине конюшни, за деревянной перегородкой, доходившей до середины стены. Он жил там уже тридцать лет, не имея никакой другой мебели, кроме кровати, стула и полки из белого дерева, куда он клал чистое бельё и ещё кое-какие свои вещи. Подумав, что в доме вспыхнул пожар, он, не задавая вопросов, оделся и пошёл следом за Белеттой к ней в комнату. Поскольку у него не было времени надеть свою фуражку с откидным клапаном, девочка впервые увидела Юрбена без головного убора, и его лицо в обрамлении седых волос показалось ей таким старым и таким суровым, что она, смешавшись, побоялась поделиться с ним своими страхами.
— Я вас потревожила, — извинилась она, — но мне кажется, что у меня бегают крысы.
Старик закрыл дверь и, не говоря ни слова, стал методично осматривать комнату. Белетта опять улеглась в постель и следила за его поисками без малейших угрызений совести. После тщательного обследования, продлившегося минут пятнадцать, а то и больше, старик глухим, словно исходившим из-под земли голосом, тем более непривычным, что говорил он очень редко, заявил:
— Крыс тут нет. Можешь спокойно спать.
Он был уже у двери и поднял руку, чтобы выключить свет.
— Юрбен, — прошептала Белетта, — мне страшно.
Он посмотрел на неё и повернул выключатель. В темноте она слышала, как он подошёл к кровати и сел на стул.
— Я тут, — сказал он. — Спи.
Высунув руку из-под одеяла, она наощупь потянулась к нему. Старик взял руку девочки и держал её в своей ладони до тех пор, пока Белетта не заснула.
6
— Отец, я хочу признаться, что согрешил с исчадием ада.
Кюре за своим окошечком недовольно зашевелился и закашлял. Он чувствовал, что его ждёт неприятное дело. Этот Арсен Мюзелье не был плохим христианином, скорее наоборот, хотя и ходил на мессы не очень регулярно. В общем, если поразмыслить, он был хорошим христианином, или, точнее, хорошим католиком. Однако для того чтобы почувствовать потребность исповедаться всего через два месяца после Пасхи, нужно иметь на душе и в самом деле что-то серьёзное. Девушка забеременела или скандал в какой-нибудь семье.
— А я-то считал тебя серьёзным парнем. Кто-нибудь отсюда?
— Не совсем. Откуда она, этого я не знаю. Говорю же вам, исчадие ада.
— Ты только не пытайся всё свалить на неё. Исчадие ада — это очень удобно.
Арсен начал подозревать, что в глазах его исповедника выражение «исчадие ада» выглядело чем-то, относящимся к области чистой риторики.
— Не знаю, как бы вам это объяснить. Когда я говорю «исчадие ада», то имею в виду вовсе не какую-нибудь шлюху, вроде той же самой Робиде, что спит с Реквиемом, и не шельму, которой нужен мужчина и которая умеет его себе заполучить. Нет, я вам говорю о женщине, сотворённой бесом, у которой нет ни отца, ни матери, ни семьи, ни дома. Понимаете, о женщине, для которой ни деньги, ни смерть не имеют значения. По-другому просто не могу вам объяснить.
— Что ты мне тут басни рассказываешь?
— Я знаю, что это может показаться смешным, и всё-таки это правда.
— Но у этой девицы, у неё есть имя?
— Конечно же, у неё есть имя.
Арсен замолчал, раздосадованный. Ему бы не хотелось называть имя Вуивры.
— Арсен, — проворчал кюре, — поостерегись. Знаешь, что ты сейчас делаешь? Это называется умолчанием на исповеди.
— Да я только и хочу, что сказать вам всё. Девица, о которой я говорю, это Вуивра.
— Вуивра! Скажи-ка, Арсен, ты пришёл сюда, чтобы посмеяться надо мной?
— Вот ещё! Теперь оказывается, что я ещё и смеюсь над вами!
— Но ты же не будешь говорить…
— Что ж, как раз буду. Я сказал вам, а теперь повторяю: каюсь, что согрешил с Вуиврой.
Кюре в тени своего углубления пожал плечами. Он не принадлежал к числу тех отказавшихся от буквы догмы светских священников, которые считают истины церкви простыми символами или введением в духовную жизнь и видят в католическом ритуале лишь проявление нравственной дисциплины. Он даже не знал, что подобные сомнительные служители религии вообще существуют. Он твёрдо верил в Святую Троицу, в Пресвятую Деву, в рай, в святых, равно как и в дьявола с его адом. Однако в существование различных воплощений дьявола в реальной жизни кюре не верил. Приобретённый за сорок лет пребывания в сане священника опыт не оставлял ему на этот счёт никаких сомнений, и когда Аделина Бурделок приходила к нему и сообщала, что рогатый чёрт напал на неё на чердаке, он верил ей не больше чем её служанке, утверждавшей, что святой Франциск-Ксаверий приходил к ней на кухню, рассказывал всякие ужасы и делал ей возмутительные предложения. Когда однажды ему выпал случай поговорить об этом с монсеньёром де ла Жай, епископом Сен-Клода, прелат согласился с ним, что во всех этих случаях речь шла о мифомании или же о галлюцинаторных видениях, но добавил, что всё-таки не следует относиться к этим исповедям легкомысленно, поскольку дьявол непременно участвует в подобных фантазиях, равно как и во всех дурных мыслях.
— Ну ладно, — сказал кюре. — Давай рассказывай, как это всё у тебя случилось. Когда ты увидел её в первый раз?
— Вчера утром. И вчера же всё и произошло. А сегодня в полдень мы с ней повторили.
— Ты расскажи с самого начала.
Арсен обстоятельно рассказал свою историю, внимательно следя за тем, чтобы ничего не преувеличивать. Кюре страдал оттого, что ему приходится смотреть на этого крепкого и обычно здорового духом парня, как на помешанного. Когда рассказ был закончен, он попытался вписать это приключение в скромные рамки обыкновенных человеческих понятий. Ведь не было никаких подтверждений того, что это существо было действительно Вуиврой, да их и не могло быть, потому что она жила лишь в воображении жителей Юры. К сожалению, некоторые девицы до такой степени теряют стыд, что купаются в пруду нагишом, но за подобным поведением всё же не следует усматривать непременно руку беса, а что касается рубина, то нет ничего проще, как водрузить себе на голову кабошон. «А змеи?» — возразил Арсен. Настоящая волна из змей, покатившаяся на похитителя. Битва. Свист Вуивры, прекративший натиск змей. Он ничего не сочинял. Трупы наверняка остались на месте. Легко сходить и посмотреть.
— Предположим… — сказал кюре.
— Нет, никакого «предположим».
— Дай мне договорить. Однажды на ярмарке в Лонгви, я тебе говорю про ярмарку в Лонгви двадцать лет назад, а то и больше, когда слава о ней доходила до гор и туда собирались и стар, и млад. Так вот, помню, я сам видел там человека, в котором бесовского было не больше чем в тебе или во мне и который показывал полдюжины змей, делавших всё, что он только захочет, исключительно по одному его свисту. Ты вот молодой, а когда повидаешь свет, как я, то многие вещи уже и не удивляют.
Кюре не хотел допускать даже того, что эта девица обладала способностью доставлять дьявольское удовольствие. Он ощущал в себе игривость и боевитость радикального франкмасона, попирающего католические таинства с помощью очевидных истин, подтверждаемых наукой и разумом. В конце концов это упорство стало раздражать Арсена.
— Странно всё-таки получается. По воскресеньям в ваших проповедях только и речи, что о дьяволе: он и тут, он и там, а когда появляется настоящий дьявол, вы вдруг в него уже и не верите.
Кюре покраснел, но к счастью для него, Арсен этого не заметил. Священник оказался в трудном положении.
— Постараемся не быть опрометчивыми, — с некоторым замешательством произнёс он. — Не нужно смешивать веру с суеверием.
— А я ничего и не смешиваю. Я вам рассказываю, что со мной случилось. Теперь, если вы не хотите верить, что это была Вуивра, я не могу заставить вас поверить. Единственное, чего я хочу, так это того, чтобы вы отпустили мне грех.
Кюре вспомнил, что имеет дело с больным человеком, с одержимым, и решил быть подипломатичнее.
— Ладно, — сказал он, — зачем нам спорить? Просто мы называем одни и те же вещи разными именами, вот и всё.
В конечном счёте он нашёл ещё один способ настоять на своём, наложив на грешника незначительную епитимью, как если бы проступок существовал только в воображении исповедующегося. Поскольку желающих исповедоваться больше не было, он прошёлся немного по церкви вместе с Арсеном и поговорил с ним о разных мелких событиях, случившихся в Во-ле-Девере. Спокойный голос Арсена, здравый смысл его высказываний заронили в сознание кюре некоторое беспокойство. Казалось маловероятным, чтобы вот этот парень был одержимым или стал бы врать, желая привлечь к себе внимание. Кроме того, кюре знал его достаточно хорошо, знал, что он принадлежит к числу тех надёжных и здравомыслящих католиков, которым не грозит погибель в пламени мистического исступления. Католическая религия и в самом деле представлялась Арсену чем-то вроде образцовой фермы, которой он хотел бы управлять. Бог давал работу и умел отличать хороших тружеников от плохих. Пользующиеся доверием хозяина святые были крепкими, хорошо знающими своё дело бригадирами, которым пошли на пользу занятия в вечерней школе. Дева Мария, обходительная мать, являлась украшением дома, и её приятная улыбка упорядоченной и безупречной женщины пробуждала в сердцах подёнщиков соответствующую нежность. Царство дьявола олицетворяло расположенное неподалёку от фермы зловещее кабаре. Механическое пианино, крики и смех привлекали туда работников, которые напивались допьяна, обнимали девок и тратили силы, которых потом им не хватало во время уборки урожая. Самым трудным было найти на этой образцовой ферме место для Иисуса. Не чужой, разумеется, в семье, сын, но без желания распоряжаться или следить за хозяйством, да и в речах какая-то мягкость, какая-то двусмысленность, никак не располагающие к работе. В общем, Арсен охотно определил бы его куда-нибудь по медицинской части. А если честно, то и вообще обошёлся бы без него. Такое представление о царстве божьем, разделяемое, кстати, в общем и целом остальными крестьянами Во-ле-Девера, почти одобрялось священником. Он видел в этом гарантию верного толкования заповедей Христа и правильное понимание римского католицизма, на который он смотрел как на умеренную конституцию, навязанную Евангелием. Прощаясь, кюре чуть было не попросил Арсена сообщать ему в случае чего о поведении и поступках Вуивры, но ложный стыд помешал ему сделать это, и он пошёл к себе, одолеваемый сомнениями.
Выйдя из церкви, Арсен, перекрестившись, направился к семейным могилам. Его отец, Александр Мюзелье, умер лет двадцать назад, и у Арсена не осталось о нём никаких воспоминаний. Те, кто знал его, говорили, что он был крепок, как дуб, неутомим в работе и обладал приятным, смешливым характером. Зато он очень хорошо помнил двух своих старших братьев — Дени и Венсана, погибших на войне с интервалом в один год. Один из них был капралом, а другой — простым солдатом в одной и той же роте сорок четвёртого пехотного полка, знаменитого Самбрского полка, расквартированного в Лон-ле-Сонье. У Дени, капрала, в душе было столько мягкости, а в манерах столько обходительности, что его любили все, с кем бы ни свела его судьба. В последний день его отпуска, вечером, когда Луиза говорила о будущем Дени, на его детском лице появилась печальная улыбка и промелькнул тихий свет предчувствия. Его убило месяц спустя в жарких боях при Шмен-де-Дам. Венсан, парень спокойный и замкнутый, обладал силой воли и прирождённой властностью, которые покоряли окружающих без каких-либо видимых попыток давления с его стороны. В семье Венсана немного побаивались, как теперь Арсена. Во время отпуска он никогда не говорил о войне, а, едва переступив порог, сразу же начал трудиться на ферме, будто прервал работу только вчера. Среди прочих писем в доме хранилось и то письмо, где он сообщал о гибели брата. Это было перечисление обстоятельств его смерти, включая топографические сведения о месте, где его похоронили, — всё очень сжато, без малейшей сентиментальности. Сам он погиб на следующий год в Шампани, и тело его найти не удалось. После войны привезли только тело брата и похоронили под плитой, на которой выгравировали имена их обоих. В Во-ле-Девере говорили, что Арсен похож на Венсана, и он хотел этому верить.
Арсен пошёл между могил к выходу с кладбища и оказался перед глубокой ямой, откуда торчала голова Реквиема, местного могильщика. Рядом с ямой холмиком возвышалась выброшенная земля и лежала кучка костей и полусгнивших деревяшек. Реквием — он унаследовал это прозвище от отца, который тоже был могильщиком — служил в деревне символом всех гнусностей, как из-за своей профессии, так и из-за своих дурных привычек, поскольку он не упускал ни единого случая напиться и обычно с кем-нибудь сожительствовал, в настоящий момент с некоей Робиде, старой беззубой пьянчужкой, которую он в конце зимы привёз из Доля. Реквием поднял свою возвышавшуюся над массивными плечами малюсенькую головку с большими кроличьими глазами, в которой мозги, похоже, занимали совсем немного места.
— Роешь для этого бедняги Оноре? — спросил Арсен.
— Как видишь. В конечном счёте, что ни говори, все ко мне приходят. Я припоминаю, однажды Оноре, когда мы выпивали у Жюде, сколько же это прошло с тех пор, месяцев эдак пять, шесть, а то и того меньше, так вот, я припоминаю, бедняга Оноре, он уже и тогда был не жилец, как я сейчас понял, а он чувствовал это, да, чувствовал, конечно, и вдруг говорит мне ни с того, ни с сего: «Реквием, — говорит он мне, — а ты думаешь о моём доме?» Ну я-то, понимаешь, я тогда подумал, что он смеётся, и отвечаю ему: «Оноре, — отвечаю я ему, — я тебе сделаю большой, красивый дом!» — «О! — говорит он мне, — большой или небольшой, когда туда переберёшься, там все равны».
Учитывая молодость Арсена, Реквием счёл нужным объяснить тайный смысл этих слов.
— Понимаешь, он хотел сказать, что, когда тебя похоронят, то бедный ты или богатый, там все равны, шесть футов земли, и никаких разговорчиков.
— И то правда, — подтвердил Арсен.
Реквием хотел возразить ему, но, заторопившись, чуть было не подавился комком жевательного табака. Подтащив его языком к губам, он вынул табак изо рта и положил на край ямы, на маленький камешек, чтобы потом снова сунуть его в рот.
— Нет, Арсен, не надо так думать. Равенства нет ни тут, ни там. Тот, у кого есть средства пока он жив, сохраняет их и после смерти.
Протянув руку, Реквием взял из кучки костей один достаточно хорошо сохранившийся череп.
— Вот, возьмём для примера этого человека. Посмотри-ка, ведь и не старый ещё. Уж кто-кто, а я-то могу точно сказать, я в этом деле кое-что понимаю. Тут, в этой части кладбища, землица-то поядренее будет, чем в других местах, вот мясо и гниёт тут быстрее. Если мой человечек пролежал здесь двадцать лет, это уже всё, а когда ты умер, то что такое двадцать лет? Пустяк, не больше. А теперь сравни, вот рядом лежит семья Шанборнье. Места куплены в вечное пользование, вот они и лежат себе спокойно. А этот, смотри, двадцать лет прошло, и его уже выкидывают. А меня, чтобы меня выселить, не станут ждать даже и столько. Вот посмотришь, выкинут, когда и зубы мои ещё все целые будут. Вот потому-то я тебе и говорю: когда денежки есть, то они есть.
— Какое это имеет значение? — возразил Арсен. — Когда лежишь там, внизу, уже ничем не воспользуешься.
— Я, конечно, понимаю, но так уж говорят.
Реквием посмотрел на череп, который держал в руках.
— А сейчас я вот о чём подумал. Это ведь может быть и мой отец. Я припоминаю, его похоронили где-то в этом углу.
Он бросил череп к другим костям и добавил:
— Более глупого человека, чем он, я в жизни не встречал, но вот плохим человеком он никогда не был.
Реквием опять положил жвачку в рот и, чувствуя, что Арсен сейчас уйдёт, поднялся на ступеньку, сделанную внутри ямы.
— Это ведь всё равно что рай, — сказал он глухим, полным обиды голосом. — Я там не был, но всё-таки уверен, что тот, у кого нет денег, туда не войдёт.
Арсен возразил, но только для вида, так как и сам тоже был уверен, что на небо пускают лишь тех, кто оставляет после себя немалое наследство, засвидетельствовав таким образом, что они воздали Богу необходимые почести, сумев извлечь из его даров приличную выгоду. Так что он ответил осторожно, чтобы не поступиться своими убеждениями.
— Каждому даётся какой-то шанс. Пока ты находишься в этом мире, всегда есть возможность как-то помочь себе в отношениях с другим миром.
— Как бы не так, — ответил Реквием. — Только не надо мне сказки рассказывать. Разве, например, кюре занимается мной? Он даже не отвечает мне, когда я здороваюсь с ним. Он вроде бы рассердился на меня за то, что как-то раз я прошёл по церкви с Робиде на плечах и будто бы к тому же мы ещё громко орали. А это на меня совсем непохоже. Я почти даже и не пью. Да, не пью, я гораздо более серьёзный человек, чем обо мне думают. Вот даже вчера опять сцепился с Робиде, потому что она напилась. Эти женщины — это же ведь сущее наказание. Вино сразу портит им характер, и тогда они ничего не стесняются, даже перестают нас уважать. А тут так получилось, что и я тоже выпил. И понимаешь, приятель, я схватил её за волосы да так стукнул головой об стенку, что думал, у неё нос расколется. Я бы хотел, чтобы кюре видел меня.
— Не думаю, чтобы он похвалил тебя.
— Да и я тоже не думаю. Коль у кого нет денег, то тому, даже когда начинаешь хорошо себя вести, это всё равно не идёт впрок. Никто не хочет тебя признавать. Вот потому-то я и говорю: денежки — это всегда денежки.
В воздухе к концу дня ощущалась духота. В глубине леса погромыхивала гроза. Хотя она была ещё далеко, небо над Во-ле-Девером потемнело, и тучи закрыли вид на Юрские горы, ограничив горизонт ближайшими полями. Арсен собрался уходить, но тут Реквием выскочил из ямы и встал перед ним.
— Если уж мы заговорили о деньгах, то угадай, кого я сегодня видел. Нет, ты ни за что не догадаешься. Когда я расскажу это у Жюде, про меня опять будут говорить, что я напился. Не знаю уж почему, но мне никогда не верят. Хоть ты поверь мне: сегодня утром встаю я в четыре часа и спускаюсь к реке проверить донки, которые расставил вчера с вечера. Ладно, спускаюсь, значит, в ложбину к Лувье, наклоняюсь, чтобы вытащить донку, а когда встал, то что же я вижу? Вуивру.
— Не может быть! Приснилось, никак!
Реквием сплюнул, перекрестился и сказал, ударяя ребром правой руки себе по затылку:
— Иисус, Мария, если я соврал, пусть отрубят мне голову и пусть отрубят руку в придачу. Я видел, как она прошла по другому берегу, и видел перед ней гадюку, которая прокладывала ей путь. Она просто, безо всяких шла, спокойненько, со своим рубином на голове, с рубином, который стоит миллиард. А я ничего не мог сделать, потому как она была с другой стороны. И ведь рубин-то при ней, он у неё на голове был. Можешь себе представить, как вытаращил я на него глаза. Ведь миллиарды, это тебе не что-нибудь. Как подумаешь, Боже праведный. Миллиарды.
— Ну и что бы ты стал делать со своими миллиардами? — спросил Арсен, которому было интересно услышать ответ на вопрос, который он уже задавал самому себе.
Отвесив челюсть, могильщик принялся размышлять, немного удивлённый тем, что не чувствует в себе кипения желаний. Первой пришла мысль о вине. У него всегда была бы бочка вина для его единоличного пользования, и ещё одна, поменьше, — для Робиде. Замечание Арсена, что такое желание слишком несоразмерно такому огромному состоянию, его озадачило, и он снова задумался. Мысли приходить к нему не торопились.
— Ну тогда я поеду в Доль и запрусь там на целую неделю в борделе.
— И это тоже слишком мало, даже если ты проведёшь там остаток своих дней.
Реквием опустил голову, устав думать об этом чудовищном состоянии, которое делало смехотворными даже самые дерзновенные из его мечтаний.
— Ну уж одну-то вещь я бы обязательно сделал. Когда кто-нибудь у нас здесь умирал бы, вот как сегодня, я бы брал кого-нибудь себе в помощь, чтобы рыть могилу. Само собой, я тоже не стоял бы сложа руки, но его я бы заставлял вчерне обрабатывать яму. А уж всем остальным я бы занялся сам. Сделать красивую яму, чтобы она с ровными углами была, без осыпи, со стенками, прямиком спускающимися до самого дна, это не каждый может. И заметь, тут дело даже не в том, чтобы руки умелые были и практика, тут дело скорее в задумке. А в том что касается и глазомера, и отделки, я здесь первый и никого не боюсь ни из тутошних, ни из пришлых.
7
Арсен как раз взялся за свой велосипед, оставленный им у кладбищенской стены, когда упали первые капли, крупные тёплые капли, поднимавшие приятный запах листьев и пыли. Дуновение воздуха колыхнуло куст акации на краю дороги, и почти тотчас же от резкого порыва ветра все деревья вокруг пригнулись к земле. Внизу, на лугу, сушильщики торопились сгрести сено в кучу, но гроза налетела так стремительно, что свела на нет все их заблаговременные усилия. Над деревней нависло чёрное небо, и частый дождь уже поливал опушку леса. Не успел Арсен отъехать и двухсот метров, как гроза настигла его, оглушительная и яростная. За несколько минут день превратился почти в ночь, но молнии сменяли друг друга с такой скоростью, что стало светло, как на рассвете. Зарядил частый дождь, и Арсен, поехавший было по просёлочной дороге, вынужден был слезть с велосипеда и поискать укрытие. Поскольку, отправляясь в церковь исповедоваться и проститься с покойным Оноре Бюртеном, он надел свою праздничную одежду, сейчас ему не хотелось, чтобы её вымочил дождь. Место это было пустынное, лишённое каких-либо укрытий, за исключением лачуги, где ещё совсем недавно жили родители Белетты. Стены, сделанные из горшечной глины и размытые дождями, позволяли видеть внутренний каркас, сооружённый из некоего подобия чёрных жердей, которые в наиболее заливаемых местах уже совсем сгнили. Усеянные битыми бутылками и консервными банками, подступы к дому уже заросли крапивой и колючками, кусавшими за ноги даже на самой тропинке. В прошлом году, покидая свою халупу, Беле увезли с собой дверь и единственное окно жилища, открытого теперь любому прохожему. Арсен вошёл, держа велосипед, который он прислонил к стене, и, повернувшись спиной к утопающей во мраке комнате, стал смотреть на грозу. Дождь лил так сильно и низвергался на землю с таким шумом, словно это был водопад. Он натянул между Арсеном и полем плотный занавес, приглушавший яркость мощных молний. Несмотря на уклон, канавы переполнялись, и вода заливала превратившуюся в ручей дорогу, а перед халупой образовалась лужа, доходившая уже до порога. Арсен с тоской подумал о пшенице и ржи, которые от такого проливного дождя вполне могли полечь. В какой-то момент мощность грозы удвоилась, но внезапно наступило умиротворение. Сначала изменилось освещение. У раскатов грома не убавилось неистовства, но свет стал чуть живее, а ливень — чуть медленнее, чуть ленивее, и вскоре превратился в обыкновенный затяжной летний дождь, терпеливая песнь которого усыпляет поля. Тут Арсен забеспокоился, потому что такой дождь обычно идёт долго, а он дорожил своим чёрным костюмом. Возможно, мать и пошлёт ему навстречу Белетту с зонтом, но очень маловероятно, чтобы служанке пришло в голову искать его здесь. Белетта, как он уже не раз замечал, избегала эту просёлочную дорогу, которая слишком живо напоминала ей голодные годы, проведённые в отцовском доме, где братья и сёстры копошились посреди вшей, криков, запахов постели и грязного белья.
Арсен внезапно уловил ухом, привыкшим к равномерному шуму дождя, лёгкое шевеление, донёсшееся вроде бы из глубины комнаты. Он обернулся и в самом деле увидел в тёмном углу какую-то чёрную неподвижную фигуру с поблёскивающими глазами. При свете вспыхнувшей молнии он узнал Жюльетту Мендёр и замер в нерешительности, не зная, заговорить с ней или нет. Протокол вражды не позволял ему нарушить молчание, а Жюльетте — тем более. Хотя, по правде говоря, этот протокол не предусмотрел случая долгого пребывания наедине и оставлял место личной, инициативе. Было бы нелегко оставаться вот так рядом друг с другом и притворяться, что не замечаешь человека.
— Здравствуй, — сказал Арсен. — А я и не подозревал, что ты здесь.
— Я вовсе не пряталась, но тут стало так темно, что ничего не было видно.
Жюльетта не смела признаться, что в разгар грозы она повернулась лицом к стене и зажала руками уши. Но Арсен тут же догадался. Он вспомнил, что когда они детьми ходили в школу и их в пути заставала гроза, она, чтобы спрятаться от грома, прятала голову у него на груди. Он пошёл в глубь комнаты, взял её за руку и вывел к выходу, где было посветлее.
— Сейчас гроза уже стихает. Уходит к Сенесьеру. Скоро совсем кончится.
В тот момент, когда он произносил эти слова, яркая молния осветила всё вокруг и одновременно раздался удар грома, страшный своей сухой яростью. И Жюльетта, глядя на него испуганными глазами, повернулась к нему совсем так же, как когда-то в детстве. Он взял её голову и мягко прижал к своей груди. Взволнованный и смущённый, смотрел он на тёмный затылок, на впадину рядом с лопаткой, выглядывавшей из-за оттопырившейся кофточки.
— Какая же я глупая, — извинилась она, не подымая, однако, головы.
Гроза разгорелась с новой силой в грохоте бешеных разрывов. Жюльетта зажала пальцами уши. Арсен, положив руку на чёрные волосы, сильнее прижал к себе её голову. Ему казалось, что он вернулся на восемь или десять лет назад, в то неблизкое уже время, когда они вместе ходили в школу. Жюльетта была маленькой, хрупкой и тоненькой девочкой, а её почти тщедушное тельце никак не обещало такого вот основательного и гармоничного расцвета, хотя лицо её уже тогда имело этот матовый оттенок и выделялось своей правильной красотой, а в её горячих карих глазах уже тогда светился этот глубокий и серьёзный взгляд. Их дружба никогда не отличалась обилием слов. Когда же противостояние между его и её родителями становилось более откровенным, им случалось даже, не теряя внутреннего взаимного доверия друг к другу, ходить то след в след друг за другом, то по разным обочинам дороги. Между тем дружба детей даже усиливала, причём в немалой мере, вражду Мюзелье и Мендёров. Жюльетта и её брат Арман недолюбливали друг друга и предпочитали ходить в школу и обратно порознь. Когда они случайно оказывались вместе, то чаще всего это кончалось ссорами и драками, в которые Арсену не раз приходилось вмешиваться. Именно тогда зародилась взаимная ненависть двух мальчишек. Однажды, когда им было по тринадцать лет, Арман ударил сестру по щеке, а Арсен бросился на него, и в разгар потасовки оба схватились за карманные ножи, но, к счастью, тут подоспел уже тогда достаточно взрослый Виктор Мюзелье и помешал им вспороть друг другу животы. Повзрослев, Арсен так и не простил Арману Мендёру его отношения к сестре, продолжая видеть в нём грубого мальчишку, остервенело преследующего девочку. Точно так же и нежность, которую он испытывал к Жюльетте, питалась воспоминаниями их детства. В её присутствии ему теперь казалось, будто у него что-то отняли, и в этой красивой, превосходно сложенной двадцатилетней девушке он продолжал искать её детский образ. По окончании школы они оказались разделёнными враждой семей, усугублявшейся взаимной ненавистью Армана Мендёра и Арсена. Они усвоили повадки своих кланов, и возможность встречаться возникала у них редко, но тем не менее молодые хранили верность своей детской любви. Ни он, ни она не могли представить себе будущего, чтобы не увидеть там свои две судьбы, либо соединяя их, либо сожалея, что всё получилось иначе.
Однако Арсен не решался считать себя влюблённым. К нему никогда не возвращался пыл детского обожания. Любовь, испытанная им в тринадцать лет, осталась в его памяти, как некая недостижимая вершина. Его мужская любовь была всего лишь её отражением, смутным и не лишённым сожалений воспоминанием о прошлом.
Жюльетта не скоро подняла голову после того, как гроза успокоилась. Дождь ещё шёл, но свет стал более ясным, а вдали над Ронсьером появилась полоска голубого неба. Они стояли молча и смотрели, как за полями разрастается этот кусок лазури. Она обратила на него взгляд своих тёмных глаз и сказала с серьёзной улыбкой:
— Когда бывает гроза, я всегда думаю о тебе, но ты нечасто бываешь рядом.
— Так уж складывается жизнь, — сказал Арсен.
Ему хотелось бы продолжить, и с языка уже готовы были сорваться слова, которые нужно было произнести, но губы не размыкались. И снова сгустилось, затянулось молчание, которое на этот раз прервала Жюльетта.
— Позавчера, — прошептала она, — я видела тебя. На дороге, которая идёт в Гоже, часов в двенадцать.
— Верно, — сказал Арсен.
Так он ответил на скрыто прозвучавший в словах Жюльетты вопрос. Для неё важно было знать, означал ли разговор, состоявшийся позавчера у Арсена с Розой Вуатюрье, что он имеет на эту девушку виды. Было весьма странно то, что Арсен, бережно относящийся к своему времени и по натуре своей малообщительный, вдруг так задержался в компании какой-то там юбки. Роза, единственная наследница Фостена Вуатюрье, мэра Во-ле-Девера, была долговязой, худой, сутулой девушкой без икр и бёдер, с некрасивым лицом, узким, но при этом одутловатым и курносым, двадцати лет от роду, однако выглядевшей на все тридцать, а то и старше. Недостатки внешности искупались у неё изрядным здравомыслием, приятной живостью ума и мягкостью характера. В течение двух лет она была помолвлена с одним парнем из Ронсьера, который не торопился на ней жениться, а в конечном счёте погубил своё будущее, отправившись в Бузансон за некой девицей без гроша за душой, но зато что называется в теле. Фостен Вуатюрье, маленький сухощавый мужчина, носивший краги из лакированной жёлтой кожи со вздувавшимися над ними штанинами, был самым богатым землевладельцем во всей округе. Кроме прекрасных лугов у реки и не говоря уже о счёте в банке и ценных государственных бумагах, он ещё владел двумя большими участками земли у опушки леса, плодородными, хорошо расположенными и составлявшими вместе больше сорока гектаров, правда, разделёнными достаточно крупными чужими полями. Арсен не от алчности, а скорее из честолюбия и жажды предпринимательства, мечтал заполучить эти два участка, соединить их в один массив на пятьдесят гектаров, к которому он надеялся прирастить ещё что-нибудь, чтобы дать разгуляться на просторе тракторам, сноповязалкам и другим современным машинам. Никому не говоря о своих намерениях, он за последние две недели дважды под благовидным предлогом ходил к мэру и старался, встречаясь с наследницей где-нибудь на дороге, заводить разговор, изображая на лице сдержанное восхищение.
Дождь кончился, и они стояли, не обменявшись за пятнадцать минут ни единым словом. Промытое небо перед ними было густо-голубо го цвета с молочными следами облаков. По полю пронёсся свежий ветерок, и в лачуге, прислонённой к живой изгороди, где вода медленно стекала по листьям, стало почти холодно. Жюльетта вздрогнула, и Арсен сделал непроизвольный жест, словно его руки искали платок, чтобы прикрыть ей плечи. Она тряхнула головой, приблизилась к нему вплотную и, глядя ему в глаза, тихо сказала: «До свидания».
Она пошла по размытой тропинке, и в тот момент, когда она обходила колючую ветку ежевики, из-за изгороди появилась Белетта, державшая в каждой руке по зонту. Встреча состоялась на дороге. Белетта, разгорячённая, дерзко глядя на Жюльетту, резко откинула рукой свисавшую на лоб прядь и бросила ей:
— Ну что, всё прошло как надо, да?
Не дожидаясь ответа, она свернула на тропинку, и когда её юбка зацепилась за колючую ежевичную ветку, яростно ударила по ветке зонтом. Тронутый тем, что девочка преодолела своё отвращение и дошла до самой отцовской лачуги, Арсен встретил её дружеской улыбкой. Белетта вошла, бросила на глинобитный пол оба зонта и сказала со злостью:
— А ты, я смотрю, от скуки тут не подыхал.
— Я же тебе объяснял, что так не надо говорить. Что это за выражения ты употребляешь? Девушки не должны так говорить.
— Ты тут не подыхал от скуки, я правильно говорю. Не подыхал. Когда ты дома, то ты притворяешься, что враждуешь с Мендёрами, а как только выскакиваешь куда-нибудь, так сразу бежишь на свидание с этой коровой. С этой дрянью, которая гуляет со всеми мужиками подряд, я знаю что говорю. Я видела её уже сто раз. Она такая же, как её сестра, ничуть не лучше! Такая же дрянь!
— Ты погоди-ка, погоди, — сказал Арсен, — я научу тебя уважать людей. Ты, может, у меня пинка захотела, а?
Но Белетта ничего не слышала. С горящими глазами она ходила взад-вперёд по лачуге, топая ногами и ругая Жюльетту.
— Начать с того, что это мой дом. Дом этот принадлежит моему отцу. Я имею право принимать здесь кого хочу, а всех остальных гнать в три шеи. Я не хочу, чтобы сюда приходили Мендёры, не хочу, а тем более не хочу, чтобы сюда приходила твоя грязная шлюха. Я здесь у себя, чёрт побери, у себя дома.
Это повторенное несколько раз утверждение, что она находится у себя дома, успокоило Белетту. Произнесённые ею простые слова вдруг вернули её к той, прошлой жизни в семье: маленькая колченогая печка, подпёртая бревном, дым, пар, запахи, две замызганные, приставленные одна к другой кровати, та, на которой спала она сама с двумя младшими братьями, и другая, ещё более грязная, на которой спали родители, деля её со своей двухлетней дочкой; отбросы на полу, пьяный отец, драки, ругань, повсюду следы вина и жёваного табака, подзатыльники, нотации, палка, в который уже раз беременная мать, картонка в окне вместо одного из стёкол, отсутствие белья, выклянченная где придётся одежда. Эта возникшая перед ней картина нищеты заставила её устыдиться собственной ярости и грубых слов, которые уже сами по себе были возвратом к прошлой жизни. И в то же мгновение у неё мелькнула мысль, что любовь всё-таки не столь важна, как условия, в которых ты живёшь. Расстроенная, она повернулась спиной к этим горьким воспоминаниям и, глядя на поле перед домом, прислонилась к дверному косяку. Арсен смотрел на неё и улыбался. Он знал по себе, какой может быть детская любовь, но его жизненного опыта оказалось недостаточно, чтобы понять, какие чувства владели Белеттой. Он не видел в них ничего другого, кроме проявления требовательной, ревнивой, не желающей ни с кем делиться дружбы.
Белетта, легко одетая и всё ещё находящаяся во власти своих эмоций, нервно вздрогнула. Арсен заметил это и сказал, трогая тонкую ткань её чёрного платья:
— Ты можешь простудиться. Тебе надо было надеть пальто. Возьми-ка мой пиджак, накинь его и быстро согреешься.
Он расстегнул пиджак, но она остановила его движением руки и, опять почувствовав приступ злости, сказала:
— Оставь меня в покое. Я не хочу ничего, слышишь? Ничего, ничего.
Она искала какое-нибудь обидное слово, но слёзы не дали ей говорить. Арсен оторвал её от земли, прижал к груди маленькое тело, сотрясаемое рыданиями, и стал убаюкивать её. Он говорил с ней нежным голосом, как с малышом, и рыдания прекратились.
— А теперь мы поедем домой. Ты сядешь на раму моего велосипеда, и в путь. Посмотришь, как на спуске около Жюде на нас вытаращат глаза. Когда увидят, как мы промчимся и наши две головы рядом, подумают, что это Фарамина.
8
Две девочки, дочки учителя, играли одни в школьном дворе. Их игра, состоявшая в том, чтобы бегать от одного дерева к другому, была подражанием игре в четыре угла, которую они из-за своего малого возраста пока что не понимали. Фостен Вуатюрье, мэр коммуны, остановился на минуту, чтобы благосклонным взором посмотреть на их забавы; во дворе какой-нибудь фермы, если бы девочки играли, он даже не обратил бы на них внимания, но среди его муниципальных обязанностей те, которые касались школы, льстили самолюбию мэра больше чем все остальные, и ему достаточно было войти в этот двор для детских игр на переменках, чтобы ощутить в себе душу просвещённого благодетеля. Меньшую из двух девочек, ту, которой было три года, привлёк блеск его жёлтых краг, и она подошла, чтобы их погладить. От неожиданности и какого-то смутного беспокойства Вуатюрье довольно резко отстранил её, и ребёнок заплакал. Энбло, учитель, работавший в этот момент в своём саду, перегнулся через изгородь.
— Я смотрю, твои малышки что-то не поделили, — сказал Вуатюрье. — В этом возрасте ссоры между сёстрами не такая уж редкость.
— Ничего, в конце концов всё всегда улаживается. Вы пришли ко мне, господин Вуатюрье?
— Именно. Я пришёл поговорить с вами об одном деле.
Энбло, без пиджака, в одной рубашке с засученными рукавами, вышел к мэру во двор. Вуатюрье поинтересовался самочувствием его жены, которая работала учительницей и вела класс девочек.
— Благодарю вас. Когда стоит такое хорошее лето, разве можно чувствовать себя плохо?
Вуатюрье посмотрел на Энбло с лёгкой завистью. Молодой учитель ответил со свойственной его возрасту непринуждённостью, ему явно не хватало степенности. Энбло случалось по нескольку раз в день ловить себя на мысли, какой он счастливый человек. Он любил детей, любил свою профессию, любил садоводство, рыбную ловлю, республику, и всё это он имел. Радость жизни освещала его лицо с утра до вечера. Нередко у него даже возникало желание поблагодарить своего творца, но он воздерживался от этого, чтобы не чувствовать себя виноватым перед лицом своих инспекторов. Вуатюрье немного сердился на Энбло за это выпавшее ему счастье, которое казалось мэру незаслуженным. И хотя Вуатюрье с уважением относился к коммунальной школе, ему никак не удавалось воспринимать всерьёз профессию учителя: он полагал, что эти люди слишком уж легко зарабатывают деньги. Впрочем, он относился бы к Энбло снисходительнее, если бы тот был горожанином, а не крестьянским сыном.
— Да сейчас-то, — заметил он, — и работа, наверное, не очень вас утомляет.
Вуатюрье намекал на то, что многие ученики пропускают занятия, чтобы помогать на сенокосе или пасти коров.
— Я не в состоянии сколько-нибудь серьёзно повлиять на родителей без вашего вмешательства, — ответил Энбло, — но я в вашем распоряжении.
Мэр, думавший о своих перевыборах, как раз не испытывал никакого желания ссориться с родителями, напоминая им об их обязанностях. И он пожалел, что затеял этот разговор, ступив на столь скользкий путь.
— Мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз, — сказал он. — Вообще-то у вас в классе, наверное, не так уж и много учеников, пропускающих занятия.
— В моём классе много. Почти три четверти. У жены дела обстоят гораздо лучше. Девочки ходят более регулярно, чем ребята, скорее всего потому, что от них не так много проку в поле. А поскольку их и вообще больше, чем ребят, то в целом класс остаётся достаточно многочисленным.
— Я всё ещё не сказал вам, зачем пришёл, — прервал его Вуатюрье. — Представьте себе, у меня неприятности. Вы, может, слышали что-нибудь о Вуивре?
— Как и все остальные. Когда я был маленьким, мать часто рассказывала мне эту историю. Кстати, она в неё нисколько не верила.
— Сегодня это, скорее, уже не история. Вот уже неделю по всей округе ходят слухи, что Вуивра прогуливается по лесу и даже по полям.
Конец июня казался учителю настолько прекрасным, что даже его трезвый ум не смог бы безоговорочно отвергнуть возможность появления посреди этой благодати какой-нибудь нимфы или языческой богини, но, боясь конфуза, он предпочёл отнестись к сказанному с иронией.
— Вы, конечно, понимаете, что я тоже не верю во всю эту дребедень, — сказал Вуатюрье. — И тем не менее есть немало людей, которые видели её. Я в данном случае не говорю о ком-нибудь вроде Реквиема, нет, речь идёт о людях серьёзных. Скажем, вот Жозеф Бонвало. Жозефа-то я знаю как облупленного. Мы с ним ещё жребий вместе тянули, кому идти в армию. Жозеф не из тех, кто станет шутить или молоть какую-нибудь чепуху. И труженик, и вовсе не любитель выпить, даже тогда, когда это ничего ему не стоит. В общем, что там говорить, настоящий мужчина. Так вот он, Жозеф, видел Вуивру. Видел её на пруду Шене, идущей в трёх шагах за своей гадюкой. Пришла на берег, разделась, это он тоже видел, а рубин свой положила на своё белое платье. Я повторяю вам только то, что он мне рассказал.
— Мне бы не хотелось подвергать сомнению слова Бонвало, но всё-таки…
— И Ноэль Мийон, зять Жукье. И Жан Меришо со своей сестрой. Они тоже видели её. Они её видели.
Учитель стал говорить о феномене галлюцинации и самовнушения, но мэр слушал его, с трудом сдерживая нетерпение, и резко возражал, словно ему нужно было во что бы ни стало поддержать свидетельства людей его коммуны. Вуатюрье даже раскраснелся, приведя в их поддержку несколько удачных доводов. Какое-то время он пытался крепиться, но потом, не выдержав, взорвался:
— Но чёрт побери! Я сам, и это я вам говорю, я видел её, Вуивру. Причём всего лишь час назад я её видел. Спускаюсь по своим заливным лугам к реке, подхожу к броду, брод вы знаете, как раз чуть повыше дощатого моста. Подхожу, и что же я вижу? Вуивра лежит плашмя на животе на куче тростника и принимает с голой задницей солнечную ванну, а платье лежит рядышком и рубин там же, вот.
Облегчив душу, Вуатюрье успокоился, уже слегка жалея о том, что открылся. Учитель, не сомневаясь в том, что мэр находится в полном рассудке, был склонен верить в его искренность. Вуатюрье, конечно же, не был человеком, способным выдумать историю про привидения, да ещё с такими деталями, как тростник и праздно выставленные ягодицы, а если предположить, что он сошёл с ума, то ему рисовались бы совсем другие картины. Оба были смущены и стояли в раздумье.
— С такой историей, — сказал наконец Вуатюрье, — не оберёшься неприятностей. Дёшево отделаемся, если она не выйдет за пределы коммуны, а то ведь за две недели длинные языки разнесут по всему кантону, а то и дальше пойдёт. А как мы будем тогда выглядеть, я вас спрашиваю. Никто ведь тогда не поверит, что в коммуне передовой муниципалитет. И пойдёт слава, это уж как пить дать.
Энбло говорил «конечно», «да», «разумеется», «достойно сожаления», но говорил он это неуверенным голосом, только чтобы доставить удовольствие собеседнику, в то время как его свежее лицо так и сияло от оптимизма. «Брессанец, — с презрением подумал Вуатюрье, — настоящий брессанец». В Юре жители Бресса пользуются репутацией увальней, а Энбло как раз родился в Неблане, деревне, расположенной на границе с Брессом.
— Можно подумать, что вам это безразлично, вся эта история с Вуиврой?
— Мне? Да нет, напротив. Я очень расстроен (однако выражение его лица опровергало сказанное).
— Не думайте, что вы останетесь в стороне, — сказал мэр. — Эта история с Вуиврой ударит и по вам. Ведь вы уже четыре года учительствуете в Воле-Девере. И если по деревням будут ходить всякие россказни про оборотней, ваше начальство, долго не раздумывая, скажет, что это вы повернули людей к суеверию. Возможно, договорившись с клерикалами.
При этих словах учитель побледнел и явственно увидел докладную записку, пришпиленную к его делу государственного служащего.
— Ну зачем же, я тут ни при чём!
— А я при чём? Это, может быть, по моей вине Вуивра бродит по территории коммуны? Как бы то ни было, но если разразится скандал, коммуне как своих ушей не видать дотации, которую я попросил у префекта на школу.
— Вы преувеличиваете, господин Вуатюрье. Дело это совсем не такое серьёзное, как в случае, если бы речь шла о явлении Девы Марии или святой Екатерины.
— Это одно и то же. Если существует Вуивра, то и Дева Мария может существовать, и святые, и все остальное. И вот тому доказательство: как мне рассказывали, ещё никогда не было столько народу на мессе, как позавчера, в воскресенье. Даже Ламблены, Жукье, Тетиньо, люди вроде бы здравомыслящие, а тем не менее все пришли. А вы можете сколько угодно рассказывать им о прогрессе.
Энбло как будто начал понимать серьёзность ситуации. Но вдруг спохватился:
— Господин Вуатюрье, — сказал он, — мы же сейчас рассуждаем ну прямо как дети. Мы тут мучаемся и забываем одну вещь, забываем, что никакой Вуивры на свете нет.
— Но раз я говорю вам, что…
— Да, да, вы видели её. То есть вы видели какую-то обнажённую девушку, возможно, какую-нибудь отдыхающую, которая разбила палатку на поляне в лесу и развлекается таким вот способом, выдавая себя за Вуивру.
Вуатюрье не стал возражать, но продолжал говорить о Вуивре так, как будто её существование не вызывало у него никакого сомнения.
— А тут ещё вот ведь какая штука получается, мы стоим тут с вами, говорим, говорим, а на самом деле о главном так ничего и не сказали. Само собой, все эти истории с Вуиврой, это очень неприятно и для нас, и для коммуны, но есть одна гораздо более серьёзная вещь. Не надо забывать, что эта девица носит у себя на голове миллиарды и что в один прекрасный день кто-то из наших жителей постарается прикарманить её рубин. Когда я сейчас рассказывал вам про неё, я ведь только об этом и думал. Вуивра ровным счётом ничего не стоит вместе с её ляжками и всем таким прочим, я даже затруднился бы сказать, как она там сложена, а вот рубин — это действительно вещь. Но делать-то нечего, я посмотрел, посмотрел да и вернулся несолоно хлебавши. И так мне стало от этого досадно, что я буквально места себе не находил. Ведь просто неизбежно, что завтра или послезавтра найдётся кто-нибудь, кто даст себя сожрать змеям Вуивры. А что я могу сделать, чтобы помещать этому?
— Если Вуивра не является чьей-нибудь фантазией, а рубин — пробкой от графина, то её присутствие действительно не сулит ничего хорошего.
— Но не могу же я позвонить в жандармерию, чтобы оттуда приехали и арестовали Вуивру. Хорошо бы я выглядел. Было бы лучше всего, если бы вы взяли это дело в свои руки. С вашим образованием вы сумеете сделать так, чтобы люди вас послушали.
Энбло извинился, но, будучи государственным чиновником, он очень бы рисковал, принимая чью-либо сторону в столь абсурдном деле. Да и вообще он не считал себя способным формировать умонастроения жителей деревни и руководить их поступками.
— А что я могу им сказать? Что Вуивры не существует? Но мне не удалось убедить в этом даже вас, так тем более не удастся убедить их. Наверное, нужно предостеречь людей от опасности, которая их ожидает, если они позарятся на рубин. Но я здесь не сообщу им ничего нового.
— Короче, вы не желаете мне помочь?
— Я просто не в состоянии что-либо сделать. Но, если хотите, я могу высказать одно соображение. Вот сюда идёт кюре. Расскажите ему всё как есть. Он будет вам более полезен, чем я. Здесь только он один правомочен бороться с Вуиврой.
Вуатюрье, отнюдь не горевший желанием просить помощи у священника, всё-таки пошёл вслед за учителем навстречу кюре. После взаимных приветствий тот спросил мэра, можно ли надеяться на то, что ремонт его дома начнётся до зимы. Вопрос этот оставался нерешённым уже более года.
— Я как раз хотел вам сказать, — ответил Вуатюрье, — что муниципальный совет решит всё, что связано с вашим делом, на ближайшем заседании.
— Чем дольше коммуна будет тянуть, тем дороже обойдётся ремонт, — заметил кюре.
— В этом смысле, господин кюре, вы не говорите мне ничего такого, чего бы я не знал, однако мы обязаны учитывать возможности коммуны и заниматься наиболее срочными делами. Хотя это, может быть, и не бросается в глаза, но содержание священнического дома является серьёзным бременем и есть немало людей, которые считают, что такой дом для вас одного коммуне не по средствам. И если бы я не защищал ваши интересы, господин кюре, у вас уже давно не было бы вашего дома.
— Я не устаю быть благодарным вам за то зло, которое вы мне не делаете, — сказал священник.
— Ну что вы, это же так естественно. У меня есть свои убеждения, но я считаю, что священник — такой же человек, как и все мы, и что он имеет право жить в нормальных условиях. Хотя я должен всё-таки вам сказать, что в таком доме, как ваш, вы всё равно что блоха, попавшая в стог сена. Или уж в таком случае вам надо было бы обзавестись женой и целым выводком детей.
Вуатюрье рассмеялся. Учителю стало за него стыдно. А вот у кюре чуть было не вырвался вздох сожаления. Ему нередко становилось грустно оттого, что у него нет ни жены, ни детей, причём вовсе не из-за приятности супружеской жизни как таковой (хотя и не без этого). Ему казалось, что наличие семьи было бы в интересах его скромного служения вере. Паства всё больше и больше ускользала от него. Когда кто-нибудь хотел получить место путевого обходчика или служащего на железной дороге, когда нужно было добиться пенсии, то люди шли советоваться с мэром, а когда хотели справиться о способностях своего ребёнка, то шли к учителю. А вот с ним, со священником, не советовался никто. Все довольствовались только тем, что ходили каждое воскресенье на его бесплатные представления. Если он и сохранил у кого-то авторитет, то только у старых дев, у стариков, да у нескольких слабоумных — в общем у людей, составлявших мёртвый слой населения. Для остальных он был всего лишь чем-то вроде чиновника, приставленного для выполнения некоторых формальностей. При этом он был небогат, весьма скудно питался и, будучи не в состоянии предложить для обмена ничего, кроме молитв и проповедей, походил на растение в горшке среди деревьев, растущих в лесу. Если бы у него были жена и дети, он бы участвовал в жизни Во-ле-Девера: всеми своими корнями и молодыми побегами помогал бы себе укреплять власть над душами. «Раз уже слово стало плотию, — размышлял он, — то не стоило бы отказывать в этом удобстве бедному деревенскому священнику».
— Это я пошутил, — сказал Вуатюрье. — Так просто сказал, шутки ради. Но, говоря по правде, мы, прогрессивные люди, вовсе не настроены против религии, хотя многие так думают. С чем-то можно согласиться, а с чем-то — нет. Я вот скажу вам, что в историю с Ионой и китом я ни в жизнь не поверю. А вот Иисус Христос — это совсем иной случай. Против Христа я ничего не имею. Ведь если хорошенько разобраться, то Иисус Христос был просто прогрессивным человеком. Для того, кто хочет видеть всё, как есть на самом деле, Иисус Христос — это настоящий социалист.
— Вы мне про это уже говорили, — раздражённо возразил кюре, — но вы ошибаетесь. Большего заблуждения, чем этот так называемый социализм, просто быть не может. На самом деле Господь был сторонником рабства. И чтобы в этом убедиться, достаточно почитать Евангелие. Вы там не обнаружите ни одного жалостливого слова, ни одной сострадательной запятой в отношении рабов, которые в те времена исчислялись миллионами. Для него форма общества не имела никакого значения, и Он всегда проповедовал лишь братство в Боге, такое братство, которое не мешает хозяевам сечь своих слуг.
Опасаясь, что сказал что-то лишнее, священник замолчал. Энбло был смущён и расстроен, услышав о том, что Иисус, оказывается, был сторонником рабства, ибо до этого всё, что он читал о нём, создавало в его сознании, скорее, образ философа-анархиста.
— А я-то считал Христа всё-таки чуть более прогрессивным, но вы его знаете, конечно, лучше, чем я. В одной из ближайших воскресных проповедей вам нужно бы рассказать, что Иисус Христос был сторонником рабства. Это многих заставит задуматься. Ну да тут долго можно рассуждать, а вот не поговорить ли нам сейчас лучше о Вуивре? Вы в курсе, господин кюре, что кое-кто вроде бы видел, как эта стерва разгуливает вместе со своей змеёй, которая ползёт впереди неё?
— Мне и в самом деле говорили о чём-то в этом роде, — осторожно ответил кюре и на всякий случай изобразил на лице улыбку.
— Должен вам сказать, я ничего не могу с собой поделать, но подобные истории не вызывают у меня ничего кроме смеха. Тот, кто более или менее разделяет мои идеи, меня поймёт. Но только вот ведь что получается: я являюсь мэром этой коммуны. Когда ко мне приходят и говорят, Вуивра там, Вуивра тут, я должен это принимать к сведению. Ведь они-то все верят в Вуивру.
— Может, господин кюре мог бы нам сказать, — вставил учитель, — насколько эти появления Вуивры соответствуют католической догме.
Священник ответил, что бес может принимать любое обличье, в том числе и внешность персонажа из легенды. Хотя на практике он поступает так довольно редко. Обладая способностью проникать в души людей и потом действовать внутри них тайно, он ничего не выигрывает от того, что воплощается материально, так как человек, которому его чувства подскажут, что дьявол действительно существует, тем более поверит, если он не полный осел, в Бога и в Иисуса Христа. Однако то, что является маловероятным, всё же остаётся возможным. Лоб Вуатюрье покрылся крупными каплями пота. Это был пот доблестного радикала, антиклерикала, противника ханжества, славного поборника светского общества, который вдруг обнаружил, что в его жизнь, в прекрасные, просторные владения его разума входит дьявол, прокладывая тем самым туда путь и Богу-отцу, и его Сыну. Слова священника окончательно просветили его. Он находился в таком состоянии, что готов был тут же распластаться в пыли и кричать, кричать на все четыре стороны света, что он прозрел, что, расставшись со всеми заблуждениями, отныне он верит. Однако, будучи отлитым из бронзы или уж во всяком случае сделанным из твёрдого дерева, Вуатюрье, даже соглашаясь признавать факты, отказывался видеть их последствия. Чтобы это он, Вуатюрье, да вдруг стал лить воду на мельницу кюре и всех иезуитов Во-ле-Девера, которые мечтают (при том, что электричеством-то они любят пользоваться) вернуться во времена феодалов! Душа Вуатюрье, являвшаяся всего лишь неуловимой пылью, рассеянной в пространстве между пальцами его ног и донышком его фуражки, собралась, сгустилась, напряглась и превратилась в твёрдую нематериальную глыбу, излучающую героизм. Обращённый к вере, открывшийся для восприятия истины Христа, чуть ли не держащий персты свои в ранах Спасителя, он отказывался от блаженных райских родников исключительно ради того, чтобы сохранить верность своему депутату и своему идеалу светского общества.
— Если эти явления Вуивры, — сказал священник, — вдруг, вопреки всему, оказались бы реальными, во что я, кстати, не верю, над приходом нависла бы ужасная угроза. Хотя, глядя на состояние душ в Во-ле-Девере, я нисколько не удивляюсь тому, что Бог послал им это испытание.
— К счастью, все эти видения являются ни чем иным, как россказнями, — сказал мэр, вытирая лоб.
— Гм! Я в этом не совсем уверен. Во всяком случае истинное благоразумие всегда состоит в том, чтобы быть готовым к худшему. Вы не подумали, господин мэр, чем обернулось бы для наших людей искушение этим пресловутым рубином? Даже допуская, что страх удержит их от опрометчивых поступков, — хотя удержит ли? — самого искушения уже достаточно, чтобы у кого-то помутился рассудок.
— Поскольку это всё россказни, то нечего нам и терзаться. Не так ли, господин Энбло? Ну а теперь, вот прямо сейчас, просто к слову, господин кюре, вы скажете, что я чересчур любопытный, но всё-таки, если бы всё это оказалось правдой, то как вы думаете, что нужно было бы сделать?
Кюре притворился, что обдумывает свой ответ, хотя на самом деле держал его наготове с самого начала разговора.
— Если нам и в самом деле пришлось бы расстраивать неприкрытые козни бесовской силы, то одних только наших сил тут никак не хватило бы.
Пришлось бы призвать на помощь небо, и единственным эффективным средством был бы хороший крестный ход, чтобы мы пронесли наши святыни по всем уголкам коммуны.
— Нет, ни за что на свете! — воскликнул Вуатюрье.
Выпрямившись во весь свой маленький рост, задрав вверх подбородок, он вибрировал, словно поднявшийся на своём хвосте аспид, и огонь свободной мысли воспламенял его зрачки. Однако мысль о его муниципальных обязанностях вернула ему хладнокровие.
— Заметьте, что в глубине души я не так уж и против. Если это не поможет, то и не повредит, если бы вы удовлетворились небольшим крестным ходом, например, до креста, что стоит рядом с Рабюто, то, чтобы немного успокоить ваших прихожан, я не стал бы противодействовать этому.
— Вот чего нужно действительно избежать, так это такого крестного хода, который походил бы на видимость крестного хода и который явился бы спекуляцией неверия на Господней доброте. Если пытаться обмануть небо, то выиграть ничего не выиграешь, а вот проиграть можно всё. Ход пройдёт вокруг всей коммуны через пруд Шене, через пруд Ну и через могилу Старого Замка. Или никакого хода не будет вообще.
— Что ж, ладно, раз вы вставляете палки в колёса, то хода не будет вообще.
9
В такт шагу подгоняемых Виктором быков повозка, гружённая сеном, катилась через луг в сторону фермы. На другом берегу реки солнце уже клонилось к Сенесьерскому лесу, но сухой зной над выкошенными полями не смягчался. Быки, опустив головы, принюхиваясь к раскалённому воздуху и тяжело перебирая ногами, тянули за собой по колючей стерне меровингский ковчег. За повозкой, словно сомнамбулы, шли, тяжело опустив руки, изнурённые сушильщики сена. Шли они молча, и в головах у них шумело от усталости, жары и едкого запаха сена, продиравшего нос до самой глотки. Мысль о том, что вскоре снова придётся приняться за работу на перегретом сеновале, даже не возникала в их заторможенном сознании.
— Я догоню вас, — сказал Арсен.
Он повернулся спиной к повозке и зашагал по направлению к солнцу. Дойдя до реки, он окунул в неё руки до плеч и лицо. Вуивра села рядом с ним и принялась плескаться в воде голыми ногами. Отряхнувшись, Арсен встал и сказал:
— Послушай-ка, Вуивра, ты повсюду за мной ходишь. Я уже и шагу ступить не могу без того, чтобы ты не рыскала поблизости. Это мне мешает. И вот что я тебе скажу. Если ты думаешь, что мы опять будем кататься по земле и забираться друг на друга, то я тебя предупреждаю — с этим всё, кончено.
— Сядь в тень, — сказала Вуивра. — Тебе жарко.
Арсен уселся рядом с ней и стал откровенно разглядывать её, не боясь, что она заметит, куда направлены его взоры. Чистота, свежий цвет лица, необыкновенно правильные черты, грациозность, сдержанная непринуждённость движений и бесконечная гармония, постоянно переходящая в новую гармонию, — всё в ней удивляло его так же, как в первый день. Он видел в ней собранные воедино, нашедшие форму и приведённые в порядок неуловимые элементы тех грёз, которые витали иногда в его сознании и в которых не было ничего определённого. Вуивра смотрела прямо ему в лицо, подстерегая и в его чертах и в его маленьких серых глазах признаки взволнованности.
— Ты боишься, что обо мне узнают в твоей деревне? — спросила она.
— Может быть, уже узнали. Но меня удерживает не это.
— А, значит, ты боишься ада? — Арсен не ответил. — Так ты всё-таки считаешь, что я порождение ада?
— Так или иначе, где-то ты ведь появилась на свет, — заметил Арсен.
— Вы, жители Юрских гор, должны были бы знать, откуда я пришла. Если бы у вас была хотя бы капелька памяти, вы не стали бы принимать меня за исчадие ада. Даже если предположить, что дьявол существует, хотя я ни разу его не видела, по мне так он всего лишь маленький мальчик.
— Как это так?
— Я уже была на этих равнинах и в этих Юрских горах задолго до появления дьявола, и даже задолго до появления человека. Тысячи лет я жила одна-одинёшенька, вместе с лесом и зверями, которые и составляли всё живое на земле.
— Наверное, это было не слишком весело, — сказал Арсен.
— Среди зверей встречались и страшные, но, если подумать, страшнее всего был сам этот край. Леса, куда не проникал свет, заболоченные земли, топи, гнилые места, где кишела всякая гадость, — вот что представляла собой эта низменность. Я старалась чаще держаться гор, сидела у грохочущих потоков, бродила по утёсам. День и ночь слышала я голоса волков, северных оленей, зубров, медведей, носорогов, мамонтов.
— Собаки иногда тоже сильно надоедают своим лаем, — заметил Арсен.
— Я, — продолжала Вуивра, — существовала до жизни, я была моделью, формой, по которой она пыталась медленно отливаться. Во взгляде зверей я искала свет разума, который возвестил бы об окончании моего одиночества. Я дожидалась появления первых людей. С какой любовью и беспокойным упованием я сопровождала их, когда они делали свои первые шаги по юрским равнинам и горам. Я вела за руку моих дорогих сгорбленных монстров с согбенными коленями и низкими черепами в гроты Арле, Рошданна, Гонвиляра, Рошфора, чтобы они могли там защититься от хищников, от морозов и бурь. Вместе мы научились добывать огонь и говорить: «Га но крр крр уа».
Вуивра заговорила на языке доисторических жителей Юры. Арсен прикрыл ладонью рот, подавляя зевоту. Через плечо окинул взглядом равнину. Вдали повозка уже подъезжала к ферме. Ещё минут пять, и в путь, чтобы не торопясь прийти как раз вовремя, главное не слишком рано.
— Они хорошо меня знали, — продолжала Вуивра. — Я была для них и убежищем, и надеждой. Они называли меня матерью людей, жизнью, светом, землёй, солнцем, источником. Впоследствии этих имён становилось всё больше, и из них стали возникать боги. Гордясь жителями Юры, я видела, как они растут, а они, гордясь собственной отвагой и своей предприимчивостью, не забывали, какую роль во всём этом сыграла я. Я была вместе с вами в ваших городах, расположенных на берегу озера Шален, а позднее — в ваших секванских городах: в Безансоне, Абиолике, Мандере, Сегободиуме, Арентоде. Боги меняли имена, но оставались всё теми же богами, а это значит, что в своём экстазе вы увековечивали меня. В Ликсавиуме, нашем теперешнем Люксее, куда богачи из Секвании приезжали на воды, вы поклонялись мне, нарекая Сироной, богиней вод, но я узнаю себя и в Минерве, и в Аполлоне. Вот время-то было, а как прекрасны были жители моей страны! О дьяволе тогда никто и не слыхивал. Те сила, грация и благородство, которыми они наделяли своих богов, составляли сокровищницу их упований. Это они самим себе давали обеты, что в один прекрасный день сравняются со своими богами…
— Слушать тебя не скучно, — сказал Арсен, вставая, — но мне пора идти.
Вуивра тоже встала и сказала, взяв его за руки:
— Как видишь, между мной и дьяволом нет ничего общего. Я — девушка без всяких загадок. Я люблю леса, пруд, реку, все времена года. Я беззаботна, я просто живу ради игр и удовольствия. Во мне слишком мало таинственности, чтобы я могла послужить пристанищем какому-нибудь бесу. Вот в ком действительно много всякой темени, так это в тебе. В твоей деревянной голове всё тонет во мраке и тумане. Но это вы все, жители Юры, стали такими, когда пришли проповедники бесконечности, чтобы отвратить вас от ваших богов.
— Это только ты так думаешь.
— Это я так думаю? Ах, если бы ты знал тех, кто жил здесь раньше! Они были не то, что вы, теперешние — не ощупывали себя, не заглядывали в своё сознание, пытаясь отыскать первый конец бесконечности. А всё очень просто — они стремились быть похожими на меня.
— Ну ладно, я всё-таки пошёл.
Арсен хотел отдёрнуть руки, но Вуивра удержала их в своих ладонях и сказала, прижавшись к нему:
— Ну теперь-то ты веришь, что я не дьявольское отродье?
Склонившись над лицом Вуивры, Арсен вдыхал её запах. Тело её пахло лесом, землёй, росой. Она раскинула руки, словно дерево — свои ветви. В её зелёных глазах струилась река, а волосы у неё были чёрные, как тот тёмный бор, что закрывал горизонт. Кожа её сияла радостью юрского лета, утренней невинностью зверей и детским упоением от незамысловатых и буйных игр. Дьявола тут и в помине не было, и Арсену пришлось с этим согласиться. Однако невинность эта выглядела ещё более подозрительной и из-за неё Вуивра казалась ему ещё более необычной, ещё менее человечной, чем в том случае, если бы она являлась бесом, который людям всё-таки немного сродни.
— Может статься, мы ещё поговорим об этом, — произнёс он, уходя.
Поставив повозку с сеном в ригу, Виктор глотнул немного вина и вскочил на велосипед, чтобы заехать к кузнецу и поторопить его с ремонтом ступицы колеса от косилки. Юрбен, не дожидаясь Арсена, залез на повозку и стал разгружать её. Он стоял, широко расставив ноги, втыкал вилы в сено и подавал его Эмилии, которая брала сено в охапку и передавала Белетте. Хотя на повозке было не так жарко, как под черепичной крышей чердака, Юрбен весь взмок от пота. К усталости примешивалось беспокойство оттого, что он чувствовал неподалёку присутствие Луизы — она отговаривала его заниматься этим, по её словам, непосильным для него делом и теперь подмечала сбои в его работе. Он не мог долго поддерживать первоначальный ритм работы. По мере того как сена на повозке становилось меньше, подавать его наверх становилось всё труднее. Когда он поднимал вилы, руки у него дрожали, движения замедлялись, утрачивая размеренность. Волнуясь, Юрбен делал над собой усилие, но и дыхание, и мускульная сила были у него на пределе. Он стал из-за этого даже хуже видеть, и ему казалось, что вместе с потом из него выходит душа. Отступив назад на шаг, чтобы поднять груз, он почувствовал, как ноги у него подогнулись, и он зашатался. От падения его спасли только вилы, которые он вонзил в сено и на которые опёрся, на мгновение замерев и стоя с растерянно блуждающим взглядом. И в этот момент он услышал то, чего опасался больше всего, голос Луизы, воскликнувшей:
— Мне было страшно за вас! Ну, слезайте же, Юрбен. Эта работа уже не для вас.
Он попытался было ещё раз поднять свою ношу, но тут уж Луиза рассердилась.
— Юрбен, слезайте немедленно. Я не желаю видеть, как вы сломаете ногу.
Старик больше не возражал и, задыхаясь, сел на сено. Арсен, который наблюдал за всей этой драматической сценой с порога риги, вошёл в помещение и ничего не сказал. Обхватив Юрбена обеими руками, он помог ему спуститься с повозки, а сам залез на неё и продолжил работу. Эмилия и Белетта подошли к краю чердака, но, как и Арсен, не произнесли ни слова.
Спустя четверть часа после инцидента Луиза заглянула на конюшню и прошла до клетушки, служившей Юрбену спальней. Он сидел на кровати, выпрямив спину, не шевеля головой и положив ладони на колени. Дабы выразить свою почтительность, он посмотрел на неё, стараясь, однако, не встретиться с нею взглядом из боязни, что она истолкует его как мольбу. У Луизы к горлу подступил комок.
— Вы сегодня слишком много работали. С четырёх часов утра в поле да ещё при такой жаре — есть от чего устать. Вам ведь, Юрбен, как и мне, уже не двадцать лет.
Луиза пришла сказать Юрбену, чтобы он приготовился в октябре покинуть ферму, но ей не хватило смелости. Ей пришлось вспомнить все доводы, которые перечислил Арсен. Сейчас, разгружая повозку, он, должно быть, прикидывал, что выйдет из этой их беседы. Скорее всего, он пришёл в ригу с опозданием специально для того, чтобы Юрбен начал работу, которая ему не под силу.
— Если пойти вам навстречу, — сказала она, — то вы просто погибнете на работе. Вы у нас уже тридцать лет, Юрбен, и можно сказать, что тяжёлый труд высосал из вас все силы. Когда после смерти Александра мои старшие сыновья пошли на фронт, вы работали за всех отсутствовавших, а после этого так и не остановились. Но когда достигаешь определённого возраста, то, несмотря на наше желание работать, работа уже не спорится, как раньше. Один раз пронесёт, второй — пронесёт, а потом хвать, и какой-нибудь несчастный случай, тем более что вы, Юрбен, не из тех, кто себя жалеет. Вам только бы схватиться за работу, а о том, по силам она или нет, даже не думаете.
— Вам виднее, Луиза, что со мной делать, — прошептал Юрбен.
Кротость, прозвучавшая в его голосе, потрясла её. Она села возле него на грубошёрстное одеяло, лежавшее поверх брезентовой складной кровати. Юрбен смутно ощутил иронию, присутствующую в этом дружеском жесте, который, казалось, внезапно сломал барьер между хозяйкой и слугой в тот момент, когда она, чтобы оправдать решение о его увольнении, перечислила все невзгоды, которые влекла за собой старость. Он подумал о том, каким приключением мог бы стать подобный визит к нему Луизы раньше, в течение тех тридцати лет батрачества, наполненных любовью к своей госпоже, любовью немой, любовью без надежды, но не безысходной, довольствовавшейся одним лишь её присутствием. Со своей стороны, Луиза с удивлением вспоминала, какое место занимали некогда в её мыслях этот угол в глубине конюшни и эта жёсткая брезентовая кровать. Оказавшись вдовой, она на протяжении многих лет боролась с искушением прийти вечером к одинокому Юрбену в его клетушку. Его лицо под той же самой фуражкой с откидным клапаном уже тогда обрело это гордое и неприступное выражение испанского вельможи, только двадцать лет назад оно у него было чуть более полным, а тело — сильным. Тогда Луизу неотступно преследовал образ этого мужчины, который, не ведая любовных наслаждений, спал в углу конюшни. После того как она укладывала детей, ей не раз случалось оставлять кухню и направляться в сторону конюшни. Соблазн был тем более силён, что она не сомневалась в нём, в его честности и порядочности. Но всякий раз гордость за своё положение, чувство достоинства почтенной матроны, да ещё какая-то боязнь уронить себя в глазах непорочного человека удерживали её у самой двери. Однажды вечером она всё-таки тихонько к нему вошла. Она неподвижно стояла в темноте, дрожа от желания и тревоги, и слушала дыхание спящего работника, смешивавшееся с дыханием лошадей. Так продолжалось несколько минут, пока она дожидалась внутреннего согласия с самой собой, боясь и надеясь, что вдруг что-то произойдёт и подтолкнёт события. Затем, стыдясь победы над собой и злясь на себя, она на цыпочках вышла.
Сейчас они сидели рядом, и ни он, ни она не знали, что каждый из них значил для другого, сидели и думали о прошедших глухих годах, о громких зовах, оставшихся без ответа. Они чувствовали себя виноватыми: он за то, что смел любить, она — за то, что не посмела, и умилялись друг другу. Луиза склонилась над Юрбеном и положила ему руку на плечо — по дружескому велению сердца с примесью некоторого любопытства и удивления, что когда-то от одной мысли о таком простом жесте у неё в жилах закипала кровь. Старик не смел пошевелиться. В тусклом свете закутка его лицо светилось нежностью и благодарностью. По его щекам скатились две слезы и потухли в колючках седой щетины, которую он брил раз в неделю. Он был счастлив, и это счастье восхищало его самого. Заметив слёзы Юрбена, Луиза не удержалась и тоже заплакала. Плакала она без печали, напротив, даже радовалась тихой передышке, в которой жестокие борения прежних дней, казалось, обрели завершение и явились наградой.
— Увы, — сказала она после слёз и молчания, — как бы там ни было, людям одного возраста легко договориться. Чего здесь особенно раздумывать? Вы, Юрбен, часть нашей семьи, в большей, например, степени, чем мой брат Луи, который живёт в Берсайене, или тот же Глодпьер, парень моей сестры Забели. Зачем вам куда-то ещё идти, жить не у нас, а в другом месте? Здесь ваше настоящее и самое подобающее вам место.
Она говорила, и ни он, ни она не обратили внимание на шум шагов в конюшне. В дверях закутка появился Арсен. Луиза убрала руку с плеча старика, даже сердясь на него за то, что её поймали вот так с поличным. Арсен хорошо расслышал последние слова матери. Когда он увидел их два заплаканных лица, его серые глаза заблестели от гнева, и он произнёс своим суровым и холодным голосом, которому не осмеливались перечить:
— Ну, Юрбен, моя мать сказала вам, что вы будете работать у нас до октября? Когда днём поработаешь, вечером можно с полным правом отдохнуть. И у вас есть это право, как и у всех остальных.
Он выдержал паузу, стараясь прочитать ответ во взгляде Юрбена. Старику ничего не оставалось кроме как кивнуть в знак согласия.
— А пока у нас ещё есть время подумать, как организовать вашу жизнь.
10
Вернувшись после мессы, Жюльетта Мендёр решила пришить пуговицу. Её мать ломала хворост рядом с печкой, на которой варился говяжий суп, и тут же на треножнике кривым садовым ножом расщепляла палки покрупнее. Кухня с низким потолком и узким оконцем выглядела убого, несмотря на то, что мебели в ней хватало. Глинобитный пол свидетельствовал о бедности, и это впечатление особенно усугублялось при взгляде на царивший в углу, возле печки, беспорядок с разбросанными всюду сучками, свалившимися с поленницы дровами и стоявшими тут же глиняными чашками с прилипшими к ним остатками месива, которое не доели собака и домашняя птица. На одной из выбеленных известью стен висела реклама швейной машины, а рядом — календарь, выпущенный почтовым министерством. Сидя верхом на стуле и глядя куда-то в сторону, Ноэль Мендёр сердито слушал, что говорит сын.
— Я видел её не хуже, чем вижу сейчас вас, — сказал Арман. — С голой задницей и всем остальным, она стояла на берегу.
— У тебя что, язык отсохнет, если ты будешь выражаться поприличнее, да?
— А я и не знал, что вы только что отведали освящённого хлебца, — съязвил Арман. — Ну, а как я должен говорить?
Отец не удостоил его ответом. Арман повернулся к женщинам, чтобы спросить их мнение, но в этот момент во дворе прогремел зычный кирасирский голос, и Жермена, старшая из сестёр Мендёр, вошла на кухню, наклонившись, чтобы пройти под притолокой.
— Я нашла, где она их несла, наша серая, — прокричала она. — Одиннадцать яиц, я их собрала.
Она показала яйца, которые принесла в переднике. Домочадцы успокоились. Они всякий раз немного побаивались, не появится ли она, таща в каждой руке по мужику. Громадная, как кирасир, гвардеец, или прусский гренадер, с мощной нероновской шеей и руками лесоруба, но в то же время с тяжёлыми, твёрдыми, натягивавшими ткань кофты грудями, не менее округлыми и всегда готовыми к бою бёдрами, она была ненасытной пожирательницей и разрушительницей мужчин, бурей, изнуряющей мужей, неутомимой похитительницей девственности. Выйдя в тридцать лет в четвёртый раз замуж, на этот раз за сборщика налогов из Сенесьера, она превратила его в тень, в порыве страстных лобзаний вывихнула ему плечо, а с его налогоплательщиков чуть что снимала штаны, и у одного пятнадцатилетнего приказчика выпила столько субстанции и здоровья, что того срочно пришлось отправить в санаторий. Вернувшись месяц назад в лоно семьи, она ожидала оформления развода, которого потребовал муж. Не без страха относясь к присутствию Жермены под их крышей, родители, однако, принимали её не без некоторого благорасположения, поскольку в работе она стоила троих мужиков и пары волов.
— Вот уж несколько дней серая курица, я так себе думаю, ну, в конце концов, чёрт её побери, я так себе думаю, ну, вот курица хорошо ест и от петуха не отказывается, так должна же она нести яйца! Несколько раз вчера я пыталась проследить за ней, но ведь они хитрые, они знают, когда мы с них глаз не спускаем. И вот сейчас выхожу я из риги, даже ни о чём и не думаю, и что же я вижу? Моя серая слетает с изгороди, той, что около огорода и кудахчет, сообщает, что снесла яйцо.
— С изгороди около огорода? — удивился отен. — Да ты что, быть того не может. Изгородь около огорода отсюда и не видно.
Жермена немного растерялась и, решив, что если она будет класть яйца на стол с преувеличенной осторожностью, то можно будет не отвечать. Ноэль встал и подошёл к ней, не сводя с неё глаз.
— Рига? Но чёрт побери, какая рига? Это может быть только рига Мюзелье, не иначе.
— Ой, — сказала Жермена с невинным выражением лица, — одно я всё-таки разбила. А вы знаете, Мюзелье, в сущности, если пораскинуть мозгами, не такие уж плохие люди. А у меня так получилось, что я там беседовала с Виктором.
— У него в риге?
— О! Мы только вошли и вышли. И не надо воображать себе, будто…
Супруги Мендёр и Арман смотрели на Ненасытную с тем ужасом, какое обычно испытывают при святотатстве. К тому, что в радиусе пяти лье её считали самой большой в кантоне шлюхой, семья уже привыкла. И все несли груз этого унижения, словно крест, с меланхолическим достоинством, а в деревне просто говорили, что у Мендёров много забот с их старшей дочерью. Во всяком случае, они надеялись, что уж хотя бы такого оскорбления, как благосклонность к Мюзелье, она им не нанесёт. До сих пор, — и они благодарили за это Провидение, — казалось, что мужчины из этого омерзительного племени были для Жермены существами бесполыми. Жюльетту приключение сестры огорчило не меньше, чем остальных членов семьи, но для неё самым неприятным в этой истории было то, что Жермена отдалась Виктору со своей обычной лёгкостью, придавая своей покладистости не больше значения, чем в случае с другими мужчинами. Эта случайная связь казалась ей оскорбительной карикатурой на то серьёзное и терпеливое чувство, которое она испытывала к Арсену. Но ведь можно было предположить, что её ненасытная сестра на этом не остановится. Теперь, когда Мюзелье перестали быть для неё неприкосновенными, она могла в один прекрасный день приняться и за Арсена, а ведь мужчины достаточно непоследовательны и могут немедленно дать первой попавшейся нахалке то, в чём они по расчёту и вопреки собственной склонности отказывают девушке более симпатичной и беспорочной. При одной мысли о том, что её сестра в один прекрасный день могла бы вдруг выйти замуж за брата Виктора, Жюльетта содрогнулась от ненависти. Её красивое белое лицо посерело, вокруг глаз появились чёрные круги. Между тем и Ноэль, и его сын побагровели от ярости.
— Падаль! — бушевал Арман. — Дрянь! Дешёвка!
Отец поднял свою мозолистую ладонь и с размаху влепил дочери пощёчину. Она даже не шелохнулась, чтобы защититься или уклониться от удара, и, казалось, вообще не почувствовала его. Хотя отец был немного выше среднего роста, она возвышалась над ним на целую голову, и обращённый на него взгляд её больших коровьих глаз по-прежнему сиял добротой, словно она наблюдала за шалостями ребёнка. И у него хватило благоразумия не продолжать начатое, поскольку он знал, что к оплеухам она совершенно равнодушна.
— Сходи-ка за тем, что надо, — сказал он Арману. — Принеси мне мой батожок с шипом.
Тут в разговор вмешалась мать, предложившая, чтобы это дело отложили на более позднее, послеобеденное, время, потому что говяжий суп уже сварился, и, если не съесть его сразу, овощи могут превратиться в месиво. Но Арман уже вышел из кухни, да и Жермена тоже стала готовиться.
— Лучше сейчас, — сказала она. — Чего уж там откладывать неприятности на после обеда, когда лучше покончить с этим сразу.
Она повернулась лицом к стене и, снимая кофту, которую порка могла испортить, обнажила спину до пояса. От солнца на сенокосе у неё почернели руки и шея, а плечи с выпирающими жёсткими мускулами и громадную спину, напоминающую торс Геракла, загар едва тронул. Светлая кожа смуглела по мере приближения к пояснице и глубоким подмышечным впадинам, из которых свисали два чёрных куста, поблёскивавших каплями пота. Синеватые следы под лопатками напоминали о последней взбучке, имевшей место около недели назад, потому что такие санкции применялись лишь в самых серьёзных случаях, когда про ступок становился причиной скандала или ссоры с чьей-нибудь супругой либо матерью семейства. Это было не столько наказание, сколько своего рода узелок на память, призывающий лучше выбирать сообщников. Но на этот раз речь шла именно о наказании. Боги домашнего очага взывали к отмщению. И всё же Ноэль не мог не испытывать чувства гордости, глядя на атлетическую спину старшей дочери. Ещё немного, и он готов был бы поддаться искушению простить её. Изобилие этой мускулатуры и её варварская сила были таковы, что к ним не очень подходили обычные человеческие мерки. И у Жюльетты было такое же ощущение, но только она видела в этом лишь дополнительное основание для того, чтобы ненавидеть сестру и не доверять ей.
— И давно это у тебя с ним? — спросил Ноэль.
Жермена повернулась к отцу, держа кофту двумя руками перед грудью.
— Я тебя спрашиваю, как давно у тебя началось с Виктором.
— Да нет же, ну что вы такое ещё придумаете? Клянусь вам головой Жюльетты, сегодня первый раз.
В кухню вошёл Арман с палкой в руке и злорадной улыбкой на лице. Он вручил орудие наказания отцу. И тот несколько раз подбросил палку, чтобы убедиться в её качестве. Палка была довольно тонкая, но узловатая, и у лёгкого вздутия на конце имелось несколько острых выступов.
— Ну, давай, — сказал Ноэль.
Жермена встала вполоборота к стене, выдвинув голову вперёд, чтобы лучше открыть свою округлённую и удобную спину, руками придерживая кофту у ключиц, чтобы она не упала. Ноэль, примеряясь, нанёс два удара, один — справа, со всего размаха, другой — слева, оставив на коже две красные черты. Это, однако, была не более как настройка инструмента, своего рода примерка. Жермена повернула голову с полуулыбкой, означавшей, что она оценила выбор новой дубинки. Затем посыпались более размеренные и точные удары. Красных полос становилось всё больше, побагровел целый участок спины, а в небольших разрывах кожи заблестели капельки крови. Подошла Жюльетта и пальцем указала отцу на одно место лопатки, где удар мог бы быть побольнее, но тот пренебрёг советом. Жермена не жаловалась и не двигалась, но дыхание её стало более шумным и бока вздымались теперь в убыстрённом ритме. Видя, как увлечённо отец занимается своим делом, Арман перестал прятать ещё одну палку, которую до сих пор держал за спиной, и ударил по спине Жермены, достаточно широкой, чтобы на ней хватило места для двух работников. Отец хотел было остановить его, но, приняв во внимание исключительный характер оскорбления, посчитал, что сын тоже вправе получить за него удовлетворение, и ничего не сказал. Жермена почувствовала, что град ударов усилился, и, заподозрив неладное, оглянулась через плечо, Арман в этот момент как раз поднимал свою палку. С пламенем в глазах она стремительно развернулась и, бросившись на брата, уронила кофту. Её груди выскочили на волю. От двух белых твёрдых шаров исходило удивившее Армана сияние. Он не успел ни отступить, ни защититься. Двинув ему наотмашь по челюсти, сестра отбросила его в кресло, где он на несколько мгновений застыл, обессиленный, с потухшими глазами и болтающейся головой. Жермена подобрала кофту и, повернувшись к отцу, извинилась за свою грудь.
— Он сам виноват. Уж этого-то я никак не могла вынести.
Она вновь заняла место у стены. И Ноэль, чтобы сеанс получил своё логическое завершение, нанёс ей ещё несколько палочных ударов, но без воодушевления, почти вопреки собственной воле. Отцовская гордость подталкивала его к опасной снисходительности. Теперь, когда он увидел грудь дочери и то, как она одним ударом уложила его собственного сына, он испытывал чувство почтительного восторга перед этой естественной стихией, проявления которой, какие бы формы она ни принимала, возможно, никак не вписывались в рамки обычных житейских потребностей, а скорее несли в себе какую-то эстетическую истину. То, что такая истина существует, Ноэль не знал, но что-то смущало его, и, испытывая потребность взять себя в руки, он ещё раз огрел дубинкой, теперь уже по заду, Жермену, которой оставалось только надеть кофту. Она ответила на это взглядом, полным недоумения и любопытства, не зная, воспринимать ли это, как новую вспышку гнева или же как дружелюбную шутку.
Пока длилась взбучка, Селеста Мендёр, мать, успела разлить суп и поставить супницу на стол. Это была беспокойная и печальная женщина, которой всегда хотелось нескольких вещей сразу, причём вещей наименее совместимых. Крепкая и плечистая, телосложением она напоминала свою старшую дочь, но габариты её значительно уступали дочерним. Внутренние противоречия и нервозность обрекали её на вечное недовольство всем и всеми. Чаще всего она замыкалась в себе, хранила недоброе молчание, которое сгущало атмосферу в доме и в немалой степени способствовало формированию меланхолического и вспыльчивого характера у всех членов семьи, за исключением Жермены, поскольку она, будучи на целую голову выше всех остальных, дышала более лёгким воздухом.
Арман ел говяжий суп, испытывая боль в челюсти, и поэтому весь кипел от ненависти. С каждой заглатываемой им ложкой его грёзы об отмщении становились всё более жестокими. В самом начале ему хватило того, что он видел старшую сестру вышедшей замуж в пятый раз за невзрачного, но исключительно сильного и злого Мужика, колотящего свою жену так, как никогда бы не посмел отец, так, чтобы она выла от боли и ужаса, чтобы она постепенно съёживалась, скрючивалась, ссыхалась, преждевременно превращаясь в боязливую и смешную старушонку, в которую мальчишки кидаются камнями. Но бросив украдкой взгляд на сестру, он тут же убеждался в тщетности своих надежд. Рядом с её могучей фигурой все остальные сотрапезники выглядели тщедушными, кожа её сияла беспечным здоровьем, а грудь, хотя и зажатая в кофте, смотрела всем собравшимся прямо в глаза. В конце концов Арман остановился на следующем видении: вот Ненасытная, измученная, уже сгнившая от венерической болезни (она же сама к этому стремилась), находится при смерти и по заслугам страдает. От неё идёт дурной запах, а грудь её кишит червями. А перед этим она успела заразить всю семью Мюзелье, а главное — Арсена, который тоже догнивает. И Арсен, в свою очередь, заразил Жюльетту (эта стерва немногим лучше старшей), ну а раз уж на то пошло, то болезнь перекинулась и на остальных жителей деревни. Даже отцу с матерью нездоровится. Один только Арман пребывает в добром здравии и поправился на несколько кило. Он смотрит, как все вокруг умирают. К нему приходят люди и просят сжалиться над ними. «Как бы не так, — говорит он, — подыхайте, негодяи». И дальше в том же духе.
Семья уже доела говяжий суп, но ещё никто не промолвил ни слова. Ноэль кусал седые усы, приглаживая то левый, то правый ус тыльной стороной ладони. Делал он это для того, чтобы вытереть говяжий бульон, но ещё и для того, чтобы помочь своей мысли сосредоточиться, чтобы проследить за ней, поймать её, когда она становилась совсем смутной из-за поворотов, неожиданных скачков и хитросплетений. Впрочем, ничего определённого он различить в ней не мог, если не считать уверенности, что она представляет собой сплошную неопределённость. Время от времени он глядел на Жермену, как бы спрашивая у неё что-то или пытаясь на что-то решиться. Похоже, исполосованная спина её беспокоила. Медленно поводя шеей и плечами, она проверяла свои потревоженные мышцы, и иногда боль, более острая, чем обычно, вызывала у неё улыбку удовлетворённого любопытства. Внезапно отец уловил, что мысли её блуждают где-то далеко. Красивые, добрые коровьи глаза Ненасытной зажглись, а руки обняли подавшуюся вперёд грудь, разумеется, чтобы прижать к ней воспоминание о каком-то мужчине. Ноэль обеими руками схватил себя за усы и дёрнул их вверх, помогая себе проглотить радостный смех, от которого уже порозовели его щёки, а поскольку смех никуда не уходил, он стукнул кулаком по столу и сказал:
— Ну а всё-таки, как такое могло случиться, а? Ведь не сюда же он пришёл за тобой.
— Правильно думаете, — ответила Жермена. — Виктор никогда бы не посмел. Хотя, знаете, папа, Виктор вовсе не такой, каким он кажется. Он, может быть, склонен к этому больше, чем многие другие мои знакомые. Мы ведь с Виктором учились в одном классе. Очень часто, когда мы возвращались из школы вдвоём, он совсем не стеснялся у меня просить. А я ему всегда — нет. Мюзелье, думала я, даже если он лучше других, всё равно он — Мюзелье. Это я говорю вам, каким он был. Ну и потом он тоже не изменился. Когда поговоришь с одним, потом с другим — начинаешь понимать. И я теперь знаю про него такое, что вы и не догадаетесь.
— Мы здесь сидим всё-таки не для того, чтобы выслушивать твои потаскушные истории, — прервал её Арман.
Ненасытная презрительно посмотрела на младшего брата. Протяни Жермена через стол свою руку, она бы раздавила его на стуле, как какой-нибудь шапокляк. Этого все и боялись. Но она сдержалась. Ноэль вернул её к теме прерванного разговора.
— Ну так как же вы всё-таки встретились?
Селеста поставила на стул блюдо с воскресной говядиной. Отец положил сначала детям, потом — себе, а тарелку жены оставил пустой, потому что Селеста Мендёр демонстративно отказывалась от еды, поскольку ей, мол, не до еды, когда нужно кормить домочадцев.
— Я случайно проходила мимо их дома, — сказала Жермена. — На дворе Виктор был совсем один; остальные, конечно же, пошли на мессу, а всему виной оказалась их подлая псина. Загавкала, набросилась на меня, ну а Виктор прибежал меня спасать. А начинаешь говорить об одном, потом переходишь к другому. Если бы ты зашла в ригу, — это Виктор мне так сказал, — то я бы чего-то тебе показал. Мне бы сразу поостеречься, но вы же знаете, что такое любопытство. Ну и вот, я и вошла с ним в ригу. Так что чего уж там?
Ноэлю всё было ясно. Отягчающие для любой другой женщины обстоятельства падения у Ненасытной становились неумолимой фатальностью.
— Ну, допустим, — сказала Жюльетта. — Но как это так получилось, что ты оказалась около них. В воскресное утро тебе там просто нечего было делать. Скажи-ка лучше, что ты нарочно туда пошла.
— Ничего подобного. Я возвращалась из леса, через кукурузное поле Леона Путьо.
— Из леса? — удивлённо переспросили все в один голос.
— Да, я ходила в лес. О! Совсем ненадолго.
— Может быть, ещё и с Арсеном? — усмехнулась не без тревоги в голосе Жюльетта.
Арман тоже усмехнулся, злорадствуя и по поводу злоключений Жермены и по поводу беспокойства младшей сестры, которое не ускользнуло от его внимания. При мысли об этой новой катастрофе, способной ещё больше усугубить бесчестье, родители просто перестали дышать. Жермена поспешила их успокоить.
— Да нет же! Что вы ещё себе вообразили? Я была там с Постом Бейя. Увидела, как он идёт по опушке. Поговорила с ним. Но я же говорю вам, недолго. Он спешил.
Имя Гюста Бейя успокоило родителей, но престиж Ненасытной оказался подорван. Бейя был толстый красномордый парень, носивший усики над маленьким кукольным ртом, а над низким лбом — блестящие волосы, разделённые посередине пробором. Сын вдовы, потерявшей мужа на фронте, он привык жить на государственную пенсию и не скрывал отвращения к земледельческим трудам. Чувствуя себя в душе горожанином, он имел ярко выраженную склонность к пиджачным тройкам, поплиновым жилетам, галстучным булавкам и танцам в кабачках. Походив в учениках парикмахера, он из-за своих неловких рук так ничему и не научился. Потом пробовал работать в кафе, но официант из него тоже не вышел. Вынужденный жить вдали от города из-за раздражавшей его необходимости где-то питаться и иметь крышу над головой, он проклинал землю-кормилицу, на которую вынужден был периодически возвращаться после своих провалов. Возвратясь домой из Доля, где он напрасно пытался брать уроки игры на аккордеоне, Гюст Бейя вот уже несколько месяцев ухаживал за дочкой Вуатюрье с задней мыслью, что, женившись, он смог бы купить в Безансоне на денежки старика какой-нибудь элегантный бар, где прилично одетые шлюшки принимали бы, сидя на диванах, обитых зелёным бархатом, промышленников и высших офицеров. Арсен, которому была известна возня Гюста вокруг Розы Вуатюрье, не считал его серьёзным соперником. Папаша ни за что не отдаст дочку парню, который, не задумываясь, спустит его ферму и угодья. Да скорее всего, и сама дочка, наученная приключениями со своими первыми женихами, тоже должна быть настороже. Замыслы Гюста Бейя уже навели на те же мысли и Жюльетту, но она возлагала большие надежды на галстуки горе-парикмахера, покрой его пиджачной тройки, на ту относительную лёгкость, с какой он отвешивал комплименты девушкам.
— Выходит, у тебя с ним было свидание? — спросила она у сестры.
Бесконечные расспросы начинали выводить Жермену из себя. Бейя принадлежал к той категории самцов, с которыми она чувствовала себя вправе общаться без риска запятнать честь своих родных или нарушить их спокойствие. Она резко ответила «нет».
— Это меня удивляет, — упорствовала Жюльетта. — Что ему-то было делать в лесу?
— Если хочешь знать, он искал там Вуивру! — воскликнула Жермена.
Тут все вспомнили, что появление Ненасытной прервало в самом начале рассказ Армана. Так что теперь ему было впору продолжить его.
— По-моему, никто не может похвастаться, что видел эту Вуивру лучше, чем я.
— Ну и как она выглядит?
— Что я могу ответить на такой вопрос? У неё две руки и две ноги, как у всех людей.
— А всё-таки. Она брюнетка или блондинка?
— Блондинка. Или, скорее, брюнетка. Или что-то среднее. Я не обратил внимания. Ещё бы, позади неё, на её платье, лежал рубин, и я не преувеличиваю, он был огромный, как яйцо. Вот теперь я знаю, на чём он держится. Представьте себе змею, что-то вроде серебряного аспида, который, свернувшись кольцом, широко разинул пасть, а в зубах держит рубин.
— И что, она караулила его?
— Представьте себе, нет! Я вдруг вижу, как она встаёт и прыгает в воду. А рубин, рубин лежит там, где лежал. У меня аж глаза на лоб полезли. Я ведь спрятался совсем рядом, в подлеске, меньше чем в пяти метрах от того места, куда она его положила. Свой рубин, подумайте только!
Арман уже не ощущал боли в челюсти. Казалось, его полураскрытая ладонь готова была что-то схватить.
— А потом? — спросил Ноэль.
— А что потом?
Арман слегка покраснел. Отец посмотрел на него холодным взглядом и с лёгким вздохом отвернулся.
— Так ты даже не попытался взять у неё этот рубин? — спросила Жюльетта, пронзительно рассмеявшись.
— Он бывает храбрым только когда нет никакого риска, — заметила Жермена.
Арман обругал сестёр и заявил, что им, конечно, было бы приятно посмотреть, как он подохнет, но что он не доставит им такого удовольствия.
— Ешь, — сказал ему Ноэль. — День у тебя и так получился не слишком удачный. Так что ты уж хотя бы мясо не стылым поешь.
11
В девять часов утра Арсен продал двух своих бычков. Мать и брат поручили ему отвести их на ярмарку в Доль, потому что в торговле скотом он разбирался лучше, чем кто бы то ни было. Он отличался большим хладнокровием, почти полным отсутствием какой-либо щепетильности и, несмотря на молодость, умением уверенно вести себя в споре. Когда он продал бычков, ему оставалось ещё купить поросят, но, обойдя всю ярмарку, он пришёл к выводу, что их привезли мало, что спрос на них намного превышает предложение, и потому решил воздержаться от покупки. Кое-какую мелочь попросили привезти из города Луиза и Эмилия, да и ему самому нужно было кое-что приобрести в скобяной и других лавках. Насыпав овса своей лошади, он покинул ярмарочную площадь и отправился в центр города. Он бродил по улицам, пытаясь восстановить в памяти то ощущение ужаса, которое охватило его в пятилетнем возрасте во время первой поездки в Доль. Луиза привезла его в город однажды осенним утром, чтобы врач в больнице извлёк камешек, который его угораздило засунуть себе в ухо. Когда идущая шагом лошадь, которой правила мать Арсена, поднялась на возвышенность Бедюг, он увидел весь город, анфиладу из трёх мостов и взметнувшиеся ввысь крыши возле коллегиальной церкви, и его огромный донжон, на квадратной площадке которого, между четырьмя угловыми башнями расположился домик часового. Арсен улыбнулся матери, стремясь разделить с ней свою радость и изумление при виде столь необычного пейзажа. Но открывшаяся сверху панорама города не позволяла проникнуть в его таинственную суть. Поставив лошадь с повозкой под навес у гостиницы «Золотое яблоко», они, не углубляясь в город, отправились в больницу. Арсен разинул рот от восхищения, увидев прекрасное здание больницы с громадным каменным балконом и садами, которые, нависая над каналом Кожевников, давали ему некоторое представление, пока ещё очень смутное, о том, что такое дворец. Когда камешек из уха извлекли, они отправились к одному своему дальнему родственнику, чья должность служащего супрефектуры отбрасывала определённый отблеск на всё семейство Мюзелье. Желая пройти более коротким путём, Луиза заблудилась, и они долго плутали по переплетениям улиц, переулков и лестниц, среди которых попадались настолько узкие, что они вдвоём еле проходили по ним. Оказавшись таким образом в чреве этого глубокого города, Арсен забеспокоился и, судорожно цепляясь своей ручонкой за руку матери, чувствовал себя оторванным от неба. Здесь пространство уже не было головокружительной безмерностью, на которой покоятся поля и леса и которая сама по себе ничего не представляет. Между рядами многоэтажных домов пространство превращалось в какую-то материальную реальность и обретало форму, форму улиц, между которыми оно было заключено. Небо было арестовано. И среди запахов кочерыжек, грязной воды, соломенных тюфяков, испарений влажных коридоров и бакалейных лавок с вином в разлив здесь правил свой бог, болезненный бог замкнутого пространства.
На улице Арен, главной артерии города, среди медлительной и шумной толпы, какая бывает в ярмарочные дни, Арсен заметил Реквиема, стоявшего у края тротуара. Реквием пересёк улицу и спросил его:
— Ты часом не встречал Робиде?
— Нет. Я сюда пришёл прямо с ярмарочной площади.
— Старая кляча! — выругался Реквием.
От беспокойства на низком лбу могильщика вздулась жилка. Его кроличья головка, сидевшая на широких плечах, беспрестанно вертелась во все стороны.
— Ну что, я вижу, ты продал своих бычков. Настоящая июльская погода стоит. Никогда мне ещё не было так жарко.
— У меня очень мало времени, — сказал Арсен.
Реквием подтолкнул его к захудалому кафе с трёхметровым фасадом на зловонной улочке. Толстая растрёпанная женщина подала им литр красного вина, пожаловалась на расширение вен и попыталась навязаться к ним в компанию, но Реквием грубо отправил её заниматься своим делом. Она исчезла на кухне со словами, что хорошие манеры встречаются всё реже и реже.
— Просто невероятно, — вздохнул он после того, как она ушла. — Мы были с ней здесь, за этим же столом, где мы сейчас сидим. Это она захотела сюда войти. Я-то не слишком горазд пить, но она сказала, что ей хочется пить. Ну ладно, вошли мы. Сидим тут, болтаем, ни о чём не думаем. На вокзале я дал ей пинка под зад, но вроде ничего особенного. Она вроде даже и не обиделась. И вот, сидим мы тут, и вдруг она встаёт и говорит мне: «Я сейчас вернусь». Кто бы мог заподозрить что-нибудь неладное? Стакан-то у неё был полон на три четверти. Не вру, на три четверти.
— Ты её найдёшь. Скорее всего, она где-нибудь здесь.
— Нет, Арсен, она не вернётся. Я её слишком хорошо знаю. Ты вот скажешь мне: Робиде — это не Бог весть что. И я не стану тебе ничего отвечать. Но только видишь ли, эта женщина — это всё-таки не просто кто попало.
Он поднёс стакан к губам, поставил его на стол, не выпив из него ни капли, и мечтательно добавил:
— С некоторых пор она вбила себе в голову, что ей нужен отпуск.
Он сделал паузу и прошептал уже для себя, вдумчиво и почтительно:
— Отпуск.
— Скорее всего, ей встретился кто-нибудь из знакомых. Сейчас в поезде она сразу отыщется.
— Нет, Арсен, она не вернётся. Больше никогда не вернётся. Об этом я мог бы тебе много чего порассказать. Я ведь не вчера родился, мне уже сорок с хвостиком. Я родился сейчас уж и не помню, то ли в восемьдесят шестом, то ли в девяносто шестом. И жизнь-то я знаю. Да и что такое любовь, я, наверное, тоже знаю. Ну так вот, я тебе скажу истинную правду: мужчины-то, они ведь даже и не понимают, что такое любовь. Я вот сейчас говорю тебе об этом, а ведь я сам был такой же, как они. Про Робиде многие тебе расскажут. Как я её поколачивал. Я ведь не пьяница, но когда бывал немного выпивши, то не раз разбивал ей морду в кровь. Да, не раз. Мужчины, они ведь думают, что это и есть любовь, да ещё, чтобы опорожнять своё хозяйство. Но на самом деле всё совсем не так.
Реквием раздвинул борта куртки, расстегнул рубашку, обнажив волосатую грудь, и ткнул кончиком указательного пальца под левый сосок.
— Любовь, — сказал он, — она вот тут, внутри. А вовсе не где-нибудь в другом месте.
Он подождал немного, чтобы Арсен выразил своё согласие, но тот замешкался, и он добавил:
— Мы считаем, что мы пользуемся женщинами. Но ведь у женщин, у них же есть свои мысли, а мысли — это же ведь не вши, хотя мы и не видим, как они бегают по голове.
Он замолчал и погрузился в какую-то свою грёзу о вечно женственном. Арсен воспользовался паузой, чтобы встать. За вино уже было заплачено, но на дне бутылки ещё что-то оставалось. Вылив всё себе в стакан, Реквием остался сидеть один, положив локти на стол и размышляя о своей судьбе.
Чтобы наверстать упущенное время, Арсен пошёл на рынок тканей кратчайшим путём по почти безлюдным улочкам. На улице Старых Боен, у входа в какой-то коридор, он заметил Робиде, докуривавшую окурок. Тощая, с выступающим вперёд острым животом, она была одета в сероватое, до смешного летнее платье, сшитое как попало из выцветших штор. Прислонившись обрюзгшим телом к стене, полуприкрыв красные веки, она нежилась в зловонной прохладе, которая шла откуда-то с заднего двора через тёмный коридор. Её дряблое лицо старой алкоголички в чёрных грязных морщинах выражало блаженство от обретения городского рая, а беззубый рот посвящал свою улыбку тому самому чахлому богу, чьё присутствие когда-то так встревожило Арсена. Презирая деревенских жителей и всегда отказываясь отличать одних жителей Во-ле-Девера от других, она не обратила никакого внимания на прошедшего мимо неё недавнего собеседника Реквиема.
На площади Насьональ, у подножия колокольни, густая толпа медленно обходила прилавки ярмарочных торговцев. Арсену надо было купить двенадцать метров полотна на тряпки. Он подошёл к одному из лотков, возле которого крестьянка торговалась как раз о цене полотна, и когда она уговорила торговца сбавить цену до нижнего предела, он спокойно произнёс: «И мне двенадцать метров этой же ткани». Ожидая, пока его обслужат, он смотрел на медленное движение человеческого потока и вдруг с удивлением заметил в толпе Вуивру, у которой на голове была светло-серая спортивная шапочка. Желая избежать встречи, он спрятался за спины покупателей, чтобы она его не увидела. Вуивра прошла рядом с лотком, и прежде чем она скрылась в толпе, он успел разглядеть её сзади с ног до головы. Одета она была в летний английский костюм с короткими рукавами, на ней были чулки, перчатки, туфли на высоких каблуках, а в руках она держала сумочку. Эту городскую одежду она носила с поразительной непринуждённостью, и Арсену даже пришла в голову мысль, что Вуивра была просто девушкой из Доля, решившей посмеяться над легковерными обитателями Во-ле-Девера, но он тут же вспомнил про змей.
Покинув рыночную площадь со свёртком полотна под мышкой, он отправился за покупками в магазины, расположенные на главной улице. В магазине игрушек он купил племянникам два плохоньких мяча: один — пластмассовый, а другой — из лакированной резины с цветными полосками. Затем попросил, чтобы ему показали кукол, и разглядывал их минут пятнадцать. Продавщица, возможно, сначала подумала, что без труда продаст ему какую-нибудь из них, — ведь мячи же он купил без колебаний. А он всё вертел кукол, находя в них то фабричный брак, то какие-нибудь царапины, ощупывал платья, однако внимательнее всего изучал их мордашки. Соблазнившись одной моделью, он чуть было не купил её, но потом отложил в сторону и заявил:
— У неё несерьёзный вид. Как у маленькой беспутницы.
Отверг он и другую куклу, которая умела говорить «папа» и «мама» — ему показался смешным её голос чревовещательницы. Наконец он выбрал одну из самых больших за её детское, как ни у какой другой, лицо пухлого ангела-оптимиста. На ней было розовое платье, розовые носочки, туфли-лодочки и такой же розовый чепчик. Он заплатил за неё не без внутреннего протеста непомерную сумму в восемьдесят пять франков, добившись перед этим скидки в четыре пятьдесят за царапину на щиколотке, которая поначалу вообще заставила его засомневаться в правильности выбора. Продавщица упаковала куклу в картонную коробку, и перевязала её лентой.
Последняя лавка, где задержался Арсен, была скобяной. Сначала он купил несколько вещей для фермы: железный заступ, маслёнку, гайки, верёвку и попросил завернуть всё это в один пакет. Потом, заглядывая в длинный список, составленный им самим, он сделал и другие покупки, например, замки, дверные ручки, дверные петли, штифтики для стропил, латунную проволоку, за которые заплатил отдельно не из семейного, а из особого личного кошелька. Выходя из скобяной лавки, он прямо на пороге столкнулся лицом к лицу с Анжелой Меришо, женой кузнеца, которая стала рассказывать ему о том, где она успела побывать и что купила.
— Ты погляди-ка, — сказала она, показывая на пару, проходившую по другой стороне улицы, — вон дочка Вуатюрье со своим новым женихом.
Он бросил взгляд на жениха и невесту, но на лице Арсена никак не отразилось охватившее его чувство досады.
— Может, ты ещё не знаешь, — продолжала Анжела Меришо. — Вчера всё решилось, и, конечно же, Вуатюрье пришлось долго уламывать, чтобы он согласился. Но уж малышка-то знает, чего ей нужно, будь спокоен, и, может быть, знает лучше, чем Гюст Бейя.
— Судя по тому, что мне говорили, это всё-таки он домогался, — заметил Арсен.
— С одной стороны, оно, конечно. Но я-то вот ещё чего подумала. Он-то уже десять дней бегает за Вуиврой, и если бы ему удалось прибрать к рукам её рубин, то бедной Розе было бы уже бесполезно бегать за ним самим.
— А вы в неё верите, в эту Вуивру? — с улыбкой спросил Арсен.
— Мой сын её видел, и дочка моя тоже видела. И многие другие видели. Так что приходится верить. А ты нет, не веришь что ли?
— О! Я-то что, я ничего не говорю. Ну, мне бы не хотелось, чтобы вы из-за меня задержались с вашими покупками.
Нагруженный многочисленными свёртками, он направился к ярмарочной площади, весь в мыслях о своём провале. Удар был сильным. После того, как от Розы Вуатюрье отказался её первый жених, Арсен вынашивал идею женитьбы на ней, которая сделала бы его самым крупным собственником в Во-ле-Девере. Его мечты о механизированном земледелии и об отборных химических удобрениях уже обретали очертания реальности. Больше всего его раздражало то, что причиной его провала стал какой-то простофиля, размазня, любитель одёжек из альпаги, несостоявшийся парикмахеришко. Впрочем, если поразмыслить, то в выборе такого жениха не было ничего неожиданного, по крайней мере, со стороны Розы. Образ парочки, шествующей по городским улицам, помог Арсену понять суть происходящего. Радость, преобразившая это жалкое некрасивое лицо, заставила его вспомнить блаженное выражение на лице Робиде, хотя в случае с Розой речь шла о довольно лёгком опьянении, словно благодать городского божества осенила её лишь слегка. Идя под руку с женихом, одетым в новый с иголочки пиджак с галстуком, дочь Вуатюрье казалась себе заново рождённой в ином мире, одной ногой уже ступившей в рай. Её воображение, должно быть, хорошо поработало за последние месяцы, следуя за первым женихом, сбежавшим в город. Этим и объяснялась удача Гюста Бейя, которому его опыт и самомнение горожанина придавали ни с чем не сравнимое обаяние. Арсен пожалел о том, что ради соблюдения правил приличия запоздал с ухаживаниями за Розой. Если бы он не счёл необходимым дать ей время, чтобы она забыла о своём горе, он оказался бы единственным претендентом, а с учётом того, что Вуатюрье к нему благоволил, успех был бы обеспечен.
На ярмарочной площади он опять увидел Реквиема, сидевшего на каменной тумбе рядом с его, Арсена, повозкой.
— Ты не встречал её? — спросил могильщик.
Вместо ответа Арсен положил свои свёртки на повозку. Он заметил выглядывавшие из-под соломы две литровые бутылки красного вина.
— Я ждал её до самой последней минуты в кафе, которое ты знаешь, да и то, скорее, просто для очистки совести. Я уже больше не верил, что дождусь. Эта женщина слишком уж хороша. Она всё-таки не для меня. А теперь мне только и остаётся, что вернуться к себе и продолжать рыть могилы для моих мертвецов. Я подумал, может, ты подвезёшь меня на своей повозке.
— Это нетрудно. Я только попрошу тебя немного подождать. У меня в городе есть ещё одно дело. Пока просто посторожи мои свёртки. А если ещё напоишь лошадь, будет совсем хорошо.
Арсен ушёл, а слегка хмельной Реквием отвязал лошадь и повёл её к воде, рассказывая ей о Робиде, женщине, которую встречают только раз в жизни, родившейся, уверял он, для ложа префекта.
Арсен праздно бродил по улицам города, но при этом внимательно посматривал по сторонам. Проходя во второй раз по площади Цветов, он увидел скопление людей вокруг уличного певца, которому аккомпанировал аккордеонист, и среди зевак заметил силуэт Вуивры. Он подошёл к девушке, положил ей руку на плечо и поздоровался, стараясь как можно радушнее улыбаться. Та была в восторге от столь желанной для неё встречи и тотчас потащила его прочь от толпы. Несколько минут спустя они уже сидели за одним из трёх столиков, стоявших на террасе маленького кафе рядом с ярмаркой. За соседним столом, уставленном пивными бутылками, крестьянская семья подкреплялась съестными припасами, извлечёнными из украшенной вышивкой зелёной сумки с красными вставками.
Диалект, на котором говорили за этим столиком, сильно отличался от того диалекта, который можно было услышать в Во-ле-Девере. Арсен находил его смешным, едва ли не шокирующим.
— Это люди из Оффланжа или из Муассе, — шепнула Вуивра. — Так у них там говорят.
— Ты, значит, понимаешь все говоры?
— Я не говорю на них, но всё понимаю. Ещё бы, столько времени прошло. В Юре я повсюду дома.
— И даже в Доле, — заметил Арсен. — Никак не ожидал встретить тебя здесь.
— Почему?
— Ну так, не знаю. Я думал, что тебе нужны только леса, поля. Словом, природа.
— Природа есть везде, и в Доле, и в Во-ле-Девере. Я вот даже думаю, не больше ли её здесь. Мне, знавшей этот край в былые времена, ваша дурацкая пшеница, ваши картофельные поля и вся эта отвратительная плоская зелень кажутся просто безвкусными. Если бы ты видел, всего каких-нибудь пять тысяч лет назад, какой это был хаос, какое нагромождение живых и поваленных деревьев, какая битва шла между растениями, чтобы пробиться к солнцу, какой царил великолепный беспорядок! Сегодня ваши гладко причёсанные пшеничные и картофельные поля с деревней посредине, ваши луга для коров, ваши пейзажи между двумя рядами тополей — огород какой-то да и только! А что в лесу? Деревья посажены будто спаржа в огороде: тут лесосека, там строевой лес, там молодая поросль — всё упорядочено, разделено, прямые аллеи, перекрёстки, тропинки. Это просто парк рядом с огородом. А подлинной природы гораздо больше в городах, уверяю тебя. Город — это и есть настоящий лес. Уходящие куда-то вглубь тропинки, чащобы, тёмные коридоры, налезающие друг на друга дома, непрерывная схватка, в одном месте жизнь скукоживается, в другом — несётся кубарем вперёд: приключения, выслеживание женщин, битвы, толпы, пороки и все инстинкты. Вчера вечером приехала я в Доль, зашла в кафе на улице Вье-Шато. Поляки, городские хулиганы, грязные девки, хриплые голоса, механическое пианино, запах дичи и мочи, и я, слишком хорошо одетая, с великолепным цветом лица, мужчины глядят на меня, девки — тоже, смотрят, словно захваченные врасплох животные, которые не знают, кусать им или нет, и я чувствовала, как вокруг меня трепещет печальная и дикая жизнь, какой уже нет даже в горах. И ещё один случай мне вспоминается; это было в Валантинье, на митинге рабочих автозавода Пежо, мужчины стояли там плотно друг к другу, точно густой лес, в котором ветер завывает так, словно поднялась буря. В природе ведь ничто не пропадает. То, что в ней разрушается в одном месте, восполняется в другом. Кстати, как я тебе в этой шляпке?
Арсен сделал ей комплимент, сказал, что она выглядит, как дочка маркиза. Она улыбнулась от удовольствия и раскрыла кожаную сумочку, чтобы посмотреться в зеркальце. Арсен, с любопытством взглянув искоса, попытался увидеть, что лежит внутри сумочки. На первый взгляд, в ней не было ничего, кроме пудреницы, гребня, носового платка и бумажника, но потом он заметил, что её центральный карман вздулся и по нему идут какие-то волнообразные движения. Застёжка карманчика, не выдержав, расстегнулась, и из неё медленно высунулась голова гадюки. За столиком, где сидели крестьяне, маленькая девочка вскрикнула и чуть не подавилась. Арсен невольно отодвинул свой стул назад. Вуивра кончиками пальцев нажала на голову гадюки, водворила её в карманчик и закрыла сумку.
— Я вижу тебя всё реже и реже, — сказала она тихо, — да и то всякий раз ты говоришь, что у тебя нет для меня времени. Что, теперь я тебе кажусь не такой красивой?
Улыбка, которая появилась на лице Арсена и которая отражала отнюдь не только желание быть вежливым, говорила об обратном. Светлый костюм, шёлковые чулки, мягкая шляпа, придававшая чертам лица Вуивры особую нежность, пудра, губная помада, перчатки добавляли её красоте таинственности и женственности, которых недоставало дочери лесов. Взгляд её зелёных глаз, казалось, шёл откуда-то издалека. Арсен даже немного смутился.
— Ты же знаешь, в чём дело, — сказал он. — Сейчас самая горячая пора, работа в самом разгаре. Не успеваешь закончить что-то одно, как на тебя наваливается что-нибудь другое. О любви только подумаешь, а работа уже тут как тут, и держит за обе руки. Но я всё-таки с завтрашнего дня что-нибудь придумаю.
Вуивра взяла его руки, сжала в своих ладонях и склонилась, чтобы прижаться к ним щеками, сначала одной, потом другой. У Арсена это вызвало раздражение. Среди проходивших по улице людей могли оказаться знакомые. И даже если бы ни на улице, ни на террасе кафе никого не было, всё равно, то, что она делала, выглядело смешно. Он убрал руки. Она положила голову ему на плечо.
— Сиди спокойно, — сказал он, отталкивая её. — Так вести себя нельзя.
Она улыбнулась и окутала его долгим, нежным и льнущим взглядом, который разозлил его ещё больше, чем её голова на плече. Она стала называть его разными нежными именами: мой кролик, мой козлик, мой кабанчик, мой золотой уж.
— Ты пришла в Доль пешком? — сухо спросил он.
— Нет, я села вчера вечером на поезд на вокзале в Моне.
— Значит, у тебя были деньги?
— Ну разумеется. Даром билеты никому не дают.
— И мне так кажется, но ведь деньги не растут ни на деревьях, ни в прудах.
Вуивра отвела взгляд в сторону, обнаружив некоторое замешательство и беспокойство.
— Я нахожу выход из положения, — ответила она отрывистым тоном, как бы призывая Арсена к большей корректности.
Соседи ели пирожные с кремом, купленные в городской кондитерской. Девочка, которая увидела гадюку в сумочке, должно быть, сказала об этом родителям, так как те смотрели теперь на Вуивру с подозрением. Это, похоже, нисколько её не стесняло и на одну из реплик Арсена, зацепившую какое-то воспоминание, она громко произнесла:
— Я припоминаю один случай, это было триста лет назад.
Вуивра стала рассказывать про осаду Доля в 1636 году. Она случайно оказалась в городке, когда французы предприняли его осаду. Это было довольно-таки забавно. Городские обыватели, обычно скучные и степенные, вдруг все засуетились, принялись как бешеные колоть противника, рубить, стрелять по нему из аркебуз, а при этом ещё и пьянствовали, волочились за девицами, почти не стесняясь собственных супруг. Однажды она увидела в траншее незнакомца по имени Конде, который командовал французской армией. Про него говорили, что он очень родовит. Тем не менее взять Доль он не смог и ушёл несолоно хлебавши. Его сыну, которого называли Великим, хотя он был среднего роста, несколько лет спустя посчастливилось больше.
— Для жителей Франш-Конте времена тогда были тяжёлые. В сражениях участвовали всякий раз по три, по четыре армии: французы, немцы, хорваты, швейцарцы — все мародёры, распутники и головорезы. Но хуже всех были шведы. Они замуровывали крестьян в пещерах и подземельях, где те прятались. Я видела, как эти несчастные блуждали по лесам. И я не одного спасла тогда из когтей шведов.
— Мне пора ехать, — прервал её Арсен. — Скоро уже двенадцать часов.
— Ты отвезёшь меня на своей повозке?
Арсен не посмел отказать, так как подумал, что вскоре она ему пригодится. Придя на ярмарочную площадь, они увидели, что Реквием спит в повозке, положив голову на соломенную подушку. Рядом с ним лежали две пустые литровые бутылки.
12
Арсен остановил повозку у развилки, откуда дорога уходила на Арсьер, и Вуивра сошла с неё. Перед тем как углубиться в лес, она чуть было не напомнила ему о данном ей обещании, но заметив, что Реквием просыпается, только поблагодарила Арсена. Он церемонно приподнял фуражку, так, будто они были незнакомы, и объяснил Реквиему:
— Эта женщина едет в Арсьер. Она попросила меня подвезти её.
Реквием, стоя в повозке на коленях, смотрел, как удаляется изящный силуэт.
— Её можно было бы принять за Робиде, — заметил он. — И походка такая же, и всё остальное. Как только я проснулся, как только увидел её лицо, ты мне скажешь, я брежу, но я подумал, что это Робиде. Не знаю, обратил ли ты внимание, но только у неё точно такой же маленький ротик, такой же нос и вид такой же, когда она улыбается. То-то я удивился, можешь себе представить.
Говоря это, он встал, а затем уселся на доску, на то место, где только что сидела Вуивра. Арсен тряхнул вожжами, и лошадь потрусила дальше. До деревни оставалось не больше километра, и он подумал, что будет дома в два часа пополудни. Вскоре после того как они выехали из Доля, небо заволокло тучами, подул почти холодный ветер, так что лошадь могла бежать довольно быстро, не уставая. Вуивра, когда ехала в повозке, лишь понюхала этот ветер, посмотрела на облака и сразу же сказала: «Только что была гроза в шальском лесу над самой Вьей-Луа». По её словам, она умела предсказывать погоду за день, а то и за два, и на вопрос Арсена сообщила, что послезавтра весь день будет лить дождь. Но из всего их долгого разговора в повозке больше всего его поразили слова Вуивры по поводу сестры Жюльетты.
— Ты в хороших отношениях с крупной девицей, что живёт у Мендёров и выглядит, как шведский гренадер?
— Это старшая сестра Мендёров, а мы в ссоре со всей их семьёй.
— Ты сейчас говоришь мне неправду, я видела, как в воскресенье утром она выходила из риги вашего дома.
— Это возможно. В воскресенье утром я ходил на мессу и ничего не могу сказать. Хотя всё это странно.
— Она даже нагнулась, проходя под дверной притолокой. Женщине смешно быть такой крупной. А какая грудь!
Пока Реквием говорил ему о Робиде, мысли Арсена всё ещё были заняты этими событиями воскресного утра. Он был уверен в том, что Жермене не хватило бы смелости проникнуть в ригу по собственной воле. Для того чтобы её туда провести, требовался сообщник, каковым мог быть только Виктор. Юрбен, который, впрочем, был вне подозрений, по-видимому, что-то мастерил в саду, как обычно по утрам в воскресенье. Хотя подобное приключение могло стать началом не слишком желательного сближения между двумя семьями, Арсен не воспринимал его трагически, однако брат предстал перед ним в новом свете. До сих пор он не пытался давать оценку личности Виктора. Довольствуясь одними лишь внешними впечатлениями, он не испытывал потребности проникать в глубь собственных наблюдений или интуитивных догадок, а ещё меньше — сводить их воедино и задумываться над ними. Он привык видеть в нём человека серьёзного, хотя и не слишком энергичного, доброго малого, осторожного оптимиста, и, что довольно часто раздражало его, любящего порассуждать болтуна. Свидание в риге подталкивало его обратить теперь внимание на поведение Виктора, на его высказывания, на разные мелкие факты, обретавшие отныне отчётливый смысл. Теперь Арсен понял, что за резонёрским благоразумием брата, за его добротой и постоянной заботой о справедливости скрывались весьма далёкие от всего этого качества характера. Тут можно было предположить и корыстолюбие, и скупость, и чревоугодие, равно как и склонность приударять за женщинами. Он, например, вспомнил, как странно вёл себя Виктор по отношению к Белетте, когда та только появилась на ферме. Ему внезапно всё стало ясно, и он теперь уже не понимал, как это ему не удалось раскусить брата сразу. При мысли о том, что брат мог тогда навязывать девчонке свои прихоти, Арсен почувствовал, как его разбирает злость и как кулак крепче сжимается на рукоятке хлыста.
— Мне вдруг пришла в голову мысль, — сказал Реквием. — А что если она уже ждёт меня дома?
Арсен ответил невнятным ворчанием. Он прикидывал, как всё могло произойти. Завлекая Жермену Мендёр в ригу, Виктор, возможно, следовал привычке, которую ещё не успел забыть. Скорее всего, он отправился с большой Мендёр в комнату для инвентаря, где стояла кровать Белетты.
Тем временем Реквием, поглощённый мыслью о том, что он встретит Робиде у себя дома, пришёл в лихорадочное возбуждение.
— На улицах Доля я её не нашёл, но это потому, что она побежала на вокзал в Бедюг, чтобы поехать оттуда на девятичасовом поезде. А может, она нашла какую-нибудь повозку, чтобы добраться домой, и у неё не было времени зайти за мной в кафе. А ты как думаешь, Арсен?
— Всё может быть.
Арсен без всякой надобности хлестнул лошадь кнутом по ногам. От неожиданности она скакнула в сторону, едва не утащив повозку в канаву, а потом понеслась галопом. Устыдившись, он голосом успокоил лошадь, и она опять перешла на шаг.
— Мы вот подъезжаем, и я всё больше волнуюсь, — продолжал Реквием, — но в глубине-то души я прекрасно понимаю, что она не вернулась. Поезд, он ведь уходит очень поздно, а для того чтобы подсесть в телегу к кому-нибудь из наших, она слишком горда. Что такое для неё деревенские жители? Да трижды ничего, просто отбросы. А я для неё что такое? Я, Реквием? Просто пень какой-то. Так себе, свиная шкура. Что уж там обманывать себя? Человек я грубый, и я сам это знаю. Ведь такой женщине, как она, с такими манерами и всё прочее, чего ей возиться с каким-то там Реквиемом? Я ведь мужлан. А у неё сплошные каникулы. Она не знает, что такое работа. Она живёт в своём мире, чего там! В мире, о котором мы, наш брат, даже и представления не имеет. Дай ей литр вина, пачку табака, и вот она уже грезит целый день. И я, глупый босяк, ещё надеюсь найти её. Она даже и про моё существование, наверное, забыла.
И всё-таки в Реквиеме теплился луч надежды, а если он не позволял себе верить в то, что Робиде, может быть, уже вернулась, так это было скорее желание не гневить завистливых богов и отвести беду. По мере того как близилось к концу их путешествие, он проявлял всё большую нетерпеливость и на последнем подъёме перед Во-ле-Девером даже слез с телеги и начал подталкивать её сзади, чтобы помочь лошади. Когда показались первые дома деревни, он окликнул шедшую мимо женщину.
— Лоиза! Ты часом не видела, не проходила тут малышка?
— Какая малышка?
— Робиде, какая же ещё!
— Ах, Робиде! — прыснула Лоиза. — А я и не поняла. Если бы ты спросил про маленькую старушонку, тогда бы я поняла. Нет, не видела я её.
Обиженный Реквием отвернулся, не сказав в ответ ни слова благодарности. Но когда они проехали ещё немного, он не смог удержаться и спросил попавшегося им навстречу старика.
— Скажите-ка, Эрнест, вы не видели, не проходила тут Робиде?
Старик, которому вообще казался неприличным любой вопрос, относящийся к женщине, которая ведёт такую распутную жизнь, сурово ответил:
— Нет, мальчик мой, я видел, как проходила какая-то свинья с мордой, чёрной от навозной жижи, но это была свинья, которая ходит на четырёх копытах.
Арсен поторопил лошадь, чтобы прервать диалог, но Реквием и сам не горел желанием продолжать разговор. Он огорчился. Им владело ощущение, что красота и грация поруганы. Не находя слов, чтобы выразить это чувство, он спросил:
— Ну а ты, что ты вот думаешь о Робиде?
— А я вот думаю, если хочешь знать, что в целом свете нет больше таких, как она, — ответил Арсен.
Реквием улыбнулся, вздохнул с облегчением, почувствовав себя отмщённым. Ему хотелось расцеловать Арсена за такое справедливое суждение.
— Давай-ка заглянем к Жюде, — предложил он. — Выпьем вместе бутылочку. Я плачу.
— Я бы не прочь, но меня ждут дома, а я уже опаздываю. Ты не думай, я вовсе не ломаюсь. Как-нибудь в другой раз, ведь мы ещё увидимся.
Реквием расстроился. Его сердце переполняла признательность. Растроганный, желая выразить овладевшее им отеческое чувство к Арсену, он заявил:
— Если ты вдруг сдохнешь раньше меня, Арсен, ты получишь от меня такую могилу, какая мало у кого есть. Помни об этом хорошенько.
Произнося эти слова, он рассекал воздух ладонями, словно ножом гильотины, рисовал стенки могилы и показывал, какие они будут ровные.
— Благодарю тебя, — ответил Арсен без всякой иронии. — При случае я не откажусь.
Он остановил повозку на перекрёстке Распятия, и Реквием сошёл. Могильщику оставалось пройти каких-нибудь триста метров до домика, где он жил, — чуть пониже кладбища. Прежде чем идти туда, он перекрестился перед большим крестом из кованого железа, стоявшим на каменном основании, и в виде исключения вознёс молитву к Господу: «Господи Иисусе, — сказал он вполголоса, — сделай так, чтобы я встретил Робиде, когда приду домой. Если она дома, я обещаю тебе зарезать кролика и отнести его священнику вместе с литром красного вина. Я не из тех, кто скажет, а не сделает. За вином я сейчас же зайду к Жюде. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да будет так». И Реквием тут же начал выполнять обещание. У Жюде он взял большую бутылку за сто су, чтобы удача уж точно была на его стороне. К несчастью, в пути его одолела сильная жажда, и исключительно из человеческого отношения к самому себе он позволил себе пригубить глоток вина из святых даров. Он думал всего лишь промочить глотку, но жажда подвела его. Он залпом опорожнил треть бутылки. Оценив понесённый бутылкой ущерб, он выпил и две остальные трети, ибо понял, что теперь уже Господь не сможет внять его мольбе. И действительно, Робиде дома не было.
Когда Арсен подъехал к своему дому, было почти два часа. Во дворе у Мендёров залаяла собака, которая затем побежала за его повозкой. Арсен попытался хлестнуть её кнутом, но не очень стараясь. Он был в хорошем настроении, и теперь его собственное мнение о Викторе казалось ему преувеличенным, во всяком случае, чересчур суровым. Он признавал, что все люди не без слабостей и винить нужно только обстоятельства. Если взять, например, его самого и Вуивру, то получается, что его поведение по отношению к домочадцам выглядит совсем не безупречным, и если бы о его приключении прознали в деревне, это повредило бы всей семье. Что же касается Белетты, то козни Виктора сводились пока лишь к его, Арсена, предположениям, не имеющим сколько-нибудь реального основания.
Дома позавтракали поздно, и жизнь во дворе только-только начинала пробуждаться. Дети, поевшие самостоятельно, давно ушли в школу. Пока женщины мыли посуду, Виктор за приоткрытыми решётчатыми ставнями, наверное, читал газету. Юрбен только что вытащил из колодца ведро с водой и сейчас нёс его на конюшню. Несколько кур клевали хлебные крошки на пороге кухни. Остальные спали на навозной куче по другую сторону дома. Возвращаясь из города, Арсен, сам не отдавая себе в этом отчёта, не оставался равнодушным к зрелищу этой спокойной фермерской жизни, испытывая нечто похожее на умиление.
Белетта как раз выпускала коров из стойла, чтобы отогнать их на Старую Вевру, где они паслись вот уже целую неделю, и Леопард суетился между ними. Бросив стадо, она побежала к повозке Арсена, а он с удовольствием смотрел на её тоненький силуэт школьницы, на спутавшиеся от бега пряди жёлтых волос, на остренькое личико, возбуждённое от радостного любопытства. Он остановил повозку у пруда, на обочине дороги. Собака Мендёров, с лаем бежавшая за повозкой, как-то сразу унялась, увидев Леопарда, и осторожным шагом отправилась к себе на двор. Белетта осведомилась у Арсена, удачной ли оказалась для него поездка. Он с улыбкой глядел на неё и жестом, смысл которого было легко отгадать, трогал лежавший под скамейкой свёрток. Глаза Белетты заблестели.
— Девятью девять? — спросил Арсен.
— Восемьдесят один.
— Хорошо. Теперь мне ясно, что я должен сделать.
Он достал перевязанный лентой свёрток и отдал его в руки Белетты. Коробка оказалась тяжёлой. Белетта, не ожидавшая такого большого подарка, зарделась. Арсен был счастлив и, склонившись над ней, внимательно наблюдал за всеми её движениями. Она развязала ленту, сняла крышку и, развернув шелковистую бумагу, обнаружила куклу в розовом платье, мирно спавшую в своей коробке. Лицо у неё побледнело и, подняв глаза на Арсена, она спросила сдавленным, дрожащим от волнения голосом:
— Ты эту куклу купил мне?
— Да. За то, что ты выучила таблицу умножения.
Сжав от злости губы, Белетта схватила куклу за ногу и изо всех сил швырнула её в пруд. По щекам у неё катились слёзы ярости. Она взяла свой пастушеский посох, который перед тем положила на телегу, и, не оборачиваясь, погнала перед собой вышедшее на дорогу стадо коров. Арсен ошарашенно смотрел, как по пруду плывёт его восьмидесятипятифранковая кукла. Вода быстро пропитала розовое платье, через шарниры проникла в тело. Две утки, искавшие корм у берега, подплыли и стали кружиться вокруг непонятного предмета, от которого теперь из воды торчала только голова. Когда в воду в свою очередь погрузился и розовый атласный чепчик, Арсен тряхнул вожжами и повернул повозку к двум ореховым деревьям. Кухонные жалюзи были открыты, и Виктор, показавшийся в оконном проёме, с едва заметной улыбкой наблюдал, как въезжает во двор его младший брат. Когда на пороге появились Луиза и её невестка, между собаками началась драка. Леопард и Кровопуск после осторожных маневров сближения бросились с рычанием друг на друга. Арсен, не теряя спокойствия, остановил лошадь перед дерущимися собаками, слишком увлечёнными яростью первой атаки, чтобы обратить на него внимание. Спрыгнув со своего сиденья с хлыстом в руке, он схватил Кровопуска за ошейник и принялся лупить его рукояткой хлыста. Он хлестал пса методично, без явного гнева и в удобном для себя темпе. Собака Мендёров выла как следует. И хозяева её наверняка слышали этот вой. Леопард, лишённый возможности испытать чувство возмездия, жалел, что у него таким образом отняли противника. Зрелище трёпки и вой избиваемого пса пробудили в нём тягостные воспоминания, и он, не ощущая никакой радости, поплёлся прочь к своему коровьему стаду. Когда Арсен решил наконец, что пересчитал Кровопуску все рёбра, он отпустил собаку. К нему подошли мать и свояченица, а Виктор, бормоча себе под нос, принялся бранить его, обозвав хамом, скотиной, мерзавцем и букой.
— Что она тебе сделала, эта псина? Объясни мне, толоконная твоя голова. Колотить животное, которое не может себя защитить, — это вполне на тебя, бирюка, похоже.
Арсен ничего не ответил и начал распрягать лошадь. Виктор, имевший привычку щадить чувства своего брата и разговаривавший обычно с ним сдержанно, теперь не мог сдержать своей злости. Его негодование по поводу порки, учинённой Арсеном собаке Мендёров, наверняка не было наигранным, но Арсен чувствовал, что настоящая причина его гнева кроется в чём-то ином. Виктор видел роскошную розовую куклу и не простил брату того, что тот так потратился на Белетту, тогда как по отношению к своим двум племянникам всегда был прижимист. Виктор чувствовал себя оскорблённым. Этому приступу ревности Арсен находил и другие основания, в которые предпочитал не углубляться.
— Только не вздумай говорить, что виноваты Мендёры, — бушевал Виктор. — Только не смей говорить, что это они начали первыми.
— А я ничего и не говорю, — заметил Арсен.
— Полно вам, — вмешалась Луиза. — Не будете же вы сейчас ссориться из-за какого-то собачьего дела.
— А я, собственно, и не собираюсь ссориться, уверяю вас.
Виктору показалось, что в этом ответе кроется презрение к нему.
— Это-то уж известно. Что ему ни скажи, он только посмеивается с видом начальника. Господин хороший всех нас презирает. И мать, и брат, и дети для него просто пустое место. Только со своей Белеттой он считается, даже если она плюёт ему в морду, как вот только что. А все мы, как он себе представляет, годимся только на то, чтобы слушаться его.
Юрбен, вышедший из конюшни, взял лошадь под уздцы и увёл её. Он ещё был довольно близко, чтобы услышать, как Виктор бросил:
— Это как с Юрбеном. Ты нам показал, на что ты способен.
— Если ты будешь продолжать в таком же духе, — сказал Арсен, — я ведь тоже могу рассердиться.
Стоя друг против друга в упор, братья впервые смотрели друг на друга трезвым взглядом. До сих пор каждый из них в интересах совместного труда и ради поддержания мира в семье старался обманываться на счёт другого и не делать ничего, что заставило бы другого раскрыться. Воспитанные матерью в уважении к человеку и в понимании того, где находится целесообразный предел допустимого, оба следовали правилам искусства семейной жизни, которые сводились к тому, чтобы знать своих близких лишь поверхностно. Виктор, сам прятавшийся под маской человека уравновешенного и рассудительного, всегда соблюдал правила игры и удовлетворялся тем, что считал Арсена парнем холодным и своевольным, слегка ограниченным из-за своего упрямства. Он никогда не пытался разглядеть порой выглядывавшую из-под этих внешних признаков безжалостную суровость, равно как и горячую, беззаветную нежность. Внезапно, и притом без чего-то нового в словах или в поведении, что могло бы вдруг показать каждого из них в истинном свете, братья открыли друг в друге давно не составлявшие для них тайну качества, которые они до сих пор старались не замечать.
— Грубый с животными, грубый с людьми, — сказал Виктор. — Человека, столько для нас сделавшего, а для тебя в особенности, ты выгоняешь, как собаку, сразу, как только после тридцатилетней службы ему начали изменять силы. Если бы ты посмел, так ты бы и его прогнал хлыстом. Хорошо же мы будем выглядеть в глазах земляков, когда об этом деле узнают в округе.
— Верно, — вздохнула Эмилия, — этот бедный старик мог бы остаться здесь, и никого бы он не стеснил.
Луиза сочла невоспитанностью то, что у её снохи оказалось своё мнение на этот счёт и отправила её мыть посуду. Виктор же продолжал кипеть, давая брату понять, что он ещё слишком молод, чтобы навязывать всем свою волю.
— Нет, хватит позволять мальчишке всем верховодить. Я твой старший брат. И начать с того, что Юрбен никуда отсюда не уедет.
— А я тебе говорю, что он уедет в октябре, а то и раньше, если я захочу. Я знаю, что тебя это не устраивает. Чего бы ты хотел, так это использовать Юрбена, пока он ещё ходит, и хоть сколько-нибудь заработать на нём, пока он не сдохнет в своём углу в конюшне. Но пока я здесь, этому не бывать. Ты можешь сколько угодно приводить свои резоны, изменить тебе ничего не удастся. Здесь распоряжается всем мама, а я с её позволения всё решаю. Ты же здесь нужен для того, чтобы ходить с важным видом и чем-то там заниматься по углам. Ни на что другое ты не годен.
— Ну это уж ни в какие ворота не лезет! Это я-то на что не годен! Интересно, почему ты возомнил о себе, что значишь для дома больше, чем я?
— Почему, мне было бы трудно сейчас тебе объяснить. Но это так, и в глубине души ты знаешь это не хуже меня. И поэтому не стоит гавкать тут и говорить, что ты решил то или сё. Не мочись против ветра, и твои башмаки останутся сухими.
Арсен повернулся к брату спиной, пошёл к повозке, забрал из неё свои утренние покупки и понёс их на кухню. Оставшись посреди двора с матерью, Виктор стал горько жаловаться на Арсена. Мать старалась утешить его, и это у неё неплохо получалось.
— Его деревянную башку всё равно не прошибить, тут уж ничего не поделаешь. Его нужно воспринимать спокойно, как ты делаешь это обычно. Когда ты относишься к нему так, как надо, и не нервничаешь, ты всегда в конце концов оказываешься прав, и получается, что это он делает всё, что ты хочешь.
Виктор знал, что всё обстоит совершенно не так, но эти речи грели ему душу, и он сделал вид, что поверил им.
13
Священник, стоя лицом к нефу, полному прихожан, рассеянно служил мессу, думая о Вуивре, и ощущал, как его переполняет священное ликование воителя. Теперь он знал, что она не является мифом, ибо он сам видел её. Накануне вечером, полив грядку с клубникой около своего дома, он прошёлся вдоль высокой изгороди из терновника, которая отделяла сад от дороги. Как случалось с ним весьма часто, он предавался мечтаниям об улучшении своего финансового положения, которое укрепило бы и подняло авторитет его сана. Дух дышит, где хочет, и с этим он был согласен, но благодать, дар особенный, всё же выполняет функцию дополнительного средства, как своего рода довесок, а методичным сельским душам нужны средства содержательные и веские. Он думал о том, что будь у него приличный участок земли под солнцем, да ещё никелированный велосипед с переключателем скоростей, это послужило бы укреплению веры в Бога лучше, чем самые что ни на есть трогательные и вдохновенные проповеди. Он не находил в этом ничего неприличного, скорее даже наоборот. Господь любит человеческие средства борьбы, смиренно человеческие и даже низменно человеческие, и наиболее ярко его торжество проявляется тогда, когда он делает так, чтобы камень нёс сам дьявол. Господь считает, что благочестие богачей служит добрым примером. В Библии Бог благословляет добрых пастырей и преумножает их стада. Священник с грустью вспоминал, как он посещал бедных жителей деревни. Духовную помощь, единственную, которую он мог им предложить, они встречали холодно. Его поношенная сутана и стоптанные башмаки производили на бедняков неблагоприятное впечатление. А вот мэр, располагая средствами коммуны, хотя и весьма скудными, мог рассчитывать и на голоса неимущих при выборах, и на их антиклерикальную добрую волю. Погруженный в эти размышления, он внезапно услышал звук шагов. По другую сторону изгороди по дороге шла парочка, переговариваясь между собой шёпотом: «Погода прелестная, как никогда, — послышался голос Большой Мендёр, — как хорошо в такой вечер поболтать, сидя на траве». На что задыхающийся, тонкий голосок, возможно, принадлежавший Вуатюрье, ответил: «Не трогай, говорю тебе, мои подтяжки». Кюре сунул голову в гущу терновника, но ничего оттуда не увидел и тут же сообразил, что только что впал в грех любопытства и испытал смутное желание покаяться, однако перенёсся на другую сторону сада, откуда поверх ограды из сухих сучьев видно было открытое пространство. Поля засыпали, и в сумерках под пение жаб последние солнечные лучи поднимались, как пар, с земли на небо, по которому плыл прозрачный полумесяц. А по скошенным лугам шла в белом платье за своей гадюкой Вуивра. Проходя мимо сада в нескольких шагах от изгороди, она в упор, без всякого стеснения посмотрела на священника. Осенив себя крестным знамением и воззвав к помощи свыше, он сумел разглядеть лукавую тварь, на которую знак искупления, казалось, не произвёл никакого впечатления. Он увидел её обманчивую красоту, её зелёные глаза, её драгоценный камень, рдеющий адскими лучами, и извивающуюся возле её ног аллегорическую змею. Сначала он поздравил себя с отвратительным видением, которое неожиданно напрягло струны его души и пустило в ход глубинные возможности его веры и любви. Но вечером, ворочаясь в постели, не в силах заснуть, он поддался соблазну. Вспоминая мечтания, посетившие его в саду, и найдя для себя благовидный предлог, что таким образом он будет способствовать укреплению веры, кюре взлелеял желание завладеть рубином и даже продумал, как это лучше сделать. Сокровище Вуивры позволило бы ему раздавать обильную милостыню, которая помогла бы поправить дела нуждающихся христиан, а также поднять престиж церкви с помощью важных приобретений, в том числе усовершенствованного велосипеда, который доказывал бы существование Бога. А ещё у него было бы чем подкупить радикально настроенные умы и незаметно для них вернуть их на путь истинный. «Дьявол принесёт драгоценный камень», — подумалось ему, и, лёжа во мраке, он громко расхохотался своей остроте. И тотчас же услышал прозвучавший, как эхо его собственного смеха, другой, без труда узнаваемый смех, даже если слышишь его впервые. Впрочем, со стороны беса это была оплошность. Если бы он сумел удержаться от удовольствия выразить вот так шумно своё торжество, бедный кюре мог бы с головой увязнуть в своих злополучных замыслах.
Служитель Господа, успевший дойти лишь до входной молитвы, был не в состоянии мысленно оторваться от битвы с князем тьмы, к которой он готовился. Он не сомневался в том, что Вуивра ступила на землю его прихода, чтобы поймать его в ловушку, и не без гордости думал о том, что его священнический сан и чистота сердца, сделав из него поборника божьего дела в Во-ле-Девере, тем самым совершенно естественно обрекали его на ненависть и происки лукавого. Но он был уверен, что с божьей помощью победит, и уже заранее радовался своему будущему триумфу. Всякий раз, поворачиваясь лицом к пастве, он умилялся при мысли о своей победе, благодаря которой его приход воссияет верой и надеждой. На хорах и перед алтарём, по обе стороны прохода на коленях друг против друга стояли мальчики и девочки, и священник ощущал свою значительность оттого, что ему выпала доля печься об этих невинных душах. За скамьями для девочек, высоко подняв головы и чуть опустив глаза, чтобы читать в раскрытых на аналоях толстых книгах, пели четверо мужчин, составлявших хор: «Sicut erat in principio et nunc et semper…»[1] — а чуть подальше, в самом нефе, располагалось ядро прихожан, души тяжёлые и не поддающиеся влиянию, в которых дьявол, возможно, найдёт место для своих маневров и которые нужно будет от него отстоять. Несколько раз священник пытался найти глазами среди мужчин, стоявших в глубине храма, Арсена Мюзелье, думая, что хорошо бы поговорить с юношей, который уже достаточно близко познакомился с врагиней.
А вот Арсен о Вуивре не думал. Кстати, он больше уже не видел в ней бесову дочь. Её тело, искрящееся здоровьем, её речи без обиняков, исходящий от неё вольный аромат свежей воды и утра делали её настолько чистой, настолько лишённой какой бы то ни было таинственности, что она выглядела полной противоположностью тем интригам и тёмным козням, с которыми в его сознании ассоциировался образ Сатаны. Не слишком любознательный в том, что касается первопричин вещей, он не мудрствуя лукаво принимал Вуивру просто за несколько своеобразную особь человеческой породы. Ему ничего не стоило принять это явление, как одно из многих других, простых и привычных явлений, которые он, подобно всем остальным людям, принимал без объяснения.
Арсен следил за мессой, почти не отвлекаясь, и даже черпал в ней глубинные радости отнюдь не мистического свойства. Деревня, которая была для него своего рода вселенной, присутствовала здесь в целостном виде, составляя некий, хотя и искусственный порядок, не столь подлинный и сложный, как порядок обыденной жизни, но удобный для ума и приятный для глаз. Господь легко узнавал здесь своих прилежных работников, молившихся и бравшихся за плуг с одинаковым усердием, носивших опрятную одежду и чистое бельё. Расставшись со скотом, вымыв с мылом лица и руки, деревня возрождалась от тягот недели и забывала о земле, вглядываясь в огромное око Господа, изображённое под сводом апсиды. В те моменты, когда от звучания фисгармонии или пения у Арсена вздымалась грудь, он уносился духом на хоры к детской скамье. Как и в то далёкое, самое первое воскресенье, когда он, четырёхлетний мальчик, сидел на той скамье, Арсен вновь поражался невероятному видению. Кузнец, который обычно представал перед ним в отсветах своей кузницы, с голыми руками и в кожаном фартуке на животе, стоял у аналоя в чёрном пиджаке, накрахмаленной рубашке и пел по-латыни. Да-да, по-латыни. И Ноэль Мендёр, Леон Жендр и Жюльен Метро тоже пели по-латыни. На скамье для девочек он вновь видел Жюльетту, более миловидную и более серьёзную, чем её подруги, и взгляды их вновь и вновь встречались. Иногда ему казалось, что он видит там и Белетту, такую маленькую, что её можно было принять за одну из тех крошек, которые ещё изучают катехизис.
На самом деле Белетта находилась на одной из больших скамей нефа вместе с Луизой и её невесткой. Обыкновенно она довольно часто, несмотря на замечания Луизы, оборачивалась, чтобы встретиться взглядом с Арсеном. Но случай с куклой немного отдалил их друг от друга. Гуляя по вечерам, они теперь почти не разговаривали, а редкие слова, какими они обменивались, только усиливали обоюдное чувство неловкости, поскольку были далеки от того, что занимало их мысли. Обычно Белетта скучала на мессе, но в это утро она молилась Деве с исступлением, о котором Луиза и не подозревала. «О Святая Мария, о Богородица, сделай так, чтобы я выросла, — говорила она шёпотом. — А то я такая маленькая, что голова у меня не выше спинки церковной скамьи. Сделай так, чтобы я выросла хотя бы на полголовы. Я ведь прошу тебя только о том, что мне причитается. В прошлом месяце мне исполнилось шестнадцать лет, а все говорят, что я выгляжу на двенадцать. О Святая Мария, о Богородица, дай мне вырасти, и я отплачу тебе моими молитвами. И что ещё мне надо, так это парочка хороших титек. Может быть, этого-то мне не хватает больше всего. Ведь я осталась плоской, как доска. И многие мне об этом говорят. Мальчишки, ведь ты же знаешь, суют руки куда угодно. И как мне тут быть? Будь у меня приличная кофточка, я бы тогда запросто выглядела на все шестнадцать. Приветствую тебя, о Мария, исполненная благодати».
По другую сторону от прохода Жюльетта Мендёр поверяла Деве свои упования, благодарила её за то, что та вняла мольбам и воспрепятствовала браку Арсена и Розы Вуатюрье. Селеста Мендёр, мать, стоя на коленях у края скамьи рядом с колонной и держа голову на уровне розовых пальцев ног Франциска-Ксаверия молилась этому доброму святому, чтобы тот помешал Жермене сойтись с Виктором Мюзелье. В это воскресное утро Ненасытную, как обычно, пришлось оставить дома, так как её присутствие на мессе всегда превращалось в скандал. Она пожирала мужчин глазами, а один раз даже на святого Франциска-Ксаверия уставилась таким взглядом, что родителей бросило в краску. Самым же худшим было то, что по выходе из храма, ускользая из-под надзора, она хватала какого-нибудь мужчину и галопом утаскивала его прочь. Даже сам кюре попросил Ноэля, чьё положение певчего как-никак склоняло священника к снисходительности, больше не приводить старшую дочку к воскресной мессе. Такой запрет не был, возможно, вполне исполнен евангелического духа, но дисциплина прежде всего. Иисус щедрой дланью сеял благое семя, но совершенно не заботился о том, чтобы понаблюдать за жатвой в приходе, на три четверти состоявшем из политических радикалов, да и грешница у него, у Христа, не была такой, как эта, не была тамбурмажором, вакханкой, похотливой кобылой, стихией, не ведающей ни добра, ни зла. Священник, разумеется, был обязан исполнять свою миссию служителя культа. Ему пришлось воспретить Жермене доступ в исповедальню, так как она признавалась в содеянных грехах, чудовищных своим числом, воспламенялась и описывала их таким громовым, наполнявшим весь храм голосом, что он, как ураган, захватывал и увлекал за собой и тех, кто оказывался поблизости, дожидаясь очереди, чтобы исповедоваться в своих малых грехах, и самого духовника, исходившего потом за своим окошечком.
По окончании мессы Арсен проводил мать и невестку до кладбища и оставил их у семейных могил. Белетта по обыкновению сразу отправилась на ферму, где её ждали дела, и Арсен опасался, что она окажется наедине с Виктором. Склоняясь над могилами своих мальчиков, Луиза не ощущала ничего, что хотя бы отдалённо напоминало горе; думая о нежном, словно девушка, Дени, что лежал здесь в своей серо-голубой форме с дыркой в голове, и о Венсане, потерявшем своё тело в скалах Шампани, она испытывала скорее лёгкое умиление, почти удовольствие. И воспоминания об Александре, муже, скончавшемся двадцать лет назад, её тоже больше не волновали. Она не собиралась корить себя за забывчивость и считала вполне естественным, что печали ветшают быстрее, чем стареют люди. Когда ты целый день хлопочешь по дому, заботишься о людях и о скотине, тебе всегда есть что делать, а покойники не приходят тебе помочь. Вот уже десять лет как она хотела сделать вокруг трёх могил самшитовый бордюр, но дней всегда не хватало и на более неотложные дела, и времени на посадку самшита так и не нашлось.
Женщины передвинули горшки с цветами и ржавые консервные банки, в которых сохли цветы, оставшиеся от прошлого воскресенья. Эмилия суетилась и заискивала, как побитая собака, которая хочет снова войти в милость к хозяйке. Луиза упрекнула её недовольным тоном:
— Оба ваших сына опять куда-то удрали, а здесь так и не появились. Их не убудет, если они придут на могилы.
— Вы знаете, в чём дело, — вступилась за них Эмилия, — у выхода они оказались вместе с другими детьми. Ну что с ними поделаешь?
— С такими доводами можно и Иуду простить. Если б я своих так воспитывала, из них бы выросли те ещё негодяи. Какие-то они всё-таки бессердечные. К тому же, когда они чувствуют, что им потакают, они поступают так, как им заблагорассудится.
Эмилия, склонившись над надгробной плитой своего свёкра, тихо заплакала. Ничего не видя от слёз, скованная из-за съезжающей ей на брови громоздкой шляпы, она чуть было не разбила горшочек с гортензиями. Луиза, усмехнувшись, продолжала:
— Не знаю, кем они станут в будущем. Во всяком случае, неплохо же они начинают. Не уделить умершим родственникам хотя бы пять минут в неделю — какой стыд! Как говаривала моя тётушка Анаис: «Кто к мёртвым непочтителен, конец того мучителен». Как подумаю, бедный дедушка…
Луиза чуть было не сказала: «Бедный дедушка, он так их любил», но вовремя вспомнила, что тот умер более чем за десять лет до рождения своих внуков. Тут она заметила слёзы Эмилии и поторопилась отправить её к источнику за водой, чтобы та, пройдя мимо рассеянных по кладбищу групп людей, своим заплаканным лицом публично подтвердила бы, как в семье скорбят по усопшим и хранят им свою верность. Сама она не стала бы ломать такую комедию, но раз уж представился случай, подчинилась своей привычке не давать ничему пропадать.
Источник находился в нижней части кладбища, рядом с домиком Реквиема, расположенным у самого края поля, где он стоял посреди небольшой рощицы в окружении естественной изгороди. Реквием стоял на пороге, устремив взгляд к небу.
— Так, значит, теперь ты остался совсем один, мой бедный Реквием? — сказала Эмилия.
— Она должна была уйти, — вздохнул Реквием. — В её мире человек не волен распоряжаться собой. Здесь она была только прохожей.
Он подошёл и взял у неё из рук сосуд, чтобы наполнить его водой из источника. Эмилия поблагодарила его. Она сказала, что в корсете ей было бы трудно нагибаться. Реквием встал одним коленом на землю и погрузил банку в холодную воду. Поднимаясь, он взглянул на свой дом и жестом показал на него Эмилии.
— Я больше не узнаю своего дома. Когда в нём была она, повсюду росли цветы. С утра до вечера звучали песни. Она пела словно птица. Нужно было видеть её, всегда в платьях, как у принцессы, и выглядела она, как никто здесь не выглядел. Что её смущало, так это то, что мне далеко до её образованности. Первое время, когда она была здесь, я часто пил гораздо больше, чем следует, я могу это сказать теперь, когда остепенился. Ну а ей было неприятно. Опять нажрался, — говорила она. У неё-то манеры, как у барышни, и мне было стыдно. Вот так я и бросил привычку напиваться. А какая она красивая. Принцесса, да и только. Мадонна.
— У каждого свои заботы, — сказала Эмилия.
Реквием прошёл вместе с ней несколько шагов и у тропинки, ведущей наверх, к кладбищу вручил ей её ношу.
— Я всё-таки зайду к Жюде, — сказал он, прощаясь.
Летом по воскресеньям Жюде выставлял во дворе своего заведения под сенью акаций два длинных деревянных стола. Во время мессы там сидели безбожники, а при случае забредали после службы и добрые христиане. Впрочем, и те, и другие, как правило, приходили сюда скорее днём, чтобы посидеть за столиками более вольготно. Пьющих по воскресным утрам редко бывало больше дюжины. Дойдя до кафе Жюде, Арсен заметил сидящего в конце одного из столов Вуатюрье, а рядом — жениха его дочери Бейя. Мужчины молчали и, казалось, ощущали едва ли не неудобство оттого, что находились рядом. На другом конце того же стола сидела группа из четверых мужчин, но Вуатюрье не желал вводить Бейя в общество своих обычных сотрапезников и предпочитал скучать со своим будущим зятем с глазу на глаз. У Арсена было время поразмыслить, стоит ли ему зайти к Жюде или нет. Наперекор своему желанию вернуться домой, он всё-таки вошёл во двор кафе и ловко завязал разговор с Бейя. Мэр воспользовался возможностью отойти к другим завсегдатаям кафе, которые были признательны ему за то, что он не навязывал им общество парня, поведение которого они сурово осуждали. К тому же, можно было предположить, что Вуатюрье, сидевший с отсутствующим и озабоченным видом и почти всё время молчавший, жалел о том, что дочка выбрала ему такого зятя. Его мысли и в самом деле были далеки и от них, и от кафе Жюде, но Бейя к этому не имел никакого отношения. Ужас ситуаций, предлагаемых античными и шекспировскими трагедиями, равно как и драмами Александра Дюма, показался бы вполне заурядным по сравнению с тем ужасом, в котором беспомощно барахтался Вуатюрье после того, как увидел Вуивру. Перед глазами его засияли вечные истины религии, и в соответствии с неумолимой логикой причинно-следственных связей, более чем очевидных для его рассудка, появление Вуивры стало разрушать его республиканские, антиклерикальные и прогрессистские идеалы. Однако при этом он поклялся, что, опираясь на ад, будет вместе со своим депутатом-либералом бороться против Бога ради вящей славы демократической светской республики. Подобно всем героям, он знавал моменты отчаяния и разочарования. Порой его тянуло к Христу и к Пресвятой Деве, и тогда он садился на велосипед и ехал в церковь, чтобы броситься к стопам Спасителя, поцеловать край платья святой Филомены или сандалии святого Франциска-Ксаверия. Но по пути он приходил в чувство, начинал думать о наглом торжестве реакционной клики, о разброде среди его верных избирателей и о собственном смущении при встрече со своим депутатом, который будет печально смотреть на него, поглаживая чёрную бороду. И тогда, смиряясь с компромиссом, он осенял себя за кустиком крестным знамением и утолял духовную жажду молитвой «Аве», которую бормотал, сложив ладони, порой вверяя свою судьбу Господу, хотя и продолжал отстаивать дело, в безнадёжности которого был уже уверен. «Господи, — говорил он, — ведь всё, что я делаю, я делаю ради справедливости». Вечерами, сидя у себя дома после ужина, когда прислуга уходила и Вуатюрье оставался наедине с дочкой, он опять брался закаливать своею решимость, вспоминая о борьбе и унижениях минувших лет. «Эти свиньи хотели над нами властвовать. В те времена сутана была везде. Нигде не было покоя от кюре. Священник совал свой нос повсюду, даже под наши одеяла. Он докучал и мэрии, и советникам, в его руках были школьный учитель, деревенский полицейский, путевой обходчик, сборщик налогов, мировой судья. Члены его клики обладали всеми правами и затыкали нам глотки. Боже мой, это не должно повториться!» Он чувствовал, как в нём шевелятся какие-то философские аргументы, которые он пытался сформулировать, но выразить их словами так и не удавалось и они оставались бесформенной глыбой. Роза, заметив непонятное ей изменение настроения у отца, воспользовалась случаем, чтобы сообщить ему о притязаниях Бейя. В другое время Вуатюрье ни за что не согласился бы иметь зятя, который, напомадившись и понавесив колец, отлынивает от сельского труда. Но поскольку в душе Вуартюрье не было покоя, а ум его был занят святотатственной борьбой, ему хотелось, чтобы хотя бы в доме его царил мир. После довольно вялого сопротивления он согласился.
По дороге из церкви мимо кафе прошли сёстры Муано, и собутыльники мэра обменялись улыбками при виде трёх старых дев, считавшихся самыми набожными во всём приходе. Вуатюрье, схватив стакан, вынул оттуда едва не утонувшую в нём муху и, подняв её вверх, как просфору, продекламировал: «Agnus Dei, qui tollit peccata mundi, miserere nobis»[2]. От грубой шутки лицо его стало мертвенно-бледным, а ноздри сжались. Сравнение показалось дерзким, но оно рассмешило публику. Несмотря на то что шутка слегка шокировала собутыльников, они признали в ней своего рода неусыпный юмор, который восприняли как некую гарантию. Для Вуатюрье же речь тут шла вовсе не о шутке, но о преднамеренном богохульстве, последствия которого он взвесил с трезвым ужасом в глазах. Он видел, как целится ему в грудь меч господень, как с гадливостью отворачиваются от него Дева Мария, святая Филомена и святой Франциск-Ксаверий, а дьявол ставит котёл, чтобы варить его на вечном огне. Со сверхчеловеческим героизмом он предпочёл навлечь на себя бесповоротное проклятие, чтобы остаться верным своим светским идеалам и тем самым заслужить уважение окружного депутата. «Вуатюрье, — скажет ему депутат, — вы мученик за дело радикалов, но ваши вечные муки будут не напрасны, так как именно благодаря храбрецам вашей породы в один прекрасный день мы вышвырнем попов за дверь». Ну и ещё депутат, может быть, постарается, чтобы Вуатюрье наградили орденом Почётного легиона.
Арсен сидел на другом конце стола, и ему даже говорить-то особо не пришлось. Слабость Бейя заключалась в сангвиническом темпераменте, фатовстве неоценённого по достоинству хлыща и в безусловном краснобайстве. Достаточно было одного умело вставленного слова, чтобы выудить у него все его тайны. Впрочем, Арсен узнал не больше того, что ему было уже известно. Роза Вуатюрье была для Бейя невестой, на которой останавливают свой выбор за неимением лучшего. Он, однако, опасался, что этот брак не только не даст ему свободы действий, но ещё и поставит его в зависимость от тестя, обречёт на работы в поле. С другой стороны, Роза не была красавицей и вызывала в нём весьма умеренные чувства. Арсен предоставил ему самому дойти в разговоре до Вуивры и, наконец, Бейя же с притворной недоверчивостью спросил Арсена, уж не видел ли он её.
— Я встречаю её частенько, — ответил Арсен. — Даже беседовал с ней. Только пусть то, что я тебе сказал, останется между нами.
Красное лицо Бейя стало тёмно-красным, а глаза его заблестели.
— А как её рубин?
— Лакомый кусочек. Я хорошенько рассмотрел его вблизи. Он стоит того, чтобы его заполучить, но только в одиночку это не получится. На днях у меня была прекрасная возможность. Если бы как на грех не заболела нога, я бы рискнул. Только, как ты, наверное, догадываешься, тут нужны быстрые ноги.
— Ну если надо побегать, — заметил Бейя, — то ты меня знаешь. Вряд ли кто-нибудь в округе бегает с такой быстротой, как я.
Арсен ничего не ответил, покачал головой, и, взглянув на часы, поднялся из-за стола.
14
В следующую субботу Арсен и Юрбен, вернувшись с поля и поужинав хлебом с сыром, около восьми вечера выехали с фермы на повозке, гружённой кирпичом, черепицей, брёвнами и прочими строительными материалами. Она оказалась такой тяжёлой, что лошадь с трудом тронулась с места. Арсен, который уже давно сделал заказы плотнику и столяру, решился сообщить о своих проектах только два дня назад. Речь шла о том, чтобы построить Юрбену дом на общинных землях Ревейе. В Во-ле-Девере по обычаю любой человек без крова, будь то местный или чужак, имел право построить себе дом на общинных землях и владеть им, пользуясь всеми исключительными правами собственника, но лишь при условии, что построен он будет за одну ночь. Это условие было не только ограничительной мерой предосторожности. Оно также обеспечивало алиби коммуне, поскольку ведь не могла же она уступить просто так часть своего имущества, пусть даже в пользу бездомного, и не испытывать при этом чувства стыда. Если же дом вдруг возник за ночь, то тут уж коммуне не следовало упрекать себя за отказ от собственности во имя милосердия. Её ставили перед свершившимся фактом. Арсен выбрал для стройплощадки прилегающий к дороге участок общинных лугов, в сотне метров от дома Мендёров. Сквозь деревья Юрбен мог видеть и дом Мюзелье, в котором проработал тридцать лет. Выбор стройплощадки имел ещё и то преимущество, что дом стал бы бельмом на глазу для Мендёров, имевших обыкновение выпускать на это место свиней.
В общем и целом, семья отнеслась к решению Арсена с прохладцей. В нём усматривали спешку, неприличную и едва ли не оскорбительную для старика. Дело выглядело так, будто они принуждают его покинуть ферму, опасаясь, как бы он не остался здесь навсегда. Это было тем более тягостно, что Луиза непрестанно повторяла старику, что его отъезд не к спеху, что он может не торопясь собраться с мыслями и подготовиться к своей новой жизни, и что на ферме он всегда найдёт кров и пищу. Вся эта безотлагательность раздражала и огорчала её. Кроме того, в семье Мюзелье находили несуразной мысль о постройке дома за «четыре су», неизбежно тесного, в то время как в Во-ле-Девере было несколько домов, сдававшихся внаём, где за незначительную плату Юрбен имел бы более просторное жилище и больше удобств. Всем этим открыто высказанным возражениям Арсен не счёл нужным противопоставлять собственные доводы, а только заявил: «Что решено, то решено. Если дом ему не понравится, всегда будет в его власти устраиваться там, где он захочет».
Виктор наблюдал из кухонного окна за отъезжающей повозкой с молчаливым негодованием. Он запретил себе участвовать в том, что считал несправедливой и оскорбительной расправой, да и вообще глупостью. В течение двух последних дней он не упускал ни одного случая, чтобы объяснить Юрбену, какими чувствами руководствуется Арсен в этой затее и какие она влечёт за собой неудобства. Он неоднократно пытался подтолкнуть Юрбена к тому, чтобы тот открыто высказался против этого замысла. Старик ничего не ответил. Однако и он сам, причём ещё в большей степени, чем остальные, относился к этому предприятию отрицательно. Сам дом интересовал его мало. Он даже не собирался взвешивать все его преимущества и неудобства. Однако поспешность, с которой Арсен переселял его, и особенно проявляемая им при этом непреклонность наполняли сердце старика горечью. Когда Юрбен думал, с какой щедрой нежностью и заботливостью он относился к этому мальчику с самого раннего детства, ему начинало казаться, что он дарил свою любовь чудовищу. Он говорил себе, что лучше было бы полюбить собаку.
Арсен вёл лошадь под уздцы. Им предстояло пройти не более трёхсот метров. Там виден был куст шиповника, росший у дороги на самом краю участка. Юрбен шёл рядом с телегой и не сводил глаз с приземистой, крепкой фигуры жестокосердного мальчишки. «Если бы не он, — размышлял Юрбен, — никому никогда и в голову бы не пришло прогнать меня с фермы и я до конца дней своих прожил бы там, где прошла добрая половина жизни». Юрбен всегда знал, что его юный хозяин суров, но до последнего времени верил в его дружелюбие, и своё разочарование в Арсене переносил даже болезненнее, чем мысль о разлуке и одиночестве. Когда он запрягал на конюшне лошадь и к нему подошёл Арсен, чтобы помочь, он чуть было не спросил его, за что тот на него сердится, но гордость не позволила ему.
Было ещё светло, но поскольку солнце уже село, можно было приниматься за работу. Несколько минут назад привёз на своей ручной тележке мешки с известью и инструменты каменщик Жукье. Вечером к нему должен был присоединиться и его сын. Каменщик уже обмерял участок складным метром и вбивал в землю вешки. Дом Юрбена должен был иметь две комнаты, одну — окнами на дорогу и изгородь, другую — с видом на реку. Арсену хотелось, чтобы фасад располагался между ясенем и вишневым деревом, отстоящими от будущего дома на восемь-десять метров. Поскольку времени было в обрез, они решили сэкономить на трудоёмкой кирпичной кладке, чтобы сделать как можно больше отверстий. В каждой из комнат должно было быть по два больших окна, которые столяр мог поставить на место в любой момент. Чтобы дом был прочным, каркас делался из брёвен, а промежутки заполнялись кирпичной кладкой. Первым делом нужно было вырыть четыре ямы, чтобы установить в них стойки, поддерживающие каркас в четырёх углах дома. Старик распряг лошадь, которая пошла домой сама, и с сердцем, полным обиды, принялся копать землю с той добросовестностью, какую он вкладывал вообще во всякое дело. Этой землёй никто никогда не пользовался, за исключением мендёровских свиней, ворошивших только верхний её слой, а от летней засухи она ссохлась ещё больше. Пока Арсен и Юрбен копали, Жукье прорыл желобок вдоль натянутого между ямами каната. Поскольку предполагалось соорудить лёгкий дом, мощный фундамент не требовался. Плотник и столяр прибыли вместе и привезли телегу с деталями остова, окнами, дверями и досками. Не теряя времени на приветствие, они принялись разгружать и складывать в определённом порядке детали конструкции и, пользуясь тем, что было ещё светло, стали кое-какие из них сразу же собирать. Работников подгоняло время, и все шестеро мужчин работали молча, за исключением Жукье, злившегося на то, что его сын запаздывает. «Вот увидите, этот дармоед никак не может выбраться от Жюде. В субботу вечером их теперь просто не удержишь». У обочины дороги иногда останавливались любопытные, которые, стесняясь того, что сами не работают, почти тотчас же удалялись прочь. Предложил свои услуги Арсену и Бейя, правда, без особого пыла и не преминув заметить, что одежда на нём не рабочая. Арсен отказался и, улучив минуту, когда они оказались чуть в стороне от остальных, сказал ему вполголоса: «Завтра в пять часов вечера у пруда. Ну, знаешь, там около сливной трубы». Бейя только затем и пришёл, чтобы договориться об этой встрече.
— Я бы с удовольствием помог вам, — сказал он, — но настаивать не стану.
Члены семейства Мендёр сидели за столом и смотрели на стройку через кухонное окно. «Это не наше дело», — высказался Ноэль, но ему и самому трудно было удержаться от наблюдения за ходом работ. В вечернем свете уже начал вырисовываться каркас фасада, возвышаясь подобно портику. Арман надеялся, что постройка скоро рухнет, причём, возможно, на голову Арсена.
— И прежде всего слишком уж они размахнулись. Я уверен, что до рассвета они не сделают и половины.
— Если они будут продолжать в таком же темпе, — заметила Жюльетта, — то, по-моему, они построят дом уже к середине ночи.
— Когда нужно биться об заклад в пользу Арсена, ты всегда тут как тут. Но сколько ни смотри на него затуманенными глазами, быстрее он работать от этого не будет.
— Не всё ли равно, — вмешался Ноэль, — закончат они или нет. Придираться никто не будет. Я припоминаю, когда три года назад магазин делал для себя дом, так на рассвете стояли ровно две стены. И никто же не стал крючкотворствовать.
— Возможно, что и так, — возразил Арман, — но я как-никак гражданин коммуны, и если всё не будет сделано как надо, то я не стану стесняться и заявлю протест. У каждого своё право. Если они хотят помешать нам выпускать на этот участок свиней, то пусть хотя бы работают как положено. А то слишком хорошо устроились. Не понимаю, с какой стати я должен делать Арсену подарок. Он-то мне не делает подарков.
— Сделай одолжение, помолчи. Хорошо бы мы выглядели, если бы стали мешать Юрбену строить для себя жильё. Меня так нисколько не смущает, что он будет там жить.
— Вы поступайте, как хотите, а я не допущу, чтобы обворовывали коммуну. И надо думать, другие меня послушают и признают, что я прав.
Ноэль едва не вспылил, но Жюльетта со спокойным видом, вызвавшим ярость брата, сказала:
— Ах, оставьте, папа, дом наверняка будет готов к завтрашнему утру. Нечего гадать да горячиться из-за пустяков.
Жермена в споре не участвовала и неотрывно смотрела в окно своими красивыми коровьими глазами. Зрелище всех этих мужчин, суетящихся так близко, что можно было их окликнуть, взволновало ей кровь. К середине ужина ей уже с трудом давалось сидение на стуле.
— Кажется, я слышала, как в конюшне заржал жеребец, — ответила она на какой-то вопрос матери. — Пойду посмотрю, не отвязался ли он.
— Сиди на месте, — велел отец.
Ненасытная вновь плюхнулась на стул. Из груди, раздавшейся до середины стола, вырвался вздох, от которого один ус Ноэля подлетел к уху, а шерсть кота, сидевшего в углу кухни, встала торчком.
Руководил работами плотник, распределявший и координировавший совместные усилия. Укладка деревянных деталей, из которых состоял каркас здания, была по его части. Несмотря на то что конструкция была продумана и рассчитана заранее, на каждом шагу нужно было что-то изобретать, решая возникавшие проблемы. Пока плотник устанавливал и подгонял элементы каркаса, столяр закреплял их гвоздями, подрезал выступавшие концы досок, вбивал клинья. Жукье заполнял промежутки кирпичами и раствором. Арсен и Юрбен выполняли функции чернорабочих, подносили стройматериалы, выдалбливали необходимые отверстия и, когда было нужно, меняли угол наклона ацетиленовых фонарей. Около десяти часов появилась и Белетта, которая умело занялась освещением стройки, перемещаясь вместе с фонарём туда, куда её звали. Двигаясь в ночной тьме, пучок яркого света вдруг вырывал из мрака фигуру человека или ряды пшеничных снопов на стерне по другую сторону дороги. Белетте доставляли удовольствие эти маленькие победы над ночью, и у неё возникал соблазн поиграть со светом, но мужчины призывали её к порядку и грубо ругали, не обращая внимания ни на её женский пол, ни на её молодость. Вскоре после появления Белетты на дороге послышался громоподобный стук башмаков и в свете фонарей возникла Жермена Мендёр. Ослеплённая, она внезапно остановилась, но её мигающие глаза уже искали добычу. Грудь и зад её медленно колыхались, непрерывно увеличивая амплитуду движения. Арсен, занятый с Юрбеном тяжёлой балкой, оценил опасность. Его осенило, и он передал свою ношу Ненасытной, попросив отнести балку плотнику. Жермена взяла её обеими рукам, ловко сбалансировала груз и двинулась вперёд твёрдым, осторожным шагом. И пыл её сразу прошёл. Когда требовались большие затраты мускульной энергии, работа неудержимо влекла её. Поэтому Арсену даже не потребовалось ставить перед Жерменой другие задачи. Она поступила в распоряжение плотника и, забыв зачем пришла, стала выполнять работу нескольких паровых машин. Некоторые проблемы установки конструкций на место благодаря Жермене значительно упростились. Белетта не раз забывалась, глядя на грудь Ненасытной, и вздыхала от зависти.
Юрбен, загоревшись тем же азартом, что и остальные, забыл про свою обиду. Вместе с ними он вёл игру против времени и ночи, и поскольку спешка занимала все его нервы, он думал теперь лишь о том, чтобы выиграть пари. Смысл и цель предприятия почти стёрлись в его сознании. Хотя при этом ему несколько раз случалось останавливаться напротив дома, чтобы окинуть его взглядом целиком. И всякий раз, слегка потрясённый, он вновь принимался за дело со смутным и мимолётным ощущением, что его личность как-то меняется. Казалось, что между ним и домом постепенно устанавливается связь.
Когда на стройку прибыл Рене Жукье, сын каменщика, было уже больше одиннадцати часов. Без малейшего стеснения он признался, что задержался с большой компанией у Жюде, а когда отец стал его стыдить, ответил, что он, Рене Жукье, никак не обеднеет оттого, что провёл два часа в кафе. Однако каменщик вовсе не желал получать плату за работу. Плотник и столяр тоже не думали ни о какой плате. Ведь речь тут шла не только о дружеской услуге, но также о пари, которое они держали все вместе. Денежное вознаграждение противоречило бы этому соревнованию со временем, а ожидаемая победа показалась бы не столь прекрасной. Рассуждение мальчишки Жукье счёл настолько неприличным, что бросил свой мастерок и накинулся на сына с криком: «Свинья! Мне за тебя стыдно!» Но вовремя подоспевший плотник помешал отцу наказать мальчишку.
— Завтра утром, — сказал он Жукье, — ты ему задашь заслуженную трёпку. А сейчас у нас нет времени.
— Ладно, — согласился каменщик, вновь берясь за мастерок. — А ты проваливай немедля. Тут собрались люди, которые умеют себя вести. Нам свиньи не нужны. Вон отсюда, невежа!
Юноша исчез в ночи, подождал, пока утихнет отцовский гнев, и несколько минут спустя украдкой вернулся, чтобы внести свой вклад в совместные усилия. Жукье делал вид, что не замечает его до тех пор, пока тот не искупил свою вину усердием и настойчивостью. Появление второго мастерка сразу сказалось на темпе работы. Каменная кладка между деревянными конструкциями поднималась всё выше, и каркас стал быстро обрастать стенами. В час ночи работы продвинулись вперёд настолько, что плотник перестал заниматься стенами и целиком переключился на сооружение остова крыши. Арсен раздал бутерброды и пустил по кругу бутылки с вином. Хотя пауза длилась не больше пяти минут, вдруг обнаружилось, что Жермена Мендёр исчезла, унеся с собой сына каменщика. Этой короткой передышки оказалось достаточно для того, чтобы Ненасытная, ускользнув из-под завораживающего действия физического труда, почувствовала, как в ней вновь пробудились страсти. К счастью, через четверть часа парнишке под покровом ночи всё же удалось удрать от неё и вновь ваяться за мастерок. На этот раз Жукье не стал его упрекать. Нельзя же упрекать человека за то, что его застала врасплох и покатила по земле буря. Жермена же, хотя и неудовлетворённая, вновь заняла своё место на стройке.
Когда небо над лесом начало белеть, каменщики закончили внешние стены и принялись сооружать внутреннюю перегородку. Столяр уже установил окна и решётчатые ставни и теперь вставлял дверные замки. На крыше оставалось лишь укрепить собранные конструкции. Плотник заканчивал свою работу. Арсен прибивал рейки, чтобы потом крепить на них черепицу. До восхода солнца оставался ещё час. Поверхность кровли, которую предстояло покрыть, была невелика, но Арсен при покупке выбрал маленькие плоские черепицы, которых поэтому набиралось много. Так что работы хватало на четверых кровельщиков. Остальные выстроились в цепь, чтобы передавать друг другу черепицу. Усевшись на конёк крыши и закатав юбку по самые ляжки, большая Мендёр получала упаковки с черепицей, которые Жукье протягивал ей, стоя на самом верху лестницы, и раздавала черепицу кровельщикам. Дело спорилось, но над лесом уже позолотилось небо, на плетнях и на стерне засверкала роса и где-то завёл свою песню дрозд. У Мендёров Арман подошёл к кухонному окну, демонстративно держа в руке часы, готовый в случае чего прибежать и объявить, что к восходу солнца дом ещё не был построен. Поскольку одно из деревьев около дома скрывало часть стройки, Арман вышел на улицу, чтобы лучше всё видеть, и едва не задохнулся от ярости, обнаружив на крыше ляжки собственной сестры, по которым струилось пламя утренней зари.
Положив последнюю черепицу, строители собрали свои инструменты и ушли, даже не взглянув на дом. Свежая, словно она только что встала с постели, и не понимая, что все изнурены, Ненасытная устремилась следом за ними. До Арсена, оставшегося на крыше, доносились раскаты её громкого плотоядного смеха. «Ну хватит, ты, толстая шлюха!» — жалобно стонали мужчины. Белетта, спотыкаясь от усталости, побрела к ферме. Увидев её в свете первых лучей солнца, такую щуплую и зябкую, Арсен почувствовал угрызения совести и нежное беспокойство. Тоже порядком утомлённый, он стоял с одервенелыми руками и ногами, дрожа от утреннего холода. В тот момент, когда он спускался по лестнице, из-за полоски леса на фоне розово-палевого неба показался ободок солнца. Запели все летние птицы. В центре деревни задымила труба.
Вокруг дома всё было усеяно кирпичом, черепицей, щепками и разного рода хламом. Отдавая дань своеобразному щегольству, Арсен стал убирать мусор перед фасадом, но этим ему пришлось заниматься одному. Юрбен не обращал на него никакого внимания и, казалось, вообще забыл о его присутствии. Он то выходил из дома, то, обойдя его, опять заходил внутрь, прохаживался по комнатам и без устали открывал и закрывал окна. Арсену пришлось трижды звать его, пока он наконец не подошёл, чтобы выпить глоток водки для согревания. Торопясь вернуться в свой дом, Юрбен глотнул сивуху с таким видом, будто наспех отработал барщину. Лично он не ощущал ни холода, ни усталости.
— Вы погодите, — сказал Арсен. — Дом — это ведь ещё не всё. Нужно подумать и об остальном. О том, чего за одну ночь не сделаешь.
Арсен заговорил об ограде, о саде, о птичьем дворе, о свинарнике. Юрбен, внимательно слушая, молча кивал головой.
— Когда вы будете жить в своём доме, работы будет по горло. Я представляю себе, сколько дел будет у вас этой осенью. Я попрошу мать, чтобы она отвела вам поле, которое мы купили у Жакрио. Вспашете его, а потом засеете. И этой зимой работы у вас тоже будет невпроворот.
При мысли обо всех ожидавших его делах Юрбен почувствовал, как сердце его переполняется радостью. Ему уже виделось процветание собственного дома.
— А теперь, если хотите, пойдёмте сообщим Вуатюрье. По-моему, дом лучше запереть, как вам кажется?
— Я тоже подумал об этом, — отозвался Юрбен.
Он зашёл в дом ещё раз, не без удовольствия открыл и снова закрыл жалюзи. Выйдя из дома, он запер дверь на два оборота и, вынув ключ из замочной скважины, раздумывая, что же с ним делать. Арсен ждал его на дороге и, увидев показавшуюся на пороге Жюльетту, дружески поприветствовал её. Старик в конце концов решил положить ключ к себе в карман, и лицо его расплылось в улыбке. По пути он никак не меньше двадцати раз оборачивался, чтобы посмотреть на свой дом.
На расстоянии новизна, внесённая домом в знакомый пейзаж, была ещё ощутимее. Когда дом скрылся из виду, Юрбен взял Арсена за локоть и крепко пожал его. Он думал теперь не о доме, а о том подлинном счастье, которое он считал утраченным и которое вернулось к нему на рассвете. Внезапно он почувствовал, как от ночной работы плечи его и конечности налились свинцовой усталостью. Ему казалось, что он всё ещё несёт какой-то тяжёлый груз, отчего и его высокая фигура немного согнулась. Положив руку на плечо Арсену, старик тяжело опёрся на него. Юрбену было радостно от того, что он может на него опереться.
Вуатюрье был у себя на кухне один и заканчивал бриться, глядя на себя в зеркало, подвешенное к оконному шпингалету. Дочь и прислуга, пользуясь воскресным днём, ещё не вставали с постели. Для него самого утренние часы были самыми жестокими, ибо в это время метафизические страхи, разрушая материальность предметов, витали в его сознании, принимая вид то неких бледных саванов, то блеклого холодного неба. Бог, бесплотный, отринувший всё, вплоть до собственной бороды, был теперь одной лишь невнемлющей волей, к которой невозможно было подступиться ни с помощью молитвы, ни с надеждой вызвать сострадание. Это было как раз то белое, студёное время суток, когда Дева Мария и святые заступники, замерев под мантией зари, смотрят, как преступления грешников застывают в священном ужасе приходской церкви. Вуатюрье ощущал, как в голове у него проплывают туманности и вечности. От бесконечности Бога, от его то гнева, то равнодушия у Вуатюрье пересыхало в горле. Светская власть больше не откликалась на его зов. На фотографии, прикреплённой к кухонной стене, лицо депутата округа, обычно такое выразительное, стало неприветливым, а чёрная борода теперь казалась сделанной из щетины от половой щётки. Внезапно мэр повернулся к нему, держа бритву в поднятой руке и прошептал: «В конце концов, мне всё это уже осточертело!» Он вновь занялся своей щетиной, но тут же вытер лезвие и обратился к депутату ещё раз: «Из-за ваших глупостей я в конце концов останусь вообще на бобах». И в третий раз: «Вы осточертели мне, господин Флагус. Это я вам говорю». Тут во дворе запел петух. Вуатюрье, срезавший последние колючки щетины, побледнел, и лезвие задрожало у него на горле. Он встал перед фотографией и, сложив ладони, униженно пробормотал голосом умирающего: «Господин депутат, господин депутат». Приход Арсена и Юрбена явился для него избавлением от мук. Часы его вселенной опять пошли. С радушной улыбкой он поспешил к ним навстречу. О доме Юрбена он был осведомлён с прошлого вечера, однако из вежливости и ради того, чтобы доставить им удовольствие удивить его, притворился, что ничего не знает, и Арсен был ему благодарен за это.
— Хотя время сейчас раннее и, может быть, в такой час лучше не тревожить людей, но как я только что говорил, у Фостена день начинается вместе с птицами.
— Для друзей я всегда на ногах, что верно, то верно. Так входите же, выпейте по рюмочке.
Он прошёл на кухню впереди гостей и поставил стаканы на стол. Арсен, уже умудрённый жизненным опытом, не торопился переходить к делу. Они расспросили друг друга о семьях, а потом долго говорили об урожае. Вуатюрье сказал, что ещё никогда не видал такого хорошего урожая. Колосья налились, стали тяжёлые, как свинцовые пули. Да и не удивительно, с таким-то летом. Лето было сухое, но с дождями, как по заказу.
— Да ещё очень хорошо, что погода не везде одинаковая. Вот вчера я в газете прочитал, что в других местах выпало слишком много дождей. Так что зерно останется всё-таки дорогим. Похоже, в этом году жаловаться нам будет не на что. Даже для уборки урожая установилась такая погода, о которой можно только мечтать. Если так продержится, я всё уберу меньше чем за неделю.
— У нас то же самое, — сказал Арсен, — можно уже твёрдо сказать, что уборка не затянется.
— С такими парнями, как у Луизы, я подозреваю, работа должна спориться. А когда нужно, то у вас есть Юрбен, чтобы пример вам показывать.
— Сейчас уже не всё мне по силам, — скромно запротестовал Юрбен.
— Ну про Юрбена вам рассказывать не нужно, — сказал Арсен. — Он никогда свои тяготы не считал и сложа руки никогда не сидел. Если бы от него зависело, к дням бы ещё лишние часы приделывали. Да, кстати, раз уж я начал и раз уж мы говорим о Юрбене, я думаю, у него самого есть что вам сказать.
Вуатюрье разыграл удивление и с заинтригованным видом подняв вверх брови. Юрбен не удержался от улыбки при мысли о том, как сейчас удивит его.
— А скажу тебе я то, что я только что построил себе дом.
— Дом? — переспросил Вуатюрье, вытаращив глаза.
При виде его округлившихся глаз старик отрывисто и с непривычки неловко рассмеялся.
— Да, этой ночью я построил себе дом на общинном участке. В Ревейе, если ты себе представляешь. Как раз перед рассветом закончили.
— Вот те раз! — воскликнул Вуатюрье. — Если б я мог подозревать! Дом на общинных землях! Ну и проказники же вы оба! А я всё говорю, говорю, а они такую новость от меня скрывали! А я-то их слушаю! Ну идёмте смотреть!
Вуатюрье надел пальто и пошёл предупредить дочь, что уходит. А Юрбену не терпелось снова увидеть свой дом. Он уже не чувствовал усталости и, наверное, не удивился бы, если бы мэр вдруг припустился бежать. Было шесть часов утра. В белом, похожем на белое вино свете деревня начинала стряхивать с себя утреннюю росу. Во дворах ферм мужчины неторопливо волочили свои башмаки. Из какого-то коровника донеслось мычание. В окне одного дома показалось лицо грустного задумчивого ребёнка, удручённого воскресной обязанностью умыться с мылом и, может быть, даже вымыть ноги. У Вуатюрье пропал весь задор. Пока он шёл, в нём возникло ощущение, будто от него уходит собственная судьба, а он сам с каждым шагом спускается по ступенькам всё ниже и ниже, приближаясь к аду. По пути он рассказал Арсену о предстоящем бракосочетании дочери. В его словах не было ничего обидного для Бейя, но говорил он о нём, покачивая головой и с брезгливым выражением лица. Юрбен, шедший рядом, не слышал беседы и всё смотрел вперёд, с нетерпением ожидая, когда покажется его стоящий у дороги дом. Подошли они к дому одновременно с Виктором, который, завидев их, прибежал с фермы. На этот раз удивление Вуатюрье было наигранным лишь отчасти.
— Ты говорил мне про дом, а я вижу тут настоящий замок! И после этого вы мне ещё будете говорить, что чудес на свете не бывает.
Он обошёл вокруг дома, притворившись, что щупает стены, дабы удостовериться, что его не обманули, но находил всё время лишь новые поводы для восторга. У Виктора, пришедшего для того чтобы подогреть злость Юрбена, хватило ума сообразить, что ситуация в корне изменилась. Лицо старика светилось радостью и гордостью. Сомневаться не приходилось: пари выиграл Арсен. Виктор вынужден был его поздравить, но не смог удержаться от желания взять хоть какой-то реванш.
— А теперь, — сказал он, — давайте посмотрим, что творится внутри замка.
Внутри дом никак нельзя было считать достроенным. Нужно было ещё сделать потолок, настелить пол, сложить печь, обшить и покрасить стены. Внутренний осмотр не мог не принести разочарований. Но Вуатюрье остался великодушным до конца и, извинившись, сказал, что ему пора, что его уже ждут дома.
— Зайду как-нибудь в другой раз, — заявил он. — Теперь, когда я видел всё, что надо, я могу идти. Что касается огорода, то поскольку общинный участок не очень большой, ты можешь взять его целиком. От того, что коммуна сохранит этот клин за собой, выгода ей будет всё равно не ахти какая.
15
— Нет, — невозмутимо сказал Реквием, — ты недостаточно красивая. Я, конечно, люблю доставлять женщинам удовольствие, но ты недостаточно красива.
Ненасытная пристально смотрела на него, а глаза её и щёки пылали от нестерпимого желания. Только что закончилась вечерня, и они стояли друг против друга на извилистой тропинке, между двумя изгородями, образованными росшими по обе стороны кустами. Неистовым жестом она расстегнула кофту, вынула оттуда одну грудь и показала ему, держа её обеими руками.
— А это?
— Ничего не скажешь, — согласился Реквием, — ничего не скажешь. Но после её грудей другие кажутся просто свёклой. Тот, кто не видел, не может себе даже представить. У неё под кофтой были два белых голубя. И она была не такая женщина, чтобы вот так вытаскивать этих голубей. Заметь, я тебя не осуждаю. У каждого свой характер, верно? У тебя характер толстой крестьянки с ягодицами, которые управляют всем, что ты делаешь. А для неё на первом месте всегда была учтивость. Как и все женщины, она терзалась от любви, но она никогда не стала бы просить меня. Правда, была у неё манера смотреть на меня, я сказал бы тебе, куда, и я разом её понимал. Когда человека воспитали родители-миллионеры, тут одним пыхом будешь понимать, а то разве нет?
— Ну давай же! Мы здесь не для того, чтобы балагурить.
— Меня любила принцесса, — сказал Реквием. — Нужно же это понимать. Её родители были людьми из общества, а, может, даже и дворянами. Вестимо, она вернулась к себе в замок. Ведь тот, кто привык к сдобным булочкам, уже не может есть чёрного хлеба.
— Скажи-ка лучше, что ты всё ещё пьян, — бушевала Большая Мендёр.
— Я не пью, — возразил Реквием, — Тут ты промахнулась.
— Не понимаю, чего это я спорю, — оборвала его Жермена.
Затолкав грудь на место, она схватила Реквиема за локоть. Немного пьяный, он пошатнулся и расхохотался.
— А что потом? — спросил он.
— Вот это-то мы и увидим.
Они ничего не увидели, так как на тропинке внезапно появился кюре. Он шёл по просёлочной дороге, чтобы забрать свой старый велосипед у кузнеца — тот после вечерни унёс его чинить. Намерения Большой Мендёр в отношении Реквиема были очевидны. Нахмурив брови и поджав от омерзения губы, кюре прошёл мимо, не глядя на них. Жермена покраснела и выпустила свою добычу. Она догнала священника и поплелась за ним, бормоча:
— Господин священник, вы только не воображайте, будто… Клянусь вам, я не сделала ничего дурного. Мы беседовали и ни о чём не думали, господин священник.
— Замолчите, — буркнул в ответ священник. — Вам под землю бы провалиться надо за ваши грехи. Как только подумаю, что Ноэль Мендёр вот уже тридцать пять лет поёт в церковном хоре. А вам хоть бы что.
— Да нет же, господин священник, я как раз хотела сказать вам, что церкви мне сильно не хватает. Родители не хотят больше пускать меня на мессу. А вы не желаете больше выслушивать мои исповеди. Ну а раз я даже на Господа Бога не имею права, то как же вы хотите, чтобы я вела себя хорошо?
— Если бы из-за вас не происходили скандалы в самом храме, вы не докатились бы до этого. Начать с того, что я никогда никого не отказывался исповедовать, но для вас я выдвинул некоторые условия. Исповедь должна оставаться тайной Бога, священнослужителя и грешника. А вы, вы же орёте в храме, вы вопите разные мерзости!
— Я понимаю. Я так скорблю о своих грехах, что когда я рассказываю про них, меня охватывает гнев. Вот, к примеру, этот случай с Реквиемом, когда вы тут появились. Вы даже не знаете, что я собиралась с ним сделать. Я собиралась…
— Ладно, ладно, мы сейчас не на исповеди. Оставьте все эти ваши истории при себе. Послушайте, я хочу попытаться вам помочь. Приходите на исповедь, когда у вас будет желание, но только не открывайте рта. Принесите мне список ваших грехов, и всё. А я уж как-нибудь разберусь.
— Благодарю вас, господин кюре. Если бы вы только знали, как я рада. Я так люблю Господа Бога и Иисуса, и святых тоже. Вот и о святом Франциске-Ксаверии я часто думаю. Мне он кажется таким миленьким со своей бородкой и своими розовыми щёчками. Может, он не слишком упитанный, ну и ладно, это не главное. Он как вы, господин кюре, вы ужасно симпатичный. Я всегда вас очень любила. Ах! Вот-вот! Ах! Да-да, я вас действительно очень люблю.
Склонившись над ним, Большая Мендёр пристально, оценивающе разглядывала его, и в её больших коровьих глазах плясал диковатый огонёк.
— Ну полно, — пробормотал он слегка дрожащим голосом. — Так я могу опоздать.
Забрав свой драндулет у кузнеца, священник съехал вниз по во-ле-деверскому склону, не нажимая на педали. Этот не требовавший усилий деревенский спуск всегда доставлял ему удовольствие. В такие моменты он мог воображать, будто мчится на велосипеде своих грёз, приятно и назидательно поблёскивающем никелем. Но на этот раз его мысли были заняты другим. Он был встревожен и разочарован. Вот уже неделю он не слышал почти ничего нового о Вуивре. Правда, кое-кому она ещё попадалась, но лихорадка первых дней, возникавшая при мысли о таком соседстве, пошла на убыль. С Вуиврой, можно сказать, свыклись. Священник, рассчитывавший на тягостную атмосферу мистических тревог, дабы, воспользовавшись ею, вновь овладеть собственным приходом и разоблачить обман радикалов, сердился на Вуивру за то, что она прекратила свои проказы. Казалось, в Во-ле-Девере она отдыхала, как на курорте, во всяком случае, шуму от неё было меньше, чем от Большой Мендёр. Съезжая по склону на велосипеде, священник предавался грёзам о том, как Вуивра сначала уморит в деревне сорок коров, а потом под покровом ночи проникнет в церковь, чтобы украсть дароносицу и разбросать измельчённые змеиные яйца; однако он застанет её врасплох, запрёт на ключ и под звон набата соберёт весь приход; и пока толпа будет тесниться у врат храма, желая посмотреть на Вуивру, он войдёт туда один и там с ней сразится; эта дрянь захочет его соблазнить и предстанет перед ним нагой; но при помощи целого горшка святой воды, вылитого куда надо, он её обезобразит; она ринется на него с выпущенными когтями, пытаясь пронзить его языком — заострённым и ядовитым жалом, и изо рта у неё будет вылетать пламя; и тогда он свяжет ей язык латинскими словами, даст ей хорошего пинка в брюхо и покажет ей распятие; она испустит истошный зверский крик и, перед тем как испариться в дыму, признает, что прав один лишь Господь; население Во-ле-Девера, став свидетелем этих чудесных вещей, запоёт духовный гимн, и тогда весьма приятной наградой станет для него пение самого Вуатюрье, который будет петь своим слабым верхним голосом. Ближе к концу спуска священник вернулся к невзрачной реальности. Вуивра являлась не более чем жалким и ветхим мифом, и перевести её в другой разряд было никак нельзя, даже несмотря на её засвидетельствованное многими материальное присутствие. Да и враги веры стоят не больше её самой. Всех этих дикарей, которые ходят, не поднимая головы от земли, ничем не удивишь. Даже если бы сам Господь со своими громами и небесным воинством поселился в обыкновенном сельском доме, крестьяне за неделю привыкли бы к нему, как они привыкли к соседству Вуивры.
Священник, собиравшийся нанести визит ронсьерскому нотариусу, по дороге решил заскочить и к Мюзелье. Дойдя до нового дома Юрбена, он увидел Арсена, направлявшегося по тропинке в лес, и сделал ему знак остановиться.
— А я как раз шёл к тебе, — сказал он, слезая с велосипеда.
— Вы увидите всех дома. А я иду на Старую Вевру. Всё это время мы туда выпускали наших коров. Взгляну, осталась ли для них травка. У меня такое подозрение, что им там теперь уже не с чего больше жиреть.
Священник оглянулся вокруг и шёпотом, поскольку дом Мендёров был совсем рядом, спросил:
— А тебе не случалось встречать Вуивру после того, как ты рассказал мне о ней?
— Так теперь вы верите, господин кюре, что она существует?
— Я видел её. Неделю назад, ближе к вечеру, она шла лугом недалеко от моего дома. И впереди ползла её гадюка. Так что мне было бы трудно не узнать её. Она полностью соответствовала твоему описанию. Да и эта её манера шествовать за гадюкой кое о чём говорит.
— Ну это ещё ничего не доказывает.
— Можно подумать, что теперь ты перестал верить в её существование, — заметил священник.
— Я имел в виду другое. Разумеется, видели-то вы Вуивру.
Арсен не закончил свою мысль, но священник догадался, что он, как и все остальные, свыкся с присутствием Вуивры и потерял представление о той опасности, которой из-за неё подвергается. Желая узнать, как далеко тот зашёл, он засыпал Арсена вопросами.
— Понятно, что она девушка, не похожая на других, — ответил, наконец, Арсен. — Девушка, которая не занята никакой работой, не может быть похожа ни на кого из здешних. Но что я могу вам сказать, так это то, что бесовского в ней нет ни на грош. Мне так она кажется чем-то вроде девчонки с мальчишескими замашками: всё время шляется по лесам, всё делает по-своему, в голове никаких забот, а желания сами знаете какие.
Арсену показалось, что он не смог внятно выразить свою мысль. Священник слушал его внимательно и хмуро, так, словно до него не доходил смысл сказанного.
— Послушайте, господин кюре, я вот что хочу вам сказать: мне случалось делать с Вуиврой то, о чём вы сами можете догадаться. Разумеется, когда-нибудь я расскажу вам обо всём на исповеди, но уж не буду с этим так торопиться, как в первый раз. Я подожду и месяц, и два, а то и больше.
— Несчастный! Вот этого-то я и опасался! Яд привычки! Это самый верный яд из всех, которые только может влить в нас бес! Если ты не опомнишься немедленно, ты пропал. Ты мне, кстати, так и не сказал, встречался ты с ней ещё или нет.
— Да так как-то, бывает иногда. Она, понимаете ли, девушка неплохая.
— Ты определённо её защищаешь. Арсен, я вижу, ты попал в плохое положение. А что-нибудь другое она тебе предлагала? Ты меня понимаешь, я надеюсь?
Но Арсен не ответил на вопрос священника и жестом показал ему на приближавшегося к ним по дороге Юрбена.
— С самого утра он без передышки ходит между нашим домом и своим. Вы, может, знаете, что он этой ночью построил себе дом? Вон, смотрите, совсем рядом.
— Верно, мне об этом говорили, но я только что проехал мимо него и не заметил. Где же у меня были глаза?
Пока священник поздравлял Юрбена, Арсен попрощался с ними и неторопливо направился в сторону леса. Он, как и говорил, дошёл до Старой Вевры, чтобы оценить состояние лугов. Коровы выщипали всю траву, не тронув только торчавшие кое-где пучки тростника. От давно уже скошенной ржи Мендёров осталась только потемневшая от солнца стерня. Пока Арсен раздумывал, стоит ли вспахивать луг осенью, перед ним возникла, вызвав чувство досады, фигура Бейя. Жених Розы Вуатюрье, как они договаривались, должен был подойти прямо к пруду Ну, и встречаться заранее им не было никакой необходимости. Бейя был без пиджака, в холщовых туфлях на верёвочной подошве, и было совсем незаметно, чтобы он волновался.
— Я немного опоздал, но мне не хотелось бегать высунув язык. А всё Реквием виноват. Только что у Жюде как стал на меня давить.
Бейя давно отказался от местного диалекта и говорил на языке, изобилующем жаргонными выражениями, которые немного сбивали Арсена с толку.
— Он уже был под газом. И принялся драть глотку в кабаке, что тут собрались одни мужланы, что Робиде, дескать, маркиза и дочка нотариуса, и что у неё десять тысяч франков ежегодно дохода. Тут уж я не выдержал и сказал ему: «Знаю я твою Робиде, видел, как её использовали поляки ночью за пятьдесят су у площади кармелитов. Днём такая старуха не сыскала бы ни одного охотника даже за десять су». — «Свинья, — говорит он мне, — это ты из ревности клевещешь». — И ну давай орать, что Робиде только-только исполнилось двадцать лет, что к ней до января ни один мужчина не прикасался, что у неё приданое, как у супрефектовой жены, и что первого, кто скажет обратное, он, Реквием, закопает заживо в землю. И тут я…
Они шли рядом по лугу. Бейя витийствовал, вдавался в малейшие, порой совершенно пустые, подробности своей ссоры с Реквиемом и, казалось, совсем забыл о трудной партии, которую ему предстояло сыграть. Впрочем, он подошёл к этой теме сам. Однако вовсе не для того, чтобы взвесить свои шансы или наметить план. Преисполненный самодовольства, он считал, что успешный исход затеи уже обеспечен, и мыслей о провале в его голове просто не возникало. Он думал только о том, как события будут развиваться потом, после того как он вступит во владение рубином. В своём воображении он, продав рубин, покупал самое большое в Безансоне кафе, самый модный парикмахерский салон, американский автомобиль, брал на содержание актрису из Муниципального театра, которую прошлой зимой видел в «Мушкетёрах в монастыре», намереваясь одновременно спать со всеми молоденькими девушками, которые будут у него работать. Арсену была противна ничтожность его разглагольствований, а ещё больше — его неспособность не только сосредоточиться на ожидающих его трудностях, но даже помыслить о них. Подобное неумение и нежелание трезво оценить ближайшую перспективу, обдумать последовательный план действий, казалось ему в мужчине серьёзным, непростительным пороком. И он уже почти ненавидел Бейя.
— Я, возможно, съезжу в Париж, чтобы продать рубин. Во всяком случае, как только продам, тут же пришлю тебе твою долю. Половину — мне, половину — тебе. Я в таких делах, знаешь ли, человек надёжный.
— О половине не может быть и речи, — возразил Арсен. — Ты дашь мне четверть, как условились. Ведь рискуешь-то ты, а не я.
— О! Рискую! Да я в моих туфлях на верёвочной подошве передавлю всех змей на свете.
— Учти, они полезут отовсюду. Все это мероприятие опаснее, чем ты думаешь. Я тебе повторяю ещё раз: если увидишь, что ничего нельзя сделать, сразу бросай рубин.
— Это чтобы я-то бросил рубин? Ну нет! Как бы не так! Ты меня плохо знаешь, приятель.
Арсен понял, что и сейчас, как и в прошлые разы, ему не удастся убедить Бейя посерьёзнее отнестись к грозящей опасности, и решил, что теперь совесть его чиста, что он сделал всё, что от него зависело.
— Ты исповедовался?
— Да, — ответил Бейя с такой улыбкой, словно это признание было для него тягостно. — Я сегодня утром исповедовался и причастился. Но лишь для того, чтобы доставить тебе удовольствие.
Успокоившись, Арсен перестал обращать внимание на своего спутника и на его болтовню. Вскоре он знаком призвал его замолчать, поскольку пруд Ну был уже рядом, и пошёл впереди. Выйдя из леса, он даже не оглянулся назад, не попывшись увидеть, куда спрятался Бейя.
Вуивра, пришедшая на свидание вовремя, лежала на берегу пруда, в нескольких шагах от платья и от своего рубина. В разгар лета тело её приобрело пряничный оттенок. Положив руку под голову, она смеющимся взглядом наблюдала за его приближением. Он тоже улыбнулся в ответ, без натуги, с симпатией. Ему сейчас казалось, что он входит в некий блаженный и не слишком серьёзный, хотя и прочный мир, мир, где и вода, и деревья, и небо заслуживают заинтересованного внимания, и он обнаруживал, что и поле, и лес могут радовать глаз.
— Здравствуй, — сказал он Вуивре. — Я немного запоздал. Встретил по дороге знакомых и задержался.
Вуивра вскочила на ноги и со смехом обвила руками шею Арсена, который сейчас тоже был не прочь рассмеяться. Вообще ему не слишком нравились подобные проявления чувств, но иногда это всё-таки было ему в охотку, и веселило его.
— Я люблю тебя, — говорила она, пощипывая ему уши.
— Да и тебя люблю, — отвечал Арсен, а в то же время тихонько отталкивал её, прикрывая ей груди руками.
— Пойдём, — сказал он, беря её за руку. — Мне хочется пойти вон туда, — и он неопределённо махнул в сторону, как бы охватывая всё окружавшее их пространство. Она противиться не стала и пошла за ним.
Они побрели вдоль пруда, в сторону затвора шлюза. Арсен без удовольствия думал о том, что Бейя скорее всего видел, как он разгуливает с повисшей у него на руке голой девицей. Уж конечно. Это был верх нелепости, просто курам на смех.
— Мне очень нравится твой воскресный костюм, — сказала Вуивра. — В нём ты выглядишь лучше, чем в будни, когда на тебе тиковые брюки с провисающим до подколенка задом. Сейчас у тебя вид намного опрятнее. А больше всего мне нравится твоя круглая чёрная фетровая шляпа. В ней ты кажешься не таким злым, как в фуражке. А чёрный костюм, хоть он и немного унылый, по-моему, делает фигуру более стройной, что как раз тебе и надо. Мне бы хотелось когда-нибудь увидеть тебя совсем голым.
— Не понимаю, зачем тебе это нужно, — хмуро сказал Арсен.
Они миновали затвор шлюза и, не удаляясь от воды, пошли по подстилке из сухого камыша, хрустевшего у них под ногами. Истошный крик заставил их резко остановиться и обернуться, затем раздался протяжный вой, полный ужаса и мольбы о помощи. Поднятый затвор шлюза закрывал от них место, откуда они пришли. Между прудом и лесом в траве то тут, то там мелькали змеи, двигавшиеся в направлении бьефа.
— Ещё кто-то позарился на мой рубин, — невозмутимо сказала Вуивра.
— Отзови своих змей, — приказал Арсен.
— Да нет, как же, я не могу. Мне ведь никак нельзя терять мой рубин.
— Свистни своих змей, говорю тебе.
Послышался ещё один крик, более слабый и более короткий, чем предыдущий, похожий на стон умирающего. Арсен схватил Вуивру за плечо и грубо встряхнул её.
— Отзови своих змей, слышишь, немедленно!
— Это уже бесполезно, — сказала она, — он наверняка успел умереть.
Тем не менее она вытянула губы трубочкой и протяжно засвистела. Арсен отпустил её руку, она увидела суровый взгляд его серых глаз, щурившихся от солнца, и побежала к затвору шлюза. Её голое тело замерло на возвышении на фоне неба. Золотистый свет, падая на округлости, словно растворял в своём блеске её загорелую кожу, а солнечный диск, казалось, украсил её чёрные волосы каким-то невыносимо ярким драгоценным камнем.
— Он мёртв, — сказала она. — У него больше нет липа.
Арсен повернулся и направился в сторону леса.
— Куда же ты?
Не отвечая и не оглядываясь, он пошёл по тропинке.
— Куда же ты?
В голосе её звучали беспокойство и неясность. Он шёл вперёд быстрым шагом, но внезапно остановился как вкопанный. Перед ним неторопливо переползали тропинку две гадюки. Следом за ними тянулись остальные. За несколько секунд он насчитал их штук пятнадцать, да и позади него было не меньше. У него мелькнула мысль, что все эти змеи возвращаются с пиршества, прерванного свистком Вуивры. Возможно, в них ещё сохранилась свирепость, которую они не успели удовлетворить. Они ползли лениво, покачивая головами и глядя в глаза застывшему посреди тропинки человеку. Одна из них остановилась почти у самых ног Арсена и, не отрывая от него пристального взгляда, принялась качать головой. Под её челюстью трепетало мягкое вздутие цвета панариция. От отвращения у Арсена защемило сердце, однако ему удалось сохранить хладнокровие. Воспоминание о битве со стаей рептилий, которую он однажды уже выдержал, делало его бесстрашным и поддерживало в нём чувство воинственной гордости. Он раскрыл в кармане нож и краем глаза присмотрел в орешнике сломанную, но ещё зелёную ветку, державшуюся на коре. И в это мгновение он подумал, что лучше сдохнет, чем позовёт Вуивру на помощь. Он чувствовал, что малейшее движение с его стороны разбудит ярость внимательных, пока ещё осторожных животных, но при виде змеи, запачканной красной кровью, которая вяло выползла на тропинку в трёх шагах от него, он, чуть было не поддавшись порыву, потянулся за ореховой палкой. Наконец змея, которая покачивалась у его ног, медленно скользнула под папоротник, и не прошло минуты, как тропинка полностью очистилась. Арсен был бледен от гнева. Подобрав гибкую, крепкую палку, он двинулся дальше. Ему ещё попадались змеи, переползавшие тропинку, но довольно далеко от него. Он держал своё оружие за спиной, чтобы скрыть его от их бдительных взглядов. Последней из встреченных им змей, уже недалеко от Старой Вевры, оказалась толстая гадюка с красноватым отливом, которая неторопливо проползла в трёх шагах от Арсена, с вызывающим спокойствием глядя на него. Поскольку он продолжал идти вперёд, она с гневным свистом повернулась к нему и вытянула шею. Стремительным и точным ударом поперёк её тела он сломал гадюке позвоночник. Она подпрыгнула и, падая, несколько раз дёрнулась явно из последних сил. Глаза её оставались живыми, кожа на челюсти дрожала. Арсен повозился с ней минуту, мучая змею кончиком палки и наслаждаясь её агонией, затем бросил её в папоротник.
По дороге домой он думал о смерти Бейя. Ему было немного грустно, но никаких угрызений совести он не испытывал. Перед тем как поместить это событие в какой-нибудь выдвижной ящичек своей совести, он навёл там порядок. Во всём этом деле он ощущал себя непогрешимым. Ведь не он же заговорил первым о Вуивре. Он просто ответил на вопрос Бейя, сказав, что часто встречает её. Просто сказал правду. Когда горемыка предложил ему организовать поход за рубином, Арсен подробно обрисовал все опасности, которые того поджидали. Поскольку Бейя продолжал стоять на своём, он ведь не поленился перечислить все, какие только возможно, полезные предостережения. Когда я сказал ему, что у меня болит нога, что я не могу бегать, это была сущая правда. Настолько, что я до сих пор чувствую, как зашиб вчера щиколотку. Даже ещё и сегодня утром, после ночной усталости, я прихрамывал. Нет, мне не в чем себя упрекать. Ну и сейчас, когда я заставил Вуивру отозвать её змей, ведь я тоже сделал всё, что было в моих силах, чтобы спасти его. Ведь он и без меня всё равно рано или поздно рискнул бы, даже с меньшими шансами на успех. Он не первый, кто пытается. А если взглянуть на вещи с другой стороны, то Арсен не считал смерть Бейя таким уж прискорбным событием. Ленивый, бестолковый, решительно ни на что не годный, и было бы лицемерием не признать, что его исчезновение — скорее благо. Если бы несчастный остался в живых, он по-дурацки промотал бы состояние Вуатюрье, сделал бы несчастной свою жену и потом влачил бы жалкое и подлое существование уязвлённого себялюбца. Ему, можно сказать, даже повезло: вместо того чтобы прожить такую никчёмную жизнь, он отважно погиб в дерзком и оттого почётном предприятии. В довершение везения он, благодаря предусмотрительным заботам друга, утром, перед самой смертью, причастился. Не приходилось сомневаться, что, проживи он подольше, шансов благополучно устроиться в ином мире у него было бы значительно меньше. Арсен задвинул выдвижной ящичек своей совести и о Бейя уже больше почти не думал.
Кюре, задержавшись у Мюзелье, сидел за столом, на котором перед ним стояли стакан белого вина и тарелка с печеньем. Не раскрывая своих намерений, он перевёл разговор на Вуивру и говорил о ней так, будто знает про неё только то, что донесли до него гуляющие по деревне слухи. Виктор пытался доказать ему, что Вуивра — не больше чем ребяческая выдумка, и, изображая из себя человека рассудительного, гладко толковал про правдоподобие вымысла, про науку, про то, что суеверия идут на убыль, про законы природы, лро удобную древность чудес, на которую опирается легковерие простаков. Священник, прикидываясь, что беспристрастно рассматривает его аргументы, без особого труда опровергал их. Виктор скоро начал догадываться, что все его усилия пропадают впустую, что самой действительности всегда бывает недостаточно, чтобы объяснить эту действительность, тогда как чересчур хитрые аргументы уводят разговор в сторону. Однако его выводила из себя тщетность собственных усилий. Он чувствовал, что его убеждения разделяет бесчисленное множество влиятельных представителей человечества, которых ему никак не удаётся с пользой для себя подключить к спору, и это его страшно раздражало. Постепенно речь его стала какой-то путанно-неистовой, а все аргументы теперь сводились к тому, что «этого, чёрт побери, просто не может быть». Подошедший в этот момент Арсен с недоброжелательной жалостью наблюдал за потугами своего брата, за работой его бедного мозга, такого жадного и беспокойного, в котором теперь явно не осталось ни отсеков, ни перегородок, который оказывался не в состоянии вынести соседство двух противоречащих друг другу идей, и, как к наркозу, стремился к единству. Он впервые заметил, что у Виктора треугольное лицо, а мерцающее пламя уязвлённого разума в его взгляде, позволило ему обнаружить сходство между братом и только что убитой гадюкой.
16
Вдова Бейя, проведя бессонную ночь в ожидании сына, пошла справиться о нём к Вуатюрье в надежде, что он сообщил невесте о каком-нибудь своём замысле, но ни отец, ни дочь не смогли сообщить ей ничего определённого.
— Может быть, ему пришло в голову съездить в Доль, а вернуться вчера вечером что-то помешало.
— Велосипеда он не взял. Нет, из деревни он скорее всего не уезжал. С ним наверняка что-то случилось.
Взгляд вдовы блуждал. Вуатюрье с состраданием смотрел на эту маленькую сорокатрехлетнюю старушку, ещё недавно одну из самых красивых девушек в округе, за несколько лет скрючившуюся от ожидания беды. Розе хотелось бы успокоить её, поделиться своими подозрениями. Она почти не сомневалась в том, что Бейя по примеру её первого жениха бросил её и ускакал за какой-нибудь другой девушкой, но боязнь потерять надежду помешала ей высказать эту мысль.
— Я уверена, с ним что-то случилось, — пробормотала мать. — Это Господь Бог меня наказывает.
Мысль о небесной каре, хотя и казалась Вуатюрье самоочевидной, тем не менее вывела его из себя.
— Не говори чепухи! Господь Бог — это бабские бредни, это кормушка для священников. Нету никакого Бога, слышишь, нету и всё тут.
Но вдова Бейя покачала головой. И уже более твёрдым голосом повторила, что её наказывает Бог. Проступок, на который она намекала, был известен отцу и дочери Вуатюрье, как и всем остальным жителям деревни. Однажды зимним вечером в 1917 году капрал 60-го пехотного полка Бейя, неожиданно прибыв в увольнение, застал в своём доме сенесьерского торговца свиньями Нестора Гленгуа, сидевшего за столом с его женой и вовсю распивавшего шипучку. Он немедленно вернулся на вокзал и три недели спустя нашёл свою смерть, добровольно отправившись на передовую. Оставшись вдовой, супруга его несколько лет прожила совершенно спокойно без каких-либо разладов в душе. Беспокойство пришло к ней гораздо позже, когда стал раскрываться характер её сына и обнаружилась его неспособность систематически работать. По мере того как она пыталась направить его на путь истинный и безуспешно вела борьбу, чтобы защитить его от него самого, воспоминание о собственном проступке всплывало в её сознании всё чаще и чаще, а вместе с ним — и мысль о том, что настанет день, когда ей за него придётся расплачиваться.
— Давай поразмыслим, — сказал Вуатюрье. — Если он не уезжал из деревни, как ты сама полагаешь, с ним ничего не могло произойти. Если бы произошло, мы бы уже знали.
— Я несколько раз слышала, как он говорит о Вуивре. Я знаю, что он думал о ней. Боюсь, как бы он ни попытался отнять у неё рубин. Вчера утром он причастился.
Вуатюрье вспылил ещё раз, возразив, что Вуивра — это ещё один вымысел клерикалов, предназначенный для того, чтобы смущать неразвитые умы. В конце концов он пообещал отправить людей на поиски, но счёл необходимым отметить, что проку от них не ожидает, и делает это только для того, чтобы успокоить переволновавшуюся женщину. Поскольку у него под рукой в этот момент был только один батрак, он дал ему поручение проверить на протяжении двух километров реку. Сам он отправился на велосипеде к сельскому полицейскому, которого рассчитывал послать на пруды. Ещё не успев отыскать полицейского, он наткнулся на Реквиема, который, сидя на краю канавы, обрывал лепестки ромашки. Вуатюрье слез с велосипеда и окликнул Реквиема, но тот, не поднимая головы, знаком попросил его ничего не говорить.
— Любит, немного любит, сильно любит, страстно любит. Страстно, вот как она меня любит. Я вот уже сто раз гадаю после того, как она ушла, и ромашка всегда отвечает, что она меня любит. Так что ты можешь себе представить, какой груз у меня на сердце. Говорить себе, что она там, в своём замке, гуляет, разумеется, по парку со своими красивыми собаками и, не переставая, думает обо мне, — это всё-таки тяжело.
— Рано или поздно она вернётся. Она придёт за тобой и заберёт тебя в свой замок, ей-Богу!
— Нет, Фостен, это невозможно. Её родители никогда не отдадут её за могильщика. В конце концов, ведь раз я могильщик, то чего уж там играть в прятки с самим собой. Вот к примеру. Ведь даже ты, если я попрошу у тебя дочку в жёны, и то, может, не захочешь отдать её мне.
Вместо ответа Вуатюрье неопределённо махнул рукой.
— Вот видишь, ты мне её не отдашь. А при этом, кто ты такой? Ну ясное дело, мэр коммуны, с деньжонками, с кое-каким состояньицем, приносящим доход. Всё так, но по сравнению с её родителями ты же просто ничто. А я, оттого что я могильщик, я ведь ещё меньше значу, чем ты.
— Ладно, я всё-таки хочу попросить тебя об одной услуге. Сегодня ночью Гюст Бейя не вернулся домой, к матери, и бедная женщина вбила себе в голову, что он погиб, пытаясь отнять рубин у Вуивры. Ты сам понимаешь, что такое бабьи домыслы, но когда она в таком состоянии, не откажешься ведь сходить и посмотреть.
— Если бы не его мать, — сказал Реквием, — то я бы, пожалуй, ещё и бутылку поставил за то, чтобы его, твоего Гюста Бейя, сожрали змеи. Я человек не злой, ты же меня знаешь, но такую свинью, как он, я похоронил бы с большим удовольствием. Ты не можешь себе представить, что он вчера у Жюде мне наговорил. Я, понимаешь ли, пришёл вчера в кафе просто так, для виду, можно сказать, мол, был в кафе. Ведь я же не пью.
— Я возвращаюсь к тому, что сказал: нужно пойти на пруд Шене и обойти его вокруг. А я ещё попрошу сейчас Арсена сходить на пруд Ну. Это совсем недалеко от него.
Дойдя до нового дома Юрбена, Вуатюрье увидел на опушке леса Мюзелье, занятых жатвой, и сообщил им, по какому делу пришёл. Жнецы оторвались от своего занятия и выслушали его. У Виктора опасения вдовы Бейя вызвали улыбку, и он заявил, что они совершенно необоснованны. Если человек не поспал дома одну-единственную ночь, ещё нельзя говорить о его исчезновении. Можно представить себе тысячу разных причин, помешавших ему вернуться, и обойтись без кумушкиных россказней. По этому поводу состоялся весьма оживлённый обмен мнениями, и даже Юрбен нашёл случай вставить несколько слов. Арсен своего мнения высказывать не стал, а только поддакивал то одному, то другому невнятными односложными восклицаниями. Поскольку эта скупость в словах была для него в общем обычна, то она никого не удивила. Кстати, он казался весьма спокойным. Лишь изредка можно было заметить, что взгляд его стального цвета глаз становится каким-то неподвижным.
— Поскольку я уже немало прошёл, добираясь до вашего дома, — сказал ему Вуатюрье, — я мог бы дойти и до самого пруда Ну, никого не беспокоя, но я там уже так давно не был, что не уверен, разберусь ли в тропинках.
На самом деле, все окрестности он знал как никто. Из-за своих муниципальных обязанностей он довольно часто посещал общинные леса и по нескольку раз в году бывал у этого пруда, а часть его даже сдавал в аренду для рыбной ловли. Однако его бегающий взгляд и искажённые страхом черты худого лица выдавали безумное волнение, которое он испытывал при одной только мысли об этой рискованной прогулке: он боялся встретить Вуивру, а ещё больше — встретить в одиночку посреди лесного безмолвия грозного Бога, хозяина судеб и искупления грехов. Арсену достаточно было бы сказать всего лишь слово, чтобы отправить вместо себя Юрбена, но он решил, что ему совсем не обязательно от чего-то уклоняться.
— Я провожу вас, — сказал он мэру. — Это пятиминутное дело.
Они добрались до пруда по той самой тропинке, по которой накануне, расставшись с Вуиврой, шёл Арсен. На берегу растительность была скудная, но её всё же хватало, чтобы скрыть от взгляда распростёртый труп человека. Арсен мог бы отдалить неприятный момент и подойти к тому месту, где разыгралась драма, обогнув пруд. Но он предпочёл, чтобы всё закончилось как можно скорее, и повёл Вуатюрье со стороны затвора шлюза. Между водой и лесом, в утренней прохладе, даже летом стояла весна. Вуатюрье, для которого всё теперь превратилось в символы, вздохнул, подумав о том, что на этом блаженном берегу, возможно, где-то лежит труп. Он видел вокруг яркие краски и цветение жизни, под покровом которых вызревала драма его вечного проклятия. С высоты шлюзового холмика Арсен сразу увидел Бейя, лежавшего под тем же кустом, где он сам лежал рядом с Вуиврой в первый раз, после того как на него напали змеи. Последние куски изрубленных косой рептилий исчезли несколько дней назад, унесённые сарычами, ястребами и прочими пожирателями падали. Вуатюрье ничего не видел. Щадя его и самого себя, Арсен ловко маневрировал между колючими кустами, так, чтобы тот до самого последнего момента не видел мертвеца. Вуатюрье заметил его только тогда, когда они находились от него уже не более чем в трёх шагах, и закричал от ужаса. Бейя, съёжившись, лежал на спине, прижав локти и колени к животу и обхватив руками свою грудную клетку. Объеденное лицо представляло собой бесформенную рану, откуда свисали клочья мяса и кусок уха. Неподвижные мухи объедались чёрной кровью, а груду плоти уже начала осваивать колония муравьёв. На двух кулаках, сжатых под подбородком, виднелись следы укусов, вокруг которых кожа оставалась вздутой и почерневшей. В нескольких шагах от мертвеца блестело лезвие его перочинного ножика: им он убил одну гадюку, и два обрубка её тела валялись чуть подальше. Арсену было нетрудно представить себе, как Бейя, уже поняв, что погибнет, тем не менее, несмотря на ожидавшую его отвратительную смерть, не отказался от борьбы, и перед тем как умереть, нашёл последнее утешение в уничтожении этой гадюки. Арсена больше взволновала мысль об этой борьбе, а не вид мертвеца.
— Боже мой, — воскликнул Вуатюрье, — какое неприятное зрелище, бедный парень. Надо сделать так, чтобы мать его не увидела. А то она больше никогда не будет спать по ночам.
Мужчины перекрестились и сняли фуражки. Арсен закрыл лицо Бейя своим носовым платком. Он попытался вытянуть ноги трупа, но они закоченели и не поддавались его усилиям. И Вуатюрье остановил его:
— Оставь его лежать, как он лежит. Пока его не осмотрели жандармы, ничего трогать не нужно. Я сейчас позвоню в Сенесьер.
— Жандармы этим заниматься не будут, — заметил Арсен. — Скажут просто, что Бейя напоролся на гадючье гнездо. Вот и всё.
— Неважно. Мне будет спокойнее, когда я их извещу. Нужно ещё сходить сообщить новость его матери. А потом — моей дочке.
Погибшего не следовало оставлять одного. Вуатюрье оставил Арсена на месте происшествия, а сам углубился в лес. Теперь он уже думал не о гневе божьем, а о неприятных обязанностях, какие ему предстояло исполнить, и о волнении среди своих подопечных, которое не преминет использовать в своих интересах священник. Эта потенциальная опасность уже горячила ему кровь. Пока он брёл по лесу, его потусторонние тревоги оказались отодвинуты на задний план угрозой клерикальных происков, и сам Бог выглядел теперь всего лишь одним из высших чинов на иерархической лестнице реакционной клики.
Оставшись наедине с останками Бейя, Арсен без всякого лицемерия помолился за упокой его души. Нельзя сказать, чтобы у Арсена не возникала мысль о том, что он оказался соучастником рока. Он не скрывал от себя, что сам проложил несчастному Бейя путь, который должен был привести того к смерти, но его полностью успокаивало сознание, что он никого не обманул. За два дня до их похода он, проявив особую щепетильность, даже сказал Бейя: «Если ты погибнешь, меня это устроит. Я посватаюсь к дочке Вуатюрье». Тот только рассмеялся. Что ж, это уже его дело.
После того как Арсен прочёл молитву, он, глядя на несчастное изувеченное тело, попытался представить себе, что происходит с Бейя в потустороннем мире. Но эти его попытки зашли не слишком далеко. Он тут же мысленно признался себе, что душа умершего ему безразлична. Если Бейя утратил и желание и возможности бегать за девицами, если мысли у него теперь не заняты приобретением кафе в городе, покупкой костюмов, то что, в сущности, от него осталось? Себя же, подпитывая своё воображение благочестивыми образами, Арсен видел в раю, одетым в тогу с пышными складками и прогуливающимся с цветком в руке. Он искал на небесных нивах уголок, который можно было бы обработать, но ангелы говорили ему — нет, с добыванием хлеба в поте лица своего покончено. И от этого рай был похож на какую-то плешивую лужайку, испачканную серым светом, которая в конце концов погружалась в океан бесцветной вечности.
— Арсен! — позвала его Вуивра, подойдя сзади с неуверенной, очень женственной улыбкой, которую он ещё никогда у неё не видел и которая привела его в ярость.
— Что ты здесь шастаешь? — спросил он её суровым голосом.
— Ты на меня сердишься, — сказала Вуивра, разглядывая труп, — но я тут ни при чём. Не могла же я знать, что он сидел здесь, затаившись, готовый броситься за моим рубином. Возможно, это один из твоих друзей? И я понимаю, что ты переживаешь.
— Дело не в этом, — прервал её Арсен.
— Ну а тогда почему ты на меня сердишься?
Он не смог бы ответить на этот вопрос. Во всяком случае, за смерть Бейя он на неё нисколько не сердился. Просто некий образ, который сам по себе ничего не объяснял, соединился в его сознании с гневом и отвращением от её присутствия. Это был образ той четы, какую он и она составляли накануне, когда они бродили вдвоём по сухим камышам.
— Убирайся отсюда, да поскорее, — сказал он более спокойно. — Сейчас сюда придут люди. Если нас увидят вместе рядом с трупом, подумают невесть что.
Вуивра согласилась удалиться. Она понимала, что Арсен, которому не дана вечность, вынужден считаться с мнением людей, с которыми ему нужно было жить. Она только спросила у него, встретятся ли они в ближайшее время. С трудом сдерживаясь, чтобы не торопить её, он ответил, что да, разумеется. Едва она успела отойти от него, как появился Виктор, которого предупредил Вуатюрье. Он заявил, что хочет удостовериться, действительно ли это труп Бейя, хотя на самом деле у него не было на этот счёт никаких сомнений, и он тщательно, одно за другим, отмёл возражения, которые выдвинул самому себе. Потом, приподняв платок, прикрывавший лицо мертвеца, заметил:
— Что-то я никогда не видел, чтобы змеи могли сожрать человека. То, что его ужалили гадюки, вполне возможно, но то, что он умер на месте — это уже совсем другое дело. Может, его просто кто-нибудь убил. В чаще леса, шито-крыто, и если кто-то стукнул его в лицо, то поди теперь разберись. А ночью пришли крысы и наполовину голову сожрали. Во всяком случае, я не вижу, как тут может быть замешана Вуивра.
Арсен не без удовлетворения выслушивал рассуждения брата, далёкие от истинного смысла событий. Почувствовав, что Виктору не терпится услышать его мнение, он ответил ничего не значащей фразой:
— Всегда можно вообразить что угодно.
— Разумеется, — возразил Виктор с высокомерной иронией. — Тот, кто ни о чём не думает, не рискует и обмануться.
Он выдвигал одну гипотезу за другой, все исключавшие вмешательство Вуивры. Некоторые из них были хитроумно закручены и, видя, что младший брат не собирается уделять им того внимания, какого они заслуживали, он в конце концов спросил, верит ли он в существование Вуивры и в басню про рубин или нет. У Арсена раздражённо сорвалось с языка:
— Я видел её.
Виктор, полный недоверия и тоже раздражённый, забросал брата вопросами:
— Когда, где и как? Ты ничего не говорил об этом. Ещё вчера при священнике ты не проронил ни слова.
Арсен, уже жалея, что проговорился, отвечал хмуро и односложно:
— Да, нет, не твоё дело, это касается только меня…
— Теперь понятно, — сказал Виктор. — Ты похож на Реквиема и всех прочих, кто хвастается, что видел её. Прошла какая-нибудь незнакомая девица, а ты вдруг решил, что это Вуивра. Это как если бы я встретил какую-нибудь нездешнюю собаку, датского дога, например, или борзую, и вообразил бы, что видел чудовище Фарамину. Доказательство…
— Ты прав, — прервал его Арсен, — Вуивра — это всё россказни. Но только хватит об этом. Ты мне уже все уши прожужжал.
— Ах так, может, мне ещё и фуражку снять, когда я с тобой разговариваю?
— Плевать мне и на твою фуражку, и на то, что находится под ней. Чего я хочу, так это, чтобы ты оставил меня в покое.
С того дня, когда Виктор налетел во дворе на Арсена, вернувшегося домой с дольской ярмарки, братья старались никоим образом не обнаруживать чувств, которые они испытывали друг к другу, и внешне в их взаимоотношениях ничего не изменилось. Но погасить недоверие и враждебность, вспыхнувшие между ними в той короткой стычке, им не удалось. Подчас этот разлад проявлялся в случайно брошенном взгляде то одного, то другого. Порой о нём напоминало молчание Арсена в тот момент, когда брат рассчитывал с его стороны на какой-то интерес к своим словам. Или желание Виктора нарочито подчеркнуть какую-нибудь мысль, которая, он знал заранее, окажется не по нутру младшему брату. Луиза, задолго до них самих догадавшаяся об изначальном антагонизме, разделявшем её сыновей, и не доверявшая видимому спокойствию их взаимоотношений, всё же надеялась, что чувство семейственности и общая работа не позволит этой их несовместимости превратиться во вражду.
— Скажи уж лучше, что ты меня теперь вообще не выносишь, — бушевал Виктор.
Арсен ничего не ответил. Вот уже несколько дней общество брата его и в самом деле тяготило. Его раздражал даже голос Виктора. Но больше всего злил тон высказываний брата, то назидательный, как у знающего себе цену мудреца, то визгливый, как у шавки. Выведенный из себя молчанием брата, Виктор вцепился большим и указательным пальцами в рукав его рубашки.
— Послушай, я всё-таки имею право, чтобы ты относился ко мне не так, как к первому встречному мальчишке… Нет, послушай всё-таки…
Арсен резко вырвался, а когда брат попытался опять схватить его, ударил того по руке. Виктор непроизвольно вскинул руки ему на плечи, и защитный рефлекс заставил Арсена сделать то же самое. Они стояли, выгнув спины, упёршись друг в друга, словно два барана, стараясь заставить противника попятиться назад, и в этот момент их борьба ещё могла сойти за игру. Силы у них были примерно равны, но у Виктора, который был выше ростом, руки оказались длиннее, и это давало ему некоторое преимущество, позволяя ловчее ухватиться за брата. Арсен, стремясь компенсировать недостаток роста, слегка привстал на цыпочки. В ту секунду, когда он сильно напрягся, Виктор внезапно отпустил его и отскочил в сторону. Арсен, оказавшийся перед пустотой, по инерции полетел вперёд, чуть было не врезавшись носом в землю, и только с помощью довольно комичных телодвижений ему удалось восстановить равновесие. Разъярённый, он опять бросился на Виктора и схватил его обеими руками. На этот раз они уже пустили в ход весь арсенал доступных им средств. Хотя помня о своём кровном родстве, они всё же старались не переступать определённую границу приличий и избегали наносить друг другу удары. Оба, сцепившись, упали и покатились по земле, да так, что в конце концов задели ноги Бейя. Из уважения к покойнику братья прекратили схватку и, немного смущённые, встали на ноги. Потасовка помогла им снять нервное напряжение, но ни один из них не хотел произнести слово, которое означало бы, что он готов на мировую. Виктор отошёл от Арсена и направился навстречу сельскому полицейскому, показавшемуся на верхней площадке шлюза. Оставшись в одиночестве, Арсен стал подумывать о том, чтобы, никого больше не дожидаясь, вернуться к себе на жатву. Он всё ещё раздумывал, прикидывая, чем он обязан Бейя, когда шагах в тридцати от себя увидел вышедшую из леса Белетту. Сообщённая Вуатюрье новость застала её скорее всего на лугу, где Белетта пасла коров. Ослеплённая после лесного сумрака ярким утренним светом, она пыталась понять, где находится. Арсен выбежал ей навстречу и попытался прогнать её, заставить уйти обратно в лес, прежде чем она заметит труп. Она отбивалась и протестовала:
— Пусти меня, Боже ты мой, ну пусти же меня. Я хочу видеть его. Я пришла для того, чтобы посмотреть на него.
— Успокойся. Это зрелище не для девочек. Давай, пошли.
— А это правда, что у него съедено лицо? Я хочу только взглянуть, ну разреши мне, только минутку.
Дрожащая от нетерпения, с глазами, полными хищного любопытства, она пыталась вырваться.
— Восемью девять? — спросил Арсен.
— Ты мне осточертел. Ты никогда не хочешь того, чего хочу я.
Он засмеялся и на ходу обнял её за шею. Всё ещё дуясь, Белетта оттолкнула его плечом.
Тут же забыв про лежащий на берегу пруда труп, она принялась хохотать и беспечно болтать. Они неспешно шли по лесу, в шутку ссорясь, притворяясь, будто заблудились и ищут дорогу, стряхивая друг другу на голову росу с нижних веток или подражая пению кукушки. Арсен ощущая неведомую ему прежде лёгкость. Ему казалось, что он пьёт радость и свежесть утреннего леса, и его серые глаза блестели, будто две капельки росы. Чтобы пересечь заросли высокого папоротника, где Белетта могла бы промокнуть до пояса, он посадил её к себе на плечи. Потом она не захотела с него слезать и, зацепив пальцами с двух сторон его губы, стала управлять им, как настоящей лошадью. Выйдя из леса к Старой Вевре, они смеялись так громко, что Белетте понадобилось ещё какое-то время, чтобы немного испугаться, когда у неё возникла мысль о том, что мертвец, возможно, всё ещё слышит их.
17
Когда священник въехал на своём драндулете во двор Вуатюрье, мэр всё ещё беседовал с сенесьерскими жандармами, которые придерживали стоявшие рядом с ними велосипеды. Дознание они проводили добросовестно и не без проницательности. После осмотра трупа они уже не могли сомневаться в том, что Бейя стал жертвой нападения змей. Многочисленные укусы, следы которых остались на теле, в достаточной степени подтверждали это. Однако они всё же собирались обратиться к сенесьерскому врачу, чтобы тот провёл дополнительный осмотр. Озадачивало их то обстоятельство, что бумажник покойного был совершенно пуст, тогда как накануне, когда Бейя уходил от Жюде и расплачивался за выпитое, в нём было несколько стофранковых бумажек. В этом пункте показания Жюде и посетителей его кафе совпадали. Они обратили внимание на поступки и поведение Бейя после его размолвки с Реквиемом, который не переставал поносить его до тех пор, пока тот не вышел из кафе. Следовательно, не исключено, что имело место ограбление, в ко тором уже никак нельзя было обвинить гадюк. И ещё жандармы не могли понять, зачем Бейя забрался в столь отдалённый угол леса. Не менее странным они сочли и то, что в воскресный день он ушёл из дома без пиджака и в матерчатых туфлях. Мало того, что подобная неряшливость шла вразрез с обычаями, следствие к тому же установило, что погибший всегда стремился одеваться элегантно и по воскресеньям никогда не выходил из дома в таком наряде. Жителям Во-ле-Девера не составило бы труда объяснить, почему он отправился на пруд Ну, почему оказался без пиджака и почему надел матерчатые туфли, но на протяжении всего расследования жандармы ни разу не услышали имя Вуивры. Капрал был южанином и уже одного только акцента, выдававшего его происхождение, хватило бы на то, чтобы отбить у местных жителей всякую охоту говорить с ним о Вуивре. Впрочем, и его подчинённый, некто Бадио, хотя и был уроженцем Юры, всё равно узнал бы не больше, даже в том случае, если бы занимался расследованием в одиночку, так как крестьяне инстинктивно понимали, что в мире агента конной полиции такому персонажу, как Вуивра, места не найдётся. Узнав о ссоре Бейя с могильщиком и об угрозах последнего в его адрес, жандармы стали было выяснять, чем занимался накануне Реквием, но оказалось, что тот ушёл из кафе Жюде только в десять часов вечера, причём безбожно пьяный.
— Мне кажется, — сказал капрал-южанин, обращаясь к Вуатюрье, — тут замешана шлюха.
Вуатюрье, которому было совсем не до смеха, не смог, однако, сдержать улыбки, когда услышал, как тот произносит слова. Ему показалось, что он попал на какой-то спектакль. Ну как вообще можно говорить с таким акцентом? И со всей медлительностью юрского диалекта, коробившего капрала, который мог бы за это время пересказать на память четырнадцать статей уголовного кодекса, Вуатюрье ответил:
— Да, чёрт побери, разумеется, в этом не было бы ничего удивительного.
— Взяла да и назначила ему свидание, — продолжал капрал, — назначила, дрянь, свидание там, где было хорошо известное ей гадючье гнездо, толкнула его туда, а когда змеи закусали Бейя насмерть, шасть к нему в карман, взяла денежки да и была такова.
— Вот-вот! В этом тоже не было бы ничего невероятного.
Священник прислонил свой велосипед к стене риги. От группы жандармов отделилась и пошла ему навстречу Роза Вуатюрье.
Она только что плакала, и глаза у неё были покрасневшие, лицо, худое и одутловатое одновременно, казалось уставшим и побитым, а большое, но недостаточно упитанное тело сутулилось больше обычного. Священник разглядывал её со своего рода апостолическим вожделением. Две любовные драмы меньше чем за один год, то есть, можно сказать, два разорения, да ещё чреватые последствиями для будущего, — это уже хорошая закваска. Теперь, чтобы вернуть к Господу и алтарю забывчивую овцу, оставалось только месить тесто. Священник выразил ей соболезнование. Это было мучительное испытание, и её доля оказалась не из лёгких.
— Ах, господин священник, как же мне не везёт, — сказала она слишком откровенно.
— Дитя моё, мы часто говорим о нашем везении, не думая о том, что Господь располагает событиями, чтобы отвечать ими на наши молитвы и дела.
— От молитв Господу у меня лицо не станет красивым и фигура не улучшится. А ведь если бы я не была такой уродиной, Гюсту Бейя и в голову не пришло бы идти в лес, чтобы бегать там за Вуиврой.
— То, что Господь отнимает с одной стороны, он прибавляет с другой, и если он не наделил вас красотой, то это потому, что приберёг для вас…
Однако священник напрасно терял время. Розе хотелось найти себе мужа, и она твёрдо знала, что в охоте на мужчин дух благочестия ценится куда как меньше, чем пригожее лицо и ладная фигура. Между тем жандармы уже прощались с Вуатюрье. Перед тем как отправиться к себе в Сенесьер, капрал подошёл к священнику и извинился за то, что должен задать ему один вопрос.
— Я тут только что узнал, что Бейя вчера утром причастился, хотя не делал этого уже много лет. Не думаете ли вы, что он принял причастие, поскольку считал, что подвергается какой-то опасности?
Священник был не прочь напустить на себя важности, и, сделав вид, будто ему что-то известно, сослался на тайну исповеди, хотя об исповеди Бейя у него не осталось никаких особых воспоминаний.
— Я не имею права отвечать вам.
Капрал не стал настаивать и удалился вместе со своим коллегой.
— Ну вот, господин священник, — сказал Вуатюрье, — в нашей коммуне случилось весьма печальное событие.
— Да, господин мэр, весьма печальное и воистину тревожное. Весь приход просто взбудоражен.
Одним словом «приход» священник уже определил своё отношение к происходящему. Вуатюрье сразу понял это, но бесстрастно ответил:
— Придётся, конечно, быть повнимательнее. В этом году изобилие гадюк. С такой жарой, какая сейчас стоит, оно и неудивительно. Я припоминаю, дед рассказывал мне, что гадючьи годы повторяются каждые двадцать пять лет.
— Возможно. Во всяком случае, могу заверить вас, господин мэр, что для паствы речь здесь идёт не просто о несчастном случае. Все только о Вуивре и говорят. И я не по слухам знаю о настроении людей. Многие из них, похоже, очень напуганы или, точнее говоря, находятся в подавленном состоянии. Ощущая угрозу, которая их гнетёт, люди вопрошают собственную совесть и получают от неё ответ, о котором догадывались уже и раньше.
Священник преувеличивал. Узнав о смерти Бейя, он прошёл всю деревню, чтобы прощупать общественное мнение и намеренно подтолкнуть прихожан на определённую реакцию, но те в очередной раз обманули его ожидания. В массе своей они верили, что Бейя погиб из-за того, что пытался похитить рубин, и их не могла не волновать трагическая гибель одного из земляков. Большинство видело во всей этой истории и перст Божий, и когти сатаны, однако у них не было гнетущего ощущения опасности. «Никто никого не заставлял, — говорили они, — гоняться по лесам за рубином. Кто ищет опасность, тот её и находит». Во время своего «обхода» кюре старался растолковать прихожанам, какую власть имеет бес над бедными душами, всегда готовыми поддаться соблазну. Ему внимали, соглашались с ним, что так оно и есть, а родители не могли не содрогаться при мысли о своих сыновьях. Но с искушением рубином дело обстояло точно так же, как и с прочими опасными искушениями, такими, как чужое добро, как девицы лёгкого поведения, и каждый оставался свободен в своём поведении. Священник, с трудом сдерживая ярость, снова и снова убеждался, что у этих людей никакого страха божьего нет и в помине. Все повторяли ему одно и то же. С Вуиврой они, мол, уже и свыклись, и примирились. В практическом плане они приноровились к ней с неоспоримым благоразумием, отвечающим духу христианской догмы, что как раз больше всего и злило его. А с другой стороны, они поместили свою уверенность в существовании Вуивры в герметично закрытый отсек сознания, туда, где можно было не опасаться вспышки религиозной лихорадки, причём всё это с той же лёгкостью, с какой прошлые поколения примиряли в ином порядке суеверия и религию. Так что ему нечего было и ожидать от этих крестьян. Мистического настроя им не хватало, вот в чём дело. Впрочем, к идее крестного хода они отнеслись без враждебности. Хотя нельзя сказать, чтобы они испытывали от неё восторг. В разгар жатвы у них были дела куда более важные. В сущности, священнику удалось напугать и вдохновить только нескольких старых дев, нескольких больных да ещё кого-то из деревенских дурачков, то есть тех, кого он считал отбросами прихода.
— Вуивра, — произнёс Вуатюрье с наигранным спокойствием, — это не больше, чем вздор. Ведь вы, господин священник, так же, как и я, не видели её, ведь нет?
— Разумеется, нет, — автоматически ответил священник без малейшего угрызения совести, так как, хоть истина и является истиной, брать на себя смелость отстаивать перед представителем государственной власти то, что ни в коем случае не получит одобрения епископа, он не мог.
— Ну а раз никакой Вуивры не существует, — продолжил Вуатюрье, — то лучше всего оставить её в покое и не ломать себе голову.
Слыша, с каким безмятежным спокойствием Вуатюрье это говорит, священник и не догадывался, что Вуатюрье оказался единственным жителем Во-ле-Девера, в душе которого смерть Бейя породила религиозное исступление.
— Возможно, господин мэр, вы и правы, но ведь не мне объяснять вам, что иногда лучше считаться и с мнением людей. Если не принимать во внимание их волю, то можно вызвать бурю, от которой, как мне кажется, ничего хорошего не будет.
— Их воля? И чего же они хотят, эти люди?
— Они заняты мыслями о крестном ходе, и мысль об этом пришла к ним совершенно естественно. Они просто следуют логике своих убеждений, связанных с Вуиврой.
Вуатюрье слишком хорошо понимал его. Он возражал ему с тяжёлым чувством, говоря, что не хочет потворствовать суеверию.
— Дело вовсе не в этом, — возразил священник. — Если люди требуют крестного хода, я не могу им отказать, потому что не могу утверждать, что никакой Вуивры не существует. В конце концов, факты внушают тревогу, а людей, видевших эту тварь, более чем достаточно. Так что вопрос сводится к тому, возьмёте ли вы на себя ответственность запретить эту церемонию вопреки воле ваших подопечных.
— Моя ответственность… По-моему, тут и вы тоже несёте какую-то ответственность. Вы-то сами согласовали ваши действия с церковными властями? Для меня это тоже имеет значение. А то знаю я их, этих ваших хитрецов. Если что случится, они выйдут сухими из воды, а всё свалят на меня.
Вуатюрье попал в самую точку. Священника и самого несколько волновало, что об этом подумают в епископате. Тем не менее, он притворился, будто не понимает, о чём идёт речь.
— Вы вот строите здесь из себя невинного, господин священник, но сами-то прекрасно понимаете, что я имею в виду. Крёстный ход против Вуивры — это же весь департамент будет смеяться, если о нём станет известно. А станет известно непременно. И вот в этот момент, если вы будете действовать без ведома ваших полковников в сутанах, они про вас просто скажут, что у вас от старости ум заехал за разум. А обвинят меня, заявят, что это я всё устроил, станут рассказывать обо мне всякие истории. Уж я-то их знаю.
— Я мог бы вам ответить, что эти предположения ни на чём не основаны и несправедливы, но прежде всего хочу вас успокоить. Поверьте, мне никогда и в голову бы не пришло устраивать крестный ход, не согласовав это предприятие с епископом. Я даже намереваюсь отправиться туда на поезде как раз завтра утром.
По правде говоря, священник был крайне раздосадован высказанным Вуатюрье возражением. Он рассчитывал обойтись без разрешения епископата, чтобы потом задним числом сослаться на то, что он был вынужден сымпровизировать крестный ход под давлением верующих.
Роза поехала на велосипеде к матери Бейя, мужчины заговорили о доме священника, и тут к ним подошёл Реквием.
— Фостен, — начал он, — нужно, чтобы коммуна дала мне взаймы двести франков. К концу недели я верну их.
— Коммуне не до того, чтобы одалживать деньги. Ей впору самой просить взаймы.
— На одну неделю, говорю тебе. Да и недели даже не пройдёт, как он будет у меня, этот рубин Вуивры. А коммуне я верну то, что она дала мне взаймы, в десятикратном размере. И как только рубин будет у меня в кармане, по крайней мере больше ни у какого Бейя паршивые гадюки морду не сожрут.
Представив себе, как новый труп наводит панику на Во-ле-Девер, священник не смог удержаться от чувства симпатии, которое промелькнуло в его взгляде, брошенном на Реквиема, но Вуатюрье пришёл в ярость и принялся браниться своим тонким пронзительным голосом.
— Ах ты, олух царя небесного, ах ты, дурья голова! Ещё только тебя тут не хватало, чтобы рассказывать мне истории о Вуивре! Вот она где у меня сидит, эта твоя Вуивра! И начать с того, что она не существует. Нет её, понимаешь? Ты, осёл о двух копытах, подумай, очень мне надо, чтобы она и тебя скормила своим змеям! Ты что, всё ещё не понял, что с ней бесполезно пытаться что-то предпринимать? Бесполезно, говорю я тебе! И сделай мне удовольствие, успокойся. Я запрещаю тебе заниматься Вуиврой. Проваливай от меня куда подальше! Иди вон рой могилу Гюсту Бейя! Это поставит тебе мозги на место.
Кюре нагнал Реквиема на дороге и прошёлся немного вместе с ним.
— Я на Фостена не в обиде, — сказал Реквием. — Сегодня он, конечно, такой, потому что переживает. Но думать-то всегда надо.
— Господин Вуатюрье прав. Вам не стоит подвергаться слишком явной опасности.
— Ну да, я ничего не говорю, это опасно.
— Да-да, — продолжил священник, — я разделяю мнение господина Вуатюрье, что, впрочем, не мешает мне по достоинству оценить мотивы, которые подсказали вам ваше решение. Стремление оградить нашу молодёжь от судьбы, постигшей этого бедного Бейя — это отважная и благородная мысль! Воистину, друг мой, такие идеи рождаются только в благородных душах!
— Да, — заметил Реквием, — и это ещё при том, что я бываю сейчас в церкви разве что по случаю похорон… Так-то, господин священник, к тому, кто сумеет расположить меня к себе, тому от меня толк будет. Она вот как раз умела расположить меня. Она, вы же понимаете, это мадонна, настоящая райская принцесса. Но только в жизни иногда получается так, что приходится иметь дело с людьми невоспитанными. С такими, как всякие Бейя. Вы мне скажете, что Бейя — это вообще пустое место. Конечно.
— Поостережёмся выносить чересчур скорые суждения. Одному Господу дано читать в сердцах наших.
— Ну ещё бы! И всё-таки, что ни говори, а Бейя был свиньёй. Начать с того, что у меня с ним не могло быть согласия. Он ведь пил.
Оставшуюся часть дня священник тоже провёл в деревне, стараясь выпестовать в умах идею крестного хода, но блестящих успехов в этом предприятии не добился. На следующий день он сел утром на поезд, и сразу после полудня явился в епископат вместе с каноником Галлье. Он был не так прост, чтобы пойти и выложить сразу церковным чиновникам, что видел Вуивру и что в Во-ле-Девере поселился дьявол, ибо в этом случае они расхохотались бы прямо ему в лицо. Сначала он намеревался представить дело в виде борьбы за влияние между приходом и мэрией, борьбы, вспыхнувшей из-за некоего сказочного создания и чреватой последствиями для интересов веры. К счастью для кюре и для его замыслов, в пути к нему присоединился каноник Галлье, бывший его однокашник по безансонской семинарии, возглавлявший теперь приход в Полиньи. Каноник, который много лет проработал в епископате и пока ещё считался там немного своим, сжалился над сельской наивностью своего товарища. Он попытался разъяснить ему, что этим господам нет ни малейшего дела до того, чтобы обеспечить успех какому-то деревенскому священнику в его борьбе с мэром-радикалом, даже если бы в итоге ему удалось привести к причастию несколько десятков крестьян. На уровне коммуны радикалы, пожалуй, и в самом деле порой выглядят непримиримыми врагами. Для епископата же, где люди смотрят шире, радикалы остаются превосходными, крепкими католиками, чьи янсенистские тенденции давно захирели из-за любви к деньгам. Это именно они поставляют церкви её передовые отряды, которые перемалывают и растворяют все противящиеся власти церкви субстанции. Их задача состоит ещё и в том, чтобы распространять в немного развязной, немного схематичной, но лёгкой для усвоения форме духовные ценности католицизма, которые без их участия превратились бы в предмет пустопорожней конфиденциальной болтовни старых дам из высшего света и благочестивых девочек. Мир меняется, но у нашей святой матери церкви не переводятся монахи-проповедники, которых она вербует из среды оптовых бакалейщиков, честолюбивых адвокатов и преподавателей-вольтерьянцев. Священник из Во-ле-Девера понял из этих объяснений не слишком много, но всё же доверился своему бывшему однокашнику, чтобы тот представил в епископате его ходатайство. Каноник Галлье выполнил поручение с надлежащим тактом и обаятельным юмором. Вместо того чтобы всполошить главного викария мелкой политической ссорой, он поведал ему восхитительную историю о неком сказочном чудовище, благоухавшую сельской живописностью, юрским фольклором и наивной, крепкой верой. Слушая его, можно было подумать, что этот крестный ход станет чем-то вроде иллюстрации к какому-нибудь стихотворению Овидия. Погрузившись в литературу, очарованный викарий цитировал своих любимых латинских авторов и с нежностью говорил о том, как, питаемые древними языческими соками, на христианской почве вырастают изысканнейшие цветы.
Присутствовавший при этой беседе во-ле-деверский священник, когда соизволили заметить его присутствие и предложили ему высказаться, едва не испортил всё дело, начав рассказывать про брюзгу-Вуатюрье. Главный викарий, почуяв неладное, забеспокоился, и канонику Галлье стоило большого труда сгладить неприятное впечатление от неосторожных речей своего однокашника. В конце концов ему разрешили провести крестный ход по согласованию с мэром коммуны в один из религиозных праздников, к примеру, 15 августа, что позволило бы в случае чего задним числом посвятить его Пресвятой Деве и отрицать какую-либо причастность Вуивры к этому делу.
18
Не успела закончиться жатва, а Юрбена уже было не удержать на ферме. По десять раз на день он удирал к себе домой, где ему случалось даже забывать об ожидавшей его работе. Покинув конюшню, он перенёс к себе все свои пожитки, сложил их в одной из пустых комнат без пола и потолка, и спал там, не раздеваясь, на скверном тюфяке. Во время еды старик вёл себя как нетерпеливый ребёнок, спешащий встать из-за стола, чтобы пойти поиграть, и уходил, даже не успев как следует поесть. Это отсутствие прилежности в работе, столь удивительное в человеке, который вот уже тридцать лет находил в ней смысл жизни, тотчас стала ощущаться на ферме, причём не столько в самой уборке урожая, сколько в разных крупных и мелких делах по дому, за которыми он следил тщательнее чем кто-либо другой. Теперь все заметили, какое место он занимал в доме. Виктор несколько раз проявлял недовольство. В разговорах с домочадцами он настойчиво высказывал мнение, что все рассчитывали на помощь Юрбена до самого конца осени, а теперь вот окажутся в затруднительном положении из-за того, что по собственной глупости слишком рано построили ему дом. Это послужило поводом для перебранки между братьями. К счастью, Луиза всегда оказывалась поблизости и ей удавалось утихомирить сыновей.
В разгар жатвы у Луизы было слишком много дел, чтобы заниматься обустройством дома Юрбена, да и невозможно было пока ещё к этому приступить, так как каменщик и столяр только-только начали заниматься внутренней отделкой дома. Вдохновляемая чувством дружбы, она часто думала о том, как ей будет приятно подобающим образом обставить жилище Юрбена и как она сама будет в некотором роде царить в домашнем хозяйстве этого одинокого мужчины. Занимаясь своими делами, она откладывала для старика, то и дело совершая насилие над собственной скупостью, кухонную утварь, простыни, тряпки или семена для огорода. Однажды она, задержав его на кухне, предложила ему свободу, начиная уже с первого сентября. Он засомневался и, не смея принять предложение, что-то забормотал, стал что-то возражать.
— Нельзя сказать, что мы не почувствуем вашего отсутствия в доме, — сказала Луиза. — Если честно спросить себя, то нам, конечно, не хочется, чтобы вы так быстро уходили. Но когда живёшь одной жизнью, не можешь одновременно жить другой. А теперь все ваши мысли уже там, в доме, который вы построили. Когда вместе живут несколько человек, то тогда, даже если кто из них и уйдёт, оставшиеся примутся за работу засучив рукава, и в конце концов доделают всё до конца. А вы, Юрбен, вы один, и если вы не сделаете какой-нибудь работы, то её никто за вас не сделает.
— Но зато когда человек совсем один, — возразил Юрбен, — то ему некуда торопиться.
— Торопиться-то некуда, но для каждого дела свой срок, и то, что упустишь, потом не наверстаешь. А работы у вас в доме столько же, сколько и в нашем. И первого сентября вам самое время приступить к ней. Для пользы дела лучше начинать его раньше, чем позже.
Старик принял дар без угрызений совести. Его новая жизнь шла, изумляя его на каждом шагу, и перед ним открывались всё новые зори. В ожидании момента, когда она сможет заняться на досуге обустройством его жилья, Луиза стала оборудовать для нового дома Юрбена кровать, причём не складную, как в конюшне, а настоящую деревянную кровать, на которой не стыдно будет и умирать. Как-то в четверг после обеда Арсен взялся перевезти к нему в ручной тележке постельные принадлежности. Старик побежал к себе домой, чтобы встретить его, приготовив ему сюрприз, бутылку вина за восемь франков, купленную утром у Жюде. Он также решил воспользоваться случаем, чтобы сказать ему то, что ещё с воскресенья, когда был построен дом, переполняло его благодарное сердце и всё никак не могло вылиться наружу. Но когда вино было уже в стаканах, он опять не нашёл в себе смелости дать волю словам. В Арсене совсем не чувствовалось той задушевности, к которой располагали место и время. Лицо у него как всегда было серьёзным, со сжатыми, словно от сосредоточенной мысли, губами и выражало что-то вроде холодного безразличия, а в позе проглядывала даже какая-то лёгкая агрессивность. Речь его была медлительной и немногословной, а отчуждённый взгляд маленьких серых глаз, казалось, смотрел не на предмет, на который был направлен, а куда-то за него.
— Ну, выпьешь ещё стаканчик?
— Нет, Юрбен, спасибо. Я не ломаюсь, и вино хорошее, но это было бы уже лишнее.
Если бы эти простые слова произнёс кто-то другой, они воспринимались бы как вежливый отказ, предполагающий, что будет предложено ещё раз. Но в устах Арсена они прозвучали так решительно, что настаивать было бесполезно. Оставалось только подняться из-за стола и идти. На улице стояла жара, дорога таяла в лучах августовского солнца, и воздух над соломенными и черепичными крышами был раскалён. Люди стремились подольше задержаться в прохладных кухнях, животные оставались в хлеву, и потому поля были ещё пустынны. Арсен ухватился было за ручки тележки, но тут же выпустил их и отдал Юрбену. Он увидел, как у куста за новым домом появилась Вуивра. Старик пошёл на ферму, а Арсен направился к ней. Она стояла в короткой тени от живой изгороди. Вуивра поджидала его с приветливой улыбкой, которая, однако, исчезла как только она разглядела выражение его лица, бледного, перекосившегося от гнева, который делал его почти безобразным. Он приближался к ней, не говоря ни слова и глядя ей прямо в глаза. Подойдя вплотную, он закрыл ей лицо ладонью подобно тому, как затыкают пасть собаке, чтобы она не лаяла, и принялся трясти её и обзывать:
— Воровка. Падаль. Дрянь.
Он держал её на расстоянии вытянутой руки, а она из-под заткнувшей ей рот ладони пыталась протестовать, с трудом выговаривая отдельные слова и неловко отбиваясь. Ярость Арсена, казалось, всё возрастала, он продолжал трясти её и ругать сдавленным голосом. Воровка. Стервятница. Изловчившись, она вцепилась в его ладонь зубами, и начала сжимать челюсти. Арсен, задыхаясь, продолжал поносить Вуивру ещё более рассерженным голосом, но от боли был вынужден выпустить её. Они стояли лицом к лицу, уронив руки, и смотрели друг на друга, как два бульдога.
— Что с тобой? Может быть, ты потрудишься объяснить мне всё это, — спросила она холодно, и в её зелёных глазах появился тот самый блеск раскалённого добела металла, который он однажды уже видел у неё.
— Это ты украла у Бейя его деньги.
— Бейя? Что это такое? — спросила она.
— Бейя — это тот парень, которого сожрали твои гадюки. Когда он умер, ты не постеснялась вывернуть ему карманы и украсть у него деньги. Дрянь.
— Так вот, оказывается, в чём дело. Как ты говоришь, я обокрала Бейя. Ну и что? Я сделала только то, что в таких случаях делаю всегда. Эти деньги иногда бывают мне нужны для того, чтобы съездить куда-то на поезде или купить себе какие-нибудь тряпки — развлечение на пару дней. Я, право, совсем не понимаю, чего мне стесняться.
— Вот потому-то и не понимаешь, что ты просто стерва и воровка.
Он стоял, нахохлившись, словно собираясь наброситься на неё опять. Вуивра посмотрела на него с жалостью. Этот взгляд смутил Арсена и немного остудил его гнев.
— А даже если воровка, как ты говоришь. Для меня ни эти слова, ни само это понятие ничего не значат. Ведь я свободна, свободна так, как ни один из вас даже в мыслях не может быть свободным. Мне не нужно бояться ни смерти, ни жандармов, не нужно ни с кем ничего делить, не нужно согласовывать мои права с правами равных мне существ, потому что я одинока. Я брожу по равнинам и горам, и мне нет до вас дела, и когда мне случается встретить кого-либо из вас, то я вовсе не обязана разбираться в ваших различиях между «твоим» и «моим».
— Всё это так, одни разглагольствования, — сказал Арсен. — Никто не имеет права воровать, и ты тоже.
— Какой ты всё-таки скучный, Арсен. Ты всё меряешь своей ничтожной меркой приговорённого к смерти. Вы живёте во времени, а у меня нет ни начала ни конца, я существую вечно. Ваши мелкие делишки имеют для меня не большее значение, чем ваши мелкие личности. Ну вот, скажем, я в тебя влюбилась, но как бы ни развивались события, от этого всё равно ничего не останется. Многие годы спустя после того, как твой скелет превратится в прах, я буду всё так же купаться в пруду Ну и ты будешь для меня не больше чем рябью на воде. Так что можешь себе представить, как мне мало дела до твоего Бейя. Жизнь человека вроде него — это даже не минута моей жизни, это меньше. По правде говоря, его жизнь для меня не значит ровным счётом ничего, так же, как и его деньги. Я совершила и массу других краж, если тебе угодно это так называть. Начать с того, что рубин я тоже украла.
— Надо же, и рубин тоже ворованный, — усмехнулся Арсен. — То-то я бы удивился, если бы это было не так.
— Это произошло примерно две тысячи лет назад. Однажды я лежала на гальке, на берегу реки Ду, и тут подъехал всадник, чтобы напоить в реке коня. Это был Тевтобок, король тевтонцев. Его только что разбил на юге некий Марий, уничтоживший всё его войско, и он пытался пробраться в свои земли за Рейном. Я до этого видела его один раз, когда он шёл на юг через Секванию во главе своих войск. Представь себе эдакого двухметрового детину с густыми белокурыми волосами. Рассказывали, что когда он напивался, то забавы ради таскал на себе коня, правда при мне он этого не делал. Пока Тевтобок поил своё животное, я его разглядывала. Одежда на короле была разорвана, в грязи, а сквозь дыры виднелись раны и шрамы, чёрные от запёкшейся крови. На боку он носил пристёгнутую к поясу сумку из кожи рыжего цвета, и я сразу же подумала, что он хранит в ней своё личное сокровище. Он тоже краем глаза наблюдал за мной и, хотя очень торопился, всё-таки задержался и изнасиловал меня. Отбиваясь от него, я сунула руку в его кожаную сумку и достала оттуда рубин, который с тех пор, куда бы я ни шла, всюду ношу с собой. Тевтобок заметил пропажу почти сразу, но было слишком поздно. Я уже добралась до середины Ду и плыла по течению, а он размахивал на берегу руками и обзывал меня, как и ты, воровкой. Я узнала, что несколько дней спустя его схватили недалеко от Мандера и потом выдали римским эмиссарам. А какой всё-таки он был красивый парень, этот Тевтобок.
— Плевать мне на твоего Тевтобока, — сказал Арсен. — Меня интересует только то, что ты украла деньжата у Бейя. И что ты хвалишься этим.
— Опять! Да шут с ним, с этим твоим Бейя. В конце концов, это же он первый начал. Если бы он не попытался меня обокрасть, с ним ничего бы не случилось.
Арсен почувствовал, что спор оборачивается не в его пользу. После того как Вуивра напомнила о разделявшей их дистанции, ему стало не по себе, и он взглянул на неё совсем другими глазами.
Мысль о том, что эта девушка существует вечно, что ей не нужно бояться ни смерти, ни превратностей судьбы, вызвала у него лёгкое головокружение и отвращение. Он резко повернулся и ушёл, не сказав Вуивре на прощание ни слова. Он обошёл вокруг дома Юрбена и сел на крыльцо, в тень от фасада, которая становилась всё длиннее. Теперь кража у погибшего Бейя казалась пустяком. Он знал, что в ближайшую встречу с Вуиврой у него не возникнет желания упрекать её за этот поступок. И тем не менее сейчас ненависть, которую он с воскресенья питал к ней, была сильна, как никогда. Разумеется, во многом это было связано с воспоминаниями, мучившими его все последние дни. Он вновь и вновь видел себя на берегу пруда, идущим под руку с голой девицей, хотя знал, что позади него в эти самые минуты Бейя борется, пытаясь спасти свою жизнь. Однако гнев и отвращение, которые он чувствовал к Вуивре сейчас, были вызваны только что сказанными ею и ещё звеневшими у него в ушах словами. Пока она говорила с ним, он испытывал противное ощущение вечности, а сама Вуивра вдруг стала для него воплощением этой тошнотворной бесконечности. Теперь она казалась ему каким-то безобразным, гнусным существом, врагом — хотя и равнодушным — его крестьянской жизни, такой наполненной, такой устоявшейся, врагом его мира, имеющего удобные контуры, мира, границы которого были превосходно подогнаны к его потребностям. Арсен почти физически ощущал, как в нём самом что-то начало разлагаться и покидать его, как он стал утрачивать никогда не подводившую его способность уверенно и легко ориентироваться в том мире, где соединялись все нити его жизни. «Так я ещё чего доброго стану похожим на Виктора или на Бейя», — подумал он.
На дороге Арсен встретил Жюльетту. Она шла, повязав голову носовым платком и подняв воротничок мокрой, прилипавшей к девичьим грудям кофточки. Обычно при встрече они не обменивались ни словом, ни взглядом, но сейчас Арсен не смог удержаться и остановился.
— Здравствуй, как дела?
Он смотрел на неё с нежностью. У Жюльетты были глаза лани, удивлённые и влажные от волнения. В это время Мендёры запрягали у себя во дворе быков в повозку с дощатыми стенками. Отец притворился, что ничего не видит. Арман проверял неисправный тормозной механизм. Пока Ненасытная устанавливала на повозку один из бортов, Арман громко сказал ей, кивнув подбородком на парочку, остановившуюся на дороге:
— А твоя болезнь, я смотрю, заразная. Скоро ещё одна окажется в риге.
— Погоди у меня, — отозвался Ноэль, — я тебя научу разговаривать благопристойно.
— Ну вы-то, конечно, заступаетесь за своих шлюх. Вы бы даже гордились, если бы обе ваши дочери легли под братьев Мюзелье. Вы думаете — половина дела уже сделана. А за ней и другой половины недолго ждать. Но только я подхожу к этому не так, как вы. Жюльетта, чёрт тебя дери, а ну иди сюда!
Но Жюльетта и Арсен уже расстались. Их беседа не могла продолжаться долго. Даже самые незначительные слова легко превращались в намёки и так или иначе затрагивали тему, которой они старались избегать. Идя по дороге, Арсен удивлялся самому себе, как это он вот так вдруг взял да остановил Жюльетту. Это его встревожило. Обычно он не поддавался с такой лёгкостью минутным настроениям. А если порой и позволял себе нечто подобное, то делал это в полном согласии с самим собой и впоследствии никогда не жалел о случившемся. Ему показалось, что, беседуя с Жюльеттой, он глядел на занятых своим делом членов семьи Мендёр с какой-то непривычной для него снисходительной добротой. Несчастные, приговорённые, как и он сам, к смерти, они копошились, словно какая-нибудь моль в складках вечности. А Вуивра, спокойная и безразличная, наблюдала, как этот жалкий мирок проплывает перед ней, как он быстро устремляется навстречу своей судьбе, готовясь умереть через какие-нибудь пятнадцать минут. Стерва. Дрянь.
Дома Арсена не ждали. Когда он вошёл на кухню, мать и брат прервали жаркий спор и установилось тяжёлое молчание.
— Что это ещё за хитрость ты придумал с полем Жакрио? — спросил Виктор.
— Я полагаю, мама тебе уже объяснила. Значит, сейчас тебе известно столько же, сколько и мне.
— Я не могу допустить, чтобы ты дарил то, что тебе не принадлежит. А главное, заруби себе на носу, ты не имеешь права принимать решения в одиночку.
— А я и не принимал никаких решений. Я просто сказал маме, что мы не можем отпустить Юрбена, не обеспечив его куском хлеба. Что на её месте я отдал бы ему поле Жакрио, чтобы он обрабатывал его пока у него хватит сил. А мама решит так, как она захочет. И это не касается ни тебя, ни меня. Я всё правильно сказал?
— Да, — согласилась Луиза, — и это правильно. Мы не можем отпускать его ни с чем, чтобы он шёл работать на других. А если у него ничего не будет, ему только это и останется.
— В одиночку вам бы никогда не пришла в голову мысль отдать ему поле. Получается, что всем в доме заправляет он. Он и никто другой.
— Ничем я не заправляю. Я высказываю своё мнение, и всё. Но когда я говорил с мамой, то не предполагал, что моё предложение встанет тебе поперёк горла. Ведь ты выглядел таким великодушным. Возражал против переселения Юрбена. Всегда представлял дело так, будто готов с ним поделиться всем.
Виктор закричал, что ему нужно заботиться о жене и двух детях и что всё остальное для него стоит на втором месте. Его обязанности главы семьи дали ему материал для обстоятельной речи.
— Ты говоришь не по существу, — оборвал его Арсен. — Поле Жакрио принадлежит маме. И что она захочет с ним сделать, то и сделает.
— Возможно, но ведь у меня жена и двое детей…
— Ты это уже говорил. Это меня не интересует.
Арсен и в самом деле никогда не испытывал ни малейшей привязанности к своим племянникам, и его последние слова точно соответствовали этой истине. И Виктору от этого было ещё обиднее. Не в силах совладать с собой, он шагнул к младшему брату и отвесил ему две пощёчины. Луиза, испугавшись, собралась было разнимать сыновей, но её вмешательство оказалось ненужным. Арсен не сделал даже намёка на то, чтобы ответить Виктору.
— Поделом мне, — сказал он матери совершенно спокойно, словно речь шла о перемене погоды.
Виктор, смутившись, не нашёл, что ему сказать.
— Юрбен и Эмилия уже ушли? — спросил Арсен.
— Да, уж, наверное, минут пятнадцать назад, — ответила мать.
— Ладно. Я тоже пошёл.
Арсен вышел из кухни с таким видом, словно ничего не случилось. Слышно было, как он посвистывает во дворе, удаляясь в сторону риги. Он не притворялся, у него и в самом деле было хорошее настроение. Спор с Виктором вернул ему душевное равновесие. Жизнь больше не была ни обманом, ни зрелищем на потеху Вуивре. Нужно было быть ненормальным, чтобы видеть в этой жизни одно лишь текучее время. Она состояла из труда и борьбы, из столкновения разнонаправленных желаний, из движения людей и животных, из любви и тревог, из криков и пощёчин, а Вуивра была лишь малой частью всего этого. Арсен пошёл в ригу, чтобы взять вилы. Не обнаружив их там, он направился в комнату для инвентаря, где ночевала служанка. Когда он подошёл к двери, она бесшумно распахнулась, и в проёме показалась голова Белетты. Арсен обратил внимание на её удивлённый и растерянный вид, и улыбнулся, подумав, что она здесь тайком прикорнула.
— Сколько раз по шесть в пятидесяти четырёх? — спросил он, входя в комнату.
Белетта откинула прядь с щеки, чуть кашлянула, как бы собираясь с мыслями, и ответила:
— Семьдесят два.
19
Однажды воскресным утром в конце августа Арсен пришёл к Вуатюрье и без обиняков заявил ему, что хочет жениться на его дочери. Помолвка Розы с Бейя, сказал он, была заключена в тот самый момент, когда он и сам уже совсем было собирался заявить о своих намерениях, и вот сейчас именно воспоминание об этом разочаровании побуждает его не откладывать дело в долгий ящик, несмотря на то что в такой спешке есть что-то неприличное. Он считал необходимым сообщить о своих намерениях отцу, прежде чем сказать о них Розе, всё ещё находившейся под впечатлением случившейся катастрофы. Вуатюрье удивился, но сама идея такого брака ему нравилась. Он не был до такой степени наивен, чтобы поверить, будто Арсен собирается жениться на его дочери за её красивые глаза. Вуатюрье чувствовал, что этот парень из тех, кто умеет считать, но ведь и два первых жениха тоже не отличались бескорыстием, а Бейя, тот вообще был без царя в голове. В пользу Арсена говорили его хорошее здоровье, любовь к крестьянскому труду, отвращение к расточительности и то, что, не будучи богатым, он не останется без единого франка после смерти матери. Вуатюрье дал своё согласие. Он не собирается принуждать дочь, но в нужный момент словечко за Арсена замолвит.
После беседы, продолжавшейся почти целый час, мужчины вместе спустились к реке, поскольку Вуатюрье нужно было посмотреть, как идут работы по сооружению деревянного пешеходного мостика. По пути они заговорили о Вуивре. В середине августа она исчезла на целых две недели. Во всяком случае никто в деревне её не видел.
Священника её исчезновение очень расстроило. Он упрекал себя в том, что не смог воспользоваться присутствием Вуивры в коммуне, чтобы усилить в своём приходе мистический тонус. Не состоялся даже крестный ход, назначенный на пятнадцатое августа, поскольку эту дату, на которой настаивал главный викарий, отделял от смерти Бейя слишком большой срок, чтобы и без того малая толика усердия и эмоциональности, отличавшая его прихожан, могла удержаться на уровне плодотворного пыла. «Воистину трудно служить одновременно и Господу, и епископату», — отважился со вздохом подумать кюре. Ведь в первое воскресенье, последовавшее за драмой у пруда, ещё всё было возможно. Вуатюрье уступил бы желанию нескольких старых дев, болтовню которых можно было бы выдать за мнение большинства членов коммуны. А вот получив отсрочку и пощупав пульс коммуны, мэр понял, что население вверенной ему территории не станет упрекать его за отказ от крестного хода. Впрочем, церемонию эту он запретил не без тягостных споров с собственной совестью. Накануне пятнадцатого августа, мучимый угрызениями совести, обуреваемый страхом при мысли, что одной ногой он уже стоит в аду, мэр отправился на поезде в Безансон, чтобы исповедоваться в соборе Святого Иоанна, а на следующий день рано утром, дрожа от страха, что его узнают, причастился и выслушал до полудня все мессы, которые только можно было выслушать. В то утро он находился в состоянии экстатического блаженства, освежившего ему душу и вызвавшего слёзы радости. После этого он почувствовал себя настолько умиротворённым и близким к Господу, что во время банкета радикалов в столице департамента мог почти без всякой тревоги хулить его святое имя и подвергать осмеянию церковные истины. К несчастью, Вуивра возвратилась в Во-ле-Девер. Несколько человек сообщили, что видели её, и Вуатюрье стало немного не по себе.
— Нужно, прежде всего, сделать так, чтобы она не была предметом особого внимания, — сказал он Арсену, — чтобы все вели себя так, словно её не существует. И у меня, похоже, есть одно средство. Можно было бы повесить на мэрии и на молочном магазине объявления о том, что рубин Вуивры фальшивый, что он не стоит и сорока су. Но сам я этого сделать не могу.
— Вы в любом случае можете попытаться распространить слухи.
Вуатюрье не ответил. Ему было не с руки публично высказывать своё мнение о рубине. Это выглядело бы как признание того, что он верит в существование Вуивры. Мужчины расстались у деревянного пешеходного мостика. Посчитав, что идти на мессу уже поздно, Арсен решил вернуться домой по тропинке, тянувшейся вдоль реки. Солнце стояло высоко, и можно было не бояться испортить росой свои воскресные брюки. Так он шёл минут десять, и вдруг ему показалось, что он слышит какой-то глухой звук, словно от падающих комков земли. Он вроде бы доносился с небольшого, нависшего над рекой пригорка, где рос молодой ольшаник. Вскарабкавшись по склону, он обнаружил за кустами Реквиема, рывшего прямоугольную яму, края которой доходили ему до середины бёдер.
— Как видишь, — ответил Реквием на вопрос Арсена, — рою могилу. Думаю, хорошая получится. Во всяком случае, начало удачное.
Говоря это, он наклонил свою маленькую, с низким лбом голову над неуклюжими плечами и артистическим жестом провёл в воздухе большим пальцем на уровне глаз, как бы лаская ровно очерченные края и плоские поверхности могилы.
— Я смотрю, тут у тебя работа не ученическая, — сказал Арсен. — А для чего это?
— А ни для чего. Думаю о ней и копаю просто так.
Реквием посмотрел на Арсена с чуть растерянной улыбкой. Он в общем не испытывал ни малейшего смущения оттого, что его застали за работой, но ему хотелось бы объяснить, что он посвящает этот шедевр женщине своей мечты, а средств для выражения переполнявших его чувств не хватало. Арсен не понял всей важности намерения, вдохновлявшего Реквиема. Заметив рыболовную сеть, комком лежавшую недалеко от будущей могилы, он заметил:
— Разгуливать по воскресеньям с сетью опасно. В прошлое воскресенье поймали ронсьерского мельника с тройной сетью, а в позапрошлое — одного жителя Арсьера. С сетью шутки плохи.
— Ну сюда меня никто не придёт искать. Да к тому же я и не ловлю рыбу.
— А если не ловишь, то зачем таскаешь с собой сеть?
Реквием колебался, стоит ли отвечать. Глаза его забегали. Но поскольку Арсен настаивал, он, наконец, решился:
— Это у меня для змей.
— Вижу, что ты задумал, — сурово сказал Арсен. — И тебе тоже рубина захотелось. Мало тебе одного покойника. И тебе на тот свет не терпится.
— Скажешь мне тоже, я ведь не Бейя. Ведь Бейя-то был совсем пустой человек. Когда делаешь такие вещи, надо сначала хорошенько мозгами пораскинуть. А я как раз такой человек, который думает. И если я начал это, то, значит, мне так моя голова подсказала. Отсюда у меня обзор на целый километр реки. Скажем, вот сейчас Вуивра подходит к ложбине Грийяло. Я вижу, как она спускается к реке, как она останавливается, раздевается. И тут я беру мою лопату, мою сеть…
Реквием выскочил из могилы и, не выпуская из рук заступа, подобрал сеть и положил её на согнутую руку.
— Подхожу я, значит, к рубину, — сказал он, показывая на лежавший в траве булыжник. — Тихонько, совсем неслышно. Втыкаю лопату в землю. А рубин кладу в карман. А потом не удираю, как стал бы делать какой-нибудь Бейя, а выжидаю.
Он схватил сеть обеими руками, готовый развернуть её, и замер.
— А вот и змеи. Ползут. Двести штук. Но мне на них наплевать. Пусть подползают. А в подходящий момент — раз!
Реквием бросил сеть. Отягощённая свинцовыми грузилами, сеть взметнулась в воздухе, как кринолин, и в форме круга легла на землю.
— Разумеется, некоторых змей она не накроет, причём не одну и не две. А я в это время, смотри, что делаю.
Он схватил лопату и принялся колотить по земле железным лезвием, выкрикивая ругательства:
— Вот тебе, стерва. Вот тебе. Вот тебе. Получай, шлюха. Вот тебе, дрянь.
Игра воодушевила Реквиема, его огромные кроличьи глаза сверкали. Арсен невольно увлёкся этой игрой и, соотнеся её с той битвой, которую ему самому пришлось выдержать у пруда Ну, пытался представить себе, как бы у него получилось, будь он вооружён сетью и лопатой. Однако тут же спохватился и остановил Реквиема.
— Твоя сеть — хорошая находка, но она тебе всё равно не поможет. Это как если бы ты пытался перегородить реку двумя ладонями. Приползёт не двести змей, а целая тысяча, и притом со всех сторон. Ты ещё не успеешь даже и бросить свою сеть, а у тебя за пазухой уже будет кишеть целая дюжина. Оставь-ка ты рубин в покое. Лучше забрось сеть в реку. И у тебя будет прекрасная жаренка; вернёшься домой, съешь её спокойно, а про Вуивру с её барахлом и думать вовсе забудешь.
Сколько Арсен ни бился, отговорить Реквиема от его затеи ему так и не удалось. Он так горячился и столько тратил сил, стараясь убедить Реквиема, что удивлялся сам себе. Обычно он слишком уважал волю других людей, чтобы пытаться навязать свою точку зрения в делах, которые его не касались. Реквием не отрицал, что опасность существует, но верил в свои мускулы, в свою сноровку и в изощрённость своего ума.
— Ну что ты станешь делать с этим твоим рубином? — спросил Арсен, исчерпав аргументы. — Когда я спросил тебя об этом однажды, ты даже не смог мне толком ответить.
— Припоминаю, — ответил Реквием. — Это было на кладбище, и в тот день я рыл могилу для бедняги Оноре. Но ведь тогда я был счастлив. У меня в доме жила любимая. Она была со мной. Мне ничего больше не требовалось. Это ни с чем не сравнимое богатство, когда тебе принадлежит прекраснейшая из женщин. А теперь же у меня не так.
— И всё-таки я не понимаю, что ты сможешь сделать со своими деньгами, когда разбогатеешь.
— Сейчас я тебе скажу. Бывают люди, для которых быть богатым — это значит пить с утра до вечера или ездить в Доль в бордель. Это если говорить о всяких там Бейя. А я хотел бы стать богатым ради неё, ведь её родители тоже богаты. Допустим, у меня в кармане завелись деньжата. Я начну с того, что приоденусь. Чёрный фрак, как у Вуатюрье, по тем дням, когда он женит, — чёрный фрак, манжеты, воротничок, галстук, жёлтые туфли, соломенная шляпа. И сверх того, тросточка. Золотое кольцо, золотая цепочка для часов и золотой монокль.
— Что ты собираешься делать с моноклем? — возразил Арсен. — Ты же и так хорошо видишь.
— Всё равно. Как только я приоденусь, я куплю себе автомобиль, большущий голубой автомобиль с передом, как сигара. И вот выезжаю я на дорогу. Направляюсь в замок.
— В какой ещё замок?
— В её замок, который принадлежит ей, или если тебе угодно, в замок её родителей. Приезжаю. Останавливаю свой автомобиль. Нажимаю гудок. Родители её выглядывают. «Что это такое?» — спрашивают они. А я высовываюсь из машины, приподнимаю шляпу, привет папаше, привет мамаше. «Виконт де Реквием», — представляюсь я им. А они — люди вежливые, и потому выходят меня встречать. Пока они ведут меня на кухню, мы беседуем. «Вы выпьете с нами стаканчик вина?» — предлагают они мне. На что я им отвечаю: «Нет, благодарю. Я не пью. Лучше стакан воды».
Растроганный Реквием даже прервал свой рассказ, чтобы полюбоваться собой. Удивившись собственным словам, он ощутил потребность повторить их:
— «Лучше стакан воды». Заметь, погода-то жаркая. Не то чтобы у меня не был припрятан в автомобиле целый бочонок вина, но всё-таки. Родители тут сразу понимают, с кем имеют дело. Они начинают интересоваться моими делами. Ну а я рассказываю про мои владения. Вон те поля, которые вы видите вон там, они мои. А вон там внизу луга, они тоже мои. И так далее. И всё это правда, потому что я только что их купил. Конечно, дорого заплатил, ну а мне-то что? Родители, я вижу, переглядываются и размышляют. И вот как они рассуждают: хорошо одетый мужчина, с автомобилем, с прекрасными манерами, с собственностью — такое на дороге не валяется. Они вдруг говорят мне: «А знаете, у нас есть дочь». Ну а я как бы невзначай: «Да ну, у вас есть дочь?» — «Да вот, есть, — отвечают они мне. — Ей двадцатый годок пошёл, но вот с недавних пор у неё какой-то очень печальный вид». А я им говорю: «А у меня сейчас как раз всякие мысли на этот счёт».
Рассказ Реквиема продолжался ещё долго, и в нём была масса разных эпизодов. Например, когда вечером его пригласили остаться на ночь в замке, и он навестил дочку хозяев в её спальне, то хотя в том и не было никакой необходимости из-за их отношений в прошлом, вёл он себя как почтительный возлюбленный.
— Вот что бы стали делать на моём месте другие мужчины, возьми, к примеру, того же самого Бейя? Первым делом полезли бы её лапать. А при этом, заметь, это вовсе не значит, что мне не хватает желания. Она ведь лежит в своей постели, разве не так? Только я-то ведь знаю, что такое любовь! Любовь, она же не столько в том, чтобы расстегнуть ширинку, как многие считают. Главное в любви — это, скорее, как поговорить о ней. И вот, скажем, я сажусь рядом с кроватью, курю сигару и беседую. Ни единого грубого слова ты от меня не услышишь. Беседую, посмеиваюсь себе, спрашиваю её: ну как дела, всё хорошо? В общем, веду галантную беседу.
Наконец, благополучно завершив переговоры с родителями, Реквием заключил:
— Месяца не пройдёт, как ты меня увидишь здесь опять вместе с ней, и мы поженимся в присутствии мэра и священника. Да-да, месяца не пройдёт. За это время, я думаю, у нас здесь никто не помрёт. Я прямо не вижу сейчас никого в Во-ле-Девере, кто бы собирался сыграть в ящик. Я, конечно, понимаю, что если бы меня тут не было, кого-нибудь всегда нашли бы, чтобы выкопать могилу, но всё-таки мне было бы это неприятно.
Арсен расстался с могильщиком не без ощущения грусти. С одной стороны, ему внушали тревогу замыслы Реквиема, а с другой — он, разумеется, не мог не сравнивать любовь могильщика с зыбкостью собственных чувств, и ему становилось стыдно за ту ловкую игру, которую он вёл ради того, чтобы жениться на дочери Вуатюрье. Идя по лугу к своему дому, он заметил рядом с фруктовым садом Мендёров бредущую по дороге Белетту. Она, как обычно, возвращалась из церкви по меньшей мере на четверть часа раньше Луизы с невесткой, которые задерживались на кладбище. Арсен с тоской подумал о том, что, когда он женится, ему придётся с ней расстаться. Собственно, это должно было стать единственным более или менее острым сожалением в его новой жизни. Ведь что касается разлуки с матерью, то для парня это событие не лишено своеобразной прелести. Подобное расставание ещё в большей степени, чем сам брак, знаменует собой начало новой жизни. Возможно, Виктор, живший вместе с Эмилией под одной крышей с матерью, потому и остался как бы несовершеннолетним, что в его судьбе не хватило какого-то нового, свежего сока, и это сделало его таким вялым, дотошным и резонёрствующим. Арсен с удовлетворением думал о том, как он уйдёт от всей семьи. Но ведь Белетта не была членом семьи. Пожалуй, во всей её хрупкой фигурке чувствовалось скорее нечто враждебное духу их дома. На дружеские чувства Арсена она отвечала капризной, требовательной, а порой и агрессивной нежностью, которая подвергала испытанию его благодушие, однако ему нравился этот дикарский и несозвучный семейной обстановке нрав, придававший их отношениям оттенок сообщничества. Он шёл по лугу и улыбался, вспоминая о некоторых выходках Белетты, о том, как она злилась, хитрила, лгала, и всё это обретало в его глазах какое-то неуловимое детское очарование.
На ферме царило безмолвие. На другом конце двора, под орешником, спал пёс Леопард. Белетта, вероятно, в этот момент снимавшая в своей комнате шляпу, оставила дверь риги приоткрытой. Арсену захотелось увидеть её и послушать её болтовню. Чтобы не привлекать внимания Виктора, скорее всего, читавшего на кухне газету, он старался ступать по редким пятнам травы, смягчавшим его шаги. Даже короткий разговор с братом нагнал бы на него тоску. Пройдя через ригу, он толкнул дверь комнаты для инвентаря и в оцепенении застыл на пороге. Белетта, у которой не хватило присутствия духа даже на то, чтобы встать, когда она услышала его шаги по риге, лежала в постели и смотрела на него взглядом безумного животного. Виктор, стоя посреди комнаты, поддерживал обеими руками брюки, не решаясь застегнуть их, чтобы не уронить собственного достоинства. Арсен тут же вышел, не закрыв дверь. Случайно рука его задела вилы, прислонённые к стене риги. Он схватил их с твёрдым желанием убить и вернулся в комнату. Белетта в постели плакала. Виктор прочёл в глазах брата свой приговор. Он попытался было защититься руками, но тут же опустил их, потому что ему пришлось подхватить спадавшие брюки. Этот смешной и жалкий жест на секунду поколебал смертоносную решимость Арсена, и он ограничился тем, что ударил его в челюсть ручкой вил. Виктор хрюкнул от боли. Изо рта у него потекла струйка крови, которая закапала с подбородка на рубашку. Уже жалея о проявленной слабости, Арсен повернул вилы остриём в сторону Виктора и посмотрел ему на живот, но ударить не смог. Белетта схватилась руками за стальные зубья и повернула их так, что они коснулись её кофточки. Не смея поднять глаза, она опустила голову, и прядь волос упала ей на нос. Взгляд Арсена задержался на этих хрупких формах, на худых девчоночьих плечах, смиренных и невзрачных, на мокром от слёз личике. Когда он заметил этот детский стыд, он и сам ощутил тоже что-то похожее на стыд, и тут же — нежность и страдание. Он бросил вилы, и убежал, чтобы не расплакаться в присутствии брата.
Арсен, расхаживая взад-вперёд по двору перед дверью риги, понял, что намерение убить у него не пропало. Возможно, сделав над собой невероятное усилие, он позволит брату дожить до вечера, до завтрашнего вечера, но ненависть не отпустит его.
Когда-нибудь он всё-таки убьёт его, потому что происшествие в комнате для инвентаря не было ни случайностью, ни завершением неудержимого влечения двух существ друг к другу. Виктор хотел осквернить Белетту. Даже не понимая толком, чем была для брата эта шестнадцатилетняя служанка, он угадал, что в их отношениях присутствует некая тайна, и что именно в них этот суровый и непроницаемый парень черпает часть своей силы.
Возвратившись вместе со своей невесткой с мессы домой, Луиза не без удивления увидела, как Арсен вышел из кухни, неся на плече свёрнутый и перевязанный бечёвкой матрас. Догадавшись, что между её сыновьями произошла очередная ссора, она закрыла чёрный шёлковый зонтик и, отдав его Эмилии, велела той отнести его к ней в комнату. Арсен снял свою объёмистую ношу и положил её на край колодца.
— Я ухожу, — сообщил он. — Я бы не хотел причинять вам хлопоты, но только с братом я больше жить не могу. Для него будет лучше, если я уйду.
— Когда братья ссорятся, слова не оставляют следов, — сказала Луиза. Я была пятой из семерых детей и знаю, что это такое. А что случилось?
— Не спрашивайте, мама. И Виктора тоже не спрашивайте. Об этом неприятно говорить, и слушать тоже не доставит удовольствия.
— Прекрасно, но только почему, если кто-то из вас должен уйти, то это обязательно должен быть ты? По-моему, над этим нужно подумать. Ведь здесь всем заправляю я.
— У Виктора нет никакого желания уходить. Да к тому же, я так или иначе всё равно когда-нибудь уйду. Пока я уйду к Юрбену. И еду он тоже будет приносить мне туда. Что касается работы, то мне нужно об этом как следует подумать, но вам стоило бы побеспокоиться о работнике, во всяком случае, на будущий год.
Арсену хотелось попросить мать уволить Белетту, но тогда Луиза сразу же догадалась бы, почему он расстаётся с братом. К тому же, можно было предположить, что в скором времени служанка уйдёт сама. Пока они беседовали, Виктор выглянул из-за форточки конюшенной двери. Белетта, вероятно, находилась по-прежнему у себя в комнате, Эмилия суетилась, не в состоянии решить, куда же ей пристроить зонтик Луизы. Чтобы не держать больше их всех разъединёнными по разным углам дома, Арсен расстался с матерью и вновь взвалил на плечо свою ношу.
Перекопав и выровняв участок вокруг своего дома, Юрбен проводил там с помощью десятиметровой бечёвки землемерные работы и размышлял, как бы получше расположить овощные грядки. Собирался он посадить и цветы, а в прошлую ночь решил, что среди них у него будет розовый куст.
— Я пришёл к вам попроситься пожить у вас в доме, — сказал Арсен.
Старик бросил бечёвку и пошёл открывать дверь. Свет радости и благодарности сиял на его длинном сухом лице.
— Входи. Располагайся со своей постелью, где захочешь. Чего-чего, а места тут хватает.
Каменщик только что закончил штукатурить потолки, и в доме уже появилась кое-какая мебель.
В первой комнате, там, где Арсен положил свой матрас, стояли стол из белого дерева, три плетёных стула и новая лейка. В полдень Юрбен сходил за едой, приготовленной Луизой для сына, а сам возвратился обедать на ферму. Арсен поел почти с жадностью, словно искал в утолении голода одновременно и реванш, и забвение. После обеда он почувствовал, что весь находится во власти воспоминаний о происшедшем в комнате для инвентаря. У него в мозгу с нестерпимой отчётливостью всплывали малейшие подробности сцены. Несколько раз он всерьёз представлял себе, как Виктор будет умирать, и смаковал это зрелище, но чаше всего его мысли были о Белетте, и они причиняли ему такие страдания, от которых не было спасения. Он ходил по комнате взад-вперёд, пытаясь стряхнуть с себя груз переживаний. Вскоре ему стало невмоготу оставаться внутри помещения. Ему показалось, что нужно смертельно устать, чтобы прийти в себя. Выйдя наружу, он попал в настоящее пекло. И по голой стерне направился прямиком в лес. Уже подойдя к опушке леса, он не смог удержаться от того, чтобы не бросить взгляд в сторону фермы, где, вероятно, как раз в этот момент в тягостном молчании заканчивался обед. С пронзительной жалостью подумал он о Белетте, сидящей в самом конце стола, и ясно представил себе её униженную, смущённую позу под острым взглядом хозяйки.
Арсен брёл, куда вели его тропинки, без всякой цели, уходя всё дальше в лесную глушь, но это не утишило его страданий. Скорее наоборот, ему казалось, что боль проникает в него всё глубже и глубже. Он шёл, наверное, полчаса, как вдруг увидел возникшую из лесной поросли Вуивру, и эта встреча была ему явно приятна. После её возвращения в Во-ле-Девер они встречались впервые. Несколько раз он видел, как она кружила вблизи фермы, но, похоже, не смела навязывать ему своё присутствие. Арсен на неё уже почти не сердился, а тут обида и вовсе исчезла.
— Я вернулась, — сказала Вуивра. — Я была в горах, но там ни к чему у меня не лежала душа. Я жалела о том, что сказала тебе по поводу Бейя.
Арсен махнул рукой, показывая, что больше об этом не думает.
— Тебе, может, показалось, что я презираю всё, что касается человеческой жизни. Но на самом деле всё обстоит совсем иначе. Мне хотелось бы узнать вас получше. Ты, возможно, думаешь, что, поскольку я видела первых людей, появившихся в Юре, а потом тысячи поколений, сменявших друг друга, я знаю вас лучше, чем кто бы то ни было. Но если начистоту, вы никогда не переставали удивлять меня. У вас в головах есть что-то такое, чего нет в моей, что-то такое, что угадывалось уже у пещерных людей, и мне хотелось бы знать, что это такое. Когда я с тобой, я всегда жду, что ты объяснишь мне.
— Не понимаю, что ты имеешь в виду, но мне всё-таки кажется, что это, скорее, твои фантазии. Во всяком случае, если бы я и мог показать тебе, что находится внутри моей головы, то не стал бы делать этого сегодня. У меня неприятности, из-за которых в мозгах всё перепуталось. Для меня началось плохое время. И я несчастен, как никто другой.
Они присели рядом на обочине тропинки, прислонившись спинами к стволу большого дуба. Арсену стало стыдно за то, что у него с языка сорвались слова, похожие на жалобу. Встретив взгляд Вуивры, он добавил:
— Конечно, и ты, наверное, тоже не очень счастлива.
Она не ответила ни «да» ни «нет», она не знала. Мыслительное усилие, отразившееся у неё на лице, придавало ей какой-то туповатый вид. Арсен посмотрел на неё с сочувствием.
— Я сказал это, потому что вспомнил слова моей матери. Это было, как сейчас помню, 15 августа, после обеда. У нас в доме были люди, и они разговорились о Бейя, ну и, конечно, о тебе тоже. Мать говорила и вязала носок, и я услышал, как она сказала: «Не хотела бы я быть на месте Вуивры. Девушка, которая не может умереть, — тут не позавидуешь; когда делаешь что-нибудь и не видишь этому конца, то просто не знаешь, что делаешь, а это всё равно, как ничего не делать».
В зелёных глазах Вуивры загорелось тревожное любопытство. Арсен продолжил, не столько для неё, сколько для самого себя.
— И вот тогда-то я и подумал, что она права. Я смотрел, как она вяжет носок. Я сказал себе, что если бы она не представляла себе, как будет выглядеть законченный носок, её труд был бы просто ни на что не похож. И ещё мне пришло в голову, что так же и жизнь — чтобы как следует её прожить, нужно думать о конце.
— Ну ты прямо как кюре говоришь, — прошептала Вуивра. — И вы часто о ней думаете, о смерти?
— Довольно часто, — ответил Арсен, немного помолчав. — По-моему, мы думаем о ней всегда, даже тогда, когда не думаем о ней. И, может, как раз это и есть, как ты говоришь, в наших головах то самое, чего нет в твоей голове. Я даже считаю, что те, которые умеют лучше других думать о смерти, лучше и живут, лучше распоряжаются тем, что есть внутри их жизни.
Арсен умолк. Он вспомнил, с какой лёгкостью пошёл на смерть Бейя, оказавшийся неспособным предугадать её. Обернувшись к Вуивре, он заметил, что она стоит встревоженная, растерянная, и вдруг позавидовал ей. Он подумал о той острой боли, которую вновь ощутит, когда опять окажется один, и которая, возможно, была бы для него пустяком, если бы перед ним тоже простиралась вечность. Со своей стороны, Вуивра задумалась о своей судьбе, однообразной и бесформенной, которой она сама даже не могла распоряжаться. Ей казалось очевидным, что Арсен властен над своей судьбой, как его мать властна над носком, который она вяжет. Нет ничего ни более желанного, ни более привлекающего своей простотой, чем вот так нести в себе собственный конец и трудиться над его приближением: петля за петлёй. Вздохнув, она легла на бок и протянула руку за красным грибом, который рос в папоротнике. В тот момент, когда она поднесла гриб ко рту и надкусила его, Арсен остановил её:
— Ради Бога, не надо его есть, он ядовитый.
— О! Меня ничто не может отравить, — сказала она, роняя покатившийся по её платью гриб. Нигде смерть не ждёт меня.
20
Сёстры Мендёр оказались неравнодушны к соседству Арсена. Из окна кухни было видно, как он ходит туда-сюда около дома Юрбена, и вероятно, из-за того, что он поселился там, поссорившись с семьёй, возникало упоительное ощущение, что теперь он свободен и беззащитен. Жюльетта наблюдала за домом старика с пылким любопытством. Хотя в её отношениях с родными постоянно обнаруживалась какая-то напряжённость и агрессивность, на лице у неё была написана глубокая радость, а в чёрных глазах тлело нежное пламя. Жюльетта полагала, что причины, оказавшиеся достаточно вескими, чтобы заставить Арсена уйти из дома, должны были относиться к разряду таких, которые ставят под сомнение всё. И она с тревожной надеждой ждала своего часа.
Оттого, что восторг Ненасытной выглядел поверхностным, родителям было не легче. Уже в тот день, когда Юрбен впервые отправился спать в свой дом, она закусила удила. Домашние подумали было, что у неё что-то нечисто со стариком, не очень, впрочем, при этом обеспокоившись. А вот присутствие Арсена, угрожавшее семейной чести, казалось делом гораздо более серьёзным. Возвращаясь с поля, Ноэль старался придумать для старшей дочери такие дела, которые бы заставили её забыть про соседа. В первый день ей велели вырыть яму для навоза, на следующий день — перетащить деревянную литейную форму из одного сарая в другой. Большая Мендёр работала без передышки и не отвлекалась. С наступлением темноты она нехотя бросала свою работу и шла на кухню ужинать, где мела со стола за десятерых. Грудь её в этот момент начинала дрожать, сотрясаться и подскакивать, а огромные коровьи глаза метали молнии. К счастью, тут подошла очередь Мендёров пользоваться молотилкой, и старшая дочь на два дня нашла в ней какое-то утешение. Несколько парней пришли из деревни помочь им, чтобы позднее получить такую же помощь от них. Вот только работать им приходилось на Ненасытной не меньше, чем на молотилке. Нельзя было перевернуть буквально ни одной охапки соломы, чтобы не обнаружить где-нибудь её ляжек, а шум машины постоянно перекрывался похотливым ржанием, слышным аж на другом конце Во-ле-Девера. Сверх того, только за эти два дня она лишила невинности сына почтальона, четырнадцатилетнего подростка, только что получившего свидетельство об окончании начальной школы, а также четырёх внуков орнсьерского нотариуса, которые, не думая ни о чём дурном, просто проезжали мимо на велосипедах. Родители пострадавших горько жаловались, а почтальон, вовсе не пытаясь на этом деле заработать, всё же потребовал один франк в возмещение убытков. Снова у Мендёров неприятность. За все эти прегрешения Ноэль устроил старшей дочери только одну взбучку, от которой, правда, её спина запестрела всеми цветами радуги.
Арсен, одинокий и ко всему равнодушный, проводил долгие часы в доме Юрбена, предаваясь горю и кипя от гнева. Ему казалось, что он навсегда утратил охоту к труду и желание находиться в обществе себе подобных. Все его мысли были о Викторе и Белетте. Он задавал себе вопросы, которые ещё больше усугубляли его страдания: как давно начались эти встречи в комнате для инвентаря, как Виктор добился своей цели и почему Белетта ему уступила, поддалась ли она любопытству или же подчинилась принуждению. Чем больше он об этом думал, тем более возмутительным — в первую очередь, по своему умыслу — казалось ему поведение Виктора. Он всё больше и больше открывал в нём своего врага, — о чём смутно догадывался и раньше, — человека, которому он противостоял всем своим существом.
Арсену казалось, что, застань он врасплох служанку в компании какого-нибудь другого мужчины или парня из их деревни, даже если бы им оказался Арман Мендёр, он бы нисколько не возмутился бы, хотя недовольство, конечно, высказал бы. И это действительно было так. Он прекрасно помнил, как, прознав о встречах Белетты с одним двадцатилетним парнем, без всякого волнения думал о возможности романа между ними. Даже если бы этот парень и попользовался благосклонностью Белетты без лишнего шума, подобного рода приключение нисколько не уронило бы её в глазах Арсена. Так что унизительный характер свиданий в комнате для инвентаря целиком определялся личностью Виктора.
Луиза навещала Арсена в доме Юрбена. Не задавая ему вопросов, она старалась заинтересовать его жизнью фермы, рассказывая о своих занятиях и о состоянии работ. Её визиты не доставляли Арсену ни малейшего удовольствия, и он выслушивал её рассеянно, а то и нетерпеливо. И всё-таки из её слов он понимал, что на ферме очень его не хватает. Его отсутствие сказывалось на ходе работ. Юрбен, освободившись с первого сентября, сам предложил Луизе поработать ещё. Приняв неожиданное решение покинуть ферму, Арсен думал, что некоторое время будет там работать, соблюдая меры предосторожности, чтобы не столкнуться лицом к лицу с братом, но теперь даже сама мысль о том, что он остаётся компаньоном Виктора, пусть даже издали, не соприкасаясь с ним, была ему противна. У него возникла потребность постоянно ощущать между ним и собой чётко проведённую границу. Его и так смущало, что еду ему приносили с фермы, и он собирался начать готовить себе пищу самостоятельно на кухне у Юрбена. Как-то вечером ужин ему принесла сама Луиза. Во время беседы она как бы невзначай уведомила его о своём решении уволить Белетту. Возможно, она подозревала, что служанка сыграла какую-то роль в уходе сына. Считая, что теперь он на ферме человек чужой, Арсен не чувствовал себя вправе возражать, но это увольнение, о котором он и сам чуть было не попросил мать несколько дней назад, сильно раздосадовало его.
Белетта несколько раз в день проходила мимо дома Юрбена. Именно она по утрам и вечерам носила молоко на сыроварню. А днём она гоняла коровье стадо на общинный выгон. Она брела боязливо с одеревенелым затылком и пылающими щеками, хотя всё же отваживалась бросать взгляды в сторону дома, надеясь, что Арсен подойдёт к ней, даже упрекнёт за её поведение, но потом всё в конце концов образуется. Белетту мучило скорее сожаление, чем раскаяние. То, что она отдалась Виктору, в сущности, не имело для неё большого значения. Во время их свиданий ей ни разу не приходило в голову, что она делает что-то важное. Да и для Виктора это мало что значило, хотя в критический момент встречи с Арсеном он сразу стал серьёзным. Если бы только она знала, что Арсен увидит в этом деле столько дурного, она, конечно, отказала бы Виктору. Тем не менее всякий раз, когда Белетта проходила мимо дома старика, ей казалось, что внутри неё возникает какая-то тяжеловесная тень. Она снова и снова горела от стыда, как в тот момент, когда Арсен застал её с Виктором. И ей начинало казаться, что теперь она не имеет права любить Арсена. На лугах, в обществе других пастухов, она забывала о своём горе, но на ферме постоянно ощущала, как сильно не хватает ей присутствия этого спокойного и сурового парня, который ради неё смягчал блеск своих стальных глаз и ещё так недавно окружал её прежде неведомой ей нежностью. По вечерам она подолгу плакала на своей брезентовой постели, и Фарамина ещё несколько раз заглядывала к ней, рыская по комнате для инвентаря.
Арсен всегда с беспокойством ждал того момента, когда Белетта проходила мимо дома Юрбена. Он простил ей грех, признав, что она ни в чём не виновата, но не мог решиться позвать её и успокоить. Да он и не хотел этого. Его непременно смущало бы воспоминание о комнате для инвентаря. Ему трудно было бы говорить, голос его звучал бы натужно, да и у голоса Белетты не могло быть прежнего звучания. Чувство, связывавшее его с маленькой служанкой, было слишком тонким и деликатным, чтобы попытаться что-то исправить, как это бывает, когда речь идёт об обыкновенных товарищеских отношениях или о любви «с потом и объятиями». И всё же, стоило только появиться вдали силуэту девочки, как у Арсена, охваченного неведомым порывом, перехватывало горло от жалости и нежности. Иногда их взгляды встречались, робкие и горячие. Когда она днём гнала стадо в поле, пёс Леопард приветствовал своего хозяина, клал передние лапы на подоконник, вытягивал шею, чтобы лизнуть Арсена, и нежно потявкивал. Привыкший распознавать дружеское расположение хозяина лишь по большему или меньшему количеству тычков башмаком в бок, Леопард, теряя рассудок от ласк, расточаемых ему Арсеном, извивался и горланил от удовольствия. После того как хозяин шлепком и добродушной бранью прогонял его, пёс нагонял стадо там, где дорога начинала подниматься вверх, и Арсен видел, как он и пастушка долго обнимаются и целуются, прижимаясь друг к другу мордочками и лапками. Эти послания, которые приносил Белетте Леопард, поддерживали в ней надежду на внезапную и близкую перемену. «Вот если бы у меня, — размышляла она, — была пара титек что надо, как, например, у Большой Мендёр, да даже и чуть поменьше, то тогда всё уладилось бы гораздо быстрее». Такая убеждённость рождала у Белетты роскошные грёзы. Проснувшись однажды утром, она заметила коренное изменение, происшедшее во всей её внешности. За ночь ноги у неё стали толстыми, точно печные трубы, ягодицы сделались громадными, а впереди выросли две великолепные тыквы, покрытые розовой кожицей, с кончиками, похожими на резиновые соски, но только твёрдые. Одновременно её пронзительный и крикливый голосок стал низким. Теперь она смеялась грудным смехом, как мамаша Жюде, громко и грубо. И к ней со всех сторон сбегались и крутились вокруг парни. «Не трогайте меня, пацаны, — говорила им Белетта, — я не люблю, когда мне надоедают». А Арсен при этом всё никак не мог отвести глаз от разреза её кофточки, и они слегка лезли у него на лоб. Ну а к тому же, чтобы вообще все шансы были на её стороне, она разбогатела, даже очень разбогатела, потому что получила наследство от некоего дяди-фотографа. А поскольку по зрелому размышлению оказывалось, что дядя-фотограф столь же неправдоподобен, сколь и нереален, Белетта завладевала рубином Вуивры.
Однажды утром, на третий день своей уединённой жизни Арсен принял решение сходить к Вуатюрье, чтобы немного продвинуть вперёд свои дела. Он намеревался поговорить с Розой, чтобы, не обнаруживая чересчур прямолинейно своих намерений, всё же дать ей понять, что он желает связать свою жизнь с серьёзной, бережливой и хозяйственной девушкой. Ночью прошёл сильный дождь, погода оставалась пасмурной, и деревню окутывала поднимающаяся от земли тепловатая сырость с запахом спелых плодов. Арсен отправился в путь без особого воодушевления, повинуясь своего рода рассудочной необходимости, в которой его воображение больше не принимало никакого участия. Он зашёл к Жюде, чтобы купить табаку, а когда вышел из кафе, с неба упало несколько капель, и он, воспользовавшись этим предлогом, повернул назад. Подобная лень вызвала в нём самом беспокойство, как знак определённого безразличия к собственной судьбе. Он напряг волю и сказал себе, что пойдёт к Вуатюрье во второй половине дня, но когда подошло время, не сдвинулся с места, а потом откладывал свой визит ещё несколько дней. Часто он покидал ферму с твёрдым намерением явиться к мэру, но стоило ему оказаться на дороге и сделать несколько шагов, как его разворачивало то в лес, то к реке. Это всякий раз унижало его, причиняя ему боль, но он не находил в себе сил преодолеть собственную апатию. К реке его тянуло больше, чем в лес. Спускаясь по заливным лугам, усыпанным сентябрьскими сиреневыми безвременниками, Арсен посреди этой тихой умиротворённой природы немного приходил в себя. На берегу, на заросшем ольхой пригорке он обнаруживал Реквиема: могильщик продолжал подстерегать там Вуивру.
— Расскажи-ка мне, как ты пойдёшь в замок, — попросил Арсен.
— Нет ничего проще, — сказал Реквием. — Сначала покупаю себе шляпу-котелок. Потом нужна борода, и я уже начал её отпускать. Тебе покажется смешным, что я ношу бороду, но ты потом увидишь что к чему. Вот я готовлюсь, покупаю редингот, туфли, всё прочее, и сажусь в машину. Ладно, подъезжаю к замку, сигналю, и она подходит к окну. Оказывается, родители только что ушли в кафе. «Мадемуазель, — говорю я ей, — Я приехал, чтобы выполнить одно поручение». Она меня не узнает: ведь я в цилиндре и с бородой. «Так входите же, сударь», — говорит она мне. Ладно, вот мы уже в комнате, садимся, беседуем. Можешь себе представить, какими глазами я на неё гляжу. Никогда ещё она не была такой красивой. Принцесса — лучше и не скажешь. Она меня по-прежнему не узнает, но всё-таки… И вот она говорит мне: «Как, однако, забавно, — говорит мне она, — вы похожи на одного моего знакомого, которого зовут Реквиемом». А я-то ей на это: «Реквием, я его хорошо знал. А вы его, этого Реквиема, любили?» — спрашиваю я её как бы невзначай. «Ах, — отвечает она мне, — я думаю о Реквиеме всё время, я вижу его во сне каждую ночь». И вот тут-то я ей и говорю: «А я приехал к вам как раз для того, чтобы сообщить, что Реквием помер». — «Бедный друг», — и она достаёт свой платочек. И как начнёт вопить: «Мой Реквием, мой миленький Реквием!»
Тут Реквием переводил дыхание и тыльной стороной ладони вытирал слёзы, выступавшие у него на глазах.
— Ну а я её утешаю, а то как же? «На похоронах было много народу, — говорю я ей, — мэр, кюре, пожарные, учительница, ронсьерский нотариус, сенесьерские жандармы, мировой судья — все собрались, и даже был один офицер, про которого никто не знал, откуда он. А цветов-то, цветов, не поверишь даже». А она всё плачет и плачет. Вот как она меня любит, понимаешь? А потом время идёт, и я ей говорю: «Мадемуазель, я не хотел бы вас беспокоить, но мне ужасно хочется пить». А она отвечает: «Я сейчас принесу вам вина». — «Нет, нет, нет, — говорю я ей, — никакого вина мне не надо. Я не пью. Мне достаточно стакана воды».
И тут рассказ имел несколько вариантов. Например, пока Робиде ходила за стаканом воды, Реквием сбривал бороду, и по возвращении она, счастливая, узнавала его. Или же родители, вернувшись в замок, заставали свою дочь погруженной в неутешное горе и объявляли, что они готовы отдать и кровь свою и богатство, чтобы только воскресить усопшего, и Реквием тактично справлялся с задачей. Время от времени Арсен что-нибудь подсказывал, и могильщик продолжал рассказ, видоизменяя его.
И всё же как-то раз утром Арсена охватил приступ решимости, и он, превозмогая отвращение, явился к Вуатюрье. Роза была дома одна. Смерть Бейя состарила её. Тусклое лицо выглядело ещё более изнурённым от горя и усталости. А большое, лишённое грации и форм тело, казалось согнувшимся под тяжестью безжалостной фатальности. Арсен, пришедший с вполне определёнными намерениями, так и не смог заговорить о них. Собравшись было начать, он тут же шарахался в сторону, словно строптивый конь перед препятствием. Под конец беседы, в которой он старательно избегал затрагивать что-либо существенное, он мысленно признался себе, что больше не хочет жениться на Розе. Владения Вуатюрье теперь его совсем не прельщали, а честолюбивое стремление создать механизированное хозяйство казалось глупой ребяческой мечтой, бестолковой и неразумной. Он расстался с Розой Вуатюрье, сказав несколько фраз ей в утешение, и это стало его окончательным прощанием с ней. Арсен отступился. Но стоило только ему принять новое решение, как он почувствовал смущение и испуг. Ему показалось, что он потерял желание и способность вести нормальную, то есть посвящённую наживе и деньгам, жизнь. Больше всего его тревожило это нарушение целеустремлённости в его собственном поведении, которая раньше никогда не давала сбоев.
Когда Арсен добрался до дома Юрбена, места своего обитания, его начал мучить призрак Бейя.
Это были ещё не угрызения совести, а, скорее, сожаления по поводу бестолковой расточительности. Я убил его ни за грош. Потрясти неповоротливую совесть Арсена было трудно. Понятие греха находилось в ней в тесной связи с идеей материального ущерба и расточительного использования человеческих сил. Сделав первый шаг к признанию собственного преступления, он мало-помалу открывал всю его омерзительность. Подлый поступок Виктора помог ему ясно увидеть и осознать, что преступление можно совершить, не погрешив против материальных ценностей. В полдень Юрбен, как обычно, принёс Арсену еду. Но Арсен к ней даже не притронулся. Он находился в состоянии такого нервного напряжения, что не мог проглотить и кусочка хлеба. Его ненависть, раскаяние, уязвлённая нежность сталкивались между собой, громоздились друг на друга в изнурительной схватке. Ему казалось, будто он вязнет в каких-то топких тенётах, в шевелящихся во мраке сгустках ненависти, преступлений, страданий и мерзостей. Несколько раз, охваченный яростью, он вновь возвращался к замыслу убить Виктора. Он ощущал необходимость совершить это убийство, которое не только утолило бы его жажду мести, но ещё избавило бы от угрызений совести, словно это убийство, казавшееся ему гигиенической акцией, восстанавливающей справедливость, могло смыть с него кровь Бейя. Терзаемый искушением, и всё же удерживая сознание от притягивавшей его бездны, он вдруг почувствовал острое желание — так порой возникает у человека желание умыться холодной водой — кому-нибудь довериться, передать свою ношу в дружеские руки. У него возникла было мысль сходить исповедаться, но гуманность любого священника представлялась ему вещью довольно ненадёжной, поскольку священники являются ушами Господа вечного, бесконечного и, подобно Вуивре, не воспринимающего тайну жизни. Не слишком полагавшийся на Христа Арсен не думал о Богочеловеке, обшей мере, соединяющей жизнь и вечность, дающей бесконечности человеческий масштаб. Священник заинтересовался бы его делом, но не как человек, а как какой-нибудь бухгалтер.
Было два часа дня. Арсен подумал о немецком пистолете, который его брат Дени привёз в 1916 году с фронта. Оружие висело на стене, у изголовья кровати Виктора. А в выдвижном ящике стола в комнате для инвентаря лежала полная обойма патронов. Собирая в уме всё необходимое для трагедии, он рассеянно смотрел в окно и вдруг заметил во дворе Мендёров Жюльетту, направлявшуюся к сараю. Тут его осенило, он выбежал на дорогу и, не думая о том, как это воспримут её родные, вошёл в сарай, где девушка перебирала яблоки. Когда Жюльетта увидела его, во взгляде её отразилась вся та нежность, на которую он надеялся. Он подошёл к ней, подошёл очень близко, и сказал слегка изменившимся голосом:
— Жюльетта, это я убил Бейя. К рубину Вуивры повёл его я. Я думал о том, что делаю. И сделал это для того, чтобы жениться на дочке Вуатюрье.
Жюльетта задрожала. Её бледно-матовое лицо стало серым, а чёрные глаза от страха заметались. В этом взгляде женщины Арсен, замолкший, застывший в напряжённом ожидании, видел своё преступление. Но вот лицо Жюльетты ожило, а глаза засветились ласковостью, знакомой ему одному. Она обхватила его голову тёплыми и сухими ладонями, которые пахли яблоками.
— Ты хорошо сделал, что пришёл ко мне и сказал об этом. Уж я-то, Арсен, знаю, какой ты есть, уж я-то тебя знаю. Всё, что мы можем сделать, — это не мешать себе быть такими, какие мы есть.
— Но ведь яблоки на сливовых деревьях не растут, — прошептал Арсен.
— Но ты же не стал в конечном счёте жениться на дочке Вуатюрье. Тот, кто отказывается извлечь для себя выгоду из сделанного им зла, легко может добиться прощения. И к тому же не надо стремиться казаться хуже, чем ты есть на самом деле. Бейя и без тебя был способен пойти туда, куда ты его повёл. Я же видела, что он искал Вуивру, причём за неделю, а то и за две до того, как случилось несчастье.
Арсен ничего не сказал, но внутренне отказывался успокаивать свою совесть её аргументами. Впрочем, оттого что он признался, ему уже стало легче. Кротость Жюльетты, нежная убедительная сила, исходившая от её голоса и взгляда, действовали на него, словно опиум. Он чувствовал, как его кошмар цепенеет в каком-то тяжёлом и тревожном блаженстве, вернувшем ему ощущение печальной эйфории, которая приходит на смену детским горестям, снимаемым убаюкивающими материнскими руками. Но это был всё-таки удар по чувству собственного достоинства, и Арсена не могло не раздражать подобное униженное положение перед женщиной, оно не могло не внушать ему лёгкого недовольства самим собой. Он уже подумывал о том, как ему вырваться из-под заботливой опеки Жюльетты, как вдруг у входа в сарай появился Арман Мендёр, скрививший рот в нехорошей улыбке. Жюльетта, всё ещё державшая голову Арсена в своих ладонях, резко отдёрнула их и повернулась к брату. Лицо Армана покрылось складками суровых морщин, а глаза обрели привычное для них выражение бдительной озлобленности.
— Так что, бордель продолжается? — спросил Арман. — Господина хорошего выставили за дверь собственные родственнички, и он пришёл к нам плакаться! Но мой дом — не место для попрошаек! Однако давай-ка ты, Жюльетта, катись на кухню.
— Не обращай на него внимания, — сказала Жюльетта, обращаясь к Арсену. — Ты знаешь, какой он, у него ведь всегда с головой было не в порядке.
Подошедший к сестре Арман дал ей пощёчину, а поскольку она ответила ему тем же, схватил её за волосы. Арсен почувствовал себя перенесённым на десять лет назад, на ту дорогу, по которой он возвращался из школы. Его вмешательство стало неизбежным. Мужчины сцепились, но схватка оказалась короткой. Не заботясь о нормах честной борьбы, Жюльетта подошла к брату сзади, дёрнула его за уши и одновременно изо всех сил пнула под коленную чашечку. Тот потерял равновесие и упал навзничь. Арсен прижал его коленом и стал нещадно колотить. Он испытывал определённое удовольствие оттого, что ему удаётся израсходовать хоть немного той ярости, которую он с таким трудом сдерживал в себе последние несколько дней. Арман вопил, что пойдёт приведёт жандармов. На крик в сарай прибежал Ноэль Мендёр, и его присутствие положило конец сражению. Он не скрыл своего удивления, увидев на своей территории одного из членов семьи Мюзелье. Вежливо, но суровым голосом и с мрачным челом он потребовал объяснения. Арсен встретился взглядом с Жюльеттой и, прочитав в нём ожидаемый ответ, обернулся к её отцу:
— Я пришёл к вам просить руки Жюльетты, — сказал он, — но так получилось, что встретился с Арманом, и он не дал мне возможности что-либо сказать. Если вы ничего не имеете против, я приду к вам переговорить об этом в другой раз, когда мы немного остынем от того, что у нас произошло с Арманом.
— Приходи когда захочешь, — ответил Ноэль, смягчившись — Дорогу в наш дом ты знаешь.
Арсен попрощался и ушёл, провожаемый хихиканьем Армана. На дороге он увидел Белетту, как раз в этот момент проходившую со своим стадом коров. Заметив его во дворе Мендёров, она покраснела и устремила на него разъярённый взгляд. Пока Леопард не сразу поверивший своим глазам, встретив хозяина в этих запретных местах, колебался, она схватила его за ошейник, чтобы помешать ему броситься к Арсену, и погнала его пинками вперёд. Эта наивная месть одновременно и обидела и растрогала Арсена. Он пересёк дорогу и пошёл по полю в сторону леса. Солома уже начала принимать серый оттенок, а на опушке леса виднелись то тут, то там золотые и ржавые пятна. Арсен был спокоен, а нервы его расслаблены. Счастлив он не был: на сердце лежал камень, душа болела, но необходимость подумать о будущем возвращала его в состояние равновесия. Он женится в самом начале октября, снимет на другом конце Во-ле-Девера дом, который уже присмотрел для себя. Примется опять за работу. Унавоживание земли, пахота, сев, сад, животные, Жюльетта, которую он любит. Он расскажет ей обо всём: о Белетте, о Викторе, о Бейя. Оттого, что они будут часто об этом говорить, горе его постепенно растает. В лесу к нему присоединилась Вуивра. Они пошли рядом, почти молча. Обмениваясь редкими фразами, они как бы продолжали начатый накануне разговор, над которым Вуивра, похоже, долго размышляла. Время от времени она обгоняла Арсена и пылко смотрела на него.
— Если бы я знала, что мне придётся умереть, скажем, лет через тридцать, как тебе кажется, я бы изменилась? Вот ты вчера говорил мне: «горе, радость». А ты знаешь: всё, что с нами день за днём происходит, — это камни для того, чтобы построить свою жизнь, и нужно, чтобы они были дороги человеку, поскольку они должны держать стены до самого конца. А со мной, что бы ни происходило, из этого ничего не создаётся. Какие у меня стены? Этим утром я даже подумала: может, смерти люди учатся? Как ты думаешь, учатся?
— Над чем ты ломаешь голову? То, что я тебе тогда сказал, это просто так, одни слова. Забудь и думать о таких глупостях.
— Я об этом думаю потому, что люблю тебя, или, точнее, потому, что мне хотелось бы научиться лучше любить, так, как это делаете вы, люди. Я хотела бы, чтобы мне было тяжело нести мою любовь, мои горести, мои радости, так тяжело, чтобы я выбивалась из сил, как ты в тот день. Вместо того чтобы всё время идти вперёд, ни на чём не останавливаясь. Если бы мне пришлось умереть…
Когда к вечеру Арсен вернулся домой, его навестил кюре. Сначала он подумал, что его послала мать, чтобы попытаться нащупать пути к примирению в семье, но священник даже не намекнул на ссору между братьями. Красный от возбуждения, он говорил захлёбываясь и с явным ликованием в голосе, которое невозможно было скрыть.
— Ты в курсе? Это злосчастное происшествие. Разумеется, опять Вуивра. Как, ты ничего не знаешь? Вся округа гудит. Сейчас я тебе расскажу.
— Реквием, что ли? — спросил с тревогой Арсен.
— Да нет же, ещё лучше! — сорвалось у возбуждённого священника.
Он быстро изложил обстоятельства дела. В середине дня, приблизительно во втором часу, мальчишки играли там, где раньше стоял уничтоженный пожаром два года назад дом папаши Ру, от которого остались только груды щебня, поросшие ежевикой. Когда дети стали двигать камни, двоих из них укусили гадюки. Их сразу же отвезли в сенесьерскую аптеку, где они получили первую помощь, и теперь находятся вне опасности, но новость тем не менее глубоко встревожила население. Конечно, можно утверждать, что, кстати, не преминул сделать Вуатюрье, будто речь идёт о банальном несчастном случае, поскольку в таких каменных завалах змеи часто устраивают гнёзда. Но поскольку они уже давно никого не кусали, за исключением Бейя, но это случай особый, то никто не сомневается, что это дело рук Вуивры. Людей насторожило то, что Вуивра больше не играет в свою игру. Теперь уже недостаточно быть благоразумным и противостоять искушению рубином. Вуивра сейчас выпускает своих змей кстати и некстати. Даже выходя в свой собственный огород за салатом, люди не чувствуют себя в безопасности. Всё это было священнику на руку. Да и день оказался подходящим, 7 сентября, поскольку назавтра праздновалось Рождество Богоматери, выпадавшее на субботу. Устраивая на праздник крестный ход, священник не навлекал на себя никаких упрёков со стороны епископата, поскольку церемония эта, согласно наказу викария, служила двум целям. А вот положение Вуатюрье стало безнадёжным. Около девяти часов вечера, исчерпав все возможности противодействия, он предоставил священнику свободу действий. Процессии предстояло пройти через деревню, углубиться в лес, обогнуть пруд Шене и пруд Ну, выйти к реке на уровне покойницы из Старого Замка и по берегу вернуться в церковь. Вуатюрье провёл ужасную ночь, ломая голову над тем, стоит ли ему самому принимать участие в крестном ходе. Мэра мучили припадки неистового благочестия и била лихорадка набожности, его одолевали жгучая тяга к выполнению обрядов и жажда поменять веру, но он чувствовал, что совесть его отягощают тридцать пять лет антиклерикальной и прогрессистской деятельности, и тень бородатого радикала, депутата от его избирательного округа, смотрела на то, как он потеет в своей постели, глазами, полными печали и упрёков.
21
С пяти часов утра кюре кружился, как белка в колесе. С помощью трёх сестёр Муано, Ноэля Мендёра и кузнеца он расписал в ризнице порядок действий во время крестного хода и составил опись необходимого инвентаря. Три сестры подшивали оторвавшуюся бахрому на хоругви Жанны д’Арк, приводили в порядок одежду детей-хористов; мужчины чинили носилки, древко знамени, что-то строгали, что-то прибивали. Заботясь о материальных деталях, священник принимал такие меры, которые обещали наиболее надёжно обеспечить победу его ратям в их битве с бесом. Ещё с вечера его мысли занимала лакуна, обнаруженная им в его боевых порядках. Во-ле-деверская церковь располагала мощами какого-то святого. Это был обломок челюсти, который, скорее всего, никогда не пользовался в округе особенно большим доверием, а, может, слава его просто померкла, так как имя святого, когда-то являвшегося его обладателем, в памяти прихожан стёрлось. Получалось, что они в прямом смысле слова не знали, какому святому нужно молиться. Вуатюрье и радикалы в насмешку прозвали его Святой Челюстью. Мощи, естественно, должны были участвовать в крестном ходе, и священник остро ощущал неудобства этой безымянности, которая отнюдь не способствовала молитвенному энтузиазму прихожан. К середине утра его осенило, и он счёл, что озарение пришло к нему свыше. Позаимствовав шляпную булавку у одной из сестёр Муано, он наугад раскрыл свой требник и с закрытыми глазами ткнул этой булавкой в одну из страниц. «Попал в букву У», — сказал он, наклоняясь над книгой. «Святая Увгения!» — воскликнул кузнец. «Нет, — молвила старшая из сестёр Муано, — святая Урсула». Поскольку святая была девственницей, и кюре об этом знал, он не стал колебаться. «Господь сделал свой выбор, — сказал он, — святая Урсула». И тут же оценил всю важность этого откровения. Урсула была кроткой и благочестивой бретонской княжной, пастыршей любезного ей стада из одиннадцати тысяч дев, блиставшей своей верой и чистотой среди всех этих умерщвлённых гуннами девственниц, отчего её покровительство обретало особый смысл. Значит, лучшим, наиболее действенным его оружием станут невинность, чистота, белизна. План битвы созрел у него в мозгу мгновенно. Впереди, перед ним, пойдут одетые в белое дети-хористы. За ними, по возрастному принципу — маленькие девочки, тоже в белом, а посреди этой непорочной фаланги четыре причастницы этого года понесут раку с мощами святой Урсулы. За ними, после хоругви Жанны д’Арк, в порядке убывания девственности прошествуют сначала во-ле-деверские девушки, а потом и женщины, сплочённые вокруг хоругви святого Сердца Иисусова. Вдова Бейя, скорбная мать и живой упрёк преступлениям Вуивры, займёт место у всех на виду. И наконец замыкая шествие, пойдут мрачные и тяжеловесные пехотинцы-мужчины, чей проклинающий вопль прогремит, словно гром Господень, над осквернёнными бесом местами. Священник в ризнице принялся громогласно отдавать приказы. Ноэль Мендёр и кузнец вскочили на велосипеды, а сёстры Муано, подхватив подолы своих платьев, бегом рассредоточились по округе с тем, чтобы поднять по тревоге молодёжь и распространить благую весть о святой Урсуле.
Стоял полдень, и Вуатюрье, собиравшийся приступить к обеду, получил эту новость, поразившую его прямо в сердце. Только что случилось чудо, благодаря которому стало известно имя святой, которой принадлежала челюсть-реликвия. В то время, как священник молил Господа в ризнице, чтобы он соизволил устранить анонимность мощей, его требник сам, без чьего-либо участия раскрылся, и пробежавшая по страницам огненная полоса указала буквы, позволявшие составить имя достославной мученицы. Вуатюрье, шатаясь, вышел из кухни и уединился в своей комнате. Он чувствовал, как над ним нависает тяжкая десница Господа, беспощадного к радикальной партии и к фанфаронам безбожия. Пришла пора страшного отмщения. Святая Урсула выплыла из мрака и забвения, чтобы покарать негодяя, пытавшегося издеваться над её именем, называя её Святой Челюстью. Вуатюрье, преклонив колени на коврике перед кроватью, подводил баланс своим преступлениям, смиренно обвинял себя, просил прощения у Господа и у Святой Урсулы. Но при этом, несмотря на истерзанное, сокрушённое видением кары сердце, он всё ещё цеплялся за лживый, безбожный светский рай и вполголоса молил своего депутата о поддержке: «Господин Флагус, не бросайте же меня! Господин Флагус!»
Утром небо было покрыто облаками, но после полудня, в первом часу, оно стало ярко-голубым. Первый раз Реквием прозвонил в большой церковный колокол, чтобы известить прихожан о крестном ходе. Он согласился почти непрерывно звонить всё время, пока будет продолжаться процессия. Чтобы укрепить могильщика в его благих намерениях, Ноэль Мендёр принёс ему от священника два литра вина.
— Поблагодари священника, — сказал Реквием, — но вообще-то не стоило. Я ведь не пью.
Он взял бутылки, поставил их в прохладное место на лестнице колокольни и добавил:
— Два литра — это не так уж много для тех трёх часов, в течение которых мне нужно будет звонить. Что такое два литра вина, когда нам жарко?
— Тут ворчать нечего, — сказал Ноэль, — всё-таки вина надо пить столько, сколько нужно. Лишний стакан пропустишь, и дело начинает валиться из рук. Вот о чём надо думать.
— Разумеется, — согласился Реквием. — Это же я просто так говорю. Я ведь не пью.
В половине третьего, как и было намечено, процессия вышла из церкви. Громко трезвонили колокола. Нести крест, открывая шествие детей-хористов, поручили сыну почтальона, хотя он уже вышел из детского возраста. Его избрали как раз потому, что путь был слишком далёк, а крест — тяжёл. Но пришла Большая Мендёр и честно известила священника о том, что на неделе она лишила мальчика невинности. Так что сыну почтальона пришлось снять надетое на него платье и участвовать в крестном ходе в рядах мужчин. Отец дал ему оплеуху, попрекнув зловещим стечением обстоятельств, которое сейчас отбросило его в хвост процессии, а в один прекрасный день доведёт и до тюрьмы. Что же касается Большой Мендёр, то после долгих колебаний кюре поручил ей нести хоругвь Святого Сердца. И не потому, что хотел оказать честь этой беспутной и четырежды разведённой женщине, а потому, что с согласия самой Мендёр решил во что бы то ни стало занять ей руки и ум, дабы она не могла воспользоваться сообщничеством леса и не внесла беспорядок и соблазн в ряды мужчин. Впрочем, все поняли, каким намерением он руководствовался, и восхитились его мудростью.
Посреди деревни, у большого креста из кованого железа, где был сооружён алтарь из цветов, процессия остановилась. Мужчины и женщины громко скандировали: «Да здравствует Иисус! Да здравствует Святой Крест!» Прихожане пели с волнением и ликованием. Порядок проведения церемонии, цветы, белые одежды детей, осознание шествующими того, что они участвуют в прекрасном празднике и творят его, возвысило их до ощущения благоговейной радости. Никто не фальшивил, и часто голоса звучали довольно слаженно. Доминировали торжественные и низкие голоса мужчин, оплакивавших страдания и смерть Христа. А нежные и пронзительные голоса женщин просачивались сквозь мужское пение, подобно тому как надежда просачивается сквозь тень смерти. Вуатюрье, запершийся в своей комнате, чтобы не искушать себя зрелищем процессии, не мог не слышать песнопений, и был потрясён их торжественной грустью. Будучи не в силах удержаться, он наспех оделся и оседлал свой велосипед. Когда он нагнал процессию, её первые ряды уже входили в лес. Девочки пели «Аве, Мария».
Арсен, поколебавшись, всё же не решился отправиться вместе со всеми от самой церкви. Не признаваясь себе в этом, он опасался любопытства земляков в связи с переменой им местожительства. Они непременно стали бы его расспрашивать. Ему бы пришлось либо сухо уклоняться от расспросов, либо что-нибудь сочинять, и он с одинаковой тоской думал как о том, так и о другом. К тому же, крестный ход казался ему совершенно бесполезным времяпровождением. Арсен не верил в то, что Вуивра была бесом. Он видел в ней довольно несчастное божье создание, чей нечеловеческий удел в конечном счёте стал вызывать у него какую-то жалость. Чтобы не нарушить обещания, которое он дал священнику, он тем не менее намеревался присоединиться к шествию, когда оно будет проходить по дороге, или же у пруда Ну. А пока, чтобы его не тревожили другие мысли, он попробовал представить себе свою новую жизнь. Он думал о ней без какого-либо чувства тревоги. Неотступные угрызения совести, берущая за сердце ненависть и любовь красивой, достойной женщины — этого вполне достаточно, чтобы наполнить жизнь в самом её начале. Остальное тоже будет зависеть не только от воли случая. И всё же счастливым он не был. Он ощущал в себе какую-то неуверенность, хотя и не мог связать её ни с чем определённым. Предаваясь своим раздумьям, он бродил вокруг дома Юрбена. Все Мендёры, в том числе и Арман, участвовали в крестном ходе, и поэтому он свободно гулял, как ему хотелось. Несколько раз, пересекая дорогу, он замечал Белетту, одну во дворе фермы, и сердце его сжималось.
Белетта отказалась присоединиться к семье Мюзелье и на шествие не пошла. После того, как Луиза объявила о том, что уволит её 15 сентября, Белетта всем своим видом показывала, что она на ферме чужая. Оставшись в одиночестве, она теперь блуждала у опустевшего, остывшего дома и думала о том, какое её вскоре ждёт беспомощное положение. После того как она увидела Арсена выходящим из дома Мендёров, она потеряла всякую надежду на то, что вернёт себе его дружбу. Да и вообще, через неделю ей предстояло покинуть деревню и вновь встретиться в своей семье с лишениями, вшами, стыдом и такой нищетой, при которой воспоминания о более чистой и тёплой жизни быстро изнашиваются. Белетте трудно было кого-либо обвинять в случившихся невзгодах. Виктор ничего от неё не требовал. Он скорее даже любезно предложил ей поиграть, как оказывают услугу или как предлагают сигарету. Отказываешь раз, другой, но нельзя же отказывать бесконечно. Нет ни виноватого, ни помощи, ни надежды, нет ничего, кроме тяжёлой, тягучей печали, дополненной ощущением крайней нищеты. Ни денег, ни любви, ни нежности, ни груди. Жизнь маленькой жалкой служаночки, которая, испытав миг тепла, увязывает свой багаж в носовой платок. Ей предстояло познать другие фермы, где подмастерья, извозчики и лакеи будут передавать её из рук в руки, не спрашивая о её согласии, до тех пор, пока какой-нибудь мелкий уголовник, вроде её собственного отца, не возьмёт её к себе в халупу, чтобы наделать ей обречённых на нищету детей, пинками и затрещинами мстя ей за жестокость людей. Думая об этом, Белетта наблюдала за дорогой, на которой время от времени появлялся Арсен, но не посмела подать ему какой-нибудь знак.
Обогнув пруд Шене, процессия продвигалась по просеке среди высоких дубов и буков. Девочки пели: «Мы стремимся к Господу, он — наш царь». Между стволами огромных деревьев, в нефе высокого собора звонкие голоса поднимались к своду желтеющей листвы, сквозь которую виднелась узкая полоска неба. Иногда между вдохом и выдохом песни, слышался дальний звон во-ле-деверского колокола. Мужчины высовывались из рядов, чтобы восхититься зрелищем белых одеяний, шествующих под сенью лесной чащи. Но вот пение девственниц заглохло, а немного спустя умолк и колокольный звон. Внезапно, среди благоговейной тишины послышался одинокий голос, резкий, надтреснутый, напоминающий звуки музыкальной шкатулки, и все на него обернулись. Это был голос Вуатюрье, радикала, заклятого врага священников, хулителя алтаря, воспламенённого верой и надеждой, голос отступника Вуатюрье, распевавшего: «Я христианин, сие есть моя слава!» Священника пьянил этот тоненький голосок, и он возблагодарил Господа за то, что тот возжелал, чтобы этот ужасный якобинец публично унизил свою гордыню перед лицом священных истин. И ещё он благодарил Святую Урсулу, чьё заступничество способствовало свершению чуда. Вуатюрье-отступник продолжал петь в одиночку, но потом от звука голоса закоренелого радикала, так благородно освободившегося от заблуждений своего прошлого, по рядам пробежала дрожь, и мужчины, все мужчины исступлённо запели. Это было нечто большее, нежели простое пение, — это были вопли, в которых слышались отзвуки необычайной страсти. Поющие повернулись лицом к маленькому человечку, как бы приветствуя его, а священник с дрожью вопрошал себя, не будет ли способствовать этот психоз сокрушительному триумфу Вуатюрье на ближайших муниципальных выборах и не превращается ли сам Господь в радикала. Когда песнь успокоилась, во-ле-деверский колокол зазвучал более раскатисто и в праздничном ритме, словно приветствуя зарю яркого радикального будущего.
По правде говоря, Реквием, раскачивая большой колокол, не думал ни о делах радикалов, ни о самой процессии. Он только что выпил то, что оставалось от двух литров вина, подаренных священником. Это было довольно хорошее вино, которое пело в голове. Когда Реквием схватился за канат и привёл колокол в движение, то с первым же звоном его унесло в далёкий замок, где жила Робиде. Сидя в кресле, она скручивала сигарету, набивая её табаком, который брала из прорезиненного, вышитого золотыми нитями кисета. Родители её стояли у окна и говорили друг другу: «Как красиво звучит этот колокол. Мы никогда не слышали, чтобы колокол звенел так хорошо. Должно быть, это какой-то непростой звонарь». И Реквием старался звонить ещё сильнее. Родители обращались к дочке: «Ты слышишь колокол, правда же, он приятно звучит?» — «Ах! — вздыхала девушка, — ещё бы мне его не слышать!
Ещё как слышу». — «А ты часом не слышала, — спрашивали родители, — кто бы это мог так звонить?» — «Судя по всему, это человек по имени Реквием из Во-ле-Девера. Серьёзный человек. И непьющий». Родители смотрели друг на друга и перемигивались. Видя это, Реквием бил в колокол, не жалея ни сил, ни сноровки. Вместо того чтобы отпустить канат и ловить его на возврате, Реквием судорожно цеплялся за него и останавливал, когда он поднимался только на три четверти, ускоряя его ритм. Возбуждённый, охваченный порывом, он скакал по колокольне, как бешеный. И как-то получилось, что, не переставая звонить, он перенёсся в замок и сам. Здоровался там с одним, здоровался с другим, представлялся им, не набивая себе цену, как стали бы делать многие на его месте, а совершенно просто: «Это я, Реквием, это я, во-ле-деверский звонарь». Нежная девушка влюблённо ему улыбалась, а родители её восхищались всё больше и больше, поскольку колокол звенел в таком оживлённом темпе, что их охватывало неудержимое желание танцевать.
Посмотрев на часы, Арсен решил, что уже пора, и вышел из дома Юрбена, чтобы присоединиться к шествию у пруда Ну. Пересекая дорогу, он взглянул в сторону материнской фермы и заметил Белетту, стоявшую у края лужи. Казалось, она поджидала момент, когда он уйдёт, а может быть, надеялась, что он подойдёт к ней. Арсен подумал о том, какая она одинокая и слабая, как она, такая маленькая девочка, нуждается в нём. Он замедлил было шаг, заколебался, но не смог не вспомнить о Викторе. И Белетта, встрепенувшись от появившейся надежды, с грустью увидела, как он пошёл в сторону от неё по стерне. Она на миг остановилась как вкопанная у ворот, провожая его глазами. И внезапно крах всего показался ей настолько полным, а жизнь — настолько беспросветной, что она больше не могла выносить одиночества и стремительно побежала по полю. Она бежала прямо через лес, возможно, надеясь, что окажется у пруда, около шлюза, раньше, чем туда придёт Арсен.
Церковный колокол умолк, поскольку Реквием выпустил из рук канат, чтобы обнять Робиде. Белетта мчалась, продираясь сквозь кусты, низкие ветки которых царапали ей ноги. Отдалённое пение крестного хода затихло где-то в подлеске. Введённая в заблуждение эхом, которое иногда повторяло шум её шагов, Белетта останавливалась и, приободрившись, продолжила свой путь. Она вышла из леса на поляну между затвором шлюза и тропинкой, на которой, скорее всего, должен был вот-вот показаться Арсен. Процессия подошла к другому концу пруда и теперь пела женскими голосами. Вдали белые платья выделялись на чёрном фоне леса. Низкие ноты песнопения проглатывало расстояние. Песнь возрождалась по мере повышения тональности и звучала так нежно и плавно, что, казалось, она выходит из самого пруда и струится, словно тихая вода. Белетта остановилась у края леса, прищурившись, посмотрела вдаль, и от звуков голосов жизнь показалась ей чуть лучше. Сердце её всё ещё колотилось от бега и ожидания, но она уже не боялась появления Арсена. Посмотрев вниз на поляну между прудом и лесом, она увидела белое платье Вуивры, а на платье — рубин. Она решила, что ей привалило огромное богатство, которое сделает её не менее привлекательной, чем большая грудь, и подумала о том, как изумится Арсен.
Вуивра разделась здесь, чтобы спрятать от участников шествия свою одежду и рубин. Она зашла в пруд по другую сторону затвора шлюза и погрузилась в воду у берега так, что на поверхности осталась лишь её спрятанная камышами голова. Первой её мыслью было положить рубин на пути шествия и предстать самой перед людьми во всей своей наготе. Из уважения к Арсену, который мог принять участие в процессии, она отказалась от этого замысла. Впрочем, она ни о чём не жалела. Благочестивые голоса доносили до неё эхо тайны, которая тревожила её вот уже несколько дней, а теперь казалась ей близкой к разгадке.
Сжимая в руке диадему Вуивры, Белетта увидела, как на неё хлынуло целое море змей, и стала пронзительно кричать, зовя на помощь Арсена. Стоило ей только позвать его, как он вышел из леса, коренастый и сильный, в своём воскресном костюме, и от его упрямой головы исходила такая решимость, что Белетта почти перестала бояться. Тяжело ставя куда попало ноги, он ринулся в середину змеиной орды. Одной рукой он схватил Белетту и крепко прижал её к груди, а другой принялся сбрасывать змей, извивавшихся на маленьком теле девочки. Он выдёргивал их, будто сорную траву, сухим жестом и швырял на землю, приговаривая: «Вот тебе, мразь. Вот тебе, дрянь». Их становилось всё больше, и рука у него начала цепенеть. Рептилии карабкались по его ногам, кишели под пиджаком, под рубашкой, в рукавах, кусали его, плевались в него своим ядом. Ах, дряни! Крестный ход приближался, и звонкие голоса его участников летели над зеркалом пруда Ну.
А Вуивра раздумывала, кто же это мог звать Арсена с такой тревожной страстью, и не решалась выйти из воды. Потом она всё-таки вышла, отряхнулась, потянулась в солнечных лучах, влезла на затвор шлюза и свистнула змей, но было уже поздно. Арсен и Белетта лежали, не шевелясь. Арсен лежал распростёртый на спине, прижавшись плечами к небольшой кучке земли, и держал девочку в своих объятиях. Он сжимал её с такой силой, что Вуивре пришлось отказаться от мысли разжать эту мёртвую хватку. Кровь, покрывавшая пятнами его рубашку и костюм, стекала по искусанным рукам. Его истерзанная шея утопала в крови, но лицо оказалось почти нетронутым, если не считать некоторой одутловатости и нескольких отметин змеиных зубов, походивших на булавочные уколы. Лишь в поразившем своей нежностью взгляде маленьких серых глаз ещё теплились остатки жизни. Посиневшие губы шевельнулись, чтобы на последнем дыхании произнести слова, которые она не разобрала. «Восемью семь?» — спрашивал Арсен. Но Белетта свою таблицу умножения уже забыла.
Во-ле-деверский колокол снова загудел, возвещая о свадьбе Реквиема, которую справляли в замке в присутствии целой ассамблеи супрефектов, графов, маркизов и жандармских капралов, пока сам виновник торжества скакал по колокольне, судорожно уцепившись за канат. А Вуивра, склонившись над лицом покойника, искала в его переставших глядеть глазах разгадку великой тайны, которую ей так и не суждено было узнать.
Литературно-художественное издание
Марсель Эме ВУИВРА Роман
Оформление серии Иваншина Т. В.
В оформлении обложки использован фрагмент картины Густава Климта «Медицина»
Примечания
1
Да будет так в начале и ныне и присно… (лат.).
(обратно)2
Агнец Божий, иже взял на себя грехи мира, помилуй нас. (лат.).
(обратно)
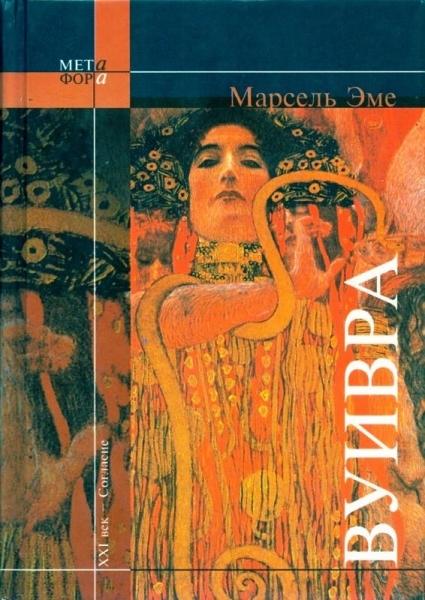

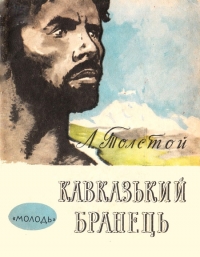


Комментарии к книге «Вуивра», Марсель Эме
Всего 0 комментариев