Ю З А Л Е Ш К О В С К И Й Жоро Борисову, прекрасному поэту Болгарии, которого невозможно представить без его милейшей жены, высокоученой Сашки – непредставимой без Жоро – на память о наших прогулках по песочку-бережечку Мексиканского залива.
МАЛЕНЬКИЙ ТЮРЕМНЫЙ РОМАН
Разница между театром и жизнью – театр начинается с вешалки, жизнь может ею закончиться.
Ольга ШамборантПАМЯТИ НЕВИННЫХ ЖЕРТВ ЛЖИВОЙ УТОПИИ
Консьержери тюрьма моя
Мой Тауэр моя Бутырка
Прощайте милые друзья –
Ведут в затылке делать дырку.
1
Беспокойно спавший человек, о котором пойдет речь, увидел себя во сне в невообразимо огромном римском Колизее, кладка которого была обвеяна всеми ветрами вечности и радовала взгляд благородством форм, чьи детали жили во многовековой любви друг к другу; рядом с этим архитектурным чудом показался бы невзрачным гномом любой из стадионов мира; величественное здание Колизея было расположено, – если бросить взгляд с высоты небесной, – в необозримо ослепительном, белозеленом березовом лесу, начисто лишенном примет присутствия людей, зверей и птиц; несмотря на явную близость чуть ли не всеобщего долгожданного торжества, тот человек испытывал во сне гнет малопонятной и вообще необъяснимой безысходности; она непонятно почему мешала ему разделить сдержанное мстительное злорадство большинства людей, присутствовавших в Колизее и остро жаждавших зрелища, готового начаться; спавший, разумеется, даже во сне не сомневался в брезгливом отношении своей души к чуждой ей низости этого исключительно человеческого чувства – чувства долгожданно злорадной, чуть ли не оргаистической близости зрелища показательного возмездия кому-то за что-то, или ни за что, – главное, лишь бы не тебе лично; о как ему хотелось в те минуты быть не человеком, а звоночком-жаворонком или ласточкой, одинокой ресничкой небес, чудесно отдаленной от сует земных, от грязных дел людских, – птахой, безмятежно наслаждающейся надмирными высотами да подчиненностью крылышек малейшим прихотям всесильных воздушных потоков.
Предвосхищение чего-то необратимо ужасного, вот-вот готового произойти и захватить каждого из присутствовавших в Колизее, мучительно сдавливало сердце, сбивало дыхание человека, все глубже и глубже погружавшегося в сон, словно в смертельно опасный омут.
«Возможно, – думалось ему во сне, – злобный демон этой трижды проклятой безысходности, донимает еще из-за того, что в здешнем амфитеатре не имеется ни междурядий, ни фойе с приличным буфетом, ни сортиров, к сожалению, физиологически необходимых в любом зрелищном центре… необыкновенно странным кажется полнейшее отсутствие знаменитых женщин России… ни тебе тут шикарных всепорочных фрейлин двора, ни великих актрис, ни балерин, ни художниц, ни партийных функционерок, ни престарелых народоволок, пропахших до мозга костей смесью парижских духов с инфернальным смрадом каторги… впрочем, не идиот ли я думать черт знает о чем?»
Он старался – как это бывает во сне – решительно соотнести с прИмороком, как бы то ни было, любезную душе реальность и освободиться от гнетущих чувств, поэтому отвлекался от них, пробуя понять, как именно возник сей шедевр древнеримской архитектуры в девственных краях Отечества, и каким образом доставлены сюда все приглашенные… почему у нескольких врат Колизея – ни войск, ни полиции, ни конных казаков, ни жандармерии, ни шпиков, ни рабоче-студенческих демонстраций, ни карет, ни извозчичьих пролеток?.. что означает полное отсутствие дворцовой гвардии и всегда соглядатствующей черни?.. его оглушал нестихающий гул необыкновенной разноязычности и малопонятных выкликов… повсюду представители всех имперских народностей… степенно настроены министры очередного кабинета… за наигранно серьезным видом фракционеров всех думских партий – отвратительность инфантильного упоения своей значительностью… генералы и адмиралы, почти как дамы, бессознательно очарованы своими наружностями, обвешанными златом и алмазами наградных побрякушек… кого только не было вокруг!.. известные политики, лидеры многих государств, высшие чины православия, магометанства, иудаизма, буддизма, фигуры видных писателей, философы, охотно покинувшие обжитые башни из слоновой кости для барахтаний в низинах земного бытия… вон – изнывает от романтичности возвышенных эмоций и давно ожидаемого торжества времени знаменитый поэт, восторженно балдеющий от действительно нечеловеческой «музыки революции»… потирая ручки, сбились в кучку чрезвычайно самодовольные фанаты экстремистской ульяновской утопии… это слово, как лукавый бесенок, нашептывало спавшему, что глагол «утопить», отныне будет связан не только с тургеневской трагедией «Муму», но берите, сударь, гораздо выше-с… слева – свора адвокатов, остро осознавших, судя по их виду, историческую важность своих персон для социума дикарской страны… это свершившийся факт: наконец-то они обрели статус незаменимых столпов Права, щитов Закона и теперь являются пожизненно обеспеченным сословием, призванным самой Историей к чертовой матери сменить порядком обветшавшую иудео-христианскую совесть на ее изнурительно тяжелом, главное, малооплачиваемом посту.
Во сне тот человек любопытствовал и с чисто музейным ротозейством приглядывался к группкам желтописцев, солидных писателей, крикливо одетых футуристов, к издателям, крупным инженерам, академикам, светилам театра, идолам синематографии, хирургии, офтальмологии, разумеется,ипсихиатрии – обозреть каждую из представительных, а также ничтожных, частиц всего мужского российского общества было невозможно… отсутствие женщин показаться угрожающе символичным и крайне подозрительным… вот чей-то знакомый густой радиобаритон, словно бы возникший из будущего, попросил всех официальных делегатов и разномастных гостей Всеимперского Общегосударственного Конституционного Совещания занять свои места, напомнив, что оно созвано по высочайшему распоряжению Его Императорского Величества.
«Надо полагать, – подумал спавший, – вся эта сволочь, там у себя в Зимнем, наконец-то разумно восприняла всю серьезность решительного окончания слишком затянувшейся агонии бездарнейшего российского самодержавия… главное теперь в том, чтобы власть оказалась в руках трезвомыслящей социал-демократии и партий центра, но ни в коем случае не у черной сотни и, разумеется, не в жаждущих крови кащеевых лапах лжефилософа, интригана, опасно латентного садиста Ульянова и своры его бандитов».
И вдруг – вдруг отполированные веками каменные плиты огромной арены начали медленно размыкаться, словно бы подчиняясь титаническим усилиям богатырски могучих демонов хтонических бездн… монарх-самодержец тут же вознесся над подземны царством, естественно, тоже принадлежавшим обдриставшейся династии… каменные плиты сомкнулись – тютелька в тютельку, шов ко шву – уже под безукоризненно начищенными штиблетами монарха… это показалось спавшему безмолвным символом необратимости, перекрывшим все пути назад и намекнувшим на предначертанность единственно правильного из всех возможных путей вперед – пути туда, к животворным источникам свободы, демократии, равенства перед Законом, социальной справедливости и к прочим баснословным чудесам нравственно действенного преображения человека, а также прогресса смягчения жестоких условий его существования.
Император был во всем штатском, прекрасно на нем сидевшем: изящный темносерый костюм, белая манишка, галстук в мелкий триколор; тишина воцарилась – именно воцарилась! – столь мгновенно и властно, что спавшему стало не до каламбурической иронии относительно ее царственности.
«Не лучше бы, – подумалось ему тоскливо, – царственности оставаться царственностью – как одному из высоких качеств Венца Творенья – и быть в глазах нации институтом чисто символическим, всегда обеспечивающим ценность и некоторую священность сложившейся в веках иерархической системы власти, а также божественного первенства величия простоты, безоружно стоящей на страже лицом к лицу с плебейскими мнимостями всего, по сравнению с нею, эстетического и политически искусственного?.. увы, – решил он, – как бы то ни было, аристократичная простота, хоть она и пытается сохранить остатки исторического величия, полностью обанкротилась вместе со своим хваленым гипнотическим великолепием… будущее – исключительно за демократией, ну а что касается пошлятины, неизбежно грозящей обществу сменой одних подешевевших идолов на другие, обесценивающиеся с еще большей скоростью, – то уж с чем-чем, а с подобной шелухой истории просвещенная часть нации справится легко и решительно».
Дорогие жители Российской Империи, глубокоуважаемые зарубежные гости, ясное осознание того, что во всех слоях общества, у каждого из народов, населяющих нашу Державу, возникла закономерная жажда социально-политических, не побоюсь сказать, революционных перемен, – я, Император Всея Руси Николай Второй, ради избежания чудовищных в близком будущем народных бедствий и несчастий, имел трудную радость своевременно прислушаться к велениям Ангелов Истории, главное, к поучительно мудрым советам Времени… поэтому без какой-либо торжественности, руководствуясь данными мне свыше правом, волей, а также гласом собственной совести, объявляю о ряде необходимых для страны нашей незамедлительных, основополагающих, коренных реформ всего имперского государственного организма… очевидно, что они являются синтезом всех полезных идей и проектов, исповедываемых вашими представительными партиями, отдельными политологами, философами, идеологами и ответственно мыслящими гражданами России… разработкой этих реформ и практическим их внедрением в нашу общую жизнь должны немедленно заняться политики, финансисты, экономисты, промышленники, торговцы, которых, надо полагать, безоговорочно поддержат рабочий класс, крестьянство, круги научной и художественной интеллигенции… мы все, добавлю, должны должны быть совестливыми служащими Реформ, хотя бы на время поднявшимися над партийными спорами, утопическими доктринами, безответственно сулящими тем, кто был ничем, стать всем, а также над сугубо консервативными взглядами, которые явно мешают нормальному прогрессивному развитию нашего миролюбивого многонационального государства… это не пустые слова, но призыв к каждому из граждан Империи прочувствовать высокую ответственность как перед нашими предками, так и перед потомками… являясь пока еще действующим символом власти, объявляю в данный миг о начале государственной политики строгого нейтралитета, гарантирующей устойчивое развитие всех наших мирских институтов – от свободного капиталистического рынка до финансовых дел, промышленности, торговли и сельского хозяйства… имею в виду развитие, вменяющее в обязанность любой из будущей законодательной и исполнительной власти заботу о непременной социализации распределения общенациональных доходов, справедливого для всех граждан, особенно для неимущих.
Но поскольку Самодержавию (таково уж повеление Ангелов Истории) пришла пора удалиться на покой, – в течение полугода должен быть подготовлен и осуществлен всенародный референдум… без какого-либо различения национальностей, вероисповеданий и сословий он, судьбоносный референдум, поставит перед всеми гражданами Российской Империи, достигшими совершеннолетия, не больше трех вопросов о предпочтительной для них политической структуре будущей демократической, подчеркиваю, многонациональной Империи… откровенно говоря, лично мне ближе остальных – Великобританский образец имперского государственного устройства, включающего в себя чисто формальное существование Королевства – существование, удовлетворяющее исторически, эстетически и бытообразно традиционно жизненную нужду народа, опять-таки в символическом присутствии Монархии.
Следующий шаги: сообразное решению всенародного референдума, принятие Конституции, полностью определяющей свободы, права и обязанности как каждого из граждан, так и ряд конкретных отношений всего Государства к каждому из них… проведение свободных выборов в высшие органы власти… образование просвещенной Комиссии, обязанной выработать быстрые, но долгосрочные меры, способствующие установлению справедливых отношений между трудом и капиталом… я уверен, что общественно-политической жизни демократического государства необходима высоконравственная, вновь подчеркиваю, просвещенная, критически мыслящая и, безусловно, деятельная оппозиция… ее существование будет поддержано всеми законами, а также силовыми службами, обязанными охранять и защищать порядки новой конституционной общественно политической жизни… именно поэтому мною дано указание незамедлительно выслать за пределы Империи всех до единого вождей так называемого большевизма, ратующего за кровавую революцию и якобы исторически необходимое превращение чудовищной империалистической – в еще более отвратительную гражданскую бойню, победители в которой – это обещано их лидером, господином Ульяновым – ни в коем случае не повторят «архилиберальных ошибочек» революции французской… в дальнейшем, после непременного отказа от принципов политического экстремизма, этим господам-товарищам будет позволено подавать прошение о возвращении на демократическую родину и о праве на участие во всех областях общественно-политической жизни народа…
Наш долг и прямое веление совести – расмотреть без какой-либо предвзятости, причем с позиций сегодняшнего времени, классические концепции политической экономии, а также полезные актуальные положения весьма и весьма агрессивного марксизма, не говоря о практических рекомендациях главного бухгалтера мировой революции господина Маркса…
Речь монарха усиливалась невидимыми мощными микрофонами; вместе с тем она, что странно, не оглушала, но несколько обескураживала и буквально ошарашила всех присутствующих неслыханными, чуть ли не фокусническими новшествами; вдобавок изумила непривычной универсальностью проекта, словно бы вобравшего в себя все остальные разнопартийные программы, – так что показалось невозможным, нелепым, смешным уверовать в возможность реального воплощения в действительность ее поистине революционных смыслов; все фигуры этой речи, все ее высказанные и подразумевавшиеся идеи словно бы иронически издевались над обеими революциями сразу: над пресловутой, тою что сверху, и той что снизу, прокламируемой действительно взбесившимися агрессивными большевиками; постепенно ошарашенность с обескураженностью слились с разливанным морем какого-то первобытного всеобщего самодовольства, презрительно выражавшего превосходство «граждански ответственного здравомыслия» над лукавой изворотливостью прекраснодушных маневренных иллюзий царя-банкрота, Николашки кровавого; многие, в том числе и спавший, считали эту речь – речью психически нездорового самодержца, явно надломленного смертельным недугом Наследника, собственным пьянством, кликушествующей государыней, засильем распутинского шарлатанского оккультизма, сановной шпаной придворья и беспределом великосветского разврата.
… Продажа лицензий – на очень выгодных для наших и зарубежных финансистов условиях – ускорит геологическую разведку и добычу драгоценных металлов, нефти, угля, железных руд, леса, редкоземельных элементов, нужных наукам и технологиям, а также поддержит всемерное развитие оснащенного техникой сельского хозяйства, транспорта, соответственно, повсеместного дорожного строительства на всей огромной, богатейшей, но слабо освоенной территории нашей России, скорей уж похожей, господа, на суверенную планету, чем на шестую часть суши… мир нашего общества, охраняемый Законом и вооруженными силами государства, должен стать условием превращения России – страны, надо сказать, во многом осталой и как раз из-за собственной огромности еще не научившейся повсеместному развитию своих природных богатств и людских ресурсов, – в мировую державу, гарантирующую благоденствие всем народам Земли и верность прочному союзу с другими державами, избавивишимися от стереотипного отношения к ней как к «русской опасности»… наши деловые возможности и ископаемые богатства практически неисчерпаемы… так что дело, господа, за, вновь повторяю, ответственным перед историей согласием драчующихся политиков и политиканов сделать интересы нового конституционного государства доминирующими над склоками честолюбивых и властолюбивых партий… только в этом случае политикам, финансистам, технократам, ученым, промышленникам, торговцам, военным специалистам, трудящемуся крестьянству, и организованному в профсоюзы пролетариату окажется по плечу грандиозная реформистская задача, поставленная Всевышним, Временем, и Историей перед всеми народами нынешней Империи.
Прошу прощения за всего лишь приблизительно очерченные контуры необходимых реформ, кажущихся мне более радикальными, чем революция Петра Великого, но ясно что совершенно необходимыми для всех видов достойного существования многонационального, главное, демократического государства… прямая наша обязанность – сделать Россию великой во всех отношениях державой… уважаемые господа, я жду деловой дискуссии… извините за несовершенство моей фразеологии…
В следующий миг спавший человек увидел себя в огромном жерле Коллизея, в каше беснующихся толп людских, изрыгающих бессмысленные крики, надрывные вопли и механически тупо скандирующих какие-то лозунги.
Он, тупо повинуясь какому-то смутному закону общеродовой жизни, сделался бездумной частичкой орущей человечьей массы, почему-то взбешенной, опьянявшей саму себя единым порывом к безнравственному – свойственному всем революциям – хаосу, – массы, видимо из-за страха перед неизбежным обломом, руководимой коллективной, точней, стадообразной психикой; а уж она, раздув одуревшие ноздри, звала все стадо к наркотическим источникам дьявольски самоубийственного отрицания очевидного добра, а также достойного труда гражданского существования; тот человек, почувствовав себя во сне представителем подавляющего большинства, сам того не желая, тоже одурел, словно выкурил пару самокруток анаши; он, подобно всем всему поголовью стада, что-то выкрикивал, орал, вопил, скандировал, провозглашал, демонстрировал… затем, ухарски разув одну ногу, с упоением и азартом влился своим полуботинком в громоподобный «хор» подошв и каблуков… стадо все ритмичней и ритмичней колошматило ими по полу, по пюпитрам, пюпитрам, пюпитрам… странное дело, всего лишь дружный грохот подошв и каблуков, начисто заглушавший человеческие голоса, становился все нестерпимей и нестерпимей – он разрывал перепонки, неслучайно названные барабанными, пока не встряхнул, пока не заставил спавшего человека пробудиться.
2
Обычно, так же как в детстве, после какого-нибудь невообразимо страшного сновидения, за секунду до чудовищного небытия, непременно ставившего все существо Александра Владимировича Доброво на краешек некой бездны, он просыпался действительно в натуральном холодном поту от смертельного ужаса, обернувшегося – о, счастье, о, счастье, о, счастье! – внезапным спасением от гибели; потом, в течение нескольких длительных, можно сказать, волшебных минут наслаждался пробуждением к прелестной яви либо дня, либо продолжающейся ночи.
Проснувшемуся поначалу показалось, что невыносимо страшный сон и неминуемая гибель, слава Небесам!, тут же обернулись привычной, на миг показавшейся незнакомой реальностью – любимей и родней которой не бывает; он некоторое время упивался радостью существования, не замутненной ни одним из обстоятельств жизни; это было то счастливое состояние тела и души, которого никогда ему не доставляли, да и не могли бы доставить, ни подарки, ни дивные книги, ни увлечение естественными науками, ни путешествия по Европе, ни юношеские похождения с премилыми дамами, ни пирушки с друзьями, ни радостная приязанность к дочери Верочке, ни даже безоблачная (до некоторых пор) любовь к жене Екатерине Васильевне; потом, прямо как завзятый дзен-буддист, опустошенный/одухотворенный в часы медитации, он не спешил выбраться из постели, наслаждаясь безмыслием и бесчувствием, – таким самодостаточным было его упоение; то есть он просто существовал, как причащенные к фауне червь, мотылек, любая лягушка-зверушка, бурундучок – жил, радуя себя и других, подобно травинке, васильку, деревцу, облаку, озерной водице; жил, словно бы и не замечая, что живет совершенно не нуждаясь в еще одного из своих, по его убеждению, неоднократных пребывания на белом свете.
Очнувшись же и оказавшись с глазу на глаз с явью тюремной одиночки, к тому же безжалостно пытающей светом мутной лампочки, А.В.Д. (так его с детства именовали родственники, друзья, потом жена, дочь, коллеги, теперь вот и лубянские садисты) почувствовал все ту же, многодневную, неотпускающую боль, словно бы навеки сросшуюся с тем, что от тела осталось; но в ней, в страдающей телесной оболочке, судя по всему, избитой-перебитой, явно одноглазой, измордованной пытками, голодом, ночными допросами, невыносимой, как оказалось, бессонницей, – в ней, превращенной в жалкую, еле дышащую, забывшую о покое тряпицу жалкой плоти, ненавидящую существование, – еще безропотно трепетала душа и теплилось сознание; оно, живое-невредимое – назло всем нетопырям палачества и вообще всей этой нелюди – своевольно плюя на телесные муки и явно не желая порывать все связи с действительностью, помогало растерянному разуму А.В.Д производить ни на что не годные, более чем отвлеченные мысли.
Например, его – ни к месту, ни к времени – очень серьезно заинтересовало то, с каким дирижерским артистизмом добивается боль, черт бы ее побрал, симфонического совершенства всех своих безмолвных, не похожих друг на друга звучаний в башке, в ноющей безглазой дыре, в плече, в костяшках пальцев, в бедре, в позвонках; а душа, вновь и вновь просматривавшая все подробности и страшные смыслы сновидения, как это делают малолетние любители синема, – душа испытывала неописуемые муки от стыда за тело А.В.Д.; это было самое беспощадноое, самое жестокое из всех возможных видов пожизненного, если не посмертного, наказания… внимательное просматривание сновидения терзало вовсе не болью, а осознанием необратимости случившегося: глупой потерей всего того, что было когда-то благими возможностями, заживо погребенными лично им вместе с толпами других недальновидных политиканов-идиотов; поэтому приведение в исполнение высшей меры – в казнь необратимостью – казалось А.В.Д. невыносимей любой из безобразных картинок ада, наверняка сконструированного самим человеком, наделенным, в отличие от мозговых аппаратов всех остальных живых тварей, мощным – к сожалению никем и ничем не ограничиваемым – воображением.
«Кто-кто, – думал он, – а уж саморазвивавшееся воображение наловчилось не только производить идеи и создавать множество великих мифов – в том числе зловредных, точней, утопических, – но к тому же измышлять, порою создавать иные реальности с помощью религий, наук, технологий и искусств… тем не менее, нет абсурдней того факта, что воображение именно возмущенного разума порою не способно – в отличие от всех растений, животных, даже вирусов и бактерий – полностью соответствовать простым смыслам и истинам существования… с огромным пафосом вознося над собою знамена различных мифических идей, доктрин и утопий, бесконтрольно разыгравшееся воображение нашего разума извращает, уродует и, в конце концов, медленно уничтожает все природные основы существования».
Разумеется, А.В.Д. (он был очень способным функционером одной из партий) еще в семнадцатом полностью ощутил и осознал непростительную постыдность своих недавних прекраснодушных, в сущности, совершенно безнравственных политиканских пристрастий, но почему-то ни одно из уродств дьявольски воцарившейся диктатуры совдепии не порождало в нем такого ужаса и адского стыда, как привидевшийся сон о его собственной реакции на выступление Государя Императора и о почти всеобщем отношении самоубийственно настроенной публики ко вполне своевременному, радикальному, но весьма разумному проекту, естественно, нуждавшемуся во всестороннем обмозговывании.
Дело не в том, сокрушался А.В.Д., что многие тезисы выступления предлагали далеко не совершенные, хотя вполне реальные пути бескровного, достаточно прогрессивного развития наций, а в том, что пути эти лежали под носом и у него лично и у массы прочих, таких же как он, идиотов, совращенных кипящим от возмущения разумом… так или иначе, одних очаровывал пафос «музыки революции», другие «сливались в хоровом экстазе» под мелодию и текст скорей уж стадного, чем партийного «Интернационала», третьи, четвертые и пятые покупались на пошлятину заведомо невыполнимых программ, – программ, основанных черт знает на чем, но только не на инстинкте самосохранения и не на трезвом знании аспектов политико-экономической реальности российской действительности того времени.
«Хорошо еще, что они взяли меня – увы, кретина прошлой жизни, райской по сравнению с нынешней – не в кругу семьи… просто – счастье, что трое моих гостили на даче у кузины… Господи, сделай так, чтоб их оставили в покое» – подумал и взмолился А.В.Д.
Сия мысль произвела волшебно обезболивающее действие на человека, уже мечтавшего о внезапной смерти и обдумывавшего как бы ко всем чертям самоубиться; только мысль побудила все его существо воспрянуть к жизни; к тому же она моментально оживила инстинкт мгновенного сопереживания беды ближних – беды любимой Екатерины Васильевны, обожаемой Верочки и несчастного пса Гена.
«Должно быть, теперь их тоже взяли – абсолютно невинных, чистых и умом и душою… не одни мы такие – вокруг свирепствует пандемия очумевшего террора… а собаке-то – за что же ей такое горе?.. Господи, мать Пресвятая Богородица, простите многогрешного мя, спасите их всех троих, а что до меня, то пусть истязают, я уже привык, да и просить больше некого… Великомученник Святой Трифон, помоги, отыщи выход из положения ради спасения двух самых близких на земле людей и родной собаки, впрочем, помоги всем невинным жертвам совдеповских безумств».
А.В.Д. вдруг почувствовал, как рядом с ожившим инстинктом встали готовые к атаке его товарищи по схватке: просто-таки лучезарная ярость и страстное желание действовать; несмотря на пытки и унижения он молчал две недели, показавшиеся адски вечными из-за исчезновения чувства времени в его существе, истязаемом пытками; «злостное, вредительское, вражески упрямое молчание» доводило чуть ли не до сладострастного иступления самого капитана Дребеденя, старшего следователя и его сменных сотрудников; иногда им казалось, что из-за жестокости предпринимаемых при дознании физических мер воздействия, начальству лучше уж оставаться в стороне от участия в трудных допросах и поберечь нервишки.
Однако Дребедень, подзаведенный издевательским отношением гражданина Доброво к задачам дознания, думал иначе, ибо настало время соответствовать задачам, поставленным партией, а также вождем всего трудового народа – народа, покоряющего в авангарде всего человечества пространство и время; поэтому он был обязан вдохновенно выдумать и вообразить, затем юридически грамотно запечатлеть политическое преступление, совершенное вредителем советской науки, в правовой, будь она проклята, реальности; причем, не просто выдумать, но еще и твердо уверовать в то, что таковое преступление действительно произошло в исторических условиях классовой борьбы, – буквально в эпицентре змеиного гнезда профашиствующих биологов-генетиков; при этом предварительное следствие обязанно ответственно и скрупулезно – чтоб комар носа не подточил – соблюдать все до единой процессуальные тонкости ведения дела; сугубая конспирация, активно-оперативные действия, надлежащим образом обеспечивающие тишиной мирный досуг миллионов честных советских людей, ордера на арест, обыск, подписи понятых, своевременное предъявление обвинений, данные различных экспертиз, показания свидетелей, безупречное, до малейшей запятой, протоколирование – все это должно выглядеть с иголочки, за нарушение – партбилет на стол, вон из НКВД; только тогда, товарищи, полное признание подследственного обретет органическое право являться основной уликой, достаточной для вынесения нашими судами и трибуналами – безусловно, самыми демократическими в мире – строгого приговора неисправимому вредителю, подлому врагу народа.
Возглавлявший следствие Дребедень был, так сказать, чисто по-писательски настроен на волну соцреализма в литературе и в других искусствах – на волну, к величайшему сожалению органов, еще не ставшую «девятым валом, который смыл бы к ебени матери в помойку истории тряпичную ветошь буржуазной юриспруденции»; так открыто высказывался их прямой начальник полковник Шлагбаум; Дребедень и вся его команда трудились по-стахановски; каждый безумел от желания поставить, согласно распоряжению Наркома Ежова, рекорд скоростного раскалывания каждого негодяя, предателя, врага, шпиона, заговорщика, диверсанта и вредителя; раскалывать эту мразь следует так, чтобы даже смерть показалась данной проститутке троцкизма-антисталинизма точно такой же недостижимой мечтой, какой в придонной глубине души молодого выдвиженца Дребеденя являлась официальная, якобы всенародная мечта о «придуманном жидами» коммунизме; не известно откуда взявшееся в образцовом чекисте инакомыслие – к тому же подпитанное модернизированными пещерными мифами – неимоверно пугало его самого, казалось очень странным вывихом ума, вынуждало внутренне чертыхаться и проклинать «светлую мечту», желая ей «провалиться пропадом ко всем чертям, вместе взятым по одному делу».
На предпоследнем допросе А.В.Д. Дребедень, до пота вымотавшийся, подзаведенный постоянно упрямой молчанкой «генетической сволоты», встал над арестантом, валявшимся в ногах, и, чумея от вседозволенности, как от перепива сивушной самогонки, врезал ему в левый глаз носком вреза шеврового сапога – глаз полувытек; потом, испытывая нечто вроде оргазма, снимающего напряг чувств, мыслей и воли, благодушно спросил: «Ну как ты, А.В.Д., чуешь себя в НКВД?»
Арестант, к своему счастью, ничего уже не чуял, ни о чем не думал; чекисты перепугались того, что, перебрав, жидко, по их словам, обосрались, допустили смерть подследственного не в камере, а на рабочем месте… ой, блядь, могут понизить в званиях… перевести на службу в дальние командировки ГУЛАГа… да и долго ли расстрелять к той же самой матери, пришив лучшим своим кадрам злонамеренный саботаж?.. «Мандавошки, это конец нашей карьеры», – тихо произнес Дребедень.
Срочно вызванная медчасть успокоила порядком перетрухнувших садистов; «Подследственный, – сказал им лепила, – всего лишь потерял сознание, как это часто имеет место быть в гуще славных наших буден».
А.В.Д. оказали первую помощь, обработали рану, наложили повязку, рекомендовали обеспечить «данную единицу, резко травмированную патологическим отсутствием у себя гражданской совести, сверхусиленной нормой кормления в течение трех-четырех суток, каковой следственный гуманизм ломает самых сильных», затем унесли на носилках в ту же одиночку.
3
Боясь шевельнуться и обдумывая ряд игровых комбинаций, арестант проникся гораздо бОльшим азартом, чем тот, с которым резался в преферанс, особенно в покер, со своими партнерами; в зависимости от пришедших карт, гениально блефовал; партнеры, запутавшиеся в напрасных догадках, начисто терялись: им приходилось бороться с ним, по сути дела, вслепую, что делало незаметным опасное соскальзывание кое-как расчитанной рискованности к губительной неопределенности, чреватой непредвиденностями и невероятностями хода игры; при этом А.В.Д. словно бы просвечивал подсознанку и знакомых и незнакомых партнеров, которая незаметно руководит мышлением и темпераментом даже профессионалов игры, их манерами, жестами, дыханием, мелкими, но многозначительными внешними приметами каких-либо тайных наклонностей, ну и так далее.
Лишь воспоминания о недавнем сне и о пробуждении, не раз приносившем счастье, а вот «одарившем» ничем не снимаемым стыдом и запоздалой сокрушенностью, вновь и вновь отвлекали, арестанта, неподвижно валявшегося на коечной подстилке, от обмозговывания необходимого порядка действий; отвлекали, тыкали и тыкали, как тыкают кутенка – мордой в нагаженное – прямо в образы и смыслы сна о выступлении Государя Императора; воспоминания были не только несравненно страшней избитости, одноглазия и, в общем-то, неминуемой смерти, но и острей всех прежних покаянных чувств и мыслей о своей прямой вине и причастности к разрушительным, самоубийственным, по сути дела, действиям и пристрастиям даже вполне умеренных политиков; одно дело – схватиться за голову из-за дьявольщины, воцарившейся в Совдепии, состраждать всем сердцем миллионам невинных людей, попавших в мясорубку сталинского террора, а вот почуять все такое на своей шкуре, но представить арест самых близких и любимых людей – невообразимо тяжело; это была не просто каверза судьбы, а непрерывная пытка, вызванная и трижды усугубленная прямой виной А.В.Д. за причастность ко всему происшедшему с Россией, теперь вот и с ним самим; прошлое обернулось настоящим, по колдобинам которого он вместе с другими самоубийственно настроенными крупными и мелкими пастырями-политиканами гонит на убой стада невинных людей, среди них мелькают фигурки жены, дочери, обожаемой собаки… «Господи, – стенал арестант, – сжалься над ними, я немощен, я в аду».
А.В.Д. не заметил, как потерял на пару минут сознание, словно бы почуявшее необходимость отключить человека от невыносимой действительности; очнувшись, умял принесенную надзором миску баланды с птюхой хлеба.
Когда его, слегка отдохнувшего, пришли проведать – «по экстренному приказу начальства» – двое подручных Дребеденя, он заблефовал: сделал вид вид человека, вовсе не рвущегося в бой, наоборот, убитого своим постыдным молчанием, поэтому наконец-то готового во всем сознаться; он заявил, что, что желает всемерно сотрудничать со следствием, самостоятельно передвигаться; при этом он, якобы сломавшись, разрыдался так жалко, так по-детски, так искренне, как учил его в юности сам Станиславский, чудом превративший родного дядю, братца матери А.В.Д., большого шалопая и горького пьяницу, в серьезнейшего театрального художника, сознававшего важность своей трезвой жизненной роли.
На новый допрос А.В.Д. был доставлен на носилках и осторожно усажен в мягкое кресло, отнесшееся к его избитому телу с милосердной внимательностью живого участливого существа; это его тронуло, но он тут же себя одернул: сентимент показался чреватым опасной расслабленностью воли и даже, как говорят бывалые люди, возникновением благодарной признательности к палаческому следствию за передышку и проявление гуманости, а все это вполне могло стать помехой маневренному блефованью; поэтому он сразу же крайне резко дал понять одному из подручных, что будет говорить только с гражданином Дребеденем; те немедленно вызвали своего старшего по телефону. – Ну как ты себя чуешь, Авэдэ, тут у нас в НКВД? – с прежней садистичной ехидцей и по-простецки спросило начальство. – Вашими молитвами, точней, хуже некуда… извините, гражданин Дребедень, этот разговор должен быть наедине… кроме того, после первого же обращения на «ты», вы сызнова не услышите от меня ни слова… молчать, как вам известно, я умею, знаком с волевой методикой самого Камо.
Знакомство тоже было блефом, но арестант в самом деле страдал, говорил действительно с большим трудом, это как раз помогало блефовать, запутывать, одурачивать злодеев, что полностью отвечало первым пунктам его вроде бы неплохо продуманного давнишнего плана, который следовало бы безкоризненно точно воплотить в жизнь. – «Сызнова», – иронически повторил Дребедень барское словцо, кольнувшее его слух и вызвавшее ухмылки подручных, – а я вот еще раз советую не выкаблучиваться и не тянуть меня «на понял»… лучше подумать о последнем глазе – не на приеме ведь находимся, так сказать, у известного глазника, профессора Филатова… мною решено сегодня же начать дознание, оно же допрос Екатерины Васильевны, жены врага народа, и дочери такового Веры, но сначала отдельно от него, а потом уж окучим вас всех вместе… да, да, вместе – он потер ручки, довольный – ничего не поделаешь, придется уж тебе, А.В.Д., понаблюдать за таким вот натюрмортом Кукрыниксов.
Дребедень говорил, заметно избегая нежелательных местоимений; арестант жестом поманил его наклониться поближе и прошептал в самое ухо: – Не будьте идиотом, повторяю – на-е-ди-не… до вас дошло?
Дребедень с привычной властностью не просто кивнул подручным, а с манерной резкостью указал подбородком на дверь – те немедленно удалились прочь. – Не забывайте обращаться ко мне только на «вы», – вежливо, но твердо, повторил А.В.Д., – в конце концов, вы же грамотей в первом поколении… считайте, что вам, возможно и мне, очень повезло… со своей судьбой я уже примирился, ваша – в ваших руках… если бы вы меня угробили, то со всех вас быстро сорвали бы кубики со шпалами, потом без суда и следствия, а не наоборот, поставили бы к стенке… суть дела открылась бы в любом случае и вот почему: в науке – к вашему сведению, она является благороднейшим из предварительных следствий – в науке много чего тайного всегда становится явным… учтите, суть дела открылась бы без вас, потому что копия изложения всей сути хранится в надежном месте… где именно, унаете после выполнения моих условий… попытаетесь выбить их силой, тоже не услышите от меня ни словечка… короче, заговор о покушении на жизнь вождя, который, гражданин следователь, вы мне бесполезно шьете, это фрак для заведомого мертвеца – он уже затрещит по всем швам… а пошевелив мозгами, вы получите все: зашифрованные документы, естественно, код к ним, но далеко не сразу, а только после выполнения двух непременных условий… мне сохраняют жизнь, во что и верю, и не верю, как любит говорить Станиславский, – раз… второе условие, так и быть, поглощает первое: немедленно освобождаете действительно ни о чем не знающих жену и дочь, они выезжают в Англию к отцу и единственному деду вместе с собакой… подчеркиваю, вместе с собакой… о их благополучном прибытии извещает – меня лично! – телефонным звонком, причем, в этом кабинете мой тесть, пригласивший в гости родную дочь и внучку, чтобы спокойно отдать Богу душу… ему стукнуло девяносто, слава Богу, успел человек вырваться из лап вашего Феникса Эдмундовича, который – вон он, висит пока что только на гвОздике. – А мы не зарвались ли, гражданин Доброво, мы не охуемши ли?.. ведь такой нахальной бредятины в нашем учреждении еще не срывалось даже с разбитых хлебалок соратников Троцкого… что за выпады мы себе позволяем?.. ведем себя, понимаете, хуже старорежимной проститутки.
Дребедень перестав «тыкать, никак не мог себя заставить обращаться к арестованному на «вы» и пользовался обходными местоимениями, что настроило А.В.Д. на оптимистичный лад. – Просто не могу вести себя иначе – сказал он, – поскольку отлично понимаю, что на карту поставлены ваша и моя жизнь, и она мне намного дороже вашей, хотя вы не ставите ее ни во грош. – Во-первых, не думаем, что я идиот – капитаны органов не бывают идиотами, и наоборот… во-вторых, оперируем фактами конкретных доказательств, не меля голословной чернухи… учтем, терпение органов не бесконечно… впереди, повторяю, мы тут вместе понаблюдаем за допрашиваемой супругой, затем за дочерью, а затем уж пойдет групповая очная ставка с применением методов дознания, даже врагу не пожелаю которых… не поможет – подключим к процессу арестованного пса. – Действительно, перейдем ближе к «Делу»… извините, забыл его номер. – «Двадцать один ноль девять». – Благодарю, ближе к «Делу, номер двадцать один ноль девять», – слово в слово повторил арестант.
«Эти цифры могли бы стать одними из самых счастливых, увы, наверняка последних в моей жизни цифр, – подумалось ему, – но пока что надо делать вид, что дрожу от страха, не желая подохнуть… на самом деле я уже давно потерял право на жизнь… главное – спасти Верочку и Екатерину Васильевну с Геном… при везении вырву их из гнусных этих лапищ, из помойного этого ада… и вообще, мало ли чем черт не шутит, когда Бог спит».
Если бы не чрезвычайная серьезность момента, А.В.Д., углубившись в неожиданно открывшийся смысл поговорки, непременно порассуждал бы сам с собой о возможном наличии страшных сновидений у самого спящего Господа Бога; в частности, не снится ли Ему в данный миг все происходящее с ним, с гражданином Доброво, с его семьей, с животными, далекими от человеческих дел, с миллионами невинных людей – с теми, что живут на воле, пока их не возьмут, или уже взяли, добивают на допросах, затем приканчивают, а счастливчиков томят за решетками родины чудесной, закаленной в битвах и труде?.. но, главное, не собирается ли черт, пока Господь спит, подшутить и сдать ему, А.В.Д., скажем, двух тузов, бубнового и червового, Дребеденю же – трефового и пикового?.. то-то будет смеху!»
Однако он резко пресек сознание, не вовремя растекшееся не по делу. – Извините, гражданин начальник, несколько отвлекся… очень трудно сдаваться, к тому же осознавая, что обратного пути нет… словом, убойное доказательство ценности для государства моего научного открытия имеется… а вот есть ли у вас возможность выполнить пару моих предварительных условий?.. любая из пыток, поверьте мне на слово, только ускорит ваше и ваших бандитов падение в тартарары… мне, повторю, – сохранение жизни и придурковатая работа в научной шарашке… жене с дочерью и псом – немедленный выезд к отцу и деду… вы, естественно, не останетесь в накладе: чины, должности, однако поспешите, не в раю ведь живете… к слову говоря, рай был не вечен, а вот ад – на каждом шагу… словом, я не предлагаю вести игру на равных – просто постараемся считаться с реальностью и сделаем допущение, что оба мы не идиоты… к примеру, проснувшись, я более остро почувствовал, что проиграл свою жизнь еще в пятнадцатом… тем не менее, не жажду подохнуть – согласен жить… временами, знаете ли жизнь, дает знать, что она намного сильней нежелания человека продолжать ее в ожидании неизбежной кончины… короче говоря, неужели вы считаете, что ничтожная моя жизнь важнее для государства и его вождя, чем крупнейшее открытие, нужное науке, промышленности и сельскому хозяйству?.. задумайтесь на секунду и поймете, что ведете себя, как полнейший остолоп и дебил… не поймете, значит, объективно вы и являетесь подлинным вредителем, соответственно, врагом народа в этих стенах. – Насчет того вопроса, кто из нас остолоп и дебил, мы еще к нему вертанемся в процессе дознания и установления полной правды… для начала принимаю оба предложения, так что выкладываем, так сказать, аванс – к начальству с пустыми руками не ходят, тем более по такому важному, понимаете, вопросу дня как освобождение и выезд жены врага народа с дочерью за пределы родины… собака-то – хер с ней, с собакой – она нигде не пропадет, поскольку, согласно закону, не считается членом семьи врага народа.
Для начала арестант придал своему и без того искалеченному лицу выражение страха, который он якобы испытывает, ступив на порог неотвратимости, затем разрыдался, словно бы трагически и навек расставаясь с самим собою – высоконравственной, но, как бы то ни было, только что скурвившейся личностью; голос его ослаб, подрагивали руки, блуждал и взгляд единственного глаза, окруженного кровавым синяком, – несчастного глаза, еще не свыкшегося с пожизненным одиночеством.
Дребедень быстро сообразил, что ему больше, чем расколовшемуся упрямцу, необходима небольшая передышка для разговора с высшим начальством, и, переборов себя, начал «выкать». – Вас унесут, тренируйте, так сказать, нижние конечности, набирайтесь сил и помните: во всем виноваты вы сами: раньше надо было колоться, а не калечить людям, черт бы вас побрал, остаток служебных нервов, что вызвано обострением… я – на ответственном посту и уже забымши, что у меня горячей, что холодней, что чище – башка, сердце, руки или жопа, которую ваш брат, интеллигентик, называет «мадам Сижу»… завтра-послезавтра будьте готовы к изложению деловой информации, если не желаете быть поставленными ровно на четыре, как говорится в народе, мосла. – Позвольте сказать напоследок пару слов?.. спасибо, но простите за хриплый голос, говорю из последних сил… на себя мне наплевать… клянусь всем, что дорого для меня и свято, – ни жена, ни дочь ровным счетом ничего не знали и не знают… я действовал скрытно, дома вы не найдете ни одного листика из моих исследований… я даже не разрушал ревнивых подозрений Екатерины Васильевны насчет возможной любовницы… из-за этого наш брак стоял на краю разрыва… не пытайте зря двух абсолютно невинных людей – они не знают правды и, конечно, подпишут все, что надиктуете… главное, не забывайте, что я выдержу «художественно показательный» просмотр всего, на что способны вы и ваша команда имени Малюты Скуратова… вы, понятное дело, атеист, но побойтесь Бога, поверьте если не мне, то Лермонтову, которого вы должны были учить в школе, что есть и божий суд, наперсники разврата, есть грозный суд: он ждет, он не доступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед». 4
Как это ни странно, Дребеденя вроде бы заинтересовало все изложенное, а на Малюту и Лермонтова он не обратил никакого внимания; арестант обрадовался: поплавок легонько дернулся, рыбеха заходила вокруг лакомой наживки.
А.В.Д., когда его несли в камеру на носилках, замер от возможного, предчувствуемого всем его сердцем, счастья удачи, которое, как бывало на рыбалке, остерегался спугнуть из-за чисто рыбацкого суеверия.
«Лишь бы крючок, – думал он уже в камере, – покрепче впился в губищу твою, палачина, лишь бы не сорвалась она с него, лишь бы ты пожадней заглотил жирного мотыля… все-таки, хотя я и полный идиот, но не настолько уж и глупый, даже можно сказать, умный человек, раз успел подстраховать Екатерину Васильевну с Верочкой… если возьмут и их, то необходимо на первом же допросе или на очной с ними ставке открыто заявить о своем намеренном двуличии, скрытности и обо всем том, что выглядело бы подтверждением моего гулевого поведения».
Он со страстью доходяги-дистрофика набросился в камере на принесенную жратву, пошел «в пике», выклянчил добавку, потом рухнул на койку, прикинулся спящим – лишь бы тюремщики, постоянно следившие за ним в очко, не заметили каких-либо внешних проявлений совершенно бешеного игрового азарта, целиком его охватившего.
Здоровый глаз А.В.Д. с непривычки устал и плохо видел в камере, до того хмурой, что даже свет – божественный свет – казался скудной птюхой черняшки, выдаваемой подлыми раздатчиками хлебов небесных; лежа лицом к стене, неживой хлад которой ублажал побитое лицо, и проводя по ней пальцами разбитой руки, он случайно нащупал две чем-то кое-как нацарапанные буковки «О М»; сердце забилось: свои инициалы, несомненно, нацарапал поэт, снова попавший-таки в чекистские лапы… буковки уже были закрашены серостью еще не совсем заскорузлой масляной краски, но все-таки приникновение пальца к их щербинками сообщало душе настрой возвышенный и, одновременно, глубокий – точно такой же, какой производили на нее дивные стихотворения гонимого поэта, осмелившегося не только написать, но и читать вслух неслыханно дерзкий стишок про усатую нелюдь в сапожищах.
Он думал о невольной родственной близости своей судьбы с судьбой поэта и о том, что подобная близость выше кровного родства… она – по душе, не по крови, причем, по душе бессмертной, по общей, уравнивающей великое с малым, поэтому благодарно наследующей все то прекрасное, что создано поэтами со стародавних времен до скверных и пошловатых наших дней… слава небесам, живы великие тексты, благодаря которым, как бы то ни было, преображаются поколения людей… ему вспомнилась шутка жены, воспринятая и как типичный образец прелестной дамской логики, и как нечто касающееся мистической тайны той вечной преемственности, что издавна бытует в культурах и языках всех наций мира: «Пушкин вовсе не умирал, – просто его Муза до сих пор не покидает крупнейших русских поэтов, достойных ее покровительства… неужели ученому это так уж трудно понять?»
А.В.Д. вспомнил несколько обожаемых им стихотворений О.М., с виду простых, на самом-то деле таких – до головокружения – бездонно глубоких, что проникся, как бывало прежде, вдохновением, безусловно, порожденным величественным духом словесности гения.
«Это ангел мой подсказал, как следует подстраховаться, что притырить и где с умом оставить приманку – «подзабытые» скомканные, явно суматошно брошенные в мусорку, зашифрованные второпях странички… больше некому, это он – ангел… о если б мне, как человеку, всегда думать наперед не о лучшем, принимая желаемое за действительное, а о самом что ни на есть худшем из всего, что может случиться и произойти, то скольких, Господи, дерьмовых ошибок можно было бы избежать, скольких не допустить глупостей, нелепостей, уродств в своей собственной жизни, в жизнях близких мне людей… в конце концов, не терзала бы мою совесть идиотская приобщенность ко всему тому, что превратило в руины российскую действительность – какую-никакую, однако обладавшую возможностями постепенного налаживания отживших свой век несправедливых и неправедных, жестоких порядков – тут уж ничего не поделаешь – так, а не эдак исторически сложившегося уклада жизни… а если бы у четверти дурацки самонадеянных партий – или хотя бы у еще одной, не менее целенаправленной, упрямой и сильной, подобной ульяновской, – имелась такая же волевая и продуманная программа, как в зловеще приснившемся выступлении Государя Императора, то у миллионов граждан – в масштабах изуродованной страны – были бы отличные шансы на спасение от первой мировой, затем от полупьяной революции, кровавой гражданской, хлада, глада, мора, сегодняшнего террора да прочего абсурдистского бреда всех ужасов диктатуры генерального параноика и его соседей по кремлевской палате номер 666 имени Антихриста… ко всему прочему, наши бесноватые дьяволята берут пример с фюреровских, а те – с наших – именно все они пожирают друг друга… детям же с малолетства – представьте себе – скармливают черт знает что, вплоть до сталинской конституции… дальнозоркий Паскаль правильно заметил: «В нынешних школах преподают все кроме порядочности»… впрочем, Запад тоже хорош в смысле допотопных принципов воспитания входящих в жизнь умов и душ… вместо непременного – с детского садика, с первого класса – постепенного ознакомления школьников, потом и студентов, с основами тактики и стратегии высоконравственного поведения в различных ситуациях личного существования и в культурно-политической жизни общества – вместо всего такого та же многовековая зубрежка, казенность традиционного преподавания, наращивание мускулов и внешне вежливых манер поведения… все это отвратительно искажает представление подростков о сущности нравов и жизненного поведения человеческой личности, в которой, вопреки всем попыткам Преображения, горестным урокам истории и прекраснодушным положениям мечтательных гуманистов вечно дремлет человекозверь… и это после поучительной трагедии России, где зло лукаво рядится в добро… наоборот, «большие друзья Советского Союза» раболепствуют перед палачем якобы с трубкой мира во рту и сочиняют прекраснодушные легенды о СССР – светоче мира и счастья для народов планеты… неужели моря крови, пролитой и проливаемой с семнадцатого, так и уйдут в песок, уйдут впустую?».
Неожиданно А.В.Д. ужаснула мысль, пришедшая в голову впервые за всю, как склонен он был полагать, жизнь, видимо, взявшую финальный разбег к очень скорой – к неотвратимой смерти.
«Господи, прости и помилуй грешного мя… а вдруг при воплощении Замысла в Промысел, то есть еще до эволюции – возможно, всего-навсего в одной из ее многочисленных стадий – Ты допустил некую ошибку?.. что тогда?.. расплачиваться-то за нее приходится не «круглым счастливчикам», а всем поколениям людей, создаваших, ныне создающих нашу трижды проклятую историю, изначально конкретные смыслы, главное, цели которой никогда не были известны людям… временами она кажется совершенно самоубийственной и задумываться о ней нет сил – столь неимоверно ожесточены, кровавы, подлы, глупы и нелепы дела человеческие… конечно, баснословно ускоряющееся – благодаря свершениям разума и людским делам – развитие цивилизации восхищает сознание прекрасными плодами: приручение огня, колесо, литье металлов, агрономические новации, блестяще искусства, научные достижения, технологические чудеса… но нельзя же не заметить, что эти сладкие, подчас восхитительно прекрасные плоды выращены не усилиями «широких трудящихся масс», но в общем-то выдающимися гениями-одиночками или коллективами ученых и конструкторов… Господи, Тебе есть кем/чем гордиться и восхищаться, но все эти плоды довольно странным образом встают и ныне, как всегда вставали, на службу и простым, и отлично образованным, всесторонне воспитанным людям, в которых внезапно просыпаются человеко-звери, пожирающие друг друга так, как это происходило тьму тысяч лет тому назад… основываясь именно на этом первобытной животном свойстве, въевшимся в кровь, плоть, память – в наш генотип – все предводители человечества, доктринеры различного рода утопий, распада, смерти, разномастные идеологи террора, экстремизма, политиканы, деятели, прости Господи, «искусства» ведения войн, управления разведками, акулы финансизма, промышленности, коммерции и жрецы идолопоклонничества – все они насильно гонят свои покорные народы в мясорубки вражды, очередных противостояний и войн… в мирные же времена всячески поощряют такие коммерчески выгодные, сублимированные, но тщательно закамуфлированные формы взаимопожирания, как конкуренцию, спорт, культ мод, порнографию, киноужасы, литературные подделки о насилиях, убийствах, мошенничествах, аферизме, шантаже и так далее… и все эти отлично оплачиваемые деятели, не переставая активно злодействовать, безнаказанно обитают среди нормальных, мирных, добропорядочных, трудолюбивых, здравомыслящих и, как бы то ни было, преображенных человеческих особей… более того, скромные особи – нормальные граждане, в их числе и я – презирают любого рода политикантство и занимаются вполне полезными мирными делами… жаль, что не привык и не умею матюкаться… и вдруг – вдруг все мы оказываемся втянутыми в самоубийственные авантюры человеко-зверей, пришедших е к власти, научившихся выдавать зло за добро, а божественное добро употреблять во зло… взять вот меня – собственно, меня уже взяли… но я даже не знаю, за что именно они меня измордовывают, требуя подписать черт знает какие измышленния о каком-то абсолютно идиотском заговоре… подсовывают какие-то сюрреальные цирки и свидетельские рожи, словно бы нарисованные каким-нибудь современным Босхом… хищники на тумбах, массовое съедение ими членов политбюро во главе с родным отцом, другом и учителем товарищем Сталиным… я бы с удовольствием облевал «широкую грудь осетина» и форменного людоеда, но, по многим причинам, никогда не возглавил бы против него «заговор профашистской науки, так называемой генетики»… вот в чем «Дело, номер 2109»… будь же все они прокляты вместе с их революцией, террором, основоположной, от слова «ложь» и классовой борьбой… всего подлежащего проклятью, не перечислить… раньше надо было проклинать все такое… причем, не в одиночку, а коллективно – соборно, как говорят наши богословы… впрочем, в истории никогда не бывало и скорей всего не будет добросовестного воплощения в реальность идеального, а вот принимаемое политиками за идеальное всегда мечтает стать воплощенным любыми способами в реальность… в результата – сижу, полумертвый, в той же камере, в которой парился невиннейший и добрейший из людей, великий поэт – поэт настолько свободолюбивый, что бесстрашно бросил перчатку с левой руки рукою правой прямо в рябую рожу убийцы… жаль, очень жаль, что уже не додуматься до того как подохнуть: кто прямо виноват в безумных нелепостях человеческой истории?.. и вообще, кто она – предначертанный роду нашему путь, или бездорожье, за пределами которого разверста пропасть в ничто?.. разве допереть почему невинными жертвами истории всегда были, есть, правда, не ясно до каких сроков будут ими оставаться не только люди, занятые нормальными делами существованья, но и растения и животные – вся биосфера Земли… мог ли я, полудохлый и изуродованный, когда-нибудь представить себя валяющимся на тюремной койке и – до сладостно-горькой боли в душе – жалеющим, что я не рыба, не птица, не слон, не тюлень, но двуногий разумный человек, невыносимо завидующий всем нелегким основам существования братьев наших меньших?.. их труд – продолжение жизни и размножение себе подобных… они себе живут, друг друга пожирают и, слава богу, не осознают, что таков уж их строго иерархический порядок природной жизни, то ли установленный, по мнению теологов, Творцом, то ли самосоздавшийся, то ли, на взгляд позитивистов, развившийся по загадочной воле природы без всяких вмешательств в ее дела Св. Духа и прочих «мистических штучек»… инстинкты сохранения вида и рода предостерегают животных об опасностях, помогают им оставаться живыми и сытыми, упасать детенышей от гибели и проч. и проч… кроме того, в отличие от людей, звери стараются уважать свою территорию и в меру сил защищать оную, не посягая на чужую… пожирают же тех, которых удастся завалить, поймать, сожрать, но не больше, чем требуется для поддержания сил и кормления потомства… мыслю наивно и инфантильно, но звери никогда не устраивают ничего напоминающего образов зла, сотворенных людьми… какой – до «полного торжества» эволюции – была миллионолетней, а то и старше, история китов, слонов, львов, рыб и птичек, такой и останется, если, конечно, многие из них не попадут в список уничтоженных людьми и ясно почему вымирающих видов… а человеко-зверь, спящий даже в сравнительно преображенных людях, продолжает неистовствовать, побеждая не только все Заповеди, свыше данные Божествами и Пророками тем же людям, но и все здравомыслие, весь жизненный и духовный опыт, накопленный культурами… люди как неистовствовали, так и продолжают неистовствовать, но теперь уже ради целей, несравненно более низких, чем надобности первосуществования… причем миллионы людей питаются не мудрыми преданиями старины, не свершениями гениев искусств, не здравым смыслом, не помыслами души, а псевдомифами, сочиненными умственно ненормальными политиками, идолами финансизма, промышленности и честолюбивыми жрецами новейших утопий, с их мудацкими планами мироустройства… вот и валяйся, А.В.Д., отдохни слегка от выбивания из тебя черт знает чего стахановцем органов Дребеденем… валяйся и думай: кто виноват?.. Творец?.. Природа?.. может быть, виновна случайная мутация, вызвавшая к жизни непредвиденные особенности саморазвития человеческого разума, который со временем научился не только реагировать на каждое из свойств окружающей действительности, но и осознавать их, делать практические выводы, затем уж абстрактно мыслить и создавать как прекрасные, так и самоубийственные идеи, соответственно, воплощая их в жизнь?»
Мысли утомили и без того обессиленного арестанта, терзаемого душевной и телесной болью; он забылся, потом очнулся и, несмотря на усталость, подумал:
«Точных ответов на такого рода вопросы нет ни у философов, ни у науки… поэтому все недоумения вопрошающей личности следует формулировать точней: кто виноват в том, что ты здесь-и-сейчас, то есть в пространстве и времени бытия, которое, по идее, вроде бы должно быть укромным для тебя лично гнездышком отдохновения от трудов существования и местом выпестывания продолжателей рода, а оказалось горчайше ядовитым плодом той самой, некогда желанной твоему разуму, революции?.. истинно правильным, может быть только один покаянный ответ: «Неопровержима моя личная вина во всем случившемся и с Россией, с моими близкими, со мной, с теми, кто не имел никакого касательства к поганому политиканству»… сей ответ повторю сам себе за секунду до пули в затылок, хотя предпочел бы встретить смерть открытым глазом… Господи, помоги, Мать Пресвятая Богородица, не оставляй, – дай вызволить близких из-за решетки… ну а совсем уж напоследок, если повезет, подумаем, А.В.Д., о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви… душа согласна с ясностью многого из того, казавшегося ранее смутным и неразрешимым, что открылось только здесь недалекому моему уму, вольно и невольно принимавшему участие в самоубийственно массовом преступлении прошлых дней».
5
Спал арестант, как только что расстрелянный; утром, после «приема пищи» его навестил Дребедень, пояснив, что ситуация неординарна: его визит в камеру одобрен самим наркомом; одет он был в штатский костюм с жилеткой; бросалась в глаза чуждая этому живодеру снежно белая сорочка, бездарно повязанная заграничным галстуком, явно сдернутым с чьей-то бывшей выездной выи… тем не менее, в личине младого садиста было нечто от донельзя озлобленнной – прости несчастное собачье племя! – дворняги с холодным человечьим сердцем, пересаженным одним из учеников академика Павлова, отчего самодовольное Дребеденище выглядело чучелом, перепуганным самим собой – гнусной помесью мертвоглазого бюрократа с шестеренкой массового террора и лубянских бесчинств; словно бы вынужденное принять сошествие с неких эмпиреев в моргообразную одиночную камерку, в самый центр первого круга всей этой истинно человеческой, какой и положено ей быть, трагедии, – это чучело прямо-таки источало из себя смрад превосходства, несоизмеримого с положением покалеченного арестанта; А.В.Д. чуть было не рассмеялся: так смешон был вид Дребеденя именно в этом – не бедняцки нищем и все-таки благородном жилье – а в полностью обездушенном, то есть адском, пространстве железобетонной безысходности; главное, одна из многих камер бесчисленных тюрем на земле подавляла душу отсутствием в ее стенах всего Божественного и, наоборот, пришибала ее, абсолютно неповинную, присутствием злобного торжества ничтожных двуногих, жалко глумящихся над высочайшим из земных и вселенских качеств; А.В.Д. мельком подумал о брошенном сюда, в эту камеру, великом поэте, безусловно, взмывавшем над унылой тупиковостью серых стен и возвращавшемся к блаженным раздумиям о гениально поэтических картинах Дантовской преисподней…
Дребедень мельком взглянул на арестанта; мысленно отметил «факт некоторого наличия заживающих следов долго запекавшейся крови на черепе, физии, шее и руках».
«Нормально, – подумал он, – у скотины перевязано ухо, полуоторванное моими молодчиками… забинтован глаз, сгоряча, хули говорить, выбитый из этой дворяно-кадетской, если не жидовско-эссерской, мрази моей психованной обувкой… а потому что нЕ хера, понимаете, молчать, финтуя с рыцарями и ударниками дзержинского меча – не в футбол режемся, а противостоим в борьбе классов… арестовывают не для молчанки… второй, видите ли, глаз заплыл и правильно сделал, заплывай – чем зря ебаться со своим микроскопом в башне из слоновой кости, откуда тебя сбросили… царизм тоже сброшен не для того, чтобы дознание производилось в белых перчатках… или мы вас, или вы нас, третьего пути нет, четвертому же не бывать, если переиначить лозунг махровой реакции правого и левого шпионо-диверсантских уклонов».
Взгляд руководителя предварительного, одновременно окончательного, следствия походил на профессионально взыскательный взгляд, скажем, художника или ваятеля, с интересом брошенный на недозрелый плод своего вдохновения и рук своих, готовых к завершению сложного творческого процесса. – Выглядите вы сегодня поприличней… с верху получено «добро», так что оба предложения будут приняты, если окажется, что игра стоит свеч, как раньше говорили попы… точней, авансовая с вашей стороны информация должна быть не фуфловой, а ценной, то есть намного превышающей стоимость наличной вражеской жизни, а так же благополучного прибытия семьи в логово английского империализма, на что нам наплевать… что трое мертвых, что трое живых – один, как говорится, шаршавый… не бздите, рано или поздно, но однажды мы войдем и в Лондон… если же распознаем хитромудрую темноту с чернотой, то вам что? – может быть, напомнить о ленинско-сталинском указании по поводу полезного для партии и народа соотношения нужд принципиально классового следствия с вашей вонючей кадетской моралью, выброшенной на помойку исторической необходимости, так?.. или вы хотите одноглазо понаблюдать, как, культурно говоря, имеют то вашу супругу, то дочь, причем, в особо извращенном виде?.. а ведь поимеет их не местный наш Лука Мудищев, а ваша же немецкая овчарка… таково последнее распоряжение высшего начальства… да вы у меня, еще раз подчеркиаю, и до эффективного воздействия запоете как миленький, а то наглеете и выябываетесь, прям как этот… вот оторвут яйца и тенорком завизжите козловскообразным, а не в согласии, понимаете, с шаляпинским антинародным басом… сапоги вылизывать возьметесь и просить пощады… даже смерть вымаливать начнете, когда теми же елейными свечами примемся подпаливать подмышки, выжигать пах, ну и, само собой, иметь женских субъектов следствия в вашем обязательном присутствии… повторяю, обожаемая вами овчарка находится в нашем питомнике… она вот-вот пройдет дрессуру и тренаж, и мы ее, гадость кусачую, тоже вызовем на допрос в качестве стимулятора дальнейших показаний насчет сущности данного «Дела»… у нас, если хотите знать, запевали и сознавались во всех преступлениях и мотивациях заговоров орлы почище, чем вы, воробей ничтожный, некий А.В.Д. из НКВД… ясно излагаю?
Арестант отвечал неторопливо, тихо и с большим трудом, но мнения свои выражал предельно четко, иногда иронически, – таким уж был его нрав. – Нисколько не сомневаюсь в ваших застенчивых, от слова «застенок», возможностях, сочетающих в себе полноту бюрократичной процессуальности следствия с его же беспредельной беззаконностью… больше не собираюсь взывать ни к вашей совести, ни к страху божьему… пытайте, верней допытывайте, ведь злодейские пытки, к моему счастью, а вам назло, не бесконечны… насилуйте двух невинных, абсолютно ничего не знающих о моих делах, уродуйте божественно чистую психику собаки… ей богу, я почему-то больше боюсь именно за вас, чем за всех нас четверых… а удивление – и как чувство, и как мысль – во мне уже убито, оно мертво… что бы вы не делали – не услышите от меня ничего кроме завершительных стонов и звучания зловонных газов, напоследок испускаемых трупом, что часто случается, но, к счастью, уже не будет иметь никакого моего касательства к сути жизни и смерти… неужели, гражданин следователь, вы не доперли, что я один из редких монстров, рожденных со способностью претерпевать любую боль?.. если сие не дошло, то попробуйте выбить еще один мой глаз, вживую содрать со спины кусок кожи, забить иголки под ногти… но, поверьте, лучше бы вам не набычиваться, не выкаблучиваться и не устрашать… не то будет поздно – по головке вас не погладят… и раз уж я принял решение, то это я его принял, а вовсе не вы, за что и заплатите требуемую мною цену… если проигнорируете, то обрисую вкратце ваше будущее: следом за мной подохнете и вы сами, как подыхали ваши предшественники и, я в этом уверен, будут подыхать наследники этого кабинета… не забывайте еще об одном условии: собака тоже непременно должна выехать за пределы родины светлого будущего вместе с моей семьей – сие условие не подлежит обговору.
В мрачной одиночке, как после прочерка молнии безмолвной, возникло предгрозовое молчание; с минуту и арестанта и скучные стены камеры ублажала необыкновенность тишины, родственной неоглядно надмирным бескрайностям, а не уныло стиснутым помещениям тюрьмы. – Не надейтесь, не спровоцируете нервоз мего терпения, гражданин Доброво, поэтому не выябывайтесь, как-никак преступно являетесь дворянином, а не шаромыгой с Трубного рынка… мы тут специально реквизировали заграничную каталку у парализованного врага народа и конструктора многопрофильных фрезерных станков Иорданского, ранее продавшего за таковую коляску секретные чертежи, наплевав, понимаете, на героев гражданской войны, тогда как оные, черт бы его побрал, принадлежали не хую собачьему, а родине первого в мире государства рабочих и крестьян! – Вы забыли о военнослужащих, войсках НКВД, а также о научной, технической и художественной интеллигенции. – Я о вышеназванной шатии-братии не только не забымши, но через час состоится наш серьезный разговор, так что соберемся с мыслями, считаем их своим единственным багажом, когда услышим: «Доброво, на выход!» – Отлично, но учтите: разговариваю только с вами, могу и с вашим наркомом… вы уж на всякий случай подстрахуйтесь и сообщите ему о чрезвычайно важном для науки, разумеется, для государства рабочих, крестьян и интеллигенции вопросе… иначе сядете в лужу моей кровищи.
– Я бы на вашем месте выражался покультурней… надо советовать не «подстрахуйтесь», а хотя бы «подстрахерьтесь», дворяне хУевы.
Дребедень не без удовольствием покинул камеру; вскоре два хмуровато настроенных конвоира привезли арестанта на заграничной каталке, с очень удобной подножкой, прямо в кабинет; в каталке же А.В.Д. пожелал давать показания, ибо скулы сладостью свело, когда он представил себя в детстве катящим на такой вот агрегате по коридорам огромной квартиры, которую его воспитатель, студент сочувствовавший кадетам, именовал «трехъяростной».
Словно не замечая присутствия А.В.Д., Дребедень с довольно хамской демонстративностью не спешил с вопросами, а общался с одним из своих шестерок; развалившись в кресле, он праздно и весело, что называется, гуторил на привычном для него нелюдском языке. – Ну а, если не выдрючиваться и не увиливать от правды, то как твоя, Шишанин, баба фунциональничает в новобрачном обзоре внутрисемейных авансов? – Согласно анекдоту, товарищ капитан, стирать-стряпать ну ни хуя она не умеет, а ебаться – руки золотые;
Все они загоготали, а А.В.Д., как это ни странно, оценил простонародный житейский юморок, небесно далекий от смердыни его положения. – Доказательства будем излагать сами? – очень важно и с интонацией торжественности произнес наконец Дребедень, держа «ВЫ» на большом от себя расстоянии. – Пардон, но у меня дрожит рука, подозреваю разрыв сухожилий… вы же по-ворошиловски бьете прямо в точку, как передовой прозектор, он же паталого-анатом… пожалуйста, не забудьте, что я, как порядком подзагнивший интеллигент, остро нуждаюсь в помощи врача… если меня хватит кондрашка, в первую очередь подумайте о себе. – Сначала – к «Делу номер 2109», поэтому выкладывайте все данные по следующему существу такового, доказанного уликами свидетельских показаний честных граждан, патриотов социализма и дальнейшей, понимаете, бесклассовой формации.
А.В.Д. чуть было не вскрикнул из-за боли в губах, невольно растянувшихся в улыбке – так его рассмешило косноязычие казенной речи, по-щенячьи злобно таскающей за хвост суровый, однако по-отцовски терпеливо настроенный Язык.
Первые показания действительно «запевшего» гражданина Доброво, сделанные так быстро, словно он стремился резко оторваться от собственной совести, постоянно его преследовавшей, были коротки, полны артистично разыгранного брезгливого к себе презрения и, естественно, ненависти к своему вынужденному предательству. – Ну что ж, раз так, то начнем… я имел потайную комнатушку, Уланский переулок, дом 4, квартира 2, ключ от нее изъят вместе со всей связкой… не забудьте, мне нужен укол, снимающий дрожь в руке… да, да, это он, тот самый ключ, именно он… первый этаж, я входил прямо с улицы… пользовался только кухонной плитой и туалетом, ни с кем из соседей не был знаком – всего лишь «добрый день», «добрый вечер», «с праздничком вас, с седьмым ноября».
Вдруг он неожиданно взорвался, дотянулся до стола и ударил по нему обеими кулаками, потом бешено – по методу Станиславского – выкрикнул своему палачу: – Ключевые, подчеркиваю – клю-че-вы-е! – показания получите только после звонка тестя и нескольких последних слов непременного прощания с Екатериной Васильевной и Верочкой, а собака должна залаять, я услышу и пойму… да, да, только тогда – ни в коем разе не раньше – зарубите себе это на лбу, гражданин с будущими звездочками комиссара любого ранга… извините за вспышку… мне необходима папироса и стакан какой-нибудь воды ну а ваши все вонючие вопросы мне как говорится до балды – есть такая белогвардейская отчаянная песенка. – Пейте, курите, наебаловка не в интересах органов, имею в виду обман, но в результате не выкаблучивайтесь вроде залетной целки, попавшей, понимаете, в приличное отечество… вот, блядь, оговорился, а говорил о обществе… это нервы, нервы, нервы!.. или же, пусть меня расстреляют, я так на вас осерчаю, что возьму и расскажу, как незабываемо поимел прямо на царском троне бывшую фрейлину в самом что ни на есть Зимнем – ух, это была не бабчик, а однозначный рябчик, он же ананас… но таковое легендарное событие почему-то бесследно исчезло в «Истории ВКП(б)»… хер с ним – в материалах всех человекодел много чего исчезает полезного и положительного для царей и народа, который якобы творец этой вашей истории… мне, прямо говоря, насрать на любой научный факт, раз главное сделано, а такие, как вы, мешают одолеть препоны, являясь диверсантами и шпионами в пролетарской науке.
А.В.Д. успокоился, давая понять, что все осознал, а ранее психанул, не выдержав мучений, и, как видите, полностью сломался.
Глотнув водицы и с жадностью затянувшись дымком, он незаметно расслабился; однако, не забывал о великом Станиславском, неслыханно – во всемирном масштабе – усовершенствовавшем систему профессионального лицедейства; расслабившись, он старался не выходить из образа человека, сломленного собственной слабостью, несчастьем близких, судьбой, трижды прОклятой властью и абсурдностью уродливых времен.
На самом-то деле он лишний раз утвердился в желании непременно вырвать из лап живодеров жизнь и свободу жены, дочери и любимой собаки; тем более, игровая тактика поведения в омерзенных этих стенах заранее была им обдумана, много чего было учтено – вплоть до вроде бы ничтожных мелочей, всегда готовых стать козырями, вплоть до пешек, рвущихся в ферзи.
6
Комнатушка, адрес которой, после якобы мучительной внутренней борьбы, пришлось выдать, принадлежала Игорьку, близкому А.В.Д. другу детства, способнейшему физику, посланному Академией наук – понятное дело с ведома всевидящих глаз и всеслышащих ушей – на учебу в Англию; там Игорек твердо решил остаться, ибо, несмотря на блистательное начало карьеры и различные привилегии, сыт был кормушкой по горло, ибо жил, работая в зловонной, как бы то ни было, атмосфере показушного энтузиазма и неслыханного, не поддающегося осмыслению оболванивания миллионов людей; наверху решили, что ему необходимо поучиться-поработать в лаборатории всемирно известного гения, поставляя органам необходимую стране информацию о устройстве тайных внутренних структур микромира; он сделал вид, что нисколько не обрадован, а, совсем наоборот, огорчен временной разлукой с «оплотом светоча коммунинзма»; умело скрыл полную готовность подохнуть на свободе, – чем продолжать жить в стране, заключенной в горячие объятия дорогого отца, друга чекистов и учителя нового советского человека.
Ту комнатушку, каким-то чудом имевшую выход прямо в Уланский, А.В.Д. заблаговременно и как следует декорировал под явку, где хранились различные «секретные» документы, «ошеломительно современные» данные экспериментальных исследований и прочие «улики»; там тайком от всех, главное от жены и дочери, дожидаясь как лучших, так и худших времен, не стесняясь громких заголовков, он целый год писал свои научные статьи, к примеру, «Клонирование индивида – залог его практического бессмертия», «О некоторых прикладных возможностях генной инженерии»; начисто отлученный от лабораторных исследований и технологических новинок, не забывал и о важном теоретическом труде «Проблемы расшифровки молекулярной структуры ДНК как носителя генетической информации»; но его арест «как видного спеца по вражеской антинауке, прикинувшегося рядовым ботаником», судя по выступлениям на собрании НИИ разных сволочей, был неизбежен; короче, пришел момент, к которому А.В.Д. долго готовился; он вовремя позвонил Игорьку по международному из телефонного центра на бывшей Тверской; поздравил с наступающим Первым Мая, выдал благопристойный анекдот про шалавого мужа и коварную супругу; старому другу стало ясно, что он может начинать «бракоразводный процесс с самой демократической в мире страной из-за полного несходства характеров»; без всяких слов до друзей дошли прощальные смыслы шутливого, возможно, последнего в их жизни разговора; жена и дочь действительно ничего не знали; лицедействовать, как это вынуждены делать любители пошляться, А.В.Д. было нелегко и поистине трагично; он был верным мужем, хорошим отцом, а жена и дочь явно думали о нем черт знает что; это сообщало уму и душе тягостное чувство невыносимой вины, мешавшее жизни и работе; но поддерживал, во-первых, безотлагательный долг обезопасить ближних, во-вторых, попытка спасти их ценою собственной жизни; в-третьих, он все-таки имелся – всего один шанс на удачу, другого, увы, не существовало, а предавание всякого рода иллюзиям он с некоторых пор презирал и ненавидел; все детали смертельно опасной мистификации были вовремя обдуманы и подготовлены т к «взрыву», а копии всех работ отлично – возможно на долгие годы – припрятаны; главное, Игорек, его друг, сумел переслать через какого-то из здешних посольских чинов письмо с чистым бланком одного из английских научных журналов; он быстро состряпал на институтской машинке, имевшей латинский шрифт, официальное приглашение выступить в авторитетном журнале с очень важной для современной науки статьей о перспективных, возможно революционных, исследованиях в генетике; разумеется, написал перед самым арестом черновой ответ, в котором поблагодарил за приглашение и ясно, но дипломатично, дал понять, что, к большому своему сожалению, считает преждевременной публикацию за рубежом недостаточно, на его взгляд, убедительной статьи о своих теоретических возрениях, а также о методике соответствующих лабораторных исследований; через несколько дней энкэвэдэшники взяли его на домашней квартире, устроили долгий обыск, даже сорвали обои, перепотрошили все, что можно было перетормошить, и вспороли собачий матрац, но не нашли ничего уличающего – ни оружия, ни писем, ни книг, ни рукописей; слава Богу, все его близкие были в деревне.
Руководитель группы Дребедень зловеще и задумчиво заметил в тот раз: «Гражданин Доброво успел прилично закомуфляжиться, ну что ж – тем для него, интеллигентишки сраного, еби его мать совсем, намного хужее…
Возможно, от безумия, затягивавшего в глубь бездны неизвестности и безысходности, А.В.Д. в тот раз спасла одна из десяти заповедей «ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО КАК САМОГО СЕБЯ»; внезапно и не так уж случайно воспринятая им по-новому, она отвлекала от наконец-то случившегося ужаса.
«Ведь я всегда чувствовал, – думал он, – что взыскующий смысл этого основного жизнеустроительного завета слишком идеален, максималистичен и больно уж надмирно вознесен над реальными возможностями все еще диковатой, несовершенной психики большинства двуногих, и моей тоже, поэтому он практически невыполним… несмотря на всесильность Времени, чего только не испепеляющего в прах, – эта твердейшая из Максим не подвержена действиям стихий Времени, ее содержание – как кубик инопланетного вещества, совершенно неподъемно и для людей простых и для достаточно просвещенных… поэтому она вызывает недоумение не только в натурах аристократов духа, но и святых отшельников, праведников монашества, светлейших священнослужителей и т.д. и т.п… и такого рода недоумение, добавим, никогда не бывает душевным… великие религии, традиции морали и культуры веками пытаются привить/прирастить эту максиму к нашей психике, но, будучи жестоковыйной, психика упрямо отторгает ее от себя и, словно бы назло, на каждом шагу демонстрирует свои человекозверские наклонности, причем, под лукавейшими из лозунгов – под лозунгами Добра… короче, смысл пяти великих слов продолжают оставаться непосильным для восприятия людским Разумом, свой у которого нрав, свои, зачастую, серьезно мотивированные резоны быть возмущенным… к тому же, почвы многотрудного пути человечества – неизвестно зачем, непонятно куда ведущего – отвратительно загрязнены бездушием и безнравственностью, недостаточно удОбрены, неприлежно прополоты… хоть всю свою жизнь вопи и вопрошай: «Доколе, Господи, доколе?» – не дождешься ответа насчет сроков начала произрастания на сих злосчастных почвах любвеобильной человечности… ты вот рассуждаешь, судишь чуть ли не весь род двуногих, а сам-то, сравнительно преображенный, – способен ты любить как самого себя кого-нибудь, кроме жены, дочери и пса?.. да никого больше и не способен ты любить, потому что и твоей натуре далеко до полного изведения из нее человекозверских наклонностей… между-причим, с промокашечной личности Дребеденя, пропитанной кровью и невинных и виновных – меньший спрос, чем с твоей научно-интеллигентской… сначала революция и гражданская бойня, затем работа в ЧК разбудила в самодовольном полуживотном прапрапращура, тысячелетиями дрыхшего себе беспробудным сном и отлично продрыхшего бы до конца света… но тут начались катаклизмы истории, естественно, всегда имеющие чисто человеческое происхождение… «необъезженный» примат быстро вскочил на обе задние лапы, затем радостно спрыгнул с какой-то из предпоследних ступенек эволюции и – надо же! – угодил прямо в самую клоаку террора… и вот – здравствуйте, я ваша тетя! – по эту сторону письменного стола сидит человек, сравнительно преображенный, а по другую сторону – нормально прибарахленный человекозверь, даже и не думающий подмаскировывать свои допотопные каннибальские наклонности».
Удивительно ослепительное – в гнетущей тьме ареста, переезда на Лубянку в воронке, унизительных шмонов, отчаяния – прозрение А.В.Д. было кратким, красивым и открывающим зеленую улицу постепенному воспитанию действительно нового – психологически и нравственно – вида человека, что решительно притормозило бы движение народов в погибельные тупики истории, уже сегодня пованивающие уничтожением природы и приближением конца света».
«Нет, нет, дело не в любви к ближнему… нелепо же взывать к выполнению долга любови родительской, сыновьей, братской, до гроба брачной, гражданской, просто благодарно признательной за случайно данный дар существованья и любования красотой Творенья – она либо есть, эта любовь, либо ее нет… насильно – ни ты никого не возлюбишь, да и тебя не полюбит никто из людей и животных тварей… я биолог, черт побери, почему же раньше до меня не доходила необходимость по-иному воспринять заповедь?.. уверен, она, сообразно с желаемыми действиями, должна была бы быть доходчиво основанной и на ясности языка, и на высоких свойствах нашего сознания, особенно, на тех же биологических законах существования, которые с давних пор управляют определенными инстинктами всех видов Флоры и Фауны – именно они, эти могущественные инстинкты, поддерживают непоколебимость гармонической упорядоченности, царящей в биосфере планеты… «БЕРЕГИ БЛИЖНЕГО КАК САМОГО СЕБЯ!» – вот как, если не ошибаюсь, должна звучать практически выполнимая максима заповеди, обращенная и к богопослушной душе и нашему, мягко говоря, несовершенному разуму… то есть она обращала бы взгляд недостаточно преображенных существ – безусловно, все еще изводимых призраками прошлого – на врожденное, образцово инстинктивное практическое поведение представителей любого из животных видов к своим близким сородичам – к братьям нашим меньшим… тогда многие из неразрешимых этических проблем бесчеловечного человечества разрешались бы не так, как разрешались вчера или разрешаются сегодня, а с безусловно природным уважением чужой территории и следованием родовому зову самоотверженной борьбы с врагами потомства, с многообразными опасностями жизни… не это ли мы наблюдаем в жизнедеятельности рыб, амфибий, птиц, диких зверей, зверюшек и еще меньших тварей? – ведь, кроме всего прочего, во чреве матерей, наши зародыши месяцами одолевают неисчислимо долгие стадии развития некоторых из них».
Вскоре – после размышления, спасительного в тот миг для психики – уже в стоячем карантинном пенале, затем на первых допросах, А.В.Д. заметил, что он с любопытством ученого наблюдает за отвратительно человеческими, не укладывающимися в сознании, поведенческими замашками рядовых тюремщиков по отношению к нему, такому же двуногому, яснолицему, говорящему современнику, брату, если не по культуре, то по родимой нации, в конце концов, по родному языку, в конечном счете – пропади он пропадом – по разуму, более жестокому к ближнему даже тогда, когда – вот что самое удивительное – не беспросветно темен он, а более или менее просвещен.
«Если уж, как считал великий Гойя, сны разума рождают чудовищ, то для описания, классификации и систематизации чудовищных безобразий, творимых – на яву, здесь-и-сейчас – не душой, не сердцем, а бодрствующим разумом, производящим идеи, не нашлось бы слов ни в одном из благородных Языков, а красок – ни на одной из палитр, музыка же, как душа, немотствовала бы недоуменно… причем, по причине изначальной инородности добра тому злу, которое способен измыслить на яву и воплотить в нечто геенобезОбразное человеческий разум, на каждом шагу подставляющий Дьявола вместо себя и валящий на эту фигуру все, называемое Злом… причем, человечество – унаследовавшее от предков шедевры поэзии, философские прозрения титанов мысли, мудрость богословов, достижения гениев наук – словно бы намеренно избегает руководствоваться наставлением великого врача Гиппократа: «… только Разум является источником безумия и бреда, страхов и ужасов, которые нападают на нас и днем и ночью»… да я и сам только что вспомнил эту сверх простую, сверх очевидную мудрость».
Вид у размышлявшего А.В.Д. был таким отстраненным от всего и вся, что Дребедень начал беспокоиться и сказал своим шестеркам: «Уж не тронулся ли фигурант, навроде того начальника пароходства?.. тыркните ему что ли нашатыря в сопатку!»
7
– Наличие у себя комнатушки, – очнулся и снова «запел» в этот момент арестант, – я, по понятным соображениям, держал в совершенной тайне от жены, что и вызвало ее ревнивое подозрение в наличии у меня какой-то бедрастой пассии, а затем привело к частым ссорам – почти что к разрыву отношений… от этого, к ужасу моему, страдала дочь, еще раз подчеркиваю, тоже пребывавшая в заблуждении… согласитесь, конспирация есть конспирация… я не имел права быть теленком… благодарю за понимание частностей моего вынужденного поведения, с самого начала ошибочного… нужно уметь взглянуть хотя бы одним из органов зрения в глаза правде, очевидно, старшей сестре исторической необходимости, не так ли?.. согласен с вами, что ее младшей сестрой является главная газета вашей партии, но не будем распыляться по пустякам… так вот, в той комнатушке, в правом от окна углу, под ковриком, вскройте тройку паркетин… естественно, ознакомьтесь с найденным… именной пистолет принадлежит покойному, Царствие ему Небесное, отчиму, пять лет назад погибшему в вашем учреждении… жаль, что не успел я пустить себе пулю в лоб, жаль… письма ко мне моей матери, похороненной в Праге, вас не заинтересуют, там вы найдете кое-что поважнее их… главное, жаль, что я – полнейший идиот! – ничего не успел уничтожить… в общем, действуйте – ваша взяла, имею в виду историческую необходимость.
Втайне восхищаясь заранее обдуманными деталями отлично начатого «Дела номер 2109», он уронил безумно трещавшую голову на руки, затем продолжал: – Из-за нервозной спешки я совершенно зря и, согласитесь, более чем глупо выставил своим первым условием – сохранение лично моей жизни… первое, считайте, пожалуйста, условие – освобождение семьи и собаки, затем их высылка по месту жительства тестя… что касается меня, то Бог со мной… я просто очень хочу жить… вам понятно это чувство?.. пока что вызовите врача, заражение крови в непосредственной близости от мозга может быть очень опасным… не для меня – для вас, гражданин полковник, так что не рискуйте… на сегодня хватит, поверьте, ямщик, мне нечего больше сказать, поэтому и не гоните лошадок… главные беседы – впереди. – Да, пожалуй, на сегодня хватит… увезите арестованного сначала в медчасть, – распорядился Дребедень.
Терпеть повторную обработку глазной раны и промывание едким раствором передних беззубых десен было не трудно – разыгравшийся азарт был своеобразным наркозом; А.В.Д. мастерски сумел превратить свою психику – психику взрослого человека, стоявшего на пороге смерти и желавшего лишь спасения семьи от пыток, – в психику мальчишки, увлеченного самой игрой: в прятки, салочки, лапту, футбол, биллиард, картишки; увлеченного настолько, что мозг работал с вдохновением, знакомым всем бывалым игрокам; только где-то на его задворках мельтешила разгоряченная сожалением мыслишка начет того, что никогда ему больше не исследовать генетически причинных биохимических оснований игрового азарта и массы привычек как вредных, так и скрашивающих скукоту времяпрепровождения.
«Черт побери, – сокрушался он, – в патологическую зависимость только от курева попадали, попадают, будут попадать сотни миллионов людей… а мне каюк – прощай участие в создании фармацевтически убойных препаратов, скажем, антиигрина, антиникотина, антиалкоголина и так далее… никогда теперь уже не докопаться до тайн биохимических «процессов века», происходящих в мозгах любителей массовых убийц и сладострастного садизма – Ульянова, Дзержинского, Землячки, Гитлера, Джугашвили и их подручных вроде тупого Дребеденя… и не найти мне гена, ответственного за выработку в этих выродках «тиранического гармона», соблазняющего, постепенно покоряющего, в конце концов, извращающего и губящего психику каждого из них… поэтому и гибнут ни за что, ни про что или истлевают заживо миллионы людей… меня-то лично судьба карает за дело… иначе говоря, поделом тебе, А.В.Д., за прямое соучастие в коллективном преступлении многих российских партий, сделавших возможной – к несчастью происшедшей – «великую октябрьскую»… будь я проклят навеки за соучастие в ней, за страдания всех невинных, за ужас, претерпеваемый Катей, Верочкой, Геном… если б возвратиться в прошлое – клянусь, я бы не промахнулся, как полуслепая кретинка Каплан… непременно, еще в двадцатых, взорвал бы себя вместе с рябой мразью… усы его – в одну сторону, башка, руки, ноги – в другую, фуражка с кителем – в третью… а меня самого – вовсе как не было… так или иначе, первый ход сделан, я раскололся, Дребедень клюнул – это главное… в худшем случае, его зверье хотя бы никого не станет мучать… Господи, помоги… Катю поистезают и посадят, если не укокошат, Верочку бросят в лагерь, а бедного Гена превратят в сторожевую тварь на одной из каторог «первого в мире государства счастливых рабочих и крестьян».
Его отлично накормили, дали – возможно не без изощренного намека на более жестокое «выбивание показаний» – коробку «Герцеговины Флор», легендарных папирос, набиваемых в трубку всесоюзно и всемирно известным идолом «самого демократического в мире советского правосудия».
«Пусть, сволочь, набивает… плевать я хотел на сей намек – сколько бы здешняя нелюдь не выбивала подпись под признанием «активно готовившемся с помощью западных разведок покушении на светлую жизнь вождя, друга, учителя, одновременно, родного отца всех времен и народов»… тем лучше: Дребеденю вовек не догадаться, что «Герцеговина Флор» – мистический знак правильности выбранного мною пути и еще одно подтверждение теории Юнга насчет синхронности и многозначительности смыслов удивительных совпадений, говорящих о почти непознаваемости бессознательного».
Три дня его не дергали на допросы; если бы не разыгравшийся азарт и не страдание из-за семьи и Гена, – покой был бы сладчайшим из отдохновений всей его жизни; он не думал ни о чем, кроме неведомых течений игры, расчитанной на успех; игра сама подсказывала ему психологические финты, детали некоторых ходов и просчитывала разные тактические варианты, приближающие необходимый выигрыш; во-первых, необходимо было довести до сведения высшего начальства, если не самого вождя, неслыханно фантастические, однако пригодные для реализации результаты его исследований; все они были тайком проведены в лаборатории, НИИ еще до учиненного идиотами псевдонауки погрома в генетике; А.В.Д. маскировал их под изучение лысенковских кретинических проблем сельского хозяйства; собственные исследования неожиданно, как это бывает в науке, и привели А.В.Д. к открытию эпохальной важности; наитие говорило о том, что мощный электронный микроскоп мог бы доказать правильность умозрительно представленной структуры двойной спиралевидной молекулы ДНК – хранилища генов; вся теоретическая часть открытия была готова, описаны расчеты и эксперименты, нарисованы диаграммы и схемы сложных – логически и химически единственно правильных, по убеждению А.В.Д. – взаимосвязей в двухцепочной молекуле ДНК азотистых оснований одной цепи с азотистыми основаниями цепи второй; поэтому среди друзей-коллег ходила его шутка: «Нам, генетиками, нечего терять, кроме некоторых цепей»… все это было скопированно, хранилось у надежного коллеги, а реквизит игры подготовлен к изъятию вместе с туфтовым приглашением авторитетного научного журнала к сотрудничеству; надо полагать, все это уже «взято» в заначке комнатушки на Уланском – ход сделан; теперь нужно ждать хода ответного; можно и повспоминать о счастье жизни, кроме того, не мешало бы поспать, поднакопить силенок: впереди полно игровых непредвидимостей.
Когда, не сумев добраться криками до «поганой этой падали», надзиратели растолкали арестанта, он проснулся, опомнился от провала в ничто и снова очень удивился полному отсутствию, обычно возникавших по ночам, сновидений; все они его просто покинули сразу после того сна о Колизее, когда и он, дебилище младое, тупой баран, согласно влился в привычно радостный, в бездумный рев подавляющего большинства прибывших делегатов и гостей; влился, можно сказать, в антицарский, в глумливый грохот подошв и каблуков по пюпитрам, в дружный хор бешеных делегатских проклятий против изощренно хитроумных государственных инициатив и выкрутасов ненавистного самодержавия, гнусно прикинувшегося сверхлиберальным, сделавшего вид, что династическому режиму – крышка; и вот надо же – теперь он готов без конца просматривать на яву странный, к сожалению, своевременно не приснившийся сон – сон, не ставший вещим, слишком поздно начавший карать за постыдность стадного – слепого в прошлом – поведения; он словно бы подразнивал совесть А.В.Д. тезисами Государя Императора; в них таились лучшие из всех, имевшихся в те времена, возможностей и надежд для народов России, более того, Европы, Америки, Азии – всего мира; иногда А.В.Д. казалось, что в камере злорадно и иронически звучит та самая, некогда обольстившая и его, какофоническая «музыка революции»; звучит и на этот раз, как опустившаяся блядь, бесстыдно обнажает свою изначально уродливую сущность, которая – это сликом поздно дошло до многих восторженных «меломанов» – казалась невыразимой исключительно потому, что определением ее нечеловеческих качеств брезговали не только людские языки, но и истинно музыкальные звучания.
Дни и ночи отдохновения освежили А.В.Д., уменьшили боли, придали сил, но он решил «косить» и из-за чисто детского упрямства не отказываться от заграничной каталки.
«Раз так, пусть возят – на то они и лакеи усатого рябого таракана, безумно вцепившегося во власть, что оказалась в его лапах, одна из которых – подсохшая клешня».
А.В.Д. рассмеялся, вспомнив действительный случай, показавшийся невероятным анекдотом; в начале тридцатых знакомую эстрадную певицу взяли на Лубянку и стали шить 58-ую, часть 10 за «злонамеренно оскорбительный намек в адрес высокого должностного лица государства, выразившийся в пении со сцены махрово антисоветской румбы «Кукарача», что во вредительском переводе с испанского языка означает «таракан»; так в те времена тайком называли усатого вождя, уже набравшего злобных сил и возможностей, поэтому начавшего распоясываться; но времена были еще таковы, что отцу возмущенной арестом певицы как-то удалось связаться с ее поклонником, крупным чином в НКВД; тот счел необходимым тихо замять возможный абсурдный скандал, вызвавший бы запрещение всенародно известной «Кукарачи», под бодрую музычку которой тряслись в танцульках члены ВКП(б) и беспартийные обыватели; возникла опасность распространения прозвища «Кукарача» вместе с русским «Тараканом» по всем миру, не говоря уж о стране побеждающего социализма; все это подняло бы на смех самого Хозяина, и многие головы полетели бы с плеч; чекиста, идиота, дебила и амбала, делавшего карьеру, что называется, напролом, быстро сослали в далекий от центра дурдом, где и залечили до основания, а певице дали заслуженную артистку РСФСР и повысили концертную ставку…
Когда конвоиры везли А.В.Д. на допрос, он прикинул:
«Не пора ли выматерить в кабинете стаю матерых шакалов – продемонстрировать ублюдкам опричных сил лексические потенции русской интеллигенции, которые девальвируются ежедневным использованием по пустякам?.. но вот не помешают ли ругательства его замыслу?… во-первых, могут помешать, во-вторых, садиться на одну сортирную доску со всякой дребеденью и отрепьем, было бы слишком большой для них честью».
8
А.В.Д. вкатили в кабинет и… и лучше уж врезали бы ему пресс-папье «по мурлу да промеж рог» да лишили бы сознания, чем услышать то, что начал изрыгать Дребедень. – Ну что вы скажете на данный факт яркого надувательства, Доброво, ети ж вашу мать, повторяю, совсем?.. мы быстро провели огромную работу, вызвали, понимаешь, парторга НИИ с бывшего лично для вас места бывшего же работодательства, имею в виду Полуяркина, крупного член-корреспондента биологической науки Академии наук… и вот -здрасьте, Марь Иванна… да я положительно ее маму ебу, так как Полуяркин свидетельствует о наличии в ваших мыслях и записях слепого подражательства фашистской генетике, она же евгеника улучшения и введения в практику гитлеризма расистской теории, заклейменной ко всем хуям нашей партией и лично товарищем Сталиным… да я б ее, суку, в гробу видал эту теорию… у нас в стране не имеется никаких других неебаных теорий, кроме ленинско-сталинской… но сегодня лично я буду показательно спокоен… вы что – надеетесь оттянуть очную ставку с арестованной семьей, да?.. думаете, я, как говорится, капитан Дребедень, клюну на кусок говна собачьего, так?.. не то что не клюну, но ты, сволота, сам же им и подавишься, три раза в день жрать будешь высранное твоим же Геном, не случайно, а полностью вредительски тобою же названным назло партии и нашему народу… ты шантажировал меня какой-то угрозой, а теперь расплатишься за передышку в следствии, тут тебе не дом отдыха ученых, падла диверсучья… ты какого такого уж хуя пудришь мозги человеку, заваленному кучей различных Дел, ебит твою мать, еще раз повторяю, совсем?.. ключи, я сказал, выкладывай… жду правдивых ответов на вышеобговоренные вопросы по всему существу данного «Дела»… просто не понимаю, зачем я тут с тобой валандаюсь?.. меня сам Нарком поднял на смех… я же тебя просто растопчу в кровавую пшенную кашу – и все… через неделю – санаторий на носу… говори или прибью сию минуту на хуй!.. весь отдел – ко мне, зажрались отродья гадовы!.. – Отмените свое распоряжение, больше ни словечка в адрес моей матери и не тыкайте, я выскажусь поконкретней. – Отставить «весь отдел ко мне!»… но не вздумаем пудрить мозги – немедленно растопчу и их, то есть вашинские, и самого туда же вместе с ними, а сапоги свои подпорченные выброшу ко всем хуям куда подальше… мы здесь все находимся на коллективной нервной работе включительно с врагом народной науки в вашей физиономии, обязанной сотрудничать с органами следствия, согласно, сволочь, чести, доблести и геройству труда. – Именно так я и стараюсь действовать, но вы совершенно зря привлекли к чтению моего труда Полуяркова… это моя ошибка, я сделал глупость, полагая, что, найдя рукопись, сначала вызовете меня, а уж я порекомендовал бы вам всесторонне эрудированного и более беспристрастного консультанта, чем подлинный враг науки, подлысенковское ничтожество парторг Полуярков… вам самому, без ведома специалиста, то есть без меня, высших чинов и, скажем, одного заинтересованного лица – вы знаете о ком именно идет речь – не удасться ни понять, ни внедрить в жизнь революционное открытие, смею считать которое, если не сменяющим, то существенно обновляющим нынешнюю научную парадигму… парадигма, извините, это система устоявшихся основополагающих образцов в науке, в том числе марксистской, в искусстве и, если угодно, в практических действиях НКВД, поскольку здесь у вас давно уже не пахнет ни полицией, ни жандармерией, ни юриспруденцией как таковой, а гнусно разит мясокомбинатом имени Ивана Грозного… и больше не смейте тыкать, черт бы вас побрал вместе с петлицами! – Это как же прикажем понимать – как зловредную подъебку? – несколько растерялся Дребедень. – Нет – исключительно как позитивное замечание. – А если, допустим, в самом что ни на есть ленинском плане нам надо еще триста лет ебаться, верней, учиться, учиться и учиться, то какими же еще могут быть у вас лично подъебочные замечания? – Негативными, правда, в том случае, если бы я сказал, что вы уже вырыли себе могилу… позитивно же замечу, что таковую вы только что начали для себя рыть, вы ее успешно роете и вскоре дороете, если не воспользуетесь шансом, который даю и вам, и себе, и моей семье, и Гену, главное, нашей родине. – Хорошо, я что, выходит дело, говно, в смысле ведущий следователь, и одновременно не могу потребовать пару лишних слов, разъясняющих как положено о чем тут идет речь, – так, я спрамваю, или не так? – Представьте себе, что вы пытаетесь расколоть – черт знает в каком заговоре о покушении черт знает на кого – невинного академика-физика, пытавшегося расщепить в мирных целях атом и устроить цепную реакцию на благо страны и всего человечества… и вот, на самом верху, узнают о том, что вы этого физика измордовали и угробили, тем самым позволив империалистам догнать нашу науку и обзавестись ядерным оружием – оружием уничтожения ненавистного врага… вы разбираетесь хотя бы в азах квантовой физики микромира, в биологии, в цитологии, идиот проклятый, вывели меня из себя? – Ебал я империализм вместе с так называемым человечеством – мы тут работники органов, а не граждане, между-прочим-то, какого-то микромира, не за него боремся, а за мир, если нам мешают такие, блядь, как некоторые трудности роста… и не пудрите ни мозги, ни подмышки – мы отсюдова смотрим свысока на буржуя, ананас жующего, и на другие прослойки классового общества, доныне жрущие рябчиков… ну а вся кантовочная ваша физика лично мне и на хер не нужна. – Вот именно… поэтому и генетику, особенно одно из ее прикладных значений, – учтите, очень и очень актуальное для Кремля – вы сами никогда не поймете… к примеру, я не разбираюсь ни в астрономии, ни в авиации, ни в футболе, поэтому не суюсь судить о этих предметах. – Сходили бы в свое время на стадион «Динамо», где мы турок разъебли по-суворовски, по-буденновски, – сходу разобрались бы, чей котенок обосрался. – Вот-вот, – задумчиво произнес арестант, вспомнив огромный, несравнимый по размерам с энкеведешным «Динамо», античный Колизей из того рокового, безжалостно каравшего сновидения. – Короче, ты чего хотишь, то есть вы чего хочите сказать, А.В.Д.?.. хули зря моргать и на что-то намекать, прохаживаясь, как тот парень, по деревне мимо дома моего?.. неужели подкидываете намек, чтоб дернули мы вас к наркому, или куда повыше? – Безусловно, поскольку лично вам и вышестоящим товарищам необходим компетентный консультант, имеющий представление о последних достижениях в цитологии и генетике… с этого я и хотел начать, но вы же превратили меня, если не в Полуяркова, то в полутруп… в таком виде я могу выступать только клоуном в «Деле 2109», которого вам мне не пришить, так что можете сразу выбивать второй глаз, но побойтесь: скоро оба ваши глаза будут выколоты зубочистками начальства. – Однако, я вижу, вы преотлично отдохнули, поэтому хватит выябываться и шуточки шутить… кого ответственно рекомендуете? – Себя лично, потому что ответственность должен нести я один, а не рекомендованные мною тетя Варя с дядей Сигизмундом, которым вы в любом случае пустите пулю в лоб, простите, в затылок… уверен, что порядок ваших действий, крайне выгодных вам и мне, должен быть следующим: необходимо довести суть открытия и открывающиеся в связи с ним эпохально величественные возможности, что необходимо подчеркнуть, до… – тут арестант многозначительно и исподлобья глянул на потолок, дав понять, что речь идет о том, кто расположен повыше здешнего Наркома, поблизости от надмирных сил… вот в чем «Дело номер 2109», гражданин Дребедень… популярное изложение моего открытия вами найдено на Уланском… не забудьте, я отказался переслать его в один из авторитетнейших журналов мира… если оно заинтересует – он вновь глянул на потолок – вы получите ключевые положения… кто знает – чем черт не шутит? – быть может, я возглавлю группу сотрудников для внедрения открытия в жизнь… войдите к Наркому с предложением иметь под эгидой НКВД не только авиаконструкторскую кондрашку, простите шарашку, но и метагенетическую, биоинженерную и так далее… к чему арестованным ученым кайлить вечную мерзлоту?.. не государственное это дело брать и бросать кадры на ветер, когда они решают, если не все, то кое-что?.. вам придется, сами понимаете, поставить на карту не только карьеру, однако выигрыш велик, вас заметят, убежден, мы еще с вами сработаемся… главное – безошибочно додуматься вот до чего: кто именно узнает первым о важном для Кремля открытии – отчизна, или же заграница?.. ведь их наука, в отличие от нашей, и вынужденно, и остолопски не стоит на месте… я устал говорить, поверьте, мне нужна передышка и, между прочим, нитроглицерин, чтоб не хватила кондрашка, – в данной ситуации это лишняя для вас головная боль… кроме того, разрешите изложить короткую просьбу?.. – Излагайте и обращайтесь, раз так, «гражданин капитан», для чего мне и выдан настоящий чин. – Кажется, начинаю сходить с ума, гражданин капитан, мысли спотыкаются, мой сон – уже не сон, а молчаливая мука… хотелось бы побыть в общей камере, я, знаете ли, привык жить в коллективе… а то доиграетесь до того, что онемею до конца света. – Подумаю, тогда решу, чтоб мне пропасть, – вдруг Дребедень сокрушенно схватился за голову и чуть ли не взвыл, – ну зачем ты, рвань безмозглая, из ряда вонь выходящая, зачем ты, гондонище, вызвался подписаться, чтоб рука твоя на хуй высохла, на почетную, видите ли, вахту?.. какого хера взял ты проклятое это дело на себя лично?.. у меня что, ебит твою мать совсем, – нос не в эфире, жопа не в кефире, как сказал картавый дядя Моня кучерявой тете Фире?.. надерусь, надерусь, надерусь ко всем хуям собачьим и собачачьим! – Во-первых, никогда не произносите слов «высохшая рука», вас за эти два слова разжалуют и расстреляют, так что лучше подумайте о своей голове… вы знаете у КОГО именно ссохлась одна из верхних конечностей?.. во-вторых, советую не надираться – сначала примите безошибочное решение, время не терпит. – Обойдемся без вражеских пожеланий в адрес Лубянской площади… я еще покажу всяким сраным генетикам, как давать рекомендации, жалобы, понимаете, и рационализаторские предложения органам страны советов… лучше сказали бы спасибо, что дознания от вас добиваемся мы, русские люди, а не какие-то Зямки Абрамычи, пробравшиеся в органы из-за черты оседлости, которые давно намотали бы твои кишки на руки… ты бы у них, как миленький, в момент запел козловской писклявостью… увести арестованного – быстро, суки зажиревшие, ув-вес-ти, а то я за себя буквально не отвечаю!
9
А.В.Д. увезли в камеру; он действительно утомился и у него болело сердце – болело той болью, которая всегда скрывает причину своего возникновения и старается прибить в человеке все мысли о себе, как о боли, словно бы боясь прихода желанного покоя во плоть любого страдальца, а уж от покоя до воли – рукой подать, как, возможно, думалось помиравшему Пушкину; он привалился на койке, перебрал в уме ход разговора, подумал, что Дребедень, поначалу несколько растерявшись, вот-вот заглотит крючок поглубже и тогда уж он, гнусный моллюск, с него не сорвется.
«О благословенные часы рыбалки… чего бы я только не отдал за пяток минут милого плеска прибрежной водицы, за туман предрассветный, за дымок костра, готового к вареву ушицы, за покой поплавка – того, подареного Катей, сделанного каким-то умельцем – иди знай! – специально для меня в форме удивленно выпученного глаза с карим зрачкомкак две капли кровавых слезинок, похожим на мой… вот тоже – не благовестны ли подобные совпадения?.. Дребедень не должен сорваться с крючка, не должен… невозможно ему теперь взять и так вот просто растоптать меня, помучать, потом запротоколировать смерть от разрыва сердца… наверняка стою на правильном пути, раз вокруг витают скрытные, или как теперь говорят, секретные ангелы совпадений, недаром сны не снятся, и неспроста все чешется и чешется, словно в детстве перед подарками, правая ладошка… смешно: «чего бы я только не отдал!»… собственно, и отдавать-то нечего кроме жизни, а она, пиши, так и так уже отдается, причем с радостью, – за Катю, Верочку и Гена… Господи, помоги, иначе не пройдет последняя моя в жизни игровая авантюра».
Он не заметил, сколько промелькнуло минут, как не замечает течения пылинка, которая легче вод, поэтому ее и отделяет от них какая-нибудь одна сотая миллиметра.
Открылась кормушка – это ему, как выразился надзор, притаранили стеклянный цилиндрик с нитроглицерином, баланду и биточки с гречневой кашкой; слово «биточки» показалось вполне многозначительным в этих гнусных пыточных застенках; после кормежки все тот же надзор, хмуроватый чмур, вошел в камеру, велел сесть в коляску и покатил его куда-то, приказав не ворочать башкой по сторонам; для любого арестанта такой недальний этап – большое событие; радость А.В.Д. скрыл, надеясь в глубине души, что наживка действительно заглочена Дребеденем еще глубже, еще крепче, и это, скорей уж, результат не его, А.В.Д., умения, а наредкость блестящего игрового расчета, граничащего с чудом, вероятно, задуманного самим собой, то есть иррационально, поэтому кажущегося наделенным и наитием, и самосознанием.
«Да,да, именно такие безумные расчеты всегда предпочитают казаться скромными наитиями – настолько им самим чужды любые проявления неуемной тяги убогого человеческого ума к честолюбию и тщеславью».
К счастью, камера, куда его ввезли, в которой и закрыли, оказалась не общей, а всего на двоих; сокамерник дрых смертным сном, лицом вверх и немного вбок, как на песочке пляжа, или на деревенском лужке; само лицо как-то смято, испещрено ссадинами и пятнисто, вероятно, из-за поврежденных при избитии капиллярных сосудов; череп начисто выбрит, на верхней губе – капельки пота, руки заложены за голову, расслабленно вытянуты ноги; довольно странная фигура кажется не старой, но и не молодой; голая грудь, живот, плечи, даже фаланги пальцев, – сплошь покрыты различными, весьма примитивно выполненными, татуировками: дьявольское рыльце Ульянова – слева, палаческое рыло Джугашвили – справа, церковные купола, «не забуду мать родную», но – согласно учению Фрейда – ни обмолвочки о не менее родном папашке; окаймляла грудь вся верхушка червовой масти – от валета до туза; густо «приголубленное», необыкновенно белое – как ростки погребной картошки, заждавшейся посадки – тело сокамерника было телом истомившимся, расслабленным, словно бы презревшим все опасности существования, готовым догорать под неким солнышком, плавиться, наконец, подобно свечке растечься и сделаться безымянной лужицей.
А.В.Д. присел на свободную койку, иронично подумав о обреченности на несвободное состояние в адской неволе любых вещей, предметов и изделий – даже тюремщиков, будь они неладны; будучи человеком, наслушавшимся рассказов бывалых людей о нравах, царящих в совдеповских тюрягах, он нисколько не сомневался, что сей спящий индивид специально подсажен в камеру Дребеденем, полностью – теперь-то уже точно – заглотившим наживку; он испытывал инстинктивную, чисто звериную осторожность и, странное дело, непонятную расположенность к весьма подозрительно дрыхшему сокамернику. – Ну хули уставился?.. ты фраер или человек? – не открывая глаз, спросил «загорающий» голосом, вроде бы неотличимым от натурального, однако ж показавшимся замечательно поставленным; между прочим, А.В.Д. обладал абсолютным музыкальным и литературны слухом. – Ты меня слышал, если не оглох к ебени матери?.. ты фраер или человек с отбитой барабанной перепонкой? – Прошу прощения, несмотря на измордованность, моя человекообразность должна быть вопиюще для вас очевидной… кроме того, я биолог-генетик… будьте добры, обращайтесь ко мне на «вы», иначе вам придется беседовать или с надзором, или с парашей. – Кукарачисто, ни хуя не скажешь… ну а бздюмо господина генетика-биолога заколышет, ежели башкою окуну я его в ту же парашу?
А.В.Д. отдал должное человеку, обучившемуся, надо полагать, у Дребеденя ловко избегать вежливого обращения на «вы», свойственного манерам нормально воспитанных людей. – Чем выкаблучиваться, уважаемый незнакомец, – вы бы лучше попробовали меня туда окунуть, чтобы не болтать бестолку… предупреждаю: за несколько дней я успел поднабраться силенок, вы будете иметь дело не с фраером.
А.В.Д. неохотно поднялся с койки и, подойдя к железу двери, заслонил спиной «очко», затем засучил рукава. – Бля буду, кукарачисто, но хули заводиться с пол-оборота? – мы что тут с вами – разгоряченные полуторки что ли?.. прям охренел на воле весь народ, коммунизм строимши… вот жизнь настала – его и не пощекочи, коня стремного, а он уже лягается… лечиться надо, дорогой товарищ, господин и сударь, – необыкновенно весело, главное, искренне и добродушно сказал сокамерник.
Он тоже встал с койки, подошел, назвал себя, Валентином, Вальком, подал руку для знакомства; А.В.Д. протянул свою, радуясь неожиданной разрядке напряга и чему-то еще, чего в те минуты он не мог осмыслить. – С этого и следовало начать… я – Александр Владимирович, то есть Александр, Саша, чего уж церемониться, можно и на «ты». – Вот и главное, поскольку жить на пару в клетке посложней, чем единолично чирикать на ветке, а эти пропадлины назло волокут и волокут меня по одиночкам… пущай: один хуй я в несознанке, каковая, что шаршавый поутрянке, ее двумя руками не согнешь, ха-ха-ха! – Завидую вам, верней тебе… я вот терпел неделю, глаз потерял и не выдержал – сегодня сломался, точней, сломлен… надо было не мямлить, не ждать, как барану на мясокомбинате, а сходу подписывать весь этот дикий бред, шьют который, – тогда и глаз был бы цел… впрочем, доживу и с одним, тут нашего брата долго не держат – шпокнут и ты, считай, в архиве архивов… я не первый и не последний – вот что тревожит душу в несносном этом мире. – Какая там в жопу душа, ну какой, скажи, мир?.. даже не думай ты о нем, шло бы оно все на халабалу вместе с Беломорканалом – лучше о себе помозгуй, а я придавлю еще с часок, чего, Саша, и тебе советую в связи с казенкой времени, текущего либо к свободке, либо к мосластой шкелетине, ему один хер куда течь… у меня, кстати, рыжие котлы были, взятые на одном скоке, и вот на ихней верхней крышке были вычеканены – не от слова «Чека» – два верняковых слова: «Все пройдет»… это я к тому, что во сне все оно быстрей проходит.
10
А.В.Д. был уверен, что сосед не спит, правда, подумал, не начала ли изводить его самого «манька паранойкина» и ее тезка, родная сестра – «манька преследкина»?.. не поэтому ли кажется, что сей блатной строитель Беломорканала слишком уж театрально посапывает-похрапывает?
На всякий пожарный случай прикинулся спящим и он; а сам, отмахнувшись от мыслей о навязчивой мадам Смерти, пытался заставить память вспомнить, почему этот тип кажется знакомым и где он мог его видеть, но понял, что лучше уж отвлечься от этих напрасных попыток, чем напрягать память, видимо, ослабшую из-за чертовщины всего происшедшего; он и отвлекся – к единственно ценному из того, что осталось на белом свете от всей его жизни, – к надобности вызволить семью и собаку из натурального ада.
Мечта о завершенности этой почти невозможной авантюры, то есть о звонке тестя из Лондона да о паре слов с Екатериной Васильевной – всего лишь о паре, не больше – была настолько желанной и сладостной, что десны заломило и защекотало в гортани.
Вдруг, ни с того вроде бы, ни с сего, он вспомнил красивого – нет, пожалуй, красивенького – молодого человека, вольного слушателя лекций самого титана, гения мастрества по части актерского лицедейства и режиссуры, отцовского знакомого – Станиславского, который пополнял второй состав труппы.
«Да, да, этот Валек, он же Саша – тот самый человек, что подавал самые блестящие надежды и был принят в труппу, потом пошел-полетел наверх в театре, в кино, Дед Мороз в Колонном зале, Хлеб в «Синей птице», леший бы его побрал, радио, грампластинки… фамилию забыл, невзрачная такая была у него фамилия… и вдруг пропал человек, как часто случалось в те времена не только с несчастным Гумилевым, академиками, писателями, художниками, артистами, но еще и с многими тысячами невинных людей… недавно вот палач снова указал взять поэта Мандельштама – поэты вообще гибли пачками… сегодня ты был – завтра тебя нет, как не было, вот и меня точно так же не будет… неузнаваемо человек изменился за пару десятков лет так, что его и не узнать, не определить возраста, правда, наколки – натуральные… никакого нету на мордасах грима… лицо в неподдельных шрамах, а вокруг них – словно не сумевшие в спешке выбраться наружу, кровяные сосудики, почему-то вызывающие особенную жалость… это вовсе и не лицо, а какая-то помесь опухшей мошонки с огородным пугалом, бритый череп не в счет… ну что ж, Александр Владимирович, наконец-то ты доигрался – но не зарывайся, не то поедешь… поэтому слудует безукоризненно лицедействовать по великой системе, распространившейся не только по всем подмосткам мира, кроме азиатских, но и по Лубянке».
… на сцене, вообразилось ему, – скромный интерьер полутемной камеры… серые бетонные стены… над ними – как тупое надбровье питекантропа – мрачно навис потолок… в нем – за броневой стеклянной полусферой – элетролампа… досчатый стол, скамья, прикованная к полу, две койки и лежащие на них арестанты… в углу – параша (прущие из нее запашки ни в коем случае не должны проникать в зрительный зал, так как соцреализм обязан подниматься над вульгарным натурализмом нашего кулачья и немецких бюргеров, нажравшихся сосисок с кислой капустой)… звучит хрипловато приблатненный голос сокамерника: не слышно шума городского молчит Китайская стена скорей бы началася сно-о-ова освободительна-а война-а-а…
А.В.Д. клонило ко сну, поэтому до него не сразу дошло, что крамольные строки напел, якобы только что проснувшийся, Валентин, он же Валек. – Советовал бы поосторожней высказывать свои пожелания, – тихо сказал он любителю помурлыкать. – Мне это уже без разницы, могу хоть на рога сесть – так и так вышак корячится… пущай давят косяка, я им официально повторю фартовые слова паскуды Дребеденя: «Мандавошки, это конец вашей карьеры!».. тоже мне нашлись, всеслышащие, видите ли, уши… пущай знают, что я их круглосуточно э-бу, – он снова замурлыкал: воровка никогда не станет прачкой и урка не подставит свою грудь эх грязной тачкой – ты грабки пачкай а мы в сторонке перекурим как-нибудь… – Ты сечешь, Саша?.. ни один гад не имеет права стрелять в картавого чертилу, что на левой моей сиське, ни в Сулико, который на правой, ни в затылок, где герб СССР, а в дупло – всегда-пожалуйста, там у меня двуглавый орел иногда приседает обеими половинками над несусветной вонищей советчины, сечешь? – Теперь буду знать, но все-таки болтай поосторожней.
11
Пока Валек продолжал пороть всякую блатную чушь, в памяти А.В.Д. возник прежний образ рослого молодого человека.
«Ничего не скажешь, он был, по молодости, не то что бы красив, но еще всего-лишь красивенек, поэтому его обаятельно пластичная внешность – нагловатая и, одновременно, готовая к раболепству – подходила для отличного артистического перевоплощения в кого угодно: от говночиста-забулдыги до Гамлета, называемого театроведами в штатском «левым и правым уклонистом феодально-монархического периода развития истории Датского Королевства»… вспомнил, конечно же, это он – вот так фокус! – Дмитрий Лубянов, лучший из лучших, «Сарра Бернар в портках», как его шутливо величал Учитель и Мастер… «Мастер»… сие словечко тоже ненавижу из-за того, что выродков-палачей всегда называли мастерами заплечных дел… Учитель не ошибся – ученик успешно оправдывал его надежды… о, Боже, каким же я был идиотом, непростительно восжаждавшим стать профессиональным политиком, для чего тоже «внештатно» вникал, остолопище, в систему профессионального лицедейства… но Лубянов – это вовсе не случайное совпадение, а еще один тайный знак правильности пути в беспросветной тьме более чем смутных времен»…
Однажды А.В.Д, после нелепой учебы на «политика» и пары знаменательных совпадений, решительно бросил должность помощника одного знаменитого функционера популярной партии, затем поступил в университет, где и увлекся на всю жизнь новейшими проблемами молекулярной биологии; иначе он либо давно эмигрировал бы, либо получил в здешнем подвале пулю в затылок, либо сгнил на Колыме.
В тот миг он – то ли со скоростью мысли, видимо, превышающей скорость света, то ли из-за склонности самого света к нежному слиянию с мыслью, к чистейшему перевоплощению в нее, в загадочно странную, хотя бы на многотысячную одной секунды – в тот миг А.В.Д., забыв о рискованности такого шага, то есть опередив самого себя со всеми своими отлично расчитанными игровыми вариантами, решил пойти ва-банк.
Сокамерник, неясно почему гениально вжившийся в роль тертого блатного, допевал ужасно сквернословную, но, в своем роде, трагическую песенку. между нами все покончено и подписано судьбой ты иблася с фраерами и ибися хуй с тобой
Несчастному невольно вспомнился семейный конфликт, и само собой на единственный глаз набежала слеза; то, что А.В.Д. пришлось вынести за полгода своего притворства и отчуждения Екатерины Васильевны, подозревавшей мужа в похождениях с одной из блудливых институтских дамочек, – было бы не под силу описать перу Шекспира, твори он в нынешние времена.
А.В.Д, было уже не до лирики, не до трагедии, не до воспоминаний о полугодовой подготовке к аресту – он был готов приделать заячьи уши всему НКВД, в чем его, как это ни странно, на первом же допросе обвинил Дребедень.
«Святой Трифон, – взмолился он, – найди выход, обрати во благо все переживаемое моими любимыми существами – мой ужас, муки, страдания, боль». – Дмитрий, Дима, закрой рот, не выпучивай глаза, но закуривай «Герцеговину», это передачка от Сосо, от Сулико… кури и внимательно вслушивайся в мой шепот… надеюсь в стенах нет наушников?.. хорошо тебя понял, но поостережемся верить в их отсутствие, прибегнем к шопоту… я – Саша Доброво, А.В.Д… сначала расскажи о себе как о «подсадном передатчике», обо мне поболтаем позже, время у нас есть… только не пудри мозги… через пяток минут походим по камере из угла в угол, иногда останавливаемся, разыгрываем сценку: ты вроде бы порешь какую-то чушь про баб, я соответственно реагирую… всячески жестикулируем, гримасничаем, фантазируем, импровизируем и так далее… контрапункт таков, что жесты – жестами, а необходимый нам разговор – разговором… учти: на кону твоя жизнь и судьба моей семьи… это мне, а не тебе, так и так каюк… отличный табачок, усатая гнида знает каким затягиваться до истомы нутра… ты меня узнал?.. не притворяйся, что не узнаешь, хотя прекрасно выполняешь «задание на неузнаваемость одного из персонажей нашей трагедии»… мы были вместе в студии… актер ты гениальный, но отвлекись от роли, оттвлекись, это необходимо в твоих же интересах… вспомнил?.. замечательно… тогда рассказывай что с тобой стряслось… мне хочется думать, что ты попал на крючок не добровольно… ну а как тутошняя сволочь умеет принуждать – знаю без тебя… меня, считай, ждет непременная пуля в затылок… рассказывай, и клянусь тебе жизнями самых дорогих мне на свете существ – жены, дочери, Гена, который овчарка, – потом и ты услышишь от меня только правду, правду и еще раз правду… и сам сможешь прикинуть что к чему, поняв, что, кроме всего прочего, речь идет о возможном спасении и твоей жизни, если она тебе еще не обрыдла, и о изменении судьбы к лучшему… вижу, что согласен… не забывай о импровизациях для «зрителей» и открывайся… колись, как говорит Дребедень – твой шеф, будь он проклят… не шантажирую, но, если не откроешься, я потребую немедленного перевода отсюда – прочь от тебя… сам тогда расхлебывай кашу, пару мисок которой наконец-то получили мы с тобой от самого что ни на есть Его Величества Случая.
А.В.Д. поразило внезапно обескровившееся лицо Лубянова; оно стало растерянным лицом, с которого внезапно сорвали маску, вроде бы навеки к нему приросшую, а такое, как ничто другое, моментально лишает личность последних остатков воли, сил и, если уж на то пошло, яростного желания воспротивиться натиску рокового происшествия; вместе с тем, во всем облике «подставного селезня», было нечто от опешившей рыбины, резко выдернутой из воды и хватающей губищами погибельный для нее воздух наружной жизни.
«Видимо, он настолько прирожденный актер, что как-то там вошел, возможно, в пожизненную роль и почти что начисто забыл о своей личности… тут вполне могут без всякой системы Станиславского принудить даже очень стойкого человека поверить, скажем, в то, что он «являясь сменным начальником кремлевского караула, был завербован японской разведкой в качестве вражеского шпиона, диверсанта м камикадзе, продавшего родину за музейно-мебельный гарнитур и 2(два) костюма-тройки, а также имевшего злонамереное задание взорвать Мавзолей (один) 7 (седьмого) ноября во время первомайской (1-ого мая) демонстрации с целью физического уничтожения стоявших на трибуне руководителей (количество засекречено) страны победившего социализма, используя для данного акта два (2) баллона жидкого нитроглицерина, похищенного на фармацевтической фабрике имени Цеткин (Клары), в чем расписываюсь и требую вынесения себе высшей меры социальной защиты, а именно 1 (одного) расстрела». – Ебитская сила, колюсь, – наконец вымолвил сокамерник, совершенно сбитыЙ с толку, – и раз уж вышло такое у нас неожиданное толковище, то, ознакомившись с материалами следствия, могу показать по существу дела следующее: в натуре, это ты – А.В.Д., так что бздеть и менжевать мне нечего, а то, что было, то было, мое прошлое и без тебя известно тем, кому следует… молодчик – режиссируешь данную мизансцену, как доктор прописал, а табак, гадом буду, что надо… это тебе не мичуринский самосад из соломы коровника, обоссанной отрядом продразвезстки… только и ты не еби мне мозги, сначала выкладывай все один к одному, открывай карты, тогда уж и я открою тебе свои… затем устроим театральный совет и пустим Немировича по делу Данченко, обвиняемого в совращении, ха-ха-ха, совершеннозимней Яблочкиной, как однажды скаламбурил Учитель, потом возьмемся за Данченко, сознавшегося в том, что вредительски хлял за Немировича, и расколем Немировича, на самом деле являющегося засланным из Берлина Данченко… ну и чем ты мне грозишь – выкладывай? – Умница – ты всегда был весельчаком, но говорим лаконичней, без мелких деталей, чтобы не засветиться… извини, это не ты меня узнал, а я тебя вспомнил, поэтому – ход твой… главное, как человек не глупый, к тому же джентльмен в далеком прошлом, исходи из простой, однако метафизической арифметики жизни: один ум – хорошо, а два – лучше, но оба хуже одного, главное, не понятно чьего именно… это никак не может дойти до Дребеденя – тупого животного. – Правда в том, что на самом деле он вовсе не мой шеф, а всего-навсего «одолжил» меня, крысеныш, в натуре, у моего шефа, который стоит гораздо выше… считай, он уже сам зам. дьявола с двумя звездами в петлицах, бригадный комиссар Люциан Тимофеевич, здешняя кликуха Люцифер… я б его маму ебал, хотя сам он с меня не слазит – приходится круглые сутки хером искру высекать из оловянной миски.
12
А.В.Д., имея очень стойкую с детства аллергию души на матершину, но не забыв уроков Учителя, мастерски захохотал – он был действительно потрясен неожиданным сообщением своего крайне растерянного знакомого, похожего в тот момент на беспомощного человека, раздетого догола и силком вытащенного для всенародного обозрения прямо на площадь Дзержинского; сообщение было полно поистине выигрышных возможностей.
«Да это же прямо два туза в редчайшем из прикупов, взятом после безумно рискованного объявления десятерной, равной самоубийству и одной ничтожнейшей из надежд – надежде на осечку пистолета… странно, я почему-то чувствую, что никакого не имею высоконравственного права просить Лубянова не распоясываться, не материться… плевать мне теперь на застарелую аллергию – пусть уж выражается как угодно и сколько хочет, отлично его понимаю».
Лубянов, всегда готовый к игровым надобностям, тоже засмеялся «для зрителей» и продолжал: – Между нами, похоже, что Дребедень берет верх и тогда моему зам.дьявола Люциферу, очень большому, надо признаться, эрудиту и умнику, – кранты, чалма, вышак без суда и следствия. – Дима, клянусь еще раз, это прекрасно, это, поверь мне, единственный наш шанс – иного не будет… точней, таких шансов бесконечно много, но людям мало когда приходит в голову использовать хотя бы один… начинаем шагать из угла в угол… иногда ты меня поддерживай – я ведь в натуре, как ты говоришь, избит-перебит… только не вздумай подозревать в том, что и я к тебе, как ты ко мне, подсажен – моя обида на тебя сделается очень серьезной, то есть ты не простишь ее сам себе.
Сокамерники показались дневной смене надзирателей только что познакомившимися людьми, охотно веселящими друг друга похабными историйками, чтоб не стебануться со скучищи и от всего того, что постоянно гложет души этих неспроста захомутанных злодеев и вредителей… то один, то другой представляются бабами, обезьянничают, виляют жопами, кокетничают, демонстрируют общеизвестные позы, общепринятые жесты и популярные действия, знакомые не только всем шалопаям и академикам, но и нам, серьзным людям из надзора… при этом оба хватаются за животики, один ходит, поддерживая другого, иногда встают спинами к «очку» – отдыхает вражеская сволочь. – Раскинь уши, как выражается Дребедень… я – ученый, генетик, сделавший революционное открытие, судя по всему, кажущееся сумасбродным этой идиотине, которому до капитана Лебядкина – как гниде до звезды… открытие – из тех, которые открывают науке и медицине, практически всему человечеству, массу новых путей, ведущих, как нас учат питекантропы агитпропа, к большой победе над природой… но я, как видишь, взят и обвинен черт знает в чем, семья, по словам Дребеденя, тоже взята, а собака отдана в питомник НКВД, где ее поставят на службу трудовому народу, извини, но я с его мамой не поступил бы по-твоему – ничьи мамы тут ни причем.
А.В.Д. коротко изложил Лубянову, во-первых, суть своего фантастического открытия, что непременно должно заинтересовать даже не Ежова, опившегося кровавой сивухой, а что ни на есть самого Сосо; во-вторых, рассказал о крайне рискованном замысле вызволить семью ценой выдачи научной тайны и потери своей жизни – иных вариантов, к сожалению, не имеется.
Однако весь его вид, когда открывалось «очко» или кормушка, говорил соглядатаям о человеке, «выдающем» похабные анекдоты; якобы слушавший их, Лубянов, соответственно, похохатывал и восхищался остроумием занимательных камерных забав. – Как я понимаю, времена таковы, что Дребедень жаждет похоронить твоего шефа, а заодно и нас с тобой… извини, но ты уже стал носителем ценной информации, полученной от врага народа, от меня, – поэтому являешься почти официальным трупом… Дребедень пришьет тебя к делу твоего бригадного комиссара Люцифера, а мои рукописи закопает вместе со мной… честь открытия будет принадлежать ученым Запада, правительствам которого первостепенно важны новейшие достижения науки… это у нас тут если нет человека, то и нет проблемы, но наука, к счастью, не человек: ее проблем не исчерпать никаким инквизициям и Лубянкам… продолжаем хихикать, но иногда меняем комедию на драмы жизни… ты меня понимаешь? – Нет, не секу какого хера мы тут комедианствуем, раз толкуешь, что так и так мне крышка… ты что, загоняешь битую рысь в пятый угол?.. да если б я был натуральным уркой – гад буду, непременно бы тебя по сонникам удавил, с понтом находясь в состоянии аффекта, и хуже мне не стало бы. – Пятый угол – это какое-то чисто лубянское приложение к эвклидовой геометрии, так что твоему наркому Ежову положена Нобелевская за сию новацию и изобретение ежовых рукавиц, развязывающих все тугие узлы цивилизации, – оба весело похохотали, – но наш шанс, Дмитрий, вот в чем… в том, что, воспользовавшись отличным раскладом, мы с тобой срываем банк… спасен ты сам, моя семья и Ген, то есть наш пес, и, само собой, твой шеф… он держит слово?.. – Думаю, Люцифер держит – он волк шерстистый, но из старых, из тех, с которых не все еще пооблезали принципы, к тому же Шлагбаум, бывший дворянин из обрусевших немцев. – Полагаю, ты можешь известить шефа о немедленном вызове… тебя к нему дергают, моментально предлагаешь три условия спасения его шкуры от ареста и гибели, наверняка готовящейся Дребеденем из-за карьеристских соображений – иных шансов, повторяю, больше не будет… выкладываешь свое первое условие: освобождение тебя лично от, насколько понимаю, недобровольной театральной деятельности в этих стенах и возвращение на сцену… условие второе: немедленное, не терпящее никаких отлагательств, рассмотрение моего открытия, которое не может не заинтересовать Хозяина.. сейчас твоему шефу грозит уничтожение безграмотным Дребеденем, тупость которого и помешает России стать родиной одного из замечательных научных достижений века… я готов изложить суть дела хоть Богу, но услышавший ее должен успеть перехватить у Дребеденя мои рукописи… речь идет о репликации, о клонировании, о генетически точной копии, черт побери, скажем, ихнего Ленина, или Николая Второго – кого угодно, поскольку, говоря просто, в «ведущих» кислотах ДНК и РНК находятся гены всей информации о личности… так в зернышке пшеницы незримо пребывает образ колоска, его строения, роста, развития, благих качеств и так далее… я уж не говорю о возможной замене дактилоскопии на анализ этой самой ДНК… убийцы, бандиты и ворюги возопят от ужаса на весь мир, а прокуроры, полисмены и сыщики потрут ручки.. третье условие: ключевые формулы, которые из меня не вытянуть даже сдиранием шкуры, станут известными только после прибытия семьи и собаки в Англию по приглашению тестя, не имеющего никакого отношения к политике, наоборот, глуповато сочувствующего некоторым идеологемам якобы научного марксизма и радикального лениннизма… вот и все – ясно изложено? – Но ты, ха-ха-ха, не гонишь ли черноту с темнотой насчет того, что можно заделать еще одного живого Ленина, а для нашего Хозяина замандячить пару двойников, чтоб ему, пропадлине, спокойно гулять по Тверской и разъезжать инкогнито по всему миру, чем париться всю жизнь в Кремле, как я на Лубянке… твоя генетика может заморочить бошки всяким заговорщикам-диверсантам – гарантирую орден Ленина, он тебе обеспечен… представляешь, завтра двойника этого урода разрывает на части, а послезавтра сам Хозяин по-новой кидает речугу, назавтра еще один чугрей из двойников отвечает на вопросы очередного большого, верней ебаного в душу, друга Советского Союза… гад буду, я бы на месте Сосо попивал «Хванчкару» и «Напареули», лежачи в обнимочку с парой крутобедрых Сулико», а двойник, сидячи в политбюро, пусть набивал бы себе мозоль на жопе. – Не примитивизируй, Дима, и не думай, что темню… в свое время, вспомни, инквизиторы едав-едва не сожгли Галлилея за то, что сегодня ясно любому школьнику… а а вот Джордано Бруно, как говорили иезуиты, пригласили на огонек… ты умеешь наблюдать и, если твой шеф действительно большой эрудит, сам увидишь, как он отреагирует на сообщение о научном открытии, которое наверняка похерит Дребедень… повторяю еще раз: мы имеем единственный шанс на спасение каждого из нас и несчастной собаки… кстати, с фамилией Шлагбаум твой шеф продержится в этом учреждении только до сорок первого, когда, после игрулек Сосо с фюрером, вспыхнет чудовищная бойня… погибнут десятки миллионов людей… немцы дойдут до самой Москвы, потом Гитлеру капут. – Почему это ты в этом уверен, может, того-с – стебанулся на следствии, что часто бывает? – они ведь тут, падлы, умеют закрутить мозги сикись-накись? – Вовсе не уверен – просто ни с того, ни с сего блеснула впереди некая фантастическая картинка. – Ладно, не будем заглядывать больно далеко, но в остальном ты прав: другого такого шанса нам не видать… фантастика – фантастикой, Саша, но, как я секу, этот твой, или же мой, то есть открытый клон должен взрослеть пару десятков лет, если не больше… а если так, то на хер мне сдалось подобное занятие?.. сначала быть для него своеобразным Савельичем, смотреть, как клоненыш растет, воспитываешь его, приучаешь не дрочить на уроках, одеваешь, обуваешь, следишь, чтоб не связывался с урками, не пиздил денежки из моего лопатника – короче, ты, теряя время своей личной жизни, делаешь из него человека, так?… я что – охуел?.. да за это время любой оригинал может или поехать от такого отцовства или загнуться… принципиально не желаю терять дорогую мне личную жизнь в искусстве, а также в койке, ради того, чтобы на белом свете появился еще один такой же мудак, как я сам… мне и без того мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы в проклятой этой тюряге… как же быть?.. ведь человечество, в общем-то, такое говно, что будь я Богом, пусть меня расстреляют, прекратил бы, скажем на один век, деторождение… потом вбил бы в человечьи головы, как играть роль порядочного человека с детсадика и до самого моргальника… может, ты возьмешь и похоронишь к ебени матери свое открытие, а иначе оно до того доведет обосравшееся наше человечество, что сам Прометей, подаривший людям обогревальное тепло, суп и вторые горячие блюда кулинарии, покажется невинным младенцем, сосущим прелестные сиськи у целого ряда олимпийских богинь. – Похоронить, Дима, готовое вот-вот родиться открытие, не сможет ни один из ученых хотя бы потому, что оно зачинается, созревает, готовится к рождению не в чьем-либо везучем ученом мозгу, а в общем поле науки, всегда являвшейся все быстрей и быстрей увеличивающейся суммой научных мыслей и знаний… в общем, не беспокойся, лет через сто наука прибавит скорости времени взросления клона раза у три-четыре… одни ученые уже теоретически доперли до возможного способа создавать искусственные алмазы, другие – чуть ли не до расщепления атома, что сулит человечеству приход новой после огня эры – эры высвобождения огромных количеств внутриядерной энергии, – разве сие не удивительно? – Тебя, случаем, не тряхануло ли все-таки, Саша, ло основания, а затем, как говорится, Канатчикова дача? – Если бы, Дима, если бы… дело в том, что иногда я кое-то предвижу, причем, так ясно, как зрю тебя сейчас перед собою своим единственным глазом, и все мое существо прохватывает страшная стужа… но разве науку прихлопнешь?.. наши безграмотные кретины пытаются обезглавить генетику с кибернетикой, но только тормозят приход новейших практик на смену отжившим свой век… к примеру, древние китайцы, много чего наизобретав, в том числе и убийственный порох, ужаснулись злодейски безнравственной двуликости некоторых наук, попытались посопротивляться им духовно и интеллектуально… воспевая Незнание, даже возвели непроходимую стену между разумом человека и неисчерпаемостью сокровищ науки… прошли века… еще в этом веке, Дима, Китай, фактически сбросив с себя иго марксизма-ленинизма, станет вооруженной до зубов, доминирующей в мире сверхдержавой, имеющей первоклассную науку, передовые технологии и, естественно, этнически сплоченное многомиллиардное население… а в веке следущем… впрочем, об этом лучше не думать, поскольку неизвестно – к добру все оно, или ко злу и концу света. – Вот какие ха-ха-ха, ни хуя себе какая ожидает нас с тобою не рыбная солянка, а самая что ни на есть уха!.. если ты, в натуре, что-то прозреваешь, то ответь – извини уж, своя рубаха ближе к телу – выйду я отсюда на волю, или не выйду, и это все, что хочу знать. – Не только выйдешь, но и вернешься на сцену – будь, Дима, спок, как йог, взирающий на свой пупок, как любила говорить моя матушка. – Тогда почему сам-то ты ни хрена не знаешь насчет своей судьбы?.. это, согласись, ее довольно странная сюжетная неувязка с данной трагедией. – Сапожник, Дима, как известно, ходит без сапог, истинный поэт до последних минут жизни ждет идеальнейшую из женщин, властительный тиран ни на секунду – из-за отсутствия у него души – не обретает спокойствия, ну и так далее. – Значит, актер за какие-то бурные аплодисменты всего зала тоже не имеет в жизни ничего такого основательного – одно пожизненное дицедейство, так? – Мне кажется, Дима, что за любой божий дар приходится так или иначе расплачиваться, причем, не обязательно трагически. – Отличная постановка вопроса… вот отыграю свое еще часика два и постепенно начну выходить из роли, что, как видишь, потрудней, чем выкорабкиваться из запоя… все, хватит, желаю вернуться на порядочную сцену, верней, на сцену порядочности, где я им, блядям, и всему народу такую замастырю трагедию, что глаза на лоб полезут от ужасов жизни… я, сука, не Гамлет – не хера мне думать – быть или не быть?, когда надо быть, быть и еще раз быть, а все они пусть гниют заживо, что со мной, по их вине, и происходит третий уж год.
Он, подойдя к двери, забарабанил кулаком по кормушке, затем согнулся, схватился за живот и застонал; кормушка вскоре открылась. – Гражданин надзор, язва, видать, открылась, подыхаю, в животах схватило и не отпускает, мне бы пару ложек соды, а вода есть.
Это, как понял А.В.Д., был сигнал Димы для сообщения шефу о немедленном вызове из камеры по важному делу. – Какая еще такая на хер сода врагу народа, да еще на ночь глядя, когда ужин вон несут? – Не до жратвы, начальник, хули ты рот раззявил? -валяй, действуй.
Кормушка захлопнулась; Лубянов, по профессиональной актерской инерции, охая от боли, повалился на койку лицом вниз; А.В.Д., массируя ему спину, тихо, но очень внятно повторил все, что тот, не рассусоливая, должен выложить своему шефу. – Главное, непременно добавь, что я, когда выбили глаз, в полуобмороке услышал разговор Дребеденя по телефону о грядущих в наркомате переменах, когда он так отыграется на некоторых умниках, так нассыт им прямо во вредительские их очи и не утрет шмурыльники, что комната смеха позавидует… прямо так и скажи, дескать, видно даже по мелким пешкам, как в воздухе носится нечто для вас, следовательно и для меня, предчувствие крайне неблагоприятного оборота событий. – Ролевое задание уяснил до самого что ни на есть занавеса, но, видимо, шеф дернет только завтра… хотя они тут привыкли, ежовские пидарасы, мантулить в три смены: взяли на себя почетную вахту перед первым маем и свято блюдут график приведения в исполнение высших мер наказания… как говорится, сегодня больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня… надо бы сказать в этом месте, что я всехних ихних мам ебал, но временно уж воздержусь… очень, поверь, просто и очень приятно вспоминать человеческую речь, ведь я интеллигентно воспитанный дворянин, Саша, мне остоебенила сраная эта роль… я бы, бля буду, сейчас сыграл без репетиции необыкновенно трудного иудея-пожарника в «Преступлении и наказании», а то и самого Порфирия… но черт со мной, главное, опередить Дребеденя, ибо он и не человек – это какая-то бронемандавошка на запасном пути к моей свободе… учти, в данный миг воплю для надзора: «ой, блядь, режет, ой, болит, ох, падла, крутит, не могу-у-у, нет моих сил!».. мы еще посмотрим, Саша, кто кого замочит… смеется тот, кто смеется последним, а плачет первым – сегодня Дребеденевская очередь похныкать.
Им, как выразился Дима, притаранили ужин, но ему самому было не до перловой кашки, а вот донельзя возбужденный А.В.Д. заставил себя съесть обе порции и выпить кружку кипятка.
«Кто знает, – думал он, – возможно, это самый ответственный момент в моей жизни… так что же день грядущий мне готовит?.. ангел-хранитель, друг ты мой пожизненный и посмертный, помоги вызволить несчастных из обездушенных застенков одной шестой света».
Дверное «очко» больше не поскребывало – не открывалось; поэтому Лубянов, казалось, успевший сбегать за кулисы, где мастерски изменил внешность и настроился на иной стиль речи, с большой охотой принялся выкладывать А.В.Д. историю своей невероятной судьбы.
14
– Ты ведь знаешь, я не говорун вроде тебя и с детства имею слабосилку мысли, но, даю слово, отвык от нормального разговора, так что извини, если что не так… однажды, после «Дяди Вани», разгримировываюсь, мурлыкая «цыпленок жареный, цыпленок пареный ходил по улице гулять, его поймали, арестовали, велели пачпорт показать»… а сам думаю: эх, Дымок – так звали меня и коллеги и дамы – впереди тебе сегодня корячится кабачок с двумя распутными фигурами наилегчайшего – для безтветственного мужчины – поведения и превеселого нрава… поскольку всего с одной дамой я с юности превращался в полнейшего импотента, параличом разбитого, как будущий Мавзоленин… ты не вздрагивай, Саша, кто-кто, где-где, а тут Лубянов имеет право на полнейшую свободу любого слова, заметь, лю-бо-го… один тут дурень, корпусной из комсомолии, жлобина и мудак, донес на мою служебную откровенность… ну его тут же, засранца, разжаловали и бросили зав.прачкой кровавого нижнего белья и прочей одежки врагов народа… так вот, не знаю почему, но с юности ни хера у меня не получается никакой палки тет-а-тет лишь с одной прелестной фигурой без трусиков… ты сам-то, обобщая, бабник?.. не отвечай – вижу, что представляешь из себя адепта лебединого либеде, как говорит Учитель, а я – так гамандрил… учти, речь идет не просто о половушной распущенности и приапической наклонности, а, как увидишь, о трудности устройства судьбы пропащей моей личности… однажды подсаживают меня же к одному профессору психиатрии вредительского фрейдизма, что автоматом тянуло на вышку… вроде бы он пытался загипнотизировать генсека, дабы настроить его пойти по пути национал-фашистского варианта социализма, а также развивал у своих психов какой-то Эдипов комплекс и внушал им срочно организовать группу для покушения на жизнь отца народов… ну его до полусмерти исколошматили, перебили ребра, однако он был упрям: не желал колоться, всего лишь стонал и требовал довести вживую пришиваемое, как и тебе, дело, до самого Сосо, которому он еще при Троцком ремонтировал полетевшие нервишки… ну я рассказал профессору о своем пристрастии к дабл-дамочкам и попросил, если он в силах, разобраться с такой дерзкой ненормальностью половой жизни человека и артиста… а он, хоть и харкал кровью, говорит, что все это у меня от инфантильной жадности на секс и запущенного расщепления грешного моего эго на множество сценических ролей, которыми я великолепно, но бессознательно овладеваю, подобно тому, как сие же выделываю с обеими дамами… за сей диагноз я его спас от мучений, но о моей ролевой установке – позже… короче, умываю в уборной рыло после «Дяди Вани» и выстраиваю симпатичную перспективу жизни: коньячок у меня впереди, не запойного, конечно, характера, шашлычок, танцы-шманцы-обжиманцы… я всю жизнь так и пел: щас бы братцы рюмку водки сцену и кровать а на остальное чтоб оно пропало с Эйфелевой башни мне насрать… вот и досрался, блядский род, домурлыкался – ах, хули уж тут сожалеть задним числом?.. буду лаконичен, я первый раз, Саша, с нормальным человеком беседую, находясь под колуном… заходят в мою уборную – ты же понимаешь, как в свою, – трое в форме… у одного – звездочки в петлицах, у двоих – по шпале на рыло… тут тебе и синий кант, и хозяйское, сука, хамство во взгляде, и сапоги шевровые блестят, в общем, шерсть-бостон и коверкот-рязань… как тут коротко не вспомнить мой первоапрельский розыгрыш нашего Станиславского… звоню ему однажды и говорю начальственно плебейским баритончиком, что так, мол, и так, беспокоит вас начальник отдела Управления НКВД по связям с общественностью полковних Шнеерсон… потеряете ради родины полчасика в приватной беседе о крайней необходимости назначения на главную роль в расистской трагедии «Отелло» настоящего негра из рядов американской компартии… пропуск заказан… кроме того, органам необходима консультация с вами лично по поводу эффективно короткой оперативной подготовки нашего человека к безупречному выполнению важнейшей задачи века вдали от той же родины… а Станиславский, ты подумай, узнал мою дикцию и с ходу не просто отбривает-отчекрыживает, а орет: «Не верю, негодяй, ебит твою в душу мать!» – и бросает трубку… ну мы там в компашке чуть не обоссались со смеху… при встрече он и говорит мне: «Нарабатывать надо, Дымок, мастерство вживания в любую роль, а не прыгать с бабы на бабу и не хулиганить, а то погоришь»… как в воду глядел Учитель… короче, заходят в мою уборную чекисты и звездочки в петлицах сходу говорят: – Фамилия Лубянов является яркой приметой положительной синхронности, а она есть знак правильности, выбранного мною метода следствия, каковой подсказан вашей гениальной игрой и высокопроцентной вживаемостью в любую порученную роль… я лично посидел на всех ваших спектаклях и усердно прочитал статьи театроведов о наличии у вас редчайше непринужденного артистизма, грех который не поставить на удовлетворение большой нужды нашей партии, страны и народа в период резкого обострения классовой борьбы. – Веришь, Саша, я хоть и охуел от страха, но прям схватился за животики – и хохотать, и хохотать. – Чем, – говорит, – вызван смех, Лубянов? – Виноват, – говорю, – я артист с богатым воображением, то есть слаб на аппетит к словам и выражениям… смеховая спазма вызвана «большой нуждой» широких масс и дальнейшим всенародным ее отправлением, как говорится, на просторах родины чудесной. – Вы, Лубянов, говорун, придется вашему богатому воображению немного победнеть. – Ну сейчас, предполагаю, устроят они мне такой дебют… вижу, Саша, что ты, как почитатель Пушкина, ожидаешь услышать в рифмые замечательно общеизвестнный глагол будущего времени… но я хотел сказать, что от дебюта навек откажет атрибут… дрожу и чую, что все оно может произойти именно так… чин со звездочками начинает издалека и приглашает поужинать в «Арагви»… куда мне прикажешь деваться, раз рыпаться бесполезно, что и амбалу было бы ясно?.. времена пошли такие, что членов ЦК запросто брали за партийные рога… более того, начали загонять в стойло даже самых верных козломордых ленинцев… да и кабак, куда пригласили, знаешь ли, все-таки не камера после шмона в заднем проходе, а весьма приятное заведение с баснословно аппетитным меню, да и я не парвеню… в ресторане, думаю, напоследок можно выпить-закусить, раз сегодня все равно уже не засадить моему дуэту… прощайте, выходит, распутные вы мои бабенки и волшебная ночь до самой утрянки… прощай опохмелка помидорным рассольчиком на Трубном рынке, затем чрезвычайно дневная репетиция, так как, по-слухам, вечером в ложу должен пожаловать товарищ Сталин… он, между нами, очень наш театр обожал и самыми грязными словами ругал бдительную охрану, бесплатно, сука, занимавшую четверть зала, за ограничивание его театрального кругозора… короче, сидим в кабинете «Арагви», штора задернута… неужели, думаю, отпидарасят, как недавно случилось с одним нашим заслуженным деятелем искусств, которого ежовские дружки по-всякому отхорохорили в этом же кабинете «Арагви»… если даже так, то амба и хана – не отбрешешься, не отбрыкнешься от «мимолетного введения», как говорила одна моя знакомая графиня… жизнь, думаю, такова, что придется уж выступить в роли, так сказать, древнегреческого раба и, если не Вадима Козина, то одного из Великих Князей… но то, что все обошлось, и меня сходу не реинкарнировали в «козла опущения», пробудило в озабоченной душе отличное настроение… поддав, значит, закусываем буженинкой-осетринкой… объявляется с эстрады женский вальс, то есть дамы приглашают кавалеров… нагло отдернув штору, подходит ко мне пышная, дебелая цыпа, которая раза в два больше иной худощавой цапли… наклоняется надо мной с большою нежностью, трется всеми перышками бедрышка об руку и нахально чуть не вываливает из декольтенции волшебно матовые сиськи, как у Снегурочки, которую, после детского утренника, дело прошлое, я так отдедоморозил вместе с Бабой-ягой, что первая растаяла, а вторая вылетела на метле из театра за моральное разложение прямо в оркестровой яме с первым барабаном оркестра… словом, поет эта цыпа клокочущим контральто: «Милый в штатском, я зову вас качнуться на дунайской волне данного женского вальса»… понимаю, что проверяют на стойкость при выполнении задания – о, прощай, моя легкая и безответственная жизнь! – и моментально отбриваю эту шлындру знаменитым «Не верю!», ибо не до танцулек мне, я Ленина, блядь, в ту минуту в гробу видал вместе с женским вальсом… премилая цыпа обиделась, отчалила от меня словно яхта мистера Твистера – тройку ночей жизни отдал бы за осанку, за борта, за покачивание кормы, хотя предпочитаю, не забывай, пригласить на диван нечто сдвоенное и даже имею невоплотимую циничную мечту о медленном, под танго, раздевании неразлучимых сиамских близняшек… и вот сообщает мне пара звездочек, подняв тост за Станиславского, что такой эпохальный артист, как я, не туберкулез Чехова должен играть, а брать все театрально сценические регистры путем вживания в одну почетную, исторически ответственную роль… поддали еще по одной… я задумался, а один из подчиненных, высказывает сожаление, что у меня слишком видная внешность. – Ты, Дребедень, недоумок и завтра же будешь послан на вечерний фак закрытого вуза набираться образования, культуры и отдыха, – строго заметили звездочки в петлицах, а другая шпала подъябнула дубоватого коллегу насчет необходимости дальнейшего охлаждения ума и раскочегаривания жара в сердце… веришь, я еще тогда врубился, что униженный Дребедень непременно однажды захочет сожрать моего Шлагбаума, поскольку тот умен, культурен и зело мудер… кажется, я понемногу начинаю адаптироваться к нормальной речи, а то так вмазался в остоебенившую «фенеменологию» – аж блевать охота… короче, Люцифер двумя пальчиками, по-барски, велел обоим шпалам убраться потанцевать и потискать дамочек… шпалы вышли, а сам он говорит приказным тоном, что мне оказана высшая честь, если не миссия… «Вы, Лубянов, обязаны поработать совместно с органами для очистки партии, правительства, красной армии, научных и писательских кругов от вредителей и врагов народа… придется пожить в нашей следственной тюрьме года два-три, что лучше, чем волочь червонец на Колыме, что смерти подобно… раз в месяц – письма родителям из закрытого драмтеатра, находящегося в закрытом городе закрытого района энской области, соответственно, начнете получать закрытые же ответы на таковые… не как рядовому сексоту, но как тайному сотруднику в чине старшего лейтенанта, ваша зарплата будет переводиться в центральную сберкассу… в свой срок выйдете отсюда майором с персональной пенсией НКВД… имеете целый ряд плюсов: за сверхурочные, ночные, праздничные и полумесячные, как говорит одна моя знакомая узбечка, презамечательная певица… вам пойдут премии за внеплановое количество информации и раскалывание особо опасных политических, а также экономических преступников… так что вы за полжизни со всеми ее халтурками столько не заработали бы, сколько хапанете у нас… надеюсь, будете удостоены сначала закрытого звания «Народного артиста СССР», потом открытого, само собой, ряда медалей и орденов, возможно, станете безымянным Героем Советского Союза с вручением Золотой Звезды, ну и со всеми вытекающими из таковой награды привилегиями… недоумения имеются?.. – Саша, мне стало ясно, что отступать некуда – только к стенке и так далее… поэтому ставлю раком следующее недоумение: каким должно стать решение женского вопроса?.. без этого моя жизнь не имела бы смысла, но у меня, как у стахановок «Трехгорки», своеобразный вывих насчет многостаночности… то есть с одной дамой я не могу и не желаю предаваться фрикциям – только с двумя, от чего лечат только в Швейцарии… иначе у меня в голосе, руках и ногах, особенно в башке, начинается дрожь неудовлетворенки и вообще какой-то отрицательный психозо-невроз… без решения данной каверзы здоровья я не могу… не устраивает – можете сразу расстреливать или вонзать близлежащий шашлычный вертел прямо в сердце… откуда это у вас, удивляются звездочки, сия извращенция?.. у меня, говорю, поставленный диагноз: хроническое расщепление личного эго на почве вхождения в несколько мужских ролей, но без уклона в гомосексуализм… если не вижу в койке второй кисы, то ум за разум заходит и честно его спрашивает: «а где же, Лубянов, еще одна дама легкого поведения, мать ее ети?»… без второй соблазнительной фигуры, говорю, я всего-навсего живой труп с нестоячим, поскольку с комплексом таким родился и с ним же, видимо, помру… тот смеется, хвалю, говорит, за откровенность и прямоту желаний… два раза, обещает, в неделю заимею должностное инструктирование по части половых сношений и введения двух стажерок сразу в курс актерского мастерства перевоплошения… это премиально стахановская постановка вопроса… дадите общую расписку о неразглашении и придется уж вам, товарищ старший лейтенант, подштудировать закрытый от масс йоговский трактат «Камасутра»… сожалею, что это перевод нашего спецтолмача, а не поэта Мандельштама… этот крупнейший поэт очень долго вел себя самоубийственно и наконец доигрался… голову надо было иметь на плечах – вот что, а не только Музу… не советую брать с него пример… вы должны знать все фигуры древнеиндийского труда на зубок и не хуже Ганди, если, допустим, вас расстреляют, а потом неожиданно воскресят как бы по тревоге… «Камасутра» – это вам далеко не утренняя палка, но древнейшее искусство разностороннего полового акта, использующее все возможности человеческого тела и его психики… именно поэтому оно тоже обязано встать на службу разведки и контразведки нашей Родины… ну, конечно, обе, пришедшие за минуту до этих слов, шпалы угодливо загыгыкали, мандавошки… звездочки в петлицах заиграл желваками, как мне не суметь, пшикнул, и те снова улетучились, словно призраки клочьев в «Синей птице»… ну что ж, слышу, поднимем тост, Дмитрий Анатольевич, за ваш дебют!.. подняли, точней, пришлось поднять… имеются, спрашивает шеф, еще вопросы?.. так точно, говорю и смелею от поддачи лишнего: раз в месяц хоть разбейтесь, но отдайте мне ровно три дня глухого запоя, четвертый – поправка в баньке… только тогда – не раньше – выхожу один я на подмостки, а иначе – никакой я не человек и не актер милостью божьей… и еще один, кажется, последний, но очень важный вопрос: получу ли, так сказать, главного режиссера для этого вашего камерного театра одного актера?.. отлично, отвечают звездочки, начнем с конца: никаких вам не положено Мейерхольдов, потому что на воле и так не хватает специалистов… вы самолично будете и им, и своим Станиславским, и актером, исполняющим главную роль, и учителем дамского искусства обольщения влиятельных империалистов ведущих стран мира, и осветителем, и, вероятно, активным, если не пассивным, пе-де-рас-том, старший лейтенант… но это только в случае резкого возникновения исторической необходимости, против которой не попрет ни Бог, тем более, ни царь и ни герой… к примеру, у страны и у наркома возникает большая нужда обольстить видного японского маршала, а тот активный пе-де-раст, хотя командует сотней тысяч своих харакириков… не бледнейте, ничего такого уж особенного с вами не случится – вы не цаца, а это не операция по удалению геморроя, от которой, как рассказал коллега по работе, две недели глаза на лоб лезут… кроме того, после выполнения такого пикантного ответственного задания с использованием не по назначению известной части вашего тела, имеете добавку за вредность и право на трехдневный отдых в кругу вакханок, желательно, совмещенный с запоем, чтобы зря не терять время… партия этого не уважает и не прощает… короче, против «амур де трио тет-а-тет» я не возражаю… вполне переспективное дело, но помните: главное – это не ваши оргазмы, а чувственно-половой опыт наших универсальных курсанток, тоже стоящих на страже страны убедительно побеждающего социализма… заботы о мерах по разберемениванию и антитрипперу ложатся на плечи девушек, которые не Нюшки на вечерке – сами все знают… в камерах вам придется дневать-ночевать, труд есть труд… для всего остального государство предоставляет вам отдельную квартиру по месту службы со всеми удобствами, но без вида на панораму Москвы, плюс финскую сауну, ну и американский холодильник с запасом питья и продуктов.
15
Надо сказать, Лубянов восхитил А.В.Д. умением имитировать манеру речи своего шефа и действительно великолепным даром актерского перевоплощения; он блестяще выражал властность высокого чина, подчеркивал его образованность и интеллигентность, скрываемые под грубоватостью манер и ироничностью ума, вынужденного казаться хамовато циничным в присутствии дубоватых выдвиженцев из простого народа; иногда А.В.Д. восхищала прекрасная оркестровка Диминой речи, никак не вязавшейся с его уркаганской внешностью; былыми ранами и следами побитости она иногда напоминала внешность истасканного мартовского кота, постоянно швыряющего соперников с крыш, несмотря на рваные раны; он свободно и мастерски менял лексику, переходя с блатной и ужасно матершинной речи на речь вполне интеллигентную, отчасти художественно наблюдательную, много чего говорившую о чертах его весьма непростой личности.
Лубянов продолжал рассказ, словно бы проникнув в мысли А.В.Д. – Поверь, я хоть и неумный тип, но, с другой стороны, на хера актеру лишний ум?.. да, повторяю реплику, я тип неумный, но просек, что шеф несколько приземляет себя, так сказать, осаживает, не особенно-то глаголит перед двумя упитанными народными мясниками СССР… с этими хмырями всегда надо быть на стреме – они, гондоны штопанные, только и ждут момента, мизерники поганые, чтоб клыки вонзить в твою горлянку и пустить кровянку… короче, шеф меня в «Арагви» не просто заарканил, но буквально прищучил, верней, приакулил… а ты что на моем месте – выплеснул бы ему в харю фужер коньяка, чтоб с блеском выдать монолог Петра Первого перед полтавской битвой, типа я вас ебу, чего же боле, что я могу еще сказать, да?.. вот и главное, что у царей и у народа подобная ситуевина называется «ни бзднуть, ни пернуть измученой душе»… но ты, Саша, спасибо тебе большое, – ты мне шлешь надежду на спасенье, и прошлое я вновь воспоминаю… эпитет ее мать эту арию князя Игоря – какой артист во мне ни за хер тут погибает, какой во мне, Саша, погибает артист!.. но до мудрого хода твоей драматургической мысли, клянусь свободой, ебаться надо Шекспиру с самой леди Макбет… такой ход, который делаешь ты – я на подхвате, я на вторых ролях – не снился даже Мейерхольду и нашему с тобой Учителю… теперь мы им устроим бенефис – весь сбор в пользу детишек арестованных врагов народа… такой устроим бенефис – всех уебем прославленных актрис, как сказал Ворошилов, который с Буденным напару поимели весь необъезженный дотоле кордебалет Большого, моего МХАТа, половину Малого, где без пользы для сцены разлагаются древние трупы народных артисток СССР… в общем, заакулили невинного человека, имевшего всего две слабости: регулярность запоя и пару дам на царской, между прочим, кровати, приобрел которую по историческому случаю у жуковатого антиквара, причем, за невероятно кровные шиши… но зато доброму молодцу на такой кровати можно было погуляти-разгуляти да от пуза отъебати кадры, которые не решают ни-че-го, кроме удовлетворения, можно сказать, мировой нужды мужского, невероятно зверского организма двумя премилыми дамскими телами… я там от скуки лозунг написал и над трехспалкою своей повесил: КАЖДОМУ СОВЕТСКОМУ ОРГАНИЗМУ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПАЛКИ – ОБРАЗЦОВЫЙ ОРГАЗМ!.. словом, сижу в «Арагви» и внутренне воплю: вот морская гладь, теребит твою в душу мать, прощай сцена, прощай свобода нравов, прощайте банкеты в Большом Георгиевском зале и ты, банька милая с веничком березовым, прощай… аревуар, ветчинка да со слезинкою, да в гастрономе Елисеевском, где я имел весь колбасный отдел в белых фартучках да на тесемочках.
Сие «прощание» напето было Димой на манер слезливого жиганского романса. – Ладно, после кабака отвезли они меня на черном «Паккарде», хер его душу знает, может, и на «Линкольне», на Лубянку – прямиком в секретную секцию, в квартирку… кстати-то, президента Америки Линкольна, тоже большого любителя театра, пришили в правительственной ложе… такое было у меня совпадение… в квартирке – все на зависть Графу Монтекристо: декорации по эскизам Бакста и Бенуа, антиквариат в виде статуеточек-хуеточек и китайских ваз, ясно что отныканных не у беспардонного матроса Железняка… на каждой стене «раскинулось море широко и волны бушуют вдали» Айвазовского… одним словом, не тюрьма, но превосходный ништяк, милейшее, к моим услугам, пространство отдыха от трудов неправедных и гражданского разврата… везде книги с шикарными корешками, и немецкая тебе радиола, и натуральный американский холодильник, и, ясное дело, сортир с фонтанчиком посреди невиданной дамской раковинки, главное, с мраморным толчком, на котором не мне, распиздяю, сидеть, грустно задумавшись над вонючей «Историей ВКП(б)», а роденовскому «Мыслителю»… тут и обширная ванная прямо для маркиза Де Сада и всех великомучениц его психованных проблем… наконец, поверь, неописуемых размеров там имелось ложе, а над ним, над этим самым ложем, – не потолок, но огромное зеркало, поддерживают которое все, если не ошибаюсь, девять Муз с амурчиками и соответствующими купидончиками… короче, гадом быть, хата что надо и не надо… шеф приказал выспаться и впредь никаких вопросов не задавать… впрочем, повторил, что театр и кино должны служить – эпитеты я про себя тогда добавил – ебаной партии и трижды ебаному-переебаному народу, возводящему ебанное же светлое будущее… потому что, говорит, Дмитрий, в суворовости, виноват, в суровости классовой битвы у любой человекоединицы всегда имеется неотъемлемое право на исключительно внутреннее сопротивление невзгодам судьбы, разоблачить которое и существенно ослабить – и является задачей внутренних органов диктатуры пролетариата, нравится сие данной человекоединице, или не нравится… соответственно, шеф самолично, правда не без моей творческой помощи, ввел в воображение моего вышерасположенного мозга закрытое амплуа блатного пахана, бандита и убийцы, находящегося в глухой несознанке, плюс пошедшего в отказ от любой подписи даже в том, что он – это он, а не товарищ Калинин… легенду насчет пропащего прошлого глагола моей жизни отлично сочинил какой-то завзятый, точней, взятый за жопу прозаик… видимо, расстреляли человека ради пущего сохранения военной тайны… ничего не поделаешь, Саша, у каждого умирающего гуся – своя должна иметься лебединая песня… показали приказ о зачислении в штат НКВД старшим лейтенантом, имеющим секретное ролевое задание… конечно, дали кликуху Валентин Шамовкин, Валек… напоследок Люцифер, сообщил, что в моей квартирке находится лучшая часть рекизированной библиотеки Великого Князя Николая Николаевича, поэтому лучше бы перед чтением мыть руки, тут вам, Шамовкин, не изба-читальня, спокойной ночи… поутрянке – здрасьте, блядь, – приканали вместе с Люцифером две медсестры делать наколки… сначала я засопротивлялся… ну хорошо, говорю, обрили наголо – да хуй бы с ней, с башкой, но зачем же мне такая ваша на теле Третьяковка, главное, на всю оставшуюся жизнь?.. давайте, предлагаю, рисовать эту вашу пещерную живопись какими-нибудь шибко въедливыми шпионскими чернилами, а когда сотрутся, нарисуем новые мизансцены… представьте себе, Валентин, парирует Люцифер, что некто, звучащий гордо, независимо от того, кто он – человек или враг – швырнул вам в физиономию миску баланды… вы насухо вытираетесь рукавами спецодежды, но наколки-то смылись – пропали наколки-то… да, они пропали, а сами вы будете немедленно размазаны по стене камеры, и слух о вас пройдет по всей Руси великой и сохранит его всяк сущий в ней язык… вижу, что представляете… представьте уж и лето: в камере жарища почище чем в жопе барашка на вертеле, тем не менее, и гордый внук славян, и финн, и еврей, и, ныне дикой, тунгус, и друг степей, калмык – все вышеуказанные подследственные буквально истекают потом… кто будет отвечать за смытые с вас сюжеты, утвержденные главным художником НКВД?.. Троцкий и другие двусторонние оппортунисты?.. стойкие чернила еще не изобретены – это дело будущего, когда наука и технологии возьмут верх над кустарщиной прошлого и халтурой настоящего… арестованному дадут таблетку и он сам расскажет все, что требуется следствию нового типа… если заупрямится, дадут вторую… эрго: как вас наколят, так, извольте знать, и расколят – наша косметическая хирургия не стоит на месте, как памятник Свободы на Советской площади, вскоре который будет снесен де-факто… не забывайте, пожалуйста, что мало кто в стране начал зарабатывать столько, сколько вы… папанинцы рядом с вами – это нищие доходяги, круглосуточно ишачащие на полярной льдине, причем, без горячих сотрудниц, тихо посапывающих в двуспальных мещках… не удивлюсь, если кто-нибудь из наших прытких активистов донесет, что четверо папанинцев научились развратно обходиться своими силами с проблемами организмов, требующих удовлетворения в условиях вечной мерзлоты… и запомните раз навсегда: вы должны ускорить человекооборот контингента, временно находящегося в органах, чтобы я мог обойтись без способов физического воздействия… так, ну что дальше?.. с неделю делали мне наколки, с неделю они заживали… тут как раз подошел запой, по наследству который попал в гены этих твоих хромосом, отдуплившихся в меня по алкоголической отцовской линии, потому что моя мама не пила.
16
– Ну а потом, Саша, началась работа… плохо она пошла, ибо подследственные меня чурались, не верили, не кололись… однажды бью баклуши в камере и песни пою так, что надзор умолял спеть на-бис… и вот ведут меня и приводят на стажировку-доработку не к Люциферу, а к Дребеденю… там его помощнички так меня, паскуды, отстажировали по всему телу да по рылу, что с неделю очухивался на квартирке… было уже не до запоя и амур-тужуров… думаешь, отчего ж еще такая у меня рожа – от грима что ли?.. пришлось ишачить, как канатоходцу без мягкой подстраховки… полностью открывать тебе душу нет сил, так как душа Дмитрия Анатольевича Лубянова исстрадалась от глубокой вины и сочувствия тем несчастным, из которых черт знает как бессердечно вырывали признания, свидетельства, оговоры, подписи… если одному из тыщи рыл, плюя на пытки, удавалось держаться до конца, то из кабинета эти волки и гиены выволакивали покойника прямо в крематорий – иных выходов не было… дребеденьевская дрянь надрочилась всячески ломать любого стоически твердого упрямца, любую благородную личность, для которой оговор знакомого и признание своей вины-невины, по себе знаешь, хуже смерти… а внутреннее сопротивление взятого мужика, взятой бабенки – вот беда-то, вот досада – все такое замедляло темпы следствия и выдачу высоких результатов, нетерпеливо ожидавшихся наверху… «Или дело оформлено, шени деда могиткнам, – сказано было Ежову Сосо, – или партбилет, набичвар, на стол»… вот ихняя шайка-лейка и взялась утюжить всех без разбора… конечно, я догадывался, что Люцифер, – не удивляйся – категорически запретил Дребеденю брать меня в долг и сажать в камеры к упрямцам, вроде тебя… а если, заявил я шефу, они меня еще раз отмудохают, то издевательств не вынесу… можете расстреливать – ищите другого артиста на мое место… Люцифер велел мне также применять человекообразную методику эффективной разработки арестованных и заранее приговоренных… и, между прочим, не только из-за стахановского ускорения выдачи на гора признательных показаний… он шел на это вынужденно и хитро, не вынося вида кровищи, вообще жалея обреченных на смерть, поскольку иного пути не было и у него… из НКВД просто так сейчас не увольняют: или ты с ними, падлами, или против них, то есть лбом к стенке… знаешь, чем я себя успокаиваю?.. тем, что действительно им всем – арестованным – светила только вышка… и упасал я полезным советом от предсмертных пыток не только их – я ихних жен и детей выводил тем самым от захомутываний и допросов, производимых на глазах мужей и отцов… а ты спрашиваешь, раскалывал ли?.. боже упаси, ты что?.. ничего такого не выпытывал, никого не раскалывал… хули выпытывать и раскалывать, когда на каждого из них было сочинено «Дело за номером таким-то», установлены все действующие и горячо сочувствующие лица, расписаны, как и положено, первые, вторые и прочие роли, сценография Кукрыниксов, музыка Дунаевского, слова НКВД, а справедливый приговор – по многочисленным просьбам трудящихся – приведен в исполнение безымянными виртуозами, народными палачами СССР… если хочешь знать в НКВД боролись две тенденции: одна, представленная моим шефом, Люцифером, старалась делать ставку на бескровный ненасильственный метод, на вкрадчивый подход, скорей всего, порученный не мне одному… кого-кого, скажу я тебе, а способных артистов, скрывющихся от самих себя, в стране у нас до хуя и даже больше… вторую же тенденцию возглавлял Дребедень, считавший – под руководством Ежова – самой экономной и быстрой карающую силу физического воздействия на всех допрашиваемых… враг народа, говорил кроврпивец, таков, что вышиби ему один глаз, а второй ему сразу станет жалко, и вот тут-то мы его колонем… если же он последний свой глаз не пожалеет, то этот субъект дела уже и не человек, а вонючий пережиток прошлого… тут я его, гаденыша оппозиции, трое суток держу без сна и жратвы, а потом – по почкам, суку, микстуркой с песочком, по почкам и откровенно призываю подписать признание, иначе, паразитина, говорю на крик срываясь, выдергивать тебе, падле, начну по зубу без наркоза… человек, замечу, Саша, которого ты собираешься клонировать и возобновлять, сам по себе такая ведь редкая сволочь, что ему даже пуля в лоб трижды желанней втыкания иголок под ноготь… а сверх жестокая манера ведения следствия, как надеялся Дребедень, заставит врага открыть все подробности готовившегося им преступления по заданию каких-то мифических, заебись все они в доску, разведок… Люцифер же, наоборот, говорил какому-нибудь несчастному: «Извините, вы оказались в руках истнеобходимости, подпишите все вам предначертанное и предписанное, извольте, уважаемый, исправно исполнить свой последний гражданский долг… этим вы временно сохраните себе жизнь и здоровье, а оправдываться будете на суде, где каждому подсудимому партия торжественно разрешает доказывать свою невиновность… все мы будем только рады вашему полному оправданию, так как оправдание частичное – это нонсенс, его просто не может быть в нашей стране, потому что такового не бывает вообще… ну, умные люди, будь спок, подписывали, потом плясали гопака от радости, что повезло безболезненно и с некоторым профитом в гробу не обосраться… и ты подписал бы, обмозговав с моей помощью, что именно корячится тебе и ближним из-за твоего же упрямства, поскольку там, где была справедливость, Саша, лысый, как Ульянов, хуй с вырос с залупой без ушей… не думай, что оправдываюсь… будь я на месте тех людей – да, бля буду, большое спасибо сказал бы от всего своего сердца такому соцреалисту политической психотерапии, каким являюсь самолично… да, я сказал бы только спасибо, раз пошла у меня такая вшивая масть… а официально простить меня может только Боженька – он всех прощает, кроме самоубийц, что и удерживает многих действующих в истории лиц от петли, бритвы и прочей стеклодряни вскрывания вен… и не мне тебе рассказывать, что значит вживаться, потом по горло вжиться в кучу говна – в навязанную тебе судьбою роль… натуральный театр – да хер бы с ним, он всего-навсего театр… сыграешь убедительно какого-нибудь умного секретаря райкома – новый плебс дружно рукоплещет и из партера ссыт кипятком на галерку, а я, откланявшись, тороплюсь в уборную сблевать от текста, потом полощу глотку шампанским и – аля-улю, ямщик, к девчонкам!.. назавтра, после штормовой ночи, воплощаюсь в Феденьку Протасова – да так выразительно оживляю сей живой труп, что нет живей его на всем белом свете, и крик стоит в зале, и закидывают фигуру мою цветами рыдающие от восторга дамочки, словно лично я не торчу на подсотках, а нахожусь во гробу, утопая в шикарной клумбе цветов, что благоухают посреди Колонного Зала… не буду останавливаться на сценических подробностях каждого из моих дел… к примеру, подсаживает Люцифер к «фашисту», который шпион, вредитель и диверсант… ну тот от радости, что не поехал в одиночке, начинает пороть всякую дикую хуйню о невиновности… дорогой Иосиф Виссарионович, дескать, ничего не знает, подлые перерожденцы все от него скрывают… проклятые, товариш Валек, эти сволочи гуляют вместе с блядовитыми выдвиженками по буфету, цинично дискредитируя «Вопросы ленинизма» и прочие «Коммунистические манифесты»… или возьмем какого-нибудь замнаркома тяжмаша… этот плачет, пускает нюни и говорит: хотите, Валентин, съем по чарличаплински ботинок вместо клятвы, что я не только не виноват, но своими руками удавил бы всех перерожденцев за превышение власти и глумление над идеями Ильича?.. вы дурак, отвечаю, и помесь идиота с дебилом… вот я, если б являлся не вором, а вредителем-оппортунистом, непременно подписал бы все и вся к ебени матери, только чтоб эти человекообразные клопы отстали от меня лично, жены, родителей, друзей и знакомых… зачем тебе, говорю, тащить за собой в могилу самое что ни на есть дорогое?.. да ты совсем, я вижу, охуел и споткнулся на своем тяжком машиностроении… посмотри: на тебе живого места нет, обоссан весь, обосран, окровавлен, дурно пахнешь, а ведь все равно куражишься-кочевряжишься, как глиста в толчке сортирном… вот что запомни, находясь не на их месте, а на своих законных шконках: кочевряжиться на Лубянке – это матрос-партизан бесполезняк и, само собой, не проханже… ты так и так приговорен – считай, тебя нет, как однажды вовсе не было… или ты всегда был?.. да нет, говорит замнаркома, в предистории себя не замечал, во всяком случае не помню такого случая, врать не стану – не по-ленински это было бы… а хули, говорю, тогда упираться рогами в стойло?.. кто знает, может, потом ты опять возникнешь – но уже в совсем иной сценографии, сам понимаешь, объективно выдаваемой поутрянке нашим с тобой ощущениям, подобно кровной птюхе здешней черняшки, положеной каждому подследственному, заведомо приговоренному к пульке в твой туповатый обух… короче, чем быстрей тебя кокнут, тем раньше, главное задолго до меня, ты опять окажешься в ней же, в действительности, возможно, в немного поумневшем виде, номенклатура ты хЕрова… лучше представь, говорю, завязку следующего действия… ты кокнут-шпокнут, так?.. но через какое-то время неизвестная тебе дама попадает либо от твоего законного папаши, либо от случайного чугрея, так?.. ты, по-новой, всего за какие-то вшивенькие девять месяцев – их на параше можно пересидеть – наябываешь в маменькиной матке долгие эпохи эволюции, главное, это не Лубянка, а сказка, конца которой ты еще не видишь и не слышишь… сачкуешь там себе, как в одиночке, и превращаешься в двуногого человечка какой-нибудь национальности, но лучше бы не в русского и, разумеется, не в еврея… лично я возражал бы против такого расклада, так как Россия наша серьезно и надолго будет пребывать в глубочайшей, заново сконструированной жопе… короче, при любом раскладе колоды тебя, запеленутого, дергают на вахту, во рту сиська, вскоре уносят в пеленках из роддома – в невиданную реальность… ты подрос до «возмужания мудей определенных половых органов», как написано в протоколе моего задержания… смотришь, а вокруг, о, злоебитская сила исторических перемен, – вокруг-то исключительно светлое настоящее, а не поганое кровавое прошлое со всеми своими мировыми и гражданскими, с пережитками, головокружениями, пятилетками, займами, трудовыми подвигами, незаконными арестами, пытками, ебаными левым и правыми уклонами в пропасть… живи – все тут тебе по потребностям и хер бы с ними, как говорится, со способностями, лишь бы продтовары с ширпотребом шли бесплатно… это ж надо – тут и голубые города, куда тебе въезд не запрещен, и всенародные фабрики-кухни, жри, милок, пока последняя сарделька в табуретку не упрется, мы тебя обожаем больше самих себя… эх, хорошо при коммунизме жить, красный галстук на груди не носить, а на маму с папочкой не до-но-сить… ты тут сейчас торчишь и, видишь ли, за каким-то хером объявляешь голодовку протеста… разве не стыдно?.. в семнадцатом, поясняю, дорогуша, надо было протестовать и вступать в активное белогвардейство, а теперь, извини уж, – общий отсос по девятой усиленной в порядке полуживой очереди, переходящей в краткую агонию, бызымянный пепел и неопознаваемый прах… ты помнишь, что такое осень, когда листва падает, чтобы сгнить за зимний период?.. вот и мы, люди, милый мой замнаркома, те же листики, правда херово мыслящие, которые зазеленеют вновь на зло осени с зимою… короче, чем протестовать и барнаулить – лучше потребуй хороший ужин из ресторана «Савой», где я бывало погуливал по буфету и давал судьбе марафетного поджопника… и непременно с шампанским чтоб он был, последний в твоей жизни, ужин, с коньяком, пивом, раками, двуцветной икоркой, балычок, салат «Оливье» – все, что положено человеку, обожающему широту жизни и интересов тела… только тогда, только так, заяви, гражданин следователь, все, что угодно подпишу, хер с вами, вдобавок припишу: да здравствет отец черной металлургии и всей тяжелой промышленности товарищ Сталин!.. отлично, говорит замнаркома, но есть вопрос, таварищ Валек: я не желаю давать ложных показаний против кристаллически честных партийцев… как быть, умоляю порекомендовать, если извратители наших догм руководства к действиям начнут выбивать по одному шнифты, они же глаза?.. попробуй, отвечаю, отказаться валить телегу на свидетелей и торгуйся, пока эти гады не охуеют… заяви, что пусть спасибо скажут, а то вот возьмешь и запросишь перевести за свою откровенность пару тыщ долларов в швейцарский банк… иначе, скажи, вылижете швы осбосранных моих трусиков… отлично, товарищ Валек, поторгуюсь, все подпишу, что они хотят, но в далеком будущем, боже упаси, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не желаю возвращаться в эту гниль, в этот смрад, в эту безжалостную бессовестность – будь она проклята вместе с теми, кто меня оклеветал, и с членами политбюро во главе с любимым другом, отцом, лучшим физкультурником мира, великим Сталиным… если уж возвращаться, то исключительно в Париж, Лондон, Сан-Франциско, но можно и в Гаагу, а в большевизм, извините, нетушки – в него я больше ни ногой, как в кучу говна, с меня хватит… что-что, замечаю, а факт невозвращенчества в сию помойку – век свободы не видать – я тебе гарантирую…
Вскоре за этим шнуром приходят, уводят к Люциферу… потом по-новой приводят, и это, Саша, уже совсем другой стоял передо мною человек, звучавший вполне гордо, главное, независимо… завтра, сказали, состоится его торжественно показательное признание в своей единоличной вине перед страной и всем советским народом, выразившейся в том, что он распорядился вставлять в шарикоподшипники для танков на два шарика меньше, чем положено, что увеличило число аварий на маневрах и приближало наше поражение от фашизма в будущей войне с империализмом колониализма… Люцифер даже дал ему свиданку, чтоб поболтал с женой и тремя сыновьями, два из которых, выродки, блядь, отказались от беседы с папаней-вредителем… и что ты думаешь?.. немного погодя, клянусь великим басом Шалапина, приносят в нашу камеру прямо в садках – фи, противное какое словечко! – тот самый ресторанный ужин, плотно закрытый мельхиоровыми крышками, чтоб вкусный запах не вздумал переть в другие камеры… шампанское во льду, водяра, раки так и дышат лавриком и перчиком… боже мой, боже мой, не каждому смертнику кайф подобный выпадает, а о живых на воле – хули гворить… этот обреченный Розенберг рад до самой жопы – все равно ведь подыхать рано или поздно, а так он и с бабой попрощался, и поддает, и подзакусывает со своим новым корешманом, со мною лично, и напевает «Сашка, ты помнишь наши встречи в приморском парке на берегу?»… я не пил, только пожрал – запой-то еще не подошел, кто-кто, а он свой час знает и ему – отдай, сука, минимум пять ден, включая народную мудрость опохмелки… потом спел я ему «Мурку», «Таганку», «постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор нажми на тормоза» и «конвойный не спешит, конвойный понимает, что с девушкою я расстанусь навсегда»… конечно, бедный замнаркома так наплакался и налакался, что – брык с копыт на койку… меня немедленно дернули на заслуженный отдых, так как я бился с «особо трудным объектом» дня три подряд… при этом, подумай, какая сволота Дребедень: он узнал о прецеденте, позавидовал Люциферу и разгавкался на партсобрании, что, раз пошло такое гужовочное разбазаривание средств, то с Люция Тимофеевича положено вычесть за ресторанный заказ, который выглядит прямой взяткой врагу народа за правдивые показания… мы, дескать, не должны идти на поводу вредительских капризов… Люцифер согласился на выплату, так как его позиция ослабла, а Дребедень, крысеныш, попер вверх… и вот позавчера Ежов лично приказал Люциферу предоставить меня в распоряжение этому выблядку на три дня… вот Дребедень и пообещал: «Расквашу на хуй до неузнаваемости все твое позорное актерское рыло, если не колонешь А.В.Д. со всеми потрохами и не добьешься его признательной подписи… ну и, конечно, если не выяснишь, где он там притырил ключевые данные своего научного открытия»… а Люцифер пальцем никогда до меня не дотрагивался – никогда… этот же ублюдок Дребедень, как видишь, так дубасил пару раз, что превратил, падаль, мою сценическую внешность в такую непрезентабельную образину, что ей теперь не Гамлета играть, а Квазимодо… ты, говорит, садист и ублюдок, должен возвращаться в камеру после допросов не с сытой, как у кота, мордой, а с расквашенной, иначе тебе грозит дезавуирование… хули делать? – в тюрьме ко всему привыкаешь, раз нет другого выхода… к слову говоря, Саша, открытие твое выглядит очень и очень правильно, даже, я б сказал, своевременно… и вот почему: оно, я вижу, основано на психологии человечества, давно упирающегося всеми своими лбами в смерть, а это уже непробиваемая стена… дай ты хотя бы одному арестованному лбу, которому шьют страшную чушь, чуток надежды на то, что в скором будущем его особе непременно пришьют адекватную внешность, прости, репродуцируют, клонируют – мне эти ваши слова до лампы – да он, питекантроп сверх ебливый и ультра ебучий, в ту же минуту не то что родину продаст со всеми ее потрохами, но и маму, и папу, и братьев, и сестер заложит, не говоря уж о детях… хоть я и туп, но окончательно теперь верю, что все у нас с тобой будет не сикись-накись, а вась-вась… начальство клюнет на твои задумки, у Люцифера хватит ума не перебздеть, доложить Берии, а тот как раз донесет Сосо столь сногсшибательную информашку… у Лаврентия тоже горит земля под ногами… такая у них там в верхах, чую, закишела заварушка, как в стане Гитлера, которого Рэм чуть было не натянул на свою германскую халабалу… забыли о них… словом, очень рад такому совпадению моих разговорчиков о будущей жизни с твоей теорией насчет клонирования личности… я думал, что в камере порю херню всяким ленинцам и коминтерновцам насчет очередных рождений, а ты уже подвел под все эти дела научную сцену… и это знак, яркий знак того, что ты прав… хотя, Саша, если честно, то все мы, мыслящие и немыслящие тростники, – такие мы, поверь, мрази вместе с нашими мозгами, способными на выдумку чудовищных подлянок, что могу сейчас же встать на колени и умолять тебя об одном: ни отдавай ты им никаких ключевых данных насчет своего открытия – наберись ответственного мужества и не отдавай… потому что три четверти нынешнего человечества – это необыкновенно тупая и темная дрянь, тупей и темней которой не было много тысяч лет назад… да они немедленно пойдут войной на вашего брата, ученого, который пожелал слегка подчеловечить хмурую шоблу этих расхристанных шакалов, гиен и грифов… вот взгляни: почти две тыщи лет назад ни за хер распяли Сына Божьего и Спасителя, а Он – возьми да воскресни, и сегодня нет места на земле, особенно тут у нас и у фюрера, где Его не распинали бы заодно с Ветхим Зачетом и всеми Евангелиями… тем более, дьявольски хитрющая большевицкая сволочь додумалась до того, что вложила в руки идиотов мира лозунги коварнейшего из зол, загримированного под обычно безоружное, поэтому беспомощное добро… поверь, Саша, вскоре эти полузвери, благодаря твоей генетике, начнут выводить не добреньких, как тебе кажется, не преображенных до мозга костей двуногих, а пещерных существ, пусть меня расстреляют, правильно говоришь, дремлющих в каждом из нас, желающих только жрать себе подобных, пить, ебаться и накорябывать на скалах хулиганскую похабщину… не возражай – я знаю, что ты скажешь, мол, прогресс науки неизбежен и, если не я нарисую формулу этой самой ДНК, то сие сделает иной какой-нибудь биолог… Саша, вот я являюсь всего-навсего артистом, но даже в таком непрезентабельном виде, бля буду, согласен с твоими высказанными мыслями о неотвратимости очередных побед жрецов науки… но раз ты сумел просечь, что пытливые действия каждого из ученых начисто снимают проблему личной ответственности за всякие виды прогресса, становящегося бесконтрольным и чреватым необратимыми последствиями, то почему бы тем умникам, которые живут за бугром на свободе, не собраться с умом и совестью да не притормозить атомную энергию, химию и возможность биологов вывести дюжину таких же точно мандавошек, как фюрер и Сосо, сегодня гуляющих по кровавому буфету?..
А.В.Д. начал обдумывать ответ; в этот момент скрежетнула кормушка, на ее оборотке появились и пакетик с содой и кружка чистой воды; Дима громче, чем следовало, поблагодарил «гадов надзора», потом изумленно и потешно, словно городничий в немой сцене «Ревизора», застыл в позе человека, молча и торжественно поднявшего вверх оба больших пальца.
17
– Пусть меня даже повесят, Саша, но маяк-то, ебена вошь, оказался принятым, ты разве не понимаешь?.. пусть меня поднимут на вилы – он принят, он принят!.. теперь будем ждать и, раз все равно жисть бекова, думать не о чем, отхарить некого, то выслушай служебно-жизненный анекдот… один индус из какой-то древней секты, захомутанный член Коминтерна в должности обалденной партийной шишки, большой при этом друг Советского Союза, оказался натуральным чемпионом мира по упрямству… меня в тот день Дребедень снова взял в долг у шефа, после личной визы Ежова… года полтора я эту падаль не видел, а тут он, видимо, стал подбираться к Люциферу, почуял силенку – вот мы и встретились… злодей излагает суть задачи: «Уговори сингха индусской национальности расколоться, обещай что хочешь – вплоть до бомбы в английского генерал-губернатора Индии… если пожелает приема ресторанной жратвы, аналогичной гитлеровскому, ебаному в желудок вегетарианству, – раскошеливаюсь лично я»… ну приводят гения несознанки ко мне в камеру… этот сингх Коминтерна очень охотно рассказал на отличном русском о конфликте с Дребеденем… я, говорит, уважаемый Валек, так и заявил этому мерзавцу, что являюсь потомственным йогом, а вы далеко не джентльмены, вы – подловато злобные мокрицы, кобры, хамелеоны, истуканы, остолопы, подонки, поскольку далеки от наших великих идей… пытай, говорю Дребеденю, скорпионище сраное, и хоть в жопу штык вставляй – один хер буду молчать, стоя на голове, пока не вернут ей мой религиозный головной убор, которому еще Ильич дал «добро» для ответственно успешной работы моего мозга во имя святых тезисов марксизма-антиколониализма… иначе буду стоять на голове пока не посинею.
Представляешь, Дребедень вернул ему чалму и велел шестеркам возвратить на лоб какую-то необходимую родинку, якобы необходимую даже коммунистам, чтобы несознательное большинство людей знало ху из ху… день проходит, два, три, а этот Коминтерн, которому башку, тыщу лет нестриженную, остричь успели, стоит в камере вверх ногами, ничего не подписывает, упрямо требует очной ставки с полным составом политбюро во главе с поганым Сосо, с Кобой, ворюгой и провокатором царской охранки… тогда, обещает, подпишу все, что угодно, йог вашу мать, мерзавцы, предатели рабочего движения и профсоюзной школы мирового коммунизма… ну его отмандячили, потоптали, бросили в камеру, полудохлого – так, чтоб стоял только на ногах… меня, дребеденьевские позорники, тоже потоптали как раз перед этим и, на всякий случай, еще почище, чем татаро-монголы топтали древнерусских офицеров, если же взять выше, то и самих князей… невозможно, Валек, объяснил тогда Дребедень, разоблачаться и заявляться в камеру после лиценеприятного допроса, как, понимаете, Пушкин с декабрьской пирушки… он, видите ли, поэт, то есть сыт, поддат, нос в табаке, перо гусиное в одной руке, а в другой, совсем уже охамевшей, букет васильков и ромашек… Люциферу, после того задания, я снова категорически заявил, что на Дребеденя больше не ишачу – не осел, все, пиздец, лучше встану к стенке… ну разве понять нашему с тобой Учителю, который нюхал все, кроме гражданской, раскулачивания и допросов на Лубянке, что за действа творятся в километре от его и бывшего моего театра?.. ты извини уж, Саша, за болтовню, но я больно долго не трекал с личностью, вполне любезной широкому моему сердцу и бескрайне ограниченному уму… короче, индус тогда серьезно задумался, ну а я… меня вдруг охватило непонятное, вроде как перед выходом в любовный астрал, вдохновение… сказалось и то, что в квартирке имелась прочитанная мною книжонка в кожаном с золотцем переплете насчет великого Будды, который долго дрых, подобно Илье Муромцу, потом проснулся и обратил всю Азию в буддизм нежелания жить, страдая вечным поносом, но при этом всеми силами добиваться нирваны… там я, конечно, начитался про коронацию, точней, про вхождение личностей после смерти в роль различных животных… имею в виду свиней, тигров, клопов, коров, бабочек, орлов, надо полагать, китов и дельфинов… скажу прямо: я со своим прошлым и настоящим в лучшем случае мог расчитывать только на чайку, которая летает и корабельное говно глотает… ты прав, прости, речь веду не о коронации, а о реинкарнации, вот я и говою непосредственно о клонировании… сутки я отдыхал в квартирке, потом Дребедень подрасквасил мою сопатку, с понтом приволокли меня с допроса… я снова стал успокаивать индуса насчет будущего возрождепотомния его невинно расстрелянных товарищей, когда закончится эта ихняя ебаная коминтерновская классовая борьба… знаешь, что делает этот индус, у которого на опозоренном лысом черепе торчала перемазанная кровянкой белая чалма?.. индус посылает меня на чистом русском языке все к той же несчастной ебени матери и излагает заявление, которое сочинил для Дребеденя в письменном виде…
«Я много кем бывал, неуважаемая мною сволочь, в прошлых жизнях: и кошкой был, и собакой, и святой коровой, и навозным жуком, и обезьяной, и слоном, и удавом, и, полагаю, глистом в кишках ненавистной Королевы Виктории, акулы колониализма, но сегодня я есть член исполкома коммунистической партии Индии и крупнейший йог нашей эпохи… расстреливайте, жгите в крематории, а пепел выкидывайте в засраную свою Яузу… даже будучи тигром-людоедом, невзрачным попугаем, если не ядовитой коброй джунглей, прошедшей жизнь до самой середины, – один хер намереваюсь оставаться в каждой из своих реинкарнаций несломленным коммунистом… шейте Дело, предатели революции, пришивайте к филейным частям моего живого тела сапожницкой дратвой все, что хотите, так как карма каждого из вас отмечена печатями демонов и проклята навеки, вас реинкарнируют обратно в слепней, клопов, блох, вшей, клещей, мандавошек и трупных червей…
Так что люди, Саша, как видишь, давно болтают о клонировании, которому я дал бы твое имя – хули, спрашивается, его не присвоить?.. извини, забылся: сингха-то ночью дергают вместе с религиозной чалмой… не крестись: его не только неотложно шуганули с Лубянки, но куда-то, как сказал Люцифер, отправили налаживать рабочее движение в порядке прикрахмаливания ежовского террора, сам знаешь, откуда и кем руководимого… вот как судьба играет человеком.
А.В.Д. попросил Лубянова не распаляться, главное, говорить потише, не буйствовать, выражая самые мрачные моменты своей «закрытой» жизни и, разумеется, политической ситуации как внутри тюрьмы, так и снаружи.
18
– Твой рассказ, – продолжал он, – обо всем таком, друг мой Дима, даже не рассказ, а не укладывающаяся ни в душе, ни в мозгу, невероятная трагедия – трагедия более чудовищная, чем все бывшие ранее… это общенародное бедствие, похожее на дьявольски жестокую месть проснувшегося в людях человекозверя, месть небесному свету божественного преображения, но – будет об этом. – Понимаю, Саша, ты прав, нам не до речуг о славе и успехе, не до букетов астр осенних, фиолетовых «претензий» и бурных аплодисментов всего зала, так как имеем одну на двоих проблему или конкретной жизни, или буквальной смерти… к тому ж все люди подлецы и бляди, при этом мир – бардак, арестантское кладбище и полнейшее говно… ну а о том, что шеф пообещал: о дабл-девушках прекрасных, о регулярных запоях, поправках, баньках, усиленном самообразовании и чтении великих книг, которых я на воле не читал, поговорим мы, ежели успеем, попозже… не обращай внимание, поскольку временами я вольно и невольно сбиваюсь на шекспировские ямбы… со мной это бывает, когда настроена душа на лад серьезный, высокий и простой… учти, я – полуживая легенда и даже с большого бодуна ни слова, ни реплики, ни монолога не забываю и чуть ли не всего Шекспира помню наизусть… разреши только добавить, что на подмостках я буквально ни разу не воспользовался отличным бормотаньем суфлера Хомякова, который, между прочим, нескрываемым был по быту жизни пидарасом… Станиславский с непревзойденным артистизмом однажды так и сказал на банкете самому Ягоде: «Учтите, господин нарком, нашего главного суфлера вы арестуете исключительно через мой живой труп, поскольку каждый человек имеет право на свой задний проход, а все остальное, находящееся в нем содержание, принадлежит народу. – Прости за смех, Дима… если бы у меня спросил в сей момент, скажем, один из Архангелов: «Ну, а во что же, собственно, ты веришь, ничтожный ты наш раб Божий, Доброво?» – не задумываясь, ответил бы, что в Создателя я верю и в тебя, Дима… остальное, как ты говоришь, меня пока что – пока что! – не колышет, более того нисколько не ебет… в данный момент все зависит от твоей удачи… главное, возбуди в существе шефа животный страх за собственную шкуру, тогда он сам немедленно обмозгует план рискованных экстренных действий и поймет – не сможет не понять – что счет идет буквально на часы, если не на минуты… извини за неоднократные повторения, думаю, тебе даже не придется подсказывать ему спасительные, точней, единственно необходимые в сей ситуации выигрышные ходы… он ведь не дурак – сам поднаторел в режиссировании заговоров, интриг, диверсий и провокаций… не могу не сказать, что слушал тебя с захватывающим интересом, забыв, грешным делом, о своей умопомрачительной старой вине, о несчастье, принес которое ближним… шефу вовремя намекни на явное желание безграмотного Дребеденя похерить мои исследования и труды, обокрав тем самым русскую и мировую науку… даст Бог, твой Люцифер сумеет повернуть дело так, что оно обретет удачное направление к необходимым тебе и мне целям. – Вот именно, Саша, подобные удачи бывали у меня на сцене… вдруг тебе начинает казаться, что не ты в кого-то там себя воплощаешь, а тошнотворно неподатливый персонаж самолично воплощается в тебя, своевольничает, располагается, сволочь, в существе твоем, как у себя дома, к тому же буквально распоряжается то принципиальными вопросами любви, поцелуев, счастий-несчастий, а также женитьб, то сражений, восстаний, законов Королевства, или же аховыми пролемами советской промышленности, сельского хозяйства, дальнейшего роста производства мяса, молока, ширпотреба и прочих, заебись они в тоске и горе, горсоветов… ты вроде бы ни хрена не делаешь, а только срываешь овации, восторги ебаных театральных критиков, быстро сменивших аппетит схавать тебя с потрохами – на желание восславить твою игру… скромно кланяясь, принимаешь цветы и раболепные улыбочки то дам плебейской номенклатуры, то блатного полусвета, представителей еще не вырубленных богемщиков… а на самом-то деле, Саша, корчусь, как при разыгравшемся геморрое на глазах у самого себя, подсушиваемого юпитерами поддатых осветителей… забыл заметить: от так называемого высшего света, если уж на то пошло, у нас в стране осталась только власть тьмы, как в свое время правильно отразило истинное положение вещей в России бородатое зеркальце русской революции… от делать не хера продолжу болтовню, но, с другой стороны, если пожелаешь, могу и побезмолвствовать, поскольку тоже являюсь частицей своего обобранного и оболваненного народа. – Продолжай, пожалуйста, Дима, биссирую, как восторженный гимназист, ты льешь живую воду на раны тела и души, я говорю серьезно. – Ну разве что так, однако ты непомерно высоко оцениил мою жалкую фигуру и хватанул лишку… между нами, знаешь за какой именно неслыханный парадокс испытываю я симпатию к Лубянке?.. то-то и оно-то, что не знаешь, но успокойся: этого не знал и не знает никто из чекистов, кроме меня и вынужденно разрабатываемых мною сокамерников, теперь узнаешь и ты… вот что это за парадокс, Эдип свою мать совсем: весь НКВД стоит на страже, хер знает чего и кого, но только один я во всей тюрьме – что думаю, то и говорю, и весь хуй до копейки… я тут с огромным удовольствием поябываю и советскую власть, и великое учение вместе со всеми бородатыми, лысыми и усатыми паханами в законе, а заодно и чехвощу мандавошечных, кишащих вокруг нас ничемов, заделавшихся всемами… но главная-то шутка парадокса в том, что лично я даже имею – за такое дерзко откровенное свободолюбие! – закрытый значок «Отличника НКВД», на котором, как известно, выпячены щит и меч, не хватает только лужи кровищи, кучи говна и костей – на значке они бы уместились… будь я усатым и рябым Сосо, клянусь, немедленно выкрал бы самого Эйнштейна из башни слоновой кости прямо в Кремль и самолично вручил ему там платиновый значок «Отличник теоретической физики», а то вручает старый козел Калинин какую-то хуйню ткачихам, Коккинаки, твоему ебаному Лысенке, шпионам, пограничникам и нам, артистам… но – ближе к делу, чуть не забыл об одной из главных реплик в нашей драме… поскольку мы с тобой имеем право ежеминутно ожидать от органов любой подлянки, то запомни всего одну ремарку: зубная щетка, в каком бы контексте ты ее не услышал… это значит, что все пошло, как по маслу… если же придут забрать, запомни, мою кровную майку, с понтом забыл я которую, выходит дело, швах – оба мы с тобой в жопе… не прохезает моя премьера – тебе и мне кранты, иными словами, прости меня, мама, беспутного сына, твой сын не вернется никогда… и непременно тогда кричи Дребеденю на всю Лубянку, что Сталину так и так доложат со дня на день о ихнем, вшей и сукоедин, вредительски подлом саботаже науки… а лично Дребеденю посули, что скоро покатится тупая его башка с плеч, бурбона херова, холопской попоны сранной… впрочем, вскоре события сами подскажут, каковыми станут обстоятельства единства нашего с тобой времени и места… а пока что продолжим болтать до усеру – вдруг больше никогда не увидимся?
19
– Не беспокойся, Дима, все сделаю, как велишь… но, прости уж, я, как ясновидящий от сохи, чувствую, что тебя щекочет очень важный вопрос. – Восхищаюсь твоей интуицией, Саша, как и целым рядом в высшей степени пророческих прозрений… с вопросом погодим… уроки мастерства зазря в тебе не пропадают – Учитель был бы рад… представляешь, что подумал бы он, увидев нас сейчас в сей железобетонной каморке на курьих ножках, пожирающих в измудоханном виде остатки жареной синей птицы, начиненной не ананасами с бананами и апельсинами, а не скажу уж чем именно, чтоб не сблевалось… не смейся, ничего комедийного не замечаю в данной мизансцене… так вот, увидев нас, Учитель произнес бы «Не Верю!», или промолчал бы в тряпочку, приняв надменно трагическую позу… о-о, это он умел, как никто… захожу однажды с большого бодуна в его кабинет и спрашиваю в лоб: «Вы, – говорю, – дорогой Константин Сергеич, если б Господа Бога увидели своими глазами, тоже сказали бы «Не верю»?.. «Да, – отвечает, – для начала именно так и сказал бы, а потом, убедившись в отсутствии у меня безответственных галлюцинаций, восхитился бы и сделал несколько весьма дельных и серьезных замечаний в связи с не совсем, на мой взгляд, удачной постановкой некоторых сцен всей этой Божественной комедии… собственно, что у вас за просьба, Дмитрий Анатольевич, выкладывайте».
Поверь, Саша, выкладываю, положение личных дел хуже, чем они есть, не может быть в напряге актерской жизни и деятельности.
– Замолвили бы, – говорю, – Константин Сергеич, в Моссовете словечко не за последнего из артистов, изнемогающего в скучной тесноте?.. живу в десятиметровой комнатушке с мамашей и сестрой, муж которой два года был опером в дамской колонии, где и схватил редкую в наши дни приапову болезнь – у него торчит вот уж год, что попахивает особо ярой антисоветчиной… сестра, естественно, ему не дает, спит с мамашей, а этот безумец и без того по ночам так рычит, воет и скрежещет зубами, как будто перегрызает от неутолимой страсти железную раму «выдвиженки»… имею в виду выдвигающуюся из стенки – в связи с малым метражом жилплощади на душу жильца – складную кровать… честное даю слово, не могу привести домой даже полдамы – не то что двух мадмуазелей, без которых, вы знаете, я совершеннейший половой нуль без палочки… Станиславский встает из-за письменного стола, принимает позу, символизирующую величественное молчание и непревзойденную вознесенность над скукотой жизни… я ушел от него, хлопнув от досады дверью… после премьеры какой-то вонючей совдеповской пакости – в ложе тогда сидел Сосо, как обычно, без своей Сулико, а рядом с ним – сатрап, нынешний нарком, имеющий внешность невзрачного пассивного пидараса, и, надо полагать, лелеявший мечту, что сам Хозяин кинет ему палку на ближней даче, и эта немыслимо историческая близость с вождем достойно увенчает его карьеру в органах… а рыльце у этого сатрапа какое-то белокровное, как у трупешника, хотя круглыми сутками пьет кровищу из людей… и он и вождище горячо мне аплодировали… короче, через пару дней после той премьеры за мной приходят и берут за жопу… о, Господи, как я вздохнул: слава Всевышнему, это был не арест, а наоборот, везуха, от которой повеяло бытовым счастьицем жизни… чекисты насильно вселяют меня в квартиру арестованного врага народа, приказывают смело начать износ всех его тряпок, равных моей комплекции, и вскоре дают звание Заслуженного РСФСР… вот тебе картина гибели одних и процветания других в стране беспредельно самодурских Советов… забыли тему… но на тот случай, если разминемся до всеобщего воскрешения, – не ответил бы ты мне, человеку, ясно осознающему, что он не ученый, вроде тебя, на следующий вопрос жизни и смерти: ну почему, скажи, например, лично во мне заимелась неудержимая тяга к актерскому искусству, которое сегодня остоебенило вдруг душе до самых чертиков – до тех самых, что истязают вполне самостоятельную личность при делириуме белой горячки?.. чтоб оно сгнило, это искусство, либо в гражданской помойке, либо в лагерной выгребной яме… ну и второй, прости, вопрос заодно уж к тебе имею: что бы ты делал, на моем оказавшись месте?.. как ты лично решал бы ебаную эту в доску проблему «быть или не быть?» – Начнем с конца, то есть с Гамлета: я бы решительно отказался от предложения, выглядящего хамским приказанием. – Верю… но, допустим, не интеллигентный Шлагбаум, а вонючий Дребедень сходу выдает оборотку: «Создается впечатление, что ты, А.В.Д., кукарекал бы иначе в присутствии арестованной своей бабы, не говоря о доченьке и собаке… неужели до тебя, мозговитого, никак не дойдет, что, исходя из точки зрения Советской власти, весь ты со всеми своими потрохами надежно помещен в более чем безвыходное положение и твоему вражескому праху суждено находиться в братской мусорной урне?» – Я так ответил бы: «Во-первых, перестаньте тыкать, во-вторых, извините, гражданин следователь, сказав «в более чем безвыходном положении», вы выразились весьма потешно и тонко намекнули на возможность подлейшего, единственного из выходов… именно из-за уважения к чести и достоинству жены, к общему нашему с ней пониманию трагизма бытия, как такового, а также к обоюдным нравственным установкам, вынужден огорчить вас отказом, иначе семья меня осудила бы… но вы никогда этого не поймете… больше не услышите от меня ни слова до последней благословенной минуты дыхания моего… я готов, доставайте плети и гишпанские сапожки, прутья раскаленные и клещи»… была бы возможность, Дима, схватить мрамор пресс-папье – как ебанул бы я его промеж кабаньих гляделок, чтоб побыстрей огрести пулю в затылок.
– Хорошо, Дребедень все гнет свое, гнет и просит, засранец, уточнить позицию: «Значит, А.В.Д., отказываешься от кооперации с органами несмотря на то, что речь идет не только о твоей жизни?»
– Из обрушившегося, – сказал бы я, – на головы наши положения существует только один выход – трагический… иных не имеется у души человека, честного перед Всевышним, своими близкими и самим собой… я, моя жена, моя дочь – все мы отказываем вам в праве превращать нашу общую трагедию в скверненький анекдотишко, – вот какое внес бы я уточнение. – Выходит дело, Саша, мое согласие взять на себя исполнение роли ты считаешь непростительным? – Нет, это не так, я верю, что ты не раскалывал людей, но грешным делом только советовал им не тянуть волынку перед неминуемой смертью, иначе они бы претерпевали лишние страдания, при этом калеча жизнеположение близких… все равно их беспощадно шантажировали бы, жуткими пытками вынуждая тянуть за собой по делу знакомых, друзей, оклеветывать кого попало и так далее… гнусные теоретики допросов и палачи-садисты отлично знают, что у каждой живой твари имеется свой порог перенесения боли… кое-кому удается немного на нем пробалансировать неделю, месяц… потом и они невольно срываются в бездны ужасной боли, которые намного могущественней страха смерти… о, Дима, какие там к чертовой матери ум, разум, совесть, уважение собственного достоинства, наконец, чувство невозможности существовать, сделавшись предателем?.. как не простить людям такого рода слабость – плод изведения в их существах всего и человеческого и Божественного?.. верю, что Бог простит и тебя, а любой из батюшек, наложив строгую епитимью, сделает сие от Имени Всепрощающего… и вообще, Дима, незачем представлять себя на чужом месте – всегда хватает своего… у каждого из нас – свой выбор, своя судьба, свои ценности, свои принципы и установки, главное, свой болевой порог… в человеке иногда наблюдается качество его натуры, помогающее превозмочь самую невыносимую боль… оно непонимается самим человеком, кажется ему удивительным упрямством и чуть ли не патологической придурью… это качество, Дима, столь редко встречается в людях, или, к счастью для них, никогда не востребуется к действию, что оно именуется в словарях «самопожертвованием» – иных слов не знаю… и вообще, Дима, я гораздо лучше разбираюсь в строении одной-единственной клетки тела, чем в психике человека… некоторые генералы, особенно штабисты, проиграв сражение, считали своим долгом, как ты выражаешся, приставить хуй к виску и застрелиться… иные знатоки «искусства воевать», зазря искалечив и угробив из-за своей кровожадной полководческой тупости и бездушного самодурства несколько тысяч солдатиков и офицериков, – с радостью принимали самые высокие награды и, ублаженные, горячо рыдали от тщеславия и самодовольства, потом тискали лживоватые мемуары… искренне считаю, что твоя роль была насильно навязанной, но не подляночной, а порой и миссионерской, спасающей от невыносимых пыток несчастных людей, изведенных нечеловеческими страданиями… не могу не повториться: всегда необходимо представлять себя не на чужом, а на своем месте. – Ты, Саша, отвечаешь сочувственно, слегка уклончиво переуспокаиваешь мою совесть, но спасибо… все равно я подлец и говно, так как не имел душевных сил вскрыть ложкой вены, или вышибить себе мозги об угол коридора, чтоб ко всем хуям вознестись над Лубянкой… не переубеждай, мне лучше знать, какой я есть живунчик, подлец, рвань и пьянь… вон – в Элладе, в Риме, в рыцарях средних веков – да мало ли в ком! – хватало духа изгнать себя к ебени матери из жизни как субъекта, недостойного круговращаться в обществе людей чести, долга и благородства… но что делать, если не хватило душка послать Люцифера в жопу вместе с наркомом, усатым убийцей и властью пигмеев, доросших в своих глазенках до Гулливеров?.. апостол Петр – и тот пару раз скурвился, а с меня, часто думалось, ничтожного – какой спрос?.. вернемся к призывному воплю таланта, верней, к причине появления такового в душе звучания… имею в виду свою странную любовь к единственной из дам – к Терпсихоре, богине моего искусства… к загадке таланта давай вернемся, к востребованию на подмостки именно моей – веселой легкомысленной фигуры, беспутно прожигавшей свою распутную и бедовую жисть… к примеру, очень ясно почему гражданин А – математик, Б – краснодеревщик, а В, стоя на арене цирка на голове, эквилибрирует хрустальным тарелками из царского буфета, так?.. ты вот скажи мне, откуда берется в человеке довольно загадочная страстишка поактерствовать на подмостках – ну непременно, блядский род, в ряде чужих обличий?.. своего что ли тела, своей что ли судьбы рассудку моему не хватает и поэтому ему, суетливому, нетерпится поболтаться по судьбам и характерам других личностей, так?.. вот у меня лично имелось две гримерши: обе они меня там обличают, скажем, в короля Лира… парик, бородища, тени под шнифтами, пара старческих бородавок на мертвобледных щеках, а я уже чувственно – нет, сверхчувственно! – плыву от самого себя к какому-то катарсису, похожему на игрушечный оргазм… поверь, не метель тебе я гоню, а чистейшую предлагаю правду происхождения былых вдохновений… что скажешь? – Однажды, Дима, занимаясь в студии нашего Учителя ради усвоения совершенных лицедейских манер – весьма немаловажных для молодого кретина, решившего уйти в профессиональную политику, – я тоже задумался о тайной подоплеке актерства, точней, о метафизике, о подноготной правде призвания к оному… думаю, что поразительный феномен этого странного вида психической жизни, его биологическая, соответственно, биохимическая суть имеет непосредственную близость к интересующему тебя вопросу… разумеется, тяга к актерскому искусству началась задолго до античных времен… оно уже на заре человеческой юности поощрялось колдунами, потом жрецами мистерий и считалось праздничным, увеселяло, учило переживать/оркестровать не только свои эмоции и мысли, но и чужие, предлагало примитивные модели и образцы поведения в часто повторяющихся ситуациях быстро усложнявшегося образа общественной жизни… но догмы раннего христианства, начисто отвергали все прежние религиозно-мифологические, замечательно поэтичные культуры: языческую, древнегреческую, древнеримскую, да и варварскую тоже… раннее христианство всячески клеймило актерство, даже строго запрещало хоронить представителей одного из древнейших искусств на прицерковных кладбищах… в сторонке – пожалуйста – хоть сатану закапывайте, серой смердящего… ничего не поделаешь, психика фанатически властных служителей новой, набиравшей силы, религиозно-нравственной парадигмы и ее эстетики, – реагировала с излишней, на мой взгляд, ревностью, с недопустимой нетерпимостью на постоянно вспыхивавшие то тут, то там очажки языческой культуры, не желавшей помирать, а также на крайне занятные ереси гностиков и озорные художественные вымыслы людей светских… поэтому христианские владыки и богословы считали дьявольским желание людей – зрителей и странствующих комедиантов – то карнавалить в масках тотемических животных, то, по-старинке, перевоплощаться в леших, ведьм, всяких духов, вампиров, призраков и так далее… словом, я предположил, что совершенно новое христианское мировозрение, особенно католицизм, странным образом опустившийся до иезуитски человекозверской метОды защиты Учения Спасителя – человечнейшего из Учений – было настроено интеллектуально и интуитивно на то, что впоследствии – в далеком будущем, в персонализме – обрело твердые основания и строгие принципы поведения верующих, а также новообращенных… проще говоря, у человека, у христианина, – проповедывали Первоиерархи, а Папы Римские писали буллы, – имеется индивидуальное, данное свыше именно ему, неповторимое Я… будь ему верен, вечно утверждай, соотнося его и в мыслях и в делах с идеальными – именно поэтому редко когда выполнимыми – максимами Ветхого и Нового Заветов… актерское лицедейство считалось разлучающим личность со своим Я… церковь приравнивала его к фактическому самоубийству личности, выпавшей из круга благостной жизни, коварно изменившей самой себе, заменившей лицо личиной и, с целью укрыться от взглядов Всевидящего, пошедшей на явное злодеяние – на прямой сговор с самим дьяволом… актеров считали лицедеями, поигрывающими в прятки с суровой действительностью и уводящими души людей верующих в сторону от канонов религии и церковных ритуалов – к праздности развратного времяпрепровождения… на мой взгляд, эти положения были казенно схематичными и крайне поверхностными… меня лично они никогда не устраивали, ибо нарушали мои представления о божественной свободе познания, творчества, наконец – не побоюсь сказать – богоподражательных поисков гениев искусств, по сути дела, создающих, скажем так, свою реальность… возможно, именно поэтому мы глубоко чувствуем замечательность смыслов, присутствующих в достойных образцах музыки, словесности, живописи, изредка театра, еще реже кино… точней, в сотворенных музыкальных, поэтических, романических, живописных мирах пытаемся вглядеться в сложнейшую суть человеческих характеров, постигаем глубинные тайны звучаний, языков, света, тьмы и красок… я вовсе не мыслитель, но однажды подумал, исходя в своем предположении из того факта – кстати, и из философских положений Достоевского, – что, как это ни странно, самое непостижимое из всего, дающегося любому человеку с рождения до сырой могилы, – это неимоверно тяжкий труд существования, до сих пор внятно не приоткрывшего ни одному из живших и ныне живущих людей смысла своих начал, целей и концов… другими словами, речь идет о сознательном и бессознательном пожизненном несении крестного бремени Бытия, Времени и Свободы, ко всему прочему, порядком осложненном ожиданием/неожиданием посмертных – райских или адских – непостижимостей… актерство же, повторюсь, как и прочие искусства, способно создавать вторую – пусть иллюзорную, пусть временную – зато желанную, сладостно повторяющуюся, как при соитии, реальность, к тому же неизбежно основанную, по словам Митеньки Карамазова, на реализме действительной жизни… вот ты, Дима, актер, законно зарабатывая за свой труд, и мог и любил изо дня в день забывать о своем Я – о само-бытии души и разума – тем не менее, не переставая оставаться Дмитрием Анатольевичем Лубяновым… оказывается, в театре все так просто, все дивно напоминает премилый состав увлекательных детских игр… сама Вселенная бессознательно сводится зрителями, особенно «коллективом театра», к одному из двух Божественных Обстоятельств: к обстоятельству места – к сцене, а бесконечное Бытие – к двум-трем часам сценического действия… промолчим уж о том, какие чувства и мысли захватывают зрителей и актеров на глазах режиссера, сотворившего на сцене увлекательный спектакль, полный различных образов, чувств и мыслей, и, подобно Творцу, говорящего себе в финале – «Хорошо!», да еще и добавляющего – «Верю!»… прости, Дима, я увлекся, но, раз уж затронута тема, всегда меня волновавшая, вот о чем не могу не сказать: миры трагедий, драм, комедий, сотворяемых на сцене, настолько поглощают умы и души актеров и зрителей – если это, конечно, не дешевенькая, как в вонючие наши времена соцреализма, и не какая-нибудь замечательно мошенническая подделка – настолько эти миры поглощают внимание каждого из его обитателей, что привычное, поэтому мало кем из них замечаемое в реальности чувство существования, внезапно превращается словно бы в ослепительный алмаз – в плод любовного соития сверхвысоких температур и невообразимо огромных давлений… собственно, это в сущности и есть космогония, физика и химия балетной, драматургической, оперной сценографии, взявшей на вооружение словесность, музыку, живопись, дизайн, опять-таки, даже свет и тьму… сей упомянутый алмаз, родившийся, как в сказке, блистательно ограненным, не просто ослепляет, но сообщает всему житейскому – иными словами, все тому же реализму действительной жизни – необыкновенную драгоценность, необходимую компенсационную дополнительность, отстраненность от повседневных трудов, свободу от тягостно длительных качеств времени и, в конце концов, дарит хоть какое-то забывание скучнейшей неустроенности существования и приевшихся примет обрыдшего быта… при этом – не правда ли, Дима? – внезапно расцвечивается не всегда посильное для восприятия массы людей ощущение либо чрезмерной сложности, либо чудовищного однообразия личной внутренней жизни… умолчу о кино, о счастливчике, захапавшем все виды искусств, успевшем достаточно их опошлить из-за чисто коммерческих соображений и в угоду массам, которые, раззявив варежки, жаждут, если не хлеба, то дешевеньких зрелищ… если, добавим, невежественные тираны не превращают в агитку сие, по словам Ульянова, важнейшее «для нас» из искусств. – Саша! – вскинув подбородок, патетически серьезно и без малейшего комизма воскликнул Лубянов. – Ты превратил меня из щенка в духовно зрелую и более интеллектуальную, чем была, личность, если я не ошибаюсь, а она еще трепыхается на берегу жизни и смерти… не могу не сожалеть, что на многое из сказанного тобою я всего лишь эмоционировал, слепо следуя велениям судьбы, которые, увы, гораздо сильней умственных способностей вышесидящего на плечах обритого черепа, внутри которого – ровно два полушария и очень хорошо, что не больше… несмотря на сие горестное обстоятельство моего грешного существования, больше ни-ко-гда ни-ко-му не повторю грубого и отчаянного вопрошания: на хера актеру ум?.. он ему, дамы и господа, далеко не то что козе баян, весьма мешающий бодаться… спасибо, Саша, ибо ум актеру тоже нужен, причем, непременно… актер без него – что конь без подков, а также наивысшего лошадиного образования, включающего в себя нагайку наездника, сиречь режиссера… о если б выйти на волю, точней, на сцену, – не было бы тогда в гадюшечном мире театра силы, не позволившей мне сыграть кого угодно… я бы, плюя на амплуа героя, превратил любые роли – клянусь тебе чем и кем хочешь – в конфетки-шоколадки, а также в фужеры коньяка, ликера, и кристаллически чистой нашей водяры… кого хочешь сыграл бы – от Ивана Грозного до шаромыги с Зацепского рынка, не говоря уж о Митеньке Карамазове и – бери выше… еще выше, Саша… вот именно – и до него добрался бы я, до Сосо, до сценического апогея всей моей актерской жизни, до рябой харизмы, ебаной в фуражечку, в партийный кителек, в палаческие шевровые сапожки, в трубку, в говорок, в тараканьи усы, в глотку, изрыгающую несусветные глупости, которые заглатывает чернь, полуинтеллигентные извращенцы, фанатики учения и новые рабы… но до тех времен, когда этот урод сделается персонажем жутковатых трагедий, питающихся вываленными кишками наших жизней, ни мне, ни тебе не дожить… давай, милый Саша, закурим «Герцеговину Флор» – где наша не пропадала, но никогда, даст Бог, не пропадет… верь мне: твое ясновидение не подведет… а моя интуиция вообще служит вот этой тупой башке путеводной звездой, но ее, звезду мою, как видишь, взяли сразу за все лучи и ткнули ноздрею в стойло с ядовитым пойлом и засранной соломой.
20
Разреши уж добавить к твоим историко-театроведческим идеям одно мое наблюдение, сделанное на репетиции… с выводом из него согласился Учитель, когда мы пооткровенничали… но для начала – спешить-то нам некуда – представь себе такую картину: выхожу один я из гроба своей отдельной конуры на предзимнюю мостовую, а вокруг безобразное торжество какого-то мелкого декадентского ужаса: совершенно безжизненная, беззвездная, словно бы адская тьма, бросающая тебя обратно в подъезд… иногда сама матушка-природа, как я замечал с бодуна, позволяет себе подобные вывихи… но ты мужественно превозмогаешь существенные недостатки данного дня жизни, то есть смог выбраться из конуры, обнаружил в себе дерзкую силу передвигаться, соответственно, идешь, скромно возносясь над всеми хмурыми стихиями небес и, бля буду, самого бытия… идешь, негодяй, правое твое полушарие трется, сука, с диким скрежетом об левое – аж искра из глаз… ты, повторяю, с жестокой похмелюги, вдобавок с ужаснейшего из переебов, под утрянку бросавшего тебя с ног до башки уже не в эмпиреи сладострастья, а в какое-то запредельное омерзенье… воробьям жрать нечего, а извозчики в такую погодку жалеют лошадей и правильно делают… собачники же выгуливают своих кобельков и сучек исключительно ради непременного отправления ими в адрес асфальта и почв бульваров малой, а также большой нужды… вот-вот морозец слегка прихватит и обывательский на тротуарах начнется танец молодых, пожилых и старых лебедей – художественное оформление кубиста Пикассо, музыка Митьки Шостаковича, питерского моего корешмана, он – «глыба, матегый человечище», как картавил Ульянов, ни хера не волкший по искусству… Саша, по-моему, ко мне возвращается некоторая интеллигентность речи, за что тебя благодарю я… находясь в одном из мрачнейших настроений души, направляюсь к общеизвестному театру, инкубатору цыплят и цыпок великой системы… о, Саша, как я сейчас помираю по воле!.. безлиственны тополя и липы… как унылые людские единицы, так и стадообразные толпы покорно, вместе с тем истерически необходимо, куда-то прутся – не иначе как к светлому будущему, или в очередь за дефицитом выброшенного ширпотреба, а то и керосина… транспорт не по-родному, а как-то очень иноземно, точней инородно, скрежещет, пыхтит, дымит и бумбукает во славу вздыбленной, как-будто с хуя сорвалась, индустрии… вихри промозглого ветра вызывают в унылом воображении пылающие лавы чугуна, блядь, и стали, заполняющие русла сирых улиц… в гнуснейшей из подворотен, симпатичный щенок, выпавший из какого-то из дворняжного гнезда, дрожит, горестно повизгивает, что необыкновенно усиливает мировую вокруг, злоебитская опять-таки сила, тоску… хоть уши затыкай и заливай несчастье жизни сивухой свинцовоглазой, но нельзя – репетиция, ебись она конем, как говорит Мишка Ботвинник, а мною дано Учителю последнее честное слово быть сухим, как фужер, до окончательного блеска протертый салфеточкой престарелого нашего буфетчика Денисыча… иначе, сказал Учитель, пойдешь, Дымок, вон к ебени матери по собственному желанию, ибо мне тебя жалко, сволочь пропащую и, к несчастью твоей жизни, двуебуче злоебучую и наоборот… тащусь пехом, в необозримом пространстве не хватает лишь бесов и невидимки-луны, а то была бы полная картина общественно-политического, в основном, бесформенно загибаловочного безобразия… беру кутеныша, невозможно дрожащего, фактически под пальто – оно у меня еще папино, на хорю, чернейший Аглицкий драп-кастор, и, хули говорить, морозной пылью серебрится его бобровый воротник, ну и все такое прочее… беру, значит, кутеныша несчастного под пальто – один хер нехорошо, да заебись, думаю, все оно в основную доску – главное, в гробу не обосраться, как, по-слухам, заявил Лев Толстой, сваливая из дома… вбегаю в аптеку, беру дюжину бутылошных сосок, заодно – где наша не пропадала! – пяток пузырьков валерианки, затем в бакалее прихватываю литр молока, притираюсь к стене не худшей их подворотен и опрокидываю в себя пару пузырьков – забубулькали голубчики, полегче стало телу, а потом душе… валерианка-то на спирту, поэтому скажу в театре, что так, мол, и так, нервишки шалили и сердчишко отстукивало последние синкопы жизни моей бесславной… о, боже, боже, ощущаю, Господи, всей своей шкурой – ощущаю волшебство, превращаешь с которым ничтожные цветочки валерианы в средство чудесного избавления пропащей моей личности от окончательного распада, о, благодарю Тебя за сию малость, как за непочатую бутылку коньяка, найденную в кустах бузины, на задворках Нескучного Сада, Господи, как всегда, прости и помилуй… слегка поправимшись и преобразимшись, – не менее! – останавливаю какую-то «эмку»… кстати, Саша, не подумай, что хвастаюсь: заметив мой неповторимо изящный, по-своему милостиво снисходительный жест, велящий притормозить, как выражается Митька Шостакович, у поребрика, каждый шофЭр – именно так следует произносить сие слово – каждый шофЭр узнавал мою рожу и на три четверти шаляпинскую фигуру… мн-да-с, что случалось, то случалось: застывали, бывало, на месте даже ментовские мотоциклы с колясками, аварийки и фургоны, а то и скорые помощи, не говоря о легковушках… маэстро, удивлялись шофэрА, ядрена жмых, неужто вы?.. а то кто же, – признаюсь, – если не я? – не Черкасов же Колька?.. затем с подлинным восторгом подбрасывали меня милейшие мои идолопоклонники до места назначения… я тебе, Саша, так скажу: никаким рукоплесканиям, никаким наградам, гирляндам, банкетам, букетам и портретам не сравниться с подобными душевными узнаваниями… потому что лично меня, лицедея, шаромыгу, пьянь, постельного чертоугодника, сочли за действующее лицо живого человека, а не дядю Ваню, спешащего куда-то в небо за алмазами и перещеголявшего в постели мою натуру, крутя шуры-муры в вишневом саду сразу с тремя сестрами, если верить циничной шутке Учителя… да да, Саша, – натурально узнавали в лицо меня, а не дядю Ваню, не короля Лира и не бухого Феденьку Протасова, самого что ни на есть живого трупа нашей русской бессмысленной и беспощадной революции, как сказал бы мой любимый Пушкин… а он не мог бы так не сказать, когда б возжег в восемнадцатом денатурата пламень голубой над оловянной кружкой, запек в буржуйке – в жаре золы от своих, сгоревших там же, сочинений – пару картофелин, потом поддал бы с холодрыги от всего, чем обернулась жизнь Империи, и заткнул раковинки ушей, ибо был бы совсем уж невыносимым для чуткого исторического слуха чистого гения уличный вой пугачевской черни… забыли тему… кутеныш в машине отогрелся и тут же нассал на сиденье – вот что значит истинно свободное, Саша, восприятие живой, слава богу, неразумной тварью не театрального, а крайне жизненного единства времени и места… ладно, думаю, поклонники всегда спишут происшествия еще почище этого – лично на меня, слегка поправившегося гения сцены… к тому же дворняга-миляга – не скульптура палача-Ильича, мечтательно тискающего на пеньке злодейские тезисы… иногда приходилось насильно вручать гонорар пожилому шофэру в кожанке – ты улавливаешь в данной фразе игру прелестного анапест-дактиля, как сказал бы Лермонтов, глядя с холодной бутылкой вокруг?.. так вот, шофэр, невольно сшибающий на поллитровку, везет меня в театр… я все это к чему так долго?.. от тоскливой, повторяю, бесформенности внешнего безобразия пространства, от какой-то невыносимой бесприютности довольно смутной жизни всего вокруг, в том числе и от своей же души, безумно разит мечтой побыстрей залезть в захудалую конуру какой-нибудь роли… там и свернулось бы в комочек, как щенок под пальто, это ваше психонаучное, но мое личное эговно, воняющее до гроба самым что ни на есть трудом существования и дальнейшим смердением всех надежд… и пусть оно, думаю, это эговно, сопит себе в той роли в обе свои сопливые норки – лишь бы подальше, подальше, подальше от вышеописанного, чтоб оно сгнило, реализма действительной жизни… и пропади все оно пропадом вместе с дабл-блядями, овациями, пятилетками и «плодами пресыщения» наркома террора Ежова… это я вспомнил афишу, которую всю ночь писал, а поутрянке вывесил наш художник – страшнейший алкаш… конечно, разразился скандал, его еле замяли… Учитель, увидев, значит, афишу, спохватился, сорвал ее на хер, но было поздно… публика вечно ждет каких-нибудь бравурных сенсаций, а на остальное ей насрать… то есть билеты раскупили на месяц вперед, думая что «плоды пресыщения» – это резкий удар по башке очередной компании, вроде борьбы с «головокружением от успехов»… Саша, как жить, скажи мне, когда моего друга, газетчика, расстреляли только за то, что он ошибочно все перепутал и тоже под большой всенародной балдой пропечатал в праздничном номере солидной газеты вполне правдоподобное название передовицы «Фригидность? – нет! Плохие руководители!»… бляди аготпропа пришили ему «вредительское отношение к борьбе партии с бесхозяйственностью и потакание буржуазной гинекологии» – пятеру вломили, крысы… а со мной, с негласным всенародным артистом без звания – ты видишь что они, паскуды, сделали?.. ничего не могу понять, так как все, как в унитазе, смешалося в доме Облонских, Стива пропил последний лесок, Вронский был в состязаниях конских, а Каренин ебаться не мог… за сей куплет другому моему знакомому поэту впаяли три года за хулиганское поведение в трамвае «А» – он был счастлив, что не пятьдесят восьмую, часть один… а еще один заработал целый червонец за невинную шуточку: «Да будь я евреем преклонных годов и то без унынья и лени я трахнул бы Крупскую только за то что с ней разговаривал Ленин»… прости, отвлекся от монолога души… я хотел сказать, что на подмостках и за кулисами ты, отчаявшееся и увлекшееся побегом от самого себя двуногое существо, – как-никак проживаешь за один рабочий, трезвый или пропиваемый артистический год, сам понимаешь, штук десять неодинОковых жизней, хотя, оговорившись, я был абсолютно прав… надеюсь, ты согласен, что иная оговорка и иной парадокс бывают гораздо умней и благородней честных слов и всяких партийных клятв?.. вот о чем забыл сказать: иногда весь зал – а это пестрое собрание самых беспардонных зрителей – словно бы чует весь зал желание, полностью адекватное моему… проще говоря, улегся зал вместе с моим эговном и со всею труппой, включая Учителя, в ту же временно уютную каморку, отделенную, повторяю, к чертовой матери от бешенств – вот в чем дело! – невыносимого реализма действительной жизни… там мы коллективно и посапываем и, между прочим, видим сны, до которых ссать-недоссать Европам и Америкам, как сказал бы народ, порою обожающий выразиться не скупо, а праздно и витиевато… и не надо никому из нас никакой свободы, законов, вождей, жратвы, питья, дам, мужчин, получек, автобусов, трамваев и метро, ибо находимся в удобоприемлимой форме, как, скажем, колодезная водица, слегка подмерзшая в ведерке… ну, я рад, что тот щенок, верней сучка, до сих пор живет то за кулисами, то в гардеробе – где хочет она живет – и, хочется верить, считает меня, исчезнувшего, не объявленного в розыск, основным своим хозяином, так как собаке верить больше некому и не во что… сам Учитель, как сообщил Люцифер, нарек мою сучку Чайкой… возможно, бедная Чаечка тоскует и ждет меня, не знаю, дождется ли, а я, будь я проклят, впервые в истории, если не всемирного, то русского театра выступаю в тюрьме, причем, в проклятущей из ролей… и ни одна душа не ведает об этом, кроме моих палачей и твоей дружелюбной личности… конечно же, и труппа, и бывшие дамочки, и простые зрители думают, что я расстрелян вместе с маршалами, потому что великолепно играл какого-то сраного командарма, поучавшего слесаря Ворошилова как тому следует мыслить не классово-полководческими категориями, а Ганнибаловыми и твоего тезки Александра Македонского… ладно, Париж проехали, Берлин – без остановок, следующая – Магадан… так ты согласен, что и оговорка и парадокс частенько бывают гораздо благородней честного слова?.. – Конечно, согласен, я вообще рад, увы, короткой встрече с тобой как с личностью, поначалу меня одурачившей, о чем до смерти не забуду… перехожу на шопот… если фортуна улыбнется, не будь дураком, ты же прекрасно знаешь немецкий, у тебя масса знакомств… при случае попроси какую-нибудь даму или выездного чина, который не предаст, привезти тебе пару основных сочинений Карла Юнга, мне о них напоминают твои мысли… это замечательный философ, ошарашивающий размышлениями о коллективном бессознательном, об архетипах, живущих в нашей психике с незапамятных первобытных времен, и, как ты говоришь, о эговне… непременно почитай – это тебе не агитпроповская чушь… на забудь: Карл Густав Юнг… кое до чего ты сам допираешь, а он и расширит горизонты настоящего, и вместе с тем сведет их к уютной конуре бессознательного, в которой дремлет наше общее неописуемо далекое прошлое. – Жизнь все это проделывает без помощи твоего Юнга… мой высокоградусный пессимизм, Саша, штука, пожалуй, посильней, чем оптимизм «Фауста» Гете. – Клянусь, Дима, я вижу слегка виноватую улыбку твоей фортуны… ты не просто сыграешь главную в своей жизни роль, а объегоришь своего шефа и сожрешь Дребеденя – пешку, рвущуюся в ферзи, поверь моему совершенно слепому чутью… учти, буду помнить только зубную щетку, забудь о кровной майке… считай, что ты пару лет готовился к премьере… не шагнешь же на сцену, чувствуя, что пол под тобою вот-вот провалится, так?.. сорви аплодисменты твоего, моего, всей моей семьи и ангелов-хранителей дебюта, принимая букеты свежей сирени от Муз трагедии, комедии и драмы жизни на земле. – Слова твои красивы, Саша, я тоже никогда их не забуду, но вот что странно: в башке уныние, а в душе никакого бздюмо – лишь неудержимое рвение к восторгу исполнения чего-то бОльшего, чем самая главная, если в нее поверить, во всей дурацкой моей жизни роль… черт побери – и жизнь принимаю, и фамилию, и все подмостки судьбы, и ничего не могу с собой поделать – но не вешаться же, пусть вешают меня другие, потом привязывают к ноге бескровной жалкий номерок – до свиданья, мама, не горюй, вот-вот перехлестнемся на занебесной пересылке. – Знаешь что, Дима, давай помолчим на дорожку, но сначала ты уж спой мне пару песенок… душе они милее хлеба с кашей… и ничего я в том не вижу странного, что нет для них акустики прекрасней и родственней, чем в камере тюрьмы. – Вот видишь, ты тоже невзначай слегка громыхнул ямбом, а я как раз соскучился по песням… если б не они – это безусловный верняк – завял бы я в жопу прямо на корню, как долго неполиваемый фикус, или женоподобная герань, обоссанная блудливым котом… мне песня, Саша, не строить, не жить помогает, а вдыхать вместе с ней благороднейший газ кислород, необходимый для тебя, меня и других несчастных, вдыхая нечто углекислое в сию отвратительную, с чем нельзя не согласиться, атмосферу каторги существованья… итак, послушай кое-что из напетого моим бывшим партнером по сцене и оргиям безумным… называется «Танго бедной юности моей»… гады тоже пускай слушают, все-таки они, подобно остальным двуногим, тоже обожают хлеб и эрелища.
Я это танго пиликал на гармошке с балкона на четвертом этаже и сердце колыхалося немножко как говорят блатные в мандраже мне эту музыкальную науку преподавал пройдоха Беранже но участковый вдруг меня застукал и крикнул танго тут блядь не проханже штрафную сходу выписал квитанцию хотел гармошку выкинуть к чертям однако я внизу заделал танцы под танго урки там кадрили дам шел дождь но музыка ненастье разогнала за воротник с тарелку натекло в подвале нашем Зойка так давала что было с нею мне печально и тепло на карты и на баб я был счастливчик а чтобы дама улеглась нагой – сдираю я с нее зубами лифчик трико – по-флотски – левою ногой
Сосо с Ягодою лакал на даче чачу тогда ни стопки не досталось мне и вот на вахте хреначит кукарачу баян германский на кожаном ремне я не взорвуся под японским танком не поведу как Чкалов самолет а на морозе так слабаю танго что сердце пляшет и душа поет на проводах чернели галки словно ноты блажили урки аккордов не жалей я променял все вальсы и фокстроты на танго бедной юности моей ах рио-рита ах рио-рита охота жрать как в стужу воробью но вот столовка наша на обед закрыта а воробья я накормлю в раю… – Пожалуйста, спой еще. – Кирюха этот мой освободился и по вечерам лабает в «Наци», то есть он там шутит и играет, и поет. у самовара я и моя Маша но вот на НЭП надвинулся пиздец по-новой Маша стопку наливает и подает на вилке холодец… ну и так далее… я, Саша, знаю сотню песенок, если не больше… а вот тебе – еще одна, превосходно, надо сказать, раскачегаривающая оптимизм в холодных топках нащих «паровозов», летящих вперед, если не назад.
А за решеткою холодная погода сияет в небе месяц золотой мне срок волочь еще четыре года но только мрак в душе моей больной сходи Маруся к подлецу Егорке он задолжал позорник шесть рублей на два рубля купи ты мне махорки а на четыре черных сухарей ты пишешь на крыльце сломала ногу и хуй с тобой ходи на костылях да потерпи еще совсем немного я всю дорогу томлюся в карцерах ты просишь чтоб чуток подкинул денег так хули ждать-то – вышли образцы да не грусти готовь дубовый веник вернуся скоро в потолок не сцы писать кончаю тормознули крысы идет этап на беломорканал в должок возьми у баушки Анфисы а я по-новой в карцер поканал… – Эй, ты тут не очень баси, не то нелегкая хватит и поканаешь туда, где Макар телят не пас, – гаркнул надзиратель в кормушку. – А ты, старшой, ни хера такого не услышишь даже в клубе НКВД.
21
Наконец-то, вскоре брякнули ключи; когда Лубянова дернули из камеры, А.В.Д., как в детстве на «Синей птице», глупо раскрыв «мурзилку», успел – скорей всего в последний раз – увидеть «ряд волшебных изменений милого лица», своего старого знакомого, успевшего стать пятым, самым близким – после жены, Верочки, Игорька и Гена, если не считать Игорька, – душевным другом; человек только что комплексовал, зря слишком уж занижая свой ум, бывавший, то ужасно циничным, то озабоченным до отчаяния и сокрушенности надежд, то вновь артистически вдохновенным, веселым, исполненным той натуральной легкомысленности, которая всегда красивей и несравненно талантливей навязчивых умничаний; и вот – нет человека, канул он во тьму неизвестности, бог знает чем чреватой, и напоследок на его актерском лице поразительно быстро возникли жесткие черты бесстрашного охотника на волков, бросившегося по следу в брянском лесу, куда отец брал А.В.Д. с собою, еще до октярьской катастрофы.
Диму увели; в камере еще звучало эхо душераздирающе чудесной мелодии танго, под которую и он, и Екатерина Васильевна плыли и плыли когда-то в клубах табачных туманов парижского кабачка… плыли неведомо куда, неведомо зачем, потому что молодость и любовь чурались каких-либо целей, кроме собственных, сообщавших двум, слиянным воедино телам их и душам, такое ни с чем не сравнимое чувство покоя и воли, что ни одно из остальных многих тысяч слов родного языка не казалось им родней, глубже, выше, наполненней простыми истинами существования, чем драгоценные слова Пушкина, – покой и воля.
А.В.Д. моментально настроил себя на терпеливо ровное ожидание того, что вскоре непременно произойдет; вариантов всего два: либо благоприятная для всех, либо невообразимо страшная участь Екатерины Васильевны, Верочки, Гена, Лубянова, себя, черт которого побрал бы вместе со всеми бесами совдеповского ада; так прошла ночь, так прошел день, потом еще один день, еще одна ночь – он показался себе существом выпавшим из времени в бескраность одиночества; его никто не беспокоил, он заставлял себя есть, спать, а если вспоминать, то исключительно счастливые годы, месяцы, недели, дни, часы, минутки; все равно, когда набегали, скорей на ум чем на душу, тени мрачных стихий неведомого грядущего, все начинало казаться таким беспросветно безысходным, что он, – покорствуя судьбе, и из-за свойственного с детства инстинкта, зачастую считаемого всего лишь суеверием, – подготавливал сознание к самому худшему из всего, что могло случиться; иначе стебанулся бы, обезоружив тем самым себя и еще четырех близких существ; иногда – ни с того, ни с сего – А.В.Д. не без инфантильного любопытства вдумывался в положительные смыслы ожидания; оно не обременяло, как обычно, тягостностью, в нем остановилось, в него вмерзло само время, переставшее течь, а вместе с ним заледенело отчаяние, терзавшее душу; он представлял реакцию Люцифера на сообщение, артистически расчетливо сделанное «наседкой» – сделанное словно бы второпях, с нескрываемо понятным, жадным, не боящимся выглядеть неловким, желанием урвать небольшой кусочек расстегая «невероятной для нас с вами, Люций Тимофеевич, удачи»; вспомнив былое обожание театра и студию Станиславского, А.В.Д. заставил себя – в деталях представлять происходившее в кабинете Люцифера; правда, сначала подумал: «А в состоянии ли вообразить Учитель своего беспутного и базалаберного ученика в застенках злодеяний и бесчеловечности?… не икается ли при этом великому теоретику лицедейства?»
Вот Димин шеф, видимо, срочно где-то разысканный, может быть, сорванный с очередной из дам веселой ночи вызовом, не терпящим отлагательств, затем отвезенный на Лубянку, дергает к себе Лубянова… тот быстро входит не в роль, а скорей уж в жизнь, и спрашивает жестом: не подслушивают ли?.. шеф немедленно велит выкладывать «насиженную информацию»… Дима все равно говорит шепотом.
«Для начала я вам поверю, Люциан Тимофеевич, можете не клясться, просто дайте честное слово своей души… она должна быть, верней, она у вас имеется… я вас спасаю от пыток и стенки – вы немедленно отпускаете меня ко всем ангелам, а не ликвидируете ко всем чертям… и я возвращаюсь на сцену, где, собственно, мне и место… я и так прожил полжизни за эту немыслимую двулетку… то, что скажу, не блеф, а единственнейший из миллиона ваш и мой шанс, разумеется, и безглазого ученого, – иных нет… да, да, это тот самый шанс, иначе и вашим шнифтам и моим – быть вытоптанными Дребеденем… на долгие размышления у вас просто нет времени… возможно, днем, или к вечеру, вы начнете получать от Дребеденя за Дерьмоденя все, на что он способен… между прочим, ученый был в отключке, но как-то расслышал очень важный треп Дребеденя по телефону, видимо, с самим Наркомом… так что, пока вы тут думаете, этот карлик готовит кульминацию и развязку… не мне вас учить, но вы и судьба ваша на волоске, они вот-вот закончат копать, а это уже занавес… поверьте, я мгновенно забуду обо всем, что сейчас говорю, ничего никому никогда не скажу, не проговорюсь, даже если примутся вживую раздирать на кусочки… спасите и вы меня, не подумайте обо мне, в смысле, нет человека – нет проблемы… судьба не простит вам такого подвоха, но отблагодарит за благородство великодушия… с А.В.Д. я подружился и начисто его выжал… он из-за полного отчаяния и тупости Дребеденя рад был растолковать суть своего, обогнавшего на две головы зарубежную науку, можно сказать, революционного прорыва в биологии… до нее, до самой сути, триста лет ебаться надо всем вместе взятым европейским ученым… в нее, в саму суть, я, честно говоря, не втесался… она артисту – что башка с бодуна, что сквозняк в жопе, если не история партии… и вот – пожалуйста – крупнейшему ученому в области генетики Дребедень выбил на хер шнифт, истязал пытками, пил кровь, захомутал жену и дочь, заключил в питомник Гена, пса, который назван в честь генетики, гонимой Лысенкой на мясокомбинат… ученый ушел в глухую несознанку – словно проглотил язык.. но Дребедень заставил его расколоться, обшамонал тайную квартиру, где тот работал и притыривал научные рукописи, а важнейшие ключевые формулы и, хер их душу знает, руководящие тезисы утаил – недаром фраер старого закала… можете, говорит Дребеденю, лоскут за лоскутом сдирать с меня с живого шкуру, но, пока не выпустите к тестю в Англию жену, дочь и пса, не скажу ни слова – как молчал до сих пор, так и буду молчать, этому научил меня сам Камо… вы, говорит, крадете, гражданин следователь, научное открытие, честь которого должна принадлежать родине, как бы я ни относился к философии вашей партии, на которую мне насрать как на бактерию, не нужную для эксперимента… долго болтать нечего, время поджимает… значит так, Люциан Тимофеич я ведь, не такой уж болван и вовсе не сценический Хлестаков, как может показаться… на мой взгляд, вам следует немедленно брать все это дело в свои руки, а Дребеденя за жопу – и в конверт, как вредителя, порочащего научную честь родины… иначе будет поздно… заодно с Ежовым он сделает ученого орудием против вас и вы моментально подпишите все, что вам пришьют… я бы тоже подписал… но не должно быть такой ситуации, чтобы не было у вас ходов – вы же премудрый змей… пусть занавес упадет не на вашу, не на мою и не на ученую голову – как интеллигентный человек говорю, а вовсе не выступаю в роли пахана Валька… о подробностях открытия вам расскажет сам А.В.Д. – это очень умный, интереснейший и буквально железный человек… гвозди бы делать из этих людей – больше бы было в продаже гвоздей… кто-кто, а вы поспешите пригвоздить проблему к Дребеденю… кроме шуток, дорогой шеф, или вы сходу его хаваете, или он сжирает вас со всеми потрохами… да и вообще, многое вам ясней, чем мне, и вы лучше меня знаете, как все это делается в нашем с вами учреждении, под вашим же носом… вот, собственно, и все, остальное выбивайте из Дребеденя… если угодно, могу и лично этим подзаняться в роли Малюты – вот на мне следы его падлючьих побоев, попомню их ему, хотя сие не мой профиль, не мое призванье».
«Благодарю, Дмитрий Анатольевич, вы сделали свое очень важное дело… значит, вот как обстоят дела в моем Лубянском Королевстве, – задумчиво, как и полагается благовоспитанному палачу, говорит Димин шеф, чуть-чуть было не загнанный в угол, – вот где, оказывается, разводил я змеенышей и ящерят – у себя я их разводил запазухой, то есть в лучшем из инкубаторов для разведения ползучей и ядовитой этой мрази… время действительно не терпит, спасибо тебе, Валек, то есть, простите, Дмитрий Анатольевич… можете быть уверены, – говорит шеф, внешне оставаясь совершенно спокойным, – я немедленно выполню ваше достаточно скромное условие – это моя клятва, а с клятвами, насколько вам известно, мы, большевики, не шутим, да-с… я ее выполню в одном единственном случае, сами понимаете, в каком именно… в данный миг этот случай кажется мне не случаем, а всплеском некой своевременной закономерности, ибо несвоевременная закономерность – это дурацкая смерть… времени у нас остается ничтожно мало… вас уведут в квартирку, отдыхайте, отоспитесь, не смейте там запивать, вы будете мне нужны, разумеется, если все образуется к лучшему… потом закачу вам ужин в том самом кабинете «Арагви», где и распростимся до встречи на вашей премьере… пока все, и это должно навек остаться между нами»…
Вот Диму уводят в ту, в его служебную квартирку, – на полусвободу, в благоустроенный рай, если сравнить его с таррариумом, кишащим сотнями змеев и змеенышей, впивающихся друг в друга… а шеф снимает трубку… безусловно, это звонок на самый верх, судя по Диминым сведениям, новому фавориту, соплеменнику самого рулевого, самого Сосо, самозатравленного паранойей, окруженного очередными временно верными клевретами, но не верящего ни им, ни себе… ети его мать, надо же было ей родить столь чудовищное уебище на наши головы…
А.В.Д. поймал себя на том, что, забыв о обычной брезгливости, начал пользоваться в уме весьма выразительными Димиными словечками и выражениями; естественно, подобно дитяте, сначала он не обратил внимание на захватывающе интересный момент чисто обезъяньего овладевания частью родной речи – сквернословием; и вдруг удивился: вот, оказывается, где, вот когда, вот в связи с какими обстоятельствами судьбы удалось ему познать необъяснимо радостное удивление, связанное с легким привыканием к речи сквернословной; а ведь раньше она отталкивала и почему-то вызывала раздражение, как тогда, когда он слышал довольно бесцеремонный разговор двух людей на каком-то чужом языке… и вот – пожалуйста – показалась эта речь не то что бы привлекательной, а просто необходимой, как скафандр для придонных исследований затхлого водоема…
Он вновь прокрутил в уме желательную для себя крайне интересную сценку… вот выслушав обеспокоенного Диму, по сути дела, своего спасителя, Люцифер, довольно глупо упустивший из вида смертельно опасное развитие событий, моментально будит звонком своего старого знакомого, метившего в наркомы и давно уже нацелившего клыки на властительного карлика… Лаврентий Берия, эта, по словам Димы, сановная пропадлина, куча говна в пенсне, рваная гондошка, полный нуль на палочке и мразь, оценивает важность момента – этого у него не отнимешь… вот он, довольный, потирает руки, полные козырей, и пьянеет, пьянеет от возможности немедленно сыграть ва-банк – обчистить до гола зарвавшегося ублюдка, карлика, тупую выскочку, полное ничтожество, пидара гнойного, извращенца, нагло компрометирующего партию и ее органы, черт знает чем занимающегося с врагами народа, злоупотреляющего властью, как это было с Рэмом, вовремя ликвидированным ефрейтором, челкастым усатеньким импотентом, хлюпеньким подморковником вегетариантства, не способным сожрать шашлык по-карски, запив его «Напареули», потом отъебать какую-нибудь дэвушку, отловленную шестерками охраны около Рехстага…
А.В.Д. впервые подумал, что Люцифер – эта битая и достаточно потрепанная в гадючьих интригах рысь взаимопожиранья – неспроста разрешил Дребеденю перевести его к Диме, к якобы бывалому урке… и сделал это, наверняка что-то пронюхав о содержании «Дела номер 2109» и о ходе допросов, а теперь экстренно обмозговывает несколько выгодных для себя лично, молниеносно быстрых комбинаций… он мгновенно воспринимает главное и сообщает Лаврентию импульс нужного направления к цели… Берия моментально докладывает вождю о подробностях желанного для них обоих развития событий… теперь Люциферу остается торчать в кабинете, ожидая результативных действий теперь уже второго человека в Кремле и доставки плюгавого Дребеденя, моллюскка ебаного, взятого на дому спецволкодавами, ждавшими команды «Фас!»… наверняка, вторая группа вышколенных опричников берет за ту же жопу Ежова… вот, после очной ставки с бывшим наркомом, Дребедень в кабинете своего врага никак не может поверить в случившееся… он, так сказать, психологически и физиологически проходит через все, что пришлось пройти каждому из арестованных им людей… как, думает, это так – сидит напротив вражина, вроде бы уже хрустевший на клыках, и нагло лыбится, паскуда недобитая… а Люцифер не спешит, не задает никаких вопросов гниде, выдвинутой Ежовым явно за определенного рода активные услуги… некоторое время взгляд победителя неподвижен из-за нежелания показаться крайне всполошенным и безумно торжествующим… кроме того, рассуждает он с удовольствием, эдак вот злорадно продлевать игровой азарт любят не только львы, тигры, пантеры, кошки, змеи и пауки, но и сам венец Творенья, лично мною олицетворяемый в данном кабинете…
А.В.Д. увлекся, почувствовав состояние Люцифера, глупо зевнувшего, почти что проигравшего, чуть было не поддетого за самые жабры, если бы не подоспевшее сообщение Димы; чего-чего, а арестантского воображения, подогретого азартом первой в жизни и, надо полагать, последней игры, у А.В.Д. хватало.
Вот Люцифер, к счастью своему, срывается с крючка, вот, подгоняемый спасительным сообщением и внезапно возникшим шансом на спасение жизни, самолично начинает гон смертельного врага и зверя… и дело тут не только самой жизни, но во всех ее привычных благах, казавшихся пожизненными – в свободе, в высоком положении, в спецснабжении, в социальном разврате, умело замаскированного под партийный аскетизм циником, бабником и гурманом, – чтоб не укнокали, будь они прокляты, последние скромные и простые ленинцы замшелого большевизма… пиздец театральным ложам, санаториям, спортсменкам, балеринкам, ресторанным кабинетам, прочному утверждению карьеры, безнаказанному – в приятных пределах – всевластью… всему счастью пиздец, будь ты проклят Дерьмоденище, ублюдок, тупица, мразь, змеееныш…
Если бы А.В.Д. вдруг открылось, что именно в те часы и именно так закуролесила фантастическая действительность, его психика была бы совершенно потрясена волшебством ясновидения, которого многие люди, тем более сами ясновидцы и их современники, часто не замечают; точно так же они не воспринимают некоторых очевидных истин не потому что эти истины черезчур «секретны и сложны», а как раз наоборот, из-за сверхочевидности их простоты; они лежат у человека под носом, сам же он довольно комично, хоть и величественно, рвется в глубины метафизики и за пределы земных измерений.
Устав мечтать о желаемом, А.В.Д. охотно погрузился в воспоминания о любимой собаке… о том, как его заряжала на целый нелегкий день энергия Гена, проснувшегося раньше всех… сначала он молча извивался на полу, стеная от наслаждений, сладко упиваясь потягусеньками, валянием пузом вверх, дрыганьем лапами, потиранием милой морды о всякие углы и выступы… потом, не удовольствуясь безмолвным выражением чувств, словно бы принадлежавших не ему одному, а всему миру, он начинал выражать счастье начала нового дня жизни различными модуляциями взвигов, протяжных постанываний, речитативных оханий, замысловатых рычаний и потешных пофыркиваний… о как он вдохновенно, как властно дирижировал хвостом, можно сказать, руководившим всеми звучаниями, которые изо всех сил пытались стать восхитительной мелодией, но никак не могли подняться до гармонических высот.
22
Время тянулось, воспоминание немного отвлекло А.В.Д. от неумолимого «реализма действительной жизни», потом оно бесчувственно вернуло уму безнадежность тоски, а душе тягостность уныния, подавленности и отчаяния, доводившего чуть не до безумия; им овладело состояние, близкое к полнейшей обезнадеженности, к самоубийственному согласию с неминуемой казнью; исключительно из-за мыслей о близких и жажды прекращения их мук он отгонял от себя роковые мысли о петле и удивлялся полному у себя отутствию не то что ясновидеческого дара, но способности предвидеть основные детали близкого будущего.
А.В.Д не без некоторого удовлетворения припомнил недавнее прошлое; совершенно выведенный из себя садизмом следовательской лжи, издевательствами, побоями, шантажом, – он сказал, забыв о крови, хлеставшей из носа, солонившей разбитые губы, рот, язык, заливавшую тогда еще оба глаза, сказал с презрительным бешенством, неожиданным для всей этой нелюди и лично для Дребеденя, гнусного моллюска власти: – Такие выродки, как вы, когда нечего им жрать, кроме трупных червей, копошащихся в гниющей плоти угробленного ближнего, бросаются с огромным аппетитом извлекать из них, из трупных червячишек, протеин… выродки делают сие исключительно ради продолжения самой жизни и своего недолгого избавления от предсмертного ужаса… слушайте меня внимательно, кавалер мерзкого пиршества: я для вас какое-то неземное двуногое – простой дворянин и христианин, лишенный нетопырской, подобной вам нелюдью, даже возможности покаяться в своей личной вине в Храме Божьем, каменную плоть которого вы умертвили и уничтожили, но все же подступиться к Святому Духу так и не смогли… поистине место для Него не бывает пусто – это и Земля, и Вселенная, даже сей неприличный гадюшник… так вот, несмотря на тяжесть личной вины, чего вам не дано ни понять, ни почувствовать, я только потому смею считать себя нормальным человеком, что предпочту быть до скелета обглоданным трупными червями, чем сожрать пару-тройку из них ради продолжения жизни… обе мои щеки, правая и левая, к вашим услугам… извольте, пожирайте, клацайте клыками, урчите, чавкайте, рыгайте, смердите… самое трудное в жизни на Земле, ваше дьявольское отродье, гражданин Дребедень, быть не рыбой, не клопом, не мухой, не крысой, не китом, не слоном, а двуногим человеком, наделенным, в отличие от всех других животных, действительно могущественным и, в известном смысле, богоподобным разумом, наплодившим, простите за каламбур, себе на голову таких, к сожалению, материализовавшихся идей, что лабиринты цивилизации, в которые он сам себя увлек и, наконец-то, заключил в них миллиарды землян вместе с самой Природой, вскоре станут безвыходными, как ваше учреждение, извините уж, чьи эмблемы не меч, не щит, но ложь, кулачища, мыски сапог, валяйте – дожирайте…
В тот раз А.В.Д. вызывающе откровенно высказал что-то еще о убийстве палачами их собственных душ; странное дело, Дребедень отсутствующе наблюдал за ним и казался безумцем, на время поддавшимся гипнозу; так иногда остолбеневает дикий зверь, прикованный к месту человеческим взглядом, спокойная сила которого сдерживает и одолевает животную, священную для любого животного ярость… так кобра, сдерживая клыки и яды, покачивается перед человечьей дудочкой.
Затем, зловеще произнеся, «отлично, А.В.Д., до завтра», Дребедень вызвал надзирателя; тот проконвоировал арестанта в камеру, где уже лежала вата, пропитанная йодом и тряпье для примочек.
23
Ночью А.В.Д. внезапно разбудили и, хотя сновидения с некоторых пор его покинули, он не сразу, как говорил Дима, врубился в реальность жизни, подобно человеку, попавшему либо со света во тьму, либо из тьмы в ослепильно ярко освещенное помещение. – Едем в коляске, или проследуем своим ходом? – спросил надзиратель. – Пожалуй, дотянусь сам, – сказал арестант, слепо следуя велению бесстрашно азартного любопытства и почему-то никакой не чувствуя взволнованности.
Первое из всего, что он увидел, когда его, прихрамывающего, ввели в огромный кабинет, была фигура Дребеденя, стоявшего на коленях с расквашенным носом, вспухшими губами… на полу кровь… уши превращены в какие-то биточки… вероятно, выбиты зубы… разорвана до пупа гимнастерка… в петлицах запечатлено наслаждение, с которым вырваны шпалы из блаженной синевы, некогда столь безмятежной, полной расхристанной безнаказанности… разумеется, в подбитых глазах – ужас, мольба, мутная влага, скопившаяся в уголках. – Устраивайтесь, пожалуйста, поудобней, товарищ Александр Владимирович Доброво, – сказал человек со звездочками на синих полянках каждой из петлиц, сидевший за столом, уставленным разными канцелярскими безделушками и тремя разноцветными телефонными аппаратами… рад познакомиться, слышал о вас много чего хорошего… вот вам вода, вот папиросы, спички, вскоре принесут завтрак… я бригадный комиссар второго ранга, Люциан – это в честь революции, которая должна была свершиться, поэтому и свершилась, – отчество мое Тимофеевич, фамилия Шлагбаум, наш род в России с семнадцатого, извините, не года, а века… у меня к вам сегодня, как к свидетелю по делу, пострадавшему от беззакония, несколько вопросиков, не буду вас напрягать… вам знакома личность допрашиваемого, завербованного одной из иностранных разведок, затем закономерно арестованного в связи с ведущимся следственным «Делом 111а» о извращенно служебных преступлениях против партии, государства, НКВД и всего советского народа? – Да, мне знаком, судя по всему, теперь уже тюремный мой коллега по внутренней тюрьме Дребедень, он же бывший старший следователь по моему делу, сущность которого совершенно невозможно ни понять, ни воспринять. – Так и запишем, – вежливо кивнул Люцифер красивой, флегматичной, явно много чего в жизни повидавшей, стенографистке, – вы подтверждаете, что лично Дребедень выбил принадлежащий вам левый глаз, тем самым надеясь выбить и из вас заведомо ложные показания, что подтверждает наличие травмы зрения, необходимого вам для дальнейшей исследовательской работы в биологии? – Да, подтверждаю. – Ну что, Дерьмоед, признаешься, тупая свинья, в злоупотреблении служебным положением и нанесении товарищу Доброво телесных повреждений особой тяжести по заданию известной тебе иностранной разведки? – Признаю, что действовал… в состоянии аффекта личной нервной деятельности, а не по заданию начальства… но, в общем-то, успешно злоупотреблял официально дозволенными… как говорится, мерами физвоздействия.
Дребедень с трудом произносил слова и шепелявил – очевидно, у него распух язык – А.В.Д. это состояние было знакомо. – Ах «дозволенными»?.. не клеветать, низкая тварь, на высокое начальство!.. признаешь шантажирование, можно сказать, гордости нашей биологической науки, большого ученого, пытками жены и дочери на глазах последнего? – Это был не шантаж… всего лишь моральное воздействие с целью… – Конкретней! – Признаю. – Реквизировал, будучи внедренной в НКВД мразью, всю научную документацию и рабочие рукописи незаконно арестованого ученого с целью дальнейшей передачи таковых своим зарубежным хозяевам? – Во имя прошлых заслуг в прошлом, выражавшихся в двух орденах, дайте хотя бы час на деловое раздумье насчет состава предъявленных обвинений… авнсированно признаю их и все дополения к которым. – Каким таким макаром ты ухитрился пробраться в органы? – За верность идее вопросов ленинизма и способность перевыполнить план по врагоуничтожению вредительства с дальнейшим разоружением такового в виду наступления на позиции оппортунизма товарищу Сталину… разрешите ряд раздумий для самокритики? – Так-с, отлично… по распоряжению Лаврентия Павловича Берии и в плане расследования преступной деятельности бывшего наркома Ежова, я возглавляю экстренно трудовую вахту в честь наступающего Седьмого Ноября, поэтому никаких раздумий… признаешь? – Признаю все, в чем был и не был виноват, как сказал Есенин, только быстрей кончайте катавасию данной самодеятельности. – Не спешить, не спешить!.. ты не хотел бы лечь на пол, подлый карьеристишко и продажная сволочь, чтобы искалеченный тобой невинный человек тоже зверски выбил один твой глаз, но можно и оба – за не-на-доб-но-стью оных, ебит твою в душу мать?.. Танюша, извините, пожалуйста, за выражения – они не для записи, кроме того, автоматом переводите «ты» на «вы», очень на вас надеюсь и отблагодарю… так хотел бы ты лечь на пол, чтоб и над тобою, подонком, поизгилялись? – Это чтоб такие вот интеллигентишки, которые еще пацанами подхватили заразу царского режима?.. да они даже не способны отбить у врага почки, не то чтоб вытоптать ему, сволоте, орган зрения… гниль, сами знаете Люций Тимофеевич, есть гниль… это ваши слова… эта публика только и умеет что доводить до бешенства характер нашей работы в массах, которая закономерно вызывается обострением классовой борьбы.
Дребедень еле ворочал языком, но пытался говорить внятно. – Не употреблять слово «закономерно», не допускать его до своих гунявых уст!.. мало того, что ты тут непозволительно растрепался, махровый садист, предатель и активнейший в органах пидарас, являвшийся змеенышем-троцкенышем на моей кроншадтско-питерской груди, но ты ж ведь, Дерьмо, еще и урод, даже в театр презиравший ходить, и вообще примитивное, как куча говна, уебище, онанировавшее на допросах, потом брызгавшее сперму молофейки прямо в человеческое лицо нашего ленинско-сталинского гуманизма… признаёшься и в этом, или вызвать свидетелей, благодаря усилиям органов оставшихся в живых и подготавливаемых медициной к полной реабилитации по месту жительства и службы? – Кончайте уж, комиссар, весь этот ебаный театрик… я хотя бы свими личными руками добивался подписи арестованных врагов народа, а вы считали себя белоручкой… всю черную работу проводили за вас два чугрея, Черкасовы хУевы, Качаловы ебаные, которых давно надо бы расстрелять заодно с братцем Чехова, сбежавшим в Голливудство с той же постоянной фамилией… кончайте, как сами же учили, то есть раз ваша взяла… имейте совесть – кончайте. – Не беспокойся, пидарасище, кончим в свою минуту и не один лишь раз… никто не собирается с тобой цацкаться, а сам ты, извращенец, больше никогда и ни на ком в жизни не кончишь – даю слово чекиста… Танечка, ничего такого, повторяю, прошу, не записывайте, целиком на вас по-ла-га-юсь, – сей глагол произнесен был столь мурлыкающе, что флегматичная стенографистка явно оживилась, а А.В.Д. подавил брезгливость. – Ты, Дребедень, не устану повторять, враг, дерьмо, ублюдок и выродок советского народа, предатель великого Сталина, который знаменосец всех наших побед… запомни: наша ничего не взяла – это ваша внутрилубянская, как сказал бы вонючий Чемберлен, шоубла-уобла хотела лишить Отечество передовых достижений крупного биолога… согласен дать особые показания насчет планомерного пришивания дутых дел крупным специалистам во всех областях науки, техники, Красной Армии, дипломатии, медицины, культуры, главное, военной промышленности с целью дальнейшего ослабления экономики, политики и идеологии СССР? – Согласен, на все согласен, буквально готов к немедленной высшей мере. – О нет, о, нет, – никакой немедленности мы тебе не позволим… пятилетки, согласно указаниям вождя народов, ускоренно движутся туда, куда следует, а все остальное пойдет своим поступательным, убедительно натуральным ходом либо вперед, либо назад… за скоростью допроса я прослежу лично… завтра с тобой поработают твои же ученички и помошнички – поработают, будь уверен, по-стахановски, как ты их выучил… но я – не ты, поэтому ненависть твоя ко мне подохнет вместе с тобою… а лично я даже мизинцем побрезговал бы дотронуться до твоего захрюканного рыла… ты, Дерьмо, еще более жалок, чем пена, сдутая тобою же с параши после отстоя мочи… и ты еще не готов, далеко не готов к ликвидации… разборчиво диктуй как именно поступил бы ты со мной в этом кабинете, если бы не был взят с поличным в ЦПКО имени Горького, внутри одной из кабинок чертова колеса, во время передачи изъятых у Доброво сверхсекретных материалов спецагенту иностранной разведки, а именно: женщине средних лет, переодетой и загримированной под мужчину вышесреднего возраста, которая уже подвердила на очной с тобой ставке факт данного преступления… и не лгать, главное, не лгать, не совершать очередную диверсию против самого справедливого в мире следствия и революционно демократического правосудия… чуть не забыл: с какой провокационной целью заставил ты нашего особо ценного внутреннего агента психически воздействовать на незаконно арестованного Доброво? – Пишите все, что хотите, все, что вам надо – все подпишу… излагать морально не сумею в виду физически неравномерно дрожащих рук. – Повторяю вопрос: как именно поступил бы ты со мной в этом кабинете, если бы не был взят с поличным внутри кабинки чертова колеса ЦПКО имени Горького? – На этот вопрос отвечать отказываюсь… он не имеет процессуально практического значения для данного допроса.
Дребедень, не выдержав ни того, что с ним произошло, ни пыток, ни словесных издевательств, разрыдался и закрыл лицо разбитыми в кровь руками. – Если честно, Александр Владимирович, вам жаль этого ублюдка? – спросил Люцифер. – Нисколько не жаль, но вместе с тем не испытываю ни низкого удовольствия, ни той радости, которая, по определению, всегда добра. – Верю, как редко говорит один наш общий знакомый… Панков, заварите чайку и сообразите пару бутербродов для Александра Владимировича – с семгой и с севрюжкой… с тобою мы продолжим, Дерьмоедина.
Надо сказать, разговорная манера Люция Тимофеевича, Люцифера, чуть было не очутившегося со всеми своими потрохами в «приемном беспокое» родного лубянского ада, была оркестрована столь же блестяще и точно так же артистически построена на контрастах абсолютно спокойного тона с подробностями содержания и деталями самого допроса, как недавние заговорщицкие беседы А.В.Д. с Лубяновым; победный тон начальственного гласа был неизменно ровен, спокоен, неглумлив, словно речь шла о вещах, не имевших никакого отношения к сути следствия; негромкость слов выразительно, а порой и аристократично, подчеркивала намеренно издевательские вопросы, хотя некоторые фразы, восклицания и грубые оскорбления должны были бы быть гневными, крикливыми, наконец, торжествующе мстительными, сами себя распаляющими и так далее; произнесены же они были до того крайне вежливо и даже добродушно, что сама иезуитски жутковатая манера разговора показалась А.В.Д. изощренно унизительной казнью даже для поверженного в прах выродка и садиста, распустившего кровищу, сопли и слюни у ног победителя; от допроса так и разило серой двуликостью адской скверны; А.В.Д. показалось, что он слышит торжествующий хохот Разума, величайшего из дипломатов, свалившего все свои злодеяния на подставленного вместо себя двойника – на Дьявола, искреннего уверовавшего в собственную ложь и вечно радующегося очередным победам Зла над Добром; и именно эта ложь, подумал он, как ничто иное, на каждом шагу убеждает глупых двуногих, что причина функционального Зла кроется не в лучезарно невинном Разуме, якобы лучшем из образов Богоподобия, а исключительно в злонамеренных наклонностях Дьявола; и пока люди так думают, пока они легковерно относятся к вечно лукавой лжи, Разум ликует и потирает ручки, довольный; ликует, неизловленный преступник, безнаказанно продолжающий серийные насилия и убийства… «Пусть двуногие верят, веселится он, мои двойники, не расколотые философами, – Дьявол и Зло, – замечательно обеспечивают мою безопасность и отводят на себя все улики против меня… плевать, пусть двуногие до конца времен думают как хотят, пусть верят, что Разум светел и един, а я и верное мне Зло как успешно тягались с Создателем, так и будем тягаться с его дутым всевластьем, пока имеем действенные опоры в каждом из разумов миллиардов недалеких двуногих – наше дело левое, победа не за горами».
А.В.Д. очнулся от размышлений и, как это бывает, не сразу сообразил где он; стиль допроса – Люцифер вел его, с трудом сдерживая мстительное злорадство и достаточно распущенное сладострастье – был все тем же дьявольски безобразным, словно бы самостоятельно стремившимся довести до безумия психику Дребеденя, на днях не только не ожидавшего ничего такого для себя ахового, но уже потиравшего свои обезьяньи маховики, уже предвкушавшего, как он соответственым образом поизгиляется над бывшим начальством, над чистоплюйской рожей бывшей дворянской мрази, а от брюха поизгилявшись, сдерет с мерзавца, с чистоплюя, с поверженного соперника портки и, подобно гамандрилу в зоопарке, поставит на все четыре кости.
В первые мгновенья А.В.Д., как это случается, не поверил в такой невероятно удачный, если не счастливый, оборот судьбы, но тут же одернул массу мыслей и чувств – мальчиком он почему-то называл их «мышками» и «чушками» – сходу на него нахлынувших и сумел сдержать их, желавших излиться, усилиями воли; и вообще в подобной ситуации человек делается суеверным, боящимся сглаза, поэтому он старается начисто отвлечься от всех смыслов и качеств происходящего, чтобы бежать от тошнотворно отталкивающей реальности в размышления черт знает о чем, а если повезет, в один из запредельно неземных снов или в успокаивающие инфантильные мечтания и видения.
А.В.Д. вновь отвлекся от такого невыносимого, отвратительного душе зрелища, что в ней – казалось бы, вопреки здравому смыслу – со внезапной невольностью возникла вина перед страдающей телесной плотью явного злодея, тоже, по сути дела, сделавшейся невинной жертвой дьявольски извращенных наклонностей дребеденьевской психики и его еще не преображенного человекозверского разума; должно быть, в ту пору подобной нелюди было гораздо больше на квадратный метр бесчеловечной лубянской жилплощади, чем в остальных следственных учреждениях планеты; А.В.Д., ко всему прочему, чувствовал и понимал, что душа любой нормальной личности всегда далека от пиршеств злобных эмоций, непонятным образом обожаемых бесчувственным – такова уж его природа – человеческим разумом; и ей становится вдвойне беспокойней, больней, вдвойне стыднее за то, что чья бы то ни было – муравья ли, кита ли, человека ли – живая плоть претерпевает невыносимую боль по вине злорадствущего разума, за миллионолетия доразвивавшегося до того, что сей прогресс фактически превратил его в тирана души – в самодержца и самодура; еще вчера, казавшийся преображенным, то есть окультуренным, зачастую одухотворенным во вроде бы нормальных людях, – сегодня он, разум, их же устами именует себя возмущенным и являет собою нечто обезумевшее, взбесившееся, позволяющее то, не брезгующее тем, чего никогда не позволяют себе звери, безжалостно нападающие на слабых тварей ради добывания жратвы, продолжения своих жизней и существования рода…
«Все они тут одним лыком шиты: и бывшие палачи и нынешние… победи Дребедень – он точно так же злорадствовал бы над арестованным Люцием Шлагбаумом, наслаждаясь торжеством лжи и извращенческих – из-за абсолютно безнаказанного беспредела – инсинуаций… кажется, психика этих людей – послушная вулканическим выплескам из глубин памяти некогда пережитых зверств и ритуальных безобразий – не без удовольствия сваливается в самые низины древней первожизни, все еще кишащей незабываемыми каннибальскими битвами и победными пиршествами… плевать нелюди, имеющей такую вот, к тому же вооруженную «передовыми идеями», психику на все нравственные и эстетические достижения эпох Преображения зверя в Человека… к сожалению, нет у меня иного объяснения ни того, что я и сам почувствовал на своей шкуре, ни того, как возникли в России, Германии, Италии миллионные толпы соглядатаев, чьи разумы оболванены до того, что все они начисто перестали ощущать себя людьми… да, перестали и превратились в особей первобытного стада, жаждущих крови и гибели всех тех, которых, по приказу главного палача страны и народа, осатаневшие активисты власти именуют врагами народа… а если я зациклился на мыслях о совершенно непонятной природе двуликости человеческого Разума, то это, пожалуй, не худшее из здешних состояний»…
24
А.В.Д. снова не мог не отвлечься от допроса Дребеденя, и мгновенно почувствовал себя, заляпанного нечистотами, окунувшимся с головой в чистые воды воспоминания… однажды он, слава богу, вовремя, отважился взять на себя все бразды воспитания миляги Гена, щенка невозможно взбаломошного, как все детеныши… этот Лапыш – так звали его первоначально – довольно хитро стремился к безнаказанным удовольствиям, грыз все, что попадало под востренькие резцы и клычечки, вымогал игры и ласки, требовал их, капризничал, ныл из-за прекращения оных, готов был дико обожраться, не боясь, что тут же бесстыдно обосрется, главное, пытался лидерствовать и властвовать… конечно же, Екатерина Васильевна и Верочка, безумно возлюбившие прелестного Лапыша, позволяли своему упоительному чувству материнства, что называется, со страшной силой гулять по буфету… поэтому – вместо того, чтобы спорить, осаживать вполне понятное желание двух обожаемых особ ублажить четырехлапого детеныша и выступать с лекциями насчет принципиально твердых принципов его воспитания, – А.В.Д. увез Гена в деревню к родной тетушке, одинокой фельдшерице, вдове родного дяди Сережи, осужденного по дутому делу группы инженеров-вредителей, затем погибшего где-то в дебрях таежного лесоповала… никакой охоте А.В.Д. в деревне не предавался, а целыми днями приучал Гена к приличным манерам, легко передающимся – если не убить их в зачатке – по наследству породистым псам с родословной, полной предков, замечательно воспитанных хозяевами… к счастью, Ген был из тех немецких овчарок, да и людей тоже, которые усваивают уроки без строгих выговоров и подзатыльников, но поражают мгновенной расположенностью к учению и нескрываемо радостной благодарностью за поощрение их первых полезных навыков… он полюбил учебу и, после первых же, охотно воспринятых уроков, стремился к ней, как детишки стремятся к ежедневной, чуть ли не ежечасной игре… вернулся Ген домой вполне интеллигентным, не по годам сообразительным джентльменом, сурово пресекавшим все попытки милой дамы и прелестной девицы разрушить, во-первых, привитые ему, воспринятые отлично и на век, принципы поведения, во-вторых, уже имеющим представление о чувстве собственного достоинства; он даже втайне никогда не презирал, возможно неугодных ему, приказов, команд и внятных просьб… наоборот, ему доставляло удовольствие безупречное выполнение таковых… он был счастлив, когда чуял расположение и уважение к себе хозяина их небольшой стаи и удивлялся тому, что не всегда послушны его хозяйской воле, в остальном-то очень милая жена и прелестная дочь… но не переставал быть все тем же веселым «малым», склонным к гурманству, шаловству, играм, мирным подремываниям среди дня и частым прогулкам… иногда достаточно было выразительного взгляда, особенно взгляда хозяина, чтобы он, так сказать, взял себя в лапы, успокоился, не ленился, не принимал позу околозастольного попрошайки, не рычал на гостя, не отпугивал дворовую пацанву, не не таил никакой злобы на поучения и замечания… его слегка склоненная морда непременно выражала огромное изумление, когда кто-либо из близких делал, по его мнению, что-то не так, или в чем-то как-то ошибался… приучив Гена к принципам достойного поведения и очень строго их охраняя от женщин, несколько смущенных его жесткостью, А.В.Д. однажды сказал им следующее: – Жаль, что нет времени начирикать статейку насчет основ, по сути дела, еще не существующей науки, идея которой носится в воздухе, ибо таково уж времечко… уверен, что науку о поведении животных назовут, скажем, этологией… говоря просто, вредней и опасней всего – испоганить инстинкты домашней собаки, запечатленные в глубинах ее индивидуальной и родовой памяти, если угодно, в психике вообще… имею в виду память о беспощадной борьбе в стае за лидерство и обязательности добровольного отказа от него в случае поражения… о прочих инстинктах говорить не буду, сами не глупы – разберетесь что к чему… так вот, если прозевать нужный момент и позволить породистому псу почувствовать свое в семье лидерство, – пиши, пропало… пес совершенно дезориентирован, ибо принял наше всеугодливое либеральное к себе отношение за покорность стаи, послушной каждому его веленью… он, что называется, болванически избаловован, ведет себя невоспитано, нервозно, раздражительно, упрямо, рычит даже на хозяина, чуть что не так может и кусануть – таких случаев до черта… кажется, что в его тонко организованный мозг – мозг сторожевого пса – готовый к немедленному выполнению определенного, издавна заложенного в память порядка действий, плеснули серной кислоты… все – она выела-разладила с трудом и в течение многих лет прививавшиеся связи, зачастую заменявшие обмозговывание реакций, и сомнения в надобности каких-либо необходимых действий… черт побери, дорогие леди, мы же эдак вот выводим из строя чудесный мозговой аппарат, превращая тем самым пса-умницу в совершенно гунявого дебила… ни в коем случае не становитесь по отношению к Гену тиранами – просто ради него поймите, что он должен существовать в своем кругу жизни, резко отличающемся от нашего… в том кругу, который диктует собаке характер того или иного поведения, сообщает ей любовь к привычным порядкам… словом, Ген должен быть уверен, что лидер у него я, а не тот кого лично он изволит считать лидером… своими, вовсе ему не нужными, лишними поощрениями, поверьте мне, мы его развращаем, портим налаженные веками эти самые порядки существования и так далее… результат: несчастного пса, как неуживчивого безумца, куда-то к кому-то пристраивают, тот другой тоже сбывает его с рук, или выкидывает за сто первый километр, если не усыпляет… согласитесь, что это нонсенс, беда, трагедия… пусть уж хотя бы собака живет в наше дикарское время по-человечески…
25
А.В.Д., чудом превращенный из обвиняемого в свидетеля, удобно устроился в почтенном, наверняка реквизированном, старинном кресле; в те минуты, тянувшиеся, как часы, в те часы, мелькавшие, как минуты, подавив вихрь чувств, даже не пытаясь обмозговывать различные смыслы и качества случившегося, витая в былом и блаженно предаваясь мирным воспоминаниям, он мастерски прикинулся человеком, терпеливо, но без всякого интереса – как в гимназии на уроке Закона Божьего – наблюдающим за перипетиями садистически жестокого, мстительного допроса, за нескрываемым самодовольством и победной высокочиновной иронией Люцифера, наслаждающегося радостью, что он чуть было не оказался на месте теперь уже окровавленного, иссопливленного, избитого, превращенного в тряпку Дребеденя.
Наблюдать А.В.Д. за сокрушением нелюди, как и за внешне сдержанным торжеством и уверенной в себе безнаказанностью победителя, на самом-то деле было тошно и скучно; порой его, как обычно, донимал игровой азарт; однако он продолжал отмахиваться и от него, и от сонмов предположений, версий, вариантов – от всего неизвестного, страстно к себе манящего, которое не известно чем и когда закончится; он почему-то и страстно желал мысленно проникнуть в будущее, и с еще большей страстью этого не желал – опять же, совсем как в детстве, когда наперекор, казалось бы, непревозмогаемому желанию непременно слопать за столом что-нибудь сладкое оставлял его напоследок, потом лопал в кроватке перед сном; повзрослев, он точно так же отдалял… отдалял… отдалял от себя дочитывание захватывающе интересно-й книги и засыпал, действительно изнемогая от сладчайшего из предчувствий – предчувствия встречи с милым сердцу завтрашним денечком, с финалом недочитанной книги; позже – не спешил с признанием в любви, потом с просьбой руки и сердца, ибо он и Екатерина Васильевна прекрасно чувствовали без всяких слов, что любовь у них навек, – какого ж, собственно, беса суетиться?; если забыть о понятном страхе быть взятым, сюрреальных картинах времени и взбесившемся служебном быте, жизнь, вспоминал А.В.Д., была вполне налаженной, пока его частые, довольно странные поздние возвращения домой не показались Екатерине Васильевне подозрительными; сам он – над ним уже зловеще кружили тени ареста – ни в коем случае не желал сообщать ей какую-либо информацию ни о комнатушке в Уланском, ни о дальновидной подготовке в допросам, ни о стратегических и тактических тонкостях своего крайне рискованного игрового замысла; дома он помалкивал еще и потому, что в те времена мудрость поведения, быстро усвоенная даже людьми науки, всегда далекими от науки осторожничания, гласила: меньше знаешь – меньше выбьют из тебя на дыбе; А.В.Д. ничего не оставалось делать, как нести крест подозрения, обиды жены и дочери, их тягостного недоумения – всего того, что изводило близких и сообщало былым его дням и месяцам ядовитый привкус невольного предательства.
26
Внезапно – при некоторой ясности причин удачи – на А.В.Д. дохнуло ужасом, сдавило сердце гнетом приближавшейся грозы, снежной бури, убийственной засухи, землетрясения, готового разрушить все основы, все порядки существования – дохнуло стихийным бедствием.
«Мне же, – думал он, – абсолютно непонятно, к чему я здесь Люциферу… что, если бывшее, – всего лишь пролог, а нынешнее – первая картина какого-то давнишнего, тщательно подготовленного, злодейски дьявольского, потрясающе тонко режиссированного замысла, включившего в себя и меня, идиота несчастного, и шутовскую роль блатного пахана Валька, в исполнении гениального импровизатора Лубянова, возлюбил которого, аки брата своего?.. боже мой, боже мой… и вот вишу пескариком, вздернутым за губу глумливым рыбачком, стыну в воздухе на виду у «рыбачков», у восторженных авторов-исполнителей, рукоплещущих собственному успеху, ожидающих действия второго, действия третьего – последнего… наконец занавес падает, актеры торопятся в уборные, зрители в сортиры, в гардероб, мое же место на вешалке, точней, у стенки… не стыдно ли мне? – нет, как это ни странно… чего-чего, а попасть на крючок судьбы, случая или того, о чем не ведают сами «рыбачки», не стыдно… на крючке уже не до стыда, потому что боль за невинных разрывает сердце и душу острей, чем за себя… жалкости отведенной тебе роли – вот чего безумно стыдно… неприятно проигрывать, когда в банке не злато червонцев, а жизнь моя и милых мне людей свобода… и попрежнему невыносимо вспоминать постыдное разделение вполне мудацким умом настроений предреволюционных толп черни и интеллигентных кретинов, как и я, принимавших за «музыку революции» грохот говна, мочи и нечистот в трубах канализации всей страны, да в неумолкаемо урчавших брюхах красножопых гамандрилов, втыкавших штыки свои, свои клыки – в глаза, в мозги, в души… Господи, больше не к кому мне обратиться, я слаб, приоткрой хотя бы жалкий краешек неизвестности, нисколько никого не обезболивающей, но, как бы то ни было, объясняющей причины гнусно театрализованного бедствия, если не моего, то Екатерины Васильевны, Верочки, несчастной собаки… их-то за что и почему?.. ведь таких, как они – Ты же Всевидящ, Господи! – сотни тысяч, если не больше, на одной шестой части повсеместно обезумевшей суши, похоже, ставшей водами, мгновенно превратившими людей в планктон, медуз, раков-отшельников, летающих рыб, мальков, селедок, треску, севрюжек, семужек, китов, гигантских спрутов, морских ежей, электрических скатов, неистовых мече-молотовообразных акул НКВД, глотающих все, что в пасть попало…» – Очнитесь, Александр Владимирович… мне показалось, что вы дремлете… поверьте, это совершенно актуальный для вас момент… вам не плохо ли?.. лицо искажено какой-то мухой, извините, черт бы меня побрал, мукой… видимо, сие вина отзвука донесенной до меня беседы Куприна с Алексеем Толстым… тот спросил у неопохмелившегося возвращенца над чем он сейчас работает… Куприн мрачно ответил: «Пишу «Хождения под мухой»… глотните валерьянки с водицей – она колодезная с моего участка, местную водопроводную не пью. – Благодарю… если я и вздремнул, то без сновидений, с некоторых пор меня покинувших… думаю, это тот самый случай, когда, как говорит один мой знакомый, подсознанка пассует перед явью реализма действительной жизни, поэтому сия привередливая дама вынуждена отдохнуть в вашем санатории, извините уж и вы меня, имени Дзержинского. – Может быть, нитроглицеринчика? – Нет, нет, спасибо, я вполне соображаю что к чему. – Хотите часок-другой отдохнуть, а потом продолжим? – Благодарю, не помешало бы. – Дерьмо, как видите, почти вычерпано нашими золотариками и мною – такова наша работа… помещение дезинфицировано… подследственную сволочь готовят к очень важному допросу, на котором вы уж поприсутствуйте… я ведь держал вас здесь и держу не ради разделения со мной, не скрою, чисто садистического, но, согласитесь, закономерного удовольствия… неужели вы ничего такого не чувствовали?.. вы просто заслужили это зрелище – ведь оно могло вам всего лишь присниться… порадуйтесь хоть немного – так легче встать на ноги любому существу, только что подыхавшему, но вдруг ожившему… именно этого, именно инстинктивной животной радости, вызванной спасением жизни, как самому себе, я вам, Александр Владимирович, желаю. – Резоны сказанного вами понимаю, однако, прошу простить, зрелище не по мне… я ведь привык смотреть все больше в микроскоп, а на допросы – глаз бы мой единственный их не видел… мне бы вот, слабонервному инфантилу, хотелось узнать предельно краткое содержание следующего действия. – Удачно, очень удачно употреблено слово «резоны», пожалуй, с семнадцатого его не слышал, что странно, при этом вы в унисон отлично намекнули на нашу черную работу… не знаю, как вам, а мне в этом слове «резоны» послышалась, так сказать, резьба по живому… уверяю вас, эта падаль, этот мясник получил сполна все ему положенное и вскоре дополучит кое-что еще на очной ставке со своим не менее ублюдочным шефом… да, он получит все, что должны были получить и вы, и – берите повыше… так что ни преступления, ни наказания, следующие за ними, не должны стоять на месте, в силу поступательного движения истории – такова диалектика органов… возвратимся к вам: теоретическая, отчасти экспериментальная, словом, научная суть героического труда, как сообщили четверо взятых, затем круглосуточно проработавших референтов – это очень разные, но хорошо знакомые вам люди – сделана вами несмотря на травлю в НИИ, простите за выспренность выражения, умопомрачительно провидчески, главное, в одиночку, что есть, повторяю, геройство будней передового ума, травимого архаистами регресса науки… даже мне, профану в биологии и генетике, стало ясно, что практически вы стоите на пороге замечательно революционого открытия, чего не мог понять мясник Дерьмодень… а уж вот такого тупого зевка сама жизнь, разумеется я тоже, не простила ублюдку строительства социализма и просто последней мрази, являвшейся мандавошкой, внедренной разведками некоторых стран в систему НКВД… ваши коллеги дали подписку о неразглашении… подписка – подпиской, гляньте-ка в малявку вашего «одного знакомого»… я пока что отдам пару необходимых распоряжений своим людям.
А.В.Д. моментально просек, что это письмецо от него – от Димы!!!
«Друг ты мой дорогой, Саша, судьба такова, что все в ажур-тужуре, – хоть горлань и баритонь с эстрады «все хорошо, прекрасная маркиза, целую вас от верха и до низа»… но – шуткочки в сторону… паршивой сукой быть, ты спас мне жизнь, шкуру, главно, свободу, и сие далеко не сценическая реплика, но общеаккордный вопль сугубо душевной благодарности… Бог даст, встренемся с тобой и троекратно облобызаемся еще на этом свете, а не на том… вскоре поканаю на свободу, причем, с одной зубной щеткой, хранить которую буду до конца дней и завещаю потомству, если я его нарожаю, так как жизнь в искусстве тяжела и хлопотлива… из-за наколок придется уж вживаться лишь в роли людей полностью одетых буквально с ног до головы – что в королей и древнеримских Цезарей, что в секретарей обкомов и разной чугрени, не говоря о героях стаКановского движения, побивающих после выжирания трех граненых трудовые успехи людей трезвых и обстоятельных… днями поеду в Загорск, где поставлю свечи во здравие твое и твоей семьи со псом включительно… ни ты, ни я уже не позабудем до самой смертной минуты денечков-ноченек, спасительно проведенных вместе… приводи себя, дорогой друг, в порядок… все будет лучше, чем было, так как жизнь, повторяю, невыносимо тяжела не только на сцене… впрочем, где она легка – на луне что ли?.. обнимаю и надеюсь на встречу… это будет научно-фантастическое гулево, иначе я – не я, а четвертинка самогонки с обгунявленным горлышком».
«Очень важно не рассопливиться, не всплакнуть от радости, – подумал А.В.Д., – а с другой стороны, какого хера стыдиться подобных «мышек», «чушек»ч, даже слез и соплей, раз даны они нам специально для такого вот взлета момента жизни – с куриного насеста прямо в рязреженные воздуха высот?» – Через пару часов за вами снова придут, Александр Владимирович, непременно поезжайте в коляске… пусть люди возят, для этого их и держат в органах… сейчас скажу главное: выменять жену и дочь, причем, с собакой, на пятерых наших идиотов и гениев бездарных провалов – никакого не составит особого труда, тем более, новый нарком уже дал добро… он большой любитель передовых наук и технологий… это важный, хоть и формальный, плюс, что Екатерина Васильевна с Верой приглашены в гости, им есть где осесть, жить, в том числе и остаться, работать, ну и так далее – не волнуйтесь за них. – Не верю, – тихо произнес А.В.Д., лицо которого и ладони раскинутых рук, словно бы принимающих благодать, чудом ниспосылаемую свыше, выражали крайнюю степень изумления – слава Всевышнему, не на кресте страдания и смертных мук; он даже не отреагировал на многозначителные смыслы глагола «остаться», неслучайно употребленного теперь уже его шефом. – Со-понимаю, Александр Владимирович, со-испытываю – один к одному – те же самые ваши чувства и мысли, тем не менее, переговоры с одной из зарубежных служб должны закончиться с минуты на минуту… мы, поверьте уж, поторопились… пожалуй, впервые в жизни, на зависть самому Эйнштейну, мне удалось вместить массу дел в немыслимо короткий промежуток времени… между нами, если бы с такой «околосветовой» скоростью кое-что у нас строилось, то все мы жили бы в этом самом кое-чём, обожаемом, сами знаете кем, лет уже через пяток… он, кстати, не один – несть числа слепым фанатикам, лукавствующим шарлатанам соблазнительной передовой идеи и жрецам лучезарной мечты века… если бы нас слышали, – знаете, сколько бы мне ввинтили против часовой стрелки за все эти искренние высказывания?.. покажите на пальцах, хотя нас никто не слышит… ну что вы, какая там к чертовой матери решетка?.. ни о каком червонце не может быть и речи – только к стенке, я же не колхозник, рассказавший анекдот о Ленине и Троцком… короче, не знаю почему, но вам – вам я доверяю безоговорочно… пока что забудьте о своем – к моему и к вашему неправдоподно мистическому счастью – заведомо провальном блефе насчет контрольных ключей к сути научного открытия… их, насколько понимаю, у вас не было, нет, но верю, что вы сумеете превратить свою блистательную гипотезу в, так сказать, золотой ключик к некой истине… весьма надеюсь, что однажды добьетесь всего такого. – Правильней было бы сказать, что этого так или иначе добьется современная наука. – Согласен, и она, так же как преступления и наказания, не стоит на одном месте, а на всех парах несется к абсолютной истине… еще раз подчеркиваю – в генетике я ни дум-дум, ни тум-тум – но даже до меня дошло, что на «мировом ипподроме» ваше почти готовое открытие действительно идет к финишу крупов на пять впереди многих «паровозов» и головастых исследований, пришпориваемых многоучеными зарубежными жокеями… так что PER ASPERA AD ASTRA!, точней, пора работать, Александр Владимирович… главное, вы посрамили нашу разгулявшуюся нечисть, падаль эту, которую, к сожалению, уже невозможно вырубить до конца, как сорные кактусы в пустыне – они наползают и наползают на очищаемые от них земли… остальное – частности и детали прикладного характера, беседы о них начнем позже… скажу прямо: ваше «Дело 2109» должен был вести я… вам даже не пришлось бы блефовать… с помощью референтов я бы понял то, что вы уже сделали для науки как таковой, соответственно, для приоритета государства и могучей нашей Отчизны… и мы моментально приняли бы все ваши условия… для государства они – ничто, по-сравнению с огромным научным достижением… но, опять-таки к вашему и моему счастью, запутавшийся в вонючих своих интригах, как в собственных кишках, нарком – теперь уже бывший – передал ваше Дело тупому животному Дерьмоденю… иначе, не устану повторять, не было бы в живых ни вас, ни так называемого одного знакомого, ни меня, ни двух ваших коллег… вы догадаетесь кого именно, поскольку вскоре встретитесь… еще двое, разумеется говнюки, но без персонала такого рода вам не обойтись… а ведь я уже готовился к самому худшему, почистил «несчастье», как говорит тот же общий знакомый, охладил во льду поллитра, приготовил студень из телячьих ножек… приму, думаю, посошок на дорожку, закушу, и будьте вы все прокляты вместе со мною… вот и думай теперь о малопонятном круговороте добра и зла в природе общества да о каких-то алхимических, чисто случайных, поэтому неподвластных никаким законам той же природы, превращениях добра во зло и зла в добро… немного позже вас перевезут в квартирку, освобожденную нашим общим знакомым – ее прибирают, черт бы побрал его пьянки и постельные разгильдяйства… вот что еще: ваш разговор с семьей, по крайней мере, проблематичен до их прибытия к месту назначения… доверьтесь мне: лучше не торопиться, лучше не лезть на рожон к самому за санкцией насчет звонка… не хера искушать судьбу – она и без того милостива к вам и слишком уж расположена ко мне, так что, если б не вы, мне крышка… счет шел буквально на часы – их оставалось совсем чуток… хотел бы посвятить вас в волшебно простую, как это бывает, если уж везет, в видимую часть необыкновенно слаженного механизма случая… от такого рода слаженности устрашающе разит чуть ли не органическим происхождением, но, к сожалению, посвятить вас в нее не могу. – Я знаю, как это выглядело. – А.В.Д. быстро выложил Люциферу все им воображенное в камере, когда нервишки изматывала-выматывала неизвестность и он рисовал в уме ход дел, действительно происходивших в тот день, что отвлекало его существо от горестных переживаний. – Вы не ясновидящий ли? – спросил тот, потрясенный картиной откровения. – Наития бывали и раньше – я же ученый, но, к сожалению, в пятнадцатом я был слеп, как крот, и покинут не только ими, но и простейшими дедукциями, проще говоря, оболванен лукавым. – Зарубите себе на носу: ни одной живой душе – ни слова, иначе вас и меня – к стенке. – Молчать я умею. – Мне это известно… все-таки как себя чувствуете? – Не верю, просто не верю натурально остановившемуся и застывшему на месте мгновению, – на этот раз с юморком ответил А.В.Д. – Не верьте, не верьте – все могло сложиться иначе, но, как видите, образовывается вот так, а не эдак… но я даже вам советую осторожней следовать за ниточкой, тянущейся к непостигаемым истокам случившегося… кроме того, сие бесполезно – вы все равно упретесь не в начала, а либо в таинственные символы библейского мифа, либо в Дарвина, не говоря о великих прозрениях Лао-Цзы, Платона, Плотина и прочих мудрецов.
А.В.Д. ни с того, ни с сего откровенно поделился – не мог не поделиться – с разговорившимся начальством мыслями, недавно возносившими его над адски тяжкими обстоятельствами судьбы; с тех пор они навязчиво возникали в уме, хотя ему тоже следовало бы передохнуть, подобно остальным «внутренним органам»; однако он почему-то продолжал упрямствовать и явно торопился собрать все эти мысли в очень важные для него стройные размышления; даже не обращал внимание ни на скверну пыточных допросов, ни на боль, вообще отвлекавшую от жизни, ни на одну из настырных попыток нелюди искаверкать язык, разбожествить основы более или менее сносного миропорядка, долгими миллениумами выстраивававшегося нормальными людьми и выдающимися гениями России.
– Надолго, Люций Тимофеевич, не задержу, пардон, вынужден употребить сей неприятный для меня глагол, весьма почитаемый в этом, не скрою, зловещем здании… согласитесь, любой из здешних следователей, тем более прытких, очень заинтересован найти человека, идущего первым по начатому Делу, так?.. о методах нахождения вашими коллегами первовиновных лиц лучше не говорить… так вот, мне как человеку часто размышляющему о проблемах, либо научных, либо философских, тоже очень важно докопаться до основной причины исследуемого явления… надо сказать, что я еще в отрочестве задумывался о фигурах, часто встречавшихся в обыденной речи, в сказках, стихах, поэмах, естественно, в Библии, Евангелии, в работах богословов, на полотнах великих живописцев и так далее – о Боге я задумывался и о Дьяволе… ну с Богом было все в порядке, папа с мамой разъяснили, что Боженька, во-первых есть, во-вторых, Он, подобно Времени, является невидимой Силой, породившей, как мы знаем, Вселенную и с тех пор управляющая всеми порядками ее существования… но кто-такой Дьявол они не смогли объяснить – просто сказали, что надо подрасти и самому разобраться что к чему в этом настолько трудном вопросе, что, вероятно, ответ на него должен быть, как это случается в науке, невероятно очевидным и предельно простым… хотите верьте, хотите не верьте, но на днях, вроде бы находясь, если не во здравии, то в уме, я вспомнил необыкновенно проницательные слова великого Гиппократа о том, что мозг (разум) – только он! – является источником безумия и бреда, страхов и ужасов, которые нападают на нас и днем и ночью… изумленный мой ум буквально остолбенел от мысли мудрейшего из врачей, видимо, считавшегося античными философами специалистом только по телу, которого мало интересовали проблемы духа, психики и феноменологии… словом, прозрение Гиппократа вызвало в моем уме ослепительную догадку… и он, ум, недолго думая, задержал единственного подозреваемого… это был сам всемогущественный Разум… я решил обвинить во всемирно исторической афере и прочих злодействах его часть, некогда возмутившуюся и отпавшую, о чем символически и необыкновенно поэтично рассказано в Библии… я выложил на стол имевшиеся у меня улики и вкратце изложил несколько ошарашенному Разуму картину многотысячелетних преступлений его единокровной Части, считавшихся – это было ему наруку – нераскрываемыми… однажды, говорю, эта, всегда присутствующая в вас, соответственно в существах Адама и Евы, Часть, несмотря на ясность предостережения Создателя, еще в Раю самовольно сподобилась отпасть от вас лично… она с любопытством и удовольствием съела запретный плод, затем, будучи оттуда изнанной, хитроумно свалила свою вину на змееобразного так называемого Дьявола-искусителя и на изначально ни в чем не повинную Женщину и ее Мужчину… следствием установлено, что ваша Часть своевольно и блистательно подставила вместо себя Дьявола, а основную свою функцию наименовала Злом, ведущим вечную борьбу с Добром и якобы тоже являющимся свойством самого – на мой-то взгляд – совершенно беззлобного Творенья… в отличие, говорю Разуму, от вас, обвиняемый Дьявол никогда нигде не имел, не имеет, не может иметь ни постоянной работы, ни постоянного местожительства, по этой причине он никогда не существовал, не существует, не будет существовать… разрешите устроить очную ставку так называемого Дьявола с вами, безусловно, ничего не знавшим о причинах злодеяний, происходивших в присутствии Вашего Величества… вы – вне подозрений… происшедшее – есть человеческая трагикомедия… итак, гражданин Дьявол, он же Сатана, Чертила, Попутавший, Лукавый, Вельзевул, Князь Тьмы, Люцифер, и так далее – сознаетесь в том, что, фактически продолжая являться Частью, отпавшей от Разума, всегда находящегося в мозгах двуногих существ, вы с помощью вечно измышляемых вами богоборческих идей породили так называемое Зло которое успешно воплощали в различные злодейства, воплощаете в наши дни, будете воплощать и впредь до того часа, когда на вас, а также на Зло надвинется необратимый пиздец?.. простите, Люций Тимофеевич, я употребил это слово, так как слов выразительней не знаю… итак, я ждал ответа, но его не было, возможно, потому, что его и не могло быть… молчали и Разум и его беспутная Часть… тогда я спокойно произнес: к сожалению, господин Дьявол, вы вы временно свободны в силу двух могущественных обстоятельств, категорически исключающих:
1. Насильную изоляцию вас, преступной части Целого, от действительно Богоподобного Разума. 2. Приведение в исполнение расстрела – высшей меры исторически высоконравственной защиты биосферы планеты, Флоры, Фауны, человеческого рода – хочется верить, тоже временно невозможно из-за неразрешимости еще одной ужасной антиномии, а именно: ваш смертный час, к сожалению, моментально оказался бы смертным часом Целого, то есть Разума… прощайте же, грешная его Часть, досвидания, мадам, но не забывайте, что надвигающийся пиздец однажды надвинется – он неминуем, сколько бы вы ни выкаблучивались и как бы ни перекладывали Зло – присущую вам функцию – на подставленного вами Дьявола… вскоре Человек расколет вас, как говорит один мой друг, до самой жопы, а там вы и сами рассыпетесь… – Разумеется, знаменитый фантом сходу ушел в несознанку? – совершенно серьезно поинтересовался Шлагбаум. – Вы угадали… не знаю почему, мне захотелось поделиться с вами неожиданными для меня мыслями, довольно странно ни разу не посетившими мою башку на воле… а в тюрьме, до неузнаваемости измордовывающей любую личность, эти мысли, словно стайка бабочек, порхали надо мной, нежно припорашивая пыльцою нос, крылишками обвеивая заживающие ссадины… понять не могу, ошибаюсь или нет, – мне просто невдомек, почему современные фолософы продолжают дискутировать о природе Зла и всячески обмусоливать шарлатански поверхностный миф о Дьяволе, когда ключик к самому простому, подобному математической формуле, решению проблемы, мучающей человечество, лежит у них под носом да еще и поблескивает на солнышке… вот что меня бесит, если я, конечно, не ошибаюсь… а разве проникновенное наблюдение – «Сами не ведаете что творите» – не подсказывают где и в чем следует искать разгадку, пожалуй, самого легкого из мировых вопросов?.. как это ни странно, Человек обязан оправдать Дьявола, а вину за все до единого злодейства, происшедшие и происходящие в истории, необходимо полностью возложить на ту – обладающую авторитарной властью – часть своего собственного богоподобного разума, которая является почвой, неизменно способствующей существованию и разветвленному произрастанию на земле Зла… подобной способности производить его и выращивать, заметим, никогда не имела, не имеет, не будет иметь до конца дней ни одна из живых тварей, ибо Человек – только он один – всегда был носителем многотысячелетней болезни своего рода… следовательно, я являюсь соучастников одного исторического преступления, в чем признаюсь со всем чистодушием. – Буквально ошеломлен, – не сразу откликнулся Люций Тимофеевич, – сверхбезумие ваших мыслей свидетельствует, если верить физикам-теоретикам, о простоте конечной достоверности и достоверности конечной простоты… видимо, чем гипотезы блистатетельней, чем ближе они к истине, тем больше их в воздухе времени, а людей, способных воспринимать непривычные смыслы каких-либо откровений – становится на душутнаселения все меньше и меньше, как утверждал один мой подследственный… выдающимся он был поэтом, ничего не скажешь, но весьма неосторожным, крайне пылким человеком, чему виной – свободолюбие, неизменное правдоборчество и нескрываемая ненависть, сами понимаете, к кому именно… словом он, как сам писал, жил, не чуя под ногами страны, и, в отличие от многих, свысока плевал на инстинкт самосохранения, помогающий жовотным мгновенно реагировать на разного рода опасности… но на то он, согласитесь, и истинный поэт, чтобы жить в веках, а не ошиваться, заткнув рот, за сто первым километром… я ни в чем не мог ему помочь – пусть простит меня на том свете… пардон, за вами пришли, отдыхайте, но после передышки придется уж зайти к медикам – они вас перевяжут и всячески обследуют… потом – отличный обед, благодарю за беседу.
Сообщение о судьбе виликого поэта совершенно потрясло А.В.Д.; он нашел в себе силу и улыбнулся, ибо было бы некорректно никак не отреагировать ни на крайне крамольное – в этих-то застенках! – содержание разговора, мало вязавшегося с обликом, как бы то ни было, палача и высокопоставленного служаки, ни на известие о наверняка человеческом обеде; разговор удивлял еще и потому, что в последние годы даже философски и религиозно настроенные интеллектуалы, подавленные бешеным нахрапом беспросветно темного и жестокого безбожничества, начисто перестали вести захватывающе интересные дискуссии о «метафизике Начал и Концов»; да и само Имя Бога – вопреки всем непререкаемым законам и правилам Языка – тупая распоясавшаяся власть распорядилась или не упоминать вообще, или дозволять делать это крайне редко; при этом следовало печатать Имя Бога непременно с глумливенькой буковки «б», что, по мнению «никемов», ставших «всемами», полезно стирает в уме слепых безграмотных толп и без того стершееся от хождения по душам «населения в стране» архиреакционное понятие о Боженьке, жить по которому – что диверсантскую бомбу подложить под крепежные устои нового общества.
27
«Да, власть, идиотина, обезумела и продолжает безуметь, точь-в точь как ее «великий рулевой, кормчий и корифей всех наук»… он все-таки добил своего бесстрашного обидчика – добил… на месте несчастного поэта я сам себе пожелал бы как можно скорее подохнуть, чем видеть всю эту мелкую грязцу и мессиво кровавых костей в колесе… вот и увели поэта в ночь, где не течет никакой Енисей, где ни до одной из звездочек ни одна звезда не достает… Царствие ему Небесное» – А.В.Д. слегка припугнуло: подумав о том свете, он – опять-таки как в детстве – почувствовал предвосхищение некоего праздничного блаженства дня рождения кузена, каникул, поездки в Крым, экскурсии в зоопарк… он в тот же миг отнесся с брезгливой ненавистью к «институту», к тюрьме – к одному из самых отвратительно безобразных видов не то что непобедимого, но торжествующего на земле Зла.
Такого рода раздумья одолевали А.В.Д., когда его в той же каляске везли из весьма приличной медчасти по переходам лабиринта, полным не то что бы людей, а многоликих призраков зла и всех его жертв – арестантов, конвоиров и следователей; последние испытывали нескрываемое удовольствие от своего местонахождения и полусвободного, в сравнении с арестантским, обитания в мокрично серо-сукровичных стенах; словно гонимые хищными человекообразными птицами метались в спертой тюрьмосфере мертводушнго пространства арестантские муки, страхи, тревоги, сокрушенные надежды, бессонницы, невыносимые недоумения, лики неизбываемой тоски о былой жизни, о судьбе ближних – всего, что мучает, терзает, изводит каждого из арестантов в огромном каннибальском мясокомбинате; на физиях служак в форме и в штатском так и светилось нескрываемая упоенность благополучной устроенностью на фоне тиранического беспредела жестокого террора – чувство не свойственное ни одному из животных, но присутствующее только лишь людям, оказавшимся в самой гуще бедствия, причем, не природного, а человеческого происхождения; оно, это чувство сообщало даже низовым сотрудникам органов – ничтожно малой части всего населения СССР – постоянно радостную удовлетворенность своим положением, своей причастностью к царившему повсюду – не только в стенах тюрьмы – душку злорадствующей мстительности; этих людей согревала вроде бы прижизненная безнаказанность всесильных верховодов, сегодня ворочающих судьбами как абсолютно невинных жертв, так и деятелей, еще вчера виновных в их гибели, но не желающих быть перемешанными с ними в растущих горах безымянного пепла; о какая зависть к рядовым служащим Лубянки изводила только что испытанных – от слова «пытка» – бывших властителей, которых деловито волокли из камер на допросы и обратно; такие возникали в уме А.В.Д. абсурдные картинки «эпохи борьбы и побед», никогда не снившиеся ни Данте, ни Кафке ни в одном, как говорил Гойя, из снов разума, рождавших чудовищ.
«Невозможно, – подумалось А.В.Д., – не представить вразрез свисающее сверху до низу – сразу со всех межэтажных перекрытий, лестничных клеток, лифтовых шахт, балок, стен, подоконников – кровавое мессиво из человечьих ногтей, кожи, влас, мозгов, кишок, плоти, костей, дерьма, мочи и личных одежонок… за всем этим неописуемые – превосходящие все иезуитсткие – безобразия… лишний раз убеждаюсь, как глупо искать причину возникновения всего такого в наклонностях Творца всего сущего, или, если так можно выразиться, в нравах всегда жизнетворной Природы – сие начисто исключено – или в злонамеренности самого Бытия… вот уж чего, а глупости глупее этой – вообще не может быть на белом свете… только Разум, имеющий постоянную прописку в мозгу человека и ведущий всех нас черт знает куда, как гениально просто определил Гиппократ, есть организатор и вдохновитель не только побед добронравия над злодеяниями, но и злодеяний над добронравием, является единственной причиной существования на этой планете Зла – злых жизнеотношений, уродских условий общественного существования, всех видов абсурдности и т.д. и т.п… ведь не китов, не слонов, не собак обвинять во многомасшабной исторической афере, лукаво созданной одним из свойств Разума мифологической многовековой твердыне, пожалуй, основного нашего предрассудка… вот, собственно, и все… надо бы ничего не забыть, раз нет под руками ни карандашика, ни бумажки… и пусть эти более чем простые мысли навязчиво лезут в башку – пусть: они мне любезны, ибо прибавляют силы жить, желание изложить их в двух словах и как-нибудь перепулить на волю… это мой долг, а затем, затем вполне можно и помереть… главное, не забыть ход размышления… не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох да тюрьма, потому что здесь-и-сейчас может случиться все, что угодно… впоследствии необходимо обдумать все аспекты именно такого методологического подхода к, так сказать, установления местожительства обвиняемого Дьявола и происхождения Зла… что и открыло бы людям будущего возможность создать новую отрасль педагогической науки – науки, воспитывающей здраво осмысленное отношение поголовно всех младенцев с первых шагов их жизни на земле к каждому из феноменов двойственной природы человеческого разума… соответственно, природа Зла перестала бы быть непосильной для познания, а профилактика явлений, к примеру курения и наркомании, нынче кажущихся безумствами бессознательного и иррационального, стала бы такой же примитивной, как прививки против опасных заболеваний… в данный момент я, как бы то ни было, человек свободомыслящий, – вновь решительно отказываюсь соглашаться с общеизвестным, вроде бы аксиоматическим положением/наблюдением насчет того, что сны Разума рождают чудовищ… да, отказываюсь и смею утверждать: людской Разум продолжает рождать чудовищ не в снах своих, а исключительно наяву, к примеру, в здешних карантинах, камерах, переходах, кабинетах».
Сидя в каталке, А.В.Д. презирал отталкивающе низкую зависть слабосильной стороны своего ума к самодовольным физиономиям служащих, чувствующих себя в тюрьме, как на свободе; тем не менее, в минуты проезда по коридорам/переходам/лифтам, несмотря на полные отчаяния мысли, ему было и боязно и стыдно с упоением, опять же как в детстве, ликующе облизывать леденец петушка на шершавенькой палочке – облизывать необыкновенное счастье, то ли выпавшей по воле случая, то ли с неба свалившейся, удачи; и снова неверие в нее окатывало ведром нечистот его надежду на спасение любимых ближних; в его смятенном мозгу вновь возникали, никуда, оказывается, не исчезавшие, отвратительные страхи и страшки, от которых разило унынием и безысходностью: «а что если?»… «а вдруг?»… «а что за этим блефом кроется?»… «не до предела ли извращенно сие излавливание меня, перед тем как всех нас, жалких букашек, прихлопнуть к ебени матери?»
А.В.Д. снова не без удивления подумал о благотворности некоторых функций матерщины и о том, что ему, как новичку в игре, могло повезти, если б отряхнул он с ног своих ряд предвзятостей, и исследовательски вдумался в корни загадочного явления – явления несомненно, доисторического, языкового, явно коммуникационного, бытового, психологического, мифологического, карнавального, изначально культурного, временами спасительного, возможно, экзистенциального, как говорят новые философы… и оно, явление это, свило себе два гнезда, что неслучайно и весьма смешно, – прямо в наших детородных органах, само собой, в близких к ним телесных окрестностях. «Да будьте вы прокляты, шибко обкультуренные ханжи-псевдогуманисты, шло бы оно, все ваше ебаное отлакированное бездушье, в жопу – прочь от невинных ценностей наших жизней!» – А.В.Д. чуть было не выкрикнул вслух сию искреннюю тираду.
Судя по всему, надзиратель вез его в какую-то новую камеру; несколько раз он останавливался и резко поворачивал коляску, так что глаз А.В.Д., испытывавший непривычное одиночество, упирался в стенку; иногда служивый конвоир с потешной властностью гаркал: «Не сметь, говорю, зыркать по сторонам, не по зоопарку, небось, разъезжаешь»; тогда А.В.Д. расслаблялся и старался забыться; однажды он вздрогнул и замер; ему послышалось восклицание Димы: «Сучий потрох, забыл зубную щетку, а впрочем, хер с ней, с казенной щеткою, нам чужого не надо – на ворованное проживем… гы-гы-гы».
А.В.Д. растерялся, не зная как быть… пересеклись ли они?.. Димин это голос, или он ему почудился в чумоватом полузабытье, на здешних, неумолчно кишащих, муравьиных тропах? – думать и гадать было уже бесполезно. – Вертаем оглобли, тронулись дальше! – секунд через двадцать ворчливо гавкнул надзиратель.
«Вообще-то народ пришел сюда из растерзанных раскулачиванием деревенских глубинок, привалил прямо с осиротевших нив, сходу сделался, по-собачьи верной, гавкающей обслугой, довольной уже и тем, что это не ее черт знает куда ведут, а она кого-то ведет туда, куда врагу и дорога, – к стенке да на каторгу… впрочем, – решил А.В.Д., удивительно для себя пользуясь ранее ему чуждой и неприятной сквернословной речью, – хер бы с ним, с народом и с тем, что он думает о моем одноглазом вражеском мурле, якобы по заслугам огребшем положенное… пусть себе народ радуется и безмолвствует… да, да, положительно хер с ним – главное, что получена Димина малява насчет зубной щетки… будь я проклят даже за призрак гнусной в башке мысли о провокационности этой записки и о специально кем-то заделанной, если не примерещившейся, встрече… это нервишки пошаливают, нервишки – они, злоебитская их сила… невообразимо – именно эти два слова «зубная щетка» воспринимаю как важнейшие и знаменательнейшие в своей жизни слова, а великие слова «покой и воля» забыты, словно не вымолвил их Пушкин в одно из счастливейших мгновений своей жизни… собственно, содержательней и чудесней двух Диминых слов просто не было у меня, нет и, видимо, никогда уже не будет, хотя бы потому, что в них – обещание свободы и жизни моих любимых и моего друга… несмотря ни на что, как не думать, как не сознавать, как не изумляться тому, что даже в общей жизни, созданной подоночной утопией, случаются, к сожалению крайне редко, непредсказуемые чудеса и удачи… о, Господи, сделай так, чтобы два слова – зубная щетка – несли в себе тот знак, тот перст указующий, что заключен в них… пусть они будут поэтическими словами, забывшими о своем изначально бытовом назначении, но чудом приобщенными к высочайшим для Кати, Верочки, Гена и Димы смыслам… мечтаю встать на колени – благодарно поклониться небесам, молитвам моим внявшим, и всем нашим ангелам-хранителям… помоги, Господи, очутиться на свободе моим родным, моим единственным, моим драгоценным, лишь бы чистили они зубки щеточками своими зубными, лишь бы жили-не тужили, а я сам – да я в любую минуту готов предстать пред Судом Твоим с отчетом о своей личной вине… что касается «скверных» слов, впервые в жизни мною употребляемых, то тут, благодаря Диме, вот что до меня дошло: в Божественном Языке нет и не может быть слов скверных, разве что кроме тех, которыми люди продолжают называть каждую вещь, каждое явление из несметных сумм всего непотребного, порочно ими же произведенного и продолжающего создаваться с дьявольской скоростью… к примеру, «истребитель», «бомбардировщик», «артилерия», «миноносец», «убийца» «отравляющие вещества», «пулемет», «револьвер», «террор», «высокое искусство ведения войн», «работники секции львов и тигров взяли на себя торжественное обязательство»… эдак вот с горя затоскуешь и поневоле возопишь: не пора ли всех нас, Господи, остановить, если не возвратить на круги своя, чтобы в подлунном мире – не только в первозданном Божественном Языке – не имелось, как в блаженные, в далекие, в стародавние времена, ничего лишнего – ни молекулы, ни микроба, ни растения, ни живого существа, главное, ничего человеческого и массы ненужных вещей, ныне перегрузивших цивилизацию, которую вся эта вредоносная труха нелепо тянет в тартарары?.. а что будет через век?.. нет, судя по всему, мы еще не дошли до самой ручки, но однажды дойдем, ибо движемся с неслыханным ускорением, как это ни странно, идущим бок-о-бок с общей дегенерацией, а уж всемирная пошлость, рожденная ею, с безумным удовольствием вытаптывает саженцы Преображения, прижившиеся к благодатным, унавоженным бог знает какими гениальными достижениями, открытиями, искусствами, муками, страданиями, бедствиями Человека… в лабиринто-безобразном террариуме тюрьмы грешно философствовать, особенно ученому, но ведь именно здесь становится особенно очевидным парадоксальнейший факт: за тысячелетия человек вымахал в великана, продолжает становиться все выше и выше, а человечество все тупеет и тупет, как это ни странно, превращаясь в тупо же модернизируемое, самоуничтожающееся стадобище-уебище-стыдобище, теряющее основные природные и исторически нравственные инстинкты – самосохранения, совести, красоты и достоинства искусств».
28
Арестанта, думавшего о том о сем, долго везли по длинным коридорам Лубянки – с лифта на лифт, с этажа на этаж – пока он не увидел впереди что-то похожее на интерьер прихожей гостиничного типа; мельком отметил внимательным, глазеющим за двоих, оком, что на стенах, между прочим, не мазня, а пейзажи Левитана, Поленова, кажется, Крамского, похожие на волшебные иллюминаторы-окошечки в дивный мир, граничащий со здешней гееной зловонной; по углам – пара китайских, расписных, светло бирюзовых, необыкновенно женственных ваз, вызывающих, черт бы их побрал, не совсем, оказывается, забытое известное чувство… так что тянет нежно провести верхом ладони по краям их горлышек, по волнующим округлостям… боже мой, боже мой, и в вазах бобровой пылью серебрятся темнокоричневые камыши; А.В.Д. неожиданно показалось, что он, чудом выбравшись из удушливого зловонья и теперь поэтому всеми жаждами томим, припадает прямо иссушенными легкими к чистому спасительному составу драгоценной воздушной смеси, в которой поблескивают пылинки пушкинских слов и ямбических интонаций.
– Когда отворю дверь, быстро входи, не топчись, хули тут думать, ебена мать, когда такая тебе выпала планида, понимаешь, обормотка-самокрутка… саму ее прихлопни, дуру, дверь-то, а там ишшо разберешься что – для бабы отмычина, что – судьбе зуботычина, а каталка – она всегда для поездок туды-сюды, иногда, сам знаешь, только туды, – сказал совершенно безликий, с чего-то вдруг разговорившийся надзиратель-конвоир.
Посреди, окружавшей любого из арестантов, адской скуки, тесноты, темноты и тупиковой, тюремной, невыносимо бездушной регламентарности, А.В.Д., необыкновенно чуткий к самым что ни на есть малейшим проявлениям живой жизни, воспринял – в составе воздуха, в крошке хлеба, в глотке воды, в добрых услугах бинта, йода, таблетки, камерной параши, в мелькнувших мыслях, в тоске, корябнувшей по сердцу, в боли, напомнившей о необходимости продолжении существованья и долге выжить – выжить не для себя, но ради вызволения близких из гнусных клоак подземной лубянской жижи – словом, воспринял А.В.Д. в словах надзирателя, явно ведуемую только его забитой душе, неповинной ни в одном из земных грехов, невольную вину за все происходящее вокруг и бессознательно робкую просьбу человека, мелкого исполнителя злодейств, о некотором извинении.
Еще до приближения к двери, обитой кожей точно так же, как в квартире знакомого академика, А.В.Д. замер; на этот раз он снова не поверил: ушам своим; до него донесся приглушенный – ясно что стальной массивной дверью – неправдоподобно знакомый, бешеный собачий лай; надзиратель втолкнул онемевшего арестанта в помещение и быстро захлопнул дверь; А.В.Д. был мгновенно повержен на пол лапами мохнатого сильного тела, лаем, визгом, тем неуемным облизыванием, не дает которое ни опомниться, ни вздохнуть, – бурей собачьих чувств, выражаемых так и эдак, чувств, перепутанных с его собственными, чувств взбаломошных и радостных; несчастный Ген, ни за что ни про что втянутый в проказу чумных человеческих дел, совсем было обезумел из-за полного непонимания бедственного происшествия, страдал, разлученный с любимым хозяином – со своим Вседержителем – и вот уже он и его бог, плача и смеясь, валяются на полу, заключив друг друга в восторженные объятия; они осчастливлены нежданной встречей – в шагу от геены адской, лишенной всех божественных стихий, включая огненную; главное, оба – пока что еще на Земле, вроде бы сорвавшейся со своей безупречно работающей оси, но вдруг либо самолично решившей вернуться на старое доброе место, либо силком туда возвращенной ангелами вселенской гравитации, – прямо в родимое стойло на одной из окраин Солнечной системы.
На кухне прибранной квартирки, словно бы начисто забывшей о прежнем постояльце, о Диме, первозданный порядок; на сковороде и в кастрюльке еще тепла была жратва, что говорило А.В.Д. о небольшой победе мирового порядка над энтропией, враждебные вихри которой веяли в замкнутых тюремных пространствах; он по-братски поделился с Геном всякой вкуснотищей; за стол не садился – оба ели прямо на полу и изредка поглядывали друг на друга; им нравилось без конца убеждаться в реальности происходящего, которое то и дело начинало казаться примерещившимся, оттого и замечательно удивительным; жратва была «домашней» – немыслимо прекрасной и простой: суточные, отлично дошедшие, как люди в парилке, щи со свининой, рыбные котлетки с гречкой и компот, которым А.В.Д. на всякий случай не поделился с Геном; «Пса может понести в середине ночи от чернослива и прочих сухофруктов – кто выведет его тогда на клумбу в центре площади, Сидор Поликарпыч, как сказал бы Дима?»
Странное дело, налопавшись, Ген по-лидерски тыкнул носом в руку А.В.Д., словно бы говоря: «Послушай, ты устал, лица на тебе нет, поспи немного, я тоже подрыхну, меня самого вот-вот с ног свалит».
А.В.Д., ни секунды не раздумывая и вообще отмахнувшись от каких бы то ни было мыслей, завалился на подоспевший откуда-то диван, разрешил Гену устроиться у себя в ногах и даже не успел ни учуять, ни понять мгновения благословенного провала в сон.
Разбудил его нервозным, несколько огрубевшим в дни заключения и одичания лаем, Ген: он почуял приход чужих; кости ныли, позвоночник не желал разгибаться, но А.В.Д., взглядом попросив пса помолчать, поперся к двери; пришедшим оказался Шлагбаум, которого больше не хотелось называть Люцифером, видимо, из-за явного превосходства в его личности, как бы то ни было, человеческого над «грязно дьявольским»; Ген ворчливо и быстро его обнюхал, затем вежливо дал понять, что все в порядке: «Будьте, сударь, как дома, пока я в гостях». – Вы правильно сделали, Александр Владимирович, слегка вздремнув, а мне вот за сутки удалось урвать всего часа четыре, как Наполеону, но и то слава богу… лучше уж такая вот закономерная бессонница, чем несвоевременно вековечная крышка… предлагаю пригубить по полстакашка коняка и по дороге поболтать о делах. – Стоящее занятие, я вот только, с вашего позволения, сполосну физиономию. – Отлично, я пока что накрою стол. – Эту личность ничем не угощайте, впрочем, он и сам не возьмет… кстати, его бы не мешало вывести – видите, вильнул хвостом? – Это проще простого. – Безмерно благодарен за встречу с псом и, поверьте, глубоко тронут. – Понимаю, я сам собачник.
Умываясь, А.В.Д. постарался быстренько привести в порядок разноречивые чувства и мысли, дотошно разобраться в которых было бы недосуг; раздумья не отвлекали его от смотрения в зеркало на свои неузнаваемо изменившиеся мордасы: «кутузовская» перевязь, фингалы, вспухшие губищи, проблеск седины в арестантском ежике волос; наоборот, отсутствие размышлений помогало суеверно смирять радость, вызванную каким-то совершенно невероятным волшебством обстоятельств места и времени, времни и места.
«И все же, – с досадой подумал он, никак не может русский человек сделаться вдруг йогом и начисто унять сознание, то есть вытащить себя из болота за остаток волос… а зря не может… иначе – болтался бы, когда следует, не в пьяни, не в рвани, а в нирване на диване, потом вновь выбрался бы к прелестям действительности и, возможно, более мудро взглянул бы на положение вещей, а также на свое отношение к непреходящим ценностям существования… что ж, пьеска пусть себе идет – мне следует соответствовать непредвиденным перипетиям ее сюжета… но как молниеносно расчитывать варианты действий, когда башка трещит, а страхи измочаливают душу, – как?.. все, А.В.Д., все – чтобы не обезуметь, немедленно расслабься и положись исключительно на Волю Божью, чтобы быть твоей судьбе такой, какой суждено ей быть».
29
– Я вот за что предлагаю ляпнуть-тяпнуть, Александр Владимирович, тьфу-тьфу, не сглазить бы, – за наше, благодаря именно вам, спасение… отлично пошла… закусывайте, тут все свеженькое – даже ростовские раки, а вот – наше жигулевское, которое, кстати-то, не хуже, если не лучше, мюнхенского… хотя не уверен, что, кажущаяся кое-кому неизбежной, победа над фюрером в будущей неминуемой войне поможет нам создать столь же совершенную цивилизацию как немецкая… как вы думаете, война будет? – Уверен, верней, я просто вижу, как она начинается году в сорок пером, но до нее Россию ждет неразумная прелюдия к бойне с фюрером: чисто блефовый договор, мир, дружба, снабжение фашизма стратегическим сырьем и продуктами… ваша немецкая, достаточно двусмысленная фамилия Шлагбаум временно будет в почете, но потом остерегитесь, не сглупите, вовремя валите из этой фабрики убийств хотя бы в сумасшедший дом… ибо завяжется смертельно опасная игра Черчилля, в паре с Рузвельтом, со Сталиным и Гитлером не на жизнь, а на смерть, весьма похожая на ту, что обожали пираты… играли, скажем, вчетвером, каждый друг другу враг… обвязывали так называемые муде веревками, потом продевали оные веревки в дырку стола, судья командовал: все наверх!.. выигрывал пират, каким-то образом успевавший раньше всех наугад выбрать исключительно свою веревку и дернуть ее вместе с чужими – и пусть соперники воют от злобы и боли… в этой рискованной игре хватало и болезненных вариантов, и смехотворных… это была хорошая школа ненавистного, но и уважительного отношения к себе, к случаю, к рискованной игре… словом, Черчилль будет втянут в игру с обоими маньяками, ошалевшими от своих сумасбродных бесноватых идей, но его неприлично подставит заокеанский лидер… Рузвельт схватит за хвост огромный куш в Европе, одновременно вляпает свою Америку в кучу политики, расхлебывать которую придется лет сорок… России же все следующее столетие не расхлебать своей революции, сталинщины и гибели в бойне миллионов генетически превосходных, во всех отношениях профессиональных и культурных личностей… это будет неслыханная, небывалая в истории чудовищная бойня… она закончится победой союзников – Америки, Англии и России, причем, Сталин немедленно станет противником Запада… параноики, знаете ли, никак не могут жить без врагов и преследователей – они их ежедневная пища… повторно советую вам при первой же возможности рвать отсюда когти за бугор, как говорит один наш общий знакомый… сами знаете, какие именно у вас возникнут серьезные проблемы, если легкомысленно отнесетесь к сказанному.
– Не могу – не в состоянии вообразить дружбу самого с фюрером, ясно изложившим свои стратегические цели – извините, подобное содружество непредставимо. – Это будет не содружеством, а частью не такой уж и сложной военно-геополитической игры… поверьте, она непременно закончится усилением СССР, который, не остыв от бойни, шагнет в эпоху рабства нового вида, новых арестов, новых агиткомпаний, выматывающих душу и силы народа. – Поживем – увидим… в любом случае ваше предупреждение намотаю на ус, но до тех времен еще далеко, тем более, если считаешь удавшимся каждый прожитый день жизни… ляпнем пока что за наше спасение – если б не вы, то мы оба маялись бы сейчас в камерах и молили Всевидящего о мгновенной смерти… промолчу уж о ваших близких… в жизни произошло то же, что в вашей биологии, точней, в генетике: идей носилось в воздухе полным-полно, а вот одну ее – одну! – основополагающую, вполне созревшую идею, ведущую науку в новую эру, так сказать, оформляет, формулирует, еще точней, снимает с древа познания добра, разумеется и зла, всего один человек, к примеру, вы – разве не так?.. разрешите повторить: без вас всем нам карячилась даже не крышка камерной параши, а братская могила, если не общая пепельница. – Благодарю за комплимент, будем здоровы – отлично проскользнула… вы знаете, – просто больше нет у сердца сил не угостить пса постной ветчинкой… клюй, милый мой, клюй… скажи дяде спасибо… молодец… в науке, Люций Тимофеевич, тоже, как и у вас тут, можно пойти первым по общему делу группы ученых, но мне, поверьте, сегодня не до эмоций насчет первенства и своей крайней близости к причинам происшедшего… меня больше волнует и интересует лишь одно из следствий, само собой, не предварительное, а окончательное. – Отлично вас понял, наливаю еше по одной и – стоп… мне и вам необходимо присутствовать на последнем допросе Дерьмоденя… ну, приняли… а глаз – что ж глаз?.. закажем протез в Италии, это родина великолепного, лучшего, считаю я, в мире дизайна… ваш единственный еще позавидует второму, искусственному – шучу… раки прекрасны, как показал, простите, написал великий Державин… дело ваших близких на мази – остались какие-то чисто технические моменты… например, Екатерина Васильевна и ваша дочь отказываются уезжать без главы семьи и собаки… понятное дело, насильно выдворить их из страны было бы легко, но – доверьтесь мне – лучше бы вам распорядиться по-мужски, так как им в любом случае необходимо рвануть отсюда когти… мы ведь живем не в Марианской впадине, не на вершине Эвереста, а в гуще самых невероятных непредсказуемостей, поэтому, на всякий случай, телефонный разговор исключен… я знаю нового наркома, он непременно ухватится именно за за нее – за просьбу о разрешении звякнуть, и тогда… поверьте, последствия могут быть весьма печальными для нас обоих… от любого из подозрений у патологически властолюбивого человека растут и растут аппетиты, утолить которые невозможно, к тому же каждое из подозрений размножается с колоссальной, постоянно увеличивающейся скоростью… считайте, что может надвинуться полный пиздец и планам и расчетам… хотите рискнуть?.. – Не хочу, ни в коем случае не хочу, я напишу жене и дочери записку. – Отлично, договорились, вот бумага и самописка «Эверест» – это приятное совпадение с только что упомянутой горной вершиной, не правда ли? – я вам ее дарю, сиречь самописку… но, но, но – никаких возражений, сие скромный знак благодарности… как говорит кое-кто, умеете брать людей – умейте выбивать из них показания и давать соответствующие наказания, а также поощрения и благодарности… пишите своим записку, заодно и решите проблему собаки… я бы на вашем месте с ней не расстался… вот и отлично, что согласны… вам обоим будет не так скучно… возможно, вашу маляву я им передам сам и спрошу, что именно хотели бы дамы захватить с собой: антиквариат?, книги?, что-нибудь из остающегося, близкого сердцу?.. давайте-ка жахнем по последней – за здоровье ваших… сейчас им намного лучше, правда, ваша квартира уже закономерно занята… не удивляйтесь, Александр Владимирович, многие никемы, ясное дело, всегда желают стать всемами, они не дремлят и, считая себя народом, не так уж безмолвствуют, как казалось великому Пушкину, в юбилейный комитет, связанный со столетием смерти которого, входил и я, покорный ваш слуга и должник… да, да, должник… основной свой вопрос задам позже, после прибытия ваших в Лондон, а то вы еще подумаете, что шантажирую, как это умел проделывать Дерьмодень… потом вот о чем разрешите вас спросить, поскольку готовлю доклад тому и туда, надеюсь, ясно кому и куда именно. – Слушаю, – сказал А.В.Д., лихорадочно прикидывая, не провокация ли кроется в постановке вопроса о судьбе собаки, потому что его решение о выезде Гена может быть сочтено за примету готовящейся научно-фантастической наебки НКВД, тогда как оставление его с собой – надежное свидетельство нежелания шулерствовать. – Если правильно понимаю, научная суть вашего исследования, тем более, масштабы революционного открытия, то есть ключа к возможной дешифровке генов, находящихся – простите мне необразованность – в какой-то кислоте каких-то хромосом, открывает массу новых возможностей и в медицине, так?.. скажем, рукотворное создание идентичной копии определенного человека, это что – действительно реальная, как вы пишете, штука? – Точно такая же реальная, как ужасно громоздкий прообраз подлодки, созданной провидческим воображением Жюль Верна… вспомним изобретения Леонардо, величайшего из гениев, ставшие технологическими чудесами через пять веков… не знаю уж, какая якобы не за горами у нас с вами, безответственно обещанная утопистами, светлая политэкономическая формации, но совершенно ясно, что недалек тот час, когда осуществится цепная ядерная реакция, то есть реализуются расчеты физиков-теоретиков, наших современников… естественно, под вашим руководством, как я предвижу… худо-бедно, но мы живем в эпоху революционных пребразований в науке и углубления различных знаний… к сожалению, нравственно-интеллектуальные цели этой эпохи неверно, более того, уродливо истолковываются идеологиями двух экстремально настроенных политических лидеров… я отвлекся от дела… мои теоретические исследования и почти что доказанное экспериментами открытие необыкновенно приближает решение проблемы многообразных прикладных значений оного. – Что значит «почти что»? – К примеру, меня как неисправимого генетика лишили допуска в лабораторию – к опытам, к новому сверхмощному микроскопу, а без всего такого я, считайте, без рук, иногда без башки… одни не понимают, что такое наука, другие, пользуясь ограниченностью мышления руководителей, душат генетику, передовые идеи математиков, физиков-теоретиков, кибернетиков, социологов и так далее… это – как отравлять мозг наркотиками вместо того, чтобы всячески поддерживать нелегкую в нем работу веществами, необходимыми для биохимических чудес… – Простите, прерву вас… такие действия мы называем вредительскими, ведь именно мозгу поручено постоянное координирование работы ума, рассудка, в конце-то концов, разума – ра-зу-ма! – который, к сожалению, часто ставит себя над интересами внутренних органов, что паршиво влияет на здоровье их сотрудников. – Вот именно, вот именно!.. в результате близоруких, немыслимо вульгарных манипуляций – куда ни глянь, государственный организм уже несет огромные потери, а в будущем ему – одной шестой части чуши, простите, суши – придется, скорей всего, воровать научно-технологические новшества за рубежом… шулерам от политики и аферистам от доктрин – это весьма по нраву.
Шлагбаум задумчиво произнес:
– Мн-да-с… хочешь-не хочешь, все равно поневоле решишь, что общественная система просвещенного рабовладельчества была налучшей из исторических систем… рабы занимались своими делами – ремесленными, крестьянскими и прочими – но трудились гораздо совестливей, чем полупьяный пролетариат, или те же колхозники – новые рабы, правда, теперь уже полностью отчужденного труда… граждане же древней Греции и Рима не лезли с лозунгами в занятия рабов, а двигали вперед философию, науку, ваяние, литературу, всячески развивали так называемое искусство ведения войн опять-таки с помощью многочисленных рабов… между нами девушками, создаваемая ныне, допустим в Неметчине, социально-общественная формация взяла от того древнего рабства все системные плюсы, при этом мощно дезодорировала минусы заведомо лживыми фюрерскими лозунгами, своеобразно понимаемым популистским национализмом и прочими нечистотами крикливо истеричной демагогии… плоды на лицо – за какие-то десять лет Германия стала – этнически, политически, идеологически, идеопоклонически и экономически – опасно спаянной военной державой, готовой покорить Европу… мн-да-с, Александр Владимирович, рабы древности не только никогда не совали сопатки не в свои дела, но зачастую за что-то там поощрялись и становились свободными, порою очень знаменитыми гражданами… сие вам известно лучше, чем мне… не задумываясь согласился бы совершить трансцензус – в вашей рукописи не раз повторяется это слово – и оказаться в рабской одеженке древних времен… со своими способностями я бы наверняка выбился в вольноотпущенники… вы случайно никогда не подумывали о создании машины времени? – Разве что в детстве… сейчас мои теоретические работы и кое-какие эксперименты, пожалуй, более реалистичны, чем фантастичны, а полвека назад многие люди, включая коллег, сочли бы их бредом безумца. – Короче говоря, надеюсь, работая с вами, поднатореть в азах науки – это во много раз интересней и, мягко говоря, спокойней… откровенные дамы уже сейчас дают мне лет на двадцать больше, чем имею за плечами – вот что такое работа на износ… нарком – явно по согласованию с кое-кем, – назначает меня руководителем сверхсекретного исследовательского центра НКВД… биологи, физики, химики и конструкторы будут работать отдельно, не встречаясь друг с другом, как того пожелали в верхах… скажу сразу, я впервые за долгие годы всецело и во всем вам доверяю… хотел бы видеть вас человеком, взявшим на себя научное руководство сектором, начавшим заниматься решением назревших проблем молекулярной биологии… скажу сразу: есть данные разведки, что вашей персоной, соответственно и работами, крайне заинтересованы за рубежом… вы правильно сделали, что спасительно для своей судьбы и положения ближних повременили с публикацией статьи в центровом журнале, тем самым не дав козырей грязным лапам арестованного ублюдка… забыли об этом… позже прошу представить мне обдуманный проект необходимой технической – на высшем уровне современных достижений – оснащенности лабораторий вашего сектора… научно-фантастически описанный вами сверхмощный Трансцедентал, с подачи наркома, ужасно захватил кое-кого, но он, Трансцедентал, призванный воскрешать ту или иную личность, достойную воскрешения, насколько я понимаю, дело далекого будущего, а вас ждут дела насущные… замечаете, с какой скоростью решаются у нас некоторые проблемы?.. к примеру, провидческий «Гиперболоид инженера Гарина» вскоре перестанет быть гипотетичной фиговиной. – Честно говоря радуюсь, что власть – к сожалению, исключительно сверхсекретным образом – начинает раскусывать суть порочных отношения вульгарных агитпроповских тупиц к передовым проблемам, в моем случае, микробиологии и генетики… в остальном нисколько не удивлен: политические цели, не говоря о всегда важной для власти проблеме государственного престижа, напрямую зависят в наше время от вышеупомянутых ученых, конструкторов и прочих специалистов… понимаю так же, что в организационном смысле это будет сверхзакрытый концентрационный научный центр. – Ничего не поделаешь, именно так… это следствие не просто чьей-то параноической подозрительности или маниакальной тяги к засекречиванию всего и вся, а, смею утверждать, плоды натурального страха перед военным и промышленным шпионажем, а также огромными гонорарами для некоторых спецов, особенно полунищих, всегда готовых схлямзить у государства ту или иную тайну науки, изобретение, инженерное решение, химическую формулу и так далее… конечно, паранойя – это всесоюзная зараза, особенно, в условиях слепого – сломя голову – умозрительного броска вперед, неведомо куда, но не в стихию нормальной, как в иных процветающих странах, человеческой жизнедеятельности… вот страна и соответствовует якобы всемирной идее свободы, равенства и братства, диктуемой армией идеологов-агитпроповцев – это строго между нами… понимаю, вам более чем странно все это выслушивать, но абсолютно вам доверяя, скажу так: я уже лет восемнадцать тайно презираю, тайно ненавижу и себя и проповедников светлого будущего, зажравшихся до заворота кишок… как руководитель проекта, всерьез надеюсь, что не за горами тот день, когда мы существенно смягчим жесткость организационной структуры нашего научного центра – таковая жесткость весьма пагубна для исправно действующей работы любой из государственных систем. – Боюсь, что речь должна идти не меньше, чем о полувеке… насчет видов исторического содержания этого долгого срока я уж умолчу, да и, ручаюсь, – не доживу я до них, не доживу… к тому же – впереди дикая бойня, которая ухудшит генотип самого многочисленного в империи русского народа и на долгие годы задержит приход нормальных условий жизни, разумеется, не номенклатуры и придурков, а рядовых трудящихся – вот в чем беда. – Так или иначе, я ведь тоже окажусь в закрытке почти в таком же положении, как вся наша небольшая «Академия Наук»… собственно, у вас есть время всерьез обдумать мое предложение. А.В.Д. внезапно рассмеялся. – Согласитесь, ваше замечание – это как если бы председатель ревтрибунала сказал: «Выбирайте, Доброво, приговор: высшая мера наказания, или десять лет по рогам, пять по ногам, пять по рукам»… так что никаких обдумываний – я буду рад жизни, занятиям наукой, дружбой с псом – мои поймут это желание – что и скрасит разлуку с семьей… вы только взгляните на Гена, взгляните! – Никогда не сомневался, что умные собаки чуют многое гораздо тоньше человека… вам с Геном будет действительно веселее трудиться в науке, жить на лоне природы – леса, река, озера, спецгородок уже отгрохан контингентом строителей, установивших мировой рекорд скорости возведения научных учреждений, так как имели трудовые зачеты, почти все уже освобождены и назначены на руководящие должности… Александр Владимирович, я ведь очень старый собачник… с любыми вопросами работы и быта обращайтесь только ко мне, естественно, не забывайте о режиме секретности… строго цензурируемая переписка – два раза в месяц и только с семьей… пардон, с этим придется смириться не только вам, но и вашим коллегам… список их составлю сам, чтобы не поручать вам это довольно двусмысленное дело… с сегодняшнего дня вы с коллегами считаетесь не арестованными врагами народа, а людьми, формально осужденными к минимальным пяти годам по статье 58 У.К РСФСР, часть десять, в чем позже распишетесь… не сомневаюсь, что арестованные ученые разных возрастов буквально зааплодируют, когда им сообщат о работе в закрытом научном центре… я и сам зааплодировал бы… общение с коллегами разнообразит ваши будни… что добавите?.. – Ну что я могу добвить?.. для моих – это судьба, для меня тоже… буду ей следовать и считать себя счастливчиком… наука – тоже часть моей жизни… теперь уже большая, чем все остальное.
А.В.Д. чуть было не брякнул, что имеет одно условие: он ни в коем случае не примет участие в исследованиях, хоть как-то связанных со способами ведения бактериологической войны или химической… я, мол, в этих проблемах, извините, вообще ни дум-дум, ни тум-тум; однако он удержался, промолчал, вовремя сообразил, что иногда опережение удачного события ведет к преждевременному выкидышу оного. – О будущем говорить бестолку – во-первых, мы не мальчики, во-вторых, неизвестно, каким госпожа История изволит капризно двинуть плечиком… вам требуются неотложные услуги медиков? – Спасибо, вполне хватает регулярных перевязок, уколов пары витаминов и прочих дел. – Мне желательно ваше непременное присутствие на последнем допросе – он будет короток… Дерьмо свое уже получил, точней, полностью испытал на своей шкуре, не забывайте, что было бы и с нами при ином раскладе дел… не возражаете? – Это предоставление свободного выбора? – Безусловно. – Я готов, вызывайте «извозчика».
30
Распорядившись по телефону Шлагбаум ушел; А.В.Д., ненавидя клички, вновь почувствовал, что произносить «Люцифер» он больше не сможет даже про себя; и не потому что неглупый Шлагбаум сделался добрей и чище, чем был; просто имя есть имя – оно лучше человека чует: пристать ему навек к чему-либо/к кому-либо, или не пристать… и отлучить его от родного пристанища можно только насильно или из-за нелепой лицедейской любви к кличкам, как это обожали делать вождистские и прочие высокопоставленные нетопырские рыла, демоны перенаименований, творцы презренных плебйских мифов; дожидаясь надзирателя, А.В.Д. повозился с Геном, приласкал бедного пса порядком травмированного внезапным бедствием, успокоил, постарался снять нервозную тревогу с весьма чувствительной психики собачьей, заодно уж и внушить любимому существу необходимую уверенность в сегодняшнем дне, во дне завтрашнем, заключающем в себе прежнюю беззаботность и радость совестливо служить обожаемому человеку; почувствовал, что Ген, искоса поглядывая на заметно изменившуюся внешность хозяина, проникся его неплохим настроением и тоже уверовал, что все будет в порядке.
А.В.Д, все обдумывал и обдумывал странности не такого уж случайного, тем не менее, сказочно удачного оборота событий, но не решался твердо поверить в самый замечательный смысл случившегося – в близость яви, вот-вот готовой произойти – стать спасительной для жены и дочери; он был настолько рад пожертвовать ради них свободой – если нужно, самой жизнью – что относился к ситуации, всем сердцем желаемой, как к счастливейшей из всех воплощенных в жизнь возможностей; и все равно не чувствовал в себе ни сил, ни дара представить совершенный образ такой вот невероятной, выглядящей бекоризненно случайной, удачи.
Надзиратель – это был новый человек, более молодой, чем прежний, – явился, оказывается, для выгулки Гена; А.В.Д., как мог, разъяснил встревоженному псу, что все в порядке, милый мой, – в порядке – не беспокойся, сходи отлей, отбомбись и жди меня.
Ген вильнул хвостом и заспешил к дверям – он быстро врубался в смыслы и настроения пояснений.
Вообще, наблюдая за псом, А.В.Д. не мог не подумать о загадочности собачьей психики, о тех ужасах, которые Гену пришлось претерпевать до сегодняшнего дня: какой-то вихрь развеял всю их дружную стаю, исчез хозяин, мерзкие двуногие грубы и жестоки, буду лаять до хрипоты, потом помру… успокаивая кругообразным движением ладони остро занывшее сердце, А.В.Д. вспоминал, как Ген, учуяв его за дверью, потом бросился лапами на грудь – вылизывал израненное и избитое лицо и, должно быть, полагал, что все случившееся было кошмарным сном… если не так, то как иначе осознавать реальность существу претерпевшему черт знает что, но не одаренному абстрактным мышлением и способностью соотнесения следствий с причинами, – как после всего такого жить и, собственно говоря, решать: быть или не быть?.. наверняка, он должен обладать способностью возобновлять, если не похеривать в памяти картины происшедшего… кроме того, психика собаки, пережившей нечто немыслимое даже для человека, вряд ли осталась безразличной к беде, неожиданно свалившейся на плечи, на душу… не мог же Ген счесть чертовщину настояшего времени за приснившуюся только потому, что ею никогда не попахивало в прошлом?.. судя по безумной радости пса, собачья психика не останется травмированной на всю жизнь, что страшное ранение всего ее существа заживет, забудется… все же эта живая и любимая моя тварь – не человек, который сходит иногда с ума из-за трижды проклятущей неспособности избавиться от прошлого, мешающей даже мысленно приспособиться к возможной жизни в будущем… в отличие от животных, человек умеет отказываться от жизни вообще – столь сильным оказывается его нежелание существовать, безукоризненно выполняя природные обязанности и свято – до конца дней – отстаивая свои природные права…
Вскоре А.В.Д. снова доставили в знакомый кабинет; собравшись с духом, он уселся в то же кресло и, вспомнив былой совет одного своего знакомого, выдающегося паталогоанатома, насчет усмирения всех пяти человеческих чувств, изводящих новичка при вскрытии трупа, приготовился – ничего не поделаешь – к неприятному зрелищу; к нему уже полностью была готова киногруппа, в составе оператора, очень бледного режиссера, знакомого по фоткам в газетенках, не перестававшего сосать сердечную таблетку, и осветителя, на темносиреневой физии которого ярко сияло всего одно желание – поскорей надраться, закусить, а там и на полшишки засадить. Сначала Шлагбаум не без галантности попросил все ту же стенографистку «посинхронней переводить цинизмы и грубизмы в официальные определения, или решительно опускать их вообще». ШЛАГБАУМ. Начали съемку!.. кто еще, гражданин Дребедень, кроме вас и бывшего наркома, принимал на допросе подследственных врагов народа и свидетелей активное, а также пассивное участие в противозаконных ночных оргиях, компрометирующих положения партии и правительства относительно объективно положительных и исторически необходимых психофизических воздействиях? ДРЕБЕДЕНЬ. Никто так уж особенно не активничал и не пассивничал, а когда воздействовали, то исключительно в рамках этой самой необходимости… присутствовали мы оба, то есть всесторонний пидарас Ежов и я, затем начальник второго отдела, директор ГУМа, охочий до допросов, замнаркома заготовок с нерусской фамилией, какой-то из краснознаменного ансамбля песни и пляски, который, танцуя вприсядку поставил мировой рекорд по числу неотрывных приседаний на пол, что привело к вызову санчасти при выпадении, кажется его прямого аппендикса толстой кишки… кроме того, были молодой генерал-лейтенант бронетанковых войск, кто-то из «Веселых ребят» Леонида Утесова, ну и два любимых клоуна Ежова, привезенные по его приказу с Колымы, тоже пидарасы, причем близнецы, Пиф и Паф… мы только аплодировали, провозглашали здравицу в честь дрессуры цирка, а потом уж реагировали… разрешите чистосердечно разрыдаться? ШЛАГБАУМ. Вы обросли ложью с ног до головы… никаких вам рыданий!.. не вздумайте ссать, то есть мочиться в галифе!.. продолжать! ДРЕБЕДЕНЬ. Был там еще пассивный кинооператор из подследственных, но сразу же после съемки расстрелян, поскольку нарушил подписку о нераглашении секретных мероприятий в разговоре с врачихой санчасти… само собой, имелись пьяные осветители, знаменитый писатель, фамилию забыл, должно расстрелян, ну и дрессировщик диких животных Дуров, включая сюда домашнюю свинью, а других не помню на фамилии и лица в виду аффекта отшиба памяти. ШЛАГБАУМ. Подпишите дополнительную ответственность за дачу ложных показаний и соответствующий протокол… отвечать точно, лаконично, что по-русски, гражданин Дребедень, означает «коротко»… имя собаки – подчеркнуть ее породу – ранее переданной невольному свидетелю Дурову резидентом датской разведки, коварно работавшим на вешалке МХАТа, фотографируя театрально шпионским биноклем кандидатов в завербованные лица будущих шпионов и диверсантов?.. имя, я сказал! ДРЕБЕДЕНЬ. Договское имя было Доди, в честь, выходит дело, всенародных писателей Достоевских с Диккенсами, открыто почитавшихся вышеуказанным Дуровым, поскольку он хозяин-барин де-юре, включая де-факто… собака являлась исполнительным животным, каким и должен быть служебный дог… ему, этому Доди, прикажешь, фас кого-нибудь там, фас! – он, так сказать, может отхватить половину ягодицы, как мы звали жопу, виноват, виноват, жену расстрелянного Ягоды, а тот большим был фруктом. ШЛАГБАУМ. Только – без демагогии, без демагогии… применяли к Дурову различные угрозы и шантаж, привлекая вышеназванного Додика к фашистскому плану, заложившему фундамент зверского заговора против существования в нашей жизни, как и в сочи… стоп!.. повторяем конец фразы, ети ее мать!.. начали!.. как и в социалистической действительности, товарища Сталина и других членов политбюро, узнав через своего агента в Кремле об особом внимании руководства страны к арене Госцирка и о скором посещении такового, включая вождя народов?.. применяли? ДРЕБЕДЕНЬ. Применял, возглавлял, нарушал. ШЛАГБАУМ. Перечислите самые яркие примеры угроз и шантажа. ДРЕБЕДЕНЬ. Ну тут, конечно, был арест ближайшей родни Дурова вместе со строгими мерами дознания… имелся ряд ярких намеков на расстрел некоторых львов, тигров и других хищников, посаженных за решетку всем нашим народом и лично товар… гражданином Сталиным… транспортированием так же грозил всех дуровских зверей в зоопарки союзных республик в виде подарков общесоюзного значения к Новому Году многонациональных Дедов-Морозов и таких же Снегурочек… кроме того, сулил заключение на Таганке, где ворье проигрывает членов контингента в карты, которых оно затем отпетушает путем местного разрешения женского вопроса… само собой, расстрел как врага народа, не говоря о разрешенных воздействиях как на тело, так и на здоровье ума… всего не перечислишь, согласно народной мудрости намека на «семь бед – один ответ», что сокращает время предварительного следствия минимум в два раза. ШЛАГБАУМ. Как бы вы вели себя лично со мной в случае моего ареста, предупрежденного непосредственно оперативным вмешательством Лаврентия Павловича и еще рядом бдительных советских граждан? ДРЕБЕДЕНЬ. Вы ведете себя по-своему, я вел бы следствие против вас по-моему. ШЛАГБАУМ. Съемка, стоп!.. ты, подонок, забыл добавить: «только еще более безжалостней, еще садистичней»… съемка!». ДРЕБЕДЕНЬ. Забыл добавить, что только еще более безжалостней, еще садистичней. ШЛАГБАУМ. В чем бы выражались последние издевательские намерения? ДРЕБЕДЕНЬ.(натужная – до рваных ушей – улыбка искажает все его лицо, расквашенное до неузнаваемости) Мало бы не показалось… именно так – не показалось бы, уж будьте уверены, Люций Тимофеевич. ШЛАГБАУМ. Не сомневаюсь… Какую участь вы готовили незаконно арестованному Доброво, жене, дочери, их собаке, незаконно помещенной в главный питомник НКВД?.. не забывать о изъятых рукописях ученого. ДРЕБЕДЕНЬ. Женщин поимели бы охочие до данных дел младшие сотрудники… ученому этого хватило бы, он и так колонулся… изъятыми рукописями овладел Ежов, не знаю для чего… виноват, видит бог, виноват, беру слова обратно… он их взял для последующей передачи в лапы Гестапо… немецкую же овчарку, сами знате чью, Дуров поднатаскал бы на акты сношений с фигурантками последующих жен и дочерей, что способствовало свидетельским разоблачениям взятых врагов народа, а также для лучшего воздействия на подследственных эсерок, троцкисто-бухаринок и остального контингента женского пола.
31
А.В.Д. изнемогал от прежде незнакомого, совершенно невыразимого в словах смешанного чувства омерзения и любопытства, но не к содержанию допроса, а к личности допрашиваемой нелюди; вид Дребеденя был более чем жалок, но в глазах словно бы застыла тяжкая, звериная – поистине не человеческая – ненависть, удельный вес которой настолько превышал остальные чувства садиста и силу лицевых мышц, что она оттянула веки, щеки, изменила форму ноздрей, заставила набежать морщины и без того питекантропского лба на переносицу, но, вместе с тем, никак не могла изменить угодливенькую, а оттого еще более жалкую манеру ответов, не рассчитанных, вот что странно, на какое-либо снисхождение. ШЛАГБАУМ. Что именно порекомендовали вы дрессировщику Дурову при посещении вами уголка его имени? ДРЕБЕДЕНЬ. Посоветовал, выходит дело, в порядке взаимообмена опытом, поднатаскивать ускоренным методом данного дога, кличка Доди, с целью распознания последним запахов лица женского пола во время наличия у которой самого начала месячных, что доводило иного дрессированного животного до полового возбуждения, как известно, требующего быстрейшего удовлетворения… имелось в виду дальнейшее совершение такового акта совокупления с подследственной, либо с изолгавшейся свидетельницей, что и произошло в течение двух раз и оба раза присутствовали их, то есть женщин, подследственные бывало мужья и дальнейшие родственники, давшие подписку о неразглашении дознания и так далее, поскольку… ШЛАГБАУМ. Съемка – стоп!.. слишком много «Д»… слишком много «Д» – меня это бесит, это коверкает мои нервы… они не железные – тебе это понятно, ублюдок? ДРЕБЕДЕНЬ. Так точно! ШЛАГБАУМ. Съемка!.. проще говоря, каков при этом был образ вашего поведения – раз, карлика и пидараса Ежова – два, а также всех присутствоваших при съемках заказного порнографического фильма – три?.. съемка, стоп!.. дайте стакан воды подонку – пусть выжлухтает!.. ох с каким наслаждением напоил бы ты ты меня, сволота ползучая, соляным раствором или сунул бы в глотку мою голодную пару кусков селедки без хлеба… так, Дерьмо ты неорганически поганое, а не человек, или не так?.. съемка, я сказал, стоп, предыдущее вырезать при монтаже!.. Анна Гургеновна, вы, надеюсь, держите свое искусство на высоте?.. десятиминутный перерыв!.. мы еще не в морге… сопроводить арестованного куда следует для оправки и переодевания – от него вновь разит калом и аммиаком!
Полумертвец, помалкивая и призакрыв глаза, – чтоб мир не видел его ненависти, чтоб она не видела ненавистный ей мир, – глотнул водицы; глотал он ее так, что А.В.Д. вновь испытал сочувствие не к личности двуногого человекозверя, утолявшего жажду на водопое, даже не к существу его животному, а к остаткам тепла самой жизни, «по долгу службы» доживавшей последние денечки, если не часы, в обреченном его теле, словно бы пытавшемся пригасить выпиваемой водицей еле тлевшие уголечки-угольки существования, слегка уже припорошенные налетом сероватого пепла; Дребеденя увели на оправку и умыванье.
«Страшна временами жизнь, поистине страшна, – подумал А.В.Д., – кое-какие чувства либо спокойно помирают в человеке, ожидающем смерти, либо, наоборот, – неистребимая ненависть жадно пожирает все остальные чувства, от чего естество жизни мучительно корчится… так корчит доходягу-дистрофика, пережравшего хлебушка, кашки с маслецом, щец густых с мослом хрящистым, с лакомыми кусками наспех проглоченного мясца… и тогда никаких уже чувств – ни прекрасных, ни уродливых – не остается в человеке, кроме ненависти, ненавидящей саму себя за, так сказать, несварение желудка и заворот змеевидных кишок».
32
Вернувшись переодетым во все трижды стиранное-перестиранне, Дребедень охотней и еще угодливей отвечал на вопросы внешне совершенно невозмутимого Шлагбаума.
А.В.Д. уже вроде бы привык к фразеологии ответов и реплик полуграмотного выдвиженца Дребеденя, но тут, изумился, обомлел: во что же, будь она проклята, бюрократия палачей превращает в сей подведомственной им геене нормальный, привычный, бытовой, исполненный самодостаточности и чувства собственного достоинства, превосходно упорядоченный культурой, гениями поэзии, прозы и драматургии, совершенно свободный, Божественный – как все остальные языки – русский язык… и вот сегодня он вынужден дышать не воздухом надмирных высот, а смрадом мертвословного абсурда, гнилостными испарениями адских низин тюрьмы – учреждения, не имеющего никаких аналогов ни в природе, ни у одного из живых существ, а исключительно у двуногих, – и, ко всему прочему, страдать от устных и письменных мук, бездушно доставляемых ему – Языку! – не просто малограмотными людьми, а человекоподобной нелюдью.
«Это же действительно ад… хочется оглохнуть, онеметь, здесь было бы жаль превратиться в рыкающего царя зверей, в скота мычащего, в лающего пса, в мышь пищащую, в шипящего змия… но все это мне поделом – поделом, засранцу грешному… я был политиком, я добровольно внес частичку своей личной воли в самоубийственное поведение сбесившейся горстки российских политиканов и интеллигентов – нет мне оправдания ни на этом, ни на том свете».
Он вновь представил давнишнего своего, не близкого, но, слава богу, как-никак знакомого, обожавшего биологию – служанку милой жизни на Земле – поэта он себе представил Мандельштама, гения русской словесности, подобно Гумилеву, совсем недавно безумевшего в одном из этих кабинетов от безжизненности мук, несравнимых с живыми муками его гениального ума и певческой души… вдобавок ко всему поэт обезумевал не от своих, не от Наденькиных, жены своей, страданий, не от предчувствия грядущей смертной участи, даже не от бедствий народных и не от корч и спазм культуры, насилуемой осатаневшими плебеями вечно похотливого варварства, а из-за того, как нелюдь измывается над Языком и с какой безобразностью пытается она его разбожествить и обездушить; А.В.Д. был убежден, что певца любви к жизни, свободе и культуре – как и других невинных жертв злодейской Утопии и бандитизма власти – спасали от такого рода тюремных страданий незримые лучезарные образы Красоты Творенья и Словесности.
В ту минуту он не мог не подумать о невообразимой великости Божества, возможно, не слышащего и не видящего на Земле ничего такого исключительно из-за нашей малости – из-за полнейшей ее невидимости; А.В.Д. счел сию унылую мысль идиотской, не достойной ума человека верующего и ученого.
«Уж если мы, ничтожные песчинки в неисчислимых мирах Вселенной, наизобретали оптики и разглядываем с ее помощью стройные причуды макромира и кишение невидимых бактерий в микромире, а также постигаем тайны вещества благодаря титанам теретической физики, то неужели уж, скажем, у Высших Сил, в бесчетное количество раз провосходящих все «вместе взятые» способности человеческого разума, нет возможности рассмотреть – созданные им одним! – разномастные плоды всепланетного зла? – есть такие возможности, просто их не может не быть, следовательно, их уничтожение, если не самоуничтожение, – всего лишь дело времени… у Бога дней много, а людям неведомы пределы роста истории».
До А.В.Д. дошло, что сейчас не время обдумывать массу аспектов этой мысли, несколько его ободрившей, отвлекшей от горестей и надежд своей жизни – ничтожной частички жизни общей – важной лишь для него лично и еще четверых существ; перед ним возник образ великого, по его мнению, поэта, знакомого по паре случайных встреч.
«Это они – лучезарные образцы Красоты Творенья, Религии, Словесности, Наук, Искусств и истинно богоподобного, постепенно преображаемого-преображающегося Разума – освещают/освящают все и вся – от миллионов созвездий до донышка Марианской впадины, долин, лесов, гор, полей, рек, тел и душ, между прочим, искровавливаемых/испоганиваемых самими нами – в угоду дьявольски самодержавной воле того же Разума… именно образцы прекрасного, – размышлял А.В.Д., – поддерживали совестливейшего из поэтов, нисколько не сомневавшегося «Читать или не читать?», поэтому и прочитавшего друзьям не самые свои замечательные из своих стихов – не в этом же дело! – но самые что ни на есть бесстрашные, нанесшие пощечину «организатору всех побед нашей эпохи» – орылотворению неслыханного бесчестья и садистическую жестокости… поэт наверняка благодарил перышко и Музу за чудо возникновения в гнездышке бумажной листвы – теплых, пушистых, словно мимозы, желторотых слов поэтической речи – птенчиков Языка, которые клювики свои раскрыв, чумели от жажды жить, звучать, трепетать… вот они своевольно сбиваются в стайки свободных строк и строф, вот, послушные воле всех ветров вдохновения, черканув в воздухе крылами, взвиваются в поднебесье Языка и Музыки, Музыки и Языка.
Неожиданно на А.В.Д., сроду «не баловавшегося стишками», повеяло таким требовательно властным, вместе с тем, бережно увлекающим непонятно куда вдохновением, иногда называемым Музой, что, забывшись, он увидел перед собою воздушные письмена, видимо, только что каллиграфически высвеченные из тьмы, сказочным образом взявшимися откуда-то, высокограмотными светлячками – ассами группового пилотажа; он увидел письмена, словно бы надиктованные светлячкам его собственной душой, потрясенной внезапным исчезновением из мира живых людей великого поэта, которого, казалось бы, невозможно было стереть с лица простой звезды, с пространств любимой им Земли.
«Боже мой, боже мой, это последние, на больничной койке, часы пронумерованной, как все зеки, певчей птицы… это он, щегловитый щегол, сжавшийся в комочек, съежившийся от холодрыги, голодухи, предсмертного забытья, загнанный в клетку, обессиленно опустивший крылышки, быть может, еще не знающий, что через пару минут канет он с больничной койки прямо в темные бездны смерти – в глубины отсутствия времени… и только поэтому да и потому что зело велики заслуги певческого горлышка сей птички перед Божественной влюбленной парой – Языком и Словесностью, – канув во тьму, в тот же миг взвилась она над клеткой, над тьмой, над Лубянкой, над колючими башнями Кремля, над всеми нами – взвилась все тем же щеглом щегловитым, все той же ласточкой, готовой слюной своей увеликолепить на распростертой под ее крылышками звезде памятники собрату по перу – увеликолепить их всего лишь за одну строку «Не расстреливал несчастных по темницам»… и вот уж взвившаяся, вволю налетавшаяся, слетела птица с хладных высот и присела лапки-крылышки погреть у негасимого огня на собственной своей могилке… на могилке всемирно известных щегла любви и ласточки свободы, щегла свободы и ласточки любви».
Видение тут же пропало, оставив в памяти неистребимый след, а сам А.В.Д. с большим недоумением, с огромной неохотой вернулся на Землю – всего лишь на одну из самых небольших звездочек вселенских – прямо в выгребную яму допроса.
33
ШЛАГБАУМ. Вы вопрос-то мой не изволили ли проглотить вместе со своим раздвоенным змеиным языком врага? ДРЕБЕДЕНЬ. Никак нет, лично Ежов принуждал меня дрочить с ним как бы на-брудершафт, фонируя с другими онанировавшими участниками незаконной оргии до окончательного изрыгания, виноват, извержения желеобразной семенной жидкости, в процессе осеменения которой подследственного лица женского пола, находившегося без сознания… дорогой Люций Тимофеевия, клянусь, мне было не до фамилий свидетелей по будущему делу… все такое сильней человека, который даже член ВКП(б), поймите же хотя бы это, ведь на моем месте сам Гитлер не устоял бы, не говоря еще кое о ком. ШЛАГБАУМ. Когда и при каких обстоятельствах Ежов склонил вас к противозаконной половой деятельности в успешно функционирующих рядах НКВД? ДРЕБЕДЕНЬ. Вы сами-то, небось, не пробовали воспротивиться приказу к активному сожительству с самим наркомом и ко вспомогательному разврату, когда отступать некуда, к тому же угроза крематорием, небось, в наиживейшем виде, а не в трупском, – пробовали? ШЛАГБАУМ. Съемка – стоп!.. если в монтаже, что-нибудь будет напортачено, сдерем с режиссера три шкуры… а ты что – не видел, пидар гнойный, как я ему чуть не ебнул «Вдовой Клико» промеж глаз и сказал гниде: «Еще раз рыпнешься в ширинку к члену партии с восемнадцатого года – убью на хуй, тем самым дав понять, что… начали съемку!.. революция свершалась не во имя полового разврата личности человека в глазах широких масс пролетариата… знаете это, или не знаете?.. ДРЕБЕДЕНЬ. Знаю, но он же на голову-то больной, совсем несчастный и в виде наркома решал все кадровые вопросы внезапного обострения хронического заболевания классовой борьбой за светлое будущее… уж лучше бы вы натянули его на халабалу – тогда одним врагом было бы у вас меньше, а на одного друга больше, наша же с вами история не пошла бы сикись-накись… между прочим, половые органы – это одно, а революция, Люций Тимофеевич, – это уже совсем иное, и одно другому не мешает, хоть она и не в белых перчатках, то есть октябрьская революция… клянусь, я под вашим руководством реки крови вспять направил бы, горы Дел на хер бы свернул, что еще не поздно, слово мое ответственно твердеет час от часу – дайте же мне только один шанс поработать для родины, дайте!.. у-мо-ля-ю! ШЛАГБАУМ. Не дадим, это не только поздно, Дребедень, но сво-е-вре-мен-но не дадим – я сказал, точка… если враг не сдается, его уничтожают как помесь вши с клопом… еще одно слово оправдания и пропаганды служебного мужеложства – пойдете пешком прямо в крематорий в живом виде и вместе со своей арифметикой преступных мужский соотношений.. Вы хоть понимаете, что достойны гореть казенным пламенем на медленном огне электрофикации всей страны?
Невозмутимый тон каким то алхимическим образом превращал невозможно скучную, невольно прижившуюся к низинам обстоятельств места и времени, речь Шлагбаума, – в девяностоградусную оловянноглазую сивуху, настоенную на соплях, кровище, синяках и ранах. ДРЕБЕДЕНЬ. На отлично с плюсом все понимаю и не дважды понимаю, но трижды, – он снова сполз со стула на колени, – поэтому, дорогой вы наш, любимый Люций Тимофеевич, прошу снисхождения до пули, можно и в самый лоб… жизнь просрана к хуям собачьим и трое суток включительно не спамши. ШЛАГБАУМ. А Доброво, по-твоему, спал, а сотни таких, как он, людей, вражески выведенных тобою, мразью, наемником оксфордских и германских пидарасов, из строя нашей экономики, инженерии, науки, – спали?.. а я, в конце-то концов, сплю, ебит твою в душу мать?.. надеюсь на отличную работу стенографии… более того, я лично спал бы?.. спал бы, я спрашиваю, или не спал?.. ах ты молчишь, гнида? – вот поэтому, мерзавец, не пылит дорога не шумят кусты, подожди немного, отдохнешь и ты. ДРЕБЕДЕНЬ. Не спали бы, не спали, конечно, тоже не спали бы… во всем виновен, требую высшей меры наказания по существу предъявленных обвинений… могу с гранатой запазухой взорвать себя в одночасье вместе с Гитлером, потом уже с другими Чемберленами Рузвельтами и Муссолинями… во всем виновен, совершенно во всем, так как дальше некуда. ШЛАГБАУМ. Тем более, подождешь немного, отдохнешь и вы… вы поняли что-нибудь существенное в рукописях ученого Доброво? ДРЕБЕДЕНЬ. Детали дела неясны, но вражеский навет на Лысенку осознал и лично хотел принять высшие меры по дальнейшему обезвраживанию в науке, но мой бескорыстный чекистский порыв вовремя и ошибочно остановлен. ШЛАГБАУМ. Конец съемки!.. пожалуйста, Валерий Игоревич, временно опечатайте камеру оператора, вырубите свет и врубите киноаппарат с обличающей пленкой, найденной при обыске в квартире Ежова… потом продолжим показательную съемку следственного процесса… а тебе, Дерьмо, советую не отворачиваться от настенного экрана… вглядись напоследок в мразь своих рук, гнусный вредитель нашего общего марксизма-ленинизма, ведомого великим Сталиным, пионером дебрепроходства… итак, гражданин Доброво, дознание вскоре кончится… начали показ киноматериалов, уличающих врагов народа в прямой компрометации святого дела нашей партии и всего НКВД, стоящего на страже строительства светлого будущего всех народов, кроме фашизма… прошу!
А.В.Д., испытывая ужасный стыд из-за невольно возникшего в нем любопытства черт знает к какой пакости, решил глянуть краем глаза на документальное подтверждение извращенности этих человекообразных существ.
«Исключительно краешком глаза, исключительно им одним, – на полный просмотр никаких не хватит сил… труп, расчленяемый в прозекторской, – это бутончики цветочков, по сравнению со здешним разливом канализации всей страны», – сказал он сам себе, хотя считал непростительной для человека даже секундную слабость обращения внимания на заведомо гнусное зрелище, причем, вовсе не из-за высоконравственных соображений как-никак личности культурной и воспитанной, а из-за боязни оскорбить свой вкус безобразностью торжества Шлагбаума над поверженными коллегами по террору.
И действительно, глянув на общий вид мизансцены, через секунду после показа первого же крупного плана, – на отлично натасканного на это дело огромного дога, рвущегося с поводка к обнаженной несчастной женщине, нелюдью удерживаемой за руки-ноги, – А.В.Д. смежил единственное свое око и не открывал его, пока время начисто не оборвало равнодушный, холодный стрекот киноаппарата.
Он сразу же заставил себя расслабленно погрузиться в воспоминание о летнем лужке за деревней… мирное марево над благословенным духом травок, розовых кашек, ромашек, одуванчиков в невесомо сереньких «заячьих» шапчонках… хлопоты кузнечиков… тропки муравьишек, безукоризненно соответствующих правилам движения к нужным им целям… бабочки, шмели, пчелы, привычно совмещающие питание с делами осеменения разных растений, спокойно ожидающих всего такого, – чистейшее блаженство… время вроде бы остановилось… А.В.Д. внезапно вывели из этого состояния.
Дребедень истерически взвизгивал и дергался, закрыв лицо руками, словно до его измызганной им самим души дошла суть личности, которой бедная душа принадлежала; голос Шлагбаума, позволявшего себе «выдавать» ироничные реплики, попрежнему был ровен и невозмутим; для А.В.Д. оставалось загадкой, как удается вполне интеллигентному, начитанному, вроде бы неглупому человеку, столь резко менять язык нормальный на бездушно бюрократический, наверняка далекий даже от давнишней несовершенной речи человекозверя; казалось, благородный дух самого языка, внезапно покинув слова и изъяв из каждого драгоценные первосмыслы, оставил Шлагбауму с поверженным Дребеденем, лишь мертвообразные чешуйки куколок, сброшенных с себя бабочками значений. ШЛАГБАУМ. Прекратить подлые хныканья!.. закрыть хайло!.. не могу не сообщить вам, гражданин Дерьмо, как бывшему следователю по особо важным делам, что по твоей, гнусный моллюск, непосредственной вине, датский дог Доди вчера был кастрирован и возвращен своей драгоценной хозяйке, известной актрисе Малого театра… подписывай, предатель общества страны советов, соответствующий протокол… я безумею от проклятых «Д»… – Дребедень трясущейся рукой расписался под какими-то бумажками. ДРЕБЕДЕНЬ. Всевидящий и Всеслышащий знает в верхах, что надолго меня не хватит… все-таки не гнилой интеллигентишко, а имею эмоцию борца с врагами народа, даже если звучу далеко не гордо, что вызвано не предательством партийности, а служебным подчинением бывшему наркому… хочу заявить, что мысленно остаюсь в рядах верным борцом… ШЛАГБАУМ. Не борцом, а говнецом, а видит тебя далеко не Зевс и не Юпитер, но сам Дьявол, сволочь… что скажешь, Дребедень, о данном документальном фильме, конфискованном при обыске?.. у вашей группки были намерения продать данную порнографию характерно насильного скотоложства для широкого кинопроката в руках голливудских дельцов и прочих акул капитализма? Дребедень. В точку глядите – вот именно были, вот они-то и были, ради них, но не в силу измены родине, мы и шли на злоупотребление, дисциплинарно полностью повинуясь распоряжениям вкупе с развратностью пассивно карликового пидараса… в киноделах не разбираюсь, снимал не я, а всех нас снимали, как приказал ненормальный Ежов, включая в кадры его самого… уверяю вас, Люций Тимофеевич, вся предыдущая съемочная группа была ликвидирована самым щадящим методом. ШЛАГБАУМ. С данной киногруппой этого не случится, чего не скажешь о исполнителях главных ролей в позорном зрелище… теперь рассказывай, извращенец-выдвиженец, как протекал ежово-троцкистский заговор, но сначала пару слов о роли дрессировщика Дурова. ДРЕБЕДЕНЬ. Дуров, после моего на него следовательского давления, а именно, путем устрашения гибелью всехней вредительской цирковой династии, надо сказать, с удовольствием взял на себя дальнейшую подготовку дрессируемого состава диких животных к покушению, что и делал до сдачи в процедуру следствия по истечении календарного месяца плюс одна декада ШЛАГБАУМ. Стоп!.. ты что – совсем охуел?.. нагло издеваешься над ведением дела и процессом дознания, специально мне на зло вставляя в ответы неслыханное количество букв «д»!.. думаешь, не понимаю, что получашь удовольствие, да? ДРЕБЕДЕНЬ. Ведь вы тоже их достаточно навыдавали после слов насчет «борца и говнеца»… да, я был борцом за правоту задач органов и не могу же следить в таком своем арестованном виде за каждой буквой, остальным букварем и всякой шелупонью, называемой алфавитом. ШЛАГБАУМ. Не бзди, подонок, ты мне еще втройне доплатишь за каждое «Д»… следуем дальше, не забывая о подробностях… продолжаем съемку следствия!.. проклинаю, проклинаю все до одного «Д» – это опустить! ДРЕБЕДЕНЬ. Перед самым, объективно, значит, говоря, представлением преступная группа тигров, львов и прочих леопардов всесоюзного значения трое суток находилась в жестко ненакормленном состоянии, как и я в текущий момент демонстрации дела, в чем, конечно, состояла личная моя сюжетика и прямая вина… после явления в цирке мудрого вождя всех народов, а также членов верного ему политбюро, заграничный центр троцкизма и лично Ежов, так же являясь согласованными отщепенцами, коварно планировали лжецирковую программу, само собой, с отвлекающим в ней участием клоуна Карандаша… непосредственно за клоунадой Дуров должен был образцово обрушить решетку, отделявшую арену с хищниками от высоких гостей, что ранее, то есть еще до прихода руководства, и отрепетировал в моем присутствии взмахом хлыста… таковое и произошло на генеральном прогоне несчастного случая, на котором присутствовали, с ног до головы загримированные самим Станиславским, позднее заочно осужденные на высшую меру враги народа, которые еще раньше, в плане репетиции, были разорваны на составные части, немедленно сожранные изголодавшимся хищниками под управлением Дурова… ну а само руководство партии и государства во главе с Иосиф Виссарионычем прибыло в срок… в плане сугубой охраняемости, проход к их ложе был очищен от простонародных зрителей и других раззяв обывательской среды… там находились только сотрудники из активных пидарасов, вооруженные лично Ежовым бельгийскими маузерами, в том числе и я… затем Дуров в своих общеизвестных шароварах вывел труппу хищников на арену… те послушно заняли свои персональные тумбы, утвержденные мною, и уставились в правительственную ложу, как будто в антилоп на водопое… затем решетка пала, но ни львы, ни тигры, ни пантеры с леопардами не бросились в голодном виде на членов политбюро во главе… не имею сил выговорить святое для меня имя, да, Люций Тимофеевич, святое… таким образом показательно сорвались и заговор и покушение на жизни высоких гостей, что и планировалось загранцентром мирового троцкизма под вредительским руководством Ежова. ШЛАГБАУМ. Нет, Дерьмо, заговор не просто сорвался – он был сорван бдительной частью руководящих работников органов, но, главное, той силой заочного стального взгляда – взгляда гениального укротителя зверей всех времен и народов, нашего дорогого Иосифа Виссарионовича, который продолжает гипнотически воздействовать на широкие вредительские массы и цирковых хищников еще наглядней, чем сила взгляда патриота нашей Отчизны товарища Дурова, по секретному распоряжению Лаврентия Павловича, ежедневно, со своей стороны, кормившего группу зверей сильнейшими успокаивающими средствами, созданными славными фармацевтами страны победившего социализма… товарищ Сталин в данный момент получает многочисленные письма трудящихся включительно с телеграммами от Вольфа Мессинга, само собой, от других читателей вражеских мыслей на расстоянии и от самых больших друзей Советского Союза за рубежом, включая Драйзера, Бернарда Шоу, полуцыгана Ромен Роллана, писателя-пидараса Андрея Жида и прочих коммунистов всего мира… так что теперь мы смело можем сказать, что злодейский заговор был действенно нейтрализован, а затем решительно сорван силами, временно исп… поправляю себя: сорван силами, теперь уже постоянно исполняющими прямые обязанности добра, ликвидирующего зло вплоть до полного построения коммунизма, когда и добро и зло взаимно аннигилируются в преддверии подлинно человеческой истории человечества… финита ля комедия, гражданин Дерьмодень… стоп!.. как видишь «Д» меня еще не доконало, – Шлагбаум скрежетнул зубами.
Поздно ночью – впрочем А.В.Д. перестал замечать время суток из-за отсутствия в квартиренке окон и пытки бездушным электроосвещением, – поздно ночью он подзакусил и слегка поддал с заметно уставшим Люцием Тимофеевичем; правда, тот, оживился после допроса, с интересом расспрашивал и распрашивал арестанта, о различных прикладных возможностях его научного открытия; интересовался не только определенными результатами проникновения науки в природные структуры микромира живого организма, но и фантастическими прозрениями собеседника, полными умопомрачительных непредвиденностей.
34
А.В.Д. не заметил, как быстро течет время в обществе с непростой личностью Шлагбаума, в играх с высоколобым умницей Геном – это особенно успокаивало, веселило, ублажало, придавало жизни смысл, вроде бы начисто вытянутый куда-то прочь сквозь невидимые щели, но, подобно теплому духу жилья, вдруг возвратившемуся и обогревшего душу; А.В.Д. почти окончательно уверовал в благоприятное для ближних – в сказочно странное течение игры и много о чем успел поразмышлять; ждавшая его участь казалась предрешенной: жизнь до гроба в закрытом заведении, одиночество, а если, как обещано, дозволят, то цензурируемая переписка со своими любимыми, чтение, возможно, приятные общения с коллегами, прогулки до зон, огражденных заборами и колючей проволокой, даст бог, по лесным тропкам и лужкам… картишки, шашлыки, выпивки, ночи забытья, начисто с тех самых пор лишенные сновидений, а там и гляди – чем черт не шутит! – приезд с гастролями Диминого театра в закрытку.
«Боже мой, боже мой, это было бы счастьем, отдушиной, медом залетной свободы… вот с кем бы я от брюха поболтал за пивком и воблой… что касается работы, то – во всяком случае сегодня – совершенно мне наплевать и на нее и на науку… здесь отбивают вкус не только ко всему такому, но и к самому – скажем прямо, довольно постыдному – существованию в виде Гомо сапиенса… о если бы мои позвонили, я, после их звонка из Лондона, с удовольствием превратился бы – о реинкарнации в собаку не смею мечтать – в любую живую тварь, лишь бы не в трупного червя – сие, как мне кажется, не сулит никакого бытийного, экзистушного и эстетического наслаждения… действительно, лучше уж быть плотью мертвой, поедаемой живыми ничтожествами, чем живым же ничтожеством, пожирающим мертвую плоть… вот, кстати, загляну-ка я сейчас в томик Брэма, реквизированного у какого-то несчастного, может быть, тоже отчасти виновного, как я, в произшедшем не только с ним, но и с миллионами людей невинных – с огромной нацией, с империей… в любом случае хоть так пообщаюсь с животным миром, с фауной подлунной, будь они трижды благословенны».
Он погрузился в знакомый с детства томик и словно впервые в жизни стал разглядывать картинки зверей и зверюшек, вчитываться в описания условий их жизни, в характеристики нравов – можно сказать, по-детски же посуществовал в роскошном, любезном душе мире, позволив себе превратиться в тварь свободную: в жирафа, муравьеда, рысь, енота, мышку-полевку, но раз уж так, то лучше бы в медведя, дрыхнущего всю зимушку, надо полагать, развлекаемого по-звериному содержательными сновидениями, верней, проживающего добавочную жизнь, не выходя из берлоги.
Время для А.В.Д. вообще переставало существовать, когда вспоминались именно те моменты детства, когда он мальчишечкой, потом юношей, выходил поутру в деревенский сад, засматриваясь на первые травинки и цветочки, на проросшие в огороде семена огуречиков, морковочек, петрушечки, укропчика и, еще не зная, во что все они превратятся, очарованно вглядывался в тайну чуда произростания, роста, цветения, плодорождения – в тайну, казалось, не желающую быть разгаданной… в гимназии он разглядывал в микроскоп невообразимо красивое строение крошечного обрезка кленового листа, лягушачьей лапки, своего собственного волосика, но все равно только целостность образов флоры и фауны Творенья, только представление о себе самом как о личности неповторимой и малопонятной, рождал в душе чувство счастья и причащения к таинству первопроисхождения, надо полагать, хранящемуся в иных измерениях, не доступных человеческому сознанию, сквозь них стремящемуся пробиться к познанию всего сущего.
То как любопытный Ген, всегда пытливо вникавший в любое человеческое дело и самонатаскавший себя на участие в чтении, становился лапами на колени хозяина, пытаясь перевернуть страницу книги одной из них, – смешило, бодрило, пробуждало надежду на то, что все потихоньку образуется; постепенно, даст бог, сгинут нетерпение с унынием и тоской, гложущей сердце тупой надсадной болью; после того – всего лишь одного – взгляда на быстро мелькнувший общий план злодейской мизансцены, заснятой на пленку, паршивое настроение А.В.Д. обострилось; словно бы назло, возникали вопреки его воле вспышки памяти о безобразном унижении насилуемой женщины и уродуемого кобеля, происходившие на глазах торжествующего Шлагбаума.
«Господи, – подумал А.В.Д., неужели Ты бесстрастно, как мы в микроскопы, наблюдаешь за видами зла, творящимися всего лишь в одной из многих точек на земле, в каком-то километре от резиденции самодержца одной шестой света и его вечно живого учителя – патологического убийцы, основателя власти, отбросившей миллионные массы людей на много тысяч лет назад – в пору человекозверской стадности?.. как это может быть, Господи?»
Подумав так, А.В.Д. ощутил, как его охватил стыд: «А сам-то ты чем занимался? – спросил он себя. – кто перевел за всю свою жизнь, видите ли, в науке массу ни в чем не повинных мышей, крыс, хорошо еще, что не обезьян с кошками и собаками?.. так что попроси заткнуться свой богоподобный разум с его кровоточащими претензиями к Создателю».
Он вообще не первый уже раз в жизни упирался в тупики мировых вопросов, потом «потирал синяки на лбу» и переставал наивно размышлять обо всем, казавшемся таким простым, но, к сожалению, продолжавшем оставаться абсолютно непостижимым; и вдруг, в минуты умственного и душевного отчаяния, когда девятый вал уныния уже вот-вот готов был обрушиться, накрыть с башкой и обездушить все его существо, до него, до одного – не такой уж невинной, если разобраться, – жертвы дьявольского времени, дошла совершенно несусветная глупость ожесточенно недоуменного вопрошания и напрасность все того же Иовоподобного вопля: «Как это может быть, Господи, что Ты, Всевидящий, Всеслышащий, Всеприсутствующий, ранодушно взираешь на все творимое непотребными идеями обезумевшего, точней, разбожествленного человеческого разума, безропотно служат которому руки наши, ноги, весь волшебно организованный организм – как это может быть, Господи?.. ну взял бы Ты и ответил хотя бы краткой формулкой, буковкой слабой, если не смутным, но многозначительным намеком на смыслы фантасмагорических ужасов реализма действительной нашей жизни… Господи, ответь, ибо вопрошать больше не к кому, возможно, не к чему, разумеется, если Ты – совершенно невообразимое, к тому же неорганическое и нечеловекообразное существо!»
В тот момент А.В.Д. не мог бы с уверенностью сказать, заклинило ли шарики в его башке внезапным ударом?.. уснул ли на миг он сам?.. быть может, бодрствовал, попав во власть мистического вдохновения?.. и чем именно это было: тихо ответствующим, безмолвным гласом?.. чувствомыслием?.. призраком некой благословенной фундаментальной истины?..
«Доброво, существо ты Наше человекообразное, но подслеповато не замечающее ни всеединства надмирных высот и основоположений, ни земных низин и бесчисленно мелких значений, но – это ладно.. Мы всегда остаемся заодно и с ними и с тобой, поскольку богооставленности не существует, она всегда мнима и навязчиво призрачна… беда двуногого вашего племени – тут тоже ничего не поделаешь – увенчанного Нами Разумом, вот в чем: однажды народам, прости за словесную шутку, всенеплеменно придется обратиться к простейшему положению о постоянном превращении бесконечной Силы в бесконечную Слабость и, разумеется, наоборот, о чем Нами давно уже сообщено Лао-Цзы и нескольким другим Великим Пророкам… пожалуйста, успокойся, любезный Доброво, и сумей различить в несложном этом положении причину невозможности нашего Всесилия увидеть бедствия, творящиеся вашими разумами и руками, а также причину, не позволяющую вам – немыслимо слабым в своей малости – узреть Образ этого Величественного Всесилия, чему виной вечно слиянная близость наших несоизмеримых разномалостей-разновеликостей… но однажды Мы увидим Вас, а Вы увидите Нас так близко, словно ни на миг мы не были в разлуке, и, надо полагать, друг другу улыбнемся как давнишние знакомые… извини, это все».
А.В.Д., оглянулся вокруг с растерянной улыбкой слегка стебанутого человека и соображал: где он?.. как сюда попал?.. собственно, что происходит?.. ничего не понимая, он пробормотал: «вопросов нет».
35
Полностью он очнулся, когда Ген предупреждающе загавкал, что делал весьма корректно, когда не желал беспокоить задумавшегося хозяина. – Приветствую, надеюсь, вы тут слегка отдохнули? – сказал Шлагбаум, вошедший в камеру-люкс. – Отдохнул да так, что даже не обратил внимание на отсутствие окон, что, согласитесь, психологически весьма странно, и, к горю человека, говорит о его почти безграничных способностях адаптироваться черт знает к какими сюрреальностями изнанок несвободы… выходит дело, жизненная сила – сила дышать, верней, просто существовать, как существуют бактерии, черви, букашки-таракашки, – намного превышает в людях все остальное, идущее и от Небес, и от разума, не забудем, часто становящегося так называемым Лукавым… я вот забыл поесть… кроме того, ни разу не поинтересовался, где именно оправляется собака… правда, с удовольствием заглянул в Брема – это совершенно дивное издание… не теряю ли я чувство реальности?.. не удивлюсь, если заодно с иммункой полетит у меня и оно. – Знаю, мне это состояние знакомо, но будьте уверены: отличное настроение вот-вот к вам вернется… всего Брэма – дарю… никаких отказов – это первое официальное распоряжение директора НЦ. – Благодарю – эта штука явно сильнее «Девушки и смерти» Пешкова… извините, я никогда не мог произнести его кличку «Горький» из-за уважения к одному из натуральных вкусов… а что с Дребеденем? – То же, что было бы не только с вами и со мной, хотя Ежов еще хватает жабрами свежий воздух в качестве наркома речного флота… между нами девушками, немало людей должны быть навеки благодарны за свободу и жизнь лично вам и одному нашему знакомому, гению сцены, а я всего лишь был на подхвате, Чека всегда на чеку, простите плохой каламбурчик,… предлагаю поужинать… по-моему, Александр Владимирович, вы тут слишком уж перекрутили жернова своих полушарий… отмахнитесь к чертовой матери от мыслей – иначе они облепят, искусают, высосут, сволочи, всю кровь… к вашему сведению, там уже завизировано срочное строительство и неограниченное финансирование закупок заграницей первоклассного технического обеспечения для Научного Центра… опять-таки, между нами, если б не новое назначение, я бы окончательно свихнулся от здешней работы… собственно, я уже калека и полуимпотент на нервной почве… вы поражены скоростью, с которой там решаются и немедленно проводятся в жизнь проблемы не только насущные, но зачастую кажущиеся таковыми?.. эту бы, мечтательно повторюсь, скорость социально-политическому и государственному мышлению… стоп, телефон!.. да, да… здравствуйте, одну секунду, передаю трубку… пожалуйста – это вас.
Первым к трубке подбежал Ген – уши навострены, глаза горят, морда то и дело наклоняется влево и вправо, видимо, в поисках того оптически необходимого угла зрения, под которым гораздо сподручней пытаться обмозговать все нечто для него невероятное и абсолютно непостижимое. – Узнаю, счастлив приветствовать вас, Василий Евдокимыч… трижды рад, трижды рад, более того, счастлив… как жизнь?.. ну и слава Богу – выше ведь инстанции быть не может… я тоже не жалуюсь… с приездом вас всего моего слаженного коллектива… вот чего не знаю, того не знаю… на ваш вопрос затруднилось бы ответить само Время… сие – в компетенции начальства, разумеется, самого что ни на есть высокого… конечно, конечно, информации наших газет о снятии и назначении нового на его место можно верить… чего-чего, а желтой прессы не имеем с семнадцатого… да что уж тут смешного?.. согласен, что трагическое временами кажется комическим и вызывает нервный смех, а комическое – чистые слезы… пожалуй, это наиболее трудное из восприятий не совсем обычных житейских положений… ну, давайте старшую лягушку-путешественницу, как некогда она обожала себя называть, и будьте здоровы, храни вас всех Господь… Катюша, неужели это ты, душа моя, моя любовь, счастье мое?.. сердце просто разрывается от радости… а Верочка?.. слава тебе, Господи… я в порядке, у меня прямо Олимп с плеч, как сказал бы сам Зевс… помнишь, я пришел пьяный с нашего мальчишника, ты послала меня к черту, но я заявил: вот уж черта с два – я вам тут далеко не Лев Толстой и ни-ког-да не уйду из этого дома, ни-ког-да, а вот получилось так, что ушел, верней, увели… не знаю, но, видимо, надолго…
На вопросительный взгляд А.В.Д. Шлагбаум взглядом же ответил, что все в порядке, смело болтайте. – Катюша, я буду заниматься исключительно своими исследованиями… это опять-таки вопрос времени, а оно, ты знаешь, начальник-молчальник и мочалок командир… вполне здоров, поставь там свечку за меня и пса… я тебя тоже – всегда, навек, на череду жизней и различных реинкарнаций, если таковые предназначены… да, да, именно здесь-и-сейчас дошло, что мы с тобой будем друг для друга то мужьями, то женами, и до того нам надоест сия функциональная разноликость, что отдохнем от нее, превратившись однажды в нечто замечательно целое, причем, в бесплатную нирвану… а бог его знает во что именно – Целое должно быть прекрасным, великолепным, полным покоя и воли… целуй и Верочку, и тестя – всех… ты ясно поняла, что слегка ошибалась?.. вот и славно, вот и превосходно… нет, душа моя, иначе я не мог… зато скажу вам обеим, что истинно виновным перед самим собой, перед вами, всем миром и Небесами, скорей всего, в отличие от Земли, перенаселенными ангелами, я был в пятнадцатом… идиотом я был – одним из бесчисленных идиотов, вот в чем мое «Дело», естественно, с большой буквы… и я тебя целую… поверь, лицо и душа моя вечно отдыхают на твоем плечике… Верочка, птичка ты моя обожаемая, опять ты вырываешь у мамы трубку?.. плюнь ты на все науки вместе взятые, заканчивай тамошнюю консерваторию, потому что только у музыки есть единственно правильные ответы на все мировые вопросы… правда, смыслы услышанных ответов можно только почувствовать, поскольку сам вопрос вопросов не нуждается в понимании и, понятное дело, не желает нисходить до разъяснений со своих блаженных эмпиреев – до китайцев, японцев, буддистов, эллинов, иудеев, итальянцев, испанцев, немцев, англо-саксов, французов, пигмеев, папуасов и так далее, прости за шутку… да, да, дорогая, такова уж музыка, иначе она была бы не музыкой сфер, а кованным железом, медью тусклой, алгеброй, целиком подчиненной акустике, а вскоре и электронике… мы будем переписываться… непременно, непременно поцелую его прямо в нос, он тычет им прямо в трубку… слышишь, как сопит, как вдыхает и повизгивает, словно вынюхивает ваши образы и смыслы разговора?.. не плачь… давай мамулю… Катюша, мы будем переписываться… я здоров, как бык перед боем в Толедо… увы, дорогая, невозможно представить варианта судьбы, лучшего, чем этот, слава Тебе, Господи – Владыка случая… мы тут сейчас за вас выпьем с нашим директором… ну что у меня впереди?.. во-первых полное за вас спокойствие, работа, книги, музыка, Ген, во-вторых, исключительно пространство жизни как таковой, чертовых научных мыслей и исследований – разве этого мало, если уж на то пошло?.. поверь, для вас и для меня – это сказка, рай земной… да – чистая правда, чище не бывает… я чувствую, что обе вы, как бы то ни было, тоже в порядке… нет, нет, ни о чем не жалей… мы будем переписываться… башка еще работает – адрес помню наизусть… лобызаю тыщу раз, тыщу раз… ты не представляешь, как я вас благославляю – словно я в одном лице и Патриарх, и Папа Римский, и Архиепископ Кантерберрийский, и Верховный Муфтий, и Главный Раввин, и Тибетский Лама, и Чрезвычайный, Полномочный Гуру дзен-буддизма – вот как я вас, любимые мои, благославляю и целую, целую, целую…
А.В.Д. передал трубку Шлагбауму, после чего, зажмурившись, пару раз встряхнулся, словно человек выведенный из глубокой спячки и вновь возратившийся на Землю после многодневного пребывания в каком-то ином измерении, или пес, выбравшийся из пруда. – Вам, Александр Владимирович, действительно тошно думать о науке? – В данный момент не до нее, даже смешно: до чего, по сравнению с катаклизмами душевной жизни, все науки жалки и ничтожны вместе с технологиями, механизмами и общественно-политическими системами… тело-то – черт с ним… грешно и неблагодарно сравнивать науки и технологии хотя бы с вашими, с моими, с собачьими чувствами – со всем тем, чем полна сегодняшняя атмосфера человеческой жизни во всем мире… при этом, не скрою, своя рубаха ближе к телу… наливайте… пью за неведомые пути следования Их Величеств – почтенных Причин, зачастую гримирующихся под свои Следствия, а также нищие рубища носящих.
В тот вечер?, день?, ночь? – оба эти человека о многом болтали, как это ни странно, ни разу не поспорив; да и что могло бы подвигнуть на спор или дискуссию двух счастливчиков, чудом выкорабкавшихся из преисподней, чудом спасшихся от бездарнейшей из гибелей и теперь находящих очень простое, при всей его несказанности, удовольствие беззаботного произнесения ничего не значащих слов, пустяковых фраз, взаимных – о том, о сем – охотно возникавших, по-детски сбивчивых, воспоминаний.
Кроме того А.В.Д. необыкновенно осчастливливала и ублажала радость за двух любимых существ, с невероятной скоростью проделавших не внезапный переезд из подвалов этого зловещего лабиринта, полного гадов пакостничества, прямо в Лондон, – а прямо-таки совершивших мистический трансцензус в осенний яблоневый сад, радующий переспевшей, но свежей, как первый морозец, «антоновкой», десны сводящей обожаемой кислятинкой. «Слава Тебе, Господи, – прошептал он, – теперь они на райском острове, оказывается, имеющемся на этой планете». – Ну а если не биология, не генетика, то чем бы вы предпочли заняться? – Несомненно, музыкой, либо живописью, разумеется, когда б имел призванье и талант… рисовал бы и живописал человеческие лики, добиваясь излучения ими – как умели намалевывать гении кисточки – богоподобной одухотворенности, красоты чувств, мыслей, характеров, небесно загадочных улыбок, неистовой веры, чистоты скорбящей слезы… быть может, увлекся бы изображением безобразных личин зла – Босх, признаюсь, мой самый, самый любимый художник… короче говоря, я просто признательно откликнулся бы на зов Богов, если вас устраивает слово сие, именующее созидательную Силу, – Силу невообразимую, абсолютно несоизмеримую со всеми мизерными возможностями нашего разума, необычайно далекими от уразумения ее сути и от проникновения в изначальную Тайну Тайн. – Я вот смотрю на это дело, на теологию, как юрист, и не могу понять одной очень простой вещи: на кой черт, на кой ляд всемогущим Божествам, Богу – не неважно, кому или чему – звать на помощь человека, по вашему добровольному заявлению, маленького и ничтожного?.. чего это такого у Всевышнего не имеется, что оказывается в наличии у двуногого ничтожества, точней, у представителя преступной группировки, по существу данного дела называемой человечеством?.. я вот тоже с некоторых пор трепещу, стою на пороге веры, временами сомневаюсь в существовании вашего Всевышнего – стою, значит, на дрожащим подо мной пороге, но боюсь, безумно боюсь ступить в дом, в Храм, чтоб, уже укрепив там стопу, безмолвно воскликнуть: «Верю!».. вот что хочу сказать: мне ваше, опять же шутливо повторю, показание по существу данного дела кажется весьма абсурдным, от того и смешным. – То-то и оно-то, Люций Тимофеевич, что все дело – я тоже вынужден повториться – в абсолютной несоизмеримости Божественного и людского… вот то простое и, одновременно, сложное, малое и великое, слабое и сильное, что необходимо понять/почувствовать в вечной, поэтому ежемгновенной взаимооборачиваемости полярно противоположных свойств и качеств, качеств и свойств Бытия… тысячелетия назад это уже было известно китайским пророкам… вот, к примеру, вы – могли бы вы накорябать сотню-другую страниц моего «Дела номер 2109», шитого-пришитого говенно-кровавыми нитками, – причем, накорябать его на атоме углерода, как нечто подобное делает один умелец в Китае на малюсенькой рисинке в честь приближающегося юбилея автора Конституции СССР, весьма властительного человекоидола?.. словом, не смогли бы, не накорябали бы – сделать сие невозможно даже вашему ведомству и дюжине объединенных НИИ… кстати, отгадайте: что такое НИИПРОЕБУ?.. не можете, я тоже не смог… научно-исследовательский институт проектирования будущего… за саму загадку и ответ на оную одному моему знакомому, гениальному математику, припаяли пять по рогам, пять по ногам и, представьте себе – в вашем заведении он прыгал от счастья… вернемся к нашей теме… избранники высоконравственных религий, искусств, философий, различных наук как раз и наделены – из-за несоизмеримости невообразимо большого с невообразимо малым – мыслящими разумами, различными языками, возможностями музыкальных звучаний, красками, наконец, слабыми руками, сотворяющими все те богоподобные малости, которые не по силам, Люций Тимофеевич, – да, да, не по силам – Великому и Всесильному, именуемому нами Богом – вот в чем дело… честно говоря, доказать ничего не смогу, но, как биолог, почему-то убежден, что Всеобъемлющая Сила Сил,- не может быть органическим существом… скорей уж это нечто органически-неорганическое-неорганически-органическое, проще говоря, воедино слитое живое-неживое, вечно творящееся, обретающее формы во времени и покоящееся и блаженствующее от бесформенности… выходит дело, Бытие устроено так, что слов, обозначающих сущность Силы Сил, нет и быть не может, во всяком случае, до тех пор, когда все будет ясно и без них… прихожу, скорее к ощущению, чем к убеждению, точней, к чувствомыслию, что Бог – это некое средоточие единства Бытия, Времени, вселенских макро и микромиров, четырех стихий и так далее… эта инфантильная попытка определить самое важнейшее из всего важного устраивает меня лично… чтобы не забыть: достаньте мне, пожалуйста, ежели не затруднит, сочинения Лао-Цзы и Карла… зря кривитесь, я имею в виду Карла Юнга, его книги понадобятся мне для работы… да, естественно, на немецком… бойтесь думать, что биология, в частности генетика, менее философичны, чем сама философия… вообще-то, принципиально важно вслепую почуять и без того невидимое присутствие вокруг нас ряда основополагающих истин, постигаемых или не постигаемых сознанием, а не оказываться в плену у казенно-косной религиозности… я уж не говорю о совершенно не обязательном пребывании ума во власти западно-европейской философии, особенно современной, суесловной, давно страдающей хронической фригидностью, в отличии от вечно молодой, свежей, пышущей здоровьем поэзии, старающейся постигнуть первоглубины слов и блаженствующей от одного только этого желания… увы, увы, тайна поэзии остается непостижимой точно так же, как тайны самого Языка и, не удивляйтесь, оргазма… именно в нем, так же как в миг завершения плодоносного творческого акта, высочайшее из всех известных наслаждений, в котором невообразимая боль волшебным образом уравновешена неизречимым счастьем, – лишь в нем, больше ни в чем, мы, двуногие обладатели разума, невесомо балансируем в течение каких-то секунд над истонченными до невидимости связочками между неразрывными звеньями круговой бесконечной, милой душе, цепочки до-бытия-бытия-жизни-смерти… все это, к сожалению, можно только почувствовать… оставим эту тему, наливайте, спасибо… готов поставить с первой получки ящик лучшего коньяка, если укажете любую живую, или неживую, частичку, в которой не присутствовало бы – неприятно было бы сказать «не функционировало бы» – Время… порою Оно мне кажется, более всесильным, чем смехотворно очеловеченный людьми Всевышний, хотя оба имеют абсолютно похожие атрибуты: всеслышание, всевидение, всезнание, всеведение, всепроникновение… правда, Время кажется лично мне абсолютно бесчувственным… однако и оно бывает великолепно милостивым, предоставляя всем видам Флоры и Фауны возможность несколько передохнуть от существования и пребывания на белом свете… вы правы, Люций Тимофеевич – череду такого рода передышек мы именуем смертью… к счастью, никто – ни червь, ни орел, ни леопард – не в силах размышлять о смерти – сие тяжкий удел несчастных людей, особенно, поэтов и истинных философов… должен вам сказать как профессионалу дознания, что допрос самим человеком самого себя, не понимающего своей сущности и знающего только то, что ни черта он не знает, – дело намного более трудное, чем ваше, следовательское… иного человека можно расколоть, но ни мне, ни вам колонуть себя до кобчика, поверьте ясновидцу, пустая, если не невозможная затея… мало чего понимаем, как ни крутимся – так и так всего не постигнем, хоть бейся лбом об стенку, ибо каждое из наших постижений только увеличивает объемы бесконечно непостижимого. – Ну а Христос, получается, что? – Великое, сделавшееся Малым, чтобы преподать нам, идиотам, какого следует придерживаться поведения и какие да как именно блюсти максимы нравственности?.. но ведь мы и сейчас ни черта, как вы показывает, то есть утверждаете, этого не понимаем, хотя Спаситель и тайн нам пооткрывал, закамуфлированных в притчи, и попал в тиски предварительного следствия, и страдания претерпел ради нас с вами, и распят был, и Церковь, Им основанная, пару тысячелетий литургует да трезвонит во все колокола, ныне, к сожалению, безмолвствующие на одной шестой… ну и что? – спрашиваю вас. – Думаю, Люций Тимофеевич, колокола безмолвствуют, временно… поверьте мне, оптимисту пессимизма и пессимисту оптимизма, сейчас я слышу сей звон и, шутливо говоря, твердо знаю откуда он… у Бога дней много, не то что у нас с вами. – Мн-да-с… почему-то вовсе не удивляюсь вам – человеку, что-то видящему в самом беспросветном мраке будущего… вашими бы устами мед пить, а не давать идиотские показания… теперь мне есть о чем подумать. – Не могу не сказать, что, если б не арест и все такое, не знаю, открылись бы мне некоторые соображения… вот как в здешнем аду выпадает шанс изведать райски возвышенные чувства и мысли, правда, видит Бог, желаю всем людям изведывать их на свободе… мало ли было, слава Ему, на свете людей не нюхавших решетку, которым открывались невероятно поразительные вещи?.. должен сказать, наблюдаю в вас человека, в котором рядом с нормальными чувствами и мыслями, что очень понятно в вашем положении, все еще уживается цинизм преступно жестокой чекистской работы. – Знал бы где споткнуться – подложил бы подстилку… стараюсь не односторонить, а, по-возможности, одеколонить и спасать свою шкуру… я лучше вас знаю, что грош цена всей моей изуродованной жизни… однако не перетрухну с предосторожностью выдавать правду себе и вам… я не из тех, которые в наши времена привыкли помалкивать в никем – в никем! – непрослушиваемой душевной тишине о испытываемых чувствах, а уж о прибитых и затоптанных мыслях промолчу… вас уважаю за нескрываемую ненависть, сами знаете, к чему и к кому, ну и, разумеется, за неукоснительное следование велениям совести… извините уж, разговорился, поскольку отвык от свободных, как при жестоком царском режиме, бесед… я вот снова вспомнил одного необычного подследственного… уверен, вы снова смекнете о ком именно балакаю… совсем он был не стар, но выглядел дряхловато, поначалу я его не узнавал – так изменился он внешне… поэт, крупнейший поэт – можно сказать, поэт поэтов – не то что «самый лучший, самый талантливый нашей эпохи»… когда-то мы встречались не в кабаке, а в нелепом салоне супруги одного якобы простого и скромного нувовластителя… поэт там почирикивал, прямо соловьем заливался – так он жаждал петь и от свалившихся вдруг на голову ужасов действительности, и от счастья существованья… он чудесно щеголял мыслями и с неслыханной свободой разглагольствовал обо всем таком, о чем даже безумцы – литераторы тем более – помалкивали в красную тряпочку с серпом и молотом в одном из сопливых ее уголков… однажды поэта доставили в мой кабинет, он меня тоже не сразу узнал… угостил я человека куревом, чаем с его любимыми пирожными, походили вокруг да около весьма, по-моему, среднего, однако, самоубийственного стишка, слишком неосторожно, слишком, что называется, духовито брякнутого где-то, затем кем-то переписанного, – ну и пошла телега ходуном, как у Овидия, Данте, Байрона, Пушкина с Лермонтовым, тут и Гумилев, понимаете… сам стишок, скорей всего, вам знаком… я попросил поэта прочитать свой опус, тот прочитал вполголоса, без свойственной ихнему брату, как говорится, заоблачной интонации… я расслышал в его голосе нотки окончательно неизбежного согласия с судьбой, точней, полнейшей невозможности ей противостоять, а также осознанной готовности принять свою участь из отвратительных рук власти, если слегка перелицевать его же строку… мне стало страшно смотреть в глаза человека, приговорившего себя к смертной казни… сейчас вы, догадываюсь, подумали, что лучше уж самому себя приговорить, чем ждать решения властей, так?.. вам, сверхлюдям, видней… я честно сказал, что преклоняюсь перед его творчеством, но стишок кажется мне лишь рисунком с натуры – не более… шопотком я добавил, что копнуть глубже было бы слишком большой честью для такого объекта… да, да, объекта… он ответил, что стишок – заведомо никакой не образец совершенной поэзии, а всего лишь скромный, но вынужденно бесстрашный шаг на пути следования совести к цели – к самой себе… и поэту от нее, то ли к сожалению, то ли к счастью, говорит, не открутиться, иначе я бы перестал быть поэтом… могу, обещает, дать честное пионерское, что больше никогда не буду… дело-то было очевидным, поэтому я не стремился оформить его окончательно, то есть так, как оформляются подобные дела, находящиеся в моей юрисдикции… рапортуя верхам, упомянул о авторском сожалении и твердом обещании прекратить словесные озорства, непреднамеренно и слишком далеко вышедшие за рамки творческой свободы… я же отлично понимал – за кем последнее слово… распоряжение о том, как быть, должно было последовать непосредственно от субъекта и, если уж на то пошло, объекта вызывающе карикатурного портрета… черт бы, думаю, побрал даже не смелость вашу, Осип Эмильевич, а намного более сильную, чем она, абсолютную наивность бесстрашия, с которым выставили вы – это в наши-то дни! – злосчастный портрет на обозрение нескольких доверенных лиц… это ожесточило злопамятного вождя, заодно уж бросило вызов «толпе палачей свободы, гения и славы, стоящей у трона», а так же «их всеслышащему глазу, и их всевидящим ушам», то есть нам, НКВД… странно, что с детства путаю слова в эти строчках именно так… не забывайте, нас никто не слышит и не видит… это все к тому, что в нем, в поэте, смелей которого в наше время не было буквально ни одного человека во всей братии, что-то иам сочинявшей на просторах родины чудесной, – я с ужасом существа более-менее просвещенного, хоть и невольно злодействущего, различил присутствие безрассудного, инстинктивного страха… в страхе этом – он мне знаком – не было ни доли от, как бы то ни было, осознания человеком ситуации момента… это был страх загнанного беззащитного животного – страх, словно бы выплывший в нем из глубинных пластов памяти, намного превышавший человеческий, сравнительно разумный, страх, – тот, что выходит из-под контроля души, ума, воли и вообще не поддается ни усмирению, ни дрессировке… вот так, Александр Владимирович: очень трудно, почти невозможно, быть великим, в высшей степени преображенным человеком, каким и был поэт, попавший в жернова истории… в тот раз я не получил решительно жестокого распоряжения, поэтому его освободили… сегодня дни его сочтены – ему там не выжить… но поминать человека еще рано… лучше выпьем за существование – это дело замечательное, а вот жизнь – говно необыкновенно вонючего пошиба… предлагаю не растравлять себя напрасностью раздумий… подобно вам, тоже не могу поверить в удачу: с завтрашнего дня не работаю в этом учреждении «по состоянию здоровья и в связи с переводом на более важную работу»… личная моя просьба уважена с согласия наркома и, само собой, Хозяина… мн-да-с, и вот что еще: возможно вас вызовет для беседы именно он, а он это любит -чуреком человека не корми, но дай поболтать с видным представителем искусства или науки… так вы уж будьте готовы ввести его в курс перспектив – пусть даже научно-фантастических… даже там, скажу я вам, понимают, что ничего не делается за одну секунду, хотя планы и директивы обязаны выполняться немедленно, безоговорочно, с безукоризненной отдачей сил и средств даже тогда, когда нет ни тех, ни других, причем, под страхом исключения из партии и высшей меры социальной защиты… пропади все оно пропадом… между прочим, в наш с вами Центр будут наезжать творческие коллективы цирка, филармонии, синема и театра – в этом смысле не соскучимся, обещаю… спокойной ночи… не забывайте о том плюсе, который позволит вам не мантулить, добывая черт знает какие руды в вечной мерзлоте проблем, но – исключительно ворочать мозгами, смотря в сверхмощный микроскоп – его чертежи вот-вот будут добыты – то есть исследовать, читать, слушать музыку, блаженствовать на лоне природы, общаться с псом и так далее… мы ведь наловчились превращать – когда приспичит, когда припечет – злокачественное добро в доброкачественное зло, как заметила Ольга Ш., одна моя подследственная биологиня.. вы, должно быть, с ней знакомы… но ей повезло – она уже на воле… вы ведь спали, не заметили, что Гена выводили на оправку… демократия в нашей стране столь совершенна, что в любой тюрьме любой человек и любая собака имеют полное право отлить и отбомбиться… с вашим псом у меня сложились замечательно нормальные отношения – я это очень ценю, очень… даже затрудняюсь сказать, кто еще относится ко мне столь же уважительно и сердечно, как он… до завтра, сударь, пока, собака. – До завтра… попрощайся, Ген, подай дяде лапу. – Пока, красавец… отличный он у вас пес, не порченный, я тоже заведу собаку – пуделя себе отхвачу, назову Пушкиным, ваш будет с ним дружить… странное опять-таки дело, приказ подписан, адью, Лубянка, все ночи, полные огня, но никак не могу поверить, что стал большим администратором… не верится – настолько все это неправдоподобно, более того, неправдоподобно до сказочности.
36
А.В.Д., когда Шлагбаум удалился, провел остаток – ночи?, вечера?, дня? – в каком-то благословенном тумане счастья; он считал свободу самых близких душе существ и их надежную удаленность от немыслимой бесовщины – основным, целиком и полностью, слава Тебе, Господи, удавшимся, делом жизни; вдруг он всей кожей своей, всем своим нутром ощутил, как прошлое, словно Ноев Ковчег, по самые борта нагруженное спасаемыми, чистыми и нечистыми, невинными тварями, – как прошлое снялось с тяжких якорей, вроде бы навек въевшихся в безмолвную плоть придонной тверди, и вот уже медленно, медленно плывет по безмолвному штилю невесомых вод настоящего к пока еще призрачным горизонтам будущего времени – в неизвестность всего и вся; в тот миг – почувствуй он в себе примету образа исполненности совершенной полноты жизненного предназначения, – исполненности, присутствующей в естестве любого зрелого растения и животного, – оттого и очаровывающей души людей, обожающих красоту Творенья, – этого образ смутил бы его или перепугал.
Но А.В.Д. было не до чувств, не до поэтически эстетизированных размышлений о них, не до будущего, даже не до боли, иногда предельно тупой, иногда немыслимо острой, пронзающей сердце, – такая вдруг охватила его душу блаженная, впервые в жизни испытываемая, усталость, полноправно требовавшая отдать себя убаюкать в ее всезаботливые материнские руки; вот и отдал, сладко зевнул, улыбнувшись смешным словам, сказанным Гену перед сном: «Ладно, раз уж так, друг мой, то подрыхнем оба нераздетыми, – нам не до условностей».
В тот же миг легко – словно только что мелькавший в уме якорь, сладко звеневший цепью и истосковавшийся по милым душе твердям глубин, – он бултыхнулся в темные воды отдохновенья и, главное, наконец-то явившегося сновидения.
Он моментально увидел себя на слегка заиндевевшей за ночь торцовой мостовой кремлевского двора, показавшегося бескрайним… призрачно безликий холуй в энкеведешной гимнастерке выбежал из кабины, открыл, потом захлопнул за ним бесшумную дверь более черного, чем мостовая, чуть ли не развеществленного, почти живого туловища правительственного «Линкольна», сверкавшего рамками, бамперами и огромными фарами; их блеск еще резче подчеркивал великолепную черноту капота двигателя, впереди которого постоянно и стремительно неслась вдаль фигура великолепной собаки, поблескивавшей инеем… «Линкольн» неслышно, словно в нем работали натуральные легкие, а не цилиндры двигателя, отъехал, точней, растаял в пасмурном предрассветном тумане… двое, внезапно возникших, таких же безликих, как первый, холуев – оба в сером шинельном сукне до пят, в шлемах с мудацкими наялдашниками и звездами во лбах – сопроводили нисколько не расстерявшегося А.В.Д. в фойе Георгиевского дворца… он совершенно не удивился, увидев любимого пса на ковровой дорожке огромного фойе… его милая умная морда привычно покоилась на обеих вытянутых лапах, блаженствующих на глади беспредельного покоя… он глубокомысленно поводил бровями, чутко шевелил раструбами ушей, в глазах светилось понимание причины, по которой оба они здесь, а не в помещении без светлых окон наружу и открывающихся прямо на свободу дверей.
А.В.Д. с тем же странным равнодушием отнесся к своему молниеносно быстрому возникновению в громадном кабинете… в том самом, который, сидя в кино, видывал членов политбюро, крупных руководителей, знаменитых маршалов, впоследствии расстреливаемых, затем быстро вопроизводимых из младших чинов, в свою очередь, готовых к расстрелу, необъяснимость которого устрашала миллоны нормальных граждан, продолжающих мыслить трезво, но вынужденно скрытно… некогда бывали тут и императоры России и высшие иерархи… разумеется, посиживали в этом кабинете так называемые «большие друзья Советского Союза», охотно позволявшие себя оболванивать, потому что вечно живущее в людях желание принять желаемое за действительное уничтожало их совесть, размягчало мозг, убивая в нем функцию критико-аналитического мышления, и атрофировало все инстинкты, ежесекундно помогающие животным своевременно воспринимать в окружающей их действительности острые и опасные ситуации.
Ген тут же забрался под громадный стол, покрытый зеленью сукна, поэтому и походивший на кабинетный стадион; тут же из-за какой-то старинной, древней, скорей всего, бывшей царской ширмы вышел якобы родной отец, друг и учитель, не спеша набивавший трубку; он что-то говорил и говорил, не понятно к кому обращаясь, однако не к самому себе; суть странного монолога до А.В.Д. не доходила; это не раздражало, наоборот, прибавляло спокойствия, граничившего с блаженством совершенно безразличного отношения к тому, что происходит вокруг.
А.В.Д. нисколько не удивился и тому, что его второй глаз, тот, что недавно вытек, цел-целехонек, причем, оптически безупречно фунционирует и даже не слезится – моргает себе, как ни в чем не бывало, вместе со своим партнером по зрению… правда, постепенно осознавая невероятность картины действительности, он начал недоумевать… эту картину он воспринимал, если можно так выразиться, с легким грузинским акцентом, словно бы внушаемым его вИдению монологом самодержца, хозяина кабинета, – акцентом, невольно подчеркивавшим вульгарную стилистику мертвословной фразеологии советских газетенок; кроме того, в нем остро чувствовалась, крайне удручавшая душу, стиснутость синтаксиса родного русского, неторопливо исковеркиваемого вождем народов, уже попыхивавшим трубкой, известной всему миру; кстати, музыку языка Грузии А.В.Д. обожал не меньше, чем музыку латыни… в его мозгу мелькнула знакомая по прежним раздумьям мысль о истинно божественной демократичности всех изначально свободных языков, никогда не нуждавшихся ни в Конституциях, ни в Хартиях, ни в Декларациях – лишь в алфавите, грамматике, любви к себе и лингвистическом слухе… мелькнула мысль и о том, что Высшие Силы, называемыми людьми Богами и прочими символическими именами, одарили каждый из людских языков саморазвитием всех его форм – ради порядков красоты смыслов и смыслов порядков красоты. – Ну что ж, как говорится, гамар джоба, товарищ и кацо Доброво. – Добрый день, Иосиф Виссарионович, я должен… – вежливо попытался произнести А.В.Д., но, к его прежнему удивлению, в данном случае, к радости, слова не произносились – они не возникали на устах, не вылетали из уст. – Я знаю, кому, сколько и что именно вы должны, если считать объективно достоверным тот факт, что здесь папахивает так называемым собачьим духом… я тоже люблю собак не меньше, чем сугубо марксистское стремление к познанию относительных, тем более, абсолютных истин… пусть четырехлапый товарищ спит… было бы логично ему позавидовать, потому что по ночам, в связи с ответственной партработой, я не могу долго отдыхать на одном месте… позволительно спросить, товарищ Доброво: во-первых, может ли привести смело направляемый нашей партией вечный прогресс эволюции к некоторому умению наших нижних конечностей ответственно функционировать, подобно нашим верхним конечностям?.. или мы обречены на вечную пыль, пыль и дальнейшую пыль от шагающих сапог, если верить Радьарду Киплингу, общеизвестному певцу колониализма?… партия имеет в виду возможность нижних конечностей нового советского человека практически разумно выполнять прямые обязанности конечностей верхних… во-вторых, ваш утвердительный ответ позволил бы нам впервые в истории существенно ускорить строительство как социализма, так и коммунизма… вы, я вижу, отлично понимаете, что только недальновидные враги народа могут рассматривать данный проект как внеочередную невыполнимую утопию большевиков… напомню, в дни революции мы с Ильичем взаимно разыгрывали в четыре ноги ноты камерной сонаты ВКП(бэ-моль) великого утописта Фурье для фаланстера и оркестра, музыка Сен-Санса, слова Дунаевского… но нашим грезам помешал НЭП и дальнейшая возня фашистского империализма против марксистско-ленинской идеологии с научной фантастикой включительно… отлично понимаю, вам хотелось бы объяснения, почему миллионы простых людей доброй воли в нашей стране, особенно, за рубежом искренне восхищаются исторической ролью, выпавшей именно на долю Сталина, а не каких-нибудь Троцких и Бухариных?.. поделюсь с вами секретной установкой нашей партии: кто прошлое помянет – тому глаз вон, но свято ее нарушу и скажу следующее… недавно наши славные разведчики скопировали лично для меня целый ряд важных выжимок из рукописей знаменитого исследователя Фрезера о происхождении первобытных верований… все очень просто: в далеком прошлом, точней в предистории, руководителями племен, затем и народов, становились мы, люди, чей пытливый ум, стальная воля, жестокость, целиком подчиненная исторической необходимости, и надмирная беспринципность на несколько порядков превышали соответственные качества их соплеменников… нас, выдающихся властителей и военначальников начали боготворить, так как подчиненные люди, по своей природе, товарищ Доброво, злы, глупы, подлы, завистливы, ничтожны, в каждом из них живет враг народа, предатель родины и вредитель интересов всего общества… скажу вам откровенно: дело на в уме, дело не в гениальных способностях… Сталина просто не существовало бы, если бы он был человеком на какую-то долю помягкосердечней, посовестливей, посправедливей, почеловеколюбивее, что, соголасно диалектике, логически вытекает отсюда туда, если не отсюда туда… имя Сталина неслучайно, а необходимо обожествляется миллионами людей во всем мире и в нашей стране, по мудрому указанию Ильича, до основания разрушенной империалистической войной, диалектически перешедшей в гражданскую… в имени Сталина сфокусированы надежды и упования лучшей части трудящихся масс, что весьма удивительно, поскольку и вы меня, как и я сам себя, считаю величайший злодеем всех времен и народов…
То что скромно одетый вождь, шагая из угла в угол кабинета, серьезно порол немыслимо дикую хуйню, дымил-попыхивал трубкой и дорассуждался до того, что просто забыл, как это бывает с властительными, неумными и крайне поверхностными мегаломанами, о вопросе насчет утопического омузыкаливания мозолистых ног двух вождей революции, – все это буквально спасло А.В.Д. от ответа, который уже вертелся на языке, правда, попрежнему никаких не имея сил слететь с уст… с речью А.В.Д. происходило нечто трагическое и вроде бы совершенно неразрешимое: стоило ему с огромным напряжением мысленно произнести всего какие-то два слога, как идолище в партийном кителе, словно бы читая его мысли, немедленно предупреждало ответы на каждый из своих мудацких вопросов и само же на них отвечало. – Не будем играть в так называемые нашими врагами бирюльки, товарищ Доброво… политбюро, основываясь на информации, добытой из ряда источников, заслуживающих доверия, одновременно высшей меры социально-нравственной защиты, еще точней и логичней, расстрела, пришло к общему коллективному мнению о том, что вы совершили прорыв в науке, хотя работали в условиях травли со стороны некоторых незадачливых горе-ученых на букву «Г»… да, они – говно и вредители… однако, к выдающемуся сожалению нашей партии, вы пока что всего-навсего создали теорию исторически необходимой нам молекулярной структуры основоположной кислоты, уже давно и, как сообщает надежный источник в институте Пастера, неслучайно названной ДНК… партия уверена, что закрытый коллектив ученых, фактически руководимый вами, к тому же мощно вооруженный по последнему слову заграничной фотомикроскопии и прочими материалистическими индульгенциями, совершит научную революцию и экспериментально покажет всему миру истинное лицо данной ДНК… ей мы присвоим имя бессмертного Ильича, а каждую из хромосом постановим и впредь величать фамилиями людей, чьи золообразные прахопеплы захоронены в урнах Кремлевской стены… мне нравится, что у вас нет субъективных вопросов к Сталину, а имеются только, заблаговременно опережающие их, объективные ответы… судя по донесениям разведки, вы действительно прозорливы и провидчески уверены в возможности практического клонирования вечно живого организма самого простого изо всех прошедших по земле людей, как сказал самый наилучший поэт нашей эпохи, воспевший настоящий, мудрый, человечий, ленинский огромный лоб… советую как следует обдумать свой ответ, поскольку слово не воробей – вылетит и НКВД его уже не поймает, разрешите скрыть мою улыбку в струйке дыма, как поет Изабелла Юрьева.
А.В.Д. вновь напряг гортань, язык, губы, чтобы обрести дар говорения, особенно им обожавшийся при необходимых обстоятельствах личной и служебной жизни… это позволило бы ему высказать пару соображений насчет различных аспектов совершенствования генной инженерии и ее различных прикладных значений, необходимых нашей довольно импровизационно и бесконтрольно развивающейся цивилизации… но он продолжал немотствовать, не желая ни бессмысленно мычать, ни натужно таращить оба глаза в потолок… рот намертво сковало сквернотой какого-то сверхсильного местного наркоза… но это еще было полбеды… что-то – не понятно что именно – все сильней и сильней стало напоминать ему в физиономии, в фигуре вождя, в сановно уродливом стиле его крайне неторопливых, несколько театральных говорений, в безОбразной жестикуляции, свойственной скорей уж паровому молоту, чем двуногому существу, – гениальное мастерство Димы Лубянова, безукоризненно загримированного и в высшей степени артистично – то ли вынужденно, то ли не вынужденно? – вжившегося в роль удачливейшего из гнусных убийц, интриганов и властительных шарлатанов нашего времени… он подумал, что начал трогаться, что уже поехал, поехал, поехал… ко всему прочему, с ужасом почувствовал, как нечто отвратительно безградусное, главное, не имеющее удельного веса, обожаемого всеми без исключения уважающими себя веществами, поразительно похожее на невидимую ртуть, наделенную формообразующим разумением, – стало медленно, мягко, плотно, изнутри его обтекать, поднимаясь все выше и выше, и выше, отнимая вместе с весом возможность какого-либо движения, так что даже вздрагивать, даже произносить слова он мог только внутренне… невесомость количеств неземного, неизвестного науке, элемента постепенно сообщала всему его организму тоску по свободе простого, упоительно комфортабельного чувства животного счастья существования… А.В.Д. без ужаса замечал, как теряет привычное самоощущение, понимал, что это вот-вот приведет к потере состоянии вообще, и тогда его душа окажется в ранее незнакомом, в совершенно неощутимом, в равнодушном ко времени пространстве, предельно сведенном до внутренней формы ненужного тела, которое, кажется, начинает принимать себя за душу… а уж, обрадовался он, если тело начнет принимать себя за душу, то и пусть: бессмертная душа, как всегда, не взропщет, наоборот, это ее примирит с такого рода спасительными примерещиваниями бедного смертного своего тела, и она не пожелает их разрушать.
«До рта этому нематериальному «материалу» еще ползти и ползти, можно было бы успеть плюнуть в морду вождя… впрочем, это было бы капризным мальчишеством, одновременно, истеричной девченочностью… кроме того, плевать в нелюдь – слишком высокая для нее честь… не по чину нелюди драгоценные сгустки слюны моей прелестной… кроме того, нелюдь не способна воспринять что-либо человеческое – даже плевок… а вот насрать на нее не мешало бы, но священное сие действо, увы, тоже недостижимо… ну что ж – прощайте нужды малая и большая… главное, я не могу окликнуть пса… между прочим, если актерствует Дима, то он гений, а к ногам великих артистов положено бросать лавровые венки… если же расхаживает по кабинету действительно сам Гуталин, то, выходит дело, я – настоящая дрянь… о как ненавижу формальную логику – как я ее ненавижу… и вообше, – лихорадочно соображал А.В.Д. во сне, – невозможно представить, что, скажем я, в такой вот ситуации не дал бы Диме знать хотя бы мгновенным подмигиванием, хотя бы пальцем, подобно зубной щетке, проведенным по зубам, или еще как-нибудь, что узнаю его, большого артиста, вынужденного исполнять роль вождя в огромном кабинете точно так же, как раньше в камере, входить в роль Валька – старого урки, тертой рыси, знатока чудеснеших песен… зря я, идиот, брезговал ими всю жизнь, зря… но почему он никак не намекнет, что все-таки является Димой и, выходит дело, импровизирует на ходу, как внушал Учитель?.. с другой стороны, каким образом Дима не только читает на расстоянии мои мысли, но и обгоняет своими ответами мои же вопросы?.. все это непостижимо… приходиться согласиться, что театр – это театр, артист – артист, а я – совершенно незнакомое мне самому существо».
– Вы отдаете себе отчет, товарищ Доброво, какое получает Сталин замечательно огромное удовольствие, принимая единоличные решения по коренным вопросам жизни государства, из которых вытекает забота о его внешней и внутренней политике, о разведке, количестве расстреливаемых и изолируемых врагов народа, финансовой помощи иностранным компартиям, сидящим на голодном пайке в ожидании мировой революции?.. простому человеку никогда не понять вышеуказанного удовольствия… эта штука намного сильней «Фауста» Гёте и грандиозней, понимаете, пресловутых оргазмов, настойчиво отвлекающих массы от строительства светлого будущего… кроме того, мы ни на минуту не должны забывать о нуждах красной армии, экономики, сельского хозяйства, кино, литературы, цирка, театрального искусства, а также проклятых Шостаковичей, Прокофьевых и сельской самодеятельности дружбы народов… приплюсуем к данным заботам обе советских науки, открытую и секретную, уничтожение внутренних и внешних шпионов силами НКВД, не говоря о дальнейшем увеличении товаров ширпотреба для широких масс простых трудящихся людей доброй воли… несколько преамбулировав ваш ответ на мой вопрос, скажу так: я тоже, как и вы, не думаю, что было бы своевременно, по-русски говоря, воскрешать личность Ильича из вечно живых, но мертвых, с доступом в крупную фигуру выдающейся человекоединицы прежней натуральной величины… с моей речью происходит что-то не то… на чем я остановился, шени деде магуткнам?.. да, да, Сталин остановился на том факте, что вы пишете о всегда возможной негарантируемой идентичности воскресшего товарища Ленина и его априорной неадекватности вечно живому гению партии и революции… это попахивает меньшевистской антиномией… я вижу, что ваша фантастика не отдает себе отчета в некоторых нежелательных побочных факторах… вы себе представляете, какая начнется болтовня-брехотня на сессии Верховного Совета СССР, когда Сталин объявит с трибуны о вашем открытии и о реальной возможности копировать как безвременно, так и своевременно ушедших от нас товарищей?.. так вот, представьте на минуту характер выступлений знатных артистов, рабочих, крестьян, ученых, писателей, военнослужащих, прокуроров, спортсменов и еще черт знает кого именно, включая балерин… от чуши, которую начнут пороть все выступающие у Сталина уже сейчас трещат единственные в истории всего человечества мозги… того, видите ли, разрешите копировать… Достоевского желательно запретить с поражением в правах, а за его счет воскресим Пушкина с Толстым… Плеханову необходимо установить кандидатский срок, с вычетом из зарплаты расходов по эксплуатации Трансцедентала… мы должны предоставить лицам всех воскрешаемых тел, кроме пресловутого Иисуса Христа, трудоустройство в рамках настоящего и будущего, достойное их славного исторического прошлого… мы, советские философы нового типа, должны создать первый в мире закон о прижизненном предоставлении кандидатам на перетранспортирование бесплатного проезда в общественном транспорте, а также сезонной одежды, варежек, шарфов, галош и первых рядов в кино, театрах, на стадионах и прочих ротозействах союзного значения… что бы сказал на моем месте Ильич?.. он, товарищ ЗловО, шэни деде могуткнам, то есть Доброво, – он бы не улыбнулся, из чего логически вытекает, что таковой не потер бы ручки и, недовольный, никогда не погладил бы нас по головкам… допустим, мы воскрешаем какого-нибудь Ивана Грозного или героя гражданской войны, например, Григория Котовского, да?.. хоть всех святых выноси – моментально образуется змееобразная фракционная борьба за воскрешение первостепенно важных личностей отсталой старины… лучше пусть все они спят вечным сном, как спали и будут спать… возьмем Буденного – этот, как сказал Леонид Утесов, вЗадник без головы, примется ратовать за любимую, но преждевременно подохшую кобылу… Тимошенко – за полководца Суворова с Кутузовым, который стратегически открыл Наполеону зеленую, понимаете, улицу в столицу нашей родины Москву… Ворошилов захочет встретиться с родной мамой, после чего устроить запой с Чапаевым и Петькой при участии балерин Большаго театра… Микоян намекнет на освобождение из-под турецкого ига горы Арарат совместно с ковчегом имени Ноя… а Каганович запросит, если не Шолома-Алейхема, то самого Моисея, чтобы провозгласить его в качестве начальника Метростроя, ну и т.д. и т.п… а вдруг, как говорим мы, большевики, правде в глаза, – вдруг тревожно возникнет опасность кражи вашего открытия со стороны белогвардейского реваншизма эмиграции?.. ведь тогда зайдет речь о почетном воскрешении на сцене истории России династии ликвидированных Романовых… вы подумали, как мы поступим с проблемой установления процентной нормы еще до клонирования видных граждан еврейского происхождения?.. вы понимаете, что наш великий народ не вынесет на своих плечах трудноуловимую экономику содержания всех воскрешенных гениев и талантов, севших на государственное довольствие всесозного значения?.. вы ни о чем таком не подумали, поэтому ничего не поняли, и наоборот… кроме того, для партии недопустима мысль о всемирных гастролях некоторых субъектов прошлого по театральным и цирковым аренам всех частей света, даже если бы данные гастроли решали проблему самоокупания клонированной номенклатуры по высшим ставкам и их снабжения товарами первой исторической необходимости… вы размышляли о сотнях и тысячах жополизов, которые, пользуясь незначительными особенностями биографии моей личности, не преминут заявить: дорогой Иосиф Виссарионович, дайте нам Шота Руставели, царицу Тамару, Пиросмани, а также верните Грузии Грибоедова, Тициана Табидзе и других расстрелянных поэтов, по-совместительству, врагов народа?.. может быть, нам с вами вернуть хулигана и пасквилянта Мандельштама бандам антисоветски настроенных читателей?.. вы не размышляли и об этом… объективно являясь директором первого в истории человечества Трансцедентала имени Октябрьской революции Ленина, вы разве допустили гипотенузу насчет того, что Форды, Ротшильды, бывшие Рябушинские с Морозовыми и прочие параллельные Морганы своих внутренних дел попробуют вручить лично вам крупнейшую в предистории человечества взятку за возвращение отдельным нациям Юлия Цезаря, Нерона, Карла Великого, Колумба, трех мушкетеров, Линкольна, Тома Сойера, Ротшильда, Теодора Рузвельта, Киплинга, Бисмарка, Петра Первого, того же Моисея, распутницу Екатерину Вторую и многих других знаменитостей- вплоть до Лки Мудищева?.. вы этого не предположили, товарищ Доброво, так как мы с вами имеем дело с кругом людей, глубоко ненавидящих, шени деде магуткнам, научный коммунизм, давший миру летчика Коккинаки и дрессировщика Юрия Дурова… все вышеназванные лица и физиономии непременно поднимут свои заранее не отрубленные головы и примуться агитационно ратовать за немедленное пришествие Иисуса Христа и всех фигурантов, прошедших по его делу, начиная с Архангела Гавриила, кончая Магдалиной и иными деятелями Нового Завета, а также целым рядом Пап Римских, принципиально не участвовавших в развратных агониях половых оргий?.. приходило это в вашу голову? – не приходило… некоторые доброхоты не преминут добавить к длиннющему списку претендентов на досрочный выпуск из Трансцедентала Моцартов, Бетховенов и прочих заслуженных деятелей искусства… другие потребуют немедленного создания добавочных копий готовящихся к ликвидации деятелей науки и культуры, что в несколько раз облегчило бы таковые, преждевременные для всех нас потери… было бы логично подозревать начальника моего Генерального Штаба поднять на пленуме ЦК вопрос о возвращении в ряды красной армии адмирала Нахимова, Ушакова и завербованного одноглазого Нельсона, которые стали якобы неоходимыми военному искусству после ликвидации Якировых, Тухачевских, Егоровых и Блюхеров… Сталин не желает представлять всенародных восстаний в Италии, Германии, Франции, Испании и Англии, поднятых не по законам классовой борьбы, а ради выхода на международную арену гениев прошлого типа Коперника, Гете, Карузо, Джильи, Шаляпина и других Собиновых… я не против, но сначала Сталину хотелось бы убедиться, к яркому примеру, в том факте, что какой-нибудь Леонардо Да Винчи попрежнему способен на изобретение вертолетов и новейших образцов вооружения… безусловно, вы должны дать себе отчет, товарищ Доброво, о каких возможных исторических катавасиях идет речь… весь советский народ – народ-пионер мирового прогресса – того и гляди, бросит к ебени матери строительство светлого будущего и примется останавливать наступательный ход истории, чтобы разрушить его до основанья, а затем – затем двинуть таковой вспять, то есть во времена людоедства, язычества и обратной роли труда в процессе превращения Энгельса в первичную обезьяну… Сталин не может устраивать крайне дорогостоящих цирковых, с позволения сказать, иллюзионизмов, которые не за вершинами близкого будущего нашей страны… извините за беспощадно научную критику некоторых аспектов ваших глубоких научно-фантастических мыслей и былых дум, настоенных на идеях «Общего Дела» религиозного фанатика Николая Федорова… мы временно воздержимся от рекламы создания в нашей стране Трансцедентала, в котором с помощью сверхвысоких давлений и температур в десятки, понимаете, в сотни раз ускорялось бы воскрешение незаменимых, поистине выдающихся кадров прошлого, решавших все… для начала, товариш Доброво, мы, если верить вашему нострадамуссированию данного вопроса, диалектически поставим на колени гитлеровский фашизм, после чего состоится праздник и на вашей улице – на Большой Добровской, одно «О», являющейся в настоящий момент Уланским переулком… потому что однажды мы примемся в строго секретном порядке клонировать за фантастические суммы, не снившиеся даже финансовым гномам Швейцарии и акулам Уолл-Стрита, скажем, такие национальные реликвии, как некоторые Платоны-Ньютоны, короли-королевы, Робеспьеро-Мараты, Тили Уленшпигели, Паскали, Гегели-Шлегели, извините за выражение, Шопенгауэры, Пастеры – всех не перечислить… это ускорит полное банкротство империалистического капитализма… думаю, что первым делом мы с вами займемся копировкой небезызвестного Линкольна и открыто предложим США в лице Рузвельта, и наоборот, оплатить доставку в Белый Дом бывшего Президента, зверски убитого врагом народа в ложе театра… Сталин очень- очень уважает театр, поэтому мы запросим за Линкольна – один новейший авианосец с полным комплектом истребителей плюс парочка бронированных «Линкольнов» для моих тактических двойников, готовящихся к выполнению этой почетной роли… вы подумали своевременно о том, что Сталин не может быть ликвидирован в ложе МХАТа? – не подумали… если Америка не согласится с себестоимостью жизни, возвращенной мистеру Линкольну, то ее ожидает всеобщая забастовка масс трудящихся рабов капитала, чреватая кризисом, гибелью ипотек, бирж и банков… должен сообщить, что ваша собака принята на полное довольствие со стороны государства, ей присвоено почетное звание Народной овчарки СССР… продолжайте вашу работу – значение ее неоценимо для бесплатной медицины страны Советов, селекционирования рекордсменов мира во всех видах спорта и богатырей десятков народов нашей необъятной, как сказал Козьма Прутков, Отчизны, включая Джамбула… забудем о распрях и склоках, исходящих от идеи клонирования наших собственных, мощных разумом Ньютонов-Платоновых… в настоящий момент Сталина особенно радует впечатляющая перспектива массового выращивания на колхозных полях полиплоидных, обещанных вами, огурцов, картошки, дынь, арбузов, киндзы, цитматов и табачного листа… думаю, что после нашего победоносного вступления в Лондон мы как-нибудь позаботимся о вашем свидании с семьей… а сейчас вас ждет у входа в Георгиевский дворец заграничный катафалк – так, по-грузински шутливо, я называю мой беспросветно правительственный бронированный лимузин… но не спешите… поспешить – людей насмешить, как сказал пресловутый Антей, перед принятием полезного лежачего положения на матушке-земле, что согласуется с основным тезисом гинеколога Фрейда, правильно высланного за пределы фашистской Германии… напоследок не откажите в просьбе: я бы хотел, прочитав рапорт о вашем ясновидении, не имеющем ничего общего с вульгарным материализмом, услышать ряд ответов на несколько моих принципиально важных вопросов… пожалуйста, не выбирайте выражений, я уважаю большевистскую прямоту… например, скажите, бросив взгляд не в будущее, что не трудно, а в недалекое прошлое: о чем думали после допросов бывшие маршалы Советского Союза и прочие военачальники, а также мои соратники по линии политбюро? – раз.. партия так же интересуется развитием событий на международной арене в ближаюшую пятилетку – два.
С языка А.В.Д. вот-вот готовы были сорваться готовые ответы, казалось, только и ждавшие этих и других вопросов, но вождь снова его опередил.
– Вы правы, все вышеупомянутые враги народа весьма сожалели, что исторически своевременно не успели перегрызть Сталину глотку, а затем и стереть его фигуру в зубной порошок.
А.В.Д. на секунду показалось, что слова «зубной порошок» – это отлично закомуфлированный сигнал от Димы Лубянова наверняка насильно принужденного исполнить роль ничтожного вождя – параноика и садиста; правда, сообщить Диме, что его игра гениальна, а сигнал принят, тоже было невозможно: он не мог ни пошевельнуться, ни мигнуть, ни прошептать пару слов; он, как это ни странно, почувствовал, как это бывает только во сне, невесомо медленное приближение фигуры самой Необратимости – фигуры, словно бы выплавленной из неземных металлов, чьи драгоценные качества несравнимы с качествами всех редкоземельных. – Вам, товарищ Доброво, видимо, кажется невероятным тот факт, что мы ведем беседу с глазу на глаз… но Сталин согласен с писателем Достоевским, как докладывают специалисты по этому предмету, делавшим основную ставку на фантастическую действительности, к сожалению нашей партии, временами становящуюся такой сверхфантастичной, что сам Уэллс склонен считать ее невероятной… вернемся к событиям на международной арене в течение ближаюшей пятилетки… с прогнозом согласен, но думаю, вы допустили ошибку, недальновидно ответив, что гитлеровские танки растопчут своими зверскими гусеницами назревающий в дипломатии Пакт – строго между нами – о временном ненападении Германии и СССР друг на друга, а затем окажутся на окраинах Москвы, повторяю, столицы нашей могучей Родины… в остальном мне нравится ваш оптимистичный прогноз относительно нашей победы над фашизмом… огромное количество указанных вами жертв будущих сражений не имеет никакого отношения к качеству победы нашего народа и его непобедимого оружия над гнилой идеологией и военной машиной гитлеризма… увы, я сознаю, что в связи с детерминированностью и исторической необходимостью, против которых, как вы правильно считаете, не попрешь, Сталин и Гитлер будут обыграны дьявольски хитрой фигурой аристократа Черчилля и столкнуты друг с другом своими простонародными лбами… давайте забудем об этом огромном проигрыше, не снившемся ни одному из крупных политических деятелей древней Греции и античного Рима… партия примет к сведению ваш прогноз относительно фашизма, попытавшегося окончательно решить еврейский вопрос, уничтожив в лагерных крематориях закрытого типа миллионы не только соответствующих товарищей, но и наших идеологических врагов… в свое время ваш Трансцедентал частично, а также выборочно и секретно, компенсирует гонимому – замечу ради объективности – невыносимо хитромудрому народу, и эту его потерю, но не целиком, а в разумно лимитированном количестве копий… евреи, если и соль земли, то – ха-ха-ха! – они вовсе не аджика, созданная моей мамой… не думайте, что Сталин не знает, как вам хочется сделать важное заявление о существовании пресловутого Бога, он же Творец, Создатель, Всеслышащий и Всевидящий, – Сталин знает… он знает все – и острый галльский суп и сумрачный германский соус, как сказал еще до великого Октября один из ведущих декадентов эпохи… Сталину известно даже то, что не существует никаких Мефистофелей, которые являются всего лишь абстракциями, за которые Разум выдает собственные конкретности, в частности, идеи, в дальнейшем успешно воплощаемые в так называемое Зло… эти ваши тезисы должны пролежать под сукном до тех пор, когда таковые окажутся ненужными всему нашему народу…
А.В.Д. бесило, что он не глух, но нем, поэтому и не может воскликнуть, что вождь безграмотен, как швабра общественного сортира… он вновь попытался высказать хотя бы часть резких реплик, накопившихся в уме, но, увы, немота была сильней его страстного желания врзразить, оспорить, протестовать. – Ну а что, товарищ Доброво, будет дальше?..
А.В.Д. ясно увидел еще много чего непредвиденно жутковатого и трагического в истории родной страны, несчастного ее народов, Европы, Азии, Африки – всего мира; поэтому, свыкшись с невозможностью произнесения слов и фраз, спокойно – чтобы не обезуметь – ожидал несвоих/своих ответов на незаданные им вопросы. – Безусловно, товарищ Доброво, Сталин однажды, мягко говоря, подохнет, оказавшись волею судьбы в положении недопустимо крайнего одиночества, – ему не поможет ни одна собака, кроме наивысшего кровяного давления… тут у Сталина, сверхжестокого и недальновидного политика – вы в этом уверены – безответственно сделавшего свое ответственное дело, не может быть двух точек зрения… согласен: у Сталина никогда не было, нет и не будет ни одной политической иллюзии насчет морального облика всех людей вообще, а также у предательского коллектива политбюро в частности… приплюсуем сюда относительное и абсолютное ничтожество – следующего главы ЦК нашей партии… само собой разумеется, этот тупица из тупиц, способный только на выжлухтыванье водки, пожирание борща и послеобеденный пердежь, в сочетании с гопаком, моментально начнет просирать все недопросранное Ильичем и мною… хоть убейте, не могу представить какого-нибудь хрякообразного Хруща деловым, толковым руководителем политики, экономики и культуры советского государства… я так же, как вы, не сомневаюсь в том, что буду публично им оплеван, опорочен и вышвырнут из Мавзолея на Большую Добровскую улицу, бывший Уланский переулок… очень забавно, что эти мерзавцы поступят с уже остывшим трупом Сталина еще циничней и неблагодарней, чем некрофобы с Вольтером, а так же дерзкие будущие жулики-гробокопатели с трупом Чарли Чаплина… резко согласен с вами и в том, что Чаплин – корифей экрана, величайший актер всех времен и народов… кроме того, я уже сейчас голосую двумя руками за всенародно показательный расстрел на Лобном месте развратника Берия – эту подворотную харкотину и мингрельскую очковую проблядь в пенсне, ошибочно не сожженного мною заживо в закрытом крематории имени заветов Ильича… о бровастом остолопе и его своре приказываю вам молчать – ни слова!.. хотя вы правы: это не коммунисты, а орденопросцы, браконьеры, проститутки, накопители взяток, пьянь, мелкая дешевка, необразованное хамло и недалекая мразь… ну что ж, приходится согласиться с судьбой… а судьба такова, что, если вам, ясновидцу, верить, наследники Сталина всенепременно просрут ровно через полвека диктатуру партии, светлые идеалы Советской власти, плановую экономику государства, физкультуру со спортом, все наши бесполезные и полезные ископаемые, добропорядочную эстраду, МХАТ, границы на замке, а также наше хваленое превосходство в ракетно-ядерном вооружении и количестве бактериологических средств ведения искусства побеждать в справедливо наступательной войне… Сталина также мало удивляет неизбежное поражение СССР в надвигающейся на мир священной холодной войне, распад великого Советского Союза, гибель, с трудом налаженной, дружбы народов и бестолковая реставрация капитализма, сопровождяемая, виноват, сопровождАемая, шени дэдэ могуткнам, ужасающей коррупцией и всеобщим продажничеством… я всегда уверял политбюро: народ не умел, не умеет, не будет уметь работать без страха и упрека, так как бывшие крепостные и закабаленные пролетарии любят петь и пить, закусывая и не закусывая, воровать, а также своевременно умирать на полях классовой борьбы… больше ничего не сообщайте о международной обстановке и состоянии окружающей среды в новом тысячелетии… помолчите о будущем завоевании обнаглевшими представителями нашего преступного мира торжествующе ведущего положения в банках, монополиях, трестах и корпорациях Родины… ни слова, приказываю, о бездарных реформистах, самозванцах и прочей швали, вызванной к жизни катаклизмом Системы всей Сверхдержавы, созданной мною, и о грядущих мировых катастрофах… лучше подумайте и доложите, что же это все-таки такое, называемое в народе пиздецом, надвигается еще быстрее, еще выше, еще глубже, еще смешней, еще веселей на каждого из нас?.. словом, подводя итоги, что же дальше, товарищ Доброво, лично со Сталиным, а также с вами?..
К большому своему удивлению, А.В.Д. потянуло захохотать, но он не пытался даже улыбнуться и, естественно, попрежнему ожидал сообщений, произносимых голосом одного из самых омерзительных тиранов и убийц в истории человечества. – Вы решительно ошибаетесь, товарищ Доброво, посулив Сталину так называемый ад, шипящее постное масло, шкварки, чаплинские шестеренки и вечно холодные капли с сосулек в пустые глазницы… все это давнишние поповские выдумки, шуры-муры развратных Римских Пап – от Пия Первого до Энтропия Последнего – и буйные фантазии поэтов… перестаньте, пожалуйста, пороть фактическую хуйню и ебать мне мозги, как говорит крупный нейролог академик Бурденко… вы плохо знаете особенности нейрофизиологии Сталина – его вполне устраивает так называемое ничто… а вот на вашем месте, я тоже был бы рад, если не безумно счастлив, что, как бы то ни было, навеки покидаю подвалы Лубянки… считайте, что вы их покинули, к тому же заслужив бурные продолжительные аплодисменты Сталина, перешедшие в общие овации всего зала… минутку, минутку, не торопитесь, «Линкольн» не мужской член – он постоит и подождет, а кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою вы простились навсегда… если не ошибаюсь, вы постоянно рветесь спросить мою личность о судьбе одного вашего знакомого актеришки, а также о участи стихоплета, пасквилянта и осетинофоба, страдавшего манией преследования величия, жалкого, понимаете, сладкоежки, который обожал поедать в кондитерской Елисеева пышные пирожные «Наполеон» и «Эклер» гораздо сильней, чем великий Пушкин уважал гусиное перо, а Гете – сильную штуку своего «Фауста»… итак, один ваш знакомый продолжит успешную деятельность на сцене и сыграет целый ряд крупных ролей в кинофильмах страны – это все… мой официальный ответ о вышеупомянутом разбойнике пера, нагло отказавшемся приравнять таковое к нашему штыку, не явится ни военной, ни партийной тайной государства рабочих и крестьян, товарищ Доброво… данный пасквилянт стерт с лица земли и превращен НКВД в лагерную пыль – это мировой рекорд массового измельчения врагов народа в вышеупомянутое ничто… а вот интересующего вас Владимира Маяковского я бы лично клонировал за его искреннюю, правда, черезчур наивную веру в сказки нашей партии… не сомневаюсь: вы осознали мою ведущую роль при возникшей проблеме: быть этому поэту нашей эпохи благополучно живым и разъезжающим по временно белому для него свету, или не быть?.. он изволил навязать Сталину вредительскую диллему, не оставив места ни для одной из альтернатив… любой, уважающий себя и народ, руководитель государства не имел права рисковать глубоко партийным поэтом, влюбившимся в русскую белогвардейку Яковлеву, а поэтому готовым обменять родину на так называемое это, то есть на половые сношения с последней… к тому же он нагло мечтал видите ли, жить и умереть в Париже, если б не было такой земли – Москва… партия приняла к сведению и этот его ехидный намек, затем сделала практические выводы… допустим, желтая кофта русского футуризма уехала в Париж жить и осталась в нем умирать… нам пришлось бы срочно ликвидировать развратных Лилию и Юлия Бриков, неизбежно осложнив отношения ВКП(б) с компартией Франции, попавшей через Арагона под каблук к проклятой Эльзе Триоле, я ее маму ебал… этой близорукостью, как вы понимаете, мы лишили бы нашу литературу идола пролетарской поэзии, лучше чем кто-либо воспевшего революцию и диктатуру нашей партии в лице того же ленинского мудрого, человечьего, огромного лба… но трижды испорченная половая маньячка Брик, знакомая с высокопоставленными чекистами, вовремя сигнализировала о крупнейшей опасности, безусловно, на ее взгляд, грозящей литературе партийного соцреализма и престижу государства… поэтому мы инсценировали трагедию самоубийства товарища Маяковского на почве затравленности некоторыми литераторами и критиками, который был и остается тем самым лучшим и талантливейшим, которым будет являться до конца предистории человечества… его враги, признанные виновными во вредительской травле гения, или навсегда наказаны, или, что диалектически одно и то же, строго расстреляны… а известная проблядь и героиня «Облака в кальсонах» будет продолжать исполнение полезного нам амплуа… что касается вашего немого вопроса о яром враге государственного режима и идеологии коммунизма, писателе Зощенко, то честно скажу вам следующее: Сталин не дурак, так как он много читает… ему прекрасно известна антисоветская сущность этого бесстрашно выдающегося прозаика, его маму я тоже ебу, который с большим, но тайным восторгом радуется тому, какую он блестящую заделал наебку лично для Сталина и миллионов своих читателей… согласен: подобной наебки не знала ни одна из литератур всех времен, народов, императоров, королей и вождей… я сам питаю слабость к его вражеским сюжетам и, к сожалению, заразительному, как триппер, проказа и чума, смеху, а также пассую перед глумливым хохотом этого выдающегося шута нашего времени… пока что пусть он смешит народ, пусть… хихиканье исторически полезно народу в один из труднейших моментов его жизни на свободе, равенстве и братстве… пусть Зощенко смешит – это его прямая задача… смеется тот, который видит как ставят к стенке последнего из смеявшихся… пусть Зощенко исполняет временную роль Чарли Чаплина нашей литературы, а перчатка с правой руки Анны Ахматовой – играет перчатку руки ее левой, так как я кавказский человек: эта женщина остается на свободе самой привлекательной, самой талантливейшей женщиной нашей эпохи… благодарю вас за то, что не поинтересовались, товарищ Доброво, желает ли Сталин, во-первых, прижизненно понаблюдать за развитием официальной копии самого себя и, во-вторых, хочется ли ему, как-никак являющемуся неповторимым оригиналом, иметь стопроцентно гарантированное воскрешение… но я уж, как пишут идиоты нашего соцреализма, отрицательно покачаю головой, глубоко выдохну и выразительно фыркну в ответ на оба вопроса, молча заданные вами… потому что ярко ненавижу жизнь, правда, немного меньше самого себя… в общем, со Сталина хватит… ваша собака, которую начнем звать Собакобой, проведет остаток своих дней на моей ближней даче… воздух там замечателен, а колодезная вода вкусней «Боржоми»… мой чернейший «Линкольн» – к вашим услугам… в заключение добавлю: Сталин выполнил задачу, поставленную перед ним черт знает кем: он рожден для того, чтобы сделать дурацкую сказку Маркса-Энгельса-Ленина не былью, а лагерной пылью, которую успешно, шени деде магуткнам, запудрил мозги оболваненного человечества… поздравляю вас с огромным научным и с так называемым экзистенциальным успехом.
«Нахлам дис, набичваро маймуно», – попытался было произнести спавший, но не смог; заучить эту фразу, заодно уж вместе с некоторыми темпераментными грузинскими восклицаниями, ему охотно помог недавно пропавший без вести коллега, отличный цитолог Гиви, всегда удивленно пошучивавший, выцедив рог «Напареули», «Ах, «Неужели»…
37
Александр Владимирович Доброво, 1890 года, место рождения – город Москва, русский, православный, дворянин, выдающийся биолог-генетик, бывший научный сотрудник НИИ, женат, отец взрослой дочери, услышав любезный сердцу хор ангельских голосов, ощутив на глазах, лбу, носу, губах закомый, горячий, ласковый язык любимой собаки и убедившись в полном отсутствии в мозгу мыслей о науке, чумовой власти, проказе, поразившей родной язык, а также о безумии безвременья, – может быть и вообще, убедившись в отсутствии мыслей как таковых, – был готов к успокоению; тем более, вещество неземного происхождения, попрежнему не имевшее удельного веса, стало напоминать сверхгустую нефть – вредное ископаемое, временно прикинувшееся полезным; оно почти подползло/поднялось до ямочки на его невыбритом подбородке, вот-вот доберется до губ – тогда уже не вскрикнуть и вслух не произнести ни единого из слов родного языка; внезапно А.В.Д. сообщилась полнота душевного спокойствия за Екатерину Васильевну, Верочку, Гена, Диму – вероятно, последнего близкого друга, скорей всего, в не последней из жизней; его душу – опять же как в детстве перед чьим-нибудь днем рождения – охватило радостное предвосхищение скорой встречи на занебесных пересылках с бессмертными душами маменьки-папеньки, разумеется, с душой одного из великих поэтов – певчего щегла бесконечной любви, ласточки вечной свободы – а там, глядишь, и с душами иных замечательных знакомых и незнакомых покойничков, потом… потом встречи, встречи, встречи – бесконечные встречи без прощаний…
В тот же миг Александр Владимирович Доброво действительно успокоился во сне, иначе говоря, он больше не проснулся – помер; и это прекрасное, остановившееся в его уме мгновенье, стало мгновением счастья – верной приметой то ли постоянного – этого никто не знает – то ли временного, как сказал Пушкин, покоя и воли.
Хуторок «Пять дубков». Коннектикут. США. 2009-2010г



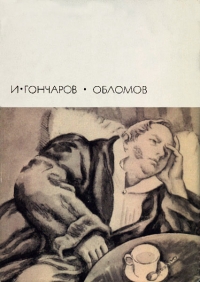
Комментарии к книге «МАЛЕНЬКИЙ ТЮРЕМНЫЙ РОМАН», Юз Алешковский
Всего 0 комментариев