Курцио Малапарте Капут
История одной рукописи
Рукопись «Капут» имеет свою историю: мне думается, что никакое другое предисловие не придется более кстати в этой книге, чем таинственная история ее рукописи.
Я начал писать «Капут» летом 1941 года, в первой стадии войны, начатой Германией против России[1], в деревне Песчанка, на Украине, в доме крестьянина Сушени. Каждое утро я устраивался в саду, в тени акации, чтобы работать, в то время как крестьянин, сидя на земле возле свинарника, точил косы или нарезал свеклу и репу для свиней. Наш сад примыкал к саду Дома Советов, занятого полком СС. Если кто-нибудь из эсэсовцев приближался к изгороди сада, крестьянин предупреждал меня кашлем.
Дом, с его соломенной кровлей и стенами из глины и рубленой соломы, замешанных на коровьем навозе, был маленьким и чистым. Он не располагал иными богатствами, кроме радиоприемника, патефона и маленькой библиотеки, с полными собраниями сочинений Пушкина и Гоголя. Это был дом бывшего мужика, которого при пятилетних планах и вступлении в колхоз освободили от нищеты, невежества и грязи. Сын Романа Сушени — коммунист, работал механиком в колхозе Песчанки, в колхозе имени Ворошилова[2]. Он последовал за Советской армией вместе со своим трактором. В этом самом колхозе работала и его жена, молодая женщина, молчаливая и проницательная, которая вечерами, окончив работы в своем маленьком поле и саду, усаживалась под деревом, читая «Евгения Онегина» Пушкина, в харьковском издании, предпринятом государством к столетнему юбилею со дня смерти великого поэта. Она напоминала мне двух старших дочерей Бенедетто Кроче[3] — Елену и Альду, которые в саду их деревенского дома в Меане, в окрестностях Пьемонта[4], читали Геродота[5] по-гречески, сидя под яблоней, отягощенной плодами.
Когда мне приходилось выезжать на фронт, который проходил от Песчанки на расстоянии не более двух километров, я доверял рукопись «Капут» крестьянину Сушене. Он прятал ее в отверстии, сделанном в стене свинарника. Когда, вследствие скандала, возбужденного моими военными репортажами, опубликованными газетой «Коррьере делла Серра», гестапо явилось, чтобы меня арестовать и изгнать с Украинского фронта, сноха Романа Сушени зашила рукопись «Капут» под подкладкой моей шинели. Я всегда буду благодарен крестьянину Роману Сушене и его молодой снохе за помощь, которую они мне оказали, чтобы спасти мою рукопись.
Я возобновил работу над «Капут» в период моего пребывания в Польше и на Смоленском фронте в январе и феврале 1942 года. Когда я покидал Польшу, отправляясь в Финляндию, я увозил на себе страницы моей рукописи, зашитые под подкладкой моего кожаного пальто. Я закончил книгу, за исключением последней главы, в продолжении двух лет, проведенных в Финляндии. Осенью 1942 года я возвратился в Италию, получив разрешение заняться лечением после серьезной болезни, начавшейся на фронте Петсамо[6], в Лапландии. На аэродроме Темпельхоф, возле Берлина, всех пассажиров моего самолета Гестапо подвергло обыску. К счастью, на мне не было ни одной страницы «Капута». Покидая Финляндию, я разделил свою рукопись на три части, доверив их послу Испании в Хельсинки графу Огюстену де Фокса, который покидал свой пост, чтобы возвратиться в Мадрид в Министерство иностранных дел, секретарю посольства Румынии в Хельсинки — князю Дину Кантемиру и пресс-атташе румынского посольства в столице Финляндии Титусу Михайлеско, который возвращался в Бухарест. После долгой одиссеи все три части рукописи возвратились, наконец, в Италию, где я их прятал уже сам, в отверстии в скале среди леса, окружающего мой дом в Капри[7], на стороне Фараглиони. Мои друзья — де Фокса, Кантемир и Михайлеско знают, какую сердечную признательность я к ним испытываю.
В июле 1943 года я находился в Финляндии. Как только я узнал о падении Муссолини[8], я возвратился (при помощи воздушного сообщения) в Италию. И на Капри, в сентябре 1943 года я завершил последнюю главу «Капут».
* * *
«Капут» — книга страшно жестокая и веселая. Ее веселая жестокость — результат необычнейшего опыта, полученного мною на спектакле, который давала Европа в период этих дней войны. Среди главных действующих лиц этой книги занимает свое место война, и место отнюдь не второстепенное — она не вмещалась иначе. Если неизбежные поводы не принадлежали к разряду фатальных, можно сказать, что она имела значение повода. В «Капуте» война появляется как фатальность. Она не вмещалась иначе. Я могу сказать, что она не является главным действующим лицом, но как бы зрительницей, в том смысле как пейзаж является свидетелем. Война — это общий пейзаж этой книги.
Главный герой «Капута» — изверг, веселый и жестокий. Никакое слово лучше, чем это жесткое и псевдо-таинственное немецкое выражение «Капут», которое буквально означает: раздавленный, конченный, искрошенный, потерянный, не может лучше выразить, что мы такое, что такое Европа отныне — нагромождение развалин. Но пусть будет вполне ясно, что я предпочитаю эту Европу капута вчерашней Европе или Европе за двадцать, тридцать лет до этого. Мне больше нравится, когда все надо начинать сызнова, чем когда мы обязаны все принимать как непреложное наследие.
Будем надеяться теперь, что новые времена станут действительно новыми и не закроют перед писателями прав на уважение и свободу. Если я говорю: «Будем надеяться», — это не означает, что я не верю в свободу и ее благодеяния (да будет позволено мне напомнить, что я принадлежу к тем, кто заплатил тюрьмой и депортацией на остров Липари[9] за свое свободомыслие — свою контрибуцию за освобождение). Но я знаю, и это общеизвестно, как трудно в Италии и в значительной части Европы живется людям и как опасна участь писателя.
Пусть же новые времена станут временами свободы и взаимного уважения для всех, даже для писателей, так как только свобода и уважение к культуре могут спасти Италию и Европу от тех жестоких дней, о которых говорит Монтескье[10] в «Духе законов» (книга XXIII, глава XXIII): «Так в мифологические времена после наводнений и потопов вышли из земли вооруженные воины, которые сами себя истребили».
Часть I ЛОШАДИ
I. В СТОРОНУ ГЕРМАНТА
Принц Евгений Шведский остановился посреди комнаты.
— Прислушайтесь, — сказал он.
Сквозь дубы Оахилля и сосны парка Вальдемарсудден, поверх морского пролива, который углубляется в материк до самого Ниброплана, в сердце Стокгольма, ветер доносил нежную и печальную жалобу. Это не был меланхолический призыв сирены парохода, возвращающегося к морю в сторону порта, ни пасмурный крик чаек, — это был женственный голос, отдаленный и жалобный.
— Это лошади Тиволи, Лунапарка возле Сканзена, — промолвил принц Евгений тихо.
Мы подошли к большим окнам, выходившим в парк, и прижались лбами к стеклам, слегка потускневшим от синего тумана, поднимавшегося с моря. Вдоль тропинки, извивавшейся по откосу холма, три белые лошади спускались, прихрамывая, сопровождаемые маленькой девочкой в желтом платье. Они прошли через решетчатые ворота и приблизились к маленькому пляжу, загроможденному скуттерами[11], каноэ[12] и рыбачьими лодками, красными и зелеными.
Это было в ясный сентябрьский день, мягкий почти по-весеннему. Осень уже обагрила старые деревья Оахилля. По проливу, в который вдается мыс, где стоит вилла Вальдемарсудден — резиденция принца Евгения, брата короля Густава V[13] Шведского, шли большие пароходы, серые, с нарисованным на их борту большим шведским флагом — желтый крест на синем фоне. Пролетавшие чайки испускали хриплые жалобы, напоминавшие всхлипывания детей. Далее, вдоль улиц Ниброплан и Страндвеген[14], были видны покачивающиеся белые пароходы, носившие сладостные имена селений и островов, разбросанных между Стокгольмом[15] и архипелагом. Позади архипелага поднималось облако синего дыма, пересекаемое время от времени пролетающей чайкой. Ветер доносил звуки небольших оркестров из Белльманнзро и Хассельбакена, крики толпы моряков, солдат, девушек и детей, любовавшихся акробатами, жонглерами и бродячими музыкантами, которые слоняются целыми днями перед входом Сканзена.
Принц Евгений следил за лошадьми взглядом внимательным и нежным, с глазами, полузакрытыми под светлыми веками, изборожденными тонкими зелеными венами. В профиль и против света его лицо — розовое, с этими немного припухшими губами, губами гурмана, которым белые усы придавали любезность едва ли не гибельную, этот орлиный нос, высокий лоб, увенчанный очень белыми волосами, вьющимися и спутанными, как у только что проснувшегося ребенка, — представляло моему взору медальный рисунок лица Бернадотов[16]. Из всей королевской фамилии Швеции он больше всего походит на маршала Наполеона, основателя династии — именно принц Евгений; и этот профиль, отчетливый, острый, почти жесткий, представляет странный контраст с мягкостью его взгляда, деликатной элегантностью его манеры говорить, улыбаться, жестикулировать его прекрасными руками — белыми, с тонкими бледными пальцами — руками Бернадотов. Спустя несколько дней я пошел в один из магазинов Стокгольма, чтобы посмотреть на вышивки, которые король Густав V — по рисункам Тессина[17], долгими зимними вечерами и в белые летние ночи, в его дворце Дроттинхольм, окруженный своими домашними и сановниками Двора, которые имеют доступ в его наиболее интимный круг, — создает с изяществом, тонким вкусом и мастерством исполнения, напоминающими старинное искусство венецианцев, фламандцев, французов. Принц Евгений не вышивает, он — художник. Его манера одеваться пробуждает в памяти свободу и беззаботность Монмартра лет пятьдесят назад, то есть тогда, когда и принц Евгений, и Монмартр[18] были молоды. Он был одет в грубую куртку из табачного твида, старомодного покроя, застегнутую доверху. На его светло-синей сорочке, с белыми прожилками, немного поблекшими, был галстук из трико, скрученный, как прядь волос, который давал штрих более интенсивного синего цвета.
— Каждый день в это время они спускаются к морю, — сказал принц Евгений тихо.
В розовато-синем свете заката эти три белых лошади, сопровождаемые девочкой в желтом платье, были печальны и прекрасны. Войдя в воду по колени, они двигали головами, вскидывали гривами, на удлиненных арках своих шей, и ржали. Солнце опускалось все ниже. Уже много месяцев мне приходилось видеть закат солнца. После долгого лета на севере, после этого дня, непрерывного, нескончаемого, без восхода и без заката, небо начинало, наконец, бледнеть над лесом, над морем, над городскими крышами. Нечто, вроде тени (может быть, просто отблеск тени, тень тени) сгущалось на востоке. Ночь рождалась мало-помалу, ласковая и хрупкая, и небо на западе горело над лесами и озерами, скоробливаясь в огне заката, как дубовый лист на усталом огне осени.
Среди деревьев парка, на фоне этого бледного и прозрачного пейзажа севера, копии родэновского «Мыслителя» и «Самофракийской победы»[19], выполненные в чересчур белом мраморе, утверждали неожиданно и решительно парижский вкус фин де сиэкл[20], декадентский и парнасский, принимавший в Вальдемарсуддене[21] оттенок произвола и обмана. В просторной зале, где мы находились, прижимаясь лбами к стеклам больших окон, комнате, где принц Евгений читает и работает, он сам существовал так же, словно пережиток, или эхо, нечто ослабленное и вышедшее из моды, напоминающее о парижском эстетизме примерно 1883 года, эпохи, когда принц Евгений имел в Париже свое ателье (он жил тогда на улице Монсо под именем господина Оскарсона) и был учеником Пювиса де Шавана[22] и Боннара[23]. Несколько холстов, напоминавших о его молодости, висело на стенах: пейзажи Иль де Франса[24], Сены, долины Шевреза, Нормандии, портреты натурщиц с распущенными волосами на обнаженных плечах, наряду с картинами Цорна[25] и Жозефсона. Дубовые ветви с пурпурными листьями, прорезанными золотыми прожилками, стояли в вазах из маринбергского фарфора[26] и амфорах из Рёстранда[27], расписанных Исааком Грюневальдом[28] в стиле Матисса. Большой камин из белых изразцов с фасадом, украшенным рельефом из двух перекрещенных стрел, увенчанных закрытой дворянской короной, занимал один из углов комнаты. В хрустальной вазе из Орефора[29] цвела великолепная мимоза, привезенная принцем Евгением из одного из садов Южной Франции. Я на мгновение закрыл глаза: это действительно был запах Прованса[30], запах Авиньона[31], Нима[32], Арля[33]; я вдыхал одновременно ароматы Средиземного моря, Италии, Капри.
— И я тоже хотел бы жить на Капри, как Аксель Мунте, — сказал принц Евгений. — Мне кажется, он живет окруженный цветами и птицами. Я иногда задаю себе вопрос, — добавил он, улыбаясь, — в самом деле он любит птиц и цветы?
— Цветы очень любят его, — сказал я.
— И птицы тоже любят его?
— Они принимают его за старое дерево, — ответил я, — за старое, сухое дерево.
Принц Евгений улыбался, полузакрыв глаза. Как и ежегодно, Аксель Мунте[34] провел лето во дворце Дроттинхольм, где был гостем у короля, и уехал в Италию всего несколько дней назад. Я сожалел, что не встретился с ним в Стокгольме.
На Капри, пятью или шестью месяцами раньше, накануне моего отъезда в Финляндию, я поднялся на башню Материта[35], чтобы попрощаться с Акселем Мунте, который должен был поручить мне передачу нескольких писем Свену Геддину, Эрнсту Манкеру и другим стокгольмским друзьям. Аксель Мунте ожидал меня под своими материтскими соснами и кипарисами, стоя, прямой, будто деревянный, неприветливый, в накинутом на плечи старом зеленом манто, в дрянной шапчонке, надетой задом наперед на спутанных волосах, с глазами живыми и лукавыми, скрытыми под черными очками, придававшими ему этот таинственный и угрожающий вид, свойственный слепцам. Мунте держал на поводке волкодава, и хотя собака казалась добродушной, как только он заметил меня среди деревьев, предупредил, чтобы я не приближался.
— Уходите прочь! — кричал он, широко взмахивая рукой и, якобы заклиная собаку, чтобы она не бросилась на меня и не разорвала меня, как будто стоило большого труда ее от этого удерживать, как будто он был не в силах долее сопротивляться яростным рывкам на поводке этого свирепого животного. А последнее смотрело на меня в это время мирно и весело, повиливая хвостиком, в то время как я медленно продвигался вперед, симулируя страх, охотно принимая участие в этой невинной комедии.
Аксель Мунте, когда он в хорошем настроении, забавляется тем, что импровизирует маленькие сценки, чтобы посмеяться над своими друзьями. Быть может, для него это был первый светлый день после нескольких месяцев злобного одиночества. Он только что провел грустную осень, став добычей своих черных капризов, своей яростной меланхолии, запертый в течение многих дней в своей тощей башне, обглоданной, как старая кость, острыми зубами юго-восточного ветра, дующего из Ишии, и трамонтаной, которая доносит до Капри едкий аромат дыхания Везувия, — запершийся на ключ в своей сыроватой темнице, среди поддельных старинных картин, поддельных эллинистических мраморов и своих мадонн XV века, действительно вырезанных из дерева — обломков старой мебели Людовика XV[36].
В этот день Мунте казался безмятежным. Внезапно он начал рассказывать мне о птицах Капри. Каждый вечер, на закате, он выходит из своей башни, медленно и осторожно углубляется в чащу деревьев парка — со своим старым зеленым манто, наброшенным на спину, в своей дрянной шапчонке, надетой задом наперед на спутанных волосах, с глазами, укрытыми под черными очками, — до тех пор, пока не приходит в одно место, где редкие деревья оставили среди травы как бы зеркало, куда может смотреться небо. Он останавливается здесь, прямой, сухощавый, как бы деревянный, похожий на старый древесный ствол, тощий, высушенный солнцем, морозами и бурями, со счастливым смехом, таящимся в его бородке старого фавна, и ждет. Птицы слетаются к нему стаями, с дружелюбным чириканьем; они располагаются на его плечах, на руках, на шапчонке, поклевывают ему нос, губы и уши. Мунте стоит так прямой, неподвижный, общаясь со своими маленькими друзьями на сладостном диалекте Капри, пока заходящее солнце не утонет в море, синем и зеленоватом, и птицы не улетят к своим гнездам — все разом, с прелестной прощальной руладой[37].
— Ах, эта каналья, Мунте! — сказал принц, и его дружелюбный голос немного задрожал.
Мы погуляли немного в парке, под соснами, раскачиваемыми ветром. Затем Аксель Мунте провел меня в самую высокую комнату башни. Это, вероятно, некогда было чем-то вроде чердака: он же сделал из него теперь спальню, для дней своего мрачного одиночества, и закрывается в ней наверху, как в тюремной камере, затыкая уши ватой, чтобы не слышать человеческих голосов. Он сидит на табурете, с большой тростью, поставленной между колен, и поводком собаки, намотанным на руку. Пес, улегшийся у его ног, внимательно смотрит на меня взором ясным и печальным. Аксель Мунте поднимает голову: внезапная тень пробежала по его лбу. Он говорит мне, что не может спать, что проводит свои ночи в мучительном бодрствовании, прислушиваясь к шуму ветра в деревьях и отдаленному ропоту моря.
— Я надеюсь, что вы пришли не затем, чтобы рассказывать мне о войне, — говорит он.
— Я не буду рассказывать о войне, — отвечаю я.
— Спасибо, — говорит Мунте. И затем внезапно спрашивает меня: правда ли, что немцы совершают ужасающие жестокости?
— Их жестокость возникает из страха, — отвечаю я, — они все больны страхом. Это больной народ, «кранкен вольк»[38].
— Да, это «кранкен вольк», — говорит Мунте, ударяя тростью по плитам пола. И после долгого молчания спрашивает, правда ли, что немцы так жаждут крови и разрушения?
— Они боятся, — отвечаю я. — Они боятся всего и всех. Они убивают и разрушают из страха. Дело не в том, что они боятся смерти: ни один немец — мужчина, женщина, старик, ребенок — не боится смерти. Они не боятся также и страдания. В известном смысле можно даже сказать, что они любят страдать. Но они боятся всего, что живет, всего, что существует помимо них самих, и отсюда — всего, что отличается от них. Болезнь, от которой они страдают, таинственна. Они боятся больше всего существ слабых, людей безоружных, больных, женщин и детей. Они боятся старцев. Их боязнь всегда пробуждала во мне жалость. Если бы Европа была к ним сострадательна, быть может, немцы излечились бы от своей ужасной болезни.
— Так, значит, они жестоки? Значит, это правда, что они убивают людей без всякой жалости? — прервал меня Аксель Мунте, нетерпеливо ударяя своей тростью по плитам пола.
— Да, это правда, — ответил я. — Они убивают безоружных людей, вешают евреев на деревьях на городских площадях, сжигают их живыми в их домах, точно крыс, расстреливают крестьян и рабочих на колхозных дворах и на дворах заводов. Я видел их смеющимися, едящими, спящими в тени трупов, раскачивавшихся на ветвях деревьев.
— Это «кранкен-вольк», — сказал Мунте, снимая свои черные очки, чтобы тщательно протереть стекла носовым платком. Он опустил веки, я не мог видеть его глаз. Потом он спросил меня, правда ли, что немцы убивают птиц?
— Нет, это не правда, — ответил я, — у них нет времени заниматься птицами, у них едва хватает его на то, чтобы заниматься людьми. Они убивают евреев, рабочих, крестьян. Они с дикой яростью жгут города и селения, но они не убивают птиц. Ах! Как прекрасны птицы в России! Быть может, еще прекраснее, чем на Капри.
— Прекраснее, чем на Капри? — спросил Аксель Мунте взволнованно.
— Прекраснее, счастливее, — отвечал я. Есть неисчислимое количество различных видов птиц на Украине. Они тысячами летают и щебечут в листве акаций, легко опускаются на ветви берез, на колосья хлебов, на золотые ресницы подсолнечников, чтобы выклевывать зерна из их больших черных глаз. Их можно слышать неутомимо поющими при грохоте орудий, среди треска пулеметов, сквозь мощный рокот бомбардировщиков над огромной украинской равниной. Они садятся на плечи солдатам, на седла и гривы лошадей, на лафеты орудий, стволы винтовок, башни танков и башмаки мертвецов. Это маленькие птички, живые и радостные. Одни из них серые, другие — зеленые, третьи — красные, еще другие — желтые. У одних красная или белая только грудка, у других — шейка, у третьих — хвост. Встречаются беленькие с синим горлышком, а мне случалось видеть некоторых (маленьких-маленьких и ужасно горделивых) совсем белых, без единого пятнышка. Утром, на рассвете, они начинают тихонько петь в полях, и немцы пробуждаются от своих тяжких снов, чтобы приподнять головы и послушать их счастливые песни. Они тысячами летают над полями битвы на Днестре, на Днепре и на Дону. Они чирикают свободно и радостно. Они не боятся войны, не боятся Гитлера, эсэсовцев, Гестапо. Они не задерживаются на деревьях, созерцая бойню, но порхают, распевая в синеве, и следуют вверху за армиями, марширующими по нескончаемой равнине. Ах! Они действительно прекрасны, птицы Украины!
Аксель Мунте поднял голову, снял свои черные очки, посмотрел на меня своими живыми и лукавыми глазами. Он улыбнулся: «Это хорошо, что немцы не убивают птиц. Я очень Рад, что они не убивают птиц».
— У него в самом деле нежное сердце, благородная душа, у этого милого Мунте, — сказал принц Евгений.
Внезапно долгое и мелодичное ржание донеслось с моря. Принц Евгений задрожал и закутался в свое широкое манто из серой шерсти, оставленное им на спинке кресла.
— Идемте, посмотрим на деревья, — сказал он, — они очень хороши, деревья, в этот час.
Мы вышли в парк. Становилось холодно, и небо на востоке приобретало цвет потемневшего серебра. Медленное умирание света, возвращение ночи после нескончаемого летнего дня создавали у меня мирное и безмятежное настроение. Мне казалось, что война окончена, что Европа еще была жива, the glory that was[39], величие that was и так далее. Я провел лето в Лапландии, на фронте Петсамо и Лицы, в огромных лесах Инари, в арктической тундре, лунной и мертвенной, освещаемой жестоким незаходящим солнцем. Эти первые тени осени возвращали мне тепло, отдых, ощущение жизни и ясности, не загрязненных больше постоянным присутствием смерти. Я закутывался в тень, снова найденную, словно в шерстяную одежду. Воздух был нежен и имел аромат женщины.
Всего несколько дней назад я прибыл в Стокгольм, после долгого пребывания в клинической больнице в Хельсинки, и я снова находил в Швеции эти прелести неомраченной жизни, которая была некогда изяществом всей Европы. После стольких месяцев одичалого одиночества на крайнем севере, среди лапландцев, охотников на медведей, оленьих пастухов и рыбаков — ловцов лосося, — сцены, полузабытые сцены жизни мирной и трудовой, которые я не без удивления созерцал на улицах Стокгольма, опьяняли меня, казались не вполне реальными. Особенно женщины: атлетическая и горделивая грация до прозрачности ясных шведок, с их волосами античного золота, с чистыми улыбками, с небольшими, высоко посаженными грудями — словно два знака отличия, полученных на спортивных играх, или две памятные медали в честь 85-летия со дня рождения Густава-Адольфа V, — возвращали мне целомудрие жизни. Тени первых увиденных мною солнечных закатов придавали женственности их нечто таинственное.
Вдоль улиц, погруженных в синеватое освещение, под небом, словно бледно-голубой шелк, в воздухе отражались белые фасады домов, и женщины проходили мимо, похожие на кометы из синеватого золота. Их улыбки были безразличными, взгляд — восторженным и невинным. Обнявшиеся пары на скамьях Хамль Гардена[40] под деревьями, уже влажными от наступающей ночи, казались мне прелестным повторением обмявшейся пары Жозефсона в Фестлиг-Сцене[41]. Небо над кровлями, дома вдоль побережья, парусники и пароходы, стоящие на якорях в Стрёме[42] и во всю длину Страндвегена, имели синий тон Маринбергского и Рёстрандского фарфора, эту синеву моря, разделяющего острова архипелага Мелэрен[43] близ Дроттинхольма, леса кругом Зальтцебадена[44], облака над последними кровлями Валгаллавагена[45] — эта синева, которая всегда присутствует в белизне севера, в снегах севера, в реках, озерах, лесах севера, синева, которую мы встречаем в алебастровых украшениях неоклассической[46] шведской архитектуры, в массивной мебели Луи XV, отделанной белым лаком, которой обставлены дома крестьян Норрдланда и Лапландии и о которых мне так горячо рассказывал Андерс Эстерлинг, прогуливаясь среди белых деревянных колонн, с позолоченными дорическими капителями, в зале Собраний Шведской академии Гэмль Стада. Молочная синева стокгольмского неба перед рассветом, когда те призраки, что всю ночь бродили по улицам города (север — край призраков: там деревья, дома, животные — ни что иное, как призраки деревьев, домов, животных), возвращаются к себе вдоль тротуаров, похожие на голубые тени; и я шпионил за этими призраками из моего окна в «Грандотеле», или из окон дома Стриндберга[47], этого дома из красного кирпича за № 10 на Карлаплане, занятого теперь дипломатической миссией Италии для квартиры ее секретаря, а этажом выше помещалась чилийская певица Росита Серрано. Десяток бассетов, принадлежащих Росите Серрано, с лаем поднимались и спускались по лестнице, и голос Роситы, хрипловатый и сладостный, раздавался сопровождаемый аккордами гитары, а я смотрел вниз, на площадь, где бродили призраки, которые встречались Стриндбергу на лестнице, когда он на рассвете возвращался к себе домой, или подкарауливали его, сидя в прихожей, или растянувшись на его постели, или выглядывая в окно, — бледные под бледным небом, делающие знаки невидимым прохожим. Среди шепота фонтана, расположенного в центре Карлаплана, слышно, как шелестят древесные листья от легкого бриза, долетающего с утреннего моря.
Мы сидели в маленькой неоклассической беседке в глубине парка, там, где скала нависает над морем, и я смотрел, как белые дорические колонны мягко рисуются на синем фоне осеннего пейзажа. И мало-помалу что-то горькое возникало во мне. Это было чем-то вроде печального злопамятства. Жестокие слова подкатывали к моим губам и я напрасно старался их остановить. И так вот, почти бессознательно, я начал говорить о русских пленных, которые поедали трупы своих товарищей в лагере Смоленска под безразличными взорами офицеров и солдат немецкой армии. Мне было страшно и стыдно моих слов, мне хотелось попросить извинения у принца Евгения за мою жестокость. Принц Евгений умолк, закутанный в свое серое манто, с головой, опущенной на грудь. Однажды он приподнял голову, губы его зашевелились, как будто он хотел что-то сказать, но он сохранил молчание. И я видел в его взгляде страдание и упрек.
В его глазах и на его лице я хотел прочитать ту же холодную жестокость, которая была написана на лице обергруппенфюрера Дитриха, когда я рассказал ему о советских пленных, поедавших трупы своих товарищей в лагере Смоленска. Дитрих принялся хохотать. Я встретил обергруппенфюрера Дитриха, кровавого Дитриха, командира персональной охраны Гитлера, в вилле Итальянского посольства на берегах Ванзее близ Берлина. На меня произвело впечатление его бледное лицо, невероятный холод его глаз, его чудовищные уши и маленький рыбий рот. Дитрих принялся хохотать.
— Хабен зи инен гешмект?[48] Они поедали их с аппетитом? — спросил он.
И он смеялся, раскрывая как можно шире свой маленький рот, рыбий рот, и показывая свои рыбьи зубы, острые и частые. Я хотел, чтобы лицо принца Евгения выразило ту же жестокость, что и лицо Дитриха, и чтобы он спросил меня так же своим усталым и бархатистым голосом, как бы немного отдаленным: «Они поедали их с аппетитом?»
Но принц Евгений поднял глаза и посмотрел на меня с выражением страдания и упрека. Маска глубокого страдания облачала его лицо. Он понял, что мне больно, и пристально смотрел на меня с сердечным сожалением. Я чувствовал, что, если он заговорит, если он обратится ко мне хотя бы с одним единственным словом, если он только дотронется до моей руки, я, быть может, расплачусь.
Но принц Евгений смотрел на меня молча, тогда как жестокие слова все поднимались к моим губам. Тогда я неожиданно заметил, что готов рассказать одну историю — о дне, когда я выехал на автомобиле на Ленинградский фронт. Я проезжал через дремучий лес, возле Ораниенбаума, с немецким офицером, лейтенантом Шульцем из Штутгарта, точнее из долины Неккара[49], «долины поэтов», как сказал мне Шульц. И он говорил мне о Гёльдерлине[50], о безумии Гёльдерлина. «Он не был безумцем, — говорил Шульц, — это был ангел», — и он делал рукой жест, неопределенный и медлительный, как будто затем, чтобы изобразить в ледяном воздухе невидимые крылья и смотря вверх, как будто следя глазами за полетом ангела. Лес был суровым и глубоким; ослепляющий блеск снега отражался на стволах деревьев с легким синеватым оттенком; машина скользила по оледенелой дороге с мягким рокотом. «Гёльдерлин летал, как большая птица в Черном лесу», — говорил Шульц. Я умолк, рассматривая окружавший нас глубокий и ужасный лес, прислушиваясь к рокоту колес по оледенелой тропинке. И Шульц декламировал стихи Гёльдерлина:
Вблизи от Некара, на Рейне, Говорят: для того, чтобы жить, Нет лучшего места на свете, А я бы хотел на Кавказ.— Гёльдерлин был немецкий ангел, — сказал я, улыбаясь.
— Это был немецкий ангел, — повторил Шульц и продекламировал: — «Но я бы хотел на Кавказ».
— Гёльдерлин тоже, — сказал я, — хотел направиться на Кавказ, нихт вар?[51]
— Ах, зо![52] — сказал Шульц.
В это время лес стал более плотным и густым. Где другая дорога пересекала нашу, там перед нами, на перекрестке двух дорог, стоял солдат, заваленный снегом почти до пояса. Он стоял неподвижный, с протянутой правой рукой, указывая дорогу. Когда мы с ним поровнялись, Шульц притронулся рукой к своей фуражке, как бы для того, чтобы приветствовать и поблагодарить его. Затем сказал:
— Вот еще один, который хотел бы отправиться на Кавказ! — И принялся хохотать, откинувшись на своем сиденье.
На углу следующего поворота, на новом перекрестке дороги, на значительном расстоянии от первого, появился другой солдат, равно, как первый, занесенный снегом, и с протянутой правой рукой, чтобы указать нам дорогу.
— Они замерзнут, эти бедняги, — заметил я.
Шульц повернулся и посмотрел на меня: «Им не угрожает смерть от холода!»
Он рассмеялся. Я спросил у него, почему он полагает, что эти бедняги не должны опасаться замерзнуть.
— Оттого, что они отныне привыкли к холоду, — отвечал мне Шульц. И он смеялся, похлопывая меня по плечу. Он остановил машину и повернулся ко мне, улыбаясь: «Не хотите ли посмотреть поближе? Вы можете спросить у него, не холодно ли ему?»
Мы вышли из машины и приблизились к солдату, который стоял неподвижный, с рукой, протянутой, чтобы указать дорогу. Он был мертв. У него были дикие глаза и полуоткрытый рот. Это был мертвый русский солдат.
— Это наша полиция дорог и коммуникаций, — объяснил Шульц. — Мы называем ее «молчаливая полиция».
— Вы совершенно уверены, что он не говорит?
— Что он не говорит? Ах, зо! Попробуйте его расспросить.
— Будет лучше, если я не стану пробовать. Я убежден, что он мне ответит, — сказал я.
— Ах, зер амюзант[53], — вскричал Шульц, смеясь.
— Да, зер амюзант, нихт вар? И затем я добавил, приняв безразличный вид:
— Когда вы их привозите сюда, на место, они живые или мертвые?
— Конечно живые, — отвечал Шульц.
— Но затем они умирают от холода, разумеется? — спросил я тогда.
— Нет, нет, они не умирают от холода: смотрите сюда. И Шульц показал мне замороженный сгусток крови, красневший на виске покойного.
— Ах, зо! Зер амюзант.
— Зер амюзант, нихт вар? — сказал Шульц. Затем он добавил, смеясь: «Надо, тем не менее, чтобы русские пленные на что-нибудь пригодились бы!»
— Замолчите, — сказал принц Евгений тихо. Он просто сказал: «Замолчите». Я хотел бы, чтобы он сказал своим усталым и бархатистым, как бы немного отдаленным голосом: «Ну да! Надо же, чтобы русские пленные на что-нибудь пригодились!» Но он молчал. И мне было страшно и стыдно от моих слов. Быть может, я ожидал, что принц Евгений протянет руку и положит ее мне на плечо. Я чувствовал себя униженным, полным злопамятства, печального и жестокого.
Из самой чащи дубового леса Оахилля слышался нетерпеливый скрип сабо по сырой земле и приглушенное ржание. Принц Евгений поднял голову, прислушиваясь, затем встал и молча направился к вилле. Я также молча последовал за ним. Мы вошли в его мастерскую и сели за стол, на котором был сервирован чай в прекрасном сервизе русского Екатерининского фарфора[54], прозрачного и чуть голубоватого. Чайница и сахарница были из старого шведского серебра, не такого блестящего, как русское серебро Фаберже[55], но слегка потускневшего, с этим сумрачным отблеском старинных прибалтийских городов. Голоса лошадей доносились ослабленные расстоянием. Они смешивались с шепотом ветра в листве деревьев. Накануне я побывал в Упсале[56], чтобы посетить знаменитый сад Линнея[57] и могилы древних шведских королей, — эти большие земляные курганы, похожие на могилы Горациев[58] и Курциев на Аппиевой дороге[59]. Я спросил у принца Евгения, правда ли, что в старину шведы приносили в жертву коней на могилах своих королей.
— Бывали случаи, когда они приносили в жертву королей на могилах своих лошадей, — отвечал принц, лукаво посмеиваясь, как будто очень довольный тем, что я снова обрел равновесие и не излучал более жестокости ни в голосе, ни во взгляде. А ветер все дул среди деревьев парка, и я представлял себе лошадиные головы, висящие на ветвях упсальских дубов, с их большими глазами, из которых струится влажный блеск, сходный с блеском женских глаз, когда их зажигает наслаждение или сострадание.
— Вам никогда не приходило в голову, — сказал я, — что шведский пейзаж — пейзаж конский по своей природе?
Принц Евгений улыбнулся: «Знаете ли вы рисунки лошадей Карла Хилля? Карл Хилль был сумасшедшим, — добавил он, — ему казалось, что деревья — это зеленые лошади».
— Карл Хилль, — сказал я, — писал лошадей так, как если бы они были пейзажем. Есть, в самом деле, нечто странное в шведском характере: то же безумие, свойственное и характеру лошадей, и то же благородство, и та же болезненная чувствительность, то же воображение, свободное и отвлеченное. Ведь не только в деревьях лесов, больших и торжественных, ярко-зеленых, проявляется эта конская природа, конская природа шведского пейзажа, но и в шелковистом блеске водных поверхностей, в перспективе лесов, островов, облаков, — во всей этой воздушной перспективе, глубокой и легкой, где белый цвет — прозрачен, голубой, бирюзовый — холоден, зеленый — влажен и ясен, синий — сверкающ. Все они вместе составляют легкую и дикую гармонию, как будто краски никогда не остаются здесь подолгу — на лесах, лугах и водах, но всегда готовы взлететь без промедления, подобно бабочкам (краски шведского пейзажа, если его тронуть, останутся на кончиках пальцев, словно пыльца с крыльев бабочек). Это пейзаж — гладкий наощупь, как шкура лошади; у него мимолетная окраска, легкость и воздушный блеск, словно меняющийся оттенок лошадиной масти, когда лошадь скачет среди колеблющихся трав и листвы в суматохе охотничьего гона, на зеленом фоне лугов и деревьев, под серо-розовым небом. — Взгляните на солнце, — продолжал я, — когда оно поднимается над горизонтом, расцвечивая весь пейзаж этим влажным блеском, который характеризует большие глаза возбужденной лошади. В шведской природе есть нечто ирреальное, полное фантазии и каприза, полное того сумасшедшего лиризма, который мы встречаем в конских глазах. Шведский пейзаж — это галопирующая лошадь. — Прислушайтесь, — сказал я, — к ржанию ветра среди деревьев, прислушайтесь к ржанию ветра в травах и листве.
— Это — лошади из Тиволи, они возвращаются с моря, — произнес принц Евгений, вслушиваясь.
— На днях, — сказал я, — мне пришлось побывать на поле, предназначенном для скачек с препятствиями, которое находится возле казармы королевских гусар при Фатритт-клубе Стокгольма. Был последний день конкур’иппика, и на приз скакали лошади лучших полков короля. Деревья, кони, луговая трава, приглушенный серый цвет стен крытого теннисного корта, светлые туалеты женщин и голубая форма гусарских офицеров создавали в этом серебристом воздухе картину, достойную кисти Дега[60], сердечную и нежную, смягченную чрезвычайно тонкими серо-розовыми и зеленоватыми тонами. (Именно в этот день, заключительный день скаковых состязаний, лошадь по кличке Фюрер, на которой скакал лейтенант Эриксон, из королевской артиллерии Норрланда, в момент заезда бросилась, опрокидывая барьеры, изгороди, — все препятствия. А публика сохраняла молчание, чтобы Германия Фюрера, по другую сторону моря, не могла использовать это в качестве предлога, чтобы захватить Швецию — ни аплодисментов, ни свистков. И в тот же самый день, словно не в силах противиться духу нейтралитета, другая лошадь, по кличке Молотов[61], всадником которой был офицер с английской фамилией, весьма несвоевременной в это мгновение — капитан Гамильтон[62] из королевской артиллерии Гота[63], в последний момент отказалась участвовать в скачках то ли в силу обмена донесениями, происходившего в эти дни между Швецией и СССР, в связи с тем, что последний потопил несколько шведских кораблей на Балтийском море, то ли чтобы избежать очной ставки перед глазами публики между Фюрером и Молотовым). Две или три сотни зрителей, занимавших скамьи, игравшие роль трибун, составляли элегантную публику, обычную в Стокгольме, сосредоточивающуюся вокруг принца-наследника, сидевшего посередине длинной скамьи без спинки. Иностранный дипломатический корпус казался серой дырой посреди платьев — зеленых, красных, желтых, бирюзовых, и синих мундиров.
И была еще минута, когда на звонкое ржание, нежное и бархатистое, которое испустил Рокавэй, шедший под его королевским высочеством, принцем Густавом-Адольфом, ответили все лошади, принимавшие участие в скачках. Можно было сказать, что это любовный вызов. И Бекхестетен — мастера верховой езды Анкаркрона из королевских гусар, и мисс Кидди — лейтенанта Найхольма королевских драгун Норрланда, и Бабиан — лейтенанта Нилена королевской артиллерии Свеа, принялись резвиться на зеленом лугу перед суровым взглядом принца-наследника, тогда как из-за фона густых деревьев, и с границы луга, и из конюшен королевских гусар, находившихся по другую сторону дороги, доносилось ржание невидимых лошадей. Даже запряжки парадных королевских ландо принялись ржать так, что в течение нескольких мгновений единственным слышным голосом был голос лошадей. Мало-помалу свист ветра, гудки паровозов, сумрачные жалобы чаек, шелест древесной листвы, шум невидимого дождя зазвучали сильнее и смелее, и ржание замолкло. Но в течение этой краткой минуты мне действительно казалось, что я слышу голос шведской природы во всей его чистоте: голос конский — ржание нежное, голос глубоко женственный.
Принц Евгений положил руку на мое предплечье и сказал, улыбаясь: «Я счастлив, что вы..». И добавил с сердечной интонацией: «Не уезжайте в Италию, оставайтесь пока в Швеции, вы излечитесь здесь от всего, что вам пришлось выстрадать».
Дневной свет понемногу ослабевал: цвет ночных фиалок медленно распространялся в комнате. Постепенно чувство нескончаемой стыдливости овладевало мною. Я испытывал стыд и отвращение ко всему, что я перенес за годы войны. Снова, как каждый раз, когда, отправляясь в Финляндию или возвращаясь оттуда, я ненадолго заезжал в Швецию, на этот счастливый остров среди Европы, развращенной голодом, ненавистью и отчаянием, — здесь я вновь находил впечатление ясности жизни, чувство человеческого достоинства. Я чувствовал себя снова свободным, но это было чувством мучительным и жестоким. Спустя несколько дней мне предстояло ехать в Италию. И теперь мысль о том, что мне придется покинуть Швецию, пересечь Германию, снова увидеть эти немецкие лица, обезображенные ненавистью и страхом, влажные от болезненного пота, казалась мне гнусной и оскорбительной. Я увижу также спустя несколько дней итальянские лица, мои итальянские лица, унылые и бледные от недоедания; я узнаю себя в скрытой тревоге этих лиц, в глазах толпы, заполняющей трамваи, автобусы, кафе, тротуары под большими портретами Муссолини, налепленными на стенах и витринах, под этой головой, одутловатой и белесой, с подлыми глазами и лживым ртом. И чувство жалости и возмущения понемногу овладевало мной.
Принц Евгений смотрел на меня молча. Он понимал, что происходило во мне, охватившую меня тревогу, и он принялся мило говорить мне об Италии, Риме, Флоренции, о своих итальянских друзьях, которых он не встречал уже целые годы. Наконец, он спросил меня, что предполагает делать принц Пьемонтский.
— Он лысеет, — хотелось мне ответить. Но я удовольствовался тем, что сказал, улыбаясь: — Он в Аньяни, возле Рима, во главе войск, защищающих Сицилию. — Он улыбнулся также, но делая вид, что эта улыбка не имеет отношения к моей лукавой и невинной шутке, и спросил, давно ли я его видел.
— Я видел его в Риме, незадолго до моего отъезда из Италии, — ответил я. — Мне хотелось ему рассказать о моей последней встрече с принцем Гумберто, сказать, что она оставила во мне ощущение сострадания и сожаления. Нескольких лет оказалось достаточно, чтобы превратить этого молодого принца, надменного и счастливого, в человека, имеющего вид бедный, печальный и униженный. Что-то в его лице, в его взгляде изобличает совесть, тревожную и пришедшую в упадок. Даже самая его сердечность, исполненная еще недавно любезной искренности, стала поддельной, его улыбка — смиренной и ненадежной.
Я уже замечал его удрученность незадолго до войны, на Капри, когда мы однажды вечером обедали в Зум Катере Хиддигейгей, на узкой застекленной террасе, нависающей над улицей. В соседнем зале банда молодых людей, под предводительством графини Эдды Чиано, шумно танцевала среди потной и чрезмерно возбужденной толпы неаполитанцев. Принц Пьемонтский наблюдал угасшим взглядом стол, занятый юношеским двором графини Чиано[64], и небольшую группу, собравшуюся у стойки бара вокруг Моны Вильямс[65], Ноеля Коварди и Эдди Бисмарка[66]. Время от времени он вставал, приглашая легким приветствием Елизабет Моретти или Мариту Гуглиельми. Между одним и другим танцем он возвращался и садился к нашему столу, вытирая лоб платком. Он улыбался, но улыбкой, полной скуки и почти испуганной. На нем были белые полотняные брюки, немного короткие и немного узкие, и пуловер из синей шерсти, модели, которую ввела в моду в том году Габриэлла Робилан. Он снял свою куртку и положил ее на спинку стула. Мне никогда еще не случалось видеть его одетым с такой небрежностью и так необычно. Я смотрел с удивлением и неудовольствием на белое пятно, которое просветлялось на его макушке, подобно большой тонзуре. Он казался очень постаревшим. Его голос также постарел, он как бы пожелтел, стал гортанным и хриплым.
Вялость, забвение обо всем, тоска сказывались в каждом из его жестов, даже в его улыбке, в которой раньше было что-то детское, во взгляде его больших черных глаз; и я испытывал своего рода деликатную жалость к этому молодому принцу, с его зачахшим и подавленным видом, который покорно старился, мягко уступая судьбе. Я думал о том, что все мы постарели раньше времени в Италии, что та же вялость, забвение обо всем, тоска ослабляли движения, портили улыбку и взгляд каждого из нас. Отныне больше не оставалось ничего чистого, ничего по-настоящему молодого в Италии. В морщинах, ранней лысине, увядшей коже этого молодого принца был как бы признак нашей общей судьбы. Я чувствовал, что мучительная, удручающая мысль занимала его ум, что унижение рабства испортило и его тоже, что он тоже был рабом. И эта мысль вызывала во мне желание смеяться, когда я думал о том, что и он тоже раб.
Это не был больше принц Очарователь, которого видели проходящим по улицам Турина с сердечной улыбкой на гордых и алых губах. Принц Очарователь, которого видели появляющимся на пороге дружеских домов рядом с принцессой Пьемонтской, для ужинов и балов, которыми туринская знать чествовала молодую чету. А эта чета была действительно прелестной. Было радостно видеть их вместе: его — несколько смущенного своим браком, немного чересчур нежным, ее — чуть-чуть недоверчивую и рассерженную, ее ясный взгляд, направленный на других молодых женщин с ревнивым подозрением, которое не могла скрыть ее молчаливая грация.
Она тоже, принцесса Пьемонтская, в тот последний раз, когда я ее встретил, показалась мне печальной и униженной. Как она отличалась от той, какую я видел в первый раз в Турине, на балу, всю в белом, нежную и лучезарную. Это был один из первых балов в Италии, в которых она принимала участие после ее свадьбы. Она вошла; казалось, что она прошла внутрь каждого из нас, тихонько, как тайный образ. Как она отличалась от той, которую я вновь встретил во Флоренции, или в Форте деи Марми, которую я иногда настигал на Капри, на подводных камнях или в гротах Пикколо Мартина возле Фараглиони! В ней также отныне появилось нечто униженное.
Я это заметил уже за несколько лет перед тем, на Лазурном берегу[67]. Я сидел однажды вечером с друзьями на террасе Монте-Карло Бич возле рыбного садка. На сцене открытого театра загар голых ног знаменитого ансамбля гёрлс[68] из Нью-Йорка поднимался и опускался в ритме музыки. Вечер был теплый. Море дремало, покоясь на прибрежных камнях. Около полуночи принцесса Пьемонтская появилась в сопровождении графа Грегорио Кальви ди Берголо. Спустя минуту она послала его пригласить нас к своему столу. Принцесса молчала, глядя на спектакль, странно им поглощенная; оркестр играл «Сторми Ваэза[69]» и «Сингинг ин тзе рейн»[70].Потом она повернулась ко мне и спросила, когда я возвращаюсь в Турин[71]. Я ответил ей, что не вернусь больше в Италию, пока все не переменится.
Она посмотрела на меня долгим взглядом, молча, с грустным выражением.
— Вы припоминаете другой вечер в Венце? — спросила она неожиданно.
(За несколько дней перед этим я поднялся на Венце передать привет от Роже Корнаца французскому переводчику Х. Д. Лоуренса — двум молодым американкам, известным тогда на всем Лазурном берегу благодаря их «священным танцам». Две американские девицы жили вместе, совсем одни, в старинном домике. Они были очень бедны и казались счастливыми. Младшая походила на Рене Вивьен. Они сказали мне, что в этот вечер ожидают у себя принцессу Пьемонтскую. В то время как младшая, укрывшись за пыльной портьерой, готовилась к своему танцу (ее подруга подбирала пластинки и крутила завод граммофона), принцесса Пьемонтская вошла с Грегорио Кальви и другими. Сначала мне показалось, что ничто не изменилось в ее облике; потом я заметил постепенно, что и в ней тоже было что-то униженное и увядшее. В плохо освещенной комнате, низкой и сводчатой, вроде грота, на каком-то подобии сцены, декорированной материей и бумагой, молодая американка, походившая на Рене Вивьен, начала танцевать. Это был бедный танец, прелестно вышедший из моды, вдохновленный, как объяснила ее подруга, фрагментом из Сафо[72]. Вначале танцовщица казалась сгорающей на чистом огне: голубые огни пылали в ее светлых глазах. Но через мгновение она явилась усталой и утомленной. Ее подруга пристально смотрела на нее взглядом нежным и повелительным, в то же время она полушепотом говорила принцессе Пьемонтской о священных танцах, о Платоне[73], о статуях Афродиты[74]. Танцовщица медленно передвигалась на крохотной сцене, при красноватом свете двух ламп, накрытых колоколами из лилового атласа, поднимая и опуская временами одну ногу, временами другую, в ритме граммофона, иногда поднимая руки и соединяя их кисти над головой, потом роняя их вдоль бедер жестом последнего изнеможения. Затем она остановилась, сказала с ребяческой простотой: «Я устала», — и уселась на подушке. Ее подруга приняла ее в свои объятия, называя дорогой малюткой, и повернулась к принцессе Пьемонтской, спрашивая ее: «Не правда ли, она чудесна?»
— Знаете ли, о чем я думала, присутствуя на танце этой молодой американки? — сказала мне принцесса. — Я думала, что ее движения не были чистыми. Я не хочу этим сказать, что они были чувственны или что им недоставало стыдливости, я хочу сказать, что они были горделивыми. Они не были чистыми. Я задаю себе вопрос, почему сегодня так трудно оставаться чистым. Не кажется ли вам, что нам следовало бы быть более смиренными?
— Я подозреваю, — ответил я, — что танцы этой молодой американки послужили вам только предлогом. Быть может, вы думали о чем-то другом?
Да, может быть, я думала о другом, — сказала она. Она на мгновение умолкла, затем повторила: «Не кажется ли вам, что мы должны бы были быть более смиренными?»
— Нам следовало бы иметь больше достоинства, — ответил я, — больше уважения к самим себе. Но, быть может, вы правы. Только смирение может поднять нас из того унизительного положения, в которое мы впали.
— Может быть, именно это я и хотела сказать, — продолжала принцесса, опуская голову. — Мы больны гордостью, а гордость бесполезна, когда нужно поднять нас из унижения. Наши поступки и мысли нечисты, — и она добавила, что несколькими месяцами ранее, когда она организовала исполнение в королевском дворце Турина «Орфея» Монтеверди[75] для ограниченного круга друзей и знатоков, ее в последний момент охватило чувство стыда. Ей показалось, что ее намерение не было чистым. Ей показалось, что она совершила это только из гордости.
— Я тоже был в королевском дворце, — сказал я, — и я чувствовал себя не в духе, сам не знаю почему. Быть может оттого, что сегодня даже Монтеверди детонирует в Италии. Но мне жаль, что вы растрачиваете вашу совесть из-за вещей, которые не оказывают ничего, кроме чести вашему уму и вкусу, когда на свете столько других, за которые мы все должны краснеть, и вы тоже.
Принцесса Пьемонтская, казалось, была очень смущена моими словами, и я видел, что она слегка покраснела. Я почувствовал некоторое угрызение совести оттого, что говорил с ней таким образом. Я боялся, что оскорбил ее. Но спустя минуту она любезно сказала мне, что как-нибудь поутру, может быть завтра, она поднимется на Венце, чтобы посетить могилу Лоуренса («Любовник леди Чаттерлей» всеми читался и обсуждался в то время), и я рассказал ей о своем последнем посещении Лоуренса.
Когда я приехал в Венце, уже наступила ночь. Кладбище было закрыто. Сторож спал и отказывался подняться, заявляя, что «кладбища по ночам должны спать». Тогда, прижавшись лицом к прутьям решетки, я попытался рассмотреть в ночи, посеребренной луной, скромное и простое погребение, с грубой мозаикой из цветных камней, изображающей феникса — бессмертную птицу, которую Лоуренс пожелал иметь на своей могиле.
— Вы считаете, что Лоуренс был чистым человеком? — спросила принцесса Пьемонтская.
— Это был свободный человек, — ответил я.
Позднее, прощаясь со мной, принцесса Пьемонтская, с удивившим меня грустным выражением, сказала:
— Почему вы не возвращаетесь в Италию? Не примите моих слов за упрек. Это совет друга.
Двумя годами позже я возвратился в Италию и был арестован, заключен в одиночной камере «Реджина Коэли», осужден без суда и приговорен к пяти годам ссылки. В тюрьме я думал, что принцесса Пьемонтская уже в то время была одержима глубокой тоской всего итальянского народа, что она была унижена нашим всеобщим рабством, и я был благодарен ей за печальное, почти сердечное выражение, которое уловил тогда в ее словах.
В последний раз я встретил ее в Неаполе, не так давно, на вокзале, тотчас же после бомбардировки. Раненые лежали на уставленных рядами носилках в ожидании автомашин из лазарета. Лицо принцессы Пьемонтской было смертельно бледным от тревоги, но и не только от тревоги, а еще от чего-то более глубокого и скрытого. Она похудела, глаза ее были окаймлены чернотой, виски расцвечены белой татуировкой морщинок. Отныне этот чистый блеск, освещавший ее лицо, когда она впервые приехала в Турин, спустя несколько дней после своей свадьбы с принцем Гумберто, угас. Она стала более медлительной, более угловатой, казалась странно постаревшей. Она узнала меня, остановилась, чтобы со мной поздороваться, и спросила, с какого фронта я приехал.
— Из Финляндии, — ответил я.
Она посмотрела на меня и сказала: «Все кончится хорошо, вот увидите; наш народ — чудесный народ».
Я расхохотался. Мне хотелось ей ответить: «Мы уже проиграли войну, мы все проиграли войну, и вы тоже». Но я не сказал ничего. Я сказал только: «Наш народ — очень несчастный народ». И она затерялась в толпе, уходя медленными, несколько неуверенными шагами).
Вот о чем хотелось мне рассказать принцу Евгению, но я удержался и улыбнулся, вспоминая царственную чету.
— Итальянский народ очень любит их, не правда ли? — спросил принц Евгений. И прежде, чем я успел ответить: «Да, народ их очень любит» (хотя мне хотелось ответить ему иначе, но я не решался), он добавил, что у него есть много писем от принца Хумберта (так он говорил: Хумберт), что он собирается привести их в порядок, что он хочет собрать и опубликовать их, и я не понял, говорит он о короле Гумберто или о принце Гумберто Пьемонтском. Затем он спросил меня, пишется ли Умберто по-итальянски Хумберто с «аш» впереди.
— Без «аш», — ответил я. И я смеялся, думая о том, что принц Пьемонтский тоже был рабом, как и любой из нас; бедный коронованный раб, с грудью, украшенной крестами и медалями. Я думал, что и он тоже не более чем бедный раб. И я смеялся. Мне было стыдно моего смеха, но я смеялся.
Внезапно я заметил, что взгляд принца Евгения медленно поворачивается к картине, висевшей на одной из стен комнаты. Это была известная картина «На балконе», написанная им в дни его молодости, в Париже, около 1888 года. Молодая женщина — Фриггерина Цельзинг, наклонилась через балюстраду балкона над одной из улиц, сходящихся к площади Этуаль[76]. Каштановый цвет ее юбки оживляли зеленые и синие оттенки. Белокурые волосы были прикрыты маленькой шляпкой, обычной для женщин Манэ[77] и Ренуара[78], и гармонировали с изображенными на холсте прозрачно-белыми и серовато-розовыми фасадами зданий и влажной зеленью деревьев улицы. Под балконом проезжал черный фиакр, и лошадь, увиденная сверху, казалась деревянной, лишенной гибкости, и тощей; она придавала этой парижской улице игрушечный оттенок; этой улице, тихой и хрупкой. И лошади омнибуса, под уклон спускающегося с площади, казались лакированными той же блестящей эмалью, что сверкала на листве каштанов. Их можно было принять за карусельных лошадок на провинциальной кермессе[79] (с этими спокойными тонами домов, деревьев и неба, отраженного в кровлях улицы). Небо здесь было все еще верленовским[80], но в нем появлялось нечто и от Пруста.
— Париж был еще совсем молодым тогда, — сказал принц Евгений, подходя к картине. Он смотрел на Фриггерину Цельзинг на ее балконе и говорил мне, понизив голос, с чем-то похожим на стыдливость, об этом молодом Париже Пюви де Шаванна, о своих друзьях-художниках: Цорне, Вальберге, Цедерстрерне, Арсениусе, Веннерберге — друзьях тех счастливых времен. Париж был тогда еще совсем молодым. Это был Париж госпожи де Мариенваль, госпожи де Сент Эверт, герцогини Люксембургской (и также госпожи де Камбремер и молодого маркиза де Босержана)[81], этих богинь Парижа, взгляды которых зажигали в глубине партера огни блистательные и бесчеловечные; белые божества, украшенные белыми цветами, пушистыми, точно крылья, одновременно перистыми и напоминающими чашечку цветка, как некоторые цветы моря, которые разговаривали с очаровательной изысканностью преднамеренной сухости, в манере Мериме[82] или Мейлака[83], с полубогами Жокей-клуба в предрасиновском климате «Федры»[84]. Это был Париж маркиза де Паланси, который проплывал в прозрачной тени ложи, точно рыба за стеклянной стенкой аквариума. Это был также Париж площади Тертр, первых кафе Монпарнаса[85] Клозери Де Лила[86], Тулуз-Лотрека[87], Ла Гулю[88] и Жана Дезоссэ.
Мне хотелось прервать принца Евгения, чтобы спросить его, не встречал ли он герцога Германтского, входящего в ложу и одним жестом приказывающего снова занять свои места морским и священным чудовищам, плавающим в глубине грота, чтобы просить его рассказать мне о женщинах, прекрасных и легкомысленных, как Диана[89], о щеголях, беседовавших на двусмысленном жаргоне Свана и господина де Шарлю, и я готов уже был задать вопрос, который обжигал мои губы и спросить его трепещущим голосом: «Вы, вероятно, знавали госпожу Германтскую?»
Но в это время принц Евгений обернулся, подставив свое лицо усталому освещению закатного часа; он удалился от холста и, казалось, вошел из позолоченной и тепловатой тени этой «стороны Германта», где и он тоже как будто укрывался, появляясь по другую сторону стекол аквариума, похожий — и он также — на чудовище морское и священное. Усевшись в кресло в глубине залы, наиболее удаленное от Фригеррины Цельзинг, он начал говорить о Париже, как будто Париж для его глаз художника был только красками, воспоминанием, ностальгией цвета (эти розовые, эти серые, эти зеленые, эти синие) прошлого. Быть может, и впрямь Париж был для него не более, чем безмолвным цветом, цветом, лишенным звучания; его зрительные воспоминания, образы его молодых парижских лет, отъединенные от всего звучного, жили в его памяти подлинной жизнью, зыбились, вспыхивали, улетали, как окрыленные монстры предыстории человечества. Немые картины его молодого и далекого Парижа рушились перед его глазами бесшумно, и разрушение этого счастливого мира его молодости не сопровождалось вульгарностью каких-либо звуков, оно совершалось в целомудрии тишины.
Чтобы избежать печального очарования этого голоса и образов, вызываемых этим голосом, я поднял глаза и смотрел сквозь деревья парка на дома Стокгольма, в их пепельном цвете, подчеркнутом ослабленным закатным освещением. Я видел вдали, над Королевским дворцом, над храмами Гамль Стада[90] распростертое синее небо, медленно поглощаемое сумерками, похожее на небо Парижа; это прустовское небо, точно из синей бумаги, что и за окнами моего Парижского дома на площади Дофина[91], которое я видел расстилающимся над крышами левого берега, стрелой Сент-Шапелль, мостами Сены, Лувром[92], и эти приглушенные пунцовые, пламенные розовые, серые с синеватыми облаками тона, весь их согласный и мягкий аккорд вместе с черными, слегка растушеванными шиферными кровлями, потихоньку сжимали мое сердце. В этот момент я подумал, что и принц Евгений, — он тоже был персонажем со стороны Германта, кто знает? Быть может — один из этих действующих лиц, которые припоминают имя Эльстира[93]. И я был уже готов задать ему вопрос, который сжигал мне губы, готов был просить его трепещущим голосом говорить мне о ней, о госпоже Германтской, когда принц Евгений умолк. После долгого молчания, во время которого он, казалось, собирал, чтобы защитить их, образы своей молодости, позади экрана своих закрытых век, он спросил меня, не возвращался ли я когда-нибудь в Париж в продолжение войны.
Мне не захотелось ему отвечать. Я испытывал нечто вроде мучительной стыдливости; я не хотел говорить ему о Париже, о моем молодом Париже, и я поднял голову, я медленно поднял голову, пристально глядя на него. Потом я сказал ему:
— Нет, я никогда не был в Париже во время войны; я не хочу возвращаться в Париж до тех пор, пока продолжается война.
Поверх картин далекого Парижа госпожи Германтской перед моими глазами медленно накладывались дорогие, мучительные картины Парижа более юного, более беспокойного, более печального может быть. Как лица прохожих, мелькающих в густом тумане за витриной кафе, в моей памяти всплывали лица Альбертины, Одетты, Сен-Лу, тени подростков, которые виднелись за спинами Свана и господина де Шарлю, лица, отмеченные алкоголем, бессонницей, чувственностью персонажей Апполинера[94], Матисса[95], Пикассо[96], Хемингуэя[97], духи синие и серые Поля Элюара[98].
— Я видел немецких солдат во всех городах Европы, — сказал я, — но я не хочу видеть их в Париже.
Принц Евгений опустил голову на грудь и сказал далеким голосом: «Париж, увы!»
Внезапно он поднял голову, медленно пересек комнату и приблизился к портрету Фриггерины Цельзинг. Со своего балкона молодая женщина смотрела на мостовую улицы, смоченную осенним дождем, и видела лошадь фиакра и лошадей омнибуса, качавших головами под деревьями, зелеными, но уже сожженными первым огнем осени. Принц Евгений протянул руку к холсту, притронулся своими длинными белыми пальцами к фасадам домов, небу над крышами и листве; он ласкал этот воздух Парижа, этот цвет Парижа, эти розовые, серые, зеленые тона, эти синие, слегка угасшие, этот свет Парижа, прозрачный и чистый. Потом он обернулся и посмотрел на меня, улыбаясь. И тогда я заметил, что его глаза были влажны от слез, что одна слеза медленно стекала по его лицу. Принц Евгений вытер эту слезу нетерпеливым жестом и сказал, улыбаясь:
— Не говорите ничего Акселю Мунте, я прошу вас. Этот старый насмешник станет рассказывать всем на свете, что он видел меня плачущим.
II. ЛОШАДИНАЯ РОДИНА
После призрачной прозрачности нескончаемого летнего дня, без восхода солнца и без заката, свет начинал терять свою молодость; лицо дня уже покрывалось морщинами, постепенно вечер делал более грузными первые легкие еще светлые тени. Деревья, камни, дома и облака медленно разъединились в тихом осеннем пейзаже, похожем на эти пейзажи Элиаса[99] Мартина, экзальтированные и, вместе с тем, умягченные предвестием ночи.
И вдруг я услышал ржание лошадей Тиволи. Тогда я сказал принцу Евгению: «Это голос мертвой кобылы из Александровки на Украине. Это голос мертвой кобылы».
Уже вечерело. Винтовочные выстрелы партизан дырявили огромное красное знамя заката, которое билось на горизонте в пыльном ветре. Я ехал в нескольких милях от Немировского[100], возле Балты[101], на Украине. Мне хотелось добраться до Немировского, чтобы провести ночь в безопасности. Но уже стемнело, и я решил остановиться в покинутой деревне, посреди одной из тех долин, которые перерезают с севера на юг огромную долину, заключенную между берегами Днестра и Днепра.
Деревня называлась Александровка. В России все деревни похожи друг на друга, даже именами. Многие деревни в районе Балты носят имя Александровок. Есть одна, к западу от Балты; в одиннадцати милях на запад, приблизительно; есть — к западу от Гедеримова, на одесской дороге, где проходит электрифицированная железная дорога; четвертая — в девяти милях к северу от Гедеримова. Та, в которой я остановился, чтобы провести ночь, была возле Немировского, на берегах реки Кодимы.
Я оставил мою машину, старенький «Форд», на краю дороги, против палисадника, ограждающего садик дома буржуазного вида. Возле маленькой деревянной калитки, которая открывалась в заборе, лежал распростертый труп лошади. Я остановился на минуту посмотреть на нее: это была великолепная кобыла темно-рыжей масти, с буланой гривой. Она опрокинулась на бок, задние ноги были в луже. Я толкнул решетчатую калитку, пересек садик, нажал рукой на дверь дома, которая со скрипом отворилась. Дом был покинут; паркет в комнатах завален бумагами, газетами, одеждой. Ящики были выдвинуты, шкапы зияли, постели были разворошены. Это, по-видимому, не было крестьянским домом; быть может, я находился в доме еврея. В комнате, где я решил ночевать, матрас был вспорот. Оконные стекла остались целыми. Было жарко. «Будет гроза», — подумал я, закрывая окно.
В смутном освещении наступившей ночи большие черные глаза подсолнечников, с их золотыми ресницами, виднелись в саду. Они смотрели на меня ошеломленные, покачивая головами от ветра, который становился влажным от еще далекого дождя. Солдаты румынской кавалерии проезжали по дороге, возвращаясь с водопоя и держа в поводу своих превосходных лошадей, с тугими боками и светлыми гривами. Их форма песчаного цвета казалась во тьме желтеющими пятнами и делала их похожими на больших насекомых, приклеенных к воздуху, плотному и липкому, предвещавшему неизбежную грозу. Их желтоватые кони следовали за ними, поднимая облака пыли.
В моем туристском мешке еще было немного хлеба и сыра. Я принялся есть, шагая по комнате. Я снял свои ботинки и ходил босой по участку, на утрамбованной земле которого бегали колонны больших черных муравьев. Я чувствовал, как муравьи карабкались по моим ногам, забирались между пальцами, исследовали лодыжку. Я умирал от усталости и почти не жевал даже — так отяжелели мои челюсти и сводило болезненным утомлением зубы. В конце концов, я бросился на постель и закрыл глаза. Но я не мог уснуть. Время от времени отдельные выстрелы, близкие или отдаленные, слышались среди ночи. Это стреляли партизаны, скрывавшиеся в полях пшеницы или в целых лесах подсолнечника, покрывавших необозримую украинскую равнину, как в направлении Киева, так и в направлении на Одессу. Затем, по мере того, как ночь сгущалась, запах лошадиной падали растворялся в запахе травы и подсолнечников. Я не мог уснуть. Я лежал, вытянувшись на постели, с закрытыми глазами, но не мог уснуть — так я был измучен.
Внезапно запах мертвой кобылы вошел в комнату и остановился на пороге. Я чувствовал, что этот запах на меня смотрит. «Это мертвая кобыла», — подумал я в своем полусне. Воздух был тяжелым, как шерстяное покрывало; грозовое небо давило на соломенные крыши деревни, опускалось все ниже — на деревья, на поля, на дорожную пыль. Временами шум реки доносился, словно шорох босых ног по траве. Ночь была черной, плотной и клейкой, точно черный мед. «Это мертвая кобыла», — подумал я.
Из полей слышался скрип повозок, румынских кэруцэ[102] и четырехколесных украинских телег, запряженных бедными мелкими лошадками, мохнатыми и тощими, которые следуют за армиями по нескончаемым украинским дорогам, с грузами провианта, вещей и оружия. Из полей слышался скрип повозок. Я подумал, что мертвая кобыла дотащилась до порога комнаты и смотрела на меня с него. Я не знаю и не сумею объяснить, откуда ко мне пришла мысль, что мертвая кобыла дотащилась до порога комнаты. Я обессилел от усталости. Я был весь склеен сном. Мне не удавалось разобраться в моих спутанных мыслях; это было, как будто тьма, жара и запах падали наполняли комнату черной и клейкой грязью, в которой я мало-помалу увязал, сопротивляясь все слабее. Я не знаю, как мог я думать, что кобыла была не совсем мертвой, что она была только ранена, что раненая часть ее уже находилась в стадии гниения, в стадии полного разложения, но что и она была не менее живой, как те пленники, которых татары живыми привязывают к трупам, живот к животу, лицо к лицу, рот ко рту, чтобы оставить их так до тех пор, пока мертвый не поглотит живого. И, однако, этот запах падали был здесь, в дверях, и смотрел на меня.
Вдруг я почувствовал, что он приближается, медленно приближается к моей постели.
— Уходи, уходи, — закричал я по-румынски: дуте, дуте. Потом мне пришло в голову, что кобыла, быть может, была не румынской, а русской, и я закричал: «Пашиоль, пашиоль!» Запах остановился. Но через мгновение он возобновил свое медленное приближение к моей постели. Тогда мне стало страшно: я схватил револьвер, который был у меня спрятан под матрасом, сел на постели и нажал на кнопку моего электрического фонарика.
Комната была пуста, на пороге никого не было. Я встал с постели, босой дошел до двери и остановился на пороге. Ночь была пустынна. Я вышел в садик. Подсолнечники слегка потрескивали от ветра. Грозовая туча на горизонте казалась огромным черным легким, дышащим с большим трудом, вздувающимся, потом опустошенным, как огромное легкое. Я видел небо то расширяющимся, то сжимающимся. Я видел, как небо дышало; лучи, словно пропитанные сернистыми испарениями, перерезали наискось это невероятное легкое, освещали на мгновение разветвления вен и бронхов. Я толкнул деревянную калитку и вышел на дорогу. Падаль лежала, опрокинутая в луже; голова ее покоилась на пыльном дорожном откосе. Ее брюхо было вздутым и лопнувшим. Широко раскрытый глаз блестел, влажный и круглый. Запыленная буланая грива, измазанная сгустками пыли и крови, торчала на загривке, жесткая, как те гривы, которые носили на своих головных уборах античные воины. Я сел на откосе, прислонившись к забору. Молчаливо и медленно пролетела мимо черная птица. (Дождь собирался с минуты на минуту). По небу пробегали невидимые порывы ветра, пыльные облака проносились по дороге с легким и продолжительным шелестом; пылинки щекотали мое лицо и веки, забирались в волосы, точно муравьи. (С минуты на минуту пойдет дождь). Я вернулся в дом и снова бросился на постель. Мои руки и ноги болели, я обливался потом. И неожиданно я заснул.
Между тем, запах падали вошел снова и остановился на пороге. Я не совсем проснулся, глаза мои были закрыты, и я чувствовал, что запах смотрит на меня. Это было зловоние, вялое и жирное, запах плотный и клейкий, сильный; запах желтый, но испещренный зелеными пятнышками. Я открыл глаза: это был рассвет. Комнату пересекали нити паутины, белевшие в неуверенном свете; понемногу вещи выступали из мрака, с медлительностью, которая, казалось, их деформировала и удлиняла, как будто предметы, которые протаскивали через бутылочное горлышко. Между окном и дверью стоял шкап, прислоненный к стене; вешалки висели в нем пустые и тихо покачивались; ветер колебал занавески на окне; на полу валялись кучи бумаг, одежды, оберток от сигарет, и бумага шелестела от ветра.
Внезапно запах вошел: маленький жеребенок показался на пороге. Он был худой и лохматый. От него исходил запах разложения, лошадиной падали. Он пристально смотрел на меня и дышал. Он подошел к постели, вытянул шею и обнюхал меня. Воняло от него ужасно. Испугавшись движения, которым я сбросил ноги с кровати, он отскочил, ударился боками о шкап и исчез с испуганным ржанием. Я зашнуровал свои ботинки и вышел на дорогу. Маленький жеребенок лежал рядом с мертвой кобылой. «Аскульта![103]», — крикнул я румынскому солдату, проходившему мимо с ведром воды. И я приказал ему позаботиться о жеребенке.
— Это маленький мертвой кобылы, — сказал солдат.
— Да, — сказал я, — это маленький мертвой кобылы.
Маленький жеребенок пристально смотрел на меня, почесываясь спиной о бок падали. Солдат подошел и погладил его по загривку.
— Его надо удалить от матери, — сказал я солдату, — если он останется здесь, кончится тем, что он тоже погибнет. Это будет амулетом для твоего эскадрона.
— Да, — согласился солдат. — Ну, да, бедное животное! Он принесет счастье эскадрону. Говоря это, он расстегнул свой кожаный пояс, надел его на шею жеребенку, который для начала отказался вставать, потом сразу вскочил и стал упираться, оборачиваясь к своей мертвой матери и испуская тонкое ржание. Солдат направился к своему лагерю в лесу, таща за собой жеребенка. С минуту я следил за ним глазами, потом отворил дверцу моей машины и включил зажигание. Я позабыл свой вещевой мешок. Я вернулся в дом, взял его, ударом ноги захлопнул дверь и уехал по дороге в Немировское.
Река странно сверкала в белесоватом рассвете. Небо было сумрачным; можно было назвать его зимним небом. На реке дул ветер, низкие облака пыли проносились на горизонте, плотные и красноватые, как облака над пожарищем. В камышах, на обоих берегах, болотные птицы испускали свои хриплые крики. Дикие утки летали и, медленно планируя, опускались среди камышовых лесов, вздрагивающих в кисловатом утреннем воздухе. И во всем чувствовался этот запах гниения, разлагающейся материи.
Время от времени мне встречались длинные вереницы военных румынских повозок. Солдаты шли возле лошадей, громко болтая друг с другом и смеясь, или же спали на своих мешках с хлебом, ящиках с патронами, нагромождениях мотыг и лопат. И со всех сторон шел этот запах гниения. Вдоль реки, на песчаных отмелях, протянувшихся к самой ее середине, можно было заметить иногда движение тростника и камыша, как будто дикое животное укрылось там при приближении людей. Тогда солдаты кричали: «Крысы! Крысы!», хватали с повозок свои винтовки или брали их на руку, если винтовки висели у них за плечами, и стреляли в тростники, где там или здесь убегала какая-нибудь растрепанная девушка, какой-нибудь мужчина, в длинном и широком черном плаще, какой-нибудь юноша. Это были евреи из соседних деревень, скрывавшиеся среди камышей и тростника.
В одном месте, на заболоченном участке, отделявшем дорогу от реки, показался опрокинутый советский танк. Его маленькая пушка торчала из башни, крышка которой была открыта и совершенно измята взрывом гранаты. Внутри можно было заметить руку, выставленную из грязи, проникшей внутрь. Падаль вооруженной машины. Эта машина издавала зловоние масла и горючего, горелой краски, обожженной кожи, железа, охваченного пламенем. Это был странный запах. Новый запах. Новый запах этой новой войны. Этот околевший танк вызывал во мне жалость, но жалость совершенно иного порядка по сравнению с той, какую порождал вид мертвой лошади. Это была мертвая машина. Разлагающаяся машина. Она уже начала смердеть. Это была железная падаль, опрокинутая в грязи.
Я остановился у берега пруда, вышел и подошел к танку. Я схватил руку водителя и пытался вытащить его наружу. Но он прилип к грязи, мне было трудно извлечь его одному. Я принялся тащить его рывками, изо всех сил, до тех пор, пока не почувствовал, что он начинает подаваться, и не увидел голову, всплывавшую из грязи и желтую. Это была маленькая, выбритая наголо голова. Шар из грязи. Я провел рукой по этому лицу, содрал ногтями эту маску из тины и передо мной появилось маленькое серое лицо с черными ресницами и черными глазами. Это был татарин, танкист-татарин. Я снова принялся тащить, чтобы полностью извлечь его из башни, но усталость скоро взяла свое — грязь была сильнее. Тогда я удалился, сел в машину и продолжал свой путь в направлении к большому дымному облаку, поднимавшемуся посередине долины, на опушке большого синеющего леса.
Между тем, солнце всплыло над зеленым горизонтом. Хриплые крики птиц становились постепенно более оживленными и более пронзительными. Солнце било, точно молотом, по плоской седловине лагуны. Дрожь ряби пробегала по воде, словно от долгого звука, словно металлическая вибрация отражалась на поверхности прудов, словно звук скрипки, поднимающийся трепетом вверх по руке скрипача. С обоих сторон дороги, тут и там, в хлебах виднелись опрокинутые автомашины, сожженные грузовики, выпотрошенные броневики, брошенные орудия, застывшие в последней судороге взрыва. Но ни одного человека, ничего живого. Ни одного трупа даже, ни одной павшей лошади. На многие мили кругом не было ничего, кроме мертвого металла. Падаль машин, сотни и сотни несчастной стальной падали. С полей и лагун поднимался запах разложившегося железа. Посреди пруда возвышалась кабина самолета, затянутая тиной. На ней отчетливо выделялась свастика: это был «Мессершмидт»[104].
Запах гниющей стали преобладал над запахами людей, коней (этими запахами древней войны), даже над запахом хлебов, и запахом, сильным и подслащенным, подсолнечников. Все растворялось в этом едком запахе горелого железа, разлагающейся стали, мертвых машин. Облака пыли, которые ветер поднимал на границах нескончаемой равнины, не приносили запахов органической материй, но лишь запах металлического лома. По мере того, как я проникал все глубже в сердце этой равнины и приближался к Немировскому, запах железа и горючего становился все сильнее в пыльном воздухе. Можно было сказать, что даже трава обладала этим смутным, въедливым, опьяняющим запахом горючего. Как будто запах человека и запах животных, запахи растений и трав, запахи земли были побеждены этим запахом горючего и железа, охваченного пламенем.
В нескольких километрах от Немировского я был вынужден остановиться. Немецкий фельджандарм, со сверкающей медной бляхой, повешенной на шею при помощи цепи, пробуждавшей воспоминание об известных орденах доблести и почета, приказал мне остановиться, «„Ферботен“[105]». Невозможно продолжать путь. Нет, нет, нет. Я свернул на поперечную дорогу, нечто, вроде проселочной. Я хотел пробраться как можно ближе к Немировскому. Я хотел видеть русский «карман», который немцы встретили на своем пути и готовились атаковать со всех сторон. Поля, рвы, деревни, коллективные фермы, колхозы были полны немецкими войсками. «Ферботен» повсюду. «Цурюк[106]» везде. Когда время стало склоняться к закату, я решил повернуть назад. Было бесполезно терять время, пытаясь проехать, лучше было возвратиться к Балте и попробовать снова подняться к северу в направлении Киева.
Я пустился в путь и, проделав немалый конец, остановился, чтобы перекусить своим черствым хлебом и сыром, в одной покинутой деревушке. Огонь уничтожил в ней большую часть домов. Орудие стреляло где-то за моей спиной, на юго-западе. Как раз за моей спиной. На фасаде одного из домов была изображена огромная вывеска с серпом и молотом. Я вошел. Это было советское учреждение. Огромный портрет Сталина висел приклеенный на одной из стен. Какой-то румынский солдат написал под ним внизу карандашом: «Аюреа», что означает: «А, будет тебе, пошел ты!» Сталин был изображен стоящим перед возвышенностью на фоне броневиков и заводских труб, под небом, перерезаемым эскадрильями. Справа, посреди красного облака, поднимался огромный металлургический завод, целое нагромождение подъемных кранов, стальных мостов, высоких труб, больших зубчатых колес. Ниже было написано большими буквами: «Тяжелая индустрия СССР готовит вооружение для Красной Армии». Под этой именно надписью и было приписано по-румынски: «Аюреа», что означает: «Будет тебе, пошел ты!»
Я сел за конторский стол, заваленный бумагами. На полу тоже громоздились кучи бумаг, тряпья, книг, пропагандистских брошюр. И я думал о мертвой кобыле, распростертой возле дома, в котором я провел эту ночь в деревне Александрова, о несчастной одинокой падали, лежащей на краю дороги посреди этого множества мертвых машин, стальной падали. Я думал о несчастном одиноком зловонии мертвой кобылы, над которым преобладало зловоние обожженного железа, горючего, разлагающейся стали, о новом запахе этой новой войны, войны машин. Я думал о солдатах «Войны и мира», о русских дорогах, усеянных трупами русских и французов и павшими лошадьми. Я думал об этом запахе мертвых людей и мертвых животных, о солдатах «Войны и мира», покинутых еще живыми на обочинах дорог, в добычу жадным вороньим клювам. Я думал о татарских всадниках, всадниках Амура, вооруженных луками и стрелами, которых солдаты Наполеона прозвали «амурами», об этих неутомимых, жестоких, невероятно быстрых татарских всадниках, которые внезапно появлялись из лесов и совершали опустошающие набеги на арьергарды противника, об этой древней и благородной расе всадников, которые рождались и жили вместе со своими конями, питались кониной и кобыльим молоком, одевались в лошадиные шкуры, спали под навесами из лошадиных кож и завещали хоронить себя в седле, в глубоких колодцах, — в седле на своих лошадях.
Я думал о татарах русской армии, лучших механиках в СССР, передовых рабочих, лучших ударниках и стахановцах, шедших во главе штурмовых отрядов советской тяжелой индустрии. Я думал о татарах Красной Армии — лучших водителях броневиков, лучших механиках мотомеханизированных частей и авиации. Я думал о молодых татарах, которых три пятилетних плана превратили из всадников в механиков, из лошадиных пастухов в ударников металлургических заводов Сталинграда, Харькова, Магнитогорска. «Аюреа», что означает: «Будет тебе, пошел ты», — было приписано карандашом по-румынски внизу под портретом Сталина.
Конечно, это был какой-нибудь румынский крестьянин, кто написал это, какой-нибудь бедный румынский крестьянин, который никогда не видел вблизи ни одной машины, не притрагивался к подшипнику, не отвинчивал винта, не разбирал мотора; какой-нибудь бедный румынский крестьянин, которого маршал Антонеску, «красная собака», как прозвали его румынские офицеры, толкнул насильно в эту войну, войну крестьян, против огромной армии рабочих-механиков Советского Союза.
И тогда я подошел к портрету Сталина и стал отрывать край плаката, тот, на котором было написано: «Аюреа!» В это время я услышал во дворе шаги. Я подошел к двери посмотреть, кто это: к дому шли несколько румынских солдат. Они спросили у меня, который час. «Шесть часов», — ответил я. «Мульцумеск[107]» — сказали они, что значит «спасибо». И они пригласили меня выпить с ними чашку чаю. — «Мульцумеск», — ответил я и последовал за ними через всю деревню. Пройдя немного, мы подошли к полуобрушенному дому, где пять или шесть других солдат радушно меня приняли, пригласили сесть и предложили тарелку чьорбы[108] де пиу, то есть куриной похлебки, и чашку чая. — «Мульцумеск», — сказал я. Мы принялись разговаривать. Солдаты рассказали, что они оставлены в этой деревне для связи, что основные части их дивизиона находились впереди, правее, в десяти милях. В деревне не было, кроме них, ни одной живой души. Немцы прошли раньше румын.
— Немцы… — сказал один из солдат печально. И все остальные засмеялись.
— Немцы прошли раньше нас, — повторил другой, как бы извиняясь. Все беззвучно смеялись, поглощая свою чьорбу де пиу.
— «Аюреа!»[109] — сказал я, что значит «Будет тебе, иди ты»
— Это правда, — подтвердил еще один, который был капралом. — Немцы прошли раньше нас. Это правда.
— Аюреа! — сказал я.
— Домнуле капитан, — сказал капрал, — если ты мне не веришь, спроси у пленного. Мы не разрушаем деревень, мы не причиняем зла крестьянам. Мы уничтожаем только жидов. Эй, слушай! — крикнул он, обращаясь к одному из углов комнаты. — Разве неправда, что немцы прошли раньше нас?
Я обернулся к этому углу и в полутьме увидел человека, сидевшего на полу, прислонившись спиной к стене. Он был одет в бумажное хаки и желтую пилотку на выбритой голове; ноги босые. Татарин. У него было маленькое, худощавое лицо, обтянутое кожей на скуластых щеках (кожа серая и блестящая), черные пристальные глаза с поволокой, быть может от утомления и от голода. Этими замутненными глазами он пристально смотрел на меня с безразличным видом. Он не ответил на вопрос капрала, но продолжал пристально смотреть на меня снизу вверх.
— Где вы его взяли? — спросил я у солдат.
— Он был в танке, который на площади. У танка произошла авария мотора; он не мог двигаться, но продолжал стрелять. Немцы торопились; они ушли, оставив нам добычу вместе с танком. Внутри их было двое. Они стреляли до самого конца. Один из них был убит. Нам пришлось выломать крышку железным ломом. Он не хотел сдаваться. У него больше не оставалось ни одного патрона; он сидел, скорчившись, внутри, он не хотел открывать. Другой — пулеметчик, был мертв. А этот был водитель. Мы должны отвезти его в румынскую полицию в Балту. Но никто больше не проезжает здесь, колонны грузовиков идут по большой дороге. Здесь вот уже три дня, как никого не было.
— Зачем вы украли у него ботинки? — спросил я.
Солдаты принялись смеяться; они смотрели на меня с наглым вызовом.
— Хорошая пара ботинок! — сказал капрал. — Посмотри, домнуле капитан, каковы ботинки у этих русских свиней! — Он поднялся, покопался в своем мешке и достал оттуда пару татарских сапог из мягкой кожи без каблуков. Они обмундированы лучше нас! — добавил капрал, показывая мне свои стоптанные ботинки и изорванные брюки.
— Это признак того, что их родина лучше вашей, — сказал я.
— У этих свиней нет родины, — возразил капрал. — Они — все равно, что животные.
— У животных тоже есть родина, — сказал я на это. — Родина, которая гораздо лучше нашей, лучше немецкой родины, лучше румынской родины, лучше итальянской родины.
Солдаты внимательно смотрели на меня и не понимали. Они смотрели на меня и, молча, жевали маленькие кусочки курицы, плававшие в чьорбе. Капрал озабоченно сказал: «Пара таких сапог стоит, по меньшей мере, две тысячи лей».
Солдаты подняли головы, кусая губы. «Ну, да, — говорили они, — пара таких сапог, по меньшей мере, две тысячи лей, по самому низкому…».
Это были крестьяне, а румынские крестьяне не знают, что такое животные, они не знают, что у зверей тоже есть родина. Они не знают, что такое машины, ни того, что и машины тоже имеют родину, и что сапоги также имеют родину, гораздо лучшую, чем наша. Это крестьяне, но они даже не знают, что это значит — быть крестьянином. Закон Братиану[110] дал землю румынским крестьянам, он дал им землю так, как дали бы кусок земли лошади, корове, овце. Они знают, что они румыны и что они правоверные. Они кричат: да здравствует король! Они кричат: да здравствует маршал Антонеску, они кричат: смерть Советскому Союзу, но не знают ни что такое король, ни что такое маршал Антонеску[111], ни что такое Советский Союз. Они знают, что пара сапог, вроде вот этих, стоит, по меньшей мере, две тысячи лей. Это бедные крестьяне и они не знают, что СССР — это машина, что они ведут войну с машиной, с тысячью машин, с миллионом машин. Но пара сапог вроде вот этих стоит две тысячи лей, по меньшей мере.
— Маршал Антонеску, — сказал я, — имеет сапоги, сто пар сапог, гораздо красивее, чем эти.
Солдаты внимательно смотрели на меня, кусая губы.
— Сто пар? — спросил капрал.
— Сто пар, тысячу пар, — ответил я. — И гораздо красивее этих. Вы никогда не видели сапог маршала Антонеску? Они очень хороши. У него есть сапоги из черной кожи, из желтой кожи, из белой кожи, английского покроя, с золотой бляшкой над коленом. Совершенно великолепные. Сапоги Антонеску гораздо красивее сапог Гитлера и Муссолини. Но сапоги Гитлера тоже довольно хороши. Я видел их совсем близко. Я никогда не разговаривал с Гитлером, но его сапоги видел совсем близко. У них нет шпор. Гитлер никогда не носит шпор (он боится лошадей); но хотя на них и нет шпор, они довольно-таки хороши. Сапоги Муссолини тоже хороши, но они ни на что не годятся. Они не пригодны ни для того, чтобы ходить пешком, ни для того, чтобы ездить верхом. Они годятся только на то, чтобы стоять на почетной трибуне во время парадов и смотреть, как дефилируют мимо солдаты в своих стоптанных сапогах и со своими заржавленными винтовками.
Солдаты внимательно смотрели на меня, кусая губы.
— После войны, — сказал я — мы отберем у него сапоги, у маршала Антонеску.
— И у домнуле Гитлера, — сказал один из солдат.
— И у домнуле Муссолини, — добавил другой.
— Конечно. У Муссолини и у Гитлера тоже, — сказал я.
Все рассмеялись, и я спросил у капрала: «Сколько могут стоить сапоги Гитлера?»
Все прекратили смех. Потом, не знаю почему, они обернулись и посмотрели на пленного, по-прежнему связанного в своем углу, который смотрел на меня своими пристальными, косоватыми и затуманенными глазами.
— Ты давал ему есть? — спросил я у капрала.
— Да, домнуле капитан.
— Это неправда. Ты его не кормил, — сказал я.
Тогда капрал взял тарелку, наполнил ее чьорбой и протянул пленному.
— Дай ему ложку, — сказал я, — он не может есть похлебку руками.
Все смотрели на капрала, который взял со стола ложку, почистил ее, вытерев руками, и протянул пленному.
— Большое спасибо, — отозвался пленный.
— Ла дракю! — сказал капрал, что значит: «Иди к черту»
— Что вы собираетесь делать с пленным? — спросил я.
— Мы должны препроводить его в Балту, — ответил капрал, но никто не проезжает здесь; мы в стороне от шоссе; придется его вести пешком. Если сегодня здесь не пройдет ни одного грузовика, завтра поведем его в Балту пешком.
— Не думаешь ли ты, что вам было бы быстрее убить его? — сказал я капралу, пристально на него глядя. Все принялись смеяться, глядя на капрала.
— Нет, домнуле капитан, — ответил капрал, слегка покраснев, — я не могу. Мы должны доставить его в Балту. Когда мы забираем пленных, у нас есть указание доставлять их, по крайней мере, в полицию. Нет, домнуле капитан.
— Если ты поведешь его пешком, надо будет вернуть ему его сапоги. Он не может идти босиком до самой Балты.
— О, он может идти босой до самого Бухареста, — сказал капрал, смеясь.
— Если хочешь, я доставлю его в Балту на своей машине. Дай мне одного солдата для охраны, я возьму его с собой.
Капрал казался довольным и солдаты тоже.
— Поедешь ты, Григореску, — сказал капрал.
Солдат Григореску надел свой подсумок с патронами, взял винтовку, стоявшую у стены (это был французский подсумок, широкий и плоский, винтовка была — французский Лебель, с длинным трехгранным штыком). Он снял с гвоздя свой мешок, надел его на плечо, сплюнул на пол и сказал: «Пошли!»
Пленник оставался сидеть в своем углу, глядя на нас замутненным взором. «Пойдем!» — сказал я ему. Он медленно встал. Этот татарин был высоким, почти таким же высоким, как я, с плечами немного более узкими и тонкой шеей. Он последовал за мной, немного сгорбившись; солдат Григореску шел позади с винтовкой наготове.
Поднялся сильный ветер. Небо было тяжелым, как расплавленный свинец. Шум хлебов поднимался и затихал от ветра, как шум реки при резких порывах ветра. Время от времени слышалось потрескивание стволов в зарослях подсолнечника.
— Ла реведере[112], до свидания, — сказал я капралу, пожимая его руку. Один за другим солдаты подходили ко мне и сжимали мою руку. «Ла реведере, ла реведере, домнуле капитан, ла реведере?» Я пустился в путь; выехал из деревни, двинулся по дороге, изрытой ямами и глубокими колеями (следы танковых гусениц отчетливо отпечатывались на мягкой пыли). Солдат Григореску и пленный сидели позади, и я чувствовал пристальный взгляд татарина, сверливший мою спину.
Из глубины бескрайней равнины приближалась гроза, понемногу захватывавшая все небо, словно огромная лягушка. Это была зеленая туча, кое-где испещренная белыми пятнами, будто вследствие дыхания запыхавшейся лягушки; ее вялое пузо трепетало, и от горизонта время от времени доносилось хриплое кваканье. По обе стороны дороги в полях лежали сотни сожженных автомашин — стальная падаль, запрокинувшаяся на бок и раздвинувшая ноги, бесстыдная и несчастная. Мало-помалу мне начинало казаться, что я узнаю эту дорогу. Конечно, я уже проезжал здесь несколькими днями раньше, может быть даже в это утро. Об этом напоминали мне река и пруды, заросшие тростниками и камышом по берегам. В зеркале мертвенно-бледной воды плавало отражение белесоватого брюха этой огромной лягушки, продвигавшейся в небе все дальше, с хриплым кваканьем. Несколько капель, неторопливых, тяжелых и горячих, упало в придорожный песок с шипеньем раскаленного железа, погружаемого в воду. Наконец, впереди, в сумеречной тени, показались дома, и я узнал в них дома Александровки — покинутой деревни, где я провел ночь.
— Нам лучше всего остановиться здесь, — сказал я солдату Григореску, — слишком поздно двигаться дальше, Балта еще далеко.
Я остановил машину возле дома, в котором провел предыдущую ночь. Начинался дождь. Он падал, частый и неистовый, с приглушенным ворчанием, поднимая плотное облако желтой пыли. Мертвая кобыла все еще лежала на краю дороги у деревянной ограды. Глаз ее был расширен и полон белого блеска. Все было в том же виде, что и утром, в том же беспорядке, неподвижном и призрачном. Я сел на постель и стал смотреть, как солдат Григореску снимает свой подсумок и вешает мешок на ручку шкапа. Пленный прислонился к стене; его руки были опущены; он смотрел на меня пристально своими маленькими раскосыми глазками.
Я подошел к двери; ночь была черна, как черный камень. Я прошел через сад и уселся на краю дороги возле лошадиного трупа. Дождь орошал мое лицо и стекал под одеждой струйкой вдоль спины. Я жадно вдыхал запах мокрой травы, и в этом аромате, упоительном и свежем, понемногу исчезло вялое и жирное зловоние падали, уносимое вместе с затхлым привкусом гниющей стали, разлагающегося железа, распадающегося металла. Мне казалось, что древний человеческий и животный закон войны одерживал верх над новым законом войны механической. В этом запахе мертвой кобылы я как бы вновь находил свою древнюю родину, родину, обретенную сейчас снова.
Минуту спустя я вернулся в дом и бросился на постель. Я умирал от усталости, все кости мои болели, и сон пульсировал в моей голове, как огромная вена.
— Мы будем караулить пленного по очереди, — сказал я солдату Григореску. — Ты, наверное, тоже устал. Разбуди меня через три часа.
— Ну, ну, домнуле капитан — сказал солдат. — Я не хочу спать.
Пленный, которому солдат Григореску связал руки и ноги узловатой веревкой, сидел в углу комнаты, прислонясь к стене, между окном и шкапом. Густое и жирное зловоние падали стояло в комнате. Керосиновая лампа бросала на стены желтоватый свет, подсолнечники в саду потрескивали под дождем. Солдат сидел на полу, по-турецки, напротив пленного, положив на колени свою винтовку с примкнутым штыком.
— Ноапте буна[113], — сказал я, закрывая глаза.
— Ноапте буна, домнуле капитан, — ответил солдат.
Мне не удавалось уснуть. Гроза разразилась с яростной свирепостью. Небо раскалывалось с треском, вспышки яркого света вырывались из тучи и низвергались в долину; ливень падал тяжкий и давящий, точно каменный дождь. И оживленное, словно пришедшее в возбуждение от дождя, зловоние лошадиной падали, врывалось в комнату, жирное и клейкое, и скапливалось под низким потолком. Пленный сидел неподвижно, опираясь о стену затылком, и пристально глядел на меня. Его руки и ноги были связаны. Руки, маленькие и бледные, пепельного цвета, стянутые в запястьях узловатой веревкой, инертно висели между ног.
— Почему ты не развяжешь его? — спросил я солдата Григореску. — Ты боишься, что он удерет? Следовало бы, по крайней мере, развязать ему ноги.
Солдат неторопливо наклонился вперед и неторопливо развязал ноги пленного, который пристально смотрел на меня своими бесстрастными глазами.
Спустя несколько часов я проснулся. Солдат сидел на полу напротив пленного с винтовкой на коленях. Татарин сидел, опираясь на стену затылком, и внимательно смотрел на меня.
— Иди спать, — сказал я солдату, спуская ноги с постели. — Теперь моя очередь.
— Ну, ну, домнуле капитан, я не хочу спать.
— Иди спать, я тебе говорю!
Солдат Григореску поднялся, перешел через комнату, волоча по полу свою винтовку, бросился на постель, повернувшись лицом к стене, с винтовкой, зажатой в руках. Он казался мертвым. Его волосы побелели от пыли; форменная одежда была изорвана, ботинки разваливались. Черная и жесткая щетина росла на его лице. Его можно было в самом деле принять за мертвого.
Я уселся на полу напротив пленного, скрестил ноги, положил свой револьвер под бедро. Татарин смотрел на меня своими затуманенными косыми и узкими глазами, похожими на кошачьи; они казались остекленевшими, эти глаза; у них был тот взгляд, которым смотрят глаза мертвецов: съежившиеся веки под дугами бровей казались едва заметными щелочками, черными, как тушь. Тогда я нагнулся вперед, чтобы развязать руки пленника. В то время, как мои руки были заняты узлами веревки, я смотрел на его кисти — маленькие, гладкие, пепельного цвета, с почти белыми ногтями. Несмотря на то, что они были перерезаны во всех направлениях морщинами, короткими и глубокими (кожа была такой пористой, что, казалось, я смотрю на нее сквозь лупу), и ладонь была покрыта тонкими мозолями, они были нежными и гибкими, чрезвычайно приятными при соприкосновении. Они бессильно висели, как мертвые, в моих руках, но я чувствовал, что они сильны, ловки, упорны все вместе, и еще очень легки, бесконечно осторожны, будто руки хирурга, часовщика, работника точной механики.
Это были руки молодого рекрута пятилетки, ударника третьего пятилетнего плана, молодого татарина, ставшего механиком, водителем танка. Руки, изнеженные бесчисленными соприкосновениями с тщательно ухоженной поверхностью лошадиных тел, гривами, сухожилиями, ногами, мышцами, уздечками, мягкой кожей упряжек; руки человека, который в течение нескольких лет перешел от лошади к машине, от лошади к стали, от живых мышц к стальным, от седел и упряжек к рычагам управления. Нескольких лет было достаточно, чтобы превратить молодых татар Дона, Волги, киргизских степей, берегов Каспия и Аральского моря, конских пастухов в квалифицированных рабочих металлургической индустрии СССР: всадников — в стахановцев штурмовых рабочих отрядов, степных кочевников — в ударников и специалистов пятилетки. Я развязал последний узел веревки и предложил ему сигарету.
Руки пленного онемели, пальцы затекли; он не мог достать сигарету из пачки. Я вставил ее ему между губами, дал прикурить и закурил свою. «Благодарю», — сказал татарин и улыбнулся мне. Я тоже улыбнулся ему, и мы долго так сидели, куря, в молчании. Запах падали стоял в комнате, вялый, сладковатый и жирный. Я вдыхал запах мертвой кобылы со странным наслаждением. И он тоже, пленник, казалось, вдыхает этот запах с нежным и печальным удовольствием. Его ноздри дрожали в странном трепете. Тут только я заметил, что в его лице, бледном, пепельного оттенка, на котором косые бесстрастные глаза смотрели стеклянистым и пристальным взором мертвеца, вся жизнь была сосредоточена в ноздрях. Его древняя родина, его вновь обретенная родина — это был запах этой падали. Древним запахом его родины был запах этой мертвой кобылы. Мы смотрели друг другу в глаза, молча, вдыхая с нежным и печальным наслаждением этот запах, жирный и сладковатый. Этот запах падали был его родиной, его родиной, древней и еще живой; ничто не могло более разлучить нас отныне: оба мы были живыми братьями в древнем запахе мертвой кобылы.
* * *
Принц Евгений поднял голову, и глаза его обратились к двери: его ноздри трепетали, будто запах мертвой кобылы остановился на пороге и смотрел на нас. Пахло травой и листьями, морем и лесом. Ночь уже наступила, но неясный свет еще бродил в небе. Под этим мертвым светом далекие дома Ниброплана, пароходы и парусники, скучившиеся вдоль набережной Страндвегена, деревья парка, призрачные тени родэновского «Мыслителя» и «Самофракийской победы», отражались искаженные в ночном пейзаже, как на рисунках Эрнста Жозефсона и Карла Хилля, в их меланхолическом безумии, видевших животных, деревья, дома и пароходы отраженными в пейзаже, словно в кривом зеркале.
— У него были руки, похожие на ваши, — сказал я.
Принц Евгений посмотрел на свои руки, казалось, слегка смущенный. Это были прекрасные руки, белые руки Бернадотов, с пальцами бледными и тонкими.
И я сказал ему: «Руки механика, водителя танка, ударника третьей пятилетки не менее прекрасны, чем ваши руки. Это руки Моцарта[114], Страдивариуса[115], Пикассо, Зауэрбруха[116]».
Принц Евгений улыбнулся и ответил, слегка краснея: «Я тем более горжусь моими руками».
Час от часа голос ветра становился все сильнее, пронзительнее, похожий на долгое, жалобное ржание. Это был северный ветер; услышав его голос, я вздрогнул. Воспоминание об ужасной зиме, проведенной на Карельском фронте, между предместьями Ленинграда и берегами Ладожского озера, воскресило передо мной ослепительные и молчаливые картины карельских лесов, и я задрожал, как будто ветер, сотрясавший стекла в больших окнах, был ветром Карелии, ледяным и жестоким.
— Это ветер с севера, — сказал принц Евгений.
— Да, это карельский ветер, — ответил я, — я узнаю его голос.
И я начал рассказ о лесах Райккола и лошадях Ладоги.
III. ЛЕДЯНЫЕ ЛОШАДИ
В то утро я отправился вместе со Свёртстремом посмотреть, как будут высвобождать лошадей из их ледяной тюрьмы.
Зеленоватое солнце сияло в бледно-голубом небе, словно зеленое яблоко. С тех пор, как началась оттепель, ледяной покров Ладожского озера трещал, стонал, испускал время от времени пронзительный крик. Среди ночей из глубины корсу[117] — барака, занесенного снегом, в самой глубине леса мы вдруг слышали эти крики и стоны, длившиеся часами, долгими часами до рассвета. Уже наступила весна: озеро дышало в наши лица своим дурным дыханием, этим запахом гнилого леса, мокрых опилок, типичным для оттепели. Другой берег Ладоги казался слабой карандашной чертой, проведенной по бумаге. Небо было теперь безоблачным, вяло-голубоватым, похожим на шелковистую бумагу. Там, вдали, в стороне Ленинграда (облачко серого дыма висело над осажденным городом), небо казалось несколько загрязненным, чуть-чуть измятым. Зеленая вена пересекала горизонт; иногда казалось, она трепетала, будто наполненная горячей кровью.
В это утро мы направились посмотреть, как будут высвобождать лошадей из их ледяной тюрьмы. Накануне вечером полковник Мерикальо сказал, втягивая воздух носом: «Надо будет зарыть лошадей. Весна начинается». Мы спустились к озеру через густой березовый лес, усеянный огромными глыбами красного гранита. Тусклое зеркало Ладоги открылось перед нами сразу.
Советский берег был едва виден на горизонте в серебристом тумане, прорезанном голубыми и розовыми жилками. Временами из огромного леса Райккола[118] доносился монотонный крик кукушки, священной птицы в Карелии. Какие-то дикие звери завывали в чаще, таинственные голоса призывали, отвечали — настойчивые, жалобные, полные мольбы, нежной и жестокой.
Прежде, чем покинуть корсу финляндской полиции, чтобы спуститься к озеру, я разыскал лейтенанта Свёртстрёма. Напрасно я стучался в дверь его комнатушки в корсу, позади конюшен. Вокруг командного пункта лес казался пустынным. И повсюду в воздухе этот запах — запах вялый и гнилостный в холодном воздухе. Я приблизился к корсу, где стояли лошади. Молодая девушка, в форме лотта[119], готовила в ведре целлюлозное тесто для лошади полковника.
— Ивэпейва, здравствуйте, — сказал я.
— Ивэпейва.
Это была дочь полковника Мерикальо, высокая блондинка, финка из Оулу в восточной Боснии. Ей уже пришлось однажды сопровождать своего отца на фронт, как лотте, в течение прошлой финской войны зимой 1939 года[120]; она приготовляла пищу на командном пункте и накрывала на стол на глазах у отца, в нескольких сотнях метров от русских винтовок.
Руками, посиневшими от холода, она крошила в ведро, наполненное горячей водой, широкий лист целлюлозы. Привязанная к дереву лошадь, поворачивая шею к ведру, вбирала ноздрями запах целлюлозы. Зима была жестокая; невероятные холода, голод, лишения, усталость иссушили лица финского народа. Твердые, костистые черты героев Калевалы[121], таких, каких изображал художник Галлен Каллела[122], исчезли под лицами бледными и истощенными. Солдаты, женщины, дети, старики, животные, — все голодали.
Чтобы прокормить лошадей, не было ни клочка сена, ни пучка соломы, ни зернышка овса. Собаки были истреблены — перчатки солдат изготовлены были из собачьей кожи. Люди пекли хлеб из целлюлозы, а лошади полюбили сладковатый вкус целлюлозного теста, этот привкус печеной бумаги.
Девушка отвязала лошадь, взяла ее за повод, и с ведром в левой руке подошла к деревянной кадушке, стоявшей на скамье, вылила в нее целлюлозную болтушку, и лошадь принялась медленно есть, время от времени осматриваясь кругом. Она смотрела в сторону озера, отблеск которого виднелся за деревьями. Над кадушкой поднималось облачко пара; лошадь опускала морду в это облачко, затем поднимала голову, смотрела в сторону озера и ржала.
— Что с ней? — спросил я девушку. — Она чем-то обеспокоена.
Дочь полковника Мерикальо повернула голову к озеру.
— Она чувствует запах лошадей, — сказала она.
Я тоже чувствовал запах лошадей. Это был запах жирный и вялый, смягченный ароматом древесной смолы, источаемой соснами и скудным запахом берез. Кукушка испускала свои крики в глубине леса, белка стремительно карабкалась по древесному стволу, держа хвост торчком. Девушка снова взяла ведро и вошла в корсу лошадей. Я слышал, как она разговаривала там с животными с этой медлительной и нежной мелодичностью, свойственной финскому языку; я слышал глухой скрип ее сабо на подстилке из березовых веток, звяканье железных колец, короткое нетерпеливое ржание.
Я направился к озеру. Свёртстрем ожидал меня на повороте тропинки, опираясь на древесный ствол, в своей высокой бараньей шапке, сдвинутой на затылок, в лапландских сапогах из оленьей шкуры, с носками, загнутыми вверх и назад, как у персидских бабушей[123]. Он слегка горбился и, опустив глаза, выбивал о ладонь свою погасшую трубку. Когда я с ним поравнялся, он поднял голову, посмотрел на меня, улыбаясь, и промолвил: «Ивэпейва».
— Ивэпейва, Свёртстрём. Он был бледен, лоб его влажен от пота, от усталости и бессонницы. Он сказал мне, как бы извиняясь, что провел всю ночь в лесах вместе с патрулем сиссит.
— Где полковник Мерикальо? — спросил я.
— Он на переднем крае, — ответил он. — Он смотрел на меня сверху вниз, выколачивая свою угасшую трубку о ладонь и время от времени оборачиваясь к озеру. Я видел, что его ноздри вздрагивали. Он вдыхал носом, как это делают люди лесов, как делают сиссит. короткое дыхание, осмотрительное и подозрительное, едва лишь маленький глоток воздуха на пробу.
— Ты, в самом деле, хочешь идти смотреть на них? — спросил Свёртстрём. — Ты бы лучше отправился с полковником на передовую. Он нарочно полез в траншею, чтобы не видеть, как их будут провозить.
Ветер доносил запах лошадей, жирный и вялый.
— Я хотел бы увидеть их последний раз, прежде чем их увезут, Свертстрем.
Мы пошли к озеру. Снег был мокрым. Это уже был весенний снег, не переставший быть белым, но приобретший оттенок слоновой кости, с этими зелеными и желтыми пятнами, характерными для старой слоновой кости. В некоторых местах, там, где утесы розового гранита возвышались над ним, он казался винного цвета, а там, где деревья были менее густыми, казался покрытым корочкой прозрачного льда, как сверкающее блюдо орефорского хрусталя, через которое просвечивают сосновые иглы, листья, маленькие цветные камушки, пучки травы, лоскутки белой кожицы с березовых стволов. Корни окружающих деревьев, по краям хрустального блюда, казались оледеневшими змеями, как будто жизнь деревьев возникала изо льда, словно маленькие новые листочки самой нежной зелени имели своим истоком эту мертвенную остекленевшую материю. Странные звуки проносились в воздухе. Это не были жалобные звуки ударов о железо, ни долгое и звучное дрожание колоколов, колеблемых ветром, ни длящаяся и низкая нота, которую может получить палец, двигаясь по краю стакана; это не был также сильный и полный звук гудящего роя — отроившихся диких пчел, кочующих в глубине лесов; это было, действительно, жалобой, стоном раненого животного, криком одинокой и безнадежной агонии, пронзившим небо, как полет невидимой плачевной птицы.
Зима, эта ужасная зима 1942 года, была настоящим la great plaque[124] бичом финского народа, белой чумой, жертвы которой заполнили лазареты и кладбища по всей Финляндии; она лежала отныне, как огромный обнаженный труп среди своих озер и лесов. Это огромное полуразложившееся тело отравляло воздух своим скудным запахом гниющего дерева; уже первый весенний ветер разносил его выделения, его тепловатые запахи, его дыхание, словно дыхание собаки, близкое и животное; даже снег от него казался тепловатым.
Уже несколько дней солдаты казались менее печальными, более оживленными. Их голоса звучали громче, странная тревожность змеилась вдоль траншей, в корсу и лоттала, в гнездах и укрытиях, устроенных в самой глубине дикого леса Райккола. Чтобы отметить возвращение весны, которая для них является священным временем года, люди севера зажигают большие костры на горах, поют, пьют и пляшут целую ночь. Но весна — это коварная болезнь севера; она портит и высвобождает жизнь, которую зима хранила, ревниво оберегая в своей ледяной тюрьме; она приносит свои гибельные дары: любовь, радость жизни, кладет конец мыслям легким, чувствам жизнерадостным, удовольствиям праздности, приносит ссоры, сонливость, лихорадку чувств, иллюзию вступления в брак с природой. Этот сезон зажигает мутный огонь в глазах человека севера; на его лице, которое было зимой чистым и несколько пустым, появляется горделивая смертная тень.
— Мы идем не той дорогой, Свёртстрём.
Я не узнавал больше тропинки, по которой столько раз ходил зимой, спускаясь к озеру, чтобы увидеть лошадей. Она стала более узкой, более извилистой; лес вокруг стал более густым; по мере того, как снег тает и меняет свой цвет, и весенняя хризалида вылетает из своего сверкающего ледяного кокона, оставляя позади умирающую зиму, лес берет верх над снегом и льдом; он становится гуще, запутаннее, таинственнее — зеленый народ, загадочный и запретный.
Свёртстрём шел шагами медленными и осторожными. Время от времени он останавливался, прислушивался, различая в этой многолюдной тишине леса музыкальное молчание природы: потрескивание веток, беличьи шаги по сосновому стволу, шелест промчавшегося зайца, подозрительное принюхивание лисицы, крик птицы, шорох листка, и вдали — больной и извращенный голос человека. Тишина вокруг нас не была больше мертвой тишиной зимы, ледяной и прозрачной, как хрустальная глыба, но живой тишиной, пронизанной теплыми прожилками красок, звуков и запахов. Молчание походило на движение реки, которое, как я чувствовал, нас окружало. Мне казалось, что я вхожу в быстрину этой невидимой реки меж двух берегов, похожих на губы, теплые и влажные.
Солнечное тепло рождалось и проникало сквозь лес. По мере того, как солнце поднималось над кривизной горизонта, вытягивая из серебристой поверхности озера легкий розоватый туман, ветер доносил издалека треск автоматов, выстрел одинокой винтовки, крик блуждающей кукушки. Среди этого пейзажа звуков, красок и запахов в разрыве леса был виден свет чего-то тусклого, неизвестно чего, что блестело и колебалось, как призрачное море: Ладога, огромная, распростертая, ледяная Ладога.
Наконец, мы вышли из леса на берег озера и увидели лошадей.
Это произошло в октябре предыдущего года. Пройдя сквозь лес Вуокси, финские авангарды вышли на опушку дикого нескончаемого леса Райккола. Лес был полон русскими войсками. Почти вся русская артиллерия северного сектора карельского перешейка, чтобы избежать окружения финскими частями, бросилась по направлению к Ладоге, надеясь успеть переправить орудия и лошадей на другую сторону озера, где они были бы в безопасности. Но советские плоты и паромы запаздывали. Между тем, каждый час опоздания мог оказаться фатальным, ибо холод был сильным, жестоким, озеро могло замерзнуть с минуты на минуту, и финские войска, состоявшие из отрядов сиссит[125], уже проникали через лесные лабиринты и давили на русских со всех сторон, атакуя их с флангов и с тыла.
На третий день грандиозный пожар вспыхнул в лесу Райккола. Оказавшись в кольце огня, люди, кони и деревья испускали страшные крики. Сиссит осаждали пожар, стреляя в стену пламени и дыма, если кто-либо пытался из нее выбраться. Обезумев от ужаса, лошади советской артиллерии (их была почти тысяча) бросились в пекло, пробились через стену огня и обстрела. Многие из них погибли в огне, но большая часть достигла берега озера и кинулась в озеро.
Озеро в этом месте неглубоко, не более двух метров, но шагах в ста от берега дно сразу обрывается крутым откосом. Зажатые в небольшом пространстве (в этом месте вогнутый берег образует маленькую бухту), между стеной огня и глубинами озера, дрожащие от холода и страха, лошади стеснились, держа головы над водой. Те, которые находились всего ближе к берегу, опаляемые огнем, вставали на дыбы, карабкались друг на друга, пытаясь зубами и копытами пробить себе дорогу. В ожесточении этой схватки их сковал лед.
В течение всей ночи дул северный ветер (северный ветер здесь дует с Мурманского моря, как трубящий ангел, и земля Умирает сразу). Холод стал ужасающим. Внезапно, с вибрирующим звоном, который издает стакан от щелчка пальцем, вода замерзла. Море, озера, реки замерзают разом, температурные колебания после этого уже не имеют значения. Даже морские волны останавливаются, вздыбленные над пустотой, становясь ледяными волнами.
На следующий день, когда первые патрули сиссит, с порыжевшими волосами и лицами, черными от дыма, продвигаясь со всеми предосторожностями по еще горячему пеплу, сквозь обугленный лес, вошли на берег озера, их глазам представилось страшное и удивительное зрелище. Озеро было, как огромный поднос из белого мрамора, над которым возвышались сотни и сотни лошадиных голов. Они казались гладко срезанными острым ножом. Они одни только поднимались над ледяной коркой. Все головы были повернуты к берегу. В их расширенных глазах, подобно белому пламени, все еще сверкал ужас. Возле берега группа чудовищно переплетенных коней возвышалась над ледяной тюрьмой.
Потом наступила зима. Северный ветер со свистом разметал снег. Поверхность озера была всегда ровной и чистой, как будто подготовленная для хоккея на льду. В пасмурные дни этой нескончаемой зимы, около полудня, когда немного слабого света излучало небо, солдаты полковника Мерикаллио спускались на озеро и усаживались на лошадиных головах. Можно было подумать, что это деревянные карусельные лошадки.
Вертитесь, вертитесь, прелестные деревянные лошадки! Сцена казалась написанной Босхом[126]. Ветер, дующий сквозь черные скелеты деревьев, создавал мягкую печальную музыку для детей; ледяной поднос, казалось, начинал вращаться; лошади этой пляски смерти тоже принимались вращаться в печальном ритме наивной детской музыки, встряхивая гривами. «Хоп-ла!», — кричали солдаты.
В воскресенье утром сиссит собрались в лоттале Райкколы и выпив по чашке чаю, направились к озеру. (Сиссит — это финские разведчики, волки лесной войны. В большинстве своем это молодые люди; среди них даже много учащихся, некоторые просто совсем еще мальчишки. Они принадлежат к отшельнической и молчаливой расе героев Силлампайя[127]. Они проводят всю свою жизнь в лесной чаще и живут, как дерево, как камень, или как дикое животное.) Они спускались на озеро и шли, чтобы усесться на лошадиные головы. Аккордеонист начинал лаулу[128], это была Вартиосса[129], сторожевая песня. Закутанные в накидках из бараньих шкур, с головами в высоких меховых шапках, сиссит пели хором свою печальную лаулу. Потом музыкант, сидя на замерзшей гриве, пробежав пальцами по кнопкам своего инструмента, давал знак, и сиссит запевали Реппурин лаулу, карельскую песню кукушки, священной птицы этой страны:
Sieli mie páimelauluin fáuluin Min muamo miéroon a suori Karjalan maill Kuldakäk Köset guk — kuup[130].Подражание крику кукушки (кук-гууп) сильно и горестно резонировало в тишине лесов. Орудие стреляло на противоположном берегу Ладоги; уханье взрывов передавалось от дерева к дереву, как шорох крыльев, трепет листвы. В этом живом молчании, которое одинокие винтовочные выстрелы делали более глубоким, более сокровенным, высоко взмывал настойчивый, монотонный и чистый крик кукушки, крик, становившийся, мало-помалу, человеческим: гук-кууп.
Порой мы спускались к озеру, мы — тоже, Свёртстрём и я, чтобы посидеть на конских головах. Опираясь локтем на твердую ледяную гриву, Свёртстрём выбивал свою угасшую трубку о ладонь руки и пристально смотрел вперед на серебристую поверхность замерзшего озера. Он был из Виипури, Свёртстрем, из этого карельского города, расположенного на берегу Финского залива, который шведы называют Выборгом. Он женился на молоденькой русской из Ленинграда, француженке по происхождению, и в нем было что-то тонкое и деликатное, чего обычно не имеют люди севера, что-то французское, быть может, позаимствованное им от его жены, от его Бэби култа («кулга» по-фински значит: «золотая»). Он знает несколько французских слов, он говорит oul[131], говорит charmant[132], говорит auvre petit[133]. Он говорит также naturlement вместо naturellement[134]. Он говорит amour[135], он часто говорит amour. Он говорит также trěs beaucoup[136]. Он художник по плакату, Свёртстрём; он проводит много часов, рисуя красные и синие цветы своим красно-синим карандашом, или вырезая имя Бэби култа на белой коре березовых стволов, или пишет на снегу слово amour железным наконечником своей трости.
У Свёртстрема никогда не было ни крошки табака. Уже больше месяца он выколачивал о ладонь свою угасшую трубку, и я говорил ему: «Не отрицай, Свёртстрём, я убежден, что ты выкурил бы даже кусок человеческого мяса». Он бледнел и отвечал:… «Если эта война будет продолжаться..».. Тогда я говорил: «Если эта война будет продолжаться, мы все превратимся в диких зверей, ты тоже, не правда ли?»
— «Конечно, и я тоже», — отвечал он. Я любил его; я полюбил его в тот день, когда увидел, как он побледнел (мы были в Каннасе, перед окраинами Ленинграда) из-за того куска человеческого мяса, который сиссит нашли в вещевом мешке русского парашютиста, скрывавшегося в течение двух месяцев в норе, посредине густого леса, рядом с трупом его товарища. Вечером в корсу Свёртстрема вырвало; после этого он рыдал, повторяя: его расстреляли, но разве он был виноват? Мы все станем дикими зверями и кончим тем, что будем поедать друг друга. Он не был пьян. Он почти никогда не пил. Его вырвало не потому, что он выпил; причиной был этот кусок человеческого мяса. Начиная с этого дня, я полюбил его. Но время от времени, когда я видел его выколачивающим свою трубку о ладонь, я говорил ему: «Не правда ли, ты был бы способен наполнить свою трубку куском человеческого мяса?»
Однажды вечером, за ужином в испанском посольстве в Хельсинки, граф Огюстен де Фокса, посол Испании, принялся рассказывать историю этого куска человеческого мяса, найденного сиссит в вещевом мешке этого русского парашютиста. Ужин был отличный: старые испанские вина придавали лососю из Улу и копченому оленьему языку горячий и нежный солнечный привкус. Все стали протестовать, заявляя, что этот русский парашютист не был человеком, но жестоким животным, но никого не вырвало: ни графиню Маннергейм, ни Деметру Слёрн, ни князя Кантемира, ни полковника Слёрна, адъютанта президента республики, ни барона Бенгта фон Тёрна, ни даже Титуса Михайлеско, — никого не вырвало.
— Человек цивилизованный, христианин, — сказала Анита Бенгенстрём, — скорее бы умер от голода, чем стал бы пожирать человеческое мясо.
— А! А! — расхохотался граф де Фокса. — Только не католик: католики любят человеческое мясо.
И так как все протестовали (ослепительный свет снега среди светлой ночи сиял в квадратах окон, и это казалось отражением громадного серебряного зеркала, которое принимало мертвенный блеск на масляных портретах испанских грандов, на золотом распятии, висевшем на стене, одетой в тяжелую красную парчу), граф де Фокса заявил, что «все католики едят человеческую плоть, плоть Иисуса Христа, священную плоть Иисуса — гостию, то есть плоть, наиболее человеческую и наиболее божественную на свете». И он печальным голосом стал читать наизусть отрывок из стихотворения Федерико Гарсии Лорки, испанского поэта, расстрелянного в 1936 году франкистами, знаменитую Оду аль Сантиссимо Сакраменто дель Алтар, которая начинается как песня любви «Кантабан лас муйерес». Когда он дошел до стихов «рана», де Фокса слегка повысил голос:
Vivo estabas, Dios mio, dentro del ostensorio Punzado pór tu Padre con agujac de lumbre Latiendo come el pobre eorazon de la rana. Que los médicos ponen en el frasco de vidrio. (Ты был живым, Бог мой, в чаше, пронзенный Отцом твоим иглами света, трепещущий, Как бедное сердце лягушки, Помещенное в стеклянную колбу).— Но это ужасно! — сказала графиня Маннергейм. — Божественное тело Иисуса, которое бьется в чаше, как сердце лягушки. Ах! Вы, католики, все — просто чудовища!
— Нет лучшего тела в мире, — сказал граф де Фокса печально.
— Не правда ли, Свёртстрём, — спросил я, — ты способен выкурить кусок человеческого мяса?
Свёртстрём улыбался. Его улыбка была усталой и грустной. Он смотрел на лошадиные головы, поднимавшиеся над ледяной равниной, на эти мертвые головы, с замерзшими гривами, твердыми как дерево, эти глаза, блестящие и расширенные, полные ужаса. Он ласкал слегка рукой их вытянутые морды, окровавленные ноздри, губы, сведенные безнадежным ржанием (этим ржанием, оставшимся во рту, полном замерзшей пены). Мы ушли молча, задевая по пути гривы, побелевшие от инея. Ветер тихо свистел над огромной ледяной равниной.
* * *
Этим утром мы отправились посмотреть, как будут высвобождать лошадей из их ледяной тюрьмы.
Жирный и мягкий запах господствовал в тепловатом воздухе. Стоял конец апреля, и солнце уже заметно пригревало. С приближением оттепели конские головы, заточенные в ледяной коре, начинали отравлять воздух. В утренние часы этот запах падали становился невыносимым, и полковник Мерикаллио дал приказание поднять лошадей из озера и зарыть их подальше в лесу. Отряды солдат, вооруженных большими пилами, топорами, железными ломами, лопатами и веревками, спустились к Ладоге с сотней саней.
Когда мы вышли на откос, солдаты уже принялись за работу. Около полусотни трупов было перекинуто через сани; они уже не были твердыми, но вялыми и вспухшими; длинные светлые гривы, освобожденные оттепелью, оттаяли, и с них струилась вода. Веки ниспадали на глаза, водянистые и вздутые. Солдаты ломали лед ударами лопат и топоров, и лошади запрокидывались, плавая в грязной воде, побелевшей и полной воздушных пузырей и губчатого снега. Солдаты грузили падаль при помощи веревок и тащили их на берег. Головы волочились сбоку. Батарейные лошади, рассеянные по лесу, ржали, вдыхая жирный и сладковатый воздух, и лошади, запряженные в сани, отвечали им долгим жалобным ржанием.
— Пуа, пуа! Пошел! Пошел! — кричали солдаты, размахивая кнутами. Сани скользили на грязном снегу с глухим шорохом. Бубенчики в теплом воздухе весело звонили, весело и жалобно.
Комната была полна теней. Голос ветра был высоким и горестным среди старых дубов Оахилля, и я задрожал, услышав это страдающее ржание северного ветра.
— Вы жестоки, — произнес принц Евгений, — мне жаль вас.
— Я очень вам благодарен, — сказал я и расхохотался, и мне тотчас же стало стыдно, что я расхохотался. Мне самому было жаль себя. И стыдно, что жаль себя.
— О, вы жестоки, — повторил принц Евгений. — Мне хотелось бы вам помочь.
— Разрешите мне, — сказал я, — рассказать вам один странный сон. Это сон, который часто волнует меня по ночам. Я вхожу на площадь, заполненную народом; все смотрят вверх, и я тоже смотрю вверх и вижу нависающую над площадью высокую гору. На вершине горы возвышается большой крест. С перекладин креста свисает распятая лошадь. Палачи, забравшиеся по лестницам, забивают молотками последние гвозди. Слышны удары молотков по гвоздям. Распятая лошадь поворачивает голову туда и сюда и потихоньку ржет. Толпа безмолвно рыдает. Жертвоприношение Христа-лошади, трагедия животной Голгофы; я бы хотел, чтобы вы помогли мне пролить свет на смысл этого сна. Смерть Христа-лошади, — не может ли она означать смерть всего, что есть в человеке, чистого и благородного? Вам не кажется, что этот сон имеет отношение к войне?
— Но ведь и война — не более чем сон, — сказал принц Евгений, положив руку себе на глаза и на лоб.
— Все, что было в Европе благородного, тонкого, чистого, умирает. Лошадь — это наша родина. Вы понимаете, что я хочу этим сказать. Наша родина умирает, наша древняя родина. И все неотвязные картины, эта постоянная «идэ фикс» ржанья, запаха, страшного и печального, запаха мертвых лошадей, распростертых на дорогах войны. Не кажется ли вам, что все это соответствует образам войны: нашим голосам, нашему запаху, запаху мертвой Европы? Не кажется ли вам, что этот сон также имеет смысл, приблизительно, сходный? Но быть может лучше не пытаться толковать сны?
— Замолчите, — сказал принц Евгений. Затем он наклонился ко мне и промолвил тихо: «Ах, если бы я мог страдать, как вы!»
Часть II КРЫСЫ
IV. GOD SHAVE THE KING[137]
— Я — Король: ди Кениг, — сказал рейхсминистр Франк, генерал-губернатор Польши, разведя руки и бросая на своих сотрапезников взгляд, полный гордого удовлетворения.
Я смотрел на него и улыбнулся.
— Немецкий Король Польши, ди дойче Кениг фон Полен, — повторил Франк.
Я смотрел на него и улыбался.
— Почему вы улыбаетесь? Или вы никогда не видел короля? — спросил у меня Франк.
— Я говорил со многими королями, обедал со многими королями в их дворцах и замках, — ответил я, — но ни один из них никогда не говорил мне: «Я — король»
— Зи зинд айн[138] (испорченный ребенок), — сказала грациозно фрау Бригитта Франк, ди дойче Кенигин фон Полен.
— Вы правы, сказал Франк, — настоящий король никогда не говорит: «Я — король». Но я не настоящий король, хотя мои друзья из Берлина и называют Польшу[139]: Франкрейх. Я обладаю правом жизни и смерти над польским народом, но я не король Польши. Я обхожусь с поляками с королевским великодушием и благосклонностью, но я не настоящий король. Поляки не заслуживают такого короля, как я. Это — неблагодарный народ.
— Они — не неблагодарный народ, — возразил я.
— Я был бы самым счастливым человеком на земле, я был бы в самом деле, как бы Готт ин Франкрейх [140], если бы поляки были мне благодарны за все, что я для них делаю. Но чем больше я стараюсь облегчить их несчастья и справедливо обходиться с ними, тем больше они относятся с презрением ко всему хорошему, что я делаю для их родины. Это — неблагодарный народ.
Шепот одобрения пробежал по губам сотрапезников.
— Это народ, полный достоинства и гордости, — настаивал я с любезной улыбкой, — и вы — их хозяин. Иностранный хозяин.
— Немецкий хозяин. Они не заслуживают чести иметь немецкого хозяина.
— В самом деле, они ее не заслуживают. Жаль, что вы не поляк.
— Я, шаде![141] — воскликнул Франк, отдаваясь радостному смеху, которому все сотрапезники ответили шумным эхо. Внезапно Франк кончил смеяться и оперся обеими руками о свою грудь: «Поляк!» — сказал он. Но посмотрите на меня. Каким образом мог бы я быть поляком? Или, быть может, я похож на поляка?
— Вы католик, не правда ли?
— Да, — ответил Франк, немного удивленный. Я немец из Франконии.
— Значит, католик, — сказал я.
— Да, немецкий католик, — отвечал Франк.
— Значит, у вас имеется нечто общее с поляками. Католики все равны между собой. Вы должны были бы, как хороший католик, уважать поляков, равных вам.
— Я — католик, добрый католик, — подтвердил Франк, — но, вы думаете, этого достаточно? Мои соратники тоже католики, все они уроженцы старой Австрии. Но разве вы думаете, что достаточно быть католиком, что бы мочь управлять Польшей? У вас нет представления о том, как трудно управлять католическим народом!
— Я никогда не пробовал, — сказал я, улыбаясь.
— И остерегитесь этого! Тем более, — добавил Франк, наклоняясь над столом и с таинственным видом понизив голос, — тем более, что в Польше надо на каждом шагу считаться с Ватиканом. За спиной у каждого поляка, угадайте, кто?
— Польский священник, — сказал я.
— Нет, — сказал Франк. — Там Папа. Святой Отец, собственной персоной.
— Должно быть, это вещь мало приятная, — заметил я.
— Правда и то, что за моей спиной стоит Гитлер. Но это не одно и то же.
— Нет, это не одно и то же, — согласился я.
— А что, Святой Отец стоит также и за спиной у каждого итальянца? — спросил у меня Франк.
— Итальянцы, — ответил я — не хотят иметь никого за своей спиной.
— Ах, зо! — воскликнул Франк, смеясь. — Ах, зо!
— Зи зинд айн анфан террибль[142], — грациозно сказала немецкая королева Польши.
— Я задаю себе вопрос, — продолжал Франк, как устроился Муссолини, чтобы действовать в согласии с Папой?
— Между Муссолини и Папой тоже, — сказал я, — в начале были большие трудности. Оба они живут в одном городе, оба претендуют на непогрешимость; казалось неизбежным, что между ними разгорится ссора. Но они пришли к соглашению, и теперь все идет, к общему удовлетворению, хорошо. Когда родится итальянец, Муссолини берет его под свое покровительство: прежде всего он поручает его детскому приюту, затем посылает в школу, позже обучает его ремеслу, затем записывает его в фашистскую партию и заставляет работать до достижения им двадцати лет. В двадцать лет он призывает его в армию и содержит его два года в казарме, потом он его демобилизует, возвращает на работу и женит его после совершеннолетия; если у него рождаются дети, он предоставляет им то же самое, что предоставил их отцу. Когда отец становится старым, не может более работать и ни к чему вообще не пригоден, он отсылает его домой, дает ему пенсию и ждет, пока он умрет. И, наконец, когда он умирает, Муссолини возвращает его Папе, чтобы тот делал с ним все, что ему заблагорассудится.
Король Польши воздел руки, стал красным, затем фиолетовым — задыхался от смеха. Все сотрапезники воздели руки с криком: «Ах! Вундербар![143] Вундербар!» Наконец, Франк, выпил большой глоток вина и произнес голосом, еще дрожавшим от возбуждения: «Ах, итальянцы! Какой политический гений! Какое юридическое чутье! Жаль, — добавил он, утирая свое вспотевшее лицо, — что не все немцы — католики! Религиозная проблема в Германии была бы гораздо проще: как только католики умирают, мы возвращаем их Папе. Ну а протестанты? Кому пришлось бы их возвращать?»
— Это, — сказал я, — проблема, которую Гитлер должен был бы решить уже давно.
— Вы знаете Гитлера лично? — спросил меня Франк.
— Нет, я никогда не имел такой чести, — ответил я. — Я видел его только раз, в Берлине, на похоронах Тодта. Я стоял на тротуаре, среди толпы.
— Какое впечатление он на вас произвел? — спросил Франк. Он ожидал моего ответа с подчеркнутым любопытством.
— Мне показалось, что он не знал, кому возвратить труп Тодта.
Новый взрыв смеха прервал мои слова.
— Могу вас заверить, — сказал Франк, — что Гитлер уже давно разрешил эту проблему. «Нихьт вар?[144]» — спросил он и, смеясь, обратился к своим сотрапезникам.
— Йа, йа, натюрлихь![145] — воскликнули они.
— Гитлер — человек высшего порядка. Не думаете ли вы, вы тоже, что он человек высшего порядка?
И так как я колебался, он пристально посмотрел на меня и добавил с любезной улыбкой: «Я хотел бы знать ваше мнение о Гитлере».
— Это почти человек, — ответил я.
— Что?
— Почти человек, я хочу сказать нечеловек, яснее говоря.
— Ах, зо! — догадался Франк. Вы хотите сказать — юберменшь, нихьт вар?[146] — Да, Гитлер — нечеловек, яснее говоря. Это юберменшь.
— Герр Малапарте, — пояснил в этот момент один из сотрапезников, сидевший на краю, — герр Малапарте писал в одной из своих книг, что Гитлер — женщина.
Это был начальник Гестапо генерал-губернаторства Польши, человек Гиммлера. Его голос был холодным, мягким, печальным — отдаленный голос. Я поднял глаза, но у меня не хватило смелости посмотреть на него. Этот голос — холодный, мягкий, печальный, этот отдаленный голос, заставил мое сердце приятно задрожать.
— В самом деле, — сказал я после секунды молчания, — Гитлер — женщина.
— Женщина? — воскликнул Франк, пожирая меня глазами, полными оцепенения и подозрительности.
Все умолкли и смотрели на меня.
— Если это не человек, яснее говоря, то почему бы ни быть ему женщиной? — спросил я. — Женщины заслуживают нашего полного уважения, любви, нашего восхищения. Вы говорите, что Гитлер — отец немецкого народа, нихьт вар? Почему бы он не мог быть его матерью?
— Его матерью?! — воскликнул Франк. — Ди Муттер?[147]
— Его матерью, — повторил я. — Ведь это матери зачинают сына в утробе своей, в муках рождают его, вскармливают своей кровью и своим молоком. Гитлер — мать нового немецкого народа; он зачал его в своей груди, родил в муках, вскормил своей кровью и сво…
— Гитлер — не есть мать немецкого народа, это — отец! — сказал Франк сурово.
— Кем бы он ни был, — закончил я, — но немецкий народ — его сын. Это вне сомнения.
— Да, согласился Франк, — это вне сомнения. Все народы новой Европы, и поляки в первую очередь, должны были бы испытывать гордость, что они имеют в Гитлере отца, справедливого и сурового. Но знаете ли вы, что о нас думают поляки? Что мы — варварский народ.
— И это вас обижает? — спросил я, улыбаясь.
— Мы — народ господ, а не варвары: мы Херрен вольк.
— Ах, не говорите этого!
— Почему же? — спросил Франк в глубоком изумлении.
— Потому что господа и варвары — это одно и то же, — ответил я.
— Я не согласен с вами, — сказал Франк. Мы — Херрен вольк, а не народ варваров. Разве вам кажется, сегодня вечером, что вы находитесь среди варваров?
— Нет, — ответил я, — но среди господ. И я добавил, улыбаясь: «Должен признать, что входя в Вавель сегодня вечером, у меня было впечатление, что я вхожу во дворец итальянского Ренессанса».
Улыбка триумфатора озарила лицо немецкого короля Польши. Он поворачивался во все стороны, озирая одного за другим всех сотрапезников взглядом, полным горделивого удовлетворения. Он был счастлив. А я именно и ожидал, что мои слова сделают его счастливым. В Берлине, перед моим отъездом в Польшу, Шеффер, сидя в своем бюро на Вильгельмплаце, смеясь, советовал мне: «Старайтесь не иронизировать, когда будете говорить с Франком. Это смелый человек, но он не понимает иронии. Если же вы уж никак не сможете удержаться, не забудьте сказать ему, что он — сеньор эпохи итальянского Ренессанса. Он простит вам все погрешности вашего ума». Я вовремя вспомнил совет Шеффера.
Я сидел за столом Франка, немецкого короля Польши, в старинном королевском дворце Вавеля в Кракове. Франк сидел передо мной на стуле с высокой спинкой, непреклонный, как будто он сидел на троне Ягеллонов[148] и Собесских[149], и казался совершенно убежденным, что он воплощает великие королевские и рыцарские традиции Польши. Наивная гордость озаряла его лицо, со щеками пухлыми и бледными, на котором орлиный нос изобличал волю, полную гордыни и подозрительности. Его черные блестящие волосы, зачесанные назад, открывали высокий лоб белизны слоновой кости. Было нечто в нем старческое и гибельное: в его мясистых губах, надутых, как у рассерженного ребенка, в его толстых веках, тяжелых и, быть может, слишком больших для его зрачков, в его манере держать глаза полузакрытыми, отчего на висках у него появлялись две прямые и глубокие морщины. Кожа его лица была покрыта легкой сеткой пота, которую свет больших голландских люстр и выстроенных на столе серебряных шандалов, отраженных в хрустале из Богемии и в саксонском фарфоре, заставляли блистать так, как если бы все лицо его было покрыто целлофановой маской.
— Мое единственное стремление, — сказал Франк, опершись о край стола обеими руками и откинувшись на спинку своего кресла, — заключается в том, чтобы поднять польский народ до высот европейской цивилизации, что означает сделать из этого народа без культуры… Но, — он остановился, как будто какое-то подозрение промелькнуло у него в голове, пристально посмотрел на меня и добавил по-немецки: Абер… зи зинд айн фройнд дер Полен, нихьт вар![150]
— О! Найн[151], — ответил я.
— Как так? — повторил Франк по-итальянски. — Вы не есть друг поляков?
— Я никогда не скрывал, — ответил я, — что я — искренний друг польского народа.
Франк пристально смотрел на меня глубоко удивленным взором. После минутного раздумья он медленно спросил меня: «Так почему же вы только что сказали мне „нет“?»
— Я ответил вам «нет», — сказал я с любезной улыбкой, — почти по той же самой причине, по которой на Украине русский рабочий ответил «нет» одному немецкому офицеру. Я был в деревне Песчанка, на Украине, летом 1941 года, и в одно утро отправился в большой колхоз в окрестностях, колхоз Ворошилова. Русские оставили Песчанку двумя днями ранее. Это был самый большой и самый богатый колхоз, какой я только до тех пор видел. Все было оставлено в отличном порядке, но стойла были пусты и конюшни покинуты. Не оставалось ни зерна в хранилищах, ни клочка сена в амбарах. Одна лошадь, прихрамывая, ходила по двору, но это была старая лошадь, хромая и слепая.
В глубине двора были вытянуты в длину вдоль гаража десятки и сотни сельскохозяйственных машин, в большинстве выпущенных советскими заводами, но среди них было немало и венгерских, были также итальянские, а еще немецкие, шведские, американские. Русские, уходя, не сжигали колхозов, они не жгли также созревшей жатвы и полей подсолнечника, они не разрушали сельскохозяйственных машин, — они увозили тракторы, уводили лошадей, скот, вывозили фураж, мешки с зерном и подсолнечным семенем. Сельскохозяйственные машины они не трогали, даже молотилки, — они их оставляли на месте. Они довольствовались тем, что увозили тракторы. Рабочий, в синей спецовке, занимался тем, что смазывал большую молотилку, наклонившись над ее колесами и зубчатками. Я остановился посреди двора и смотрел издали, как он работает. Он смазывал свои машины, продолжал заниматься своим делом, как будто война была где-то далеко, как будто война даже и не коснулась Песчанки. После нескольких дождливых дней показалось солнце, воздух был теплым, лужи грязной воды отражали бледно-голубое небо, по которому пробегали легкие белые облачка.
В эту минуту немецкий офицер, из частей СС, вошел в колхоз. За ним следовало несколько солдат. Офицер остановился посреди двора. Расставил ноги и посмотрел вокруг. Время от времени он оборачивался и что-то говорил своим людям; тогда несколько золотых зубов поблескивали в его розовом рту. Внезапно он увидел рабочего, наклонившегося, чтобы смазать маслом машину, и позвал его: «Ду, комм хир![152]»
Рабочий подошел, прихрамывая. Он тоже был хромой. В правой руке он держал большой английский ключ, а в левой — желтую медную маслёнку. Проходя мимо лошади, он что-то сказал ей вполголоса, и слепая лошадь потерлась мордой о его плечо и прошла за ним, прихрамывая, несколько шагов. Рабочий остановился перед офицером и снял свою шапку. У него были вьющиеся черные волосы, серое худое лицо, тусклые глаза. Это, несомненно, был еврей.
— Ду бист Юде, нихьт вар?[153] — спросил у него офицер.
— Нейн, их бин нейн Юде[154], — ответил рабочий, почесывая голову.
— Что? Ты не еврей? Ты — еврей! Ты — жид! — повторил ему офицер по-русски.
— Да, я — еврей, да, я — жид, — ответил ему рабочий по-русски.
Офицер долго, молча, смотрел на него. Потом он медленно спросил: — А почему же ты только что ответил мне: «нет»?
— Потому что ты спросил у меня это по-немецки, — ответил рабочий.
— Расстреляйте его, — приказал офицер.
Рот Франка раскрылся в припадке сердечного смеха, и все сотрапезники громко хохотали, откидываясь на спинки своих стульев.
— Этот офицер, — сказал Франк, когда веселье за столом утихло, — ответил очень вежливым образом, тогда как он мог бы ответить гораздо хуже, нихьт вар? Но это был неумный человек. Если бы он был умным человеком, он, может быть, принял бы это за шутку. Я люблю остроумных людей, — добавил он по-французски, любезно наклоняясь, — а в вас много остроумия. Ум, интеллигентность, искусства, культура всегда на почетном месте в немецком Бурге Кракова. Я хочу восстановить в Вавеле итальянский двор эпохи Ренессанса, сделать из Вавеля остров цивилизации и любезности в сердце славянского варварства. Знаете ли вы, что я добился того, чтобы создать в Кракове польскую филармонию? Все члены оркестра, разумеется, поляки. Фуртвенглер[155] и Караян[156] приедут весной в Краков дирижировать целой серией концертов. Ах, Шопен! — воскликнул он неожиданно, поднимая к небу глаза и бегло пробежав пальцами по скатерти, точно по клавиатуре рояля. — Ах, Шопен! Ангел с белыми крыльями! Какое значение имеет то, что это польский ангел? В музыкальном небе есть место даже для польских ангелов. И все-таки поляки не любят Шопена!
— Они не любят Шопена? — спросил я, печально удивленный.
— Как-то раз, — продолжал Франк грустным голосом, — во время концерта, посвященного Шопену, публика Кракова не аплодировала — ни одного удара в ладони, выражающего порыв любви к этому Белому Ангелу музыки. Я смотрел на это огромное скопление народа, неподвижное и молчаливое, стараясь понять причину этого ледяного молчания, смотрел на эти тысячи блестевших глаз, эти бледные лица, еще согретые мимолетной крылатой лаской Шопена, смотрел на эти губы, еще розовевшие от печального и сладостного поцелуя белого Ангела, и искал в моем сердце извинения этой немой мраморной духовной неподвижности многочисленной публики. Ах! Но я завоюю этот народ при помощи искусств, поэзии, музыки! Я стану польским Орфеем! Ах! Ах! Ах! Польским Орфеем! — И он стал смеяться странным смехом, закрыв глаза, откинув голову на спинку своего стула. Он побледнел, он дышал с трудом, пот высыпал бисером на его лбу.
Но тут фрау Бригитта Франк, ди дойче кенигин фон Полен, подняла глаза и повернула голову к двери. В этот момент дверь открылась, и на огромном серебряном блюде появился лохматый дикий кабан, лежащий в засаде на ароматном ложе черники.
Это был кабан, которого Кейт, начальник протокола Польского генерал-губернаторства, застрелил из своего ружья в Люблинских лесах. Яростная голова лежала, словно в засаде, на ложе из черники, как на ложе из терновника в чаще, готовая броситься на неблагоразумных охотников, на всю их жестокую свору. По обе стороны его рыла виднелись клыки, белые и загнутые; на его спине, блестящей и покрытой каплями жира, на поджаренной, хрустящей коже, поднималась жесткая черная щетина. И я почувствовал в своем сердце неясную симпатию к этому благородному польскому кабану, этому животному — «партизану» люблинских лесов. В глубине темных глазниц блестело что-то серебристое и кровавое, свет холодный и пурпурный, нечто живое и таинственное, точно взгляд, горящий большим внутренним огнем. Тот же взгляд, серебристый и пурпурный, который я видел в глазах крестьян, дровосеков, польских деревенских работников на берегах Вислы, в лесах горной цепи Татр[157] в Закопане[158], на фабриках Радома[159] и Ченстохова[160], в соляных шахтах Велички.
— Ахтунг![161] — сказал Франк и, подняв руку, вонзил в бок кабана широкий нож.
Быть может, виною было пламя, горевшее в большом камине, быть может, обилие еды и драгоценных вин из Франции и Венгрии, но я почувствовал, как краска заливает мне лицо. Я сидел за столом немецкого короля Польши, в большой Вавельской зале, в древнем благородном богатом ученом королевском городе Кракове, посреди маленького Двора этого наивного, жестокого, горделивого: немецкого перевоплощения итальянского сеньора эпохи Ренессанса, и меланхолический стыд заливал краской мое лицо. С самого начала ужина Франк принялся говорить о Платоне, о Марцилио Фицине[162], об Орти Орицеллари (Франк учился в римском университете он отлично говорит по-итальянски: с легким романтическим акцентом, в котором есть нечто от Гете[163] и Грегоровиуса[164]; он проводил целые дни в музеях Флоренции, Венеции, Сиены[165]; он знает Перуджи[166], Лукку[167], Феррару[168], Мантую[169]; он в восторге от Шумана[170], Шопена[171], Брамса[172], он божественно играет на рояле), затем о Донателло[173], о Полициане[174], о Сандро Боттичелли[175]. Разговаривая, он наполовину закрывал глаза, очарованный музыкой своих собственных слов.
Он улыбался фрау Бригитте Франк с той же грацией, какую придаёт Цельзию Аньоло[176] Фиренцуола, там, где он улыбается прекрасной Аморрориске. Продолжая беседовать, он обласкивал фрау Бехтер и фрау Гасснер тем же нежным взглядом, каким Борзо д’Эсте[177], во дворце Чифанойя, ласкал обнаженные плечи и розовые лица цветущих феррарок. Он поворачивался к губернатору краковской области, венцу Вехтеру, молодому и элегантному Вехтеру, одному из убийц Дольфуса[178], с той же любезной печалью, с какой Лоренцо Великолепный поворачивался к молодому Полициано среди радостных групп гостей, собранных им в своей вилле дель Амбра. И Кейт, Вользеггер, Эмиль Гасснер Сталь отвечали на его куртуазные[179] слова с достоинством и куртуазностью, какие Бальтассарре Кастильоне[180] рекомендует настоящим куртизанам лучших дворов. Один только человек Гиммлера, сидевший с краю стола, слушал и молчал. Быть может, он различал тяжелые шаги в соседних комнатах, где великолепного сеньора ожидали не сокольничьи, со своими птицами, в шапочках, на рукаве, защищенном металлической рукавицей, но суровый эскорт эсэсовцев, вооруженных автоматами.
Это был тот же румянец, который бросался мне в лицо, когда, проехав в автомобиле по пустынным и снежным равнинам, отделяющим Краков[181] от Варшавы, Лодзь[182] от Радома, Ополье от Люблина[183], сквозь печальные города и селения, угрюмые и населенные бледными, истощенными людьми, хранящими на своих лицах отпечаток голода, тревоги, порабощения, отчаяния, в чьих светлых и бесцветных глазах я различал тот чистый взгляд, который свойственен польскому народу, находящемуся в несчастий, я прибывал в Дойче Хаус[184] какого-нибудь туманного города, чтобы провести в нем ночь, встречаемый хриплыми голосами, жирным хохотом, горячим запахом яств и напитков, — я, казалось, проникал посредством какого-то кощунства в какой-то немецкий экспрессионистский двор, придуманный Гросом[185]. Вокруг богато сервированных столов я находил затылки, рты, уши, нарисованные Гросом, и эти немецкие глаза, холодные и пристальные, эти рыбьи глаза. И печальная стыдливость бросала краску мне в лицо, в то время как я смотрел по очереди на одного за другим сотрапезников, сидевших за столом немецкого короля Краковской области, в большой зале Вавеля, и снова вспоминал толпу, бледную и истощенную, улиц Варшавы, Кракова, Ченстохова, Лодзи, толпу, с лицами, потными от голода и тревоги, бродячую по тротуарам, покрытым грязным снегом, печальные дома и гордые дворцы, откуда ежедневно втайне выносились ковры, серебро, хрусталь, фарфор, — все признаки былого богатства, славы и тщеславия.
— Что делали вы сегодня на улице Батория? — спросил меня Франк с лукавой улыбкой.
— На улице Батория? — спросил я.
— Да, мне кажется, эта улица зовется улица Баторего, не правда ли? — повторил Франк, поворачиваясь к Эмилю Гасснеру.
— Йа, Баторегоштрассе, — ответил Гасснер.
— Что же отправились вы делать у этих девиц… как их, бишь, зовут?
— Мадемуазель Урбанские.
— Девицы Урбанские? Но это ведь две старые девы, если я не ошибаюсь? Что же вам понадобилось у мадемуазель Урбанских?
— Вы знаете всё, — сказал я, — и вы не знаете, зачем я отправился на улицу Батория? Я пошел, чтобы отнести хлеба мадемуазель Урбанским.
— Хлеба?
— Да, итальянского хлеба.
— Итальянского хлеба? И вы привезли его из Италии?
— Я привез его с собой из Италии. Я хотел бы привезти девицам Урбанским букет роз из Флорении. Но от Флоренции до Кракова путь не близкий, а розы быстро увядают. Вот почему я привез хлеб.
— Хлеб? — воскликнул Франк. — Вы полагали, что в Польше не хватает хлеба? И он указал широким жестом на широкие серебряные блюда, заваленные белыми ломтями хлеба, этого мягкого польского хлеба, у которого корочка — легкая, хрустящая и гладкая, точно шелковая. Улыбка удивленной наивности озаряла его лицо, бледное и пухлое.
— Польский хлеб горек, — сказал я.
— Да, это правда, розы Италии веселее. Вам следовало бы привезти девицам Урбанским охапку роз из Флоренции. Это был бы прелестный сувенир из Флоренции, тем более, что, весьма вероятно, вы встречались в этом доме не только с двумя старыми девицами, нихьт вар?
— О! Вы несносны, — сказала по-французски фрау Вехтер, грациозно грозя пальцем Франку. Фрау Вехтер была из Вены; она любила говорить по-французски.
— Княгиня Любомирская, не правда ли? — продолжал Франк, смеясь — Лили Любомирская. Лили, ах зо, Лили.
Все принялись смеяться. Я замолчал.
— Лили тоже любит итальянский хлеб? — спросил Франк, и его слова были встречены смехом гостей.
Тогда я с улыбкой обратился к фрау Вехтер и сказал ей по-французски: «Я совсем не умен и не умею ответить. Не хотели бы вы ответить вместо меня?»
— О, я знаю, как вы неумны, — мило сказала фрау Вехтер, но ведь это так легко ответить, что поляки и итальянцы — это народы-друзья. Лучший хлеб — это хлеб дружбы, не правда ли?
— Мерси, — сказал я ей.
— Ах, зо, — воскликнул Франк. После недолгого молчания он добавил: — Я и забыл, что вы большой друг польского народа, я хочу сказать польского благородного сословия.
— Все поляки благородны, — ответил я.
— В самом деле, — продолжал Франк, — я не делаю никакого различия между князем Радзивиллом[186] и кучером.
— И вы ошибаетесь, — сказал ему я.
Все посмотрели на меня с удивлением, а Франк мне улыбнулся.
В это время дверь тихо отворилась, и через нее вплыл жареный гусь на серебряном блюде. Он лежал на боку посреди ожерелья из картофелин, зажаренных в сале. Это был толстый и жирный польский гусь, с широкой грудью, полными боками, мускулистой шеей. Не знаю отчего, но я подумал, что он, наверное, не был зарезан ножом, согласно доброму старому обычаю, а расстрелян у стены взводом эсэсовцев. Мне казалось, что я слышу сухую команду: «Фейер![187]» и внезапный треск залпа. Гусь, вероятно, падал, высоко держа голову, глядя прямо в лицо жестоким угнетателям Польши. «Фейер!» — крикнул я громко, как будто для того, чтобы самому себе отдать отчет в том, что означал этот крик, его хриплый звук, это короткое приказание, и как будто я ожидал, что в большой зале Вавельского дворца вдруг раздастся треск залпа. Все рассмеялись. Они смеялись, откидывая головы назад, и фрау Бригитта Франк пристально смотрела на меня глазами, блестящими от чувственного удовольствия, на лице раскрасневшемся и слегка влажном. «Фейер!» — крикнул, в свою очередь, Франк и расхохотался еще громче, склонив голову на правое плечо, целясь в гуся и прищурив левый глаз, как будто целился на самом деле. Тогда я тоже рассмеялся, но чувство стыда понемногу все больше овладевало мной; я чувствовал себя «на стороне гуся». О, да! Я чувствовал себя на стороне гуся, а не на стороне тех, кто вскидывал к плечу свои автоматы, ни тех, кто кричал: «Фейер!» ни всех тех, которые говорили: «Ганц Капутт!. Гусь мертв!»
Я чувствовал себя «на стороне гуся» и, глядя на этого гуся, я думал о старой княгине Радзивилл, о милой, старой Бишетт Радзивилл, стоящей под дождем, среди руин варшавского вокзала, в ожидании поезда, который должен был отвезти ее в безопасное место в Италии. Шел дождь, и Бишетт была здесь уже более двух часов, стоя под наполовину разрушенными балками навеса, на перроне, изрытом воронками бомб Стука. «Не занимайтесь слишком много мной, дорогой. Я старая курица», — говорила она Соро — молодому секретарю итальянского посольства, и время от времени трясла головой, стряхивая дождевую воду, скапливавшуюся на полях ее маленькой фетровой шляпки. «Если бы я знал, где найти зонтик», — говорил Соро. «Зонтик?! Послушайте, но это смешно в моем возрасте!» — отвечала она и смеялась, рассказывая своим голосом, со своим акцентом, со своими неповторимыми движениями ресниц, небольшой группе родственников и друзей, которым удалось получить в Гестапо разрешение проводить ее на вокзал, о всех мелких занимательных неприятностях своей одиссеи — путешествия через территории, оккупированные русскими и немцами, как если бы ее жалость, ее милосердие и ее гордость не позволяли ей говорить об огромной трагедии Польши. Струи дождя бежали по ее лицу, смывая косметику с ее щек. Ее белые волосы, с желтоватыми прядями, выбивались из-под маленькой фетровой шляпки жирными и грязными завитками, с которых капала вода. Она была здесь уже более двух часов, стоя под дождем. Ее туфли тонули в жидкой грязи и мокрой угольной пыли, которой был покрыт перрон, но она была веселой, живой, полной ума, расспрашивающей о новостях то одного, то другого, об общих родных, друзьях, умерших, беглецах, интернированных, и когда кто-либо отвечал ей: «о нем ничего неизвестно», Бишетт восклицала: «Да нет, не может быть!» — как будто ее развлекали занятною историей, забавной сплетней. «Ах, как это интересно!» — восклицала она, когда ей отвечали: «такой-то жив». А если ответ был: «такой-то умер, такой-то в концентрационном лагере», Бишетт принимала раздраженный вид и вскрикивала: «Возможно ли это?» — как будто хотела сказать: «Вы надо мной смеетесь», — как будто бы ей рассказывали совершенно неправдоподобную историю. Она требовала, чтобы Соро посвятил ее в последние варшавские сплетни, и когда она смотрела на немецких солдат и офицеров, проходивших по вокзальной платформе, она говорила: «Эти бедняги!» с такой нескончаемой интонацией, с таким акцентом прошлого, как будто она сожалела, что стесняет их своим присутствием, как будто она испытывала жалость к ним, как будто разрушение Польши было ужасным несчастьем, случившимся с этими бедными немцами.
В какую-то минуту немецкий офицер приблизился, чтобы принести ей стул. Он склонился перед Бишетт и предложил ей стул, в молчании. Бишетт выпрямилась и со своей самой обаятельной улыбкой сказала (причем в ее интонации не было ни малейшей тени презрения): «Мерси, я не принимаю любезностей ни от кого, кроме моих друзей». Офицер смешался; сначала он не посмел показать, что он понял, затем покраснел, поставил стул на платформе и молча удалился.
— Посмотрите! — сказала Бишетт. — Что за идея — стул! Она смотрела на одинокий стул под дождем и добавила: «Просто невероятно, до чего им кажется, что они у себя, этим беднягам!».
Я думал об этой старой польской даме, стоящей под дождем, об этом одиноком стуле, покинутом под дождем, и чувствовал себя на стороне гуся, на стороне княгини Радзивилл, и стула, одинокого, под дождем. «Фейер!» — повторил Франк. Гусь упал навзничь под залпом винтовок у разрушенной стены варшавского вокзала, улыбаясь взводу, приводящему в исполнение казнь. — «Эти бедняги!» Я чувствовал себя на стороне гуся, на стороне Бишетт и одинокого стула под этим дождем, на грязной платформе, среди развалин варшавского вокзала.
Все смеялись. Сидя в позе напряженной и торжественной, словно на троне, не смеялась одна только королева. Она была в широком платье колоколом, из зеленого бархата, без пояса, низ которого был оторочен широкой пурпурной лентой; его длинные широкие рукава старинного немецкого покроя, присоединенные к плечам круглыми пуфами, казались надутыми воздухом; плечи были приподняты, и от них книзу шло все большее расширение, опускавшееся до самых запястий. На зеленом колоколе была наброшена кружевная накидка того же цвета, что и широкая пурпурная лента. Она была причесана просто: волосы, собранные в шиньон вверху на голове. Жемчужная нить, точно диадема, дважды обвивала ее лоб. Жирные руки, с короткими пальцами, сверкали золотыми браслетами на запястьях, а пальцы обременены слишком узкими кольцами, по сторонам которых вздувалась кожа. Она сидела в готической позе, раздавленная своим бархатным колоколом и кружевной накидкой, как будто тяжелыми доспехами.
Маска наглой чувственности покрывала ее лицо, воспламененное и блестящее. И временами нечто чистое, меланхолическое, отсутствующее отражалось в ее взгляде. Все ее лицо тянулось к грудам пищи, нагроможденным на драгоценных мейсенских тарелках[188], к ароматному вину, сверкавшему в богемском хрустале, и выражение ненасытной жадности, чтобы не сказать яростного обжорства, дрожало в ее ноздрях, трепетало на пухлых губах, вычерчивало на ее щеках целую паутину мелких морщинок, которые от ее затрудненного дыхания то растягивались, то снова собирались вокруг носа и рта. Я испытывал к ней смесь отвращения и сострадания. Быть может, она была голодна? Мне хотелось прийти к ней на помощь, перегнуться через стол и пальцами положить ей в рот большой кусок гуся, накормить ее картошкой. Я боялся, что она в любую минуту может не выдержать голода, осесть в своем зеленом колоколе, уронить голову в свою тарелку, полную жирной пищи, и я не отрывал глаз от ее возбужденного лица, грудей, раздувшихся и сжатых под тяжелыми бархатными доспехами. Но что меня всякий раз останавливало от того, чтобы спасти ее, был ее взгляд, отсутствующий и чистый, девственный свет, ясный и прозрачный, светившийся в ее влажных глазах.
Продолжая есть и жадно пить, остальные сотрапезники точно так же не отрывали глаз от лица королевы. Они покрывали ее светящимися взглядами, как бы тоже боясь, что она уступит голоду и упадет, сначала головой в тарелку, полную кусками жирного гуся и жареными картофелинами. Время от времени они смотрели на нее, раскрыв рты, с видом восторженным и опасающимся, подняв свои стаканы и оперев концы своих вилок на нижнюю губу. Даже сам король следил внимательным взором за малейшими движениями королевы, готовый предупредить любое ее желание, угадать каждое ее движение, наиболее интимное, уловить на ее лице выражение самое мимолетное.
Но королева сидела неподвижная, безучастная, бросая время от времени на сотрапезников взгляд чистый и рассеянный; чаще всего — на краковского губернатора, молодого Вехтера, худощавого, элегантного, с невинным лицом, руками белыми, которых не замарала даже кровь Дольфуса; или на лицо аббата Эмиля Гасснера, также венца, с улыбкой иронической и лживой, с уклончивым взглядом, который опускал глаза с видом застенчивым и как бы испуганным, всякий раз, как только на нем останавливался девственный взор королевы. Но чаще всего — на председателе Национал-социалистической немецкой партии Польского генерал-губернаторства атлетическом Стале, с его холодным и резким лицом готического построения, со лбом, увенчанным невидимыми дубовыми листьями, вся фигура которого изображала устремление к бесстрастной статуе из плоти этой королевы, затянутой в футляре своих тяжких доспехов из зеленого бархата, сжимающей в своей жирной руке хрупкую хрустальную чашу и внимающей с отсутствующим видом, видимо поглощенной своей тайной думой, высокой и чистой.
Время от времени, отрываясь от созерцания королевы, я переводил свой взгляд на сотрапезников, задерживаясь на улыбающемся лице фрау Вехтер, на белых руках фрау Гасснер, на розовом и потеющем лбе начальника Протокола Генерал-губернаторства Кейте, который рассказывал об охоте на кабана в люблинских лесах, о сворах злобных собак из Волыни и облавах в лесах Радзивилова[189]. Я смотрел на статс-секретарей Беппля и Бюлера, туго затянутых в своей униформе из серого сукна, с красными повязками со свастикой на рукаве, которые, с раскрасневшимися щеками, каплями пота, сбегающими с висков, и блестящими глазами, время от времени отвечали почти криком: «Йа, йа» на каждый «нихьт вар!» короля. Я пристально смотрел также на барона Вользеггера, старого тирольского джентльмена, с волосами, сверкающими белизной, с бородкой мушкетера и светлыми глазами на покрасневшем лице, спрашивая себя, где мне уже приходилось видеть это лицо, любезное и нелюдимое. Перебирая в памяти год за годом, город за городом, я припомнил Донауешинген в Вюртемберге[190] и парк дворца князей Фюрстенберг[191], где в мраморном водоеме, окруженном статуями Дианы и ее нимф, бьет исток Дуная. Я наклонился над колыбелью юной реки, которая, трепеща, заполняет водоем, потом стучал в дверь дворца, пересекал большую приемную, поднимался по большой мраморной лестнице, входил в огромную залу, на стенах которой висели холсты «Страстей» Гольбейна[192], и здесь, на светлой стене, видел портрет Валленштейна — кондотьера[193]. Я улыбнулся этому далекому воспоминанию, я улыбнулся барону Вользеггеру. Потом, случайно, мой взгляд остановился на человеке Гиммлера[194].
Мне показалось в эту минуту, что я вижу его впервые, и я задрожал. Он тоже смотрел на меня, и наши глаза встретились. Этот человек, с именем запретным, именем непроизносимым, трудно определимого возраста (должно быть ему было не более сорока), с темными волосами, уже посеревшими на висках, с тонким носом и тонкими впалыми бледными губами, смотрел глазами необыкновенно светлыми… Это были, быть может, серые глаза, быть может, голубые, быть может, белые, сходные с глазами рыбы. Длинный рубец пересекал его левую щеку. Но что-то в нем меня вдруг взволновало: его уши, удивительно маленькие, бескровные, казавшиеся восковыми, с прозрачными мочками, прозрачностью своею напоминавшими воск и молоко. Амбруаз из сказки Апулея[195], пришел мне на память, тот Амбруаз, у которого, во время его бдения над мертвым, лемуры отъели уши, и он восстановил их себе посредством воска. В его лице было нечто вялое и обнаженное. Несмотря на то, что его череп был слеплен грубо и сильно, что кости лба казались плотными, твердыми и хорошо собранными, тем не менее казалось, что он уступит нажиму пальцев, словно череп новорожденного, можно бы сказать также череп ягненка. И в его узких щеках, удлиненном лице, уклончивом взгляде также было что-то от ягненка: что-то животное и детское одновременно. У него был белый и влажный лоб больного, и даже пот, который высыпал на этой коже, восковой и вялой, наводил на мысли о лихорадочной бессоннице, увлажняющей лбы туберкулезных больных, которые, лежа на спине, ожидают рассвета.
Человек Гиммлера молчал. Он смотрел на меня молча, и я не сразу заметил, что странная улыбка, застенчивая и очень нежная, украшала его губы, тонкие и бледные. Он смотрел на меня, улыбаясь. Сначала я думал, что он улыбается мне, что он в самом деле смотрит на меня, улыбаясь, но вдруг я заметил, что его глаза пусты, что он не слушает разговоров гостей, что он не слышит шума голосов и смеха, звяканья вилок и хрусталя, весь целиком унесенный в небо возвышенной и чистой жестокости (этой «страдающей жестокости», которая и есть подлинно немецкая жестокость), страха и одиночества. Ни тени грубости не было на этом лице. Нет. Но застенчивость, растерянность, чудесное трогательное одиночество. Левая бровь его была приподнята острым углом в направлении лба. Холодное презрение, жестокая гордость отвесно падали с этой приподнятой брови. Но тем, что собирало в единство все черты и все движения его лица, была именно эта страдающая жестокость, это чудесное и печальное одиночество.
Было мгновение, когда мне показалось, что нечто возникает в нем: что-то живое и человеческое, свет или цвет — взгляд, быть может, взгляд дитяти, рождающийся в глубине его пустых глаз. У меня было впечатление, что он медленно спускается, подобно ангелу, со своего возвышенного неба, далекого и бесконечно чистого. Он спускался, как паук, как ангел-паук, медленно, вдоль высокой белой стены, будто пленник, скользящий вниз по отвесной высокой стене своей тюрьмы.
Его бледное лицо постепенно обнаруживало как бы глубокое смирение. Он выходил из глубин своего одиночества, как рыба выходит из своей норы. Он плыл мне навстречу, решительно на меня глядя. Бессознательная симпатия начинала смешиваться во мне с чувством отвращения, внушаемым его оголенным лицом, его белым взглядом. Я стал наблюдать за ним с чем-то похожим на сожаление, находя болезненное удовольствие в этой смеси отвращения и симпатии, которую пробуждало во мне это жалкое чудовище.
Внезапно человек Гиммлера наклонился над столом и с застенчивой улыбкой заговорил: «Я тоже, — сказал он, понизив голос, — я тоже друг поляков. — И добавил по-французски: — Я их очень люблю».
Я был так смущен этими словами и необычным нежным и печальным голосом человека Гиммлера, что даже не заметил, как король, королева и все сотрапезники встали. На меня смотрели. Я поднялся, в свою очередь, и мы двинулись следом за королевой. Когда она стояла, она казалась более ожиревшей и имела вид доброй немецкой буржуазки. Зеленый цвет ее бархатного колокола казался более блеклым. Она медленно двигалась со снисходительным достоинством, на мгновение останавливаясь на пороге каждой из комнат как бы для того, чтобы просмаковать глазами холодное великолепие обстановки, тупоумное и наглое, выдержанное в стиле «третьего райха», наиболее чистый эталон которого находился в Государственной канцелярии в Берлине. Затем она переступала через порог, делала несколько шагов, снова останавливалась, поднимала руку и, указывая одним жестом на мебель, картины, ковры, светильники, статуи героев Брекера, бюсты фюрера, гобелены, украшенные готическими орлами и свастиками, говорила мне с грациозной улыбкой: «Шён, нихьт вар?[196]».
Вся огромная масса Вавеля, которую двадцатью годами ранее я видел царственно пустынной, была теперь загромождена — от подземелий до верха самой высокой из башен — мебелью, накраденной во дворцах польских магнатов, или плодами искусного вымогательства, практикуемого во Франции, в Бельгии и в Голландии многочисленными комиссиями, составленными из экспертов и антикваров Мюнхена, Берлина и Вены, которые следовали сквозь Европу по пятам за немецкими армиями. Резкий свет изливался с больших люстр, отражался стенами, обитыми блестящей кожей, портретами Гитлера[197], Геринга[198], Геббельса[199], Гиммлера и других вождей гитлеровской империи, рассеянными повсюду мраморными и бронзовыми бюстами (в коридорах, на лестничных площадках, в углах комнат, на мебели, на мраморных колонках или в нишах) и изображающими немецкого короля Польши в различных позах: то — вдохновленных декадентской эстетикой Бургхарта, Ницше[200] и Стефена Георге, то — героической эстетикой третьей симфонии Бетховена и марша Хорста Весселя[201], то — декоративной эстетикой гуманистов-антиквариев Флоренции и Мюнхена. Запах свежей живописи, новой кожи, недавно покрытого лаком дерева преобладал в спертом воздухе.
Наконец, мы вошли в большую залу, щедро обставленную мебелью «третьего райха», украшенную французскими коврами и кожаной одеждой. Это был рабочий кабинет Франка. Все пространство, заключенное между двумя высокими застекленными дверями, открывавшимися в наружную лоджию Вавеля (наружную лоджию, выходящую на великолепный двор, созданный архитекторами итальянского Ренессанса[202]), было занято огромным столом красного дерева, в котором отражалось пламя свечей, укрепленных в тяжелых канделябрах светлой бронзы. Этот огромный стол был пуст. «Вот здесь я размышляю о будущем Польши», — сказал Франк, раскинув руки. Я улыбнулся. Я думал о будущем Германии.
По знаку, поданному Франком, обе застекленные двери раскрылись, и мы вышли в лоджию. «Вот немецкий „Бург“[203]», — сказал Франк, указывая мне протянутой рукой на величественный массив Вавеля, который жестко вырисовывался среди ослепительного сверкающего снега. Вокруг древнего дворца польских королей лежал город, распростертый и укрытый своим снежным саваном, под небом, которое узкий серп месяца освещал бледными лучами. Синеватый туман поднимался над Вислой. Вдали на горизонте высились Татры, прозрачные и хрупкие. Лай собак эсэсовской охраны перед могилой Пилсудского[204] разрывал, время от времени, глубокое молчание ночи. Холод был столь жестоким, что мои глаза слезились. Я на мгновение закрыл их. «Можно подумать, что это сон, не правда ли?» — сказал мне Франк.
Когда мы возвратились в кабинет, фрау Бригитта Франк подошла ко мне и тихо сказала, фамильярно положив руку на мое плечо: «Идемте! Я хочу посвятить вас в одну тайну». Через маленькую дверь, открывшуюся в стене кабинета, мы прошли в маленькую комнату, со стенами, побеленными известью и совершенно голыми. Никакой мебели, ни одного ковра, ни одной картины, ни одной книги, ни одного цветка, — ничего, кроме великолепного Плейеля и деревянного табурета. Фрау Бригитта Франк подняла крышку над клавиатурой и, опершись коленом на табурет, притронулась к клавишам своими жирными пальцами.
— Прежде, чем принять важное решение, а также, когда он очень устанет или находится в состоянии депрессии, порой даже посреди важного совещания, — сказала фрау Бригитта Франк, — он приходит сюда, чтобы запереться в этой келье, садится за рояль и ищет отдыха и вдохновения у Шумана, Брамса, Шопена или Бетховена. Знаете ли, как я прозвала эту келью? Я называю ее орлиным гнездом!
Я склонился, не проронив ни звука.
— Это необыкновенный человек, нихьт вар? — продолжала она, не сводя с меня взора, полного горделивой напыщенности. — Это артист, душа чистая и тонкая; только такой артист, как он, может управлять Польшей.
— Да, великий артист, — сказал я. — И при помощи вот этого рояля он управляет польским народом.
— О! Вы так хорошо всё понимаете, — сказала фрау Бригитта Франк растроганным голосом.
Мы молча покинули «орлиное гнездо». Не знаю отчего, но меня долго не покидало чувство печали и тревоги. Мы все собрались в собственных апартаментах Франка и, с удобствами расположившись на глубоких венских диванах и широких креслах, обитых нежной оленьей кожей, принялись курить и рассуждать. Двое лакеев, в синих ливреях, с жесткими и короткими волосами, подстриженными на прусский манер, подавали кофе, пирожные и ликеры. Их шаги были приглушены пушистыми французскими коврами, полностью закрывавшими весь паркет. На маленьких лакированных венецианских столиках, зеленых и золотистых, стояли бутылки со старыми французскими коньяками лучших марок, ящики гаванских сигар, серебряные блюда, с засахаренными фруктами, и знаменитыми веделевскими шоколадными конфетами.
Было ли то следствием семейственной теплоты или сладостного потрескивания дров в камине, — беседа мало-помалу стала сердечной, почти интимной. И как это всегда случалось в Польше, когда немцы собирались вместе, они скоро начали говорить о поляках. Они говорили о них, как всегда, со злобным презрением, но странно смешанным с едва ли не патологическим чувством, чем-то вроде женского ощущения досады, сожаления, несбывшейся любви, желания и бессознательной ревности. Вот, когда мне вспомнилась милая старая Бишетт Радзивилл, стоящая под дождем среди руин варшавского вокзала, и старинная интонация, с которой она произносила своё: «Эти бедняги!»
— Польские рабочие, — говорил Франк — не лучшие в Европе, но зато и не самые худшие. Они умеют очень хорошо работать, когда захотят. Я думаю, что мы можем на них рассчитывать. В особенности на их дисциплину.
— Они обладают очень серьёзным недостатком, — сказал Вехтер, — их манерой примешивать патриотизм к техническим проблемам труда и производства.
— И не только к техническим проблемам, но и к проблемам моральным, — добавил барон Вользеггер.
— Современная техника, — ответил Вехтер, — не выносит вторжения посторонних элементов в проблемы труда и производства. А из всех посторонних элементов в проблемах производства патриотизм рабочих наиболее опасен.
— Да, конечно, — сказал Франк, — но патриотизм рабочих крайне отличается от патриотизма аристократов и буржуа.
— Родина рабочего — его машина, его завод, — произнес вполголоса человек Гиммлера.
— Это коммунистическая идея, — заявил Франк, — мне помнится, что это формулировка Ленина[205]. Но, в сущности, она справедлива. Польский рабочий — добрый патриот. Он любит свою родину. Но он знает, что лучший способ спасти свою родину — это работать на нас. Он знает, что если он не захочет работать на нас, — продолжал он, глядя на человека Гиммлера, — если он станет сопротивляться…
— Мы знаем много вещей, — сказал человек Гиммлера, но польский рабочий их не знает, или не хочет знать. Я и сам предпочел бы не знать их, — добавил он со скромной улыбкой.
— Если вы хотите выиграть войну, — заговорил я, — вы не можете разрушать родину рабочего. Вы не можете разрушать машины, заводы, индустрию. Это не только польская, это европейская проблема. И в других странах Европы, которые вами оккупированы, вы точно так же можете разрушить родину аристократов, родину буржуа, но только не родину рабочих. Мне думается, что в этом весь, или почти весь, смысл настоящей войны.
— Крестьяне, — сказал человек Гиммлера.
— Если понадобится, — подхватил Франк, — раздавим рабочих при посредстве крестьян.
— Вы проиграете войну, — бросил я.
— Герр Малапарте прав, — согласился человек Гиммлера, — мы проиграем войну. Надо, чтобы польские рабочие нас любили. Мы должны сделать так, чтобы польский народ любил нас. Говоря это, он смотрел на меня и улыбался. Сказав, он умолк и придвинулся к огню.
— Поляки кончат тем, что полюбят нас, — сказал Франк. — Это романтический народ. Новая форма грядущего польского романтизма будет заключаться в любви к немцам.
— Польский романтизм сейчас… — снова заговорил барон Вользеггер. — Есть венское изречение, которое, как нельзя более соответствует нашему положению в отношении к польскому народу: Их либе дихь, унд ду шлефсьт[206] — я люблю тебя, а ты — ты спишь.
— О! Да, — улыбнулась фрау Вехтер. — Я люблю тебя, а ты спишь. Очень забавно, не правда ли?
— Йа, зо амюзант![207] — ответила фрау Бригитта Франк.
— Польский народ, несомненно, кончит тем, что нас полюбит, — сказал Вехтер. — Но сейчас он спит.
— Я думаю, что он, скорее, притворяется спящим, — возразил Франк. — А в сущности, он считает достаточным предоставлять любить себя. О народах можно судить по их женщинам.
— Польки славятся своей красотой и изяществом, — сказала фрау Бригитта Франк. — Разве вы находите их такими красивыми?
— Я нахожу их замечательными, — ответил я. И не только благодаря их красоте и изяществу.
— А мне кажется, что они вовсе не так прекрасны, как говорят, — настаивала фрау Бригитта Франк. — Красота немецких женщин более сурова, более подлинна, более классична.
— Есть, однако, среди них такие, которые очень красивы и очень изящны, — не согласилась фрау Вехтер.
— В Вене, в былые времена, — сказал барон Вользеггер, — их считали даже более изящными, чем парижанок.
— Ах! Парижанки! — воскликнул Франк.
— Разве есть еще парижанки? — спросила фрау Вехтер, грациозно склоняя голову на плечо.
— Что до меня, то я нахожу, что изящество полек ужасающе провинциально и устарело, — сказала фрау Бригитта Франк. — И в этом вина не только войны. Германия тоже воюет два с половиной года, однако сегодня немецкие женщины самые изящные в Европе.
— Мне кажется, — добавила фрау Гасснер, что польские женщины моются не слишком часто.
— О, да! Они ужасно грязные, — подхватила фрау Бригитта Франк, встряхивая свой бархатный колокол, который распространил зеленый и длительный отзвук в комнате.
— Это не их вина, — заметил барон Вользеггер, — у них нет мыла.
— Очень скоро, — заявил Франк, — они не смогут больше ссылаться на этот предлог. В Германии изобретен способ изготовления мыла из сырья, которое ничего не стоит и повсюду встречается в изобилии. Я уже заказал большую партию, чтобы распределить между польскими дамами, чтобы они могли, наконец, мыться. Это мыло, изготовленное из экскрементов.
— Из экскрементов! — воскликнул я.
— Да, из человеческих экскрементов, разумеется.
— И это хорошее мыло?
— Отличное, — сказал Франк. — Я испробовал его для бритья и был в полном восторге.
— Оно хорошо мылится?
— Превосходно. С ним можно отлично бриться. Это мыло достойное короля.
— God, shave the King![208] — воскликнул я.
— Только… — добавил немецкий король Польши.
— Только… — повторил я, затаив дыхание.
— У него есть только один недостаток: запах и цвет остаются все теми же.
Громкий взрыв хохота встретил эти слова. Ах, зо! Ах, зо! Вундербар![209] — кричали они все. И я увидел слезу наслаждения, стекавшую по щеке фрау Бригитты Франк, ди дойче Кенигин фон Полен.[210]
V. ЗАПРЕТНЫЕ ГОРОДА
Я прибыл в Варшаву из Радома на автомобиле, проехав через всю огромную польскую равнину, погребенную под снегом. И когда я въезжал в Варшаву, мрачные предместья, разрушенные бомбардировкой, Маршалковская, прикрытая с флангов скелетами зданий, почерневших от пожаров, руины вокзала, выпотрошенные черные дома, которым мертвенно-бледный вечерний свет придавал еще более страшный вид, — казались приятным отдохновением для моих глаз, ослепленных сверканием снегов.
Улицы были пустынны. Редкие прохожие тотчас же скрывались, прижимаясь к стенам; немецкие патрули, с автоматами наготове, стояли на перекрестках. Саксонская площадь показалась мне огромной и призрачной. Я поднял глаза на первый этаж отеля «Европейский», отыскивая окно помещения, которое я занимал в течение двух лет в 1919 и 1920 годах, будучи молодым атташе итальянской дипломатической миссии. Окно было освещено. Я остановился во дворе дворца Брюль, пересек холл и ступил на парадную лестницу. Немецкий губернатор Варшавы Фишер пригласил меня в этот вечер к обеду, который он давал в честь генерал-губернатора Франка, фрау Бригитты Франк и нескольких ответственных сотрудников генерал-губернаторства. В прошлом — резиденция Министерства иностранных дел Польской республики, а теперь — немецкого губернатора Варшавы, дворец Брюль, поднимался неповрежденный, в двух шагах от развалин «Английского отеля», в котором останавливался, проезжая через Варшаву, Наполеон. Одна только бомба попала во дворец Брюль, обрушив плафон над парадной лестницей и внутренней лоджией, ведущей в роскошные личные апартаменты бывшего министра иностранных дел Республики полковника Бека, теперь занятые Фишером. Я ступил на первый марш парадной лестницы и, поднимаясь вверх, поднял глаза.
На самом верху, замыкая с обеих сторон два ряда тоненьких колонн из белого штюка[211], совсем гладких, без баз[212] и капителей[213], в стиле модернистского классицизма, грубого и скудного, я увидел, как постепенно возникали резко освещенные, словно огнями рампы — снизу вверх, две массивные статуи из человеческой плоти, угрожающе наклонявшиеся надо мной, в то время, как я медленно поднимался по ступеням из розового мрамора. Одетая в золотую парчу, со складками жесткими и глубокими, словно желоба каннелюр[214] на пилястрах[215], с лбом, удлиненным высоким сооружением из белокуро-медных волос, странно причесанных и наводивших на мысль о коринфской капители, причудливо водруженной на дорическую колонну[216], — торжественно вздымалась фрау Фишер. Из-под ее платья виднелись две огромные ступни и две округлые ноги с мясистыми икрами, которым шелк чулок, серый и блестящий, придавал стальной оттенок. Ее руки не висели, но были твердо вытянуты вдоль бедер и как будто даже растянуты каким-то тяжелым грузом. Надменная импозантная масса губернатора Фишера высилась рядом: жирный, геркулесовского сложения, он был затянут в узком вечернем костюме берлинского покроя, с чересчур короткими рукавами; маленькая круглая голова, лицо розовое и пухлое, глаза навыкате, с красными веками. Время от времени (быть может, это было привычкой, продиктованной застенчивостью) он прилежно и медленно облизывал свои губы. Ноги его были раздвинуты, руки висели немного отстраненные от туловища, и большие сжатые кулаки напоминали статую боксера. Благодаря перспективе, эти два массивных силуэта, по мере того, как я медленно поднимался вверх по лестнице, казалось, откидывались назад, как две статуи на фотографии, снятые снизу вверх, и их руки, как это получается на такой фотографии, их ступни, их ноги казались мне чудовищными и непропорциональными остальному телу, странно раздутыми и уродливыми. С каждым новым маршем, на который я поднимался, во мне возрастало чувство смутного страха, что я ощущаю каждый раз, сидя в театре, в первом ряду кресел, когда певец приближается к рампе и нависает надо мной, широко открыв рот и вытянув руку, чтобы запеть свою арию. И в этот самый миг две массивные статуи из человеческой плоти, одновременно вытянули правые руки и обе вместе сильными голосами возгласили: «Хайль Гитлер!»
В тот же миг губернатор и фрау Фишер растаяли на моих глазах в холодном голубом свете ламп, и на их месте возникли две удлиненные, тонкие тени госпожи Бек и полковника Бека. Госпожа Бек улыбалась и протягивала ко мне руку, слегка наклоняясь вперед, как бы затем, чтобы помочь мне преодолеть последние ступени подъема, а полковник Бек, худощавый и стройный, с маленькой птичьей головкой, склонялся, с суховатым английским изяществом, едва заметно сгибая левое колено. Они выглядели, как два поблекших образа, далеко ушедших в прошлое, тогда как были датированы не далее, чем вчерашним днем. Они передвигались со значительностью призраков в глубине руин Варшавы, среди которых истощенная толпа, мертвенно-бледная от тревоги и ярости, медленно дефилировала, поднимая руки и что-то выкрикивая. Госпожа Бек, казалось, не замечала этой толпы, проходившей позади нее, и улыбалась, протягивая мне руку. Но полковник Бек, с лицом, объятым страхом и бледным, время от времени тревожно озирался, поворачивая птичью головку на своей хрупкой шее. Голубоватый свет ламп отражался в его гладком черепе, в его выступающем носе. Он, словно для того, чтобы оттеснить эту декорацию к руинам Варшавы, прислонялся спиной, прикрывая улицы, кишащие несчастными людьми, одетыми в лохмотья и непромокаемые плащи, изорванные и изношенные, людьми, с головами не покрытыми вовсе или увенчанными старыми шляпами, обесцвеченными дождями и морозами. Шел снег, и время от времени среди тысяч угасших взглядов толпы, медленно продвигавшейся по тротуарам, в чьем-то живом взоре, среди тысяч угасших взоров, вспыхивал огонь ненависти и отчаяния, следивший за немецким солдатом, пересекавшим улицу в своих подкованных железом сапогах. Перед «Бристолем» и «Европейской», перед кинотеатрами Нового Свята и церковью святого Андрея, где в урне хранится сердце Шопена, перед кучами мусора, оставшимися от Маршалковской и Краковского предместья, перед разбитыми витринами Веделя и Фукса группы женщин оборачивались, обмениваясь усталыми взглядами, движениями головы, выражавшими безнадежность, и ватаги ребят, забавлявшихся скольжением по льду, останавливались, глазея, на появления и исчезновения немецких солдат и офицеров во дворе дворца Потоцких[217], где помещалась Комендатура. Вокруг больших костров, зажженных посреди площадей, молчаливые толпы мужчин и женщин, присев на корточки под падающим снегом, протягивали руки к огню. Все обернулись, глядя на две бледные тени, с изяществом движущиеся вверх по мраморной лестнице дворца Брюль, и время от времени кто-нибудь поднимал вверх руки и кричал. Группы людей проходили в ручных кандалах, эскортируемые эсэсовцами, и все они поворачивали головы к госпоже Бек, которая, улыбаясь, протягивала мне руку, к полковнику Беку, который тревожно покачивал маленькой птичьей головкой на своей хрупкой шее, опираясь спиной, как бы затем, чтобы оттеснить к угрюмому фону варшавских руин этот пейзаж, серый и грязноватый, который был словно стена со штукатуркой, запятнанной там и здесь кровавыми пятнами и пробитой пулевыми отверстиями в результате деятельности отрядов, производивших расстрелы.
За столом губернатора Фишера, в апартаментах полковника Бека, я нашел снова, не считая генерал-губернатора Франка и фрау Бригитты Франк, почти весь двор краковского Вавеля: фрау Вехтер, Кейта, Эмиля Гасснера, барона Вользеггера и человека Гиммлера; самое большее, если я мог насчитать среди них, — трех или четырех сотрудников Фишера.
— Ну вот мы и снова собрались все вместе, — сказал Франк, поворачиваясь ко мне с сердечной улыбкой. И он добавил, повторяя знаменитые слова Лютера[218]: «Хир штейе их, их канн нихьт андерс…».[219]
— Абер их канн штетьс андерс, Готт хельфе мир![220] — ответил я.
Мои слова были встречены громким раскатом смеха. Фрау Фишер, испуганная таким «открытием застольной беседы», как говорил Франк, на своем напыщенном лексиконе, применявшемся им при начале банкетов, совершенно не обычном для нее, улыбнулась мне, раскрыла рот, сделала усилие над собой, чтобы заговорить, покраснела, затем окинула собравшихся блуждающим взором и сказала: «Гутен аппетит![221]»
Фрау Фишер была молодой цветущей женщиной, сохранявшей выражение глуповатое и нежное. Судя по тому, как на нее смотрели мужчины, она была, вероятно, красивой женщиной, и если не принимать в расчет вульгарность ее, чувствительную лишь для глаз, не принадлежащих немцу, — женщина весьма утонченная. Ее волосы, гладкие и золотистые, с медным оттенком, выдавали настойчивость горячих щипцов, скрученные длинными буклями, перепутанными на лбу, подобно шевелюре Медузы[222]: эластичные и приподнятые змееныши, которые куафёрша[223], чтобы они «держались», укрепила накладкой более темной по цвету, по сравнению с ними. Она боязливо улыбалась, опираясь на край стола, в неустойчивой позе, своими белыми пухлыми локтями, и довольствовалась тем, что отвечала сладострастным «йа» [224] на все обращаемые к ней слова. Фрау Бригитта Франк и фрау Вехтер, наблюдавшие за ней в начале обеда с иронической и недоброжелательной настойчивостью, перестали следить за ней глазами, обратив все свое внимание на блюда и разговор, которым генерал-губернатор Франк управлял с горделивым красноречием, по обычной своей привычке. Фрау Фишер слушала его молча и наблюдала за ним с восторженным выражением своих кукольных глаз. Она не очнулась от своего экстаза до появления жареного оленя. Губернатор Фишер рассказывал, что он сам застрелил этого оленя пулей, попавшей между глаз, и фрау Фишер произнесла со вздохом: «Такова жизнь» — «Зо ист дас Лебен!»
Это был стол, как выразился Франк, посвященный Диане-охотнице[225]. И, сказав это, он улыбнулся Фрау Фишер, галантно склонившись в ее сторону. Сначала подавали фазанов, затем зайцев, и, наконец, этого оленя. И разговор, темой которого была вначале Диана, ее дикие приключения, охотничьи подвиги, воспетые Гомером и Виргилием[226], подвиги, изображенные художниками немецкого средневековья, подвиги, о которых слагали стихи поэты итальянского Возрождения, перешел на польскую охоту, запасы дичи во владениях польских магнатов, своры собак Волыни и превосходство по сравнению с ними немецких свор и свор венгерских. Затем, постепенно, как и всегда, беседа соскользнула на тему о Польше и поляках и, как всегда, кончила тем, что перешла к евреям.
Ни в одной, ни в другой части Европы немцы не казались мне настолько оголенными, настолько раздетыми, как в Польше. В процессе долгого моего знакомства с войной я отдал себе отчет, что немцы вовсе не испытывают страха перед сильным человеком, человеком вооруженным, который нападает на них смело и на равных началах. Немец боится существ безоружных, слабых, больных. Тема «страха», немецкой жестокости как следствия страха, стала основной темой всего моего познания. Тому, кто внимательно рассматривает эту тему с точки зрения современной и христианской, этот «страх» внушает жалость и отвращение; но никогда во мне не бывало еще столько жалости и отвращения, как сейчас в Польше, где передо мной представала во всей своей полноте болезненная и женственная природа этого чувства, свойственного немецкой природе. То, что толкает немца к жестокости, к актам наиболее холодно, наиболее методично, наиболее научно жестоким, — это боязнь угнетенных, безоружных, слабых, больных; боязнь старцев, женщин, детей, боязнь евреев. Даром, что он пытается скрыть этот мистический страх, он с фатальной неизбежностью влечется говорить на эти темы, и всегда в минуты наименее своевременные. За столом, в частной жизни, разгоряченный вином и обильной пищей, когда уверенность в самом себе, которую дает ему чувство сознания, что он не одинок, или когда неосознанная потребность доказать самому себе, что он не боится, заставляют немца раскрыться, утратить обычный контроль над собой и говорить о голоде, казнях, избиениях с патологическим удовлетворением, обнаруживающим не только злопамятство, ревность, обманутую любовь, ненависть, но также жалкую и удивительную ярость низости. Таинственное благородство угнетенных, больных, слабых людей, безоружных, стариков, женщин, детей немец замечает, чувствует, завидует ему и опасается его, быть может, больше, чем какой-либо другой человек в Европе. И он извлекает из всего этого мстительность. Есть нечто от желанного унижения в высокомерии и грубости немца, глубокая потребность в самопоношении, в его безжалостной жестокости, ярость низости в его мистическом «страхе».
Я слушал разговоры сотрапезников с жалостью и отвращением, которые я напрасно старался скрыть, когда Франк, заметив мое смущение и, быть может, затем, чтобы заставить меня разделить с ним его болезненное унижение, повернулся ко мне с иронической улыбкой и спросил: «Вы уже осмотрели гетто, мейн либер[227] Малапарте?»
Я отправился несколькими днями раньше в варшавское гетто. Я переступил границу «запретного города», окруженного высокой стеной красного кирпича, воздвигнутой немцами, чтобы запереть в гетто, словно в клетке, несчастных, одичавших и безоружных. На воротах, охраняемых отрядом эсэсовцев, вооруженных автоматами, было приклеено объявление, подписанное губернатором Фишером, угрожающее смертной казнью всякому еврею, который отважится выйти из гетто. С первых же шагов все было, как в «запретных городах» Кракова, Люблина, Ченстохова. Я был прикован к месту ледяным молчанием, царившим на улицах, битком набитых угрюмым населением, напуганным и одетым в лохмотья. Я пытался пройти через гетто совсем один и обойтись без эскорта агентов Гестапо, один из которых следовал за мной повсюду, словно тень, но требования губернатора Фишера были суровы, и на этот раз мне снова пришлось безропотно сносить общество черного охранника, высокого, белокурого молодого человека с постным лицом и взглядом ясным и холодным. Он был очень красив, с его лбом, высоким и чистым, на который стальная каска бросала темную таинственную тень. Он шел среди евреев, как Ангел бога Израиля.
Тишина была легкой и прозрачной, можно было бы сказать, что она парила в воздухе. Сквозь эту тишину отчетливо слышалось легкое похрустывание тысяч шагов по снегу, подобное зубовному скрежету. Заинтересованные моей формой итальянского офицера, люди поднимали своя бородатые лица и пристально смотрели на меня из-под полузакрытых век глазами, покрасневшими от холода, голода и лихорадочного жара; слезы сверкали на их ресницах и сползали в грязные бороды. Если мне случалось, пробираясь в толпе, задеть кого-либо, я извинялся, говоря: «проше пана», и тот, кого я задел, поднимал голову и смотрел на меня с видом ошеломленным и недоверчивым. Я улыбался и повторял: «проше пана», потому что знал, что моя вежливость была для них чем-то чудесным, что после двух с половиною лет тревоги и отталкивающего рабства это было для них впервые, что вражеский офицер (я не был немецким офицером, я был итальянский офицер, но недоставало еще, чтобы я был немецким офицером, нет, и того было совершенно достаточно) говорит вежливо «проше пана» бедному еврею из варшавского гетто.
Время от времени мне приходилось перешагивать через мертвеца; я шел среди толпы, не видя, куда ставлю свои ноги, и порой я спотыкался над трупом, вытянутым над тротуаром между ритуальными светильниками. Мертвецы лежали, брошенные под снегом, в ожидании, пока повозка «монатти» приедет за ними, но смертность была высокой, повозки немногочисленными, не хватало времени, чтобы увозить их всех, и трупы оставались здесь по несколько дней, вытянувшиеся под снегом между угасшими светильниками. Многие лежали в подъездах домов, в коридорах, на лестничных площадках, или на постелях в комнатах, окруженные бледными и молчаливыми лицами. Бороды их зачастую были покрыты снегом и грязью. Глаза некоторых были раскрыты и смотрели на проходившую мимо толпу, долго следя за ней своим белым взором. Они были несгибаемыми и твердыми; можно, было принять их за статуи из дерева. Мертвые евреи Шагала[228]. Бороды их казались синими на исхудавших лицах, бескровных от холода и смерти; синими синевой столь чистой, что она напоминала синеву известных морских водорослей; синевой столь таинственной, что она напоминала море — эту таинственную синеву моря в известные таинственные часы дня.
Молчание улиц запретного города, это ледяное молчание, сотрясаемое, словно дрожью, этим легким зубовным скрежетом, казалось мне до такой степени давящим, что иногда я начинал громко говорить сам с собой. Все оборачивались ко мне и смотрели на меня с глубоким удивлением, испуганными глазами. Тогда я присмотрелся к глазам этих людей. Почти все мужские лица заросли бородами; несколько побритых лиц, замеченных мною, были ужасны — так обнаженно виднелись на них голод и отчаяние. Лица юношей покрывал вьющийся пушок, рыжевший или черневший на восковой коже. Лица женщин и детей казались изготовленными из папье-маше. И на всех лицах лежали уже синеватые тени смерти. На этих лицах, цвета серой бумаги или белизны мела, глаза казались странными насекомыми, обшаривающими глубину орбит своими волосатыми лапками, чтобы высосать тот небольшой остаток света, который там еще сохранялся. При моем приближении эти отвратительные насекомые начинали тревожно двигаться и, на мгновение покинув свою добычу, показывались из глубины орбит, точно из логовищ, и испуганно за мной следили. Эти глаза обладали необычайной живостью; одни — воспаленные лихорадкой, другие — влажные и меланхолические. Некоторые из них сверкали зеленоватыми бликами, словно скарабеи[229]. Иные были красными, или черными, или белыми, иные — угасшими, непроницаемыми и как бы обесцвеченными тонкой вуалью катаракты. В глазах женщин была твердость отваги: они выдерживали мой взгляд с презрительной дерзостью, потом смотрели прямо в лицо черному охраннику меня сопровождавшему, и я замечал, как выражение страха и отвращения мгновенно омрачало их лица. Но глаза детей были ужасны, я не мог в них смотреть. Над этой черной толпой, одетой в долгополые черные кафтаны, с черными ермолками[230], прикрывавшими лбы, висело небо, словно состоявшее из напитанной влагой черной ваты.
На перекрестках стояли парами еврейские жандармы, со звездой Давида[231], нанесенной красными линиями на их желтых нарукавных повязках, неподвижные и безразличные, среди нескончаемого движения санок, влекомых тройками детей, маленьких детских колясок и тачек, нагруженных мебелью, тряпьем, металлическим ломом, всевозможными предметами жалкой торговли.
Группы людей собиралась время от времени на углах улиц, топчась подошвами на оледенелом снегу, хлопая друг друга по плечам ладонями, толкаясь вдесятером или вдвадцатиром, чтобы хоть немного согреться. Маленькие мрачные кафе на улице Налевской, на улице Прширинек, на улице Закроцимской были окружены молчаливо стоящими бородатыми старцами, которые прижимались один к другому то ли, чтобы согреться, то ли, чтобы придать друг другу смелости, как это делают в подобных случаях животные. Когда мы показались на пороге, те, кто находился возле дверей, испуганно отскочили назад. Послышалось несколько встревоженных вскриков, несколько стонов, потом снова наступила тишина, нарушаемая только звуком дыхания, эта тишина животных, безропотно ожидающих смерти. Все смотрели на сопровождавшего меня черного охранника. Никто не мог оторваться от этого лица Ангела, лица, которое все узнавали, которое все видели сотни раз, сверкающим среди олив близ врат Иерихона[232], Содома[233], Иерусалима[234]. Это лицо Ангела, возвещающего ярость Бога. И тогда я улыбался, я говорил «проше пана» тем, кого невольно задевал, входя; и я знал, что эти слова были чудесным даром. Я говорил, улыбаясь, «проше пана» и видел, как вокруг меня на этих лицах, словно из грязной бумаги, рождались жалкие ошеломленные улыбки удивления, радости, признательности. Я говорил «проше пана» и улыбался.
Отряды молодежи обходили улицы, подбирая мертвых. Они входили в подъезды, поднимались по лестницам, проникали в комнаты. Эти молодые «монатти» в большинстве своем были студентами. Многие из них прибыли из Берлина, Мюнхена и Вены, другие были депортированы из Бельгии, из Франции, из Голландии или из Румынии. Многие еще недавно были богатыми и счастливыми, обитали в отличных домах, выросли среди роскошной мебели, старинных картин, книг, музыкальных инструментов, драгоценного серебра и хрупких безделушек, теперь они, погибая, тащились по снегу, с ногами, опутанными лохмотьями, в изодранной в клочья одежде. Они говорили по-французски, по-цыгански, по-румынски или на нежном немецком Вены. Это были молодые интеллигенты, воспитанные в лучших университетах Европы. Они были оборваны, голодны; их пожирали паразиты; они были покрыты наболевшими следами ударов и оскорблений, страданий, вынесенных в концентрационных лагерях и во время их страшной одиссеи в Вене, Берлине, Мюнхене, Париже, Праге или Бухаресте, вплоть до варшавского гетто, но прекрасный свет озарял их лица; в их глазах светилась воля, юношеская воля к взаимопомощи, стремление облегчить остальным страшное несчастье их народа. И я говорил им, понизив голос, по-французски: «Придет день, вы будете свободны. Вы будете счастливы и свободны». Молодые «монатти» поднимали головы и рассматривали меня, улыбаясь. Потом они медленно поворачивали глаза к черному охраннику, сопровождавшему меня, как тень, и останавливали свой пристальный взгляд на Ангеле с прекрасным и жестоким лицом, Ангеле Священного писания, провозвестнике смерти, и склонялись над телами, распростертыми на тротуарах, сближая свою счастливую улыбку с синими лицами мертвецов.
Они поднимали этих мертвых осторожно, как если бы поднимали деревянные статуи. Они опускали их на повозки, которые везли команды изможденных и оборванных молодых людей, и на снегу, сохранившем отпечатки трупов, оставались также эти желтые пятна, пугающие и таинственные, которые оставляют мертвые повсюду, к чему бы они ни прикасались. Своры костлявых собак приходили, втягивая воздух, и сопровождали сзади траурные процессии и группы оборванных детей, с лицами, хранящими следы голода, бессонницы и страха, собирали в снегу тряпки, клочья бумаги, пустые горшки, кожуру картофеля, — все эти драгоценные обломки, которые несчастье, голод и смерть всегда оставляют на своем пути.
Я слышал порой, как изнутри домов доносилось слабое пение, монотонные жалобы, которые обрывались тотчас же, как только я показывался на пороге. Непередаваемый запах грязи, мокрой одежды, мертвых тел отравлял воздух мрачных комнат, где толпились и жили, сгрудившись, как пленники, старцы, женщины и дети; одни — сидя на полу, другие — стоя, прислонившись к стенам, некоторые — вытянувшись на кучах соломы и бумаги. Больные, умирающие, мертвые были вытянуты на постелях. Все сразу смолкали, глядя на меня и на Ангела, следовавшего за мной. Некоторые продолжали жевать в тишине свой жалкий кусок. Другие — это были молодые люди с лицами исхудалыми и белыми, глазами, увеличенными стеклами их очков — стояли группами у окон и читали. Таков был еще один способ обманывать унизительное ожидание смерти. Порой, при нашем появлении, кто-нибудь поднимался с пола, отделялся от стены или от группы своих сотоварищей, чтобы медленно двинуться нам навстречу, вполголоса говоря по-немецки: «Идемте!»
В гетто Ченстохова также несколькими днями ранее, когда я показался на пороге одного дома, молодой человек, сидевший на полу у окна, встал и приблизился, с таинственно счастливым выражением на лице. Проживший до этого дня в тревожном ожидании, он думал, что, наконец, пришло время, и встречал этот миг, еще недавно ужасавший, как миг освобождения. Все смотрели на него молча; ни одного слова не сорвалось с их губ, ни одной жалобы, ни одного крика, даже когда я слегка оттолкнул рукой молодого человека, улыбаясь, и сказал ему, что я пришел не за этим, что я не агент Гестапо, что я даже не немец. Я улыбался ему и в то же время слегка его отталкивал, но видел, как постепенно на его лице возникало выражение разочарования; на него возвращалась та тревога, которую мой приход заставил исчезнуть на несколько мгновений. Равно и в Кракове, когда я однажды побывал в гетто и поднялся на порог одного дома, тощий молодой человек, с влажным лицом, весь закутанный в шаль отталкивающе грязную, до того читавший в углу комнаты, поднялся при моем появлении. Так как я спросил его, что за книгу он читает, он показал мне обложку; это был томик писем Энгельса. Тем временем он заканчивал свои приготовления к уходу: зашнуровал свои ботинки, заправил в них изношенные тряпицы, служившие ему носками, и искал рукой воротник своей рубашки, истрепанной в лохмотья под лацканом своего пиджака. Он кашлял и прикрывал при этом рот своей жалкой рукой. Обернувшись, он сделал приветственный знак людям, находившимся в комнате, которые все пристально на него смотрели в полном молчании. Он был уже на пороге, когда внезапно сделал полный оборот, снял свою шаль и заботливо уложил ее на плечи старушки, сидевшей на убогом ложе; после этого он присоединился ко мне на площадке. Он не хотел верить, когда я сказал ему, улыбаясь, чтобы он возвратился обратно. Когда я вспоминал позже о том, что он, прежде чем выйти, освободился от своей шали, мне пришли на память два еврея, совершенно голых, которых я встретил в гетто однажды утром; они шли между двух эсэсовцев. Один из них был бородатый старик, другой — еще ребенок (ему могло быть самое большее шестнадцать лет). Когда я рассказал об этой встрече губернатору Кракова Вехтеру, тот мило ответил мне, что когда Гестапо приходит за ними, многие евреи раздеваются и оставляют свою одежду родным и друзьям, потому что эта одежда больше им не понадобится. Они шли, голые, под снегом, в это леденящее зимнее утро, терпя холод, режущий как бритвенное лезвие — было тридцать пять градусов ниже нуля.
Тогда я обернулся к Черному Ангелу и сказал ему: «Идемте!» Я следовал по тротуару, бок о бок с черным охранником, с его прекрасным лицом, взглядом светлым и жестоким, и лбом, сжатым стальной каской; мне казалось, что я иду рядом с Ангелом Израиля, и ежеминутно ожидал, что он остановится и скажет: «Мы пришли». Я думал об Иакове[235], о его борьбе с Ангелом[236]. Дул ледяной ветер, цвет которого напоминал цвет лица мертвого ребёнка. Уже опускался вечер; день умирал вдоль стен, подобный больной собаке.
В то время, как мы спускались по Налевской улице, чтобы покинуть запретный город, на углу одной улицы мы наткнулись на маленькое молчаливое сборище. Среди толпы, в молчании, дрались две молодые девушки, вырывая друг у друга волосы и царапая лица. При нашем внезапном приближении толпа рассеялась, и обе девицы оставили друг друга в покое. Одна из них подобрала что-то с земли (это была сырая картофелина) и ушла, вытирая обратной стороной руки кровь, испачкавшую ее лицо. Другая смотрела на нее, не двигаясь, приводя в порядок свои волосы и поправляя кое-как свою измятую и изорванную одежду. Это была бедная девушка, бледная и худенькая, впалогрудая, с глазами, полными голода, целомудрия и стыдливости. И… вдруг… она мне улыбнулась.
Я покраснел. У меня не было ничего, чтобы ей дать. Я хотел бы помочь ей, что-нибудь ей подарить, но в моем кармане было только немного мелочи, но от одной лишь мысли предложить ей деньги мне становилось стыдно. Я не знал, что делать, я оставался стоять перед ее улыбкой, не зная ни что мне делать, ни что сказать. Наконец, я сделал над собой усилие и протянул руку, чтобы дать ей несколько бумажек по десять злотых, но девушка побледнела, остановила мою руку, сказала мне, улыбаясь: «Дзенькую бардзо» (спасибо), и, медленно отталкивая мою руку, с улыбкой посмотрела мне в глаза, потом круто повернулась и ушла, поправляя свои волосы.
В это время я вспомнил, что у меня в кармане была сигара, прекрасная гаванская сигара, которую дал мне вице-губернатор Радома доктор Эген. Тогда я побежал за ней, догнал ее и дал ей сигару. Девушка посмотрела на меня, видимо колеблясь, покраснела и взяла сигару, но я понял, что она приняла ее лишь затем, чтобы доставить мне удовольствие. Она ничего не сказала, она даже не поблагодарила меня; она удалилась медленно, не оборачиваясь, со своей сигарой в руке. Время от времени она подносила эту сигару к лицу, чтобы понюхать ее, как будто я дал ей цветок.
— Вы уже осмотрели гетто, мейн либер Малапарте? — спросил меня Франк с иронической улыбкой.
— Да, — холодно ответил я.
— Очень интересно, нихьт вар!
— О, да, очень интересно, — ответил я.
— Я не люблю ходить в гетто, — сказала фрау Вехтер. — Это очень печально.
— Очень печально? Почему? — спросил губернатор Франк.
— Зо шмутзихь (так грязно), — сказала фрау Бригитта Франк.
— Йа, зо шмутзихь, — повторила фрау Фишер.
— Варшавское гетто, вероятно, — лучшее во всей Польше. Лучше всех организованное, — заметил Франк. — Настоящий образец. Для таких вещей у губернатора Фишера счастливая рука.
Губернатор Варшавы покраснел от удовольствия: — Жаль, — сказал он скромно, — что у меня не было немного больше места. Если бы иметь достаточно места, я, быть может, смог бы все устроить гораздо лучше.
— Ах, да, обидно! — посочувствовал я.
— Подумайте только, — продолжал Фишер, — что на том же самом пространстве, где триста тысяч людей жили перед войной, теперь более полутора миллиона евреев. Это не моя вина, если там немного тесно.
— Евреи любят жить в тесноте! — заявил Эмиль Гасснер, смеясь.
— С другой стороны, — сказал Франк, — мы не можем заставлять их жить иначе.
— Это бы противоречило правам человека, — заметил я, улыбаясь.
Франк смотрел на меня с ироническим выражением.
— И все же, — сказал он, — евреи жалуются. Они обвиняют нас в том, что мы не уважаем их свободную волю.
— Я надеюсь, вы не принимаете их протестов всерьез, — сказал я.
— Вы ошибаетесь, — ответил Франк, — мы делаем все для того, чтобы они не протестовали.
— Йа, натюрлихь, — сказал Фишер.
— Что же касается грязи, — продолжал Франк, — то это неопровержимо, что они живут в плачевных условиях. Немец никогда не согласился бы жить в таких. Даже в шутку. И он повторил, смеясь, довольно громко: «Даже в шутку!»
— Это была бы, — отметил я, — забавная шутка.
— Немец не был бы способен жить в таких условиях, — сказал Вехтер.
— Немецкий народ — цивилизованный народ, — заявил я.
— Йа, натюрлихь, — закивал Вехтер.
— Следует признать, что вина лежит не полностью на одних евреях, — сказал Франк. — Пространство, в котором они заключены, это, скорее, убежище для народонаселения столь многочисленного. Но евреи, в сущности, любят жить в грязи. Грязь — это их естественная приправа. Быть может оттого, что они все больны, а больные за неимением лучшего стремятся укрываться в грязи. Печально, но надо признать, что они мрут, как крысы.
— Мне кажется, они не придают большой цены этой чести — жить. Я хочу сказать чести жить, как крысы.
— Когда я говорю, что они мрут, как крысы, я ни в малой мере не собираюсь их критиковать, — сказал Франк. — Это простая констатация.
— Не надо забывать, что, принимая во внимание те условия, в которых они живут, очень трудно помешать евреям умирать, — произнес Эмиль Гасснер.
— Было предпринято очень многое, чтобы уменьшить смертность в гетто, — заметил барон Вользеггер осторожно. Но…
— В краковском гетто, — сказал Вехтер, — я распорядился, чтобы семья умершего оплачивала расходы по его погребению. И я достиг хороших результатов.
— Я уверен, — сказал я с иронией, — что смертность стала день ото дня уменьшаться.
— Вы угадали: она уменьшилась! — ответил Вехтер, смеясь.
Все принялись смеяться, глядя на меня.
— С ними следовало бы обращаться, как с крысами, — сказал я, — отравлять их, как крыс. Это было бы более быстро.
— Нет нужды их отравлять, — сказал Фишер, — они сами по себе мрут с невероятной скоростью. За последний месяц в одном только варшавское гетто умерло сорок две тысячи.
— Это удовлетворительный процент, — заметил я; если они будут продолжать, через два года гетто станет пустым.
— Когда дело идет о евреях, никогда нельзя верно рассчитать, — сказал Франк, — на практике все предсказания наших экспертов оказались ошибочными. Чем больше их умирает, тем больше их оказывается.
— Евреи упрямо производят на свет детей, — ответил я. — В этом виноваты исключительно дети.
— Ах, ди Киндер[237], — уронила фрау Бригитта Франк.
— Йа, зо шмутцигь, — сказала фрау Фишер.
— А, так вы обратили внимание на детей в гетто? — спросил меня Франк. — Они ужасны, нихьт вар? Зо шмутзиг! И все они больны, покрыты струпьями, их пожирают паразиты. Если бы они не возбуждали жалость, то вызывали бы отвращение. Можно подумать, что это скелеты. Детская смертность очень заметно поднялась во всех гетто. Какова детская смертность в варшавском гетто? — спросил он, оборачиваясь к губернатору Фишеру.
— Пятьдесят четыре из ста, — ответил Фишер.
— Евреи принадлежат к больной расе, полностью дегенерирующей, — заявил Франк. Они не умеют воспитывать и ухаживать за детьми, как это делают в Германии.
— Германия, — сказал я, — страна высокой Kultur!
— Йа, натюрлихь, что касается детской гигиены, то Германия на первом месте в мире, — ответил Франк. — Заметили вы, какая огромная разница существует между маленькими немецкими детьми и маленькими еврейскими детьми?
— Маленькие дети в гетто — это не дети, — ответил я.
(Маленькие еврейские дети больше не дети, — так думал я, пробегая по гетто Варшавы, Кракова, Ченстохова. Немецкие дети — чистые дети. Еврейские дети — шмутцигь. Немецкие дети хорошо накормлены, хорошо обуты, хорошо одеты. Еврейские дети голодны, полураздеты и ходят разутые по снегу. У немецких детей есть зубы. У еврейских детей нет зубов. Немецкие дети живут в чистых домах, в натопленных комнатах; они спят в маленьких белых кроватках. Еврейские дети живут в домах отвратительных, в холодных комнатах, полных людьми и спят на кучах бумаги и тряпья, рядом с постелями, на которых лежат мертвецы или агонизирующие. Немецкие дети играют: у них есть куклы, резиновые мячики, деревянные лошадки, свинцовые солдатики, духовые ружья, ящики «Меккано», волчки, — все, что нужно ребенку для игр. Еврейские дети не играют: у них нет ничего для игр, у них нет игрушек. И, кроме того, они не умеют играть! Нет, дети гетто не умеют играть. Это, действительно, вырождающиеся дети. Как отвратительно! Их единственное развлечение — следовать за погребальными повозками, нагруженными трупами (они не умеют даже плакать) или идти смотреть, как расстреливают их родителей и их братьев у крепостной стены. Это их единственное развлечение — смотреть, как расстреливают их матерей. Действительно, настоящее развлечение для еврейских детей!)
— Это на самом деле нелегкая задача для наших технических служб — заботиться о всех этих мертвецах, — сказал Франк. — Надо бы иметь, по меньшей мере, две сотни автомобилей, тогда как мы располагаем всего несколькими десятками ручных тележек. Мы не знаем уже, где их хоронить далее. Это серьезная проблема.
— Я надеюсь, вы их зарываете, — сказал я.
— Конечно! Не думаете ли вы, что мы их скармливаем их родителям? — засмеялся Франк.
Все кругом смеялись: «Ах, зо, ах зо, ах, зо, йа, йа, йа, ах, зо, вундербар!» Разумеется, я тоже начал смеяться. Это была такая забавная мысль, моя мысль, что можно было бы их и не зарывать! Слезы выступили у меня на глазах (от смеха) при мысли об этой смешной идее, пришедшей в голову. Фрау Бригитта Франк сжимала грудь обеими руками и, запрокинув голову, широко открыла рот: «Ах, зо, ах, зо вундербар!»
— Йа, зо амюзант! — сказала фрау Фишер.
Обед приближался к концу. Наступило время ритуальной церемонии, которую немецкие охотники называют «почесть ножу». «Кортеж Орфея», как выражался Франк, цитируя Аполлинера, завершался молодым оленем из лесов Радзивилова, которого два лакея, в синей ливрее, внесли на заостренной жерди, соответственно традициям древней псовой охоты в Польше. Появление оленя на вертеле, с водруженным в его боку красным гитлеровским флагом с черной свастикой, на мгновение отвлекло сотрапезников от темы гетто и евреев. Стоя в торжественных позах, все сотрапезники приветствовали фрау Фишер, которая, с лицом, раскрасневшимся от волнения, улыбаясь и скромно кланяясь, предложила «почесть ножа» фрау Бригитте Франк. Грациозно наклонившись, чтобы получить из рук фрау Фишер охотничий нож, с ручкой из оленьего рога, широкое лезвие которого было заключено в серебряных ножнах, фрау Бригитта Франк повернула голову направо и налево, посвящая жертву своим гостям и приглашенным, и приступила к церемонии, вынув из ножен нож и погрузив лезвие в олений бок.
Медленно, с привычной ловкостью и терпением, с изяществом, вызывавшим у сотрапезников восклицания удивления и аплодисменты, фрау Бригитта Франк отрезала филей и грудинку оленя ломтями, толстыми и широкими, нежного розоватого мяса, прожаренного до самых глубин на большом огне. Эти ломти она сама при помощи Кейта, предлагала сотрапезникам после выбора продуманного и каждый раз отмечаемого движением головы, взглядом, гримаской или другими грациозными знаками, выражавшими колебание и нерешительность. Первым обслужили меня, в силу моих достоинств, или, скорее, как выразился Франк, моей «добродетели» иностранца. Вторым, к моему глубокому изумлению, был Франк, собственной персоной, и последним, к моему изумлению еще большему, был не Фишер, но Эмиль Гасснер. Конец церемонии был отмечен всеобщими аплодисментами. Бригитта Франк ответила на них поклоном, которому я, с приятным удивлением, не мог отказать в грациозности. Нож остался погруженным в бок оленя рядом с маленьким красным флагом с черной свастикой; вид этих ножа и флажка, воткнутых в спину благородного животного, вызвал во мне приступ легкого недомогания, смешанного с отвращением от реплик сотрапезников, возвратившихся к вопросу о евреях и гетто.
Поливая с ложки свой кусок оленя золотистым соком, губернатор Франк рассказывал о том, как хоронят евреев в гетто: «Слой трупов, затем слой извести, — говорил он, — слой трупов, затем слой извести, — как если бы он говорил: „Ломоть жаркого, затем немного соку, ломоть жаркого, затем немного соку“».
— Это способ наиболее гигиеничный, — заметил Вехтер.
— Что касается гигиены, — сказал Эмиль Гасснер, — то живые евреи более заразны, чем мертвые.
— Ихь гляубе ес![238]— воскликнул Фишер.
— О мертвых я не задумываюсь, — сказал Франк; мне приходится тревожиться о детях. К несчастью, мы не в состоянии сделать много, чтобы уменьшить детскую смертность в гетто, но я, тем не менее, хотел бы предпринять что-нибудь, чтобы облегчить страдания этих маленьких несчастных. Я хотел бы воспитать их, прививая им любовь к жизни; я хотел бы научить их ходить, улыбаясь, по улицам гетто.
— Улыбаясь? — спросил я. — Вы хотите научить их улыбаться, ходить, улыбаясь, в гетто? Еврейские дети никогда не научатся улыбаться, даже если вы станете дрессировать их ударами кнута. Они не научатся даже ходить, никогда. Разве вы не знаете, что еврейские дети не ходят? У еврейских детей есть крылья.
— Крылья? — воскликнул Франк.
Глубокое ошеломление отразилось на лицах присутствующих. Все смотрели на меня, молча, затаив дыхание.
— Крылья? — вскричал Франк. Неудержимый смех растягивал его рот. Он поднял обе руки и стал двигать ими над своей головой, как крыльями. — «Чип! чип!» — щебетал он голосом, полузадушенным от смеха. И все сотрапезники тоже подняли руки и стали вращать ими над своими головами, восклицая: «Ах, зо! Ах, зо! Чип! Чип! Чип!»
Наконец, обед окончился, и фрау Фишер поднялась, чтобы проводить нас в свою личную гостиную, туда, где еще недавно находился рабочий кабинет полковника Бека. Кресло, в котором я сидел, опиралось своей спинкой на колено белой мраморной статуи, изображавшей греческого атлета в, так называемом, мюнхенском стиле. Свет шандалов был спокойным, ковры — мягкими, огонь дубовых дров потрескивал в камине. Было жарко. В воздухе плавал аромат коньяка и табака. Кругом меня, прерываемые этим немецким смехом, которому я никогда не мог внимать, не ощущая легкого недомогания, звучали хрипловатые голоса.
Кейт смешивал в хрустальных бокалах красное бургундское вино и Вольни[239], теплый и плотный, с бледным шампанским Мумм. Это был тюркишблут[240] («турецкая кровь») — традиционный напиток немецких охотников после возвращения из лесов.
— Так значит, — продолжал разговор Франк, поворачиваясь ко мне с видом искренне огорченным, — значит, еврейские дети имеют крылья? Если вы расскажете об этом в Италии, все итальянцы вам поверят. Вот как рождаются легенды о евреях. Если послушать газеты — английские и американские, можно подумать, что немцы в Польше, не переставая, убивают евреев с утра и до вечера. Но вот вы в Польше уже более месяца, но вы не можете сказать, что вы видели немца, причиняющего хотя бы малейшее зло еврею. Погромы — такая же легенда, как и крылья у еврейских детей. Пейте спокойно, — добавил он, поднимая свой богемский бокал[241], полный тюркишблута, пейте без опаски, мейн либер Малапарте, это — не еврейская кровь. Прозит![242]
— Прозит! — ответил я, поднимая свой бокал, и я стал рассказывать хронику событий, происшедших в благородном городе Яссы[243] в Молдавии.
VI. КРЫСЫ В ЯССАХ
Я толкнул дверь и вошел. Дом был пуст. По всему было видно, что он оставлен внезапно. Занавески, сорванные с окон, в клочьях лежали там здесь в комнатах. Спальня была — большая комната, среди которой, под медной люстрой, стоял круглый стол, окруженный несколькими стульями. Из вспоротого матраса вырывались наружу гусиные перья; при первых же моих шагах в комнате облако белых перьев поднялось с пола и закружилось вокруг меня, приклеиваясь к моему потному лицу. Все ящики были выдвинуты и дверцы мебели открыты; одежда и бумаги устилали полы. Я повернул выключатель. К счастью, электричество действовало. Кухня была полна соломой и битой посудой. Котелки и сковороды были разбросаны на плите в полном беспорядке. Куча картофеля плесневела в углу. Воздух был заражен запахом грязи и испорченной пищи.
Конечно, это не был дворец. Но в Яссах, в Молдавии, в последних числах июня 1941 года (в первые дни войны, начатой Германией против Советской России), я не мог найти ничего лучшего, чем этот домик в глубине обширного сада, покинутый и находящийся как раз в начале Страды Лапушнеану, рядом с Жокей-клубом и кафе-рестораном Корсо. Это не был заброшенный сад; как я тотчас же заметил, это было старое православное кладбище Ясс.
Я широко раскрыл все окна и принялся за уборку. Я умирал от усталости и решил на этот вечер удовольствоваться тем, чтобы привести в порядок и подмести спальню. Ла дракю[244] (к дьяволу) все остальное, ла дракю войну, ла дракю Молдавию, ла дракю Яссы, ла дракю все дома в Яссах. Я расстелил на постели два своих одеяла, повесил на стену мой карабин Винчестер и Контакс, походный электрический фонарь и фотографию моей собаки, моего бедного Феба. Тем временем наступила ночь. Я зажег свет.
Два винтовочных выстрела прозвучали среди ночи. Пули пробили стекла в рамах и ушли в потолок.
Я погасил свет и подошел к окну. Патруль солдат остановился посреди кладбища — как раз перед домом; я не мог различить: немцы это или румыны. — Люмина![245]
— Люмина! — кричали они. Это были румыны[246]. — Ла дракю! (К дьяволу!) — крикнул я. Мне ответил еще один выстрел — пуля просвистела мимо моего уха. В Бухаресте также, несколькими днями ранее, с площади стреляли по моему окну во дворце Атенея. Полиция и солдаты имели приказ стрелять по всем окнам, откуда светилась хотя бы маленькая щелочка. — Ноапте буна! — крикнул я.
— Ноапте буна, — ответили солдаты, удаляясь.
В темноте, ощупью, я нашел патефон, который заметил на тумбочке, взял одну из кучи пластинок, не выбирая, среди брошенных в одном из ящиков, нащупал пальцами иглу, завел и поставил иглу на край диска. Это оказалась популярная песенка в исполнении Чивы Питцигоя. Голос Чивы запел во тьме хрипло и нежно:
Че — ай ин ту за, Мариоара, Че — ай ин гуза, Мариоара.Я бросился на постель и закрыл глаза, но через мгновение поднялся, пошел на кухню, налил ведро воды и поставил в него для охлаждения бутылку «цуики», привезенную мной из Бухареста. Я поставил ведро у постели, снова лег на распотрошенный матрас и закрыл глаза. Пластинка кончилась: теперь она вращалась вхолостую. Стальная игла тихонько поскрипывала. Я поднялся, завел патефон и снова поставил иглу на край диска. Голос Чивы Питцигоя возобновил во тьме свою песню, хрипловатый и нежный:
Че — ай ин гуза, Мариоара.Если бы я мог зажечь свет, я принялся бы читать. Я привез с собой книгу Гарольда Никольсона: «The Helen’s Tower»[247], найденную мной в Бухаресте у моего друга издателя — еврея Азафера, того, что перед Курентулом. Книгу, скорее, старую, издания 1937 года, которая рассказывает историю лорда Дюфферина, дядюшки Гарольда Никольсона[248]. Ла дракю Гарольда Никольсона и его дядюшку лорда Дюфферина, ла дракю всех на свете! Было жарко: это лето было удушающим. Гроза собиралась вот уже три дня над крышами города, словно созревшая опухоль. Чива Питцигоя пела своим хрипловатым голосом, полным нежного волнения.
…Внезапно пение прервалось, стальная иголка принялась тихонько скрежетать. Мне не хотелось больше подниматься с постели: ла дракю ла гуза де Мариоар, ноапте буна домниччиоара Чива. Так незаметно я уснул и принялся грезить.
Сначала я не замечал, что сплю, затем, внезапно и сразу, я отдал себе отчет, что это на самом деле сон. Быть может, я крепко заснул и начал видеть сон, затем внезапно проснулся и, как это бывает, когда слишком устанешь, и продолжал видеть свой сон наяву.
В какую-то минуту дверь отворилась, и Гарольд Никольсон вошел. Он был в сером костюме, в сорочке из голубого Оксфорда[249], оживленной ярким синим галстуком. Он вошел, бросил на стол свою шляпу Локк из серого фетра[250], сел на стул недалеко от моей постели, потом принялся пристально смотреть на меня, улыбаясь.
Комната понемногу изменила свой вид: вот она превратилась в улицу, затем в площадь, окруженную деревьями. Над крышами я узнал небо Парижа. Я узнал площадь Дофина, окна моего дома на площади Дофина. Я прошел у самой стены, так, чтобы меня не заметил продавец газет на Пон-Неф, повернул за угол на улицу Орлож и остановился у номера 39, перед моей дверью. Это была действительно дверь моего дома, дверь дома Даниэля Галеви. И я спросил у г-жи Мартиг, консьержки: «Что, господин Малапарте у себя?» Госпожа Мартиг долго, молча, смотрела на меня. Она меня не узнала, и я был благодарен ей за то, что она меня не узнает; мне было стыдно возвратиться в Париж в форме итальянского офицера, было стыдно видеть немцев на парижских улицах. Да и как могла бы она узнать меня после стольких лет? «Нет, месье Малапарте нет в Париже», — ответила мне госпожа Мартиг. «Я его друг», — сказал я. — «Нам о нем ничего неизвестно, — ответила госпожа Мартиг, — быть может, месье Малапарте еще в тюрьме, в Италии, может быть, на войне, где-нибудь в России, в Африке, в Финляндии, кто знает? Быть может, он убит или в плену, кто знает?» И я спросил, у себя ли месье и мадам Галеви. «Нет, их нет здесь, они только недавно уехали», — ответила госпожа Мартиг тихо. Тогда я стал подниматься по лестнице, затем обернулся, улыбаясь, к госпоже Мартиг — быть может теперь она меня узнала. Она улыбнулась мне неуверенно; быть может она почувствовала тот запах, который я привез с собой — запах мертвой лошади, запах травы на старом, покинутом кладбище в Яссах. Перед дверью Даниэля Галеви я остановился, потянулся к ручке двери и не посмел отворить, как в день, когда я зашел проститься в последний раз, прежде чем возвратиться в Италию, прежде чем отправиться в тюрьму и в изгнание на остров Липари. Даниэль Галеви ожидал меня в своем рабочем кабинете вместе с художником Жаком-Эмилем Бланш и полковником де Голлем[251], и темное предчувствие сжимало мне сердце. «Месье Галеви нет дома», — крикнула мне госпожа Мартиг снизу лестницы. Тогда я продолжил свой подъем по ней вверх, туда, где находилась моя мансарда; я постучал в свою дверь, и через мгновение услышал внутри шаги; я узнал эти шаги, и Малапарте открыл мне дверь. Он был молод, гораздо моложе меня; у него был ясный взгляд, черные волосы, глаза несколько тусклые. Он смотрел на меня молча, и я ему улыбнулся, но он не ответил на мою улыбку; он смотрел на меня недоверчиво, как смотрят на постороннего. Я вошел в свое жилище и осмотрелся; я увидел всех моих друзей сидящими в библиотеке: Жана Жироду, Луиджи Пиранделло, Андрэ Мальро, Бессанда Массенэ, Жана Геенно, Гарольда Никольсона, Гленвея Вескотта и Сесиль Спридж, и Барбару Гаррисон. Все мои друзья были здесь, передо мной, сидящие молча; некоторые из них были мертвы — у них были бледные лица, угасший взгляд. Быть может, они оставались здесь, ожидая меня все эти прошедшие годы, и теперь они не узнавали меня. Быть может, ныне они уже не надеются, чтобы я возвратился в Париж после стольких лет тюрьмы, изгнания, войны.
Гудки буксиров, поднимающих вверх по Сене свои караваны шаланд, доносились слабые и жалобные. Я подошел к окну и увидел парижские мосты: от моста Сен-Мишель до моста Трокадеро, с зеленой листвой вдоль набережных, фасадом Лувра, деревьями площади Конкорд. Мои друзья смотрели на меня молча, и я сел среди них. Я хотел снова услышать их голоса, услышать, как они разговаривают, но они оставались неподвижными и замкнутыми, глядя на меня в тишине, и я почувствовал в них жалость к себе; я хотел сказать им, что я не виноват в том, что стал жестоким, что все вы стали жестокими: и ты тоже, Бессан Массенэ, и ты тоже, Геенно, и ты тоже, Жан Жироду, ты тоже, Барбара, не правда ли? Барбара улыбнулась и подняла голову, как будто затем, чтобы сказать мне, что она знает, что она поняла. Другие тоже улыбались и поднимали головы, как будто затем, чтобы сказать, что в этом нет нашей вины, но что все мы стали жестокими. Тогда я встал и направился к двери. Дойдя до порога, я обернулся, чтобы взглянуть на них, и улыбнулся. Медленно я спустился по лестнице, и госпожа Мартиг тихо сказала мне: «Он никогда не писал нам». Я хотел попросить у нее прощения за то, что никогда не писал ей из тюрьмы Реджина Коэли и с острова Липари. Это было не из гордости, вы знаете? Это из стыдливости. У меня была эта стыдливость заключенного, эта печальная стыдливость человека в капкане, запертого в камере, изъеденного паразитами, измученного бессонницей, лихорадкой, одиночеством и жестокостью. Да, госпожа Мартиг, собственной своей жестокостью. «Быть может, он позабыл о нас», — сказала госпожа Мартиг тихо. — «О! Нет, он не забыл о вас, ему стыдно оттого, что он страдает, ему стыдно от сознания того, чем мы все стали за время этой войны. Вы ведь знаете его, не правда ли? И что он стыдится оттого, что страдает. Не правда ли, вы ведь знаете его, мадам Мартиг?»
— Да, — сказала мадам Мартиг тихо, — мы хорошо знаем его, месье Малапарте.
— Здравствуй, Чайльд-Гарольд[252], — сказал я, усаживаясь на своей постели. Гарольд Никольсон медленно снял перчатки, и рукой, короткой и белой, усеянной рыжеватым блестящим пушком, пригладил усы, подолгу прикладывая пальцы к губам. Усы Гарольда Никольсона всегда наводили меня на мысль не столько о дипломате из молодых кадров Форейн Офиса[253], сколько о казармах Чельси; они казались мне a tipical product of the English Public School System, Sanhurst, and the army[254].
Гарольд Никольсон смотрел на меня, улыбаясь, как в тот день, в Париже, когда он зашел за мной, чтобы повести меня завтракать к Ларю, на улицу Рояль, где нас обоих ожидал Мосли[255].
Я не мог уже вспомнить, где именно я познакомился с Никольсоном. Мистрисс[256] Стронг заговорила со мной о нем как-то утром, когда мы завтракали у друзей в предместье Сент-Онорэ. Несколькими днями позже мистрисс Стронг позвонила мне по телефону, чтобы сказать, что Никольсон зайдет за мной, с тем, чтобы познакомить меня с Мосли. Сидя в моей библиотеке, Никольсон приглаживал усы рукой, короткой и белой, покрытой блестящим рыжеватым пухом. Слышались жалобные сирены буксиров, идущих по Сене. Как помню, это было октябрьское утро, сырое и туманное. Встреча с Мосли была назначена на два часа. Вдоль Сены мы дошли пешком до улицы Рояль, и когда вошли к Ларю, было без пяти два. Мы заняли столик и заказали мартини. Прошло полчаса — Мосли все еще не появлялся.
Время от времени Никольсон вставал и уходил звонить Мосли, который жил, по его словам, в отеле «Наполеон», возле Триумфальной арки. Великолепный адрес для будущего Муссолини Великобритании. Около трех часов Мосли по-прежнему не было. Я подумал, что он спокойно лежит в постели и все еще спит, но я не осмелился поделиться этой мыслью с Никольсоном. Спустя еще некоторое время (было уже половина четвертого) Никольсон, выходя в десятый раз из телефонной кабины, объявил мне с торжествующим видом, что сэр Освальд Мосли сейчас прибудет. Он добавил, смеясь, как бы для того, чтобы извинить его, что у Мосли дурная привычка оставаться в постели все утро, что он встает поздно — никогда раньше двенадцати; обычно между полуднем и двумя часами он немного занимается фехтованием в своей комнате, и затем выходит из отеля, направляясь пешком на свои рандеву, на которых появляется не раньше, чем все, наскучив ожидать его, разойдутся. Я спросил, знает ли он максиму Талейрана[257]. «В жизни, — говорил Талейран, — легко приходить, но трудно уходить». «Опасность Мосли в том, — сказал Никольсон, — что он приходит прежде, чем уйти».
Когда, наконец, Мосли вошел к Ларю, было почти четыре часа пополудни. Мы с Никольсоном уже выпили семь или восемь мартини и принялись за еду; не помню уже, что именно мы ели, ни о чем мы начали говорить, помню только, что у Мосли была совсем маленькая голова и нежный голос, что сам он был велик и даже очень велик, худ и апатичен, немного сутуловат, но ни в малой мере не пристыжен, даже, напротив, вполне удовлетворен своим опозданием. Он заявил нам: «Никогда не приходится торопиться, если заранее рассчитываешь прийти с опозданием» — не затем, чтобы извиниться, но чтобы дать нам понять, что он не настолько глуп, чтобы не сознавать, что появляется с опозданием. Обменявшись быстрым взглядом, мы с Никольсоном тотчас же пришли к единомыслию, и в течение всего «завтрака» Мосли не возымел даже легчайшего подозрения, что между нами заключено соглашение над ним посмеяться. Он показался мне начисто лишенным sense of humour[258], но, как и все диктаторы (Мосли был всего лишь диктатором-аспирантом и, однако, вне всякого сомнения, в нем содержался необходимый материал диктатора, и всем хорошо (увы!) известно, из чего состоит такой материал), он не подозревал, даже смутно, что можно было над ним насмехаться.
Он захватил с собой экземпляр английского издания «Техники государственного переворота»[259] и выразил желание, чтобы я написал ему на первой странице посвящение. Он, по всей вероятности, ждал дифирамбического посвящения[260], и я, чтобы разочаровать его, не написал на первой странице ничего, кроме двух фраз из моей книги: «Гитлер, как и все диктаторы, ничто иное, как женщина». «Диктатура — это наиболее полно выраженная форма ревности». Прочтя эти слова, Мосли смутился и спросил меня с легким оттенком возмущения и мало дружелюбным взглядом: «Значит, по-вашему, и Цезарь был ни чем иным, как женщиной?». Никольсон едва удерживался от смеха и подмигнул мне. «Он был куда хуже, чем женщиной, — отвечал я, — он не был джентльменом».
— Цезарь не был джентльменом? — переспросил Мосли в изумлении.
— Иностранец, который позволил себе завоевать Англию, разумеется, не джентльмен.
Вина были превосходны. Шеф у Ларю, горделивый, обидчивый и капризный, как женщина (или как диктатор), упорно хотел чествовать непрерывной сменой отличнейших блюд, полный гордой капризности и взятого за живое самолюбия этих трех эксцентричных иностранцев, одиноких в пустой зале, которые завтракали в такой необычный час, в то время, когда чай уже дымился в серебряных чайниках Ритца. И юмор Мосли, казалось, был в полном согласии с настроением шефа и букетом вин. В таком согласии, что он мало-помалу нашел снова свой иронический тон и свою безмятежность. Уже газовые рожки улицы Рояль зажигались один за другим, уже цветочницы с площади Мадлен спускались к площади Конкорд со своими тележками, полными увядших цветов, а мы все еще вели оживленную дискуссию о преимуществах сыра «бри» и наилучшей возможности прийти к власти в Великобритании.
Никольсон настаивал на том, что англичанам не импонирует ни сила, ни уверенность, а одни только «хорошие манеры», и что диктаторы не имеют «good manners»[261]. Мосли отвечал, что «хорошие манеры», как и все остальное, выродились и пришли в упадок и что англичане, особенно Upper Ten Thausand[262] созрели для диктатуры. «Но каким образом придете вы к власти?» — спрашивал его Никольсон. «Путем самым длинным, of course[263]? — отвечал Мосли. — „Через Трафальгар-сквер[264] или Сент-Джемский парк?“[265] — спрашивал Никольсон. „Через Сент-Джемский парк, разумеется“, — отвечал Мосли; мой государственный переворот будет всего лишь великолепной прогулкой. И он радостно смеялся. „А! Я понимаю: ваша революция начнется с Майфэйра[266]. И когда же именно рассчитываете вы прийти к власти?“ — спрашивал Никольсон. — Можно уже сейчас с большой точностью предвидеть дату, когда в Англии произойдет кризис парламентского режима. С нынешнего дня я назначаю вам рандеву на Даунинг Стрит», — отвечал Мосли. «Согласен. Каковы день и час?» — спросил Никольсон. «А! Это мой секрет!» — отвечал Мосли, смеясь. — «Если революция назначит вам рандеву, то вы придете к власти с опозданием». — «Тем лучше! Я приду к власти тогда, когда никто больше не будет меня ожидать», — заявил Мосли.
Пока мы беседовали таким образом, вдыхая с наслаждением запах, старинный и далекий, арманьяка, зала Ларю изменяла свой вид и превращалась в обширную комнату, странным образом похожую на ту, где я лежал, вытянувшись на моем распотрошенном матрасе. Гарольд Никольсон смотрел на меня, улыбаясь; он сидел под медной люстрой, опираясь на стол локтями, рядом со своим Локком серого фетра. В какой-то миг он указал мне глазами на угол комнаты. Я поднял глаза и увидел сидящего на полу, по-турецки, сэра Освальда Мосли. Я не мог понять, каким образом Никольсон и Мосли оказались в Яссах, в комнате, где я спал. Я с глубоким изумлением замечал, что у Мосли было маленькое розовое детское лицо, маленькие ручки, очень короткие, но ноги поразительно длинные, такие длинные, что для того, чтобы разместить их в комнате ему приходилось сидеть по-турецки.
— Я спрашиваю, почему вы остаетесь в Яссах вместо того, чтобы идти сражаться? — спросил меня Никольсон.
— Ла дракю! — ответил я. — Ла дракю войну! Ла дракю весь мир!
Мосли шлепал руками по полу, поднимая облако гусиных перьев. Его лицо было облеплено перьями, приклеившимися к его потной коже, но он смеялся и шлепал руками по полу.
Никольсон сурово посмотрел на сэра Освальда Мосли: «Вам следовало бы стыдиться этих детских игр, — сказал он ему. — Вы уже не ребенок больше, сэр Освальд».
— О! Sorry, Sir[267], — сказал сэр Освальд Мосли, опуская глаза.
— Почему не отправляетесь Вы сражаться? — продолжал Никольсон, обращаясь ко мне. Долг каждого порядочного человека бороться в защиту цивилизации против варварства. И, говоря это, он принялся хохотать.
— Ла дракю! — отвечал я. — Ла дракю, вас тоже, Чайльд-Гарольд.
— Долг каждого порядочного человека, — продолжал Гарольд Никольсон, — идти сражаться против армий Сталина. Смерть СССР! А! А! — И он разразился раскатом громкого хохота, запрокидываясь на стуле.
— Смерть СССР! — закричал сэр Освальд Мосли, шлепая руками по полу.
Тогда Никольсон повернулся к Мосли: «Не говорите глупостей, сэр Освальд», — приказал он ему сурово.
В это мгновение дверь открылась, и я увидел на пороге офицера, высокого и массивного, позади которого виднелись двое солдат, от которых я мог рассмотреть в полутьме лишь красные глаза и лица, блестящие от пота. За порогом виднелась луна, легкий ветер дул в раскрытое окно. Офицер сделал несколько шагов, остановился в ногах моей кровати и направил мне прямо в лицо луч электрического фонаря. Я увидел, что в руке у него револьвер.
— Военная полиция! — сказал офицер. — У вас есть пропуск?
Я расхохотался и повернулся к Никольсону. Я уже готов был сказать ему «ла дракю», когда заметил, что Никольсон медленно исчезает в белом облаке гусиных перьев. Мосли тоже исчез. Небо, молочного цвета, проникло в комнату, и в этом туманном небе я увидел зыбкие очертания Никольсона и Мосли, медленно расплывающиеся и лениво поднимающиеся к потолку, как пловцы, окруженные маленькими воздушными пузырьками, когда, нырнув, они снова поднимаются к поверхности моря.
Я сел на постели и отдал себе отчет в том, что я проснулся.
— Хотите выпить? — спросил я офицера.
Я наполнил два стакана «цуикой» и мы подняли их, говоря: «Норок» (Ваше здоровье!)
Холодная цуика завершила мое пробуждение и придала моему голосу оттенок веселый и суховатый, пока я шарил в карманах моей одежды, висевшей в головах постели. Протягивая документ офицеру, я сказал: «Вот пропуск. Держу пари, что он фальшивый!»
Офицер улыбнулся. «В этом не будет ничего удивительного, — сказал он, — Яссы переполнены русскими парашютистами». Затем он добавил: «Вы неосторожны, что спите один в этом оставленном доме. Еще вчера мы нашли человека, зарезанного в постели, на улице Юзин».
— Спасибо за совет, — ответил я, — но с этим фальшивым документом я могу спать спокойно, не правда ли.
Мой пропуск был подписан вице-президентом Государственного совета Антонеску.
— Разумеется, — сказал офицер.
— Не хотите ли посмотреть, не поддельный ли вот этот? — спросил я, протягивая ему другой пропуск, подписанный полковником Люпу, военным комендантом Ясс.
— Мерси, — сказал офицер, — у вас все в порядке.
— Хотите выпить?
— Почему бы нет? Во всех Яссах не осталось больше ни капли цуики.
— Норок.
— Норок.
Офицер вышел, солдаты проследовали за ним, и я снова глубоким сном уснул, лежа на спине и сжимая в своей влажной руке рукоятку моего парабеллума.
Когда я проснулся, солнце уже было высоко. Птицы щебетали на ветвях акаций и каменных крестах старого заброшенного кладбища. Я оделся и вышел, в надежде разыскать какую-нибудь пищу. На улицах везде теснились длинные колонны грузовиков и немецких «панцеров»; артиллерийские обозы стояли перед маленьким отелем Жокей-клуба; группы румынских солдат, в больших стальных касках, закрывающих затылки, грязно-песочного цвета, проходили, очень сильно топая ногами, по асфальту улиц. Кучки праздно шатающихся стояли на пороге Дефацере де Винури[268], расположенной рядом с Кафетариа Фундатиа, Коафора[269] Йонеску и Чезорникариа[270] Гольдштейн. Запах «чьорбы де пиу», то есть куриного супа, очень жирного и потому разбавляемого уксусом, плавал в воздухе, смешанный с крепким запахом «брынзы» — соленого сыра из Браилы[271]. Я спустился по Страда[272] Братиану[273] к госпиталю святого Спиридона и вошел в лавку Кане, еврея-бакалейщика, с головой широкой и короткой, и ушами, напоминающими две ручки глиняного горшка.
— Здравствуйте, домнуле капитан, — сказал мне Кане.
Он был рад снова увидеть меня; он полагал, что я все еще на передовой, на Пруте[274], с румынскими войсками.
— Ла дракю. Прут, — ответил ему я.
Приступ тошноты заставил меня повернуть голову. Я уселся на мешок с сахаром и запустил пальцы за воротник моей сорочки, чтобы немного оттянуть узел галстука. Запах, тяжелый и неопределенный, бакалеи, москательных товаров, сухой рыбы, лака, керосина и мыла стоял в лавке.
— Этот дурацкий «разбой»! — начал Кане. — Эта дурацкая война! — В Яссах все встревожены; все ждут чего-то мерзкого; это носится в воздухе, что готовится какая-то мерзость, — сказал мне Кане. Он говорил, понизив голос и с подозрением поглядывая на дверь. По улице шли отряды румынских солдат, колонны грузовиков и немецких «панцеров». Против всех этих армий, этих пушек, этих вооруженных машин что можно поделать? — казалось, спрашивал Кане. Но он хранил молчание, медленно ходя взад и вперед тяжелыми шагами по своей лавке.
— Домнуле Кане, у меня нет ни гроша! — сказал ему я.
— Для вас у меня всегда найдётся что-нибудь хорошее, — ответил Кане. Он вытащил из какого-то тайничка три бутылки цуики, два фунтовых хлеба, немного брынзы, несколько коробок сардин, две банки варенья, немного сахара и пачку чая.
— Это русский чай, — сказал Кане, настоящий «чеай» из России. Последняя пачка. Когда она кончится, я уже не смогу больше для вас достать. Он посмотрел на меня, поднял голову. Если вам понадобится что-либо другое в ближайшие дни, заходите ко мне. В моей лавке для вас всегда найдется что-нибудь хорошее. У него было грустное выражение. Он говорил «заходите ко мне», как будто знал, что мы, вероятно, больше уже не увидимся. Неясная угроза действительно висит в воздухе, и люди встревожены. Время от времени кто-нибудь показывается на пороге лавки и говорит «здравствуйте, домнуле Кане». Тогда Кане поднимает голову и делает отрицательный знак; потом он смотрит на меня и вздыхает. Этот дурацкий «разбой», эта дурацкая война! Я разместил по карманам свои пакеты с провизией, взял пачку чая под мышку, отломил маленький кусочек хлеба и стал жевать его.
— Ла реведере, домнуле Кане.
— Ла реведере, домнуле капитан, — ответил Кане.
Мы, улыбаясь, пожали друг другу руки. Кане улыбался своей неуверенной и скромной улыбкой встревоженного животного. В ту минуту, как я уже готов был выйти из лавки, у дверей остановился экипаж. Кане бросился к двери и склонился почти до земли, говоря: «Здравствуйте, доамна принчипесса».
Это был один из тех старых аристократических экипажей, черных и торжественных, еще встречающихся в румынских провинциях, нечто вроде открытого ландо[275] с капотом, натянутым широкими кожаными ремнями. Материя, которой было внутри обтянуто ландо, была серой, спицы колес окрашены в красный цвет. В запряжке — пара великолепных молдавских лошадей белой масти, с длинными гривами и крупами, блестевшими от пота. На высоких и широких подушках сидела уже немолодая женщина, сухощавая, с кожей лица увядшей, покрытой толстым слоем белой пудры. Она сидела с горделиво-жестким выражением, вся одетая в синее, и держала в правой руке зонтик из красного шелка, отороченный кружевами. Край широкой шляпки, из флорентийской соломки, бросал легкую тень на ее лоб, изрезанный морщинами. У нее был высокомерный взгляд с небольшой поволокой, и эта вуаль близорукости придавала ему нечто зыбкое и отсутствующее. У нее было неподвижное лицо, и глаза, устремленные в пространство, в синее небо, где парили легкие белые облачка, как тени тучек в зеркальной глади озера. Это была княгиня Стурдза, известное имя в Молдавии. Сидевший с ней рядом, гордый и рассеянный, князь Стурдза, мужчина еще молодой, высокий, худой, розовый и одетый с головы до ног в белое, с лбом, затененным полями серой шляпы, — был в сером галстуке под очень высоким воротничком, в серых перчатках из шотландской шерсти и черных ботинках на пуговицах сбоку.
— Здравствуйте, доамна[276] принчипесса, — сказал Кане, склоняясь почти до земли. Я видел, как кровь приливала к его затылку и вискам. Княгиня не ответила на приветствие, не повернула шеи, сжатой высоким кружевным воротником, удерживаемым арматурой из китового уса, но приказала сухо и повелительно: «Передай мой чай Григорию».
Григорий — кучер, сидел на облучке, одетый в тяжелый широкий плащ из зеленого шелка, кое-где полинявший и опускавшийся до самых подошв его сапог из красной кожи… На нем была маленькая татарская ермолка из желтого атласа, расшитая красным и зеленым. Он был жирен, бледен и вял. Это был кучер из секты скопцов, кастратов, для которых Яссы являлись священным городом. Скопцы женятся молодыми, и как только у них родится сын, кастрируют себя. Кане склонился перед евнухом Григорием, пробормотал несколько слов, бросился в лавку и через мгновение снова появился на пороге, говоря дрожащим голосом: «Доамна, принцесса, простите меня, но ничего не осталось, ни крошки чаю, Доамна принцесса»…
— Ну, быстро мой чай! — сказала княгиня Стурдза жестким голосом.
— Простите меня, доамна принцесса…
Княгиня медленно повернула голову, пристально посмотрела на него, не смигнув ресницами, потом сказала утомленным голосом:
— Что это еще за новости? Григорий!
Евнух обернулся, поднял свой кнут, свой длинный молдавский кнут с алым кнутовищем и ручкой — скульптурной и испещренной красным, синим и зеленым орнаментом, и, сообщив ему волнообразное движение, предательски опустил его на плечи Кане, хлестнув его по шее.
— Простите меня, Доамна принцесса, — повторял Кане, опуская лицо — Григорий! — сказала княгиня глухим голосом.
Тогда евнух медленно поднял свой кнут, подняв и вытянув одновременно руку так, как если бы он сжимал в кулаке древко знамени. Он почти встал, чтобы лучше нанести свой удар кнута. Кане повернулся ко мне, протянул руку, дотронулся до маленького пакетика с чаем, который был у меня под мышкой, и весь бледный, в поту, сказал мне тихо умоляющим тоном: «Простите, домнуле капитан», схватил трясущимися пальцами пакет, который я протягивал ему, улыбаясь, и с поклоном отдал его Григорию. Евнух резко опустил свой кнут на спины лошадей, которые рванули и умчались; ландо исчезло в облаке пыли, с легким звоном бубенчиков. Клочок пены, сброшенный с лошадиной морды, с легким шелестом опустился на мое плечо.
— Ла дракю! Доамна принцесса, ла дракю! — кричал я. Но экипаж был уже далеко; было видно, как он заворачивает на углу улицы возле Жокей-клуба и Фундации.
— Спасибо, домнуле капитан, — сказал Кане тихо, и он опустил глаза от стыда.
— Это ничего, домнуле Кане, но ла дракю княгиню Стурдза, ла дракю всех этих благородных молдаван!
Мой друг Кане поднял глаза. У него посинело лицо, крупные капли пота блестели на его лбу.
— Это ничего, — сказал я ему, — это ничего! Ла реведере, домнуле Кане.
— Ла реведере, домнуле капитан, — ответил Кане, вытирая свой лоб тыльной стороной руки.
Возвращаясь в сторону кладбища, я проходил мимо аптеки на углу Страда Лапушнеану и Страда Братиану. Я вошел в аптеку и подошел к кассе.
— Здравствуйте, домниччиоара Мика.
— Здравствуйте, домнуле капитан.
Мика улыбалась, опираясь голыми локтями на мраморную кассу. Это была красивая девушка, Мика: брюнетка, с роскошными формами, лбом, придавленным спутанной массой черных вьющихся волос, с подбородком, украшенным ямочкой, с большим чувственным ртом, и лицом, покрытым очень легким пушком, блестевшим голубоватыми оттенками. Прежде, чем покинуть Яссы, отправляясь на фронт к Пруту, я пытался за ней ухаживать. Боже мой! Вот уже два месяца я не притрагивался к женщине. В Бухаресте я не притрагивался к женщине. Было слишком жарко… Бог мой, я позабыл даже как это устроено — женщина.
— Кум мерже ен санататеа,[277] домниччиоара Мика?
— Бине, фоарте бине,[278] домнуле капитан.
Красивая девушка, но волосатая, как коза. У нее большие черные блестящие глаза, тонкий нос на лице полном и сумрачном. В ней, наверное, есть цыганская кровь. Она сказала мне, что очень хотела бы прогуляться со мной сегодня вечером после затемнения.
— После затемнения, домниччиоара Мика?
— Да, да, домнуле капитан.
Что за смешная идея, боже мой! Как можно прогуливаться с девушкой после затемнения среди жандармских патрулей и солдат, которые кричат вам издали: «Стой! Стой!» и стреляют по вас прежде, чем вы успеете им ответить. И что за мысль идти прогуливаться среди руин разрушенных домов, разбитых бомбардировками и почерневших от пожарищ. Есть дом, который еще горит и сейчас, со вчерашнего дня, на площади Унири перед статуей князя Куза Вода[279]. Они здорово бьют, советские пилоты. Они висели ровно три часа над Яссами, вчера они спокойно прилетали и улетали на высоте, самое большее, метров триста. Некоторые из них почти касались крыш. На обратном пути, когда они возвращались в Скулени[280], русский бомбардировщик упал в поле за городом, немного дальше Копу[281].
Экипаж состоял из шести женщин. Я отправился на них посмотреть. Румынские солдаты ворошили кабину пилота и щупали этих бедных девушек своими пальцами, перепачканными чьорбой, мамалыгой[282] и брынзой.
— Оставь ее в покое, ты, выблядок несчастный, — заорал я на солдата, запустившего руку в волосы одной из двух пилотов, высокой девушки — блондинки, с лицом, покрытым веснушками. У нее были расширенные глаза, полуоткрытый рот, одна рука висела вдоль бедра, и голова лежала на плече ее подруги — положение, исполненное целомудрия и самоотречения. Это были две смелые девушки; они выполнили свой долг; они имели право на уважение. Две смелые работницы, — не правда ли, госпожа княгиня Стурдза? Они были одеты в серые комбинезоны пепельного цвета и кожаные куртки. Солдаты медленно раздевали их, расстегивая эти куртки, поднимая их безразличные руки, снимая эти куртки через головы. Чтобы заставить ее поднять лицо, один из солдат схватил девушку под подбородком за шею, сжав ей горло так, как если бы хотел задушить ее, опираясь толстым большим пальцем, с ногтем черным и растрескавшимся, о ее полуоткрытый рот, о губы, бескровные и распухшие. «Укуси ему палец, дурочка!» — закричал я, как будто девушка могла меня понять. Солдаты посмотрели на меня, смеясь. Другая девушка была захвачена между кассетой с бомбами и крупным пулеметом, было невозможно снять с нее куртку в этом положении. Один из солдат отстегнул ее кожаный шлем, ухватил ее за волосы и вытащил резким рывком, после чего она упала на траву рядом с останками самолета.
— Домнуле капитан, вы поведете меня погулять сегодня вечером после затемнения? — спросила меня Мика, опираясь лицом на свои раскрытые ладони.
— Почему же нет, домничиоара Мика? Очень приятно пойти прогуляться вечером, после затемнения. Вы никогда не ходили в парк ночью? Там никогда не встретишь ни души.
— А в нас не будут стрелять, домнуле капитан?
— Будем надеяться, что да; будем надеяться, что по нас будут стрелять, домниччиоара Мика.
Мика рассмеялась, перегнулась над кассой, приблизила к моему свое лицо, покрытое пушком, и укусила мне губы.
— Зайдите за мной вечером, в семь часов, домнуле капитан. Я буду ждать вас здесь, на улице, перед аптекой.
— Хорошо, Мика, в семь часов. Ла реведере, домничиоара Мика.
Я снова поднялся по Страда Лапушнеану, пересек кладбище и открыл дверь своего дома. Здесь я съел немного брынзы и бросился на постель. Было жарко, мухи настойчиво жужжали. Высокое и сухое жужжание слышалось в небе; жужжание жирное и мягкое, напоминающее густой запах гвоздики, разливалось в небе, обильно смоченном потом. Боже, как мне хотелось спать! Цуика бродила у меня в желудке. Около пяти часов дня я проснулся, вышел на кладбище и сел на каменном надгробии могилы, скрытом в траве. Сад моего дома прежде был кладбищем. Там, где некогда возвышалась небольшая церковь, как раз посреди кладбища, открывался вход в общественное бомбоубежище, куда вела маленькая, очень крутая деревянная лесенка. Вход туда казался входом в подземный мавзолей. В убежище чувствовался запах тления и пыли, жирный запах могилы. Над его кровлей, которой земляная насыпь придавала вид холма, поднималась пирамида надгробных камней, лежавших друг на друге. С того места, где я сидел, мне удалось прочесть могильное напутствие домнуле Григорию Соинеску, доамне Софии Занфиреску и доамне Марии Попянеску, высеченные на надгробиях.
Было жарко. Жажда жгла мне губы; я вдыхал мертвый запах земли, глядя на чугунные решетки, собранные с нескольких могильных участков в тени акаций. Голова моя кружилась, колики тошноты сводили желудок. Ла дракю Мика, ла дракю Мику со всей ее козьей шерстью! Мухи неистово жужжали, влажный ветер доносился с берегов Прута.
Время от времени, со стороны нижних кварталов, на заводской стороне, оттуда, от Сокола и Пакурари, от железнодорожных мастерских Николина, строений, рассеянных по берегам Баклуя, предместий Тцикан и Татарази, где раньше находился татарский квартал, доносились сухие удары винтовочных выстрелов. Румынские солдаты и жандармы — нервный народ. Они кричат: «Стой! Стой!» и стреляют в людей, не оставляя им времени на то, чтобы поднять руки вверх. Между тем, все еще длится день. Затемнение еще не объявлено. Ветер источает медовый запах. Мика будет ждать меня в семь часов перед аптекой. Через полчаса надо идти, захватить Мику и повести ее прогуляться. Ла дракю домниччиоару Мику, ла дракю даже коз! Редкие прохожие жмутся к стенам, с нерешительным видом поднимая над головой свои пропуска, зажатые в правой руке. Действительно, что-то носится в воздухе. Мой друг Кане прав. Что-то должно произойти. Чувствуется приближение какого-то несчастья. Это носится в воздухе, ощущается поверхностью кожи, кончиками пальцев.
Было семь часов — условленное время, когда я подошел к аптеке, Мики там не было. Аптека была закрыта. Мика закрыла ее вовремя сегодня вечером, даже раньше, чем обычно. Я готов был держать пари, что она не придет. В последнюю минуту ей стало страшно. Ла дракю женщин, все они одинаковы. Ла дракю домниччиоару Мику, ла дракю даже коз! Я медленно поднимался обратно по улице в направлении кладбища; группы немецких солдат стучали ботинками по тротуарам. Владелец Люстрагерии — салона для чистки обуви, что на углу страда Лапушнеану, напротив кафе-ресторана Корсо, как раз наносил последним взмахом щетки последний блик на ботинок последнего клиента — румынского солдата, восседавшего на высоком троне из желтой меди. Отблеск угасающего солнца проникал в самую глубину его комнат, заставляя сверкать баночки с ваксой и гуталином. Время от времени мимо проходили группы евреев с кандалами на руках; они шли, опустив головы, в сопровождении румынских солдат, одетых в свою форму песочного цвета. «Чего же ты не пойдешь к нам? Почистил бы напоследок обувку этим беднягам!» — сказал, смеясь, солдат, сидевший на высоком троне из желтой меди. — «Ты что, не видишь, что ли, что они босые?» — ответил владелец Люстрагерии, поворачивая к солдату свое лицо, бледное и влажное. Он тихо дышал; щетка его взлетала с чудесной легкостью. Сквозь окна Жокей-клуба можно было видеть ясскую знать — толстых молдавских джентльменов, с округлыми животами, с тучностью нежной и примиряющей, с лицами безволосыми и надутыми, на которых глаза, темные и пасмурные, блестели блеском влажным и томным. Можно было сказать — персонажи Паскена[283]. Даже дома, даже деревья, даже повозки, остановившиеся перед дворцом Фундачча, казались написанными Паскеном. В небе, там, в стороне Скульми, возле Прута, лениво катившего свои воды меж крутых откосов, зеленеющих и заболоченных, покрытых камышом, были видны маленькие распускающиеся белые и красные облачка «флякка». Закрывая ставни своей лавочки, хозяин Люстрагерии поднял глаза, устремленные к этим далеким облачкам, как будто он наблюдал приближение грозы.
Маленький дворец Жокей-клуба, где помещался некогда отель «Англетер», на перекрестке страды Пакурари и страды Кароль[284], — красивое здание в неоклассическом стиле и единственное сооружение в Яссах, которое выглядело современным, обнаруживая в своей архитектуре, в мотивах своего декора, даже в своих наименее заметных орнаментах известные артистические достоинства. Дорическая колоннада и горельеф тянулись по всей длине фасада, покрашенного в цвет слоновой кости; на боковых фасадах, в нишах, близко расположенных одна от другой, — Купидон, из штюка телесного цвета, среднего между розовым и цветом слоновой кости, натягивал свой лук, спуская стрелу. На нижнем этаже здания виднелись витрины кондитерской Занфиреску и большие окна кафе-ресторана Корсо, самого элегантного в городе. Вход в Жокей-клуб был позади отеля, и чтобы попасть в него, следовало пересечь двор, мощеный камнями, далеко отстоявшими один от другого. Группы румынских солдат в походной форме, со лбами, закрытыми стальными касками, спали на солнце, вытянувшись там и здесь на мостовой. Под стеклянным навесом два больших грудастых сфинкса охраняли вход.
Стены холла были обшиты темной и блестящей деревянной фанерой; внутренние дверные наличники были украшены лепниной в стиле Луи-Филиппа; на стенах висели картины, писанные маслом, и офорты; парижские пейзажи: Нотр-Дам[285], л’Иль Сен Луи, Трокадеро[286] и портреты женщин, во вкусе иллюстрированных французских модных журналов последнего двадцатилетия XIX века. В игорном зале, вокруг столов, крытых зеленым фетром, пожилые молдавские господа играли свои мрачные партии бриджа, вытирая лбы большими носовыми платками из органди, с вышитыми на них бродери англэз[287] дворянскими коронами[288]. Вдоль стены, противоположной окнам, выходящим на улицу Пакурари, выступала трибуна из резного дерева, украшенная неоклассическим мотивом из лир и арф, продолжавшимся также и на балюстраде. Эта трибуна была оркестровой площадкой в дни музыкальных празднеств ясской аристократии.
Я остановился у одного из столов и пригляделся к партии. Игроки, по лицам которых струился пот, приветствовали меня кивком голов. Старый князь Кантемир, выйдя из двери, находившейся в глубине залы, прихрамывая, пересек комнату. Хороводы мух настойчиво жужжали в оконных нишах, словно розы описывая круги в воздухе; и действительно теплый аромат роз поднимался из сада, смешанный с запахом цуики и турецкого табака. У окон, выходивших на улицу, стояли молодые «красавцы» Ясс, жирные молдавские Кюммели с мрачными темно-коричневыми глазами; прежде, чем покинуть залу, я на секунду остановился, глядя на их невероятные круглые зады, круглые и мягкие, вокруг которых рои мух рисовали в дымном воздухе очертания нежных роз.
— Буна ceapa, домнуле капитан, — сказала мне Мариоара, маленькая официантка кафе-ресторана Корсо, когда я проник в залу, битком набитую немецкими офицерами и солдатами, просторную залу прекрасной архитектуры, находящуюся на нижнем этаже Жокей-клуба. Вдоль стен здесь стояли узкие диваны, обитые кожей, время от времени прерывающиеся кабинетами, ограниченными деревянными перегородками. Мариора была еще почти ребенком: худенькая, ломкая, миленькая. Она улыбалась мне, склонив головку на свое плечо, опираясь обеими руками на мраморный столик.
— Не принесешь ли ты мне стакан пива, Мариоара?
Мариоара простонала, как будто ей стало больно:
— Ай, ай, ай, домнуле капитан, ай, ай, ай!
— Мне пить хочется, Мариоара.
— Ай, ай, ай, совсем не осталось пива, домнуле капитан.
— Ты плохая девочка, Мариоара.
— Ну, ну, домнуле капитан, совершенно не осталось пива, — сказала Мариоара, улыбаясь и поднимая голову.
— Я ухожу и никогда не приду больше, Мариоара.
— Ла реведере, домнуле капитан, — сказала Мариоара с лукавой улыбкой.
Я ответил ла реведере и направился к двери.
С порога Корсо Мариоара позвала меня своим кисловатым голосом:
— Домнуле капитан! Домнуле капитан!
Путь от Корсо до бывшего кладбища недалек — каких-нибудь полсотни шагов, не больше. Я шел уже среди могил и все еще слышал голос Мариоары, призывающий меня: «Домнуле капитан!» Но я не хотел возвращаться тотчас же; я хотел заставить ее подождать, чтобы она подумала, что я взбешен на нее из-за того, что она не подала мне этот стакан пива. Но в то же время я хорошо знал, что тут нет ее вины, что больше не было ни капли пива во всех Яссах. «Домнуле капитан!». Я готов был открыть дверь своего дома, когда чья-то рука легко притронулась к моему плечу и голос произнес:
— Буна сеара[289] домнуле капитан. Это был голос Кане.
— Что вы хотите, домнуле Кане?
За спиной Кане я увидел в сумерках три бородатых фигуры, одетых в черное.
— Можем ли мы войти к вам, домнуле капитан?
— Войдите, — ответил я.
Мы поднялись по крутой лестнице, вошли; я повернул выключатель. «Ла драку!» — воскликнул я. «Провод перерезали», — объяснил Кане.
Я зажег свечу, закрыл окно, чтобы свет не был виден с улицы, и посмотрел на троих компаньонов Кане. (Это были трое старых евреев, с лицами, покрытыми рыжей растительностью. У них были такие бледные лбы, что они блестели точно серебряные).
— Садитесь, — сказал я, указывая на стулья, находившиеся в комнате.
Мы уселись вокруг стола, и я бросил на посетителей вопросительный взгляд.
— Домнуле капитан, — начал Кане, — мы пришли просить вас, если вы можете…
— Если вы захотите нам помочь, — прервал его один из спутников. Это был костлявый старик, невероятно худой и бледный, с длинной рыжей и пепельной бородой. Его глаза, защищенные прозрачным экраном очков в золотой оправе, имели красивый и мерцающий отблеск. Он положил на стол свои усталые руки, истощенные и напоминавшие воск своей белизной.
— Вы можете нам помочь, домнуле капитан, — сказал Кане. И после долгой паузы он добавил: — Быть может, вы нам посоветуете, что нам следует делать…
— …чтобы отвратить от нас серьезную опасность, которая нам угрожает, — сказал снова тот, который однажды уже прерывал его.
— Какая опасность?
Глубокое молчание последовало за моим вопросом. Неожиданно еще один из спутников Кане медленно поднялся. У меня не было впечатления, что я вижу незнакомца; казалось, я уже встречал его, но не знал только где и когда. Он медленно поднялся. Это был высокий костлявый старик; его рыжие волосы и борода были перемешаны с белыми нитями седины. Его белые веки, казалось, были приклеены к стеклам очков, глаза, пристальные и белые, напоминали глаза слепца. Он долго, молча, смотрел на меня, затем произнес, понизив голос:
— Домнуле капитан, страшная опасность нависла над нашими головами. Не чувствуете ли вы, что нам угрожает? Румынские власти подготовляют жестокий погром. Избиение может начаться с минуты на минуту. Почему вы нам не помогаете? Что нам следует предпринять? Почему вы бездействуете? Отчего не придете к нам на помощь?
— Я не могу ничего сделать, — сказал я. — Я иностранец. Я единственный итальянский офицер во всей Молдавии. Что я могу сделать? Кто меня послушает?
— Предупредите генерала фон Шоберта, известите его о том, что против нас подготовляется. Если он захочет избежать бойни, он сможет это сделать. Почему бы вам не пойти к генералу Шоберту. Он вас послушает.
— Генерал Шоберт, — сказал я, — дворянин, старый солдат, добрый христианин, но он немец и ему наплевать на евреев.
— Если он добрый христианин, он вас послушается.
— Он ответит мне, что не его дело вмешиваться во внутренние дела Румынии. Я могу пойти к полковнику Лупу, военному коменданту Ясс.
— Полковник Лупу?! — воскликнул Кане. Но ведь это именно полковник Лупу подготовляет избиения.
— Но сделайте же что-нибудь, начните действовать! — сказал старик со сдержанной яростью.
— Я утратил привычку действовать, — ответил я, — я итальянец. Мы разучились брать на себя какую бы то ни было ответственность после двадцати лет рабства. У меня, так же, как и у всех итальянцев, перебит позвоночный столб. В течение этих двадцати лет мы расходовали всю свою энергию для того, чтобы выжить. Больше мы ни на что не годны. Мы умеем только аплодировать. Хотите ли вы, чтобы я отправился аплодировать генералу фон Шоберту и полковнику Лупу? Если вы хотите, я могу дойти до самого Бухареста, аплодировать маршалу Антонеску — «красной собаке», в том случае, если это может пойти вам на пользу. Я не могу сделать ничего другого. Вы хотите, может быть, чтобы я принес себя в бесполезную жертву ради вас, чтобы я дал себя убить на площади Инури, чтобы защитить ясских евреев? Если бы я был на это способен, то я уже дал бы себя убить на одной из площадей Италии, защищая итальянцев. Мы не смеем больше и не умеем больше действовать — вот в чем правда, — заключил я, отворачиваясь, чтобы скрыть выступившую на моем лице краску.
— Все это очень прискорбно, — прошептал старый еврей. Затем, наклонясь над столом, он повернул ко мне лицо, и голосом, необычайно смиренным и мягким, будто отдаленным, спросил: «Вы… не узнаете меня?»
Я внимательно всмотрелся и мне показалось, что я его припоминаю. Эта длинная рыжая борода, пронизанная серебряными нитями, глаза, светлые и пристальные, высокий мертвенно-бледный лоб, этот мягкий и печальный, будто удаленный, голос при трепетном свете свечи воскресили в моей памяти доктора Алези, директора тюрьмы Реджина Коэли в Риме. В особенности его голос ярко восстановил перед моими глазами прошлое. Доктор Алези был директором женской тюрьмы «Мантеллата», но в тот период, когда я был заключенным Реджина Коэли, он временно замещал директора мужской тюрьмы, который в течении нескольких месяцев болел. Его долговременная привычка разговаривать с заключенными Мантеллаты придавала его голосу поразительную, почти женственную мягкость. У этого бородатого старца, с его торжественным видом патриарха, голос был такой печальный и мягкий, полный безмятежных заливов и гармоничных искривлений рек, с полутенями, розовыми и зелеными, что он казался окном, раскрытым в весенние поля. И в эту минуту перед моими глазами снова возник тот же вид — с его деревьями, водами, облаками, который представал передо мною, когда из глубины моей одиночки в Реджина Коэли я слышал в коридоре эхо его удаленного голоса. Это был голос, напоминавший пейзаж: глаз терялся в безграничном приволье этого пейзажа, с его горами, долинами, лесами и реками. И чувства, которые мной овладевали тогда, тревога, которая душила меня, отчаяние, которое порой охватывало меня на моем соломенном тюфяке и заставляло бить сжатыми кулаками в стены моей камеры, понемногу утихали, как если бы они находили удовлетворение в унижении и страданиях рабства при виде мира и свободы, разлитых повсюду в природе. Голос Алези был для заключенных как бы даром этого чудесного пейзажа, который каждый вдыхал, каждый старался угадать за своей решеткой. Это было скрытным проникновением ирреального пейзажа в узкую одиночку, в пространство, зажатое четырьмя белыми стенами, ослепляющими, голыми, непроницаемыми и неприступными стенами камеры. При звуке голоса Алези заключенные бледнели. Перед их глазами, казалось, открывался этот необозримый и свободный горизонт, освещенный отвесным и ясным светом, удивительно мягким, который накладывал прозрачные тени на долины, проникал в таинственные чащи лесов, разоблачал тайну серебристого свечения рек и озер в глубине равнины и тихую дрожь поверхности моря. Каждый ощущал на миг, на один только миг иллюзию свободы, как будто дверь его камеры таинственно и бесшумно открылась и тотчас же закрылась снова, тогда как голос Алези мало-помалу угасал в скорбной тишине коридоров Реджина Коэли.
— Вы не узнаете меня? — спросил старый еврей из Ясс голосом непостижимо мягким и смиренным, печальным и далеким голосом Алези.
Я пристально всмотрелся в него и, дрожа, с потом тревоги и испуга, выступившим на моем лице, хотел подняться и скрыться.
Но Алези, протянув над столом руку, удержал меня.
— Вы помните тот день, когда вы хотели покончить самоубийством в вашей камере? Это была камера № 461, в четвертом боковом коридоре, помните? Мы прибежали как раз вовремя, чтобы помешать вам вскрыть себе вены. Вы думали, что мы не заметили исчезновения кусочка разбитого стекла? — И он засмеялся, отбивая на краю стола пальцами ритм своего смеха.
— К чему оживлять эти воспоминания? Вы были тогда очень добры ко мне. Но я не знаю, следует ли мне быть вам благодарным? Вы спасли меня.
— Я был неправ, что спас вас, — сказал Алези. И после долгого молчания он спросил, понизив голос: — Почему вы хотели умереть?
— Мне было страшно, — ответил я.
— Вы помните тот день, когда вы принялись кричать, стучать кулаками в дверь вашей камеры?
— Мне было страшно, — повторил я.
Старик принялся смеяться, полузакрыв глаза.
— Мне тоже было страшно, — сказал он, — даже тюремщики боятся. Не правда ли, Пиччи? Разве это неправда, Корда, что тюремщики тоже боятся? — добавил он, оборачиваясь.
Я поднял глаза и увидел возникающие во тьме, за спиной старика, лица Пиччи и Корда — двух моих тюремщиков из Реджина Коэли. Они улыбались с видом скромным и доброжелательным, и я тоже улыбнулся, поглядев на них с грустью и уважением.
— Нам тоже было страшно, — сказали Пиччи и Корда.
Они были сардинцы, Пиччи и Корда, двое маленьких и худощавых сынов Сардинии, с очень чернявыми волосами, слегка косящими глазами, оливковыми лицами, осунувшимися от векового голода и малярии, похожие, в обрамлении этих очень черных волос, спадавших на висках до самых бровей, на лица византийских святых с их серебряным фоном.
— Нам было страшно, — повторили Пиччи и Корда, понемногу исчезая в тени.
— Мы все трусливы — вот в чем истина, — сказал старый еврей; мы все кричали «Браво» и аплодировали. Но может быть и другим тоже страшно. Они хотят нас убить, потому что знают, что мы боимся. Хи-хи-хи… Он смеялся, полузакрыв глаза, уронив голову на грудь и сцепив обе руки на краю стола.
— Вы можете нам помочь, — сказал старик, поднимая лицо. — Генерал Шоберт и полковник Люпу вас послушают. Вы — не еврей, бедный еврей из Ясс, вы — итальянский офицер…
Я стал молча смеяться. Мне было немного стыдно себя, стыдно быть итальянским офицером в эту минуту.
— Вы — итальянский офицер; они обязаны вас выслушать. Быть может, вы еще сумеете помешать избиению.
Говоря это, старик поднялся со стула и глубоко склонился. Два других старых еврея и мой друг Кане тоже встали и низко склонились.
— У меня мало надежды, — сказал я, провожая их к двери.
Они пожали мне руку один за другим, молча перешагнули порог и стали спускаться по первому маршу лестницы. Я видел, как их поглощала эта крутая лестница и они, мало-помалу, исчезали: сначала ноги, потом спины и, наконец, головы. Они скрылись из глаз, будто опустившись в могилу.
Только тогда я заметил, что лежу на кровати. Во тьме комнаты, которую еле-еле освещала готовая угаснуть свеча, я видел четырех евреев, сидящих снова вокруг стола. Их одежды были разодраны, лица окровавлены. Кровь медленно стекала с их разбитых лиц в рыжие бороды. Кане тоже был ранен: у него был расколот череп, и в глазных орбитах застыли сгустки крови. Крик ужаса сорвался с моих губ. Я очнулся, сидя на постели, но был не в силах сделать малейшее движение. Холодный пот катился по моему лицу. И долго еще перед моими глазами стояло странное видение этих окровавленных призраков, сидевших кругом стола. Наконец, слабый свет утра, свет, напоминавший грязную воду, понемногу стал просачиваться в комнату, и я упал на постель в прострации глубокого сна.
* * *
Я проснулся очень поздно; должно быть, я проспал часа два. Люстрагерия, расположенная на углу Страды Лапушнеану, была заперта; окна Жокей-клуба тоже были закрыты, согласно священному обычаю послеобеденной сьесты. На кладбище группа рабочих, строителей и извозчиков, которые с утра и до вечера стояли перед Фундацией, молча закусывали, сидя на могилах и ступенях убежища. Жирный запах брынзы поднимался к моим окнам, сопровождаемый тучами мух. «Здравствуйте, домнуле капитан», — говорили извозчики, поднимая глаза и кивая головами. В Яссах уже все меня знали. Даже рабочие поднимали головы, показывая мне свой хлеб и свой сыр, с жестами, приглашающими разделить с ними их трапезу. «Мульцумеск!» (спасибо!) — кричал я, в свою очередь, показывая им свой хлеб и сыр.
Но что-то было в воздухе, что-то носилось в нем.
Небо, покрывавшееся черными тучами, тихо поквакивало, словно болото. Румынские жандармы и солдаты расклеивали на домах большие афиши с прокламацией полковника Люпу: «Все жители домов, из которых будут произведены выстрелы по воинским частям, равно как и обитатели домов с ними соседних, будут расстреливаться на месте — мужчины и женщины, фара копии[290], исключая детей». Полковник Люпу, — подумал я, — уже подготовил себе алиби. К счастью, он любит детей. Мне доставляло удовольствие думать, что есть в Яссах, по крайней мере, один порядочный человек, который любит детей. Отряды жандармов затаились в засадах, в садах и подъездах домов. Патрули солдат проходили мимо, отбивая шаг по асфальту. — «Здравствуйте, домнуле капитан!» — улыбаясь, говорили рабочие, извозчики и строители, сидевшие на могилах. Листья деревьев, которые казались еще более зелеными на фоне сумрачного неба, как будто покрытые фосфоресцирующей зеленой краской, шелестели под влажным и горячим ветром, который дул с Прута. Группы детей гонялись друг за другом между гробницами и старыми каменными крестами. Это была сценка, живая и радостная, которой жестокое, свинцовое и тяжелое небо придавало характер последней игры, игры безнадежной и напрасной.
Странная тревога нависала над городом. Ужасающее бедствие, точно огромный массив, готовое, будто стальная, обильно смазанная маслом машина, дробить, толочь, вымолачивать дома, деревья, улицы, жителей Ясс — фара копии. Если бы я, по крайней мере, мог что-то сделать, чтобы предупредить погром!
Но штаб генерала Шоберта находился в Копу; у меня не хватало смелости отправиться в Копу. Генерал Шоберт недурно издевался над евреями. Старый солдат из баварской военной семьи, добрый христианин, не вмешивается в некоторые дела: с какой стороны все это его касается? А я? С какой стороны это касается меня? Надо мне пойти, разыскать генерала Шоберта, подумал я. Я должен, по меньшей мере, попытаться. Никогда нельзя знать заранее.
Я направился пешком в Копу. Но дойдя до Университета, я остановился посмотреть на памятник поэту Эминеску[291]. Деревья аллеи были полны птиц. Было свежо в тени деревьев. Маленькая птичка сидела на плече у Эминеску. В эту минуту я вспомнил, что в моем кармане лежит рекомендательное письмо к сенатору Садовяну. Это был культурный человек, сенатор Садовяну, избранник муз. Быть может, он предложит мне стакан ледяного пива; наверное, он станет читать мне стихи Эминеску. «Ла драку» генерала фон Шоберта. Я вернулся обратно, пересек двор Жокей-клуба и стал подниматься по лестнице: быть может, лучше было бы пойти поговорить с полковником Люпу? Он расхохочется мне в лицо. — «„Домнуле капитан“, — скажет он, — что вы хотите, чтобы я знал о вашем погроме? Я не колдун!» И, однако, если на самом деле готовится погром, полковник Люпу должен принимать в этом участие. В восточной Европе погромы всегда подготовляются и осуществляются при участии властей. По ту сторону Дуная, по ту сторону Карпат случайность никогда не играет роли в событиях; она не имеет никакого веса даже в явлениях «стихийных».. Он засмеется мне в лицо. «Фара копии… ля драку полковника Люпу, его также».
Я спустился по лестнице, прошел, не оборачиваясь, мимо кафе-ресторана Корсо, вошел на кладбище и вытянулся на одной из могил, в тени акации, с листьями зелеными и прозрачными. Я смотрел на черные тучи, сгущавшиеся как раз над моей головой. Было жарко. Мухи прогуливались по моему лицу. Муравей полз по руке. И потом… с какой стороны все это меня касалось? Я сделал все, что было в человеческих силах, чтобы помешать избиению; не моя вина, если я не мог сделать больше. «Ля драку Муссолини, — сказал я, громко, зевая, — ля драку его самого и весь его народ героев! „Сиамо ин пополо ди эрои…“»[292] — начал я напевать, — …кучу выблядков — вот, что он из нас сделал. Я тоже, я был отличным героем — ничего не скажешь…
Небо квакало, словно болото.
На закате я был разбужен воем сирен. Мне было трудно подняться и я слушал, зевая, рокот моторов, трескотню зениток, разрывы бомб, тяжелый, долгий, глухой грохот обваливающихся домов. Этот глупый «разбой»! Эти смелые девушки, зажатые в своих кожаных куртках, сбрасывали бомбы на ясские дома и сады. Лучше бы они оставались у себя дома и вязали носки, — подумал я и расхохотался. Да, у них, конечно, было и время и желание оставаться дома и вязать носки, у этих смелых девушек! Стук копыт необузданного галопа заставил меня подскочить и сесть на могиле. Влекомая обезумевшей лошадью, телега быстро спускалась по Фундации. Она пронеслась мимо кладбища и налетела на стену напротив, в стороне Люстрагерии. Я увидел лошадь, которая разбила о стену голову и упала, брыкая ногами в воздухе. Вокзал был охвачен пламенем. Густые облака дыма поднимались над кварталом Николина. Немецкие и румынские солдаты пробегали быстрым шагом, с винтовками, взятыми на руку. Раненая женщина тащилась по тротуару. Я снова растянулся на могиле и закрыл глаза.
Внезапно воцарилась тишина. Мальчик, посвистывая, прошел вдоль стены, ограждавшей кладбище. Из пыльного воздуха послышались веселые голоса. Но спустя несколько мгновений сирены вновь завыли. Рокот русских моторов, еще отдаленный, распространялся, как аромат среди жаркого вечера. Батареи Д.С.А., на аэродроме Копу, яростно стреляли. Меня должно быть немного лихорадило. Длительные приступы дрожи пробегали по моим наболевшим костям. Кто, знает, где могла быть Мика, волосатая, точно коза? «Стай, стай!» — кричали патрули в уже сгустившемся мраке. Несколько выстрелов раздалось здесь и там среди домов и садов. Хриплые голоса немецких солдат слышались, заглушаемые шумом автомашин. Из Жокей-клуба доносился смех, французские фразы, звон посуды. Боже, как мне нравилась Мариоара!
Неожиданно я заметил, что уже настала ночь. Батареи в Копу били по луне. Луна, желтая и клейкая, огромная и круглая летняя луна постепенно поднималась в облачном небе. Противозенитные орудия лаяли на луну. Деревья трепетали во влажном ветре, поднимавшемся с реки.
Сухой бешеный лай орудий доносился с холмов. Потом луна запуталась в переплетении древесных сучьев, оставалась мгновение подвешенной к ветке, покачиваясь, словно голова повешенного, и скрылась, поглощенная провалом черных грозовых облаков. Синие и зеленые молнии прорезали небо, и в просветах этих внезапно раскрывающихся ран, мгновенно, словно в осколках разбитого зеркала, виднелись глубокие перспективы ночных пейзажей в ослепительном, мертвенно-бледном зеленом свете.
Когда я покидал кладбище, стал накрапывать дождь. Это был медленный и теплый дождь, казалось, капавший из перерезанной вены. Кафе-ресторан Корсо был закрыт. Я принялся стучать кулаками в дверь, призывая Мариоару.
Наконец, дверь приоткрылась, и сквозь щель я услышал жалобный голос Мариоары: «Ай-ай, домнуле капитан, я не могу открыть, затемнение уже объявлено, домнуле капитан, ай, ай, ай!»
Я протянул руку и через щель крепко, но ласково взял ее за плечо.
— О, Мариоара, Мариоара, — открой мне, Мариоара, я голоден, Мариоара!
— Ай-ай, домнуле капитан, я не могу, домнуле капитан, ай-ай, ай!
У нее был кислый и жалостный голос. Сжимая ее маленькое плечо с нежными косточками, я чувствовал, как она дрожит вся, с головы до ног, быть может, от сильной и нежной ласки моей руки, быть может, от этого воздуха, благоухающего травами под летним дождем, может быть, от этого теплого и расслабляющего летнего вечера, быть может, из-за луны, этой предательской луны. (Быть может, Мариоара, думала также о том вечере, когда она пришла вместе со мной на заброшенное кладбище смотреть, как серп молодого месяца тихо жнет листву акаций. Мы сидели тогда на одной из могил; я сжимал ее в объятиях, и сильный аромат ее молодого тела, ее вьющихся черных волос, этот запах, тонкий и резкий, византийский запах, свойственный румынкам, гречанкам и русским женщинам, запах роз и запах белой кожи поднимался к моему лицу и вызывал во мне странное опьянение. Мариоара взволнованно дышала, прижимаясь к моей груди, и я говорил ей: «Мариоара», — говорил ей только «Мариоара», шепотом, и Мариоара смотрела на меня сквозь свои длинные черные ресницы, свои ресницы из черной шерсти.)
— Ай-ай, домнуле капитан, я не могу открыть, домнуле капитан, ай, ай, ай! — И она смотрела на меня одним глазом через дверную щель. Потом она сказала: — Подождите, одну минутку, домнуле капитан, — и тихо притворила дверь. Я слышал, как она удаляется, слышал легкую поступь ее босых ног. Она вернулась тотчас же и принесла мне немного хлеба и несколько кусков говядины.
— О, спасибо, Мариоара, — сказал я, опуская на ее грудь, в вырез кофты, несколько ассигнаций по сто лей. Мариоара смотрела на меня одним глазом сквозь дверную щель, и я чувствовал тяжелые капли теплого дождя, падавшие мне на затылок и скатывавшиеся вдоль спины. — «О, Мариоара», — повторял я, лаская ее плечо, и она склонила голову, прижавшись щекой к моей руке. Я нажимал на дверь коленом, а Мариоара надавливала на нее изнутри всей своей тяжестью, не давая мне войти. — «Ай, ай, ай, домнуле капитан, — говорила она, ай, ай, ай!» — и она улыбалась, глядя одним глазом сквозь свои длинные ресницы из черной шерсти.
— Мерси, Мариоара, — сказал я, лаская ее лицо.
— Ля реведере, домнуле капитан, — ответила Мариоара шепотом, и когда я уходил под дождем, она все еще смотрела на меня в дверную щель.
Усевшись на пороге моего дома, я слушал тихий шепот дождя в нежной листве акаций. За изгородью одного из садов, примыкающих к кладбищу, тревожно завывала собака. Мариоара — еще ребенок, думал я, ей всего 16 лет, Мариоаре. Я смотрел на черное небо и желтый отсвет луны, пробивавшийся сквозь темную вуаль облаков. Она еще ребенок, Мариоара… И я слушал тяжелый шаг патрулей и шум немецких грузовиков, поднимавшихся в направлении Копу и следовавших в сторону Прута. Внезапно сквозь теплую паутину дождя снова донеслось жалобное рычание сирен.
Вначале это было нечто вроде отдаленного мурлыканья очень высоко в небе, или жужжания пчел, понемногу все приближавшегося, пока оно не стало совсем громким и таинственным в этом черном небе. Жужжание пчел, высокое и удаленное, язык нежный и скрытный, голос неясный, как воспоминание о пчелином жужжании в лесу. И тогда я услышал голос Мариоары, взывавший ко мне среди могил: — «Домнуле капитан! — кричала она. — Ай, ай, ай, домнуле капитан!»
Она убежала из Корсо. Ей стало страшно оставаться одной; она хотела вернуться к себе; она жила в стороне Страды делла Узине, близ Центральной электростанции. Но она не осмеливалась пересечь город — патрули стреляли в прохожих. — «Стой! стой!» — кричали они, но тотчас же стреляли, не оставляя вам времени на то, чтобы поднять руки. «Ай, ай, ай, проводите мена домой, домнуле капитан». Я видел, как сверкали во тьме ее черные глаза: они то вспыхивали, то угасали в теплом мраке, словно на границе ночи, отдаленной от меня, словно на границе черной запретной ночи.
Перед нами проходили, в молчании, среди крестов и насыпей, группы людей, пришедших, чтобы укрыться в убежище, вырытом посреди кладбища. Убежище было похоже на очень древнюю могилу: каменные плиты и гробницы составляли его кровлю, наваленные, как гигантская черепица; туда, в сырую землю, спускались по крутой деревянной лесенке и попадали в комнату, сходную со склепом, где по стенам стояло несколько скамеек. Тени мужчин, женщин, детей, полуобнаженные, спускались в подземелье, молча, словно духи умерших, возвращающиеся в свой мрачный ад. Я уже знал теперь их всех, так как это были всегда одни и те же. Они проходили мимо меня каждый вечер, скрываясь в убежище: хозяин Люстрагерии, расположенной напротив моего дома, два маленьких старичка, которых я всегда видел сидящими у подножия статуи Объединения[293], между Жокей-клубом и Фундацией, извозчик, конюшня которого была позади кладбища, продавщица газет с угла Фундации, комиссионер из Десфачере де винури, со своей женой и пятью детьми, продавец «тютюна» из табачной лавочки, рядом с почтой.
— Буна сера, домнуле капитан, — говорили они, проходя мимо. Я отвечал им: «Буна сера».
Мариоара не хотела спускаться в убежище; она хотела вернуться домой, к себе, ей было страшно; она хотела вернуться. В другие ночи она спала на диване, в зале кафе-ресторана Корсо, но в этот вечер ей хотелось вернуться домой, она вся дрожала, ей хотелось вернуться.
— В нас будут стрелять, Мариоара, — говорил я.
— Ну, ну, солдаты не могут стрелять в офицера.
— А кто знает? Сейчас темно. Они станут стрелять в нас, Мариоара.
— Ну, ну, — говорила Мариоара. — Румынские солдаты не стреляют в итальянского офицера, не правда ли?
— Ой, нет! Они не будут стрелять в итальянского офицера, им будет страшно. Идем, Мариоара! Полковник Люпу, он тоже боится итальянского офицера.
Мы пустились в путь, прижавшись друг к друг и держась поближе к стене, под теплым дождем. Грудь Мариоары при каждом шаге слегка касалась моей руки; это было легкое прикосновение груди маленькой девочки. Мы спустились к Страда делла Узине, среди призраков выпотрошенных домов. Из деревянных лачуг и домишек из рубленой соломы, смешанной с глиной, слышались голоса, смех, плач детей, хриплые песни и триумфальные голоса граммофонов. Сухой треск ружейных выстрелов пронизывал ночь там, за вокзалом. На подоконнике одной лавочки старый граммофон пел хрипло и печально:
Вой, вой, мандрелор вой…[294]Время от времени мы укрывались за стволом дерева, за оградой какого-нибудь сада, задерживая дыхание, пока не затихнут вдали шаги патруля. «Вот! — сказала Мариоара. — Здесь мой дом!» Массив здания Центральной электростанции из красного кирпича поднимался перед нами во тьме, похожий на башню элеватора. Среди звуков вокзала выделялись жалобные свистки паровозов.
— Ну, ну, домнуле капитан, ну, ну, — говорила Мариоара.
Но я сжимал ее в объятиях, лаская ее вьющиеся волосы, ее брови, густые и жесткие, ее рот, маленький и тонкогубый.
— Ну, домнуле капитан, ну, ну, — сказала Мариоара, обеими руками упираясь мне в грудь, чтобы оттолкнуть меня.
Внезапно гроза взорвалась над крышами города, как мина. Черные лохмотья туч, деревья, дома, дороги, люди и лошади подскочили вверх, закрученные в порыве ветра. Словно поток теплой крови хлынул из вспоротых облаков, разъятых молниями, красными, синими и зелеными. Группы румынских солдат пробежали с криками «парашиутист! парашиутист!» Они бежали, поднимая вверх винтовки и стреляя в воздух. Вопль, слабый и неопределенный, поднимался в нижней части города одновременно с высоким и отдаленным рокотом русских моторов.
Мы прижались к ограде палисадника, окружавшего дом Мариоары. В это время два солдата, которые бежали в конце улицы, выстрелили по нас, не останавливаясь, на бегу; мы услышали отчетливый удар ручных гранат об ограду. Подсолнух, который был выше обтесанных столбов ограды, склонивший голову со своим круглым глазом циклопа, отсутствующим и полуприкрывшим большой черный зрачок длинными желтыми ресницами, высился рядом. Я сжал Мариоару в объятиях, и Мариоара уступала мне, несколько запрокинувшись, устремив глаза к небу. Вдруг она произнесла шепотом: «О, че фрумоз, че фрумоз! — О, как красиво, как красиво!» Я тоже посмотрел вверх, и возглас изумления сорвался с моих губ.
Там, вверху, были люди, которые ходили по грозовой кровле. Маленькие, неловкие и пузатые, они спускались по водосточным трубам облаков, держа в одной руке огромный белый зонт, колеблемый порывами ветра. Быть может, то были старые профессора ясского университета, в своих серых шапочках и зеленых рединготах[295], закапанных смолой, которые возвращались к себе, спускаясь по длинной улице, ведущей к Фундации. Они медленно брели под дождем в мертвенно-бледном свете молний, беседуя между собой, и было смешно видеть их вверху, странно передвигающими ноги, словно ножницы, раскрывающиеся и смыкающиеся, чтобы, разрезая облака, проложить себе дорогу в этой паутине дождя, опустившейся на кровли города. — «Ноапте буна, домнуле профессор, — говорили они друг другу, склоняя головы и двумя пальцами приподнимая свои серые шапочки, — ноапте буна». Или, быть может, то были благородные ясские дамы, горделивые и прекрасные, возвращавшиеся после прогулки в парке, укрывая свои нежные лица под зонтиком из синего или розового шелка, отороченного белым гипюром, в то время как за ними на известном расстоянии следовали их старые и одинокие черные экипажи, с евнухами-кучерами, размахивающими длинными красными спиралями их кнутов над блестящими крупами прекрасных коней с длинными булаными гривами. Быть может, даже то были именитые люди Жокей-клуба, толстые молдавские джентльмены, с бакенбардами, подстриженными по парижской моде, одетые у Сэвилля Роу, с маленькими галстучками, задушенные твердой узостью высоких крахмальных воротничков, напоминающих героев Поль де Кока[296]. Они возвращались к себе пешком, чтобы подышать немного свежим воздухом после нескончаемых партий бриджа в прокуренных залах Жокей-клуба, вдыхая запах роз и табака. Они двигали бедрами, приводя в действие свои ножницы, вытянув правые руки, чтобы удерживать длинные ручки своего огромного белого зонта, слегка сдвинув свои высокие серые шапочки на одно ухо, как известные пожилые львы Домье[297]… (виноват, я ошибся, Каран д’Аша[298]).
— Это спасается ясская знать. Говорю тебе, они боятся войны и хотят укрыться в Атеней Паласе[299] Бухареста.
— О нет, они не спасаются! Там, внизу, — дома цыган; они хотят ухаживать за цыганками, — сказала Мариоара, глядя на летающих людей.
Облака казались большими кронами зеленых деревьев. Люди в серых шапочках, женщины, с их шелковыми зонтами, отороченными гипюром, казалось, передвигались между столами павильона в Эрменонвилле[300], на фоне зеленых деревьев, деревьев синих и розовых Порта Дофине на картине Мане. Это был зеленый, розовый, синий и серый Мане с его нежного пейзажа, его газона и листвы, который показывался и исчезал в просветах облаков каждый раз, когда грозовой удар вверху обрушивал там, вверху, высокие замки, покрытые пурпуром молний.
— В самом деле, это — точно праздник, — сказал я. — Галантный весенний праздник в прекрасном парке.
Мариоара созерцала «полубогов» Жокей-клуб, «белые божества» Ясс (Яссы тоже ведь находятся в стороне Германта, в стороне провинциального Германта, этой идеальной провинции, которая и есть настоящая парижская родина Пруста, а в Молдавии каждый знает Пруста наизусть), она созерцала высокие цилиндры, монокли, белые гвоздики в петлицах серых и коричневых пиджаков, шелковые зонтики, отороченные гипюром, руки, до локтей скрытые в кружевных перчатках, маленькие шляпки, населенные сверху птичками и цветами, маленькие хрупкие ножки, скромно выглядывающие из-под плиссированных платьев. «О! Я так хотела бы побывать на этом празднике! Я тоже хотела туда отправиться в прекрасном шелковом платье», — сказала Мариоара, ощупывая своими тонкими пальцами бедное платьишко, хлопчатобумажное, в пятнах от чьорбы де пиу.
— О! Посмотри, посмотри, как они удирают! Посмотри, как дождь преследует их, Мариоара. Праздник окончен, Мариоара.
— Ля реведере, домнуле капитан, — сказала Мариоара, опуская щеколду, запиравшую вход в сад. Дом Мариоары представлял собой деревянную лачугу, одноэтажную, с кровлей из красной черепицы. Окна были заперты; ни один луч света не просвечивал сквозь решетчатые ставни.
— Мариоара! — позвал женский голос из дома.
— Ай, ай, ай, — сказала Мариоара. — Ля реведере, домнуле капитан.
— Ля реведере, Мариоара, — ответил я, прижимая ее к груди.
Мариоара, уступая моему объятию, смотрела в небо. Светящийся след трассирующих пуль пронизывал черное стекло ночи. Можно было принять его за коралловые колье, обвивавшие невидимые плечи женщин, за цветы, брошенные в бездну, затянутую черным бархатом, за фосфоресцирующих рыб, трепещущих в ночном море, за светлячков, с отпечатками алых губ, гибнущих в тени шелкового зонта, за розы, расцветающие в тиши сада безлунной ночью незадолго до рассвета. И пожилые львы Жокей-клуба, старые профессора университета, возвращались с праздника по домам среди последних вспышек фейерверка, укрываясь от дождя под своими огромными белыми зонтами.
Затем небо постепенно угасло, дождь прекратился сразу, и луна показалась в разрыве облаков; можно было подумать, что этот пейзаж был написан Шагалом. Еврейское небо Шагала, населенное еврейскими ангелами, еврейскими облаками, еврейскими собаками и лошадьми, покачивающимися на лету над городом, евреи, играющие на скрипках, сидя на кровлях домов, или порхающие в бледном небе, отвесно спускаясь над улицами, или старые еврейские мертвецы, лежащие на тротуарах между горящими ритуальными светильниками; пары еврейских влюбленных, возлежащих между небом и землей, на краю облака, зеленого, точно лужайка. И под еврейским небом Шагала, среди этого шагаловского пейзажа, освещенного круглой прозрачной луной, над кварталами Николина, Сокола, Пакурари, поднимался неопределенный вопль, трескотня пулеметов, глухие разрывы гранат.
— Ай, ай, ай! Они убивают евреев! — сказала Мариоара, задерживая дыхание.
Вопль звучал даже из центра города, из высоких кварталов, расположенных возле площади Унирии и церкви Трех Эрари[301]. Заглушая этот неопределенный крик, который, казалось, принадлежал людям, убегающим по улицам, раздавались немецкие слова, выкрикиваемые ужасным хриплым голосом, и «Стай! Стай!» румынских жандармов и солдат.
Вдруг винтовочная пуля просвистела где-то с нами рядом. В конце улицы послышался большой шум, в котором сливались немецкие, румынские и еврейские голоса. Толпа бегущих людей пронеслась мимо нас: это были женщины, мужчины, дети, преследуемые группой жандармов, которые бежали следом, стреляя. Совсем сзади брёл, пошатываясь, солдат, с лицом, залитым кровью, кричащий: «Парашиутист! Парашиутист!», устремляя в небо свою винтовку. Он упал на колени в нескольких шагах от нас, ударился головой о забор и остался лежать ничком на земле под медленным дождем советских парашютистов, которые спускались с неба один за другим, подвешенные к их огромному белому зонту и легко ступали ногами на крыши домов.
— Ай, ай, ай, — закричала Мариоара. Я поднял ее с земли, бегом пронес через садик и толкнул локтем дверь.
— Ля реведере, Мариоара, — сказал я, предоставив ей скользить в моих руках все ниже, до тех пор, пока ее ноги не коснулись земли.
— Ну, ну, домнуле капитан, ну, ну! — кричала Мариоара, прижимаясь к моей груди, — ну, ну, домнуле капитан, ай, ай, ай! И она впилась зубами мне в руку, кусая ее с дикой яростью и завывая при этом, как собака.
— Ох, Мариоара, — прошептал я, прикасаясь губами к ее волосам, в то самое время, как моя рука, оставшаяся свободной, ударяла ее по лицу, чтобы ее зубы отпустили меня. — О, Мариоара, — шептал я, прикасаясь губами к ее уху. Я тихонько подтолкнул ее в темный дом, прикрыл за ней дверь, прошел через сад и удалился по пустынной улице. Время от времени я оборачивался, чтобы посмотреть на палисадник, подсолнечник, поднимавшийся над забором ограды, маленький домик с кровлей из красной черепицы, испещренной лунными бликами.
Закончив подъем по улице, я обернулся. В городе бушевало пламя. Густые облака дыма поднимались над нижними кварталами вдоль берегов Балуй. Вокруг зданий, охваченных огнем, дома и деревья были ярко освещены и казались крупнее, чем на самом деле, будто в фотографическом увеличителе. Я различал трещины в штукатурке, ветви и листья. В этой сцене было одновременно нечто мертвенное и в то же время резко определенное, именно так, как это бывает на фотографии, и я легко мог бы подумать, что я созерцаю фотоснимок, холодный и призрачный, если бы не смутный вопль, который слышался со всех сторон, и жалобный вой сирен, долгие свистки паровозов и треск пулеметов не придавали этому страшному видению оттенка живой и непосредственной реальности.
Поднимаясь вверх по извилистым улочкам, карабкающимся к центру, я слышал вокруг безнадежный вопль, хлопанье дверей, звон разбиваемых стекол и посуды, придушенное завыванье, крики мольбы: «Мама! Мама!» ужасающие мольбы: «ну! ну! ну!» И время от времени, с задней стороны ограды, из глубины сада, изнутри дома, сквозь полуоткрытые ставни, — вспышку, сухой звук выстрела, свист пули и хриплые, ужасные немецкие голоса. На площади Унирии группа эсэсовцев, опустившись на колено у памятника князю Гуза Вода, стреляла из автоматов в направлении маленькой площади, на которой возвышается памятник князю Гика[302], в молдавской одежде, с его меховым кафтаном и большой папахой, надвинутой на лоб. В свете пожаров была видна толпа, черная и жестикулирующая (в большинстве своем женщины), скучившаяся у подножия памятника. Время от времени кто-нибудь там поднимался, бежал туда или сюда через площадь и падал под пулями эсэсовцев. Большие группы евреев убегали по улицам, преследуемые солдатами и штатскими, охваченными бешенством, вооруженными ножами и железными прутьями. Группы жандармов ударами прикладов взламывали двери домов; тотчас окна распахивались настежь: показывались женщины в одних сорочках; они кричали, поднимая руки к небу, некоторые выбрасывались в окна, с мокрым хряском ударяясь лицом об асфальт тротуара. Отряды солдат бросали гранаты в маленькие отдушины, открытые на одном уровне с улицей, ведущие в погреба, в которых много людей напрасно искали убежища; некоторые вставали на четвереньки, чтобы посмотреть на результаты взрыва внутри погреба, и затем возвращались к друзьям, чтобы посмеяться с ними вместе. Там, где избиение было всего сильнее, ноги скользили в крови. Повсюду веселый и жестокий труд погрома наполнял улицы и площади эхом выстрелов, плачем, страшным воем и диким смехом.
Когда я, наконец, добрался до итальянского консульства, по зеленеющей улице, проходящей за стеной старого заброшенного кладбища, консул Сартори сидел на стуле перед порогом. Он курил сигарету. Вид у него был усталый и раздосадованный. Но он благодушно курил со свойственной ему неаполитанской флегмой. Но я-то знаю неаполитанцев: я знал, что он страдает. Изнутри слышались подавленные рыдания.
— Недоставало только этих неприятностей, — сказал Сартори. — Я спрятал человек десять этих несчастных, некоторые из них ранены. Не хотите ли вы помочь мне, Малапарте? Что до меня, то я плохой санитар.
Я вошел в служебные помещения консульства. Лежа на диванах или сидя на полу в углах (одна маленькая девочка пряталась под письменным столом Сартори), несколько женщин, бородатых стариков, пять или шесть мальчиков и трое молодых людей, показавшихся мне студентами, были собраны здесь. У одной из женщин лоб был рассечен железным прутом; стонал студент, раненый в плечо пулей. Я распорядился согреть немного воды и с помощью Сартори промыл раны и перевязал их бинтами, сделанными из разорванной простыни. «Экая досада! — повторял Сартори. — Только этого еще недоставало. И как раз нынче вечером, когда у меня болит голова».
В то время как я перевязывал женщину, раненую в лоб, она повернулась к Сартори и стала благодарить его на французском языке за то, что он дал ей жизнь, называя его «господин маркиз». Сартори посмотрел на нее с досадующим видом и сказал: «Почему Вы называете меня маркизом? Я просто месье Сартори». Он мне нравился, этот человек, полный и благодушный, который в этот вечер отказывался от титула, на который он не имел права и который, тем не менее, носил не без удовольствия. Неаполитанцы в опасные минуты способны приносить самые большие жертвы. «Передайте мне, прошу Вас, еще один бинт, дорогой маркиз!» — сказал я ему, чтобы возместить ему эту жертву.
Мы снова уселись на пороге: Сартори — на стуле, я — на ступеньке. Сад, окружающий виллу консульства, был полон густых акаций и сосен. Разбуженные светом пожарищ, птицы двигались на ветках и хлопали крыльями. «Им страшно, они не поют», — сказал Сартори, поднимая глаза к вершинам деревьев. Потом, указывая рукой на темное пятно на стене дома совсем рядом с дверью, он добавил: посмотрите на эту стену — на ней пятно крови. Один из этих несчастных укрылся внутри. Жандармы вошли и наполовину убили его ударами прутьев. Потом они увели его. Это был хозяин нашей виллы, очень славный человек. — Он закурил новую сигарету и медленно повернулся, глядя в эту сторону: — Я был один, — сказал он, — что я мог предпринять? Я протестовал; я сказал, что напишу об этом Муссолини. Они рассмеялись мне в лицо.
— Это в лицо Муссолини они смеялись, не в ваше лицо.
— Малапарте, на дьявола вы обо мне беспокоитесь? Я пришел в ярость, а когда я прихожу в ярость… — сказал он своим благодушным тоном. Он продолжал курить. — Я еще со вчерашнего дня просил у полковника Люпу пикет для охраны консульства.
Он ответил мне, что в этом нет необходимости.
— Возблагодарите Бога! Лучше не иметь никакого дела с людьми полковника Люпу. Полковник Люпу — убийца.
— Ну, да, конечно, это убийца. Жаль, такой красивый мужчина!
Я стал смеяться, отворачиваясь, чтобы Сартори не заметил, что я смеюсь. В это время мы услышали в конце улицы отчаянные крики, несколько пистолетных выстрелов, затем эти ужасные, эти непереносимые, глухие, и словно тусклые, удары прикладов о черепа.
— Они, в самом деле, начинают мне надоедать! — сказал Сартори. Он встал, со своей неаполитанской флегмой, мирно пересек сад, открыл решетку и сказал: «Входите сюда! Входите сюда!» Я вышел на середину улицы и направил в сад толпу людей, потерявших голову от страха. Какой-то жандарм схватил меня за руку; я изо всех сил ударил его ногой в живот. «Вы совершенно правы, — спокойно сказал Сартори, — эта скотина вполне этого заслуживает». Он, должно быть, пришел в сильную ярость, если начал прибегать к ругательствам. Потому что для Сартори слово «скотина» — это грубое ругательство.
Мы провели всю ночь, сидя у порога и беспрестанно куря. Время от времени мы выходили на улицу и направляли в консульство оборванных людей, залитых кровью. Таким образом, мы собрали их около сотни.
— Следовало бы накормить и напоить чем-нибудь этих несчастных, — сказал я Сартори, когда мы снова уселись у порога, оказав первую помощь нескольким раненым.
Сартори посмотрел на меня взглядом побитой собаки: «У меня оставалась кое-какая провизия, — сказал он, — но жандармы, вторгшиеся в консульство, все украли. Терпение!»
— О веро? (Это правда?) — спросил я на неаполитанском диалекте. — О веро! — ответил Сартори, вздыхая.
Мне доставляло удовольствие находиться рядом с ним в эти минуты. Я чувствовал себя в безопасности возле этого благодушного неаполитанца, который дрожал внутренне от страха, отвращения, жалости и ничем не выдавал этого.
— Сартори, — проговорил я, — мы боремся, защищая цивилизацию против варварства.
— О веро? — сказал Сартори.
— О веро! — ответил я.
Уже рассвет озарил небо, теперь свободное от облаков. Дым пожарищ висел между вершинами деревьев и над крышами. Становилось прохладно.
— Сартори, — сказал я, — когда Муссолини узнает о том, что они вломились в консульство в Яссах, он с ума сойдет от ярости!
— Малапарте, на дьявола вы обо мне беспокоитесь, — ответил Сартори. — Муссолини лает, но не кусает. Он выставит меня вон, за то, что я предоставил убежище этим несчастным евреям.
— О веро?
— О веро, Малапарте.
Спустя минуту Сартори встал и предложил мне идти укладываться спать.
— Вы устали, Малапарте. Теперь все уже кончено. Мертвые — умерли. Ничего не остается делать.
— Я не устал, Сартори. Идите, ложитесь в постель, я останусь здесь нести охрану.
— Сделайте мне удовольствие пойти отдохнуть хотя бы часок! — сказал Сартори, снова усаживаясь на своем стуле.
Пересекая кладбище, я мельком увидел в неясном свете двух румынских солдат, сидевших на могиле. Они держали в руках по куску хлеба и ели молча.
— Здравствуйте, домнуле капитан, — сказали они. — Здравствуйте, — ответил я.
Мертвая женщина лежала распростертая между двух могил. Собака скулила за плетнем. Я бросился в постель и закрыл глаза. Я чувствовал себя униженным. Отныне все было кончено. Мертвые были мертвы. Ничего не оставалось делать. Ла дракю, — думал я. Это было ужасно, что ничего не оставалось делать.
Не сразу, но я уснул, и через раскрытое окно я видел небо, светлевшее на рассвете, которое там и здесь еще лизали мертвенные отблески пожаров. Я заметил в небе человека, который прогуливался, придерживая согнутой рукой огромный белый зонтик. Он смотрел вниз.
— Приятного вам отдыха, — сказал мне воздушный человек, кивая головой и улыбаясь.
— Мерси, хорошей прогулки! — ответил я ему.
Я проснулся спустя часа два. Было ясное утро; воздух, освеженный ночной грозой, сверкал, как будто все на свете было покрыто прозрачным лаком. Я подошел к окну и посмотрел на улицу Лапушнеану. Она была усеяна очертаниями людей, застывших в беспорядочных позах. Тротуары были завалены мертвецами, нагроможденными друг на друга. Несколько сотен трупов были оставлены посреди кладбища. Стаи собак обнюхивали мертвых с этим испуганным, униженным видом, свойственным псам, разыскивающим своего хозяина. Они были полны уважения и сострадания и бродили среди жалких тел, словно боялись наступить на эти окровавленные лица, судорожно сжатые руки. Команды евреев, под наблюдением жандармов и солдат, вооруженных автоматами, работали, оттаскивая трупы в сторону, освобождая от них проезжую часть улицы и укладывая их вдоль стен, чтобы они не мешали проезду машин. Проезжали немецкие и румынские грузовики, нагруженные трупами. Мертвый ребенок сидел на тротуаре, в стороне Люстрагерии, прислоненный к стене спиной, свесив на плечо голову.
Я отступил, закрыл окно, сел на кровать и начал потихоньку одеваться. Время от времени я был вынужден ложиться на спину, чтобы удержать подступавшую рвоту. Вдруг я, как мне показалось, услышал шум веселых голосов, смех, веселую перекличку, призывы и оживленные ответы. Сделав над собой усилие, я подошел к окну снова. На улице было много народа. Отряды солдат и жандармов, группы мужчин и женщин из простонародья, цыгане, с длинными вьющимися волосами, спорили между собой, весело перекликаясь, и занимались тем, что раздевали и грабили трупы, приподнимая их, опрокидывая, переворачивая с боку на бок, чтобы снять с них одежду — пиджаки, брюки, кальсоны; упираясь ногой в животы мертвых, стаскивали с них сапоги; один бежал бегом, чтобы захватить свою долю добычи, другой удалялся с отягощенными ею руками. Это было движение взад и вперед, бодрое; веселая работа, одновременно ярмарка и праздник. Голые мертвецы лежали распростертые и брошенные в ужасающих положениях.
Я спустился с лестницы, перепрыгивая через четыре ступеньки, бегом пересек кладбище, перескакивая через могилы, чтобы не наступать на разбросанные там и здесь трупы, и у самого кладбищенского входа столкнулся с группой жандармов, занятых раздеванием нескольких покойников. Я бросился на них, рыча, отталкивая их и награждая ударами: «Грязные свиньи, — кричал я, — убирайтесь вон, мерзкие сволочи!» Один из них посмотрел на меня с глубоким удивлением, потом, приподняв из кучи собранной одежды несколько комплектов и две или три пары обуви, протянул все это мне, говоря: «Не сердитесь, домнуле капитан, здесь хватит на всех!»
Но вот, вырываясь с площади Унирии и вливаясь на страду Лапушнеану, с радостным перезвоном колокольчиков, показалось ландо княгини Стурдза. На козлах, в своем зеленом плаще, торжественно восседал евнух Григорий, вращая свой кнут над крупами двух прекрасных молдавских коней белой масти, которые бежали рысью, высоко закинув головы с развевающимися длинными гривами. Сидя на высоких и обширных подушках, чопорная и непреклонная княгиня смотрела поверх всего, держа в правой руке свой зонтик из красного шелка, отороченного гипюром.
Горделивый и отсутствующий, князь Стурдза сидел с ней рядом, одетый весь в белое, с лицом, защищенным серой фетровой шляпой, и сжимал в левой руке маленькую книгу, переплетенную в красную кожу.
— Здравствуйте, доамна княгиня, — говорили грабители мертвых, прерывая свою радостную работу для глубокого поклона.
Княгиня Стурдза, вся одетая в синее, в широкой шляпе из итальянской соломки, сдвинутой на ухо, поворачивала голову направо и налево, сухо кивая головой, а князь приподнимал свою фетровую шляпу, делая приветственный знак рукой и, улыбаясь, слегка кивал головой. «Здравствуйте, доамна Княгиня!» С веселым перезвоном колокольчиков экипаж проехал между кучами голых мертвецов и двумя рядами людей, которые почтительно склонялись, сжимая в руках свою жестокую добычу. Он проехал крупной рысью, уносимый своими прекрасными белыми лошадьми, которых кнут евнуха Григория, раздувшегося на козлах от сознания своего высокого назначения, возбуждал легким колебанием своей длинной алой спирали, извивавшейся в воздухе.
VII. КРИКЕТ В ПОЛЬШЕ
— Сколько евреев погибло в Яссах в ту ночь? — с иронией спросил меня Франк, вытягивая ноги в направлении камина и кротко посмеиваясь.
Остальные тоже тихо смеялись, сочувственно поглядывая на меня. Огонь потрескивал в камине. Холодный снег стучал своими белыми пальцами в переплеты окон. Время от времени налетали порывы сильного ветра, ледяного северного ветра; они завывали среди развалин, соседствующих с отелем «Англетер», и закручивали поземку на огромной Саксонской площади. Я встал и подошел к окну; сквозь замерзшие стекла я смотрел на площадь, озаренную луной. Легкие тени солдат проходили по тротуару возле Европейского отеля. Там, где двадцатью годами ранее возвышался собор, ортодоксальный храм Варшавы, разрушенный поляками из послушания смутному пророчеству одного монаха, снег закрыл всё своим незапятнанным покровом. Я обернулся, чтобы взглянуть на Франка, и принялся (я тоже) кротко смеяться.
— В официальном коммюнике вице-президента Румынского Совета Михая Антонеску, — ответил я, — указано пятьсот мертвых, но количество, официально подтвержденное полковником Лупу, составляло семь тысяч истребленных евреев.
— Это почтенная цифра, — сказал Франк, — но манеру нельзя назвать порядочной. Так не действуют.
— Нет, — согласился губернатор Варшавы Фишер, неодобрительно качая головой, — так не поступают.
— Это метод нецивилизованных, — сказал губернатор Кракова Вехтер, один из убийц Дольфуса, с интонацией, выражающей отвращение.
— Румынский народ — нецивилизованный народ, — заявил Франк презрительно.
— Йа, ес хат кейне культур[303], — произнес Фишер, поднимая голову.
— Хотя я и не обладаю сердцем столь чувствительным, как вы, я, тем не менее, понимаю и разделяю ваше отвращение к избиению в Яссах, — сказал Франк. Как человек, как немец и как губернатор Варшавы, я осуждаю погромы.
— Very kind of you.[304] — ответил я, склоняясь.
— Германия — страна высшей цивилизации и она презирает варварские методы! — сказал Франк, бросая вокруг себя взгляд искреннего возмущения.
— Натюрлихь, — подтвердили все его гости.
— Германия, — сказал Вехтер, — призвана выполнить великую цивилизаторскую миссию на Востоке.
— Слово погром — не немецкое слово, — сообщил Франк.
— Это, разумеется, еврейское слово, — сказал я, улыбаясь.
— Я не знаю, еврейское это слово или нет, но я знаю, что оно никогда не входило и не войдет в немецкий словарь, — заявил Франк.
— Погромы — славянская специальность, — сказал Вехтер.
— Мы, немцы, следуем во всем системе и разуму, а не животному инстинкту. Мы во всем действуем по научным принципам. Когда это необходимо, но только тогда, когда это действительно необходимо, — сказал Франк, отчетливо артикулируя слова и пристально глядя на меня, как будто желая, чтобы у меня запечатлелось навсегда каждое из них, — мы подражаем искусству хирурга, но ни в коем случае не ремеслу мясника. Видели ли вы когда-нибудь, — добавил он, — избиение евреев на немецких улицах? Нет, не правда ли? Самое большее — какая-нибудь студенческая демонстрация, какие-нибудь невинные скандалы мальчишек. И тем не менее, спустя недолгое время в Германии не останется ни одного еврея.
— Вопрос методики и организации, — пояснил Фишер.
— Убийства евреев — не в немецком стиле, — продолжал Франк. Это бестолковая работа, расточительная в отношении как сил, так и времени. Что до нас, то мы их депортируем в Польшу и запираем в гетто. Там они свободны делать все, что им угодно. В гетто польских городов евреи живут как в свободной республике.
— Да здравствует свободная республика в польских гетто, — сказал я, поднимая бокал «Мумма»[305], который мне грациозно протянула фрау Фишер. Голова у меня слегка кружилась. Я испытывал приятное опьянение.
— Виват! — произнесли все хором, поднимая бокалы с шампанским. Они пили и смотрели на меня, улыбаясь.
— Мейн либер, Малапарте, — продолжал Франк, с сердечной фамильярностью положив мне на плечо свою руку, — немецкий народ — жертва отвратительной клеветы. Мы вовсе не народ убийц. Когда вы возвратитесь в Италию, вы расскажете, надеюсь, обо всем, что вам пришлось увидеть в Польше. Ваш долг порядочного и беспартийного человека сказать правду. И вы сможете с полной искренностью сказать, что в Польше немцы составляют большую, мирную, трудолюбивую семью. Посмотрите вокруг: вы — в самом настоящем, простом и порядочном немецком доме. Такова и вся Польша. Это порядочный немецкий дом. Смотрите! И, говоря это, он обвел рукой окружающую нас сцену.
Я повернулся и посмотрел. Фрау Фишер достала из какого-то выдвижного ящика картонную коробку, из коробки она извлекла большой клубок шерсти, две спицы, начатый чулок и еще несколько мотков. Сделав полупоклон перед фрау Бригиттой Франк, как бы испрашивая у нее разрешения приступить к работе, она водрузила себе на нос очки в железной оправе и спокойно принялась за вязанье. Фрау Бригитта Франк растянула на обеих руках моток шерсти и, переложив его затем на запястья поднятых рук фрау Вехтер, начала сматывать шерсть в клубок, с быстрой и легкой грацией двигая руками. Фрау Вехтер сидела, сжав колени и выпрямив торс, согнув руки на высоте груди. Она милым движением рук помогала нити разматываться без разрывов. Эти три особы представляли приятную картинку в буржуазном стиле. Генерал-губернатор Франк смотрел на трех милых женщин, занятых работой, взором, выражавшим любовь и гордость, а Кейт и Эмиль Гасснер разрезали в это время полночный сладкий пирог и разливали кофе в большие фарфоровые чашки.
Несмотря на легкое опьянение от выпитого вина, эта буржуазная сценка, разыгранная в приглушенных тонах, в манере немецкого провинциального интерьера (позвякивание вязальных спиц, потрескивание пламени в камине, легкое поскрипывание зубов, откусывающих пирог, позвякивание фарфоровых чашек), возбуждала во мне слабое чувство недомогания. Рука Франка на моем плече, хотя и не давившая на него, угнетала мое сознание. Мало-помалу я стал распутывать и рассматривать отдельно, по одному, те чувства, которые вызывал во мне Франк, стараясь привести в ясность и определить для себя мотивы, поводы и смысл каждого его слова, каждого жеста, каждого поступка, пытаясь из всех впечатлений, собранных мной за время общения с ним в предыдущие дни, составить его психологический портрет. И я убедился, что в отношении Франка было бы невозможно удовлетвориться быстрым и скороспелым суждением.
Недомогание, которое, как казалось мне, я всегда ощущал в его присутствии, несомненно, происходило вследствие крайней сложности его характера, странной смеси жестокого ума, тонкости и вульгарности, грубого цинизма и рафинированной чувствительности. Несомненно, была в нем глубокая и таинственная область, которую мне не удавалось исследовать, темная зона, неприступная преисподняя, откуда время от времени поднимались отдельные лучи, дымные и мимолетные, внезапно освещавшие его скрытое лицо, его тревожный и обаятельный потаенный облик.
Оценка, которую я давно уже произвел Франку, была вне сомнения негативной. Я достаточно знал о нем, чтобы его ненавидеть. Но мое сознание не позволяло мне на этом остановиться. Среди всех элементов, из которых складывалась моя оценка Франка и часть которых принадлежала опыту других людей, часть — моему собственному опыту, чего-то недоставало, и я не мог определить, чего именно, какого-то элемента, которого я не мог бы назвать даже по имени, но внезапного разоблачения, которого я ожидал с минуты на минуту.
Я надеялся подсмотреть у Франка жест, слово, поступок «непроизвольные», которые обнаружат передо мной его настоящее, его тайное лицо. Это слово, этот жест, этот поступок «непроизвольно» возникнут из этой темной и глубинной области сознания, о которой я инстинктивно подозревал, будучи уверен, что какие-то основы его жестокой интеллигентности, его рафинированной музыкальной чувствительности коренятся в болезненных, в известной мере, преступных основах, его существа.
— Вот вам Польша; это — порядочный немецкий дом, — повторил Франк, окидывая взором интимную буржуазную семейную сцену.
— Отчего бы, — спросил я его, — не заняться и вам самому какой-нибудь дамской работой? Ваше достоинство генерал-губернатора не пострадает от этого. Шведский король Густав V охотно занимается дамскими работами. Вечером, в кругу семьи и друзей, король Густав вышивает.
— Ах, зо! — воскликнули дамы с видом изумленным, недоверчивым и заинтересованным.
— Что может делать иного король нейтральной страны? — сказал Франк, смеясь. — Если бы он был генерал-губернатором Польши, — вы думаете, король Густав находил бы время вышивать?
— Польский народ, без сомнения, был бы гораздо счастливее, если бы его генерал-губернатор занимался вышиванием.
— А! а! а! Но это настоящая «иде фикс», — сказал Франк, смеясь. В прошлый раз вы хотели меня убедить, что Гитлер — женщина, сегодня вы хотите меня уговорить, чтобы я посвящал свое время дамским рукодельям. Вы на самом деле думаете, что Польшей можно управлять при помощи вязальных спиц или вышивальной иглы? Вы очень лукавы, мой дорогой Малапарте, — заключил он по-французски.
— В известном смысле, — ответил я, — вы тоже ведь вышиваете. Ваша политическая деятельность — это настоящая вышивка.
— Я не таков, как шведский король, которого забавляет препровождение времени, достойное школьника, — сказал Франк горделиво. — Я вышиваю на полотне новой Европы. — И медленно, царственным шагом, он прошел через залу и исчез.
Я сел в кресло у окна, откуда мог, немного повернув голову, охватить взглядом всю огромную Саксонскую площадь: дома, лишенные кровель, позади «Европейской», руины дворца, поднимавшегося рядом с отелем «Бристоль», на углу маленькой улички, спускающейся к Висле.
Среди пейзажей, лежавших в основе моих юношеских воспоминаний, может быть именно этот был наиболее дорог моему сердцу, но я не мог в эту минуту созерцать его из этого окна во дворце Брюль, в этой компании, не ощущая странного волнения и чувства печальной униженности. Этот вид, старинный и близкий мне, теперь, двадцать лет спустя, принимал в моих глазах одновременно отчетливый и смутный характер побледневшей старой фотографии. Дни и ночи Варшавы далеких 1919 и 1920 годов всплывали в моей памяти вместе с чувствами и мыслями того времени.
Мирные комнаты, где пахло ладаном, воском и настойками, в маленьком домике на уличке, начинающейся в глубине Театральной площади, где настоятельница Валевская обитала со своими племянницами, где слышались колокола сотен церквей, расположенных в Старо Място[306], звон которых разносился в ледяном и чистом воздухе зимних ночей. Улыбка освещала алые губы молодых девушек, в то время как престарелые вдовицы, разместившись все рядом возле камина настоятельницы, говорили вполголоса между собой, таинственно и лукаво. В малиновом зале «Бристоля» молодые офицеры отбивали ногами ритм мазурки, направляясь навстречу группе белокурых молодых девиц, одетых в платья светлых тонов и встречавшими их блещущими девственным огнем глазами. Старая княгиня Чарторижская, с морщинистой шеей, семижды обвитой длиннейшим жемчужным колье, спускавшимся почти до ее колен, сидела, молча, перед старой маркизой Вельепольской[307] в своем маленьком особняке на Уяздовской аллее[308], близ окна, в стеклах которого отражались деревья улицы, и в теплую комнату от этих лип падали зеленоватые рефлексы[309], пятнавшие мягкие персидские ковры, мебель Луи XV, французские и итальянские портреты и пейзажи, написанные во вкусе Трианона[310] и Шенбрунна[311], старое шведское серебро, русские эмали времен Великой Екатерины. Графиня Адам Ржевусская и госпожа Боронат, обладавшая таким чудесным голосом, стояли у рояля в белом зале итальянской дипломатической миссии во дворце Потоцких[312] краковского предместья, и пели веселые варшавские песенки времен Станислава Августа[313] и печальные украинские песни эпохи атамана Хмельницкого[314] и казачьего восстания. Я сидел рядом с Гедвигой Ржевусской; Гедвига смотрела на меня молча, бледная и растерянная. А ночные наши побеги! В санях, при луне, до самого Вилланова! И вечера, проведенные в Мысливском клубе, когда, вдыхая теплый аромат токая[315], мы слушали разговоры старых польских вельмож об охоте, о лошадях, о собаках, о женщинах, о путешествиях, о дуэлях, о любви, или слушали постоянную «тройку» Мысливского клуба: графа Генриха Потоцкого, графа Замойского[316] и графа Тарновского[317], споривших о винах, о портных, о танцовщицах, или беседующих о прошедших временах Санкт-Петербурга, Вены, Лондона и Парижа. А долгие послеполуденные летние часы в свежей полутьме Апостолической нунциатуры, проведенные с нунцием[318] — монсеньером Ахиллом Ратти, который стал впоследствии папой Пием II, и секретарем нунциатуры монсиньором Пеллегринетти, ставшим затем кардиналом! В тяжелом зное и пыли сумерек был слышен треск советских пулеметов вдоль берегов Вислы, и под окнами нунциатуры — топот лошадей третьего уланского полка, скачущего в Пражское предместье навстречу красным казакам Буденного. Толпа, стоявшая стеной на тротуарах Нови Свята, пела:
Уланы, уланы, мальованны дзеци, Ниедна паненка за вами палеци.И во главе полка можно было видеть на коне атлетическую фигуру княгини Воронецкой — шефа третьего Уланского, с охапкой роз в руках.
Ниедна паненка и ниедна вдова, За вами уланы палециець готова[319].А моя ссора с лейтенантом Потулицким и восьмидневная пьянка, которой праздновалось наше примирение! А пистолетный выстрел, направленный Марыльским в Дзержинского[320] в доме княгини В. сквозь залу, полную танцующими парами, исполнявшими «The broken dolly»[321] — первый фокстрот, появившийся в Польше в 1919 году, и Дзержинский, распростертый на паркете в луже крови с простреленным горлом, и княгиня В., говорящая музыкантам: «Продолжайте играть! — Это пустяки!» И месяц спустя Дзержинский, еще с белым лицом и перевязанным горлом, рука об руку с Марыльским — в «Европейском» баре. На балах английского посольства княгиня Ольга Радзивилл, с короткими, по-мальчишески подстриженными и завитыми белокурыми волосами, смеясь, полулежала в объятиях молодого секретаря дипломатической миссии Кавендиша Бентинка, который походил на Руперта Брука[322] и напоминал «молодого Апполона» из знаменитой эпиграммы мистрисс Корнфорд «Magnificently unpreparated for the long littleness of life»[323]; и Изабелла Радзивилл, высокая худощавая брюнетка, с длинными волосами, словно из черного шелка, и глазами, будто переполненными безмятежной ночью, стоящая в амбразуре окна рядом с молодым английским генералом, одноглазым, точно Нельсон[324], который что-то говорил ей вполголоса и тихо смеялся нежным смехом. О! Это, конечно, был призрак, благородный призрак далекой варшавской ночи, этот английский генерал Кортон де Вийярт, одноглазый и с изуродованной рукой, который весной 1940 года командовал британскими войсками, высадившимися в Норвегии. И я тоже, я, конечно, был призраком, поблекшим призраком далеких лет, быть может счастливых, но умерших лет, ну да, быть может, счастливых.
Я тоже — перед этим окном, перед этим пейзажем лет моей молодости, я был лишь тенью, тревожной и печальной. Из глубин моей памяти возникали, с нежным смехом, прелестные тени этих далеких лет, далеких и чистых. Я закрыл глаза и смотрел на эти бледные картины, прислушивался к дорогим мне голосам, слегка стертым временем, когда музыка удивительно нежная достигла моих ушей. Это были первые такты прелюда Шопена. В соседней комнате (я видел ее через приоткрытую дверь) Франк сидел за роялем госпожи Бек, склонив голову на грудь. Лоб его был бледен и покрыт испариной. Выражение глубокого страдания сошло на его горделивое лицо. Он дышал с трудом и закусывал нижнюю губу. Глаза его были закрыты. Я видел, как дрожали его веки. Это больной, — подумал я. И тотчас же мне стало неприятно от этой мысли.
Все кругом меня слушали, затаив дыхание. Звуки прелюда, такие чистые и такие светлые, взлетали в теплом воздухе, как маленькие пропагандистские листовки, сброшенные самолетом. И на каждой ноте красными литерами[325] было начертано: ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОЛЬША! Сквозь оконные стекла я смотрел на снежные хлопья, медленно опускавшиеся на огромную Саксонскую площадь, пустынную и залитую светом луны. И на каждом из снежных хлопьев я видел начертанное алыми литерами: ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОЛЬША!
Это были те же слова и те же литеры, которые двадцатью годами ранее, в ноябре 1919 года, я читал сквозь музыку Шопена, такую чистую и такую легкую, взлетавшую над белыми, хрупкими, удивительными руками Президента Совета Польши Игнатия Падеревского, сидевшего у рояля в большом красном зале Королевского дворца в Варшаве. То было время польского возрождения: польская знать и члены дипломатического корпуса часто собирались вечерами в Королевском дворце вокруг рояля Президента. Обаятельный призрак Шопена, улыбаясь, проходил между нами. Дрожь пробегала по рукам и обнаженным плечам молодых женщин. Бессмертный, ангельский голос Шопена, похожий на отдаленный голос весенней грозы, перекрывал страшные вопли восстаний и избиений. Звуки, чистые и легкие, взлетали в загрязненном воздухе над мертвенно-бледными и изможденными толпами, словно пропагандистские листки, сбрасываемые самолетом, пока мало-помалу не угасали последние аккорды. Падеревский[326] медленно приподнимал большую белую гриву, склоненную над клавиатурой, и обращал к нам залитое слезами лицо.
А теперь, во дворце Брюль, в нескольких шагах от руин Королевского дворца, в жаркой и накуренной атмосфере этого буржуазного немецкого интерьера, чистые и мятежные звуки Шопена взлетали из-под белых и тонких рук Франка, немецких рук генерал-губернатора Польши. Мое лицо горело от чувства стыда и возмущения.
— О! Он играет как ангел, — прошептала Фрау Бригитта Франк. В этот момент музыка умолкла. Франк появился на пороге. Фрау Бригитта вскочила, отбросила свой клубок шерсти, ринулась ему навстречу и поцеловала его руки. Лицо Франка, протягивавшего руки для этого поцелуя, исполненного смирения и религиозного рвения, выражало суровое достоинство священнослужителя, вышедшего из алтаря после совершения мистического жертвоприношения. Я ожидал, что фрау Бригитта упадет на колени в своем обожании. Но она схватила руки Франка и, подняв их, обернулась к нам:
— Смотрите! — сказала она с торжеством. — Вот как выглядят руки ангелов!
Я посмотрел на руки Франка: они были маленькими, тонкими и очень бледными. Я был удивлен, но испытал одновременно чувство удовольствия оттого, что на них не было заметно ни одного пятнышка крови.
В течение нескольких дней мне не представлялось случая встретить ни генерал-губернатора Франка, ни губернатора Варшавы Фишера, занятых тем, что совместно с Гиммлером, неожиданно прибывшим из Берлина, они изучали деликатную ситуацию, возникшую в Польше (это были первые числа февраля 1942 года) в связи с поражениями, которые терпела Германия в России. Личные донесения Гиммлера и Франка были явно плачевными. При этом Гиммлер высказывал свое презрение к «театральности» и «интеллектуальной рафинированности» Франка, а Франк обвинял Гиммлера в «мистической жестокости». Толковали о крупных переменах среди виднейших нацистских функционеров в Польше; даже сам Франк, казалось, находился в опасности. Но когда Гиммлер покинул Варшаву, чтобы вернуться в Берлин, стало ясно, что Франк выиграл партию: большие перемены ограничились замещением Вехтера, краковского губернатора, близким родственником Гиммлера штадтхауптманом Ченстохова, а Вехтер был назначен губернатором Львова.
Вехтер вернулся в Краков вместе с Гасснером и бароном Вользеггером. Фрау Вехтер задержалась, чтобы составить компанию фрау Бригитте Франк в те несколько дней, которые генерал-губернатор еще проведет в Варшаве. А я, в ожидании своего отъезда на Смоленский фронт, воспользовался присутствием Гиммлера (Гестапо, полностью занятое тяжкой и ответственной задачей охранять священную жизнь Гиммлера, оставило в эти дни свою повседневную работу), чтобы украдкой доставить письма, пакеты с продуктами и деньги, которые польские эмигранты в Италии просили меня вручить их родным и друзьям в Варшаве. Факт передачи тайной корреспонденции или хотя бы одного единственного письма иностранного происхождения польским гражданам карался смертью. Следовательно, я должен был использовать все предосторожности, чтобы избежать бдительности Гестапо и не подвергать опасности жизнь других в той же мере, как и свою собственную. Впрочем, благодаря принятым мною мерам, а также драгоценному для меня соучастию одного немецкого офицера (молодого человека большой культуры и великодушия, с которым я познакомился во Флоренции несколькими годами ранее и с которым меня связала сердечная дружба), я благополучно выполнил эту добровольно принятую на себя обязанность. Игра была опасной, и я предался ей со спортивным интересом и абсолютным прямодушием (даже по отношению к немцам я никогда не пренебрегал правилами игры в крокет[327]), подталкиваемый сознанием, что я выполняю долг общечеловеческой солидарности и христианского милосердия одновременно с желанием сыграть эту шутку над Гиммлером, Франком и всем их полицейским аппаратом. Я с увлечением играл и выиграл; если бы я проиграл, то честно расплатился бы. Но выиграл я только потому, что немцам, которые всегда презирают своего противника, было никак не возможно себе представить, что я учитываю правила игры в крокет.
Я встретил Франка вновь дня два спустя после отъезда Гиммлера, на завтраке, устроенном им в честь боксера Макса Шмелинга, в его официальной резиденции, в Бельведере, который был прежде резиденцией маршала Пилсудского, до самого дня его смерти. В это утро, когда я медленно шел по аллее, пересекающей прекрасный парк XVIII века (распланированный с несколько печальной грацией, в которой угадывалось осеннее забвение, одним из последних учеников Ленотра[328] и отовсюду сходящийся к кур д’оннеру Бельведера[329]), у меня было чувство, что эти немецкие флаги, немецкая охрана, шаги, голоса, немецкие жесты придавали нечто холодное, жесткое, мертвое старым благородным деревьям парка, музыкальной стройности этой архитектуры, созданной для роскошных отдохновений Станислава Августа, молчанию фонтанов и бассейнов, закованных льдом.
Более двадцати дет назад, когда я прогуливался под сенью лип Уяздовской аллеи или в аллеях Лазенков[330], я видел издали сквозь их листву белизну Бельведера и чувствовал, что мраморные лестницы, статуи Апполона и Дианы, белоснежная лепка фасада составляли нечто тонкое и живое, словно розовое тело. Но теперь, входя в Бельведер, я находил здесь все холодным, жестким и мертвым. Когда я пересекал большие залы, залитые ясным и ледяным светом, где некогда царили скрипки и клавесины Люлли[331], Рамо[332] и высокая чистая мелодия Шопена, я слышал издали отдающиеся под сводами немецкие голоса и смех и останавливался на пороге, спрашивая себя, войду ли я. Но голос Франка позвал меня, и он сам вышел мне навстречу, раскрыв объятия с этой горделивой сердечностью, которая всегда изумляла и глубоко смущала меня.
— Я нокаутирую его в первом же раунде; вы будете арбитром, Шмелинг, — сказал Франк, потрясая охотничьим ножом.
В этот день за столом генерал-губернатора Польши во дворце Бельведер почетным приглашенным был не я, а знаменитый боксер Макс Шмелинг. Я рад был его присутствию, которое отвлекало от меня внимание сотрапезников и позволяло мне предаться нежным и печальным воспоминаниям, воскрешению этого далекого первого января 1920 года, когда я впервые проник в эту залу, чтобы принять участие в ритуальном чествовании дипломатическим корпусом маршала Пилсудского как главы государства. Старый маршал возвышался, неподвижный, посреди зала, опираясь на гарду[333] своей сабли, старой сабли, изогнутой, как турецкий ятаган[334], кожаные ножны которой были изукрашены серебряным орнаментом; его бледное лицо бороздили толстые светлые вены, похожие на шрамы; он носил большие усы, спадавшие книзу, как у Собесского; широкий лоб его венчала всклокоченная щетка волос, жестких и коротких. Прошло более двадцати лет, но маршал был все еще здесь; он стоял передо мной почти на том самом месте, где дымилась посреди стола только что снятая с вертела косуля, в нежное мясо которой Франк, смеясь, погружал свой охотничий нож.
Макс Шмелинг сидел справа от фрау Бригитты Франк, весь внутренне подобранный, несколько опустив на грудь голову и глядя на сотрапезников снизу вверх взглядом скромным и вместе с тем твердым. Он был немного выше среднего роста, с мягкими формами, округлыми плечами и манерами почти элегантными. Никто не догадался бы, что под его костюмом из серой фланели, хорошо сшитым, вышедшим, по-видимому, из рук какого-нибудь портного Вены или Нью-Йорка, затаилась в засаде такая сила. У него был печальный гармонический голос, и говорил он медленно, улыбаясь, может быть, из скромности, быть может, от этой неосознанной уверенности в самом себе, которая свойственна атлетам. Взгляд его черных глаз был глубок и ясен. Лицо было любезно и серьезно. Он сидел, слегка наклонившись вперед, положив руки на край стола и внимательно глядя вперед, словно в позе самозащиты на ринге. Он внимательно вслушивался в разговор и сохранял подозрительное выражение, и время от времени останавливал свой взор на Франке, с поверхностной улыбкой и видом свойственного ему иронического уважения.
Франк играл в его честь роль, которая была для меня новинкой; это был интеллигент, которого случай привел в соприкосновение с атлетом, который надувается, как павлин, расправляет свои самые красивые перья и, делая вид, что он подобострастно склоняется перед изображением геркулеса, льстиво расхваливая его широкий мускулистый торс, его вздутые бицепсы, его кулаки, огромные и твердые, на самом деле возжигает фимиам перед жертвенником Минервы[335]. Преувеличенная учтивость, изобилие похвал, горделиво присуждаемых атлетическим добродетелям, и — несколько слов, время от времени, словно упавших откуда-то сверху, в которых он вновь утверждал непререкаемое превосходство ума и культуры над грубой силой. Далекий от того, чтобы показать себя задетым или несогласным, Макс Шмелинг не скрывал, тем не менее, заинтересованного удивления и вместе с тем невинной недоверчивости, как если бы он очутился рядом с разновидностью людей, о существовании которых он до тех пор не подозревал. Его недоверчивость выдавала себя в его внимательном взгляде, в иронической улыбке, в скромности, с которой он отвечал на вопросы Франка, и ворчливой настойчивости, с которой он преуменьшал все, что в его славной известности не относилось к его атлетическим заслугам.
Франк расспрашивал Макса Шмелинга о Крите и серьезном ранении, которое было им получено во время авантюрно-героического приключения, в котором он принимал участие в качестве парашютиста. Он добавил по моему адресу, что английские пленные на Крите, в то время, как Шмелинга проносили мимо на носилках, поднимали вверх кулаки, крича: «Хэлло, Макс!»
— Я действительно лежал на носилках, но я не был ранен, — сказал Шмелинг. — Сообщение, что я тяжело ранен в колено, было вымышленным и пущено Геббельсом в пропагандистских целях. Говорили даже, что я умер. Истина гораздо проще: я страдал от желудочных судорог. Затем он добавил: я хочу быть искренним — я страдал от колик.
— Нет ничего постыдного в том, что бы страдать даже от колик для героя-солдата, — заметил Франк.
— Я никогда и не думал, чтобы в коликах было что-либо постыдное, — сказал Шмелинг с иронической усмешкой. — Я простудился; это, конечно, не были колики от страха. Но когда говорят «колики» в связи с войной, все подозревают страх.
— Никто не может подозревать страха, если речь идет о вас, — сказал Франк. Потом он посмотрел на меня и добавил: — Шмелинг на Крите вел себя как герой. Он не хочет, чтобы об этом говорили, но это подлинный герой.
— Я ни в малой степени не герой, — сказал Шмелинг (он улыбался, но я понимал, что он намерен противоречить), — у меня не было даже времени на то, чтобы сражаться. Я выбросился с самолета с высоты пятидесяти метров и остался лежать в кустах с этой ужасной болью в животе. Когда я прочел, что я был ранен, сражаясь, я тотчас опротестовал эту информацию в интервью, которое дал нейтральному журналисту: я сказал, что страдал просто судорогой желудка. Геббельс никогда не мог простить мне этого. Он даже угрожал мне военным судом за пораженчество. Если бы Германия была побеждена, Геббельс расстрелял бы меня.
— Германия не будет побеждена, — заявил Франк сурово.
— Натюрлихь, — сказал Шмелинг. — Немецкая «культур» не страдает от колик.
Мы все принялись тихо смеяться, и Франк разрешил появиться на своих губах снисходительной улыбке.
— Уже в течение этой войны, — произнес генерал-губернатор строгим тоном, — немецкая «культур» принесла в жертву родине много своих лучших представителей.
— Война — самый благородный из видов спорта, — сказал Шмелинг.
Я спросил его, не приехал ли он в Варшаву для участия в боксерском состязании.
— Я здесь затем, — ответил Шмелинг, — чтобы организовать ряд встреч между чемпионами вермахта и СС. Это будет первое крупное спортивное мероприятие в Польше.
— Между чемпионами вермахта и Эс Эс, — сказал я, — свое предпочтение я отдам чемпионам вермахта, и добавил, что дело идет о почти политическом событии.
— Почти, — улыбнулся Шмелинг.
Франк понял намек; выражение глубокого удовлетворения отразилось на его лице. Не вышел ли он сам только что победителем матча с главой Эс Эс? Он не мог удержаться, не разъяснив причин своего разногласия с Гиммлером. «Я не принадлежу, — сказал он, — к убежденным сторонникам насилия. И, конечно, не Гиммлеру переубедить меня в том, что политика порядка и правосудия в Польше не сможет утвердиться, не опираясь на методическом применении жестокости».
— Гиммлеру недостает sense of humour, — заметил я.
— Германия — единственная страна в мире, где sense of humour не приносит пользы государственному деятелю, — сказал Франк. — Но в Польше — это совсем другое дело.
Я смотрел на него и улыбался.
«Польский народ должен быть весьма Вам обязан за Ваш sense of humour».
— Он будет мне весьма обязан; это не подлежит сомнению, — сказал Франк, — если Гиммлер не станет утверждать насилием мою политику порядка и правосудия. — И он принялся мне рассказывать о слухах, которые в эти дни распространялись в Варшаве по поводу ста пятидесяти интеллигентов-поляков, которых Гиммлер прежде, чем покинуть Польшу, приказал расстрелять без ведома Франка и вопреки его возражениям. Франк был озабочен (это было ясно) тем, чтобы оправдаться в моих глазах и снять с себя ответственность за это убийство. Он рассказал мне, что он был информирован об этом как о совершившемся факте самим Гиммлером, в тот момент, как этот, последний, уже садился в самолет, увозивший его в Берлин. — Разумеется, — говорил Франк, — я энергично протестовал, но дело было уже сделано.
— Гиммлер, должно быть, расхохотался, — сказал я. — Ваш протест показался, конечно, смешным такому человеку, как Гиммлер, лишенному sense of humor. К тому же Вы, в свою очередь, приветствуя Гиммлера в аэропорту, смеялись очень весело. Это известие привело Вас в хорошее настроение.
Франк внимательно посмотрел на меня, с видом, выражавшим ошеломление и подозрительность.
— Как вы узнали, что я смеялся? — спросил он. — В самом деле, я действительно смеялся тоже.
— Вся Варшава об этом знает, — ответил я. — И все об этом только и говорят.
— Ах, зо! Вундербар! — воскликнул Франк, возводя очи к небу.
Я тоже, смеясь, поднял очи к небу. Я не мог удержаться от жеста изумления и отвращения. На плафоне, где некогда был изображен триумф Венеры какого-то итальянского художники XVIII века, воспитанника великих венецианских мастеров, теперь на наши головы опускалась лавина сплетенных розоватых глициний, выписанных с точностью и реализмом этого стиля «либерти», происшедшего от стиля модерн 1900 года, распространившегося среди декораторов Вены и Мюнхена и кончившего на положении официального стиля «третьего райха» в своем последнем и наиболее высоком выражении.
Этот тоннель из глициний (вещь, которую противно сказать!) казался натурой. Ветви, тонкие и похожие на змей, карабкались по стенам залы, искривляясь и переплетая над нашими головами свои длинные руки, обведенные контуром и извилистые, с которых свешивались листья и грозди цветов; среди них летали маленькие птички, и жирные, пестрые бабочки, и огромные мохнатые мухи — в небе, ровно синем и гладком, словно купол Фортуни. Медленно мой взор скользнул вниз по стволам глициний и, спускаясь с ветки на ветку, остановился на пышной мебели, в холодной симметрии стоявшей вдоль стен. Это была голландская мебель, массивная и мрачная, над которой на стенах висели рыцарские доспехи, блюда синего фаянса из Дельфта[336], разрисованные пейзажами и маринами[337], и трофейные тарелки голландской компании в Индии, пурпурного тона, с мотивами пагод[338] и птиц с океанских островов. Над высоким и пышным шкапом для посуды, в стиле «старая Бавария», на стене висели натюрморты фламандской школы, на которых были изображены огромные серебряные подносы, полные рыб и фруктов, и накрытые столы, сгибающиеся под тяжестью чудесного разнообразия дичи, которую обнюхивали жадно, но с осторожностью сеттеры, пойнтеры и легавые псы. Шторы больших окон были из гнусной вискозы, украшенной цветами и птицами, во вкусе саксонской провинции.
Мои глаза встретились с глазами Шмелинга, и он улыбнулся. Я поразился, что этот боксер, с лицом узким и жестким, это любезное животное почуяло гротескность и ужас этих глициний, этой мебели, этих картин, этих занавесей в зале, в которой ничего не осталось из того, что составляло некогда славу Бельведера: венских скульптур, итальянских фресок, французской мебели, громадных венецианских люстр, — ничего, исключая резные двери и наличники окон, пропорций и соотношений пустых поверхностей и панелей, украшенных лепкой, оставшихся, чтобы свидетельствовать гармонию прошлого и грацию XVIII века.
Фрау Бригитта Франк, которая уже некоторое время наблюдала за блужданиями моего взора и оцепенелостью, с которой он задерживался то на одном, то на другом месте, подумала, вне сомнения, что я восхищен, ослеплен этим искусством, наклонилась ко мне и с гордой улыбкой сказала, что это она сама наблюдала за работой немецких декораторов (по правде сказать, она не назвала их «декораторами», а назвала «артистами»), которым был обязан этой чудесной трансформацией старый Бельведер. Стена глициний, которой она в особенности гордилась, была творением выдающейся художницы, женщины из Берлина, но она дала еще понять, что самая идея этой росписи принадлежала ей. То есть вначале она думала, из политического оппортунизма, прибегнуть к помощи какого-нибудь польского художника, но позже оставила эту мысль. «Следует признать, — сказала она, — что поляки не владеют этим религиозным чувством искусства, которое является привилегией немцев».
Этот намек на «религиозное чувство в искусстве» послужил для Франка предлогом для пространной речи о польском искусстве, о религиозном духе этого народа и о том, что он называл идолопоклонством поляков.
— Возможно, что они идолопоклонники, — сказал Шмелинг, — но я замечал, что поляки из народа имеют свойство представлять себе Бога по-детски наивно. И он рассказал, что накануне вечером, в то время как он наблюдал за тренировкой известных боксеров вермахта, маленький старичок-поляк, который посыпал ринг опилками, сказал ему: «Если бы наш Господь Иисус Христос имел пару таких кулаков, как Ваши, он не умер бы на кресте».
Франк, улыбаясь, заметил, что если бы Христос имел пару таких кулаков, как Шмелинг, — два настоящих немецких кулака, на свете все пошло бы гораздо лучше.
— В известном смысле, — сказал я, — Христос, снабженный парой настоящих немецких кулаков, не слишком отличался бы от Гиммлера.
— Ах? Вундербар! — закричал Франк, и все принялись смеяться с ним вместе.
— Ну, кулаки — в сторону, — продолжал Франк, когда веселье затихло, — если бы Христос был немцем, то человечеством руководила бы честь.
— Я предпочитаю, — отметил я, — чтобы им руководила жалость.
Франк расхохотался от всего сердца:
— Но это на самом деле идэ фикс!. — сказал он. — Вы захотите теперь заставить нас верить, что и Христос также был женщиной?
— Женщины были бы очень польщены, — произнесла фрау Бехтер с грациозной улыбкой.
— Поляки, — заявил губернатор Фишер, — убеждены в том, что они всегда имеют Христа на своей стороне, даже в делах политических, что Христос предпочитает их всем другим народам, даже немцам. Их религия и их патриотизм в значительной мере состоят из этой гибельной идеи.
— К счастью для него, — сказал Франк, хохоча во все горло, — у Христа слишком хорошее чутье, чтобы заниматься «польнише виртшафт»[339]. Он нажил бы слишком много неприятностей.
— И вам не совестно так кощунствовать? — сказала ему фрау Вехтер громко, со своим приятным венским акцентом, грозя пальцем.
— Я обещаю Вам, что больше не буду, — отвечал Франк, принимая вид ребенка, застегнутого на чем-то недозволенном. Потом он добавил, смеясь. — Если бы я был уверен, что у Христа есть пара таких кулаков, как у Шмелинга, я, конечно, держался бы осторожнее, разговаривая о нем.
— Если бы Иисус Христос был боксером, — сказала фрау Вехтер по-французски, — то он бы уже давно вас нокаутировал.
Мы все рассмеялись, и Франк, галантно наклонившись, спросил у фрау Вехтер, каким ударом, она полагает, Христос его нокаутировал бы.
— Герр Шмелинг сумел бы на это ответить лучше, чем я, — сказала фрау Вехтер.
— На это нетрудно ответить, — заговорил Шмелинг, — внимательно вглядываясь в лицо Франка, как будто отыскивая именно то место, куда следовало опустить его кулак. Любой удар вас нокаутирует. У вас слабая голова.
— Слабая голова? — воскликнул Франк, краснея. Он провел рукой по своему лицу, силясь принять непринужденный вид, но он был заметно задет. Мы все смеялись от всего сердца, а фрау Вехтер утирала глаза, прослезившись от смеха. Но фрау Бригитта улучила удобный момент, чтобы прийти на помощь Франку и, обращаясь ко мне, заявила: «Генерал-губернатор — большой друг польского духовенства; именно он — подлинный защитник католической религии».
— Ах, в самом деле? — объяснил я, изображая на своем лице удивление и удовлетворение.
— В первое время, — сказал Франк, с удовольствием ухватившись за случай переменить тему беседы, — первое время польское духовенство меня не любило. А у меня были серьезные и многочисленные основания для недовольства священниками. Но после последних превратностей войны в России духовенство со мной сблизилось. И знаете ли вы почему? Потому что они боятся, что Россия разобьет Германию! Ах! Ах! Ах! Зер амюзант, нихьт вар![340]
— Йа, зер амюзант[341], — ответил я.
— Теперь между мной и польским духовенством установилось полное согласие — продолжал Франк. — Однако я не изменил и не изменю ни на йоту основные руководящие принципы моей религиозной политики в Польше. Все что нужно, чтобы заставить себя уважать в такой стране, как эта, — это… это иметь основное направление. А я есть и остаюсь тем же в согласии с самим собой. Польская аристократия? Я ее не знаю. Я не посещаю ее. Я не посещаю домов польской знати и никто из них не переступает порога моего дома. Я позволяю им свободно играть и танцевать в их дворцах. Итак, они играют и тонут в долгах, они танцуют и не замечают того разорения, к которому идут. Время от времени они открывают глаза, замечают, что они сами являются причиной своего разорения и оплакивают несчастья своего отечества, обвиняя меня по-французски в том, что я жестокий тиран и враг Польши; затем они снова принимаются смеяться, играть и танцевать. Буржуазия? Большая часть богатой буржуазии удрала за границу в 1939 году, следуя в обозе Республиканского правительства. Теперь их добром заведует администрация, состоящая из немецких функционеров. Часть буржуазии, оставшаяся в Польше, смертельно поражена невозможностью заниматься прежними профессиями и старается выжить, сжигая свои последние корабли, замкнутая в своей принципиальной оппозиции, состоящей из смешных сплетен и напрасных заговоров, которые я разрушаю на ее спине. Все поляки и, в частности, интеллигенция, — конспираторы. Их основная страсть — конспирация. Единственная вещь, которая утешает их в крушении Польши, — возможность, наконец, на свободе предаться этой всепоглощающей страсти. Но у меня длинные руки и я умею ими пользоваться. Гиммлер, не обладающий столь длинными руками, спит и видит, как бы расстрелять побольше людей или отправить их в концентрационные лагеря. Как будто он не знает, что поляки не боятся ни смерти, ни тюрьмы. Средние школы и университет были очагами патриотических интриг, я закрыл их. На что могли понадобиться учреждения среднего образования и университеты в стране без «культур»? Я перехожу к пролетариату. Крестьяне обогащаются на черном рынке, я предоставляю им обогащаться. Почему? Потому что черный рынок обескровливает буржуазию и морит голодом пролетариев индустрии, препятствуя таким образом созданию единого фронта рабочих и крестьян. Рабочие трудятся молча, под руководством своих техников. Когда республика обрушилась, польская техническая интеллигенция не бежала заграницу; они не покинули свои машины и свои кадры — они остались на местах. Техники и рабочие, они тоже наши враги, но враги, достойные уважения. Они не конспирируют — они работают. Не исключено, что при их положении они могут оказаться составной частью генерального плана борьбы против нас. В шахтах, на фабриках, на стройках циркулируют листовки и брошюры коммунистической пропаганды, издаваемые в России и тайно проникающие в Польшу. Эти издания призывают польскую техническую интеллигенцию и рабочих не участвовать в актах саботажа, не снижать уровень производства, работать, сохраняя абсолютную дисциплину, чтобы не давать Гестапо никакого предлога прибегать к репрессиям против рабочего класса. Это ясно, что если польский рабочий класс не допустит, чтобы Гитлер сломал ему хребет, не исчезнет на кладбищах и в концентрационных лагерях, то он будет единственным классом после войны, который сохранит возможность взять власть, если Германия проиграет войну, разумеется. А если Германия выиграет войну, то она окажется вынужденной опираться в Польше на единственный класс, устоявший на ногах, то есть на рабочий класс. Так что же польская буржуазия обвиняет меня в том, что я являюсь автором этих листовок и брошюр? Это клевета. Они не принадлежат к моим творениям, но я не мешаю им циркулировать. Наша главная задача — поддерживать на высоком уровне, в силу необходимостей, определяемых военным временем, продукцию польской индустрии. Почему же нам не утилизировать в наших собственных видах коммунистическую пропаганду, когда, чтобы спасти от разгрома рабочий класс, она убеждает его не противодействовать выпуску нашей военной продукции? Во всей Европе интересы России и Германии непримиримы. Но есть один пункт, в котором они встречаются и совпадают: там, где они поддерживают действенность рабочего класса. Вплоть до того дня, когда Германия раздавит Россию или же Россия Германию. Теперь перейдем к евреям. В глубине гетто они пользуются самой абсолютной свободой. Я никого не преследую. Я оставляю знатных разоряться в азартных играх и утешаться, танцуя, буржуазию — конспирировать, крестьян — обогащаться, техническую интеллигенцию и рабочих — трудиться. Есть немало случаев, в которых я прикрываю один глаз.
— Чтобы целиться из винтовки, — сказал я, — тоже прикрывают глаз.
— Возможно. Но я прошу Вас не перебивать меня, — продолжал Франк, мгновение поколебавшись. — Подлинная родина польского народа, его настоящая «Ржечь посполита польска» — это католическая религия. Единственная родина, которая осталась у этого несчастного народа. Я ее уважаю и ей покровительствую. В первое время между мной и духовенством существовало много причин для несогласия. Теперь обстоятельства переменились. После некоторых превратностей в войне с Россией, имевших место за последнее время, польское духовенство пересмотрело свое положение в отношении немецкой политики в Польше. Оно не помогает мне, но и не борется со мной. Немецкая армия была разбита под стенами Москвы. Гитлер не сумел добиться или, вернее, еще не добился того, чтобы раздавить Россию. Польское духовенство боится русских больше, чем немцев; оно больше опасается коммунистов, чем нацистов. И, возможно, что оно право. Вы видите, я говорю с вами искренно. И я также искренен, когда говорю вам, что я преклоняюсь перед польским Христом. Вы можете, заметить, что я потому перед ним преклоняюсь, что знаю, что он разоружен. Я преклонился бы перед польским Христом, даже если бы знал, что у него в руках автомат. Интересы Германии и мое сознание немецкого католика предписывают мне это. Существует лишь одна вещь, в которой я должен отдать отчет польскому духовенству: мое запрещение пилигримства на богомолье в храм Черной девы Ченстохова. Но это я был вправе сделать. Было бы чрезвычайно опасно для спокойствия немецких оккупационных властей в Польше терпеть, чтобы толпа, состоящая из сотен тысяч фанатиков, периодически собиралась кругом этого храма. Ежегодно около двух миллионов верующих посещали храм в Ченстохове. Я запретил пилигримство, я запретил публичные демонстрации Черной Девы. Во всех остальных обвинениях я никому не обязан отчетом, за исключением фюрера и моей совести.
Он внезапно умолк и осмотрелся. Он говорил одним духом, с печальным и рассерженным красноречием. Мы все молчали и внимательно на него смотрели. Фрау Бригитта тихонько плакала, одновременно улыбаясь. Фрау Вехтер и фрау Фишер были обе растроганы и не отрывали глаз от смоченного потом лица генерал-губернатора. Это молчание на меня давило; я принялся потихоньку кашлять. Франк, вытиравший лицо носовым платком, повернулся ко мне и после долгого пристального взгляда улыбнулся и спросил: — Вы ведь были в Ченстохове, нихьт вар?
Я побывал в Ченстохове несколькими днями ранее, чтобы посетить знаменитый храм. Я был гостем духовенства, принадлежавшего к римскому ордену павликианцев[342]. Отец Мендера проводил меня в склеп, где хранится образ Черной Девы, наиболее почитаемой в Польше. Эта икона, скрытая под серебряной ризой, выполнена в византийской манере; ее называют Черной Девой из-за темноты ее лика, закопченного в огне пожара, когда шведы подожгли храм в процессе осады. Штадтхауптман Ченстохова, близкий родственник Гиммлера, будучи особенно напуган и удручен поклонением верующих, в порядке исключения дозволил им показать мне Черную Деву. Это было впервые со времени оккупации Польши Германией, что священная икона представала перед глазами верных; верующие были исполнены удивления и радости в связи с этим событием, на которое они не смели даже надеяться.
Мы прошли через храм и спустились в склеп. За нами по пятам шла группа крестьян, которые, стоя на коленях в храме, видели, как мы проходили. Два инспектора-нациста — представители штадтхауптмана Ченстохова, Гюнтер Лакси и Фриц Грихаммер, и двое сопровождавших меня эсэсовцев, остановились на пороге. Гюнтер Лакси сделал знак отцу Мендера, который смущенно посмотрел на меня и сказал по-итальянски: «Крестьяне». «Крестьяне останутся!» — сказал я громко по-немецки. В это время пришел приор[343] храма — маленький исхудалый старик с морщинистым лицом; он смеялся и плакал, время от времени сморкаясь в большой зеленый платок. Золото, серебро, драгоценный мрамор сверкали во тьме церкви. Упав на колени, крестьяне во все глаза смотрели на серебряный занавес, который укрывает и защищает древнюю икону ченстоховской Девы. Слышалось лишь позвякивание винтовок двух эсэсовцев, стоявших на пороге.
Внезапно глубокая дробь барабанов поколебала своды подземелья. При зове серебряных труб, игравших триумфальную музыку Палестрины[344], занавес мало-помалу поднялся и, расцвеченная жемчугом и драгоценными камнями, в красноватых отблесках восковых свечей, показалась Черная Дева с Младенцем в руках. Распростершись лицами к земле, крестьяне плакали. Я слышал их подавленные рыдания и стук их лбов о мраморные плиты. Вполголоса они призывали Мадонну по имени: Мария, Мария, как если бы они звали кого-то, принадлежащего к их семье: свою мать, свою сестру, свою дочь, свою жену. Нет… Не так, как если б они звали свою мать. В этом случае они не говорили бы: Мария, — они сказали бы: Мама! Мадонна была матерью Христа, это не была их мать. Это была мать Христа, только Христа, одного. Но это была их сестра, их жена, их дочь, и они звали ее по ее имени: Мария, Мария — вполголоса, как будто опасаясь, что их могут услышать неподвижные эсэсовцы, застывшие на пороге. Дробь, глубокая и угрожающая дробь барабана и пронзительный зов длинных серебряных труб заставляли колебаться своды подземелья; можно было подумать, что мраморная арка сейчас на нас обрушится. Теперь крестьяне звали: Мария, Мария — как если бы они призывали умершую, как если бы они хотели пробудить от смертного сна сестру, жену, дочь — так они кричали: Мария! Мария! В эту минуту приор и отец Мендера медленно обернулись. Крестьяне замолкли и также медленно обернулись, глядя на Гюнтера Лакси и Фрица Грихаммера, и двух эсэсовцев, вооруженных своими винтовками, с надвинутыми на лоб стальными касками, застывших неподвижно на пороге. Они все смотрели на них и плакали; они смотрели на них молча и плакали. Дробь барабанов раздалась более глубоко, отдаваясь в камне; эхо труб еще сильнее отдалось под мраморной аркой, в то время как занавес медленно опускался и Черная Мадонна скрывалась в блеске драгоценных камней и золота. Крестьяне повернули ко мне свои лица, смоченные слезами, и смотрели на меня, улыбаясь.
Это были те же улыбки, которые я видел неожиданно рождающимися на лицах шахтеров в глубине соленых шахт Велички, подле Кракова. В темных пещерах, вырубленных в глубине блоков каменной соли, толпа, с бледными лицами, истощенными от голода и тревоги, вдруг предстала передо мной при дымном свете факелов, словно толпа духов. Я подошел к церкви, вырубленной в соли, маленькой церкви архитектуры барокко[345], вырубленной кирками и резцами в конце XVII века шахтерами Велички. Статуи Христа, Девы, святых были изваяны из соли. И шахтеры, упав на колени перед алтарем, где престол также был создан из блока каменной соли, или стоя стеной у порога церкви со своими кожаными каскетками в руках, тоже казались соляными статуями. Они смотрели на меня молча; и плакали, и улыбались.
— В подземелье Ченстохова, — подхватил Франк, не оставляя мне времени для ответа, — вы слышали дробь барабанов и голос серебряных труб и вы тоже поверили, что это и есть душа Польши. Нет. Польша нема, инертна, как труп. Великое ледяное безмолвие Польши сильнее наших голосов, наших криков, выстрелов наших автоматов. Бесполезно вести борьбу с польским народом. Это все равно, что бороться с трупом. И, однако же, вы чувствуете, что он живой, что кровь циркулирует в его венах, что тайная мысль владеет его мозгом, что в его груди бьется ненависть, что он сильнее, сильнее вас. А! а! а! Мейн либер Шмелинг, боролись ли вы когда-нибудь с трупом?
— Нет, никогда, — ответил Шмелинг, внимательно глядя на Франка с видом глубокого удивления.
— А вы, либер Малапарте?
— Нет, — ответил я, — я никогда не боролся с трупом, но я присутствовал при борьбе людей мертвых с людьми живыми.
— Возможно ли это? — воскликнул Франк. — И где же?
Все внимательно смотрели на меня.
— В Подуль Илоайей, — ответил я.
— В Подуль Илоайей? А где это, Подуль Илоайей?
Подуль Илоайей находится в Румынии, на границе с Бессарабией. Это городок в двадцати километрах от Ясс, в Молдавии. Я не могу услышать среди бела дня паровозного свистка, чтобы не вспомнить Подуль Илоайей. Это пыльный городок в пыльной долине, раскинувшийся под синим небом, в котором плавают облака белой пыли. Долина узка и ее загораживают светлые невысокие и безлесные холмы, кое-где на них виднеются небольшие купы акаций; там и здесь несколько виноградников и тощие поля хлебов.
Дул горячий ветер, шершавый, точно кошачий язык. Хлеба были уже сжаты; желтое жнитво блестело под вязким и тяжелым небом. Из долины поднимались облака пыли. Это был конец мая 1941 года. Прошло всего несколько дней со времени большого погрома в Яссах. Я ехал в автомобиле в Подуль Илоайей вместе с итальянским консулом в Яссах Сартори, тем, которого все называли маркизом, и с Лино Пеллегрини, смелым малым, «фашистским идиотом», прибывшим из Италии в Яссы со своей молоденькой женой, чтобы провести там медовый месяц, направляя в муссолиниевские газеты статьи, полные восхвалений маршала Антонеску, «красной собаки», маршала Антонеску и всех его кровожадных проходимцев, которые вели к разгрому румынский народ. Это был красивейший парень, какого только можно было встретить под солнцем Молдавии, между Альпами Трансильвании и устьем Дуная. Женщины о нем с ума сходили; они бросались к окнам, выбегали на пороги магазинов, чтобы посмотреть на него, когда он проходил, и говорили, вздыхая: «ah ce frumos! ce frumos!» — ах, как он хорош, как он хорош!
Но это был «фашистский идиот», и потом, вы понимаете, я немного ревновал к нему; я предпочел бы, чтобы он был не так красив и меньше фашист, и я внутренне его презирал. Так было до того дня, когда я увидел его смело выступающим против шефа ясской полиции, крича ему прямо в лицо: грязный убийца! Он прибыл наслаждаться своим медовым месяцем в Яссах под бомбами советских самолетов и проводил ночи вместе с женой в «адапосте» — убежище, созданном среди могил старинного заброшенного кладбища. Сартори — «маркиз» был флегматичным неаполитанцем, человеком благодушным и ленивым, но в ночь большого погрома в Яссах он сотни раз рисковал жизнью, чтобы вырвать из рук жандармов сотню несчастных евреев. Теперь мы ехали все трое в Подуль Илоайей в поисках владельца дома, где находилось итальянское консульство, — адвоката-еврея, прекрасного и порядочного человека, которого жандармы серьезно ранили ударом ружейного приклада в саду консульства, а затем увели полумертвого, вероятно, чтобы прикончить где-нибудь в другом месте и не оставлять здесь на земле в качестве доказательства, что они убили еврея на территории итальянского консульства.
Было жарко. Машина медленно подвигалась по дороге, изрытой глубокими ямами. Тучи мух преследовали нас с яростным жужжанием. Сартори отмахивался от них своим платком. Лицо его было смочено потом и он говорил: «Какая глупость! В этакую жару ехать разыскивать труп среди всех этих тысяч трупов, которыми полна Молдавия, — все равно, что искать иголку в сене».
— Ради Бога, Сартори, не говорите о сене, — отвечал я, чихая. Меня мучил мой сенной насморк, и я все время чихал.
— Ах, Иисусе, Иисусе, — говорил Сартори, — я совершенно позабыл о вашем сенном насморке! — И он смотрел с сожалением на мое лицо, покрасневшее от прилива крови, мой фиолетовый нос, мои веки, красные и распухшие.
— Вы ведь любите отправляться на поиски трупов! — говорил я ему. — Сознайтесь, что вы любите это, мой дорогой Сартори. Вы неаполитанец, а неаполитанцы обожают мертвецов, похороны, оплакивания, траур, кладбища. Вы любите хоронить мертвых. Признайтесь, что вы любите трупы, Сартори?
— Не насмехайтесь надо мной, Малапарте. Я великолепно обошелся бы в такую жару без поисков трупа. Но я обещал жене и дочери этого несчастного, а всякое обещание — это долг. Эти две бедные женщины надеются, что он еще жив. Вы верите этому, Малапарте, что он еще жив?
— Как вы хотите, чтобы он остался жив после того, как вы допустили, чтобы его убивали на ваших глазах, даже не выразив протеста. Я понимаю теперь, почему вы такой толстый, словно мясник. Красивые вещи творятся в итальянском консульстве в Яссах!
— Малапарте, после этой истории, если бы Муссолини был справедлив, он должен был бы назначить меня послом.
— Он сделает вас министром иностранных дел. Я держу пари, что вы спрятали этот труп под своей постелью. Сознавайтесь, Сартори, вам приятно спать с трупом под вашей постелью.
— Ах, Иисусе, Иисусе, — вздыхал Сартори, отирая свое лицо платком.
Уже минуло три дня с тех пор, как мы принялись разыскивать труп этого несчастного. Накануне вечером мы навестили шефа полиции, чтобы узнать, не был ли он в последнюю минуту пощажен своими убийцами и не был ли он брошен в тюрьму. Шеф полиции нас мило принял. У него было желтое и дряблое лицо, черные мохнатые глаза с зелеными отблесками под сенью густых ресниц. Я ошеломленно наблюдал за тем, как волосы у него росли до самой внутренней поверхности век; впрочем, это не были ресницы — это был настоящий пух, густой и тонкий, серого цвета.
— Вы уже побывали в госпитале Святого Спиридона? Быть может, он там, — спросил шеф полиции через минуту, приоткрывая глаза.
— Нет, он не там, — ответил Сартори спокойно.
— Вы уверены, — продолжал шеф полиции, внимательно глядя на Сартори совсем маленькой щелкой глаза, где сверкал черно-зеленый луч в бахроме серого пуха, — вы убеждены, что этот факт произошел в самом консульстве и что это были мои жандармы?
— Хотите ли вы, по крайней мере, помочь мне разыскать труп? — спросил Сартори, улыбаясь.
— Мне кажется, — ответил ему шеф полиции, закуривая сигарету, что из окон итальянского консульства был произведено несколько выстрелов в жандармский патруль, проходивший мимо по улице.
— С вашей помощью мне будет нетрудно отыскать труп, — сказал Сартори, улыбаясь.
— У меня нет времени заниматься трупами, — произнес шеф полиции с любезной улыбкой, — у меня достаточно дел с живыми.
— Счастье, — заметил Сартори, что число живых быстро уменьшается. Таким образом, вы скоро сможете немного отдохнуть.
— Я в этом так нуждаюсь, — сказал шеф полиции, возводя глаза к небу.
— Почему бы нам ни заключить соглашение о разделении труда? — продолжил Сартори жалобным голосом. — Пока вы будете заниматься поисками и арестом убийц, которые, по всей вероятности, еще живы, я займусь отысканием мертвого. Что вы скажете?
— Если вы не предъявите мне труп этого господина и если не докажете мне, что он был убит, как могу я заниматься розыском убийц?
— Я не могу переложить на вас эту заботу, — сказал Сартори, улыбаясь. — Я доставлю вам труп. Я доставлю его сюда, в ваш кабинет, вместе с семью тысячами других трупов, и вы поможете мне отыскать его в общей куче. Мы пришли к соглашению?
Он говорил неторопливо, улыбаясь, с непроницаемой флегмой, но я знаю неаполитанцев, я знаю, как устроены неаполитанцы, и я чувствовал, что Сартори кипит от ярости и негодования.
— Согласен, — ответил шеф полиции.
Тогда Пеллегрини, «фашистский идиот», поднялся со сжатыми кулаками и сказал шефу полиции: «Вы — заурядный убийца и подлый проходимец!» Я смотрел на него с удивлением, впервые я смотрел на него без зависти. Он действительно был прекрасен: высокий, атлетически сложенный, с бледным лицом, трепещущими ноздрями, пылающими глазами. В порыве ярости его черные вьющиеся волосы упали на лоб длинными прядями. Я смотрел на него с глубоким уважением. Это был «фашистский идиот», но в ночь большого погрома в Яссах он много раз рисковал жизнью, чтобы спасти нескольких несчастных евреев. И сейчас (было достаточно одного жеста шефа полиции, чтобы его уничтожили в тот же вечер, на углу улицы) он рисковал своей шкурой из-за трупа одного еврея.
Шеф полиции тоже встал и пристально смотрел на него своими мохнатыми глазами. Он охотно выстрелил бы ему в живот; он охотно выстрелил бы в Сартори, в Пеллегрини и в меня, но он не осмеливался. Мы не были румынами, мы не были тремя бедными ясскими евреями. Он боялся, что Муссолини отомстит за нас! (Ах, ах, ах! Он боялся, что если он нас убьет, то Муссолини отомстит за нас! Он не знал, что если бы он убил нас, то Муссолини даже не протестовал бы. Муссолини не хотел неприятностей. Он не знал, что Муссолини боялся всех и боялся даже его!). Я расхохотался при мысли, что шеф полиции в Яссах боится Муссолини.
— Чему вы смеетесь? — внезапно спросил меня шеф полиции, одним движением поворачиваясь ко мне.
— Чего хочет от меня этот господин? — спросил я у Пеллегрини. — Он хочет знать, над чем я смеюсь?
— Да, — ответил Пеллегрини, — он хочет знать, над чем ты смеешься.
— Я смеюсь над ним. Разве я не имею права над ним смеяться?
— Ты, конечно, имеешь право над ним смеяться, — сказал Пеллегрини, но я полагаю, что это не может доставить ему большого удовольствия.
— Конечно, это не должно доставлять ему большого удовольствия.
— В самом деле, это над ним вы смеетесь? — спросил Сартори своим благодушным голосом. — Простите меня, Малапарте, но мне кажется, что это напрасно. Этот господин — прекрасный, воспитанный человек и заслуживает того, чтобы с ним обращались соответственно.
Мы спокойно поднялись и вышли. Мы еще не вышли из дома, когда Сартори остановился и сказал нам:
— Мы позабыли сказать ему «до свидания». Вернемся?
— Э, нет! — ответил я. — Идемте лучше к командиру жандармов.
Командир жандармов предложил нам сигареты, любезно нас выслушал и затем сказал: «Он должен был быть отправлен в Подуль Илоайей».
— В Подуль Илоайей? — спросил Сартори. — Зачем?
Через два дня после погрома поезд, наполненный евреями, был отправлен в Подуль Илоайей, городок, расположенный примерно в двадцати километрах от Ясс, где шеф полиции решил создать концентрационный лагерь. Прошло три дня с момента отбытия поезда. В настоящее время он должен был уже давно прибыть на место.
— Едем в Подуль Илоайей, — сказал Сартори.
Так мы на следующее утро и отправились в автомашине в Подуль Илоайей. На маленькой станции, затерянной возле пустынной запыленной деревни, мы остановились, чтобы разузнать о поезде. Несколько солдат, сидевших в тени заброшенного вагона на путях, рассказали нам, что состав из десяти вагонов, предназначенных для перевозки скота, прошел здесь двумя днями ранее и что он был задержан на целую ночь на станции. Несчастные, запертые в запломбированных вагонах, кричали и стонали, умоляя солдат охраны снять деревянные щиты, которыми были забиты отверстия. В каждый вагон было погружено до двухсот евреев, а маленькие окна, защищенные металлическими решетками, устроенные в верхней части вагонов для перевозки скота, были забиты досками, так что узники не могли дышать. Поезд ушел на рассвете в Подуль Илоайей.
— Быть может, вы его нагоните прежде, чем он придет в Подуль Илоайей, — говорили нам солдаты.
Железная дорога пролегает в глубине равнины; она идет параллельно дороге. Мы уже были неподалеку от Подуль Илоайей, когда среди пыльной долины послышался долгий паровозный гудок. Мы посмотрели друг на друга, такие бледные, как будто узнали этот гудок.
— Какая жара! — вздохнул Сартори, вытирая лицо своим платком. Но я заметил, что он тотчас же покраснел и раскаялся в том, что сказал «какая жара», подумав об этих несчастных, набитых в скотских вагонах по двести человек в каждом, без воздуха и воды. Этот далекий гудок имел призрачный звук в долине пустынной и пыльной под лучами неподвижного солнца. Спустя немного времени мы заметили поезд. Он стоял перед закрытым семафором и давал гудки. Потом он медленно тронулся, и мы стали сопровождать его по дороге. Мы смотрели на эти вагоны для перевозки скота с забитыми досками маленькими окнами. Поезд затратил три дня, чтобы пройти расстояние каких-нибудь двадцати километров; он мог держать первенство среди всех поездов военного времени. И, кроме всего, ему было незачем торопиться. Если бы даже он прибыл в Подуль Илоайей после трехмесячного путешествия, он все равно не опоздал бы.
Тем временем мы въехали в Подуль Илоайей. Поезд остановился на подъездных путях в некотором отдалении от вокзала. Стояла удушающая жара, был приблизительно полдень. Служащие на вокзале ушли завтракать. Машинист, кондуктор и солдаты охраны сошли с паровоза и растянулись на земле в тени вагонов.
— Откройте немедленно вагоны, — приказал я солдатам.
— Мы не можем, домнуле капитан.
— Открывайте вагоны немедленно! — рычал я.
— Мы не можем, — сказал машинист, — вагоны запломбированы. Надо известить начальника вокзала.
Начальник вокзала сидел за столом. Сначала он не хотел прерывать свой завтрак, но когда он усвоил, что Сартори — итальянский консул и что я — итальянский домнуле капитан, он поднялся из-за стола и рысцой последовал за нами с большими щипцами в руках. Солдаты тотчас же взялись за работу, стараясь открыть дверь первого вагона. Большая дверь из дерева и железа сопротивлялась; можно было подумать, что сотни рук держали ее изнутри, что пленники служили противовесом за ней, мешая ее раздвинуть. Начальник вокзала крикнул: «Эй, вы, там, внутри, толкайте и вы тоже!» Никто ему не ответил из вагона. Тогда мы налегли все вместе. Сартори остался стоять перед вагоном с поднятой головой, вытирая платком лицо. Внезапно дверь уступила и вагон раскрылся.
Вагон раскрылся сразу, и целая толпа заключенных ринулась на Сартори, опрокинула его на землю, сгрудилась над ним. Мертвые падали из вагона. Они падали группами, с глухим стуком, всей своей тяжестью, как бетонные статуи. Погребенный под трупами, придавленный их холодным, их невероятным весом, Сартори боролся и судорожно вырывался, чтобы высвободиться из этой кучи, из этого застывшего в холоде окоченения скопления, но он исчез под этим обвалом трупов, как под каменной лавиной. Мертвецы неистовы, упорны и жестоки. Мертвецы — тупы. Они капризны и заносчивы, как дети и как женщины. Мертвецы безумны! Остерегайтесь, если мертвец ненавидит живого! Остерегайтесь, если он любит его! Остерегайтесь, если живой оскорбляет мертвеца, задевает его самолюбие, наносит рану его чести! Мертвецы ревнивы и мстительны. Они не боятся никого; они не боятся ничего: ни ударов, ни ран, ни решительного количественного перевеса противника. Они не боятся даже смерти. Они борются ногтями и зубами, в молчании, не отступая ни на шаг, не выпуская своей добычи, никогда не обращаясь в бегство. Они борются до конца, с холодной и упорной отвагой, смеясь или зубоскаля, бледные и немые, с вытаращенными глазами, искаженными глазами безумцев. Когда они брошены на землю, когда они уступают при поражении и унижении, они распространяют мягкий и жирный запах и медленно разлагаются.
Некоторые бросались на Сартори тяжестью всего своего веса, пытаясь раздавить его, другие падали на него, холодные, жесткие, инертные, третьи ударяли его головой в грудь, наносили ему удары локтями и коленями. Сартори хватал их за волосы, за одежду, ловил их руки, пытаясь оттолкнуть их, сдавливал их за горло и бил в лицо сжатыми кулаками. Это была ожесточенная и молчаливая борьба. Мы все бросились к нему на помощь и старались высвободить его из-под тяжелого скопления трупов. Наконец, после значительных напрасных усилий, нам удалось выцарапать его и извлечь оттуда. Сартори поднялся; его костюм был изорван, глаза вспухли, одна щека кровоточила. Он был очень бледен, но спокоен. Он сказал только: посмотрите, нет ли там еще живых, меня укусили в лицо.
Солдаты поднялись в вагон и начали выбрасывать трупы наружу, одни за другими. В вагоне было сто семьдесят девять человек умерших от удушения. У всех были вспухшие головы и синие лица. Тем временем прибыла команда немецких солдат, а также известное количество жителей городка и крестьян; они приняли участие в открывании вагонов и выбрасывании трупов наружу. Затем они укладывали трупы в линию вдоль полотна железной дороги. Группа евреев из Подуль Илоайей появилась здесь также, во главе со своим раввином. Они узнали, что здесь присутствует итальянский консул, и это придало им смелости. Они были бледны, но спокойны. Они не плакали и говорили твердыми голосами. У всех в Яссах были родные или друзья; все трепетали за их жизнь. Они были одеты в черное и странные шапочки из жесткого фетра. Раввин и пятеро или шестеро из них, склонившись перед Сартори, заявили, что они являются членами Административного совета Сельскохозяйственного банка в Подуль Илоайей.
— Жарко сегодня, — сказал раввин, утирая пот ладонью.
— Да, очень жарко, — ответил Сартори, прижимая платок к своему лбу.
Мухи неистово гудели. Мертвецов, уложенных на железнодорожном откосе, было, примерно, две тысячи. Две тысячи трупов, лежащих рядом под ярким солнцем, — это много. Это даже слишком много. Был обнаружен живой ребенок, зажатый между коленями своей матери. Он потерял сознание. Одна ручка его была сломана. Его матери удалось сохранять ему жизнь все трое суток, держа младенца таким образом, что узенькая щелка в двери вагона находилась как раз против его губ. Она дико защищалась, чтобы толпа умирающих не оторвала ее от этого места, и умерла, раздавленная в этой жестокой борьбе. Ребенок остался жив, укрытый телом своей мертвой матери, продолжая сосать губами тоненькую струйку воздуха. — Он жив! — говорил Сартори странным голосом. — Он жив! Я с волнением смотрел на этого толстого и благодушного неаполитанца, который, наконец, утратил свойственную ему флегматичность не из-за всех этих мертвецов, но из-за живого ребенка, еще живого ребенка.
Спустя несколько часов, когда уже подступали сумерки, из глубины одного вагона солдаты выбросили труп, голова которого была перевязана окровавленным платком. Это и был домовладелец здания Итальянского консульства в Яссах. Сартори долго, молча, смотрел на него, дотронулся до его лба, потом повернулся к раввину и сказал: «Это был порядочный человек!»
Неожиданно мы услышали шум свалки. Банда, состоявшая из набежавших со всех сторон крестьян и цыган, принялась раздевать трупы. Сартори сделал жест, выражавший его негодование, но раввин дотронулся до его плеча: «Бесполезно, — сказал он, — это обычай». Потом, с печальной улыбкой, он добавил: «Завтра они придут к нам продавать одежду, украденную у мертвых, и нам придется покупать ее — как могли бы мы поступить иначе?» Сартори замолчал и только смотрел, как раздевали несчастных. Можно было на самом деле подумать, что мертвецы изо всех сил сопротивляются этому последнему насилию. Обливаясь потом, рыча и ругаясь, нападающие старались приподнять непокорные руки, распрямить отвердевшие локти, разогнуть жесткие колени, чтобы снять куртки, брюки, нижнее белье. Женщины были особенно упорными в своем безнадежном сопротивлении. Я никогда не представлял себе, чтобы было так трудно снять сорочку с мертвой молоденькой девушки. Быть может, в них еще и после смерти оставалась жить стыдливость, придававшая им сил для самозащиты. Иногда они приподнимались на локтях, приближая свои белые лица к потным и ожесточенным лицам своих осквернителей, и долго смотрели на них своими расширенными глазами. И потом они падали голые обратно на землю, падали с глухим стуком.
— Надо уезжать, уже поздно, — сказал Сартори спокойным голосом. Затем, обратившись к раввину, он попросил его выдать документ о смерти этого «очень порядочного человека». Раввин поклонился, и мы направились пешком к городу.
В кабинете директора Сельскохозяйственного банка жара была поистине удушливой. Раввин послал за синагогальной книгой регистрации смертей, составил акт о смерти несчастного и передал этот документ Сартори, который бережно сложил его и спрятал в своем портфеле.
Вдали послышался гудок поезда. Большая муха с синими крыльями жужжала возле чернильницы.
— Я очень сожалею, что вынужден уезжать, — сказал Сартори, — но мне необходимо вернуться в Яссы до наступления вечера.
— Подождите минутку, прошу Вас, — сказал по-итальянски один из членов администрации Сельскохозяйственного банка. Это был маленький жирный еврей с бородкой а ля Наполеон Третий[346]. Он открыл маленький шкапчик, достал бутылку вермута и наполнил несколько рюмок, добавив, что это подлинный вермут из Турина, настоящее Чинзано, и начал рассказывать нам по-итальянски, что он не раз бывал в Венеции, во Флоренции, в Риме, что двое его сыновей учились медицине в Италии, в Падуанском университете[347].
— Я был бы рад с ними познакомиться, — любезно сказал Сартори.
— Э! Их нет в живых, — ответил еврей. — Оба убиты в Яссах, в тот самый день. Он вздохнул, потом добавил: — Я так хотел бы вернуться в Падую, снова увидеть университет, где учились мои мальчики.
Мы долго молчаливо сидели в комнате, полной мух. Потом Сартори встал и все так же молча мы вышли. Пока мы садились в машину, еврей, с наполеоновской бородкой, взял за локоть Сартори и униженно сказал, понизив голос: «И подумать только, что я знаю наизусть всю „Божественную комедию“». И он стал декламировать:
Nel mezzo de! cammin di nostra vita…[348]Машина двинулась, и группа евреев, одетых в черное, исчезла в облаке пыли.
* * *
— Румыны — нецивилизованный народ, — сказал презрительно Франк.
— Йа, ес ист айн фольк оне Культур,[349] — добавил, качая головой, Фишер.
— Вы ошибаетесь, — ответил я, — румыны народ благородный и щедрый. Я очень люблю румын. В этой войне из всех латинских народов одни только румыны показали благородные чувства долга и большого великодушия, проливая кровь за своего Христа и своего короля. Это простой народ, народ крестьян, грубоватых и тонких. Не их вина, если у классов, семейств и людей, которые должны были бы служить им примером, гнилые души, гнилые мозги, гнилые кости. Румынский народ не ответствен за избиения евреев. Погромы в Румынии сейчас, как и в прошлом, организованы и разражаются по приказу или при соучастии руководителей государства. Народ не виноват, если трупы евреев со вспоротыми животами, подвешенные на крюках, как мясные туши, висящие на бойнях Бухареста, остаются в таком виде висеть днями и днями среди смеха гвардейцев.
— Я понимаю и разделяю ваше чувство возмущения, — сказал Франк. — В Польше, благодаря Богу и немного благодаря мне, вы не имели и не будете иметь случаев видеть подобные мерзости. Нет, майн либер Малапарте[350], в Польше, в немецкой Польше, у вас не будет ни случая, ни повода растрачивать ваши благородные чувства осуждения и милосердия!
— О! Я, разумеется, не явлюсь к Вам, чтобы высказать то, что Сартори, Пеллегрини и я сказали шефу полиции в Яссах. Это было бы неосторожно. И вы, по меньшей мере, засадили бы меня в концентрационный лагерь.
— И Муссолини даже не протестовал бы.
— Нет. Он не протестовал бы. Он не хочет неприятностей, Муссолини!
— Вы знаете, — сказал Франк напыщенно, — что я справедлив и лоялен и что я не лишен сенс оф юмор[351]. Если вы захотите сказать мне что-либо справедливое и лояльное, вы можете прийти ко мне без всяких опасений. Мы здесь — в Варшаве, а не в Яссах. Разве вы позабыли о нашем пакте? Вы помните то, что я сказал вам, когда вы только прибыли в Польшу?
— Вы меня предупредили, что поручите Гестапо следить за мной самым внимательным образом, но что я имею право думать и действовать как свободный человек. Вы уверили меня, что я могу свободно выражать свои мнения, что и вы будете также поступать по отношению ко мне, что вы с абсолютной лояльностью будете уважать правила игры в крокет.
— Наш пакт все еще действителен, — сказал Франк. — Разве я не уважал всегда правила крокета? Чтобы дать вам новое доказательство моей лояльности, я скажу вам, что Гиммлер не доверяет вам. Я встал на вашу защиту. Я сказал ему, что вы не только лояльный человек, но и свободный человек, что в Италии вам пришлось вынести тюрьму и преследования за ваши книги, за ваше свободомыслие, за вашу неосторожность избалованного ребенка, но все это не оттого, что вы — человек нелояльный. Я сказал ему также, чтобы как можно надежнее обосновать мое мнение о вас, что, проезжая через Швецию, как вы это нередко делаете, чтобы попасть на Финский фронт, вам было бы очень легко — и никто не сумел бы помешать вам в этом — остаться в этой нейтральной стране в качестве политического эмигранта, но что вы не делаете этого, потому что вы носите форму итальянского офицера и, что, следовательно, ваша честь не позволяет вам дезертировать. Я добавил, что ваши книги изданы во Франции, в Англии и в Америке и что, следовательно, вы — писатель, заслуживающий внимания, и что мы должны доказать вам, что немецкая Польша — страна такая же свободная, как и Швеция. Чтобы быть с вами совершенно искренним, я скажу вам, что я на всякий случай дал совет Гиммлеру обыскать вас, когда вы будете покидать польскую территорию. Быть может, мне следовало вас предупредить, что я намерен дать такой совет Гиммлеру, или же просто-напросто не давать ему такого совета? Как бы то ни было, но я ставлю вас об этом в известность сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Это — тоже крокет, нихьт вар!
— Это — почти крокет, — ответил я, улыбаясь, — но вы сделали бы лучше, посоветовав Гиммлеру обыскать меня тогда, когда я въезжал в Польшу. И чтобы со своей стороны дать вам доказательство своей лояльности, я хочу вам рассказать, на что я употребил свое время в период пребывания Гиммлера в Варшаве.
И я рассказал Франку об этих письмах, о пакетах с продуктами и деньгах, которые польские беженцы в Италии просили меня передать их родным и друзьям в Варшаве.
— Ах, зо! Ах, зо! — воскликнул Франк, смеясь. — Под самым носом Гиммлера! Ах, вундербар! Под самым носом Гиммлера!
— Вундербар! Ах, вундербар! — вскричали все гости, шумно смеясь.
— Я надеюсь, что это крокет? — спросил я.
— Да, это настоящий крокет! — кричал Франк. — Браво, Малапарте! — Прозит! — добавил он, поднимая свой стакан.
— Прозит! — повторили остальные. И мы выпили «по-немецки» одним духом.
Наконец, мы встали из-за стола, и фрау Бригитта Франк провела нас в соседнюю комнату (круглую залу, освещенную двумя большими застекленными дверями, выходящими в парк), которая была некогда спальней маршала Пилсудского. Отблески снега (по голым ветвям деревьев перепрыгивали маленькие серые птички; статуи Аполлона и Дианы на пересечениях аллей были одеты снегом, и в парке, там и здесь, часовые маршировали с автоматами, взятыми на руку) мягко таяли на стенах, на мебели, на мягких коврах.
— В этой комнате, — сказал Франк, — как раз в том кресле, где сейчас сидит Шмелинг, умер маршал Пилсудский. Я не позволил трогать здесь ничего. Я хотел, чтобы все оставалось на своих местах и распорядился вынести только постель. И он любезным голосом добавил: «Память маршала Пилсудского заслуживает нашего полного уважения».
Он умер в этом кресле, меж двух застекленных дверей, глядя на деревья парка. Большая ниша, устроенная в стене напротив стеклянных дверей, была занята диваном, на котором сидели фрау Фишер и генерал-губернатор Франк. Раньше постель маршала Пилсудского стояла здесь, в этой нише, на месте дивана. Стоя рядом с креслом, в котором он умер и где сейчас сидел боксер Макс Шмелинг, старый маршал, с бледным лицом, изрезанным синими венами, похожими на шрамы, с большими свисающими усами а ля Собесский, с обширным лбом, над которым ершилась щетка коротких и жестких волос ждал, когда Макс Шмелинг поднимется и уступит ему место. Франк был прав: память маршала Пилсудского заслуживала нашего полного уважения.
Франк громко спорил с Максом Шмелингом о спорте и чемпионах.
Было жарко. Пахло табаком и коньяком. Я чувствовал, что меня мало-помалу охватывает оцепенение: я слышал голоса Франка и фрау Вехтер, видел Шмелинга и губернатора Фишера, подносящих к губам свои рюмки коньяка; фрау Фишер, которая, улыбаясь, поворачивалась к фрау Бригитте, и ощущал, что меня окутывает теплый туман, стирающий отчетливость голосов и лиц. Я устал от этих голосов и этих лиц. Я не мог больше выносить Польшу; через несколько дней я должен был уехать на Смоленский фронт; это был тоже крокет, нихьт вар!
Было мгновение, когда мне показалось, что Франк повернулся ко мне и приглашал меня провести несколько дней в горах — в Татрах, в Закопане, на знаменитой зимней польской спортивной станции. «Ленин, в 1914 году, незадолго до начала войны, тоже провел несколько дней в Закопане», — говорил Франк, смеясь. Я ответил (или только хотел ответить), что не могу, что я должен уезжать на Смоленский фронт; потом я заметил, что готов ответить ему: «Почему бы нет? Я охотно проведу четыре-пять дней в Закопане». Внезапно Франк поднялся, мы тоже все встали, и он предложил совершить прогулку в гетто.
Мы вышли из Бельведера. Я сел в первую машину вместе с фрау Фишер, фрау Вехтер и генерал-губернатором Франком. Во второй машине разместились фрау Бригитта Франк, губернатор Фишер и Макс Шмелинг. Остальные приглашенные следовали за нами в других машинах. Мы проехали по Уяздовской аллее, свернули на Свентозицкую и поехали по Маршалковской, потом остановились и пешком спустились к входу в «Запретный город», входу, устроенному в высокой стене из красного кирпича, которой немцы окружили гетто.
— Взгляните на эту стену, — сказал мне Франк. — Разве вы здесь на самом деле видите эту ужасную бетонную стену, унизанную пулеметами, о которой твердят английские и американские газеты? И, смеясь, он добавил: «Евреи, бедняги, все слабогрудые; эта стена, по крайней мере, защищает их от ветра!»
В надменном голосе Франка было что-то, что показалось мне знакомым, что-то печальное: жестокость, грустная и страдающая.
— Страшная аморальность этой стены, — ответил я, — не только в том, что она препятствует евреям выходить из гетто, но в том, что она не мешает им входить туда.
— И, однако, — сказал Франк, смеясь, — несмотря на то, что нарушение запрещения выходить из гетто карается смертью, евреи входят и выходят из него по своему желанию.
— Перелезая через стену?
— О, нет! — ответил Франк. — Они выходят через маленькие отверстия, похожие на крысиные норы, которые по ночам подкапывают у основания стены, а днем маскируют землей и сухими листьями. Они просачиваются сквозь эти отверстия и отправляются в город, чтобы покупать там продукты и одежду. Черный рынок гетто в своей большой части работает при посредстве этих нор. Время от времени некоторые из таких крыс попадаются в мышеловку: это дети восьми-десяти лет, не больше. Они рискуют жизнью с настоящим спортивным азартом. Это тоже крокет, нихьт вар?
— Они рискуют своей жизнью! — воскликнул я.
— В самом деле, — ответил Франк, — они не рискуют ничем другим.
— И это вы называете крокетом?
— Конечно! Каждая игра имеет свои правила.
— В Кракове, — заметила фрау Вехтер, — мой муж создал вокруг гетто стену в восточном вкусе — с изящными арками и зубцами. Краковские евреи, разумеется, не могут жаловаться. Стена совсем элегантная, в еврейском стиле.
Все смеялись, топая ногами по оледенелому снегу.
— Ruhe! — Тихо! — сказал солдат, целившийся из автомата, сидя на корточках в нескольких шагах от нас. Он был скрыт от нас кучей снега.
Солдат целился в нору, проделанную в стене на уровне земли. Другой солдат, опустившись на колени позади него, смотрел через плечо своего товарища.
Внезапно первый солдат выстрелил. Пуля ударила в стену как раз над отверстием.
— Промах! — весело воскликнул солдат, перезаряжая винтовку.
Франк подошел к солдатам и спросил, в кого они стреляют.
— В крысу! — ответили они, громко хохоча.
— В крысу? Ах, зо! — сказал Франк, опускаясь на колено, чтобы посмотреть поверх плеча солдата. Мы приблизились тоже, мы все, и дамы смеялись и суетились, высоко приподнимая подолы платьев, как это обычно делают женщины, если разговор заходит о крысах.
— Где она? Где крыса? — спрашивала фрау Бригитта Франк.
— Ахтунг![352] — сказал солдат, прицеливаясь. В норе, проделанной у основания стены, показался пучок всклокоченных черных волос, затем две руки, упирающиеся в снег. Это был ребенок.
Раздался выстрел. Голова ребенка исчезла.
— Дай сюда! — нетерпеливо сказал Франк. — Ты даже не умеешь стрелять. Он вырвал у солдата винтовку и прицелился.
В тишине падал снег.
Часть III СОБАКИ
VIII. ЗИМНЯЯ НОЧЬ
В витрине скорняка-татарина среди мехов норки, горностая, белки, лисиц — серебристых, голубых и платиновых, была растянута внушающая ужас и жалость собачья шкура. Это был прекрасный английский сеттер: черно-белый, с длинной и тонкой шерстью; у него были пустые глазницы, сплющенные уши, раздавленная морда. Этикетка, лежавшая на одном из ушей, указывала цену: «Шкура английского сеттера, чистопородного, финских марок 600». Мы стояли перед витриной. Я чувствовал, как меня охватывает легкое омерзение.
— Ты никогда не видел перчаток из собачьей кожи? У полковника Люктандера была пара… у этого финского полковника, которого мы повстречали на Ленинградском фронте, — сказал мне граф Огюстен де Фокса, посол Испании в Хельсинках. — Я хотел бы купить пару, чтобы отвезти их в Мадрид. Я всем рассказывал бы, что это собачья кожа. Перчатки из спаниеля[353] — гладкие и шелковистые, а из легавой — жестче. Для дождливых дней я хотел бы иметь перчатки из руфф-терьера. Даже женщины здесь носят шапки и муфты из собачьего меха. Де Фокса смеялся и смотрел на меня исподлобья. — Собачья шкура добавляет нечто к красоте женщины, — заявил он.
— Собаки великодушны, — отметил я.
Это происходило в последних числах марта 1942 года. Мы шли по улице, пересекающей Эспланаду[354], только что миновали ее возле Савоя и спустились к рыночной площади, расположенной перед портом, той, где рядом, один с другим, возвышаются неоклассический дворец шведского посольства и другой, построенный в стиле Энгелиса, служащий резиденцией президента Финской республики.
Стоял волчий холод; нам казалось, что мы идем по лезвию бритвы. Немного подальше витрины скорняка-татарина на углу улицы мы подошли к магазину гробов. Гробы, покрашенные то белой, то блестящей черной краской (с огромными серебряными бляхами) целиком сделанные из красного дерева, были расставлены в магазине с обольстительным искусством. Одинокий маленький детский гробик, весь посеребренный, стоял на витрине.
— Обожаю эти вещи! — сказал мне по-французски де Фокса, останавливаясь, чтобы посмотреть на гробы.
Де Фокса жесток и мрачен, как всякий порядочный испанец. Он питает уважение только к душе: тело, кровь, страдания бедной человеческой плоти, ее болезни, ее раны оставляют его равнодушным. Он любит говорить о смерти, радуется, точно празднику, если видит гробы в витринах, с удовольствием беседует о язвах, опухолях, уродах. Но он боится призраков, готов говорить о чем угодно, только не о привидениях. Это интеллигентный человек большого ума и культуры, быть может немного слишком «духовный», чтобы быть вполне разумным. Он хорошо знает Италию, знаком с большинством моих друзей во Флоренции и в Риме; у меня есть даже подозрение, что оба мы, сами того не ведая, были влюблены в одно время и в одну и ту же женщину. Он провел несколько лет в Риме в качестве секретаря испанского посольства, расположенного возле Квиринала, но затем был изгнан из Италии за то, что острил на площадке для гольфа в Акуазанте и в своих донесениях Серрано Суинеру по адресу графини Эдды Чиано.
— Подумай только: я три года прожил в Риме, — говорил он мне, — и не знал, что графиня Эдда Чиано — дочь Муссолини! Когда мы спускались по Эспланаде, Огюстен де Фокса рассказал мне, что однажды вечером он с несколькими друзьями пошел посмотреть, как открывали гробницы старого кладбища святого Себастьяна в Мадриде. Был 1933 год — в этом году Испания была Республикой. В связи с принятой новой планировкой Мадрида, Республиканское городское управление вынесло решение о ликвидации старого мадридского кладбища. Когда де Фокса и его друзья, в числе которых находились молодые мадридские писатели — Цезарь Гонсалес Руано, Карлос Мираллес, Агостин Виньола и Луис Эскобар, прибыли на кладбище, уже наступала ночь, и многие могилы были открыты и пусты. Мертвецы лежали в незакрытых гробах: торреро в своих ярких костюмах, генералы в полной форме, священнослужители, юноши, богатые буржуа, молодые девушки, благородные дамы и маленькие дети. Одной молодой покойнице, похороненной с флаконом духов в руке, поэт Луис Эскобар посвятил впоследствии лирическое стихотворение: «Прекрасной даме, которую звали Мария Консепсьон Элола». Агостин Виньола тоже посвятил стихи бедному моряку, неожиданно умершему в Мадриде и погребенному на этом печальном кладбище вдали от моря. Де Фокса и его друзья, до того немного подвыпившие, опустились на колени перед гробом моряка, читая молитвы по усопшим. Карлос Мираллес положил на грудь мертвому листок бумаги, на котором он нарисовал карандашом лодку, рыбу и несколько волн. Потом все перекрестились, говоря: «Во имя севера, юга, запада и востока!». На могиле студента по имени Новилло наполовину стертая временем эпитафия гласила: «Бог прервал его занятия, чтобы наставить его истине». В одном гробу, украшенном большими серебряными звездами, лежал мумифицированный труп молодого французского аристократа — графа Мартиньера, эмигрировавшего в Испанию в 1830 году, после падения Карла X[355], с группой французских легитимистов. Цезарь Гонсалес Руано склонился перед графом Мартиньером и сказал ему: «Я приветствую тебя, благородный француз, преданный и верный своему законному королю, и в твоем присутствии испускаю возглас, который не может больше сорваться с твоих губ, возглас, который заставит затрепетать твои кости: „Да здравствует король!“» Республиканский полицейский, оказавшийся на кладбище, схватил Цезаря Гонсалеса Руано за руку и отвел его в тюрьму.
Де Фокса говорил громко и как обычно жестикулировал.
— Огюстен, — сказал я, — говори тихо: тебя слушают призраки.
— Призраки? — прошептал де Фокса, бледнея и озираясь.
Дома, деревья, статуи и скамейки Эспланады, казалось, сверкали в этом свете, ледяном и призрачном, который снег придает вечерам на севере. Несколько пьяных солдат спорили с девушкой на углу Миконкату. Жандарм ходил вдоль и поперек тротуара у отеля Кемп. Над крышами улицы Маннергейма небо было белым, без единой складки, без всякого трепетания воздуха, как небо на старой выцветшей фотографии. Огромные железные буквы рекламы сигарет Клубби над крышей отеля Уосисуома чернели в небе, точно скелет огромного насекомого. Стеклянная башня дома Штокмана[356] и небоскреб отеля Торни[357] блестели в мертвенно-бледном воздухе.
И вдруг на рекламе, подвешенной к балкону одного из домов, я прочел два слова: «Институт Лингафон».
* * *
Ничто, никогда не может так напомнить мне зиму в Финляндии, как пластинки Лингафона. Каждый раз, как только я увижу в газете объявление: «Изучайте иностранные языки по методике Лингафон!», каждый раз, как только я прочту эти два магических слова «Институт Лингафон», я стану думать о финской зиме, о призрачных лесах и ледяных озерах Финляндии.
Всегда, когда я услышу разговор о пластинках Лингафон, я, закрыв глаза, буду видеть моего друга Якко Леппо, коренастого и толстого, затянутого в форму финского капитана, его лицо, круглое и бледное, с выступающими скулами, маленькими подозрительными косыми глазками, полными холодного северного света. Я вижу моего друга Якко Леппо сидящим со стаканом в руке перед граммофоном в библиотеке его дома в Хельсинках, а вокруг него — Лиззи Леппо, госпожу П., министра П., графа Огюстена де Фокса, Титуса Михайлеско, Марио Орано, — каждого с бокалом в руке, слушающего хриплый голос граммофона. Я увижу, как время от времени Якко Леппо поднимет свой бокал, полный коньяка, говоря: «Малианне» (ваше здоровье!) и все поднимают свои бокалы, говоря: «Малианне» (ваше здоровье!) Всякий раз, как только я увижу надпись: «Институт Лингафон», я стану думать о финской зиме и о ночи, которую мы провели с бокалами в руках у Якко Леппо, слушая хриплый голос граммофона и говоря друг другу: «Малианне!»
Было уже два часа ночи. Мы только что закончили ужинать, закончили во второй или в третий раз. Сидя в библиотеке, перед огромным зеркалом окна, вырезанного в призрачном небе, мы смотрели, как Хельсинки медленно тонул в снегу, и из этого белого и молчаливого кораблекрушения всплывали, как корабельные мачты, колоннада Парламента[358], посеребренный и гладкий фасад почтового отеля, затем вдали, на фоне деревьев Эспланады и Бруннспаркена[359] — башня Штокмана, из стекла и бетона, и небоскреб Торни.
Термометр, подвешенный к окну снаружи, показывал сорок пять градусов ниже нуля.
— Сорок пять градусов ниже нуля — вот Парфенон[360] Финляндии! — говорил де Фокса.
Время от времени Якко Леппо поднимал свой бокал, полный коньяка, и говорил: «Малианне!» и все мы поднимали наши бокалы, наполненные коньяком, и говорили: «Малианне!» Я только что вернулся с Ленинградского фронта, и в течение пятнадцати дней ничего другого не делал, как только говорил: «Малианне!» Повсюду — в глубине лесов Карелии, в корсу-землянках, вырубленных во льду, в траншеях, в лоттала, на тропинках Каннаша, — всякий раз, когда мои сани встречались с другими санями, — повсюду, в течение пятнадцати дней я не делал ничего иного, как только поднимал свой стакан и говорил: «Малианне».
В поезде, который вез меня в Виипури[361], я провел ночь, говоря: «Малианне» с директором железных дорог округа Виипури, прибывшем в моем спальном вагоне, чтобы отдать визит Якко Леппо. Это был коренастый человек, невысокий, но геркулесовского сложения, с лицом бледным и опухшим. Сняв свой тяжелый бараний тулуп, он оказался в вечернем костюме. На фоне его галстука, незапятнанной белизны, виднелось горлышко бутылки, укрытой между его крахмальным пластроном[362] и ослепительным жилетом. Он возвращался со свадьбы своего сына. Торжество продолжалось трое суток, и теперь он ехал в Виипури к своим паровозам, своим поездам, своей конторе, сооруженной на развалинах вокзала, разрушенного советскими минометами.
«Это забавно, — сказал он мне. — Сегодня я опять много пил, и я не чувствую себя даже навеселе». У меня же, напротив, было впечатление, что он выпил совсем немного, но был уже не «голубым», а темно-синим. Спустя мгновение он достал со своей груди бутылку, извлек из кармана два маленьких стаканчика, наполнил их до краев коньяком и сказал: «Малианне!» Я ответил: «Малианне!» и мы провели ночь, говоря друг другу: «Малианне» и молчаливо глядя друг на друга. Время от времени он принимался говорить по-латыни (на единственном языке, на котором мы могли понимать один другого). Он указывал мне на черный, мрачный, призрачный, нескончаемый лес, бежавший нам навстречу по обе стороны железнодорожного полотна, и заявлял: «Semper domestica silva»[363], добавляя: «Малианне!» Потом он будил Якко Леппо — «Somno vinoque sepulto»[364] — на его диване, вкладывал ему в руку стакан, говоря: «Малианне». Якко Леппо, отвечая «Малианне», одним духом, не открывая глаз, осушал стакан и снова впадал в сон. Наконец, мы прибыли в Виипури и освободились друг от друга среди руин вокзала, говоря: «Vaie».
В течение пятнадцати дней я не делал ничего иного, кроме как говорил «Малианне» во всех «корсу» и всех «лоттала» Каннаша и восточной Карелии. Я говорил «Малианне» в Виипури с лейтенантом Свёртстремом и другими офицерами из его компании, говорил «Малианна» в Териоках[365], в Александровске, в Райкколе, на берегах Ладожского озера, с офицерами и «сиссит» полковника Мерикальо; я говорил «Малианне» в траншеях под Ленинградом с артиллерийскими офицерами полковника Люктандера. Я говорил «Малианне» в терпидариуме «сауны» — национальной финской бани, после того, как рысью выбежав из кальдариума, где температура достигала шестидесяти градусов выше нуля, я голым катался в снегу на опушке леса при сорока двух градусах ниже нуля; я говорил «Малианне» близ домика художника Репина[366] в предместьях Ленинграда, глядя сквозь деревья сада на дом, где покоится этот художник, и на смутные очертания вдали, на краю дороги, первых строений Ленинграда, видневшихся под огромным облаком дыма, стоявшим над городом.
Время от времени Якко Леппо поднимал свой стакан и говорил: «Малианне!» И министр П. — один из высших функционеров Министерства иностранных дел, говорил: «Малианне». И госпожа П. и Лиззи Леппо говорили: «Малианне!» И де Фокса говорил: «Малианне!», и Титус Михайлеско, и Марио Орано говорили: «Малианне!» Мы сидели в библиотеке и сквозь огромное стекло окна смотрели на город, медленно тонущий в снегу, и на суда, вдали на горизонте, плененные льдами возле острова Суоменлинна[367], силуэты которых постепенно поглощал туман.
Наконец наступал тот хрупкий час, когда финны становятся печальными. Они пристально смотрят друг на друга с вызывающим видом, прикусывая нижнюю губу, и пьют в молчании, не говоря «Малианне», будто делая над собой усилие, чтобы подавить глубокую ярость. Я хотел потихоньку уйти незамеченным, де Фокса тоже хотел уйти, но министр П. схватил его за руку, говоря: «Дорогой посол, ведь вы знакомы с Ивало, не правда ли?» (Ивало был генеральным директором Министерства иностранных дел).
— Это один из лучших моих друзей, — отвечал ему де Фокса примирительным тоном. — Это человек редкого ума, а госпожа Ивало — совершенно очаровательная женщина.
— Я вас не спрашиваю, знакомы ли вы с госпожой Ивало, — говорил министр, глядя на де Фокса своими подозрительными глазками. — Я хотел знать, знаете ли вы господина Ивало.
— Да, я очень хорошо его знаю, — отвечал де Фокса, умоляя меня взглядом, чтобы я не покидал его.
— Знаете ли вы, что он сказал мне по поводу Испании и Финляндии? Я встретил его сегодня вечером в баре Кэмпа. Он был там с министром Хоккарайненом. Вы ведь знаете министра Хоккарайнена, не так ли?
— Он очень обаятельный человек, министр Хоккарайнен, — отвечал де Фокса, разыскивая глазами Титуса Михайлеско.
— Знаете ли вы, — сказал мне месье Ивало, — в чем разница между Испанией и Финляндией?
— Ее показывает термометр, — осторожно ответил де Фокса.
— Почему термометр? Нет, она не обозначена на термометре, — говорил министр П. возбужденным голосом. — Разница в том, что Испания — страна симпатизирующая, но не воюющая, тогда как Финляндия — страна воюющая, но не симпатизирующая.
— А! а! а! Очень забавно! — сказал де Фокса, смеясь.
— Почему вы смеетесь, — подозрительно спросил его министр П.
Якко Леппо, неподвижно седевший на стульчике у рояля, как татарин в седле, смотрел на де Фокса своими маленькими косыми глазками, в которых светилась мрачная зависть из-за того, что министр П. не воззвал и к его участию в том, что он обращал к послу Испании.
Наконец, пробил тот опасный час, когда финны сидят с угрожающим видом, опустив головы, и каждый пьет сам по себе, не говоря «Малианне», как если бы они находились в одиночестве или выпивали тайком; и время от времени они принимаются громко говорит по-фински, как если бы они обращались к самим себе. Марио Орано исчез. Он удалился на цыпочках так, что никто этого не видел. Я сам не заметил этого, хотя ни на мгновение не терял его из вида и следил за каждым его движением. Но Орано жил в Финляндии уже четыре или пять лет; он отлично усвоил нелегкое искусство таинственно скрываться в тот самый миг, когда наступал этот опасный час. Я тоже хотел незаметно уйти, но каждый раз едва я достигал двери, я чувствовал, как что-то холодное проникало мне в спину и, обернувшись, встречал мрачный взгляд Якко Леппо, сидевшего на стульчике у рояля, как татарин в своем седле.
— Идемте! — сказал я де Фокса, беря его за руку. Но как раз в это время министр П., приблизившись к де Фокса, спросил его странным тоном: «Правда ли, дорогой мой посол, что вы сказали мистрисс Мак Клинток, что у нее растут перья, я не знаю точно в каком именно месте?» Де Фокса защищался, уверяя, что это неправда, но министр П. говорил ему: — «Как? Вы отрицаете?» И при этом заметно бледнел. Я говорил де Фокса: «Не отрицайте, ради всего святого, не отрицайте!» Но министр П. настаивал, все больше и больше бледнея: — «Так, значит, вы отрицаете? Признайтесь, что у вас не хватает смелости повторить мне то, что вы сказали мистрисс Мак Клинток?» Я советовал де Фокса: «Ради Бога, повтори ему то, что ты сказал Елене Мак Клинток». Де Фокса принялся рассказывать, что однажды вечером он был у посла США, господина Артура Шенфельда, вместе с Еленой Мак Клинток и Робертом Милльсом Мак Клинток, секретарем посольства США. Позже прибыли посол Франции (Вишийской Франции) месье Губерт Герин и госпожа Герин. Был момент, когда госпожа Герин спросила Елену Мак Клинток, не испанка ли она по происхождению, как это ей показалось по ее лицу и акценту. Забыв о том, что здесь присутствовал испанский посол, Елена Мак Клинток, которая была испанкой из Чили, ответила: «К несчастью, да!»
— А! А! Очень забавно! Не правда ли? — воскликнул министр П., хлопая по плечу де Фокса.
— Подождите, история не кончена, — сказал я нетерпеливо.
И де Фокса продолжал, рассказывая, что он ответил мистрисс Мак Клинток: «Дорогая Елена, когда происходят из южной Америки, то это не испанское происхождение. Ведь там носят перья на голове».
— А! а! а! Очень забавно! — восклицал министр П. и, обращаясь к г-же П., сказал: — Ты поняла, дорогая? Испанцы из Южной Америки носят перья на голове!
А я говорил шепотом де Фокса:
— Уйдем, Бога ради, отсюда!
Но уже наступал тот патетический час, когда растроганные финны начинают глубоко вздыхать над своими пустыми стаканами и смотреть друг на друга глазами, полными слез. В тот миг, когда мы с де Фокса подошли к Лиззи Леппо, сидевшей глубоко в кресле с изнемогающим и грустным видом, чтобы горячо попросить ее отпустить нас, Якко Леппо встал и громко воскликнул:
— Я хочу, чтобы вы прослушали отличные пластинки! — И он гордо добавил: — У меня есть граммофон!
Он подошел к граммофону, выбрал в кожаном футляре пластинку, повертел ручку, поставил на край пластинки иглу и посмотрел вокруг суровым взором. Мы все застыли в ожидании.
— Это китайская пластинка, — сказал он.
Это была пластинка Лингафона: гнусавый голос подарил нам урок китайского произношения, которому мы внимали в религиозном молчании. Потом Якко Леппо переменил пластинку, покрутил завод и объявил: «Пластинка хиндустани!» Это был урок произношения хиндустани, который мы прослушали также в глубокой тишине.
Затем наступил черед нескольких уроков турецкой грамматики, потом серия уроков арабского произношения и, наконец, пять уроков японской грамматики и произношения. Все мы молчали и слушали.
— И напоследок, — заявил Якко Леппо, крутя завод, — я вам поставлю чудеснейшую пластинку!
Это был урок французского произношения. Профессор Института Лингафон гнусаво читал «Озеро» Ламартина[368], «Озеро» Ламартина все целиком. Мы слушали в религиозном трансе. Когда гнусавый голос умолк, Якко Леппо растроганно осмотрелся вокруг и сказал:
— Моя жена заучила наизусть эту пластинку. Не откажи нам, дорогая!
Лиззи Леппо встала, медленно прошла через комнату; остановилась рядом с граммофоном, откинула голову, подняла руки и, глядя в потолок, начала декламировать «Озеро» Ламартина; снова все «Озеро», с тем же произношением, тем же гнусавым голосом, что и профессор Института Лингафон.
— Чудесно, не правда ли? — растроганно спросил Якко Леппо.
Было уже пять часов утра. Я забыл, что происходило после, до тех пор, пока мы с де Фокса не очутились на улице. Стоял волчий холод. Ночь была светлая. Снег тихо сверкал мягким серебряным блеском. Когда мы дошли до моей гостиницы, де Фокса пожал мне руку и сказал: «Малианне!» Я ответил ему: «Малианне!» Шведский посол Вестманн ждал нас в своей библиотеке, сидя у окна. Серебристый отблеск ночного снега таял в полутьме библиотеки, в теплой полутьме цвета кожи, которому книжные переплеты придавали мягкое золотое трепетание. Свет вдруг сразу усилился, освещая высокий и тонкий силуэт посла Вестманна, ясный и отчетливый, как рисунок, гравированный на старом шведском серебре. Его жесты, словно замороженные в этом воздухе тихим усилением света, медленно таяли, слегка смягченные, и его маленькая голова, прямые и сухие плечи, как мне на мгновение показалось, обладали холодной неподвижностью мраморных бюстов шведских королей, выстроенных в линию на высоких дубовых цоколях библиотеки. Посеребренные волосы бросали на его широкий лоб мертвенный мраморный отсвет, и на его благородном и суровом лице блуждала ироническая улыбка, вернее, тень, тревожная тень улыбки.
В теплой столовой мягкий нежный свет двух больших серебряных канделябров, поставленных на столе, умирал в белом отблеске замерзшего моря и покрытой снегом площади, который все резче пробивался сквозь оконные стекла. И хотя розовый свет свечей придавал теплый телесный оттенок ослепительной белизне льняной фламандской скатерти, смягчал холодную обнаженность маринбергского и рёстрандского фарфора, согревал ледяной блеск орефорского хрусталя и сверкающие поверхности старого копенгагенского серебра, в воздухе чувствовалось нечто призрачное и в то же время что-то ироническое, если только в мире призраков и призрачных вещей может существовать ирония.
И как если бы тонкое волшебство северных ночей проникало в комнату с безрадостным отблеском ночного снега и держало нас в плену своего очарования, было нечто призрачное и в бледности наших лиц, в неустойчивой тревожности наших взоров, даже в произносимых нами словах.
На лице де Фокса, сидевшего у окна, отчетливо проступал этот лабиринт голубых вен, который особенно выделяется при освещении, рождаемом белизной ночного снега.
И быть может именно затем, чтобы в самом себе победить это колдовство северных ночей, он говорил о солнце Испании, об испанских красках, запахах, звуках, вкусовых ощущениях, о солнечных днях и звездных ночах Андалузии[369], о сухом ветре высокогорной Кастилии[370], о синем небе, которое, точно камень, придавливает голову умирающего быка. Вестманн слушал его, полузакрыв глаза, как будто среди сверкания снегов он вдыхал ароматы Испании, как будто слушал объемные звуки и чувственные голоса улиц и испанских домов, доносящиеся сюда, пересекая замерзшее море, как будто он созерцал пейзажи, портреты, натюрморты, струящиеся горячими и глубокими красками, сцены уличные и семейные, балы, арены, процессии, идиллии, похороны, триумфальные шествия, которые вновь вызывал перед ним своим звонким голосом де Фокса.
Вестманн в течение нескольких лет был послом Швеции в Мадриде, и прошло всего несколько месяцев, как он стал послом в Хельсинки, как говорили, только лишь затем, чтобы провести важные дипломатические переговоры. Предполагалось, что как только он выполнит эту временную миссию в Финляндии, он вернется в Испанию и снова вступит там на пост шведского посла. Он любил Испанию с тайным неистовством, одновременно чувственным и романтическим, и слушал в этот вечер де Фокса со смешанным чувством стыдливости, зависти и злопамятства, как слушает оставленный любовник счастливого соперника, говорящего о любимой женщине («Я — муж, я не соперник ваш. Испания — моя жена, а вы ее любовник», — говорил ему де Фокса. — «Увы!» — отвечал, вздыхая, Вестманн). Но в его отношении к Испании был этот оттенок нескончаемой чувственной страсти и тайного отвращения, которое у человека севера всегда смешивается с его любовью к средиземноморским странам; того же отталкивающего впечатления, которое отражают лица зрителей на старинных «Триумфах смерти», где сцены погребения сменяются трупами, извлеченными из могил, позеленевшими и вытянувшимися под солнцем, словно издохшие ящерицы, среди мясистых цветов с их резким благоуханием, и внушающих священный ужас, наслаждение одновременно привлекающее и отвратительное.
— Испания, — говорил де Фокса, — страна чувственная и мрачная. Но это не страна призраков. Родина призраков — север. На улицах испанских городов встречаются трупы, но не призраки. И он начал рассказывать об этой атмосфере смерти, которой проникнуты искусство и литература Испании: некоторые трупные пейзажи Гойи, живые мертвецы Эль-Греко, разложившиеся лица королей и грандов Испании, писанные Веласкесом, на фоне горделивой архитектуры, золота, пурпура и бархата королевских резиденций, церквей и монастырей.
— В Испании тоже, — сказал Вестманн — можно нередко повстречаться с призраками. Я очень люблю испанские призраки. Они очень милы и прекрасно воспитаны.
— Это не призраки, — ответил де Фокса. — Это трупы. Это не бестелесные образы — они состоят из плоти и крови. Они едят, пьют, любят, все так же, как если бы они были живыми. Между тем это мертвые тела. Они не появляются по ночам, как призраки, но — среди белого дня, при ярком солнце. Если что делает Испанию такой глубоко жизненной, так это именно ее мертвецы, которые встречаются на улицах, которые сидят в кафе, коленопреклоненно молятся в полутьме церквей, которые продвигаются, молчаливые и медлительные, с блестящими черными глазами на позеленевших лицах, в веселой сутолоке городов и деревень в праздничные и ярмарочные дни, среди живых людей, которые смеются, любят, пьют и поют. Те, кого вы называете призраками, это не испанцы. Это приезжие иностранцы. Они приходят издалека, Бог ведает откуда, и только тогда, когда вы позовете их по имени, если вы вызовете их посредством заклинания.
— Вы верите в заклинания? — спросил Вестманн.
— Каждый добрый испанец верит в заклинания.
— А знаете вы хоть одно из них? — заинтересовался Вестманн.
— Я знаю их много. Но среди них есть одно, которое в большей мере, чем другие, обладает сверхъестественной способностью вызывать призраки.
— Скажите его, я умоляю вас, хотя бы вполголоса.
— Я не смею. Я боюсь, — сказал де Фокса, бледнея. — Это слово — самое страшное и самое опасное из всех слов кастильского языка. Ни один настоящий испанец не смеет его произнести. Это проклятое слово. Призраки, услышав его, выходят из мрака и идут вам навстречу. Это фатальное слово для тех, кто его слышит и того, кто его произносит. Принесите сюда труп и положите его здесь на этом столе — вы не заметите, что бы я изменился в лице. Но не призывайте призрака, не открывайте ему дверей — я умру от ужаса.
— Скажите же нам, по крайней мере, значение этого слова, — попросил Вестманн.
— Это одно из многочисленных названий змей.
— У змей прелестные имена, — заявил Вестманн. — В трагедии Шекспира[371] Антоний нежно называет Клеопатру именем змеи.
— А! — воскликнул де Фокса, мертвенно белея.
— Что с вами? Так может это и есть то самое слово, которого вы не посмели произнести? Однако на устах Антония оно имеет сладость меда. У Клеопатры никогда не было имени более приятного. Погодите, — добавил Вестманн с жестокой радостью, — мне кажется, я точно помню те слова, которые вложил Шекспир в уста Антония.
— Замолчите, прошу Вас! — закричал де Фокса. Не произносите громко этого слова. Это ужасное слово, которое можно произносить только шепотом, вот так. И он прошептал, почти не двигая губами: «culebra»[372].
— А! Кулебра! — сказал Вестманн, смеясь. — И вы пугаетесь такой малости. Это такое же слово, как и любое другое. Мне не кажется, чтобы в нем заключалось что-либо ужасное и таинственное. Если не ошибаюсь, добавил он, возводя глаза к потолку, как будто припоминая слово, которое употребил Шекспир, — это snake[373] — оно не такое сладостное как испанское слово «кулебра»: О mia culebra del antigo Nil.[374]
— Не повторяйте его, прошу вас, — сказал де Фокса, — это слово приносит несчастье. Один из нас умрет этой ночью. Или, по крайней мере, кто-нибудь из наших близких.
В это время дверь отворилась, и на стол водрузили великолепного лосося из озера Инари. Нежный и живой розовый цвет излучался из трещин его кожи, покрытой серебристой чешуей мягких зеленоватых и синеватых оттенков. — «Она напоминает старинные шелковые одежды, — сказал де Фокса, — в которые одеты Мадонны в храмах испанских городов». Голова лосося возлежала на подушке из очень тонкой травы, похожей на женские волосы; это были те прозрачные водоросли, которые растут в озерах и реках Финляндии. Она напоминала голову рыбы с натюрморта Брака[375]. К вкусу лосося примешивалось далекое воспоминание об озере Инари, освещенном в летнюю ночь бледным арктическим солнцем под нежно-зеленым ребячливым небом. Розовый цвет, просвечивавший между серебристых чешуек, походил на цвет облаков, когда ночное солнце отдыхает на краю горизонта, словно апельсин, положенный на край окна, в то время, как мягкий ветер шуршит в листве деревьев, пробегает по светлым водам, заросшим травой берегам и легко ласкает водную гладь рек и озер и необозримые леса Лапландии. Это был тот же розовый свет, рождающий глубокие и живые лучи, что и свет, вспыхивающий между серебристыми чешуйками поверхности озера Инари, когда солнце в разгаре арктической ночи бродит в зеленоватом небе, пронизанном тонкими синими венами.
Лицо де Фокса стало такого же розового цвета, как и тот, что просвечивал между чешуйками лосося.
— Жаль, — засмеялся он, что флаги СССР не окрашены в розовый цвет само, — цвет лосося!
— Кто знает, — сказал я, — что произошло бы с этой несчастной Европой, если бы флаги СССР были цвета лосося и цвета дамских дессу[376].
— К счастью, — заявил Вестманн, — все в Европе стремится бледнеть. Весьма возможно, что мы идем к средневековью цвета само.
— Я нередко задаю себе вопрос, — сказал де Фокса, — какой могла бы быть роль интеллигенции в новом средневековье? Держу пари, что она еще раз попыталась бы спасти европейскую цивилизацию.
— Интеллигенты неисправимы, — подтвердил Вестманн.
— Вот и старый аббат из Монте Кассино, — сказал я, — он нередко задает себе этот самый вопрос.
И я рассказал, что граф Гавронский (польский дипломат, женатый на Лючиане Фрассатти, дочери сенатора Фрассатти, в прошлом посла Италии в Берлине), укрывшийся в Италии после оккупации Польши немцами, время от времени отправляется в гостиницу аббатства Монте Кассино, чтобы провести там несколько недель. Старый архиепископ дон Грегорио Диамаре, аббат этого аббатства, беседуя однажды с Гавронским о том варварстве, в которое угрожает война ввергнуть Европу, сказал ему, что в самом мрачном средневековье монахи спасли цивилизацию Запада, переписывая от руки копии драгоценных древних греческих и латинских манускриптов. — «Что же нам следует делать сегодня, чтобы спасти культуру Европы?» — спросил почтенный аббат. — «Заставьте ваших монахов перестукивать их на машинке», — ответил Гавронский.
После светлого мозельского[377] вина, пахнущего сеном, слегка смоченным дождем (и нежно-розового цвета лосося, просвечивающего сквозь серебристую чешую и придававшего ему вкус пейзажа озера Инари под ночным небом), красное бургундское[378] заискрило в бокалах своими кровавыми отблесками. Посреди стола, на большом серебряном блюде, спина карельского кабана распространила по комнате горячее дыхание печи. После прозрачного мозельского вина, после розового лосося, вызывавшего в памяти серебристое течение Юютаниоки и розовые облака в зеленоватом небе Лапландии, бургундское вино и карельский кабан, только что вышедший из печи и украшенный сосновыми ветками, напомнили нам о земле. Не существует другого, столь же земного вина, как красное бургундское; в проникавших в комнату отблесках снега оно имело цвет земли, этот пурпурный и золотистый цвет холмов Золотого берега на закате. Его дыхание было глубоким, насыщенным травами и древесной листвой, как летний вечер в Бургундии. Ведь ни одно другое вино не сопровождает так задушевно приближение вечера, как Нюи Сен-Жорж, не является в такой мере спутником ночи, как вино Нюи Сен-Жорж[379], ночное даже по своему имени, глубокое и пронизанное искрами, как летняя ночь в Бургундии. Оно сверкает кровавым отблеском на пороге ночи, как огонь заката на хрустальном берегу горизонта. Оно зажигает алые и синие лучи на земле пурпурного цвета, в траве и листве деревьев, еще горячих от вкуса и аромата умирающего солнца. Дикие звери с наступлением ночи предаются отдохновению в глубоких норах и логовищах: быстро потрескивая сучьями, кабан возвращается в свою берлогу; фазан, в коротком и молчаливом полете, ныряет в тьму, которая уже колеблется над лесами и окрестностями; проворный заяц скользит по первому лунному лучу, как по твердой серебряной струне. Это час бургундского вина. В этот момент этой зимней ночи, в этой комнате, освещенной угрюмым отблеском снега, глубокий аромат вина Нюи Сен-Жорж приводил нам в память летние вечера в Бургундии и ночи, уснувшие на земле, еще горячей от солнца.
Де Фокса и я — мы смотрели, улыбаясь, пока теплая волна поднималась к нашим лицам; мы переглядывались, улыбаясь, как будто это неожиданно земное воспоминание освобождало нас от печального волшебства северной ночи. Затерянные в этой пустыне снегов и льдов, в этом водяном краю, краю ста тысяч озер, в этой мягкой и суровой Финляндии, где запах моря проникает до глубин самых далеких лесов Карелии и Лапландии, где узнаешь блеск водной поверхности даже в голубых и серых глазах людей и животных, даже в движениях, медлительных и сконцентрированных (движениях пловцов) людей, бродящих по улицам, зажженным ослепительным снежным огнем, или прогуливающихся в летние ночи аллеями парков, подняв глаза к зелено-синему сверканию вод, словно подвешенных над кровлями, в этом нескончаемом дне, дне без рассветов и закатов белого солнца нордических ночей, — при этом неожиданно земном воспоминании мы внезапно почувствовали себя до мозга костей земными и смотрели, улыбаясь, как будто только что избежали опасности утонуть.
— Сколль![380] — сказал де Фокса взволнованно и поднял свой бокал, нарушая сверхсвященное шведское правило, предоставляющее хозяину дома право призывать своих гостей осушать бокалы этим ритуальным восклицанием.
— Я никогда не говорю сколль, когда поднимаю свой бокал, — лукаво сказал Вестманн, как будто затем, чтобы извинить святотатство де Фокса. В комедии Артюра Рейда «People in love»[381] кто-то из персонажей в одном месте говорит: London is full of people, who have come back from Sweden, drinking skoll and sayng snap at each another?
— Я — тоже, я пью сколль и я говорю: снап.
— Тогда снап! — сказал де Фокса, которому бургундское сообщало веселое и ребячливое опьянение.
— Снап! — улыбнулся Вестманн. И, подражая ему, я тоже поднял свой бокал и повторил: снап!
— Хорошо быть гражданином нейтрального государства, не правда ли? — сказал де Фокса, обращаясь к Вестманну. Можно пить не будучи обязанным желать никому ни побед, ни поражений. Снап за мир в Европе!
— Сколль! — сказал Вестманн.
— Как? Сейчас вы говорите сколль! — удивился де Фокса.
— Мне доставляет удовольствие время от времени ошибаться, — ответил с иронической улыбкой Вестманн.
— Я с восторгом говорю снап, — сказал де Фокса, поднимая свой бокал. Снап за Германию и снап за Англию!
— Снап за Германию и сколль за Англию! — сказал Вестманн с любезной торжественностью.
— Вы правы, — сказал де Фокса, — сколль за Англию!
Я тоже поднял свой бокал и сказал снап за Германию и сколль за Англию.
— Ты бы должен был говорить не снап за Германию, а сколль, — сказал мне де Фокса. — Германия — союзница Италии.
— Лично я не союзник Германии, — ответил я. — Война, которую ведет Италия, это личная война Муссолини, а я не Муссолини. Ни один итальянец — не Муссолини. Снап за Муссолини и за Гитлера!
— Снап за Муссолини и за Гитлера! — повторил де Фокса.
— И снап за Франко! — сказал я.
Де Фокса мгновение поколебался, потом сказал «снап!» за Франко тоже. Потом он обернулся к Вестманну и спросил: «Знаете ли вы историю партии в крокет, которую Малапарте сыграл в Польше с генерал-губернатором Франком?» И он рассказал ему о моем пакте с Франком и о том, как я спокойно открыл Франку, что во время пребывания Гиммлера в Варшаве я вручал по адресам письма и деньги, которые польские беженцы в Италии поручили мне передать их родным и друзьям, оставшимся в Польше.
— И Франк не выдал вас? — спросил меня Вестманн.
— Нет, — ответил я, — он меня не выдал.
— Ваше приключение с Франком действительно необычно, — сказал Вестманн. — Он мог выдать вас Гестапо. Надо признать, что по отношению к вам он вел себя изумительно.
— Я был уверен, что он меня не выдаст, — сказал я. — То что в моей искренности могло бы показаться опасной неосторожностью, на самом деле было мудрой мерой предупреждения опасности. Показав ему, что я к нему отношусь как к джентльмену, я сделал из него моего соучастника. Это не помешало, впрочем, ему позже отомстить мне за эту вольность и взыскать с меня уплату за свое вынужденное соучастие. И я рассказал, что несколько недель спустя после того, как я покинул Варшаву, Франк послал резкий протест Итальянскому правительству по поводу нескольких статей, написанных мной о Польше; в своем протесте он обвинял меня в том, что я принял польскую на вещи точку зрения. Франк требовал от меня не только публичного опровержения того, что было мною написано, но еще и письма с извинениями. Но в этот момент я уже находился в безопасности, в Финляндии и, разумеется, ответил ему: снап.
— Если бы я был на твоем месте, — вмешался, по-французски, де Фокса, — я ответил бы ему: «дерьмо!»
— Вот слово, которое при некоторых обстоятельствах произнести очень трудно, — заметил Вестманн, улыбаясь.
— Вы, значит, считаете меня неспособным ответить немцу то, что Камбронн под Ватерлоо ответил англичанину? — спросил с достоинством де Фокса. И он заключил, обращаясь ко мне: «Ты готов угостить меня королевским обедом, если я отвечу немцу: „дерьмо!“»?
— Бога ради, Огюстен, — ответил я, смеясь, — подумай о том, что ты — испанский посол и что одно только слово ввергнет испанский народ в войну против Германии и Гитлера!
— Испанский народ воевал и по гораздо менее значительным поводам. Я отвечу: «дерьмо» от имени Испании!
— Подождите, по крайней мере, когда Гитлер будет под Ватерлоо, — сказал Вестманн. — К несчастью пока еще он только под Аустерлицем!
— Нет, — ответил де Фокса, — я не могу ждать! — И он торжественно добавил: «Ну что же, я буду Камбронном Аустерлица!»
К счастью, в это время на стол подали блюдо, полное этих круглых пончиков из нежного теста, очень тонкого вкуса, которые сами сестры монастыря Сакрэ Кёр[382] называют вольтерьянским прозвищем «пе де нонн»[383].
— Это монашеское блюдо ничего вам не напоминает? — спросил Вестманн у де Фокса.
— Оно напоминает мне Испанию, — серьезно ответил де Фокса. — Испания полна монастырей и пуканья монашек. Как католик и испанец, я весьма ценю деликатность, с которой вы напоминаете мне мою родину.
— Я ни в какой мере не намекал ни на Испанию, ни на католическую религию, — сказал Вестман с любезным смехом. — Это монастырское блюдо напоминает мне детство. Разве оно не напоминает и вам также о вашем детстве? Все дети очень любят это. У нас в Швеции нет монастырей, но тоже есть «пе де нонн». Это Вас не омолаживает?
— У Вас очень милый обычай омолаживать ваших гостей, — сказал де Фокса. — Это чудесное блюдо заставляет меня думать о бессмертной юности Испании. Как человек, я уже (увы!) не ребенок, но как испанец — я молод и бессмертен. К несчастью, можно также быть молодым и гнилым. Латинские народы сгнили! — Он умолк и опустил голову, затем он резко поднял ее и гордо сказал: «Все же это благородное гниение! Знаете ли, что мне сказал на днях один из наших друзей в американском посольстве? Мы говорили о войне, о Франции, Италии, Испании, и я сказал ему, что латинские народы сгнили Возможно, что все это сгнило, — ответил он, — но это хорошо пахнет».
— Я люблю Испанию, — сказал Вестманн.
— Я вам благодарен от всей глубины моего сердца за ту привязанность, которую вы питаете к испанскому народу, — произнес де Фокса, наклоняясь над столом и улыбаясь Вестманну сквозь холодный блеск хрусталя. — Но какую Испанию вы любите? Испанию Бога или Испанию людей?
— Испанию людей, разумеется, — ответил Вестманн.
Де Фокса посмотрел на Вестманна с глубоким разочарованием:
— И вы тоже? — спросил он. — Люди севера любят в Испании только то, что в ней есть человеческого. Однако все, что есть в Испании юного и бессмертного, принадлежит Богу. Надо быть католиком, чтобы понимать и любить Испанию, настоящую Испанию, Божью Испанию. Ибо Бог — католик и испанец.
— Я протестант, — сказал Вестманн, — и я был бы очень удивлен, если бы Бог оказался католиком. Но я не буду делать никаких возражений, если Бог будет испанцем и даже готов это предположить.
— Если Бог существует — он испанец! Это — не кощунство. Это кредо.
— Через несколько месяцев, когда я снова вступлю на пост шведского посла в Мадриде, — сказал Вестманн со своим несколько ироническим изяществом, — я обещаю вам, мой дорогой де Фокса, немного больше заняться Испанией Бога и чуть меньше Испанией людей.
— Я надеюсь, — ответил де Фокса, — что испанский Бог вас заинтересует больше, чем гольф на Пуэрто ди Хиэрро. — И он рассказал, что молодой английский дипломат, когда английское посольство в правительстве Франко после гражданской войны переехало в Мадрид, занялся прежде всего выяснением вопроса, правда ли, что пятые ворота гольфа в Пуэрто ди Хиэрро были повреждены фашистской гранатой.
— И оказалось, что это правда? — спросил Вестманн встревоженно.
— Слава Богу, нет. Пятые ворота были целы, — ответил де Фокса. — Речь шла, к счастью, всего лишь о тенденциозном слухе, распространенном антифашистской пропагандой.
— Какая удача! — воскликнул Вестманн со вздохом удовлетворения. — Уверяю вас, что у меня перехватило дыхание. В современной цивилизации, дорогой мой де Фокса, ворота гольфа, к сожалению, имеют такое же значение, как и готический собор.
— Попроси Бога, чтобы он уберег от случайностей войны по крайней мере ворота гольфа! — сказал де Фокса.
На самом деле де Фокса не слишком беспокоился ни о воротах гольфа, ни о готических соборах. Он был глубоко верующим католиком, но на испанский манер; это значит, что он рассматривал религиозные вопросы как вопросы личные, и по отношению к церкви придерживался, как и к проблемам католического самосознания, большого свободомыслия (знаменитая испанская дерзость!), в котором, впрочем, не было ничего общего с вольтерьянским свободомыслием. Его отношение к любым вопросам — политическим, социальным, вопросам искусства — было одинаковым. Он был фалангистом[384], но в том же роде, как испанец может быть и коммунистом, или анархистом, — словом, в католическом роде. Это то, что де Фокса называл «прислоняться к стене»: к этой стене, высокой и ровной, непреодолимой, которая и есть стена католическая, богословская, стена старой Испании, стена, может быть даже та, по которой стреляют карательные отряды (анархистов, республиканцев, коммунистов, монархистов или фашистов), даже та, перед которой воздвигаются аутодафе[385] и ведутся теологические дискуссии.
Тот факт, что он представлял в Финляндии Испанию Франко (Герберт Герин, посол петэновской Франции называл де Фокса «посол вишийской Испании»), не препятствовал ему с презрением смеяться над Франко и его революцией. Де Фокса принадлежал к этой молодой генерации испанцев, которая покушалась придать марксизму в качестве фундамента феодальные и католические обоснования, или, следуя их собственному выражению, придать ленинизму теологические стремления примирить старую Испанию — католическую и традиционную — с молодой рабочей Европой. Теперь он сам насмехался над великодушными иллюзиями своего поколения и крушением этой трагической и смешной попытки.
Порой, когда он говорил о гражданской войне в Испании[386], я опасался, что свободные порывы его воображения могут вступить в противоречие с его рассудком и старался убедить его в закономерности и справедливости политических, моральных и интеллектуальных позиций противников Франко, как это было в тот вечер, когда он рассказывал о президенте Испанской республики Азана и его «секретном дневнике», дневнике, куда Азана день за днем, час за часом заносил самые мелкие детали (по-видимому также и наиболее значительные) революции и гражданской войны: окраску неба в тот или иной час того или иного дня, голос фонтана, шум ветра в листве деревьев, эхо винтовочных выстрелов, прозвучавших на соседней улице, бледность или надменность, жалость, испуг или измену, или цинизм, или симуляцию, или эгоизм епископов, генералов, политических деятелей, придворных, знаменитостей, руководителей синдикатов, испанских грандов, анархистов, которые его посещали, давали ему советы, выступали с ходатайствами, обсуждали вопросы, продавались и предавали. Разумеется, тайный дневник Азана не был опубликован, но он не был также и уничтожен. Де Фокса читал его; он говорил о нем как о документе необычайном, в котором Азана представал удивительно свободным от влияния людей и обстоятельств, одиноким в климате чистом и отвлеченном.
Но в иных случаях де Фокса оказывался странно неуверенным при столкновении с самыми несложными аспектами проблем, которые, как можно было думать, давно должны были быть им разрешены, и притом окончательно, в недрах его католического самосознания, — как, например, однажды в Белоострове под Ленинградом. Несколькими днями раньше, в светлую пятницу, я вместе с де Фокса был в траншеях Белоострова перед предместьями Ленинграда. Там, примерно в пятистах метрах, позади «ежей»[387] и двойной линии советских траншей и блиндажей, мы видели двух русских солдат, открыто шедших по снегу на лесной опушке с елкой на плечах. Они шли, мерно раскачивая руками, словно бахвалясь. Это были два сибиряка, высоких, в больших серых папахах из каракуля, надвинутых на лбы, в длиннополых маскплащах песчаного цвета, закрывавших их до каблуков их ботинок, с ружьями за плечами. Ослепительный блеск солнца на снегу придавал их фигурам гигантские размеры. Полковник Люктандер повернулся к де Фокса и сказал ему: «Господин посол! Не хотите ли — я запущу в этих двоих пару гранат?» Неловко укутанный в своем белом лыжном костюме, де Фокса посмотрел на Люктандера из-под своего капюшона: «Сегодня святая пятница — ответил он, — зачем же я стану брать себе на душу этих двоих людей в такой день? Если вы на самом деле хотите сделать мне приятное, не стреляйте!» Полковник Люктандер был, казалось, очень удивлен: «Мы здесь затем, чтобы вести войну!» — сказал он. — «Вы правы, — ответил де Фокса, но я-то здесь всего лишь в качестве туриста». Его тон и жестикуляция были странно возбужденными и удивили меня; его лицо было бледно, и крупные капли пота выступили на его лбу. Ему внушала отвращение не мысль, что эти два человека в его честь могут быть принесены в жертву, но мысль, что они будут убиты в светлую пятницу!
Однако полковник Люктандер, потому ли, что он не понял взволнованной французской речи де Фокса, потому ли, что на самом деле хотел оказать ему честь, — все же приказал запалить парой гранат по двум русским солдатам. Двое сибиряков остановились и проследили глазами за полетом свистящих гранат, которые разорвались в нескольких шагах, не причинив им вреда. Когда де Фокса увидел обоих советских солдат продолжающими их путь, не выпуская из рук своей елки и раскачивающих руками, как будто ничего не произошло, он улыбнулся, покраснел, удовлетворенно вздохнул, но сказал тоном, выражавшим сожаление: «Жаль, что нынче святая пятница. Я охотно посмотрел бы, как их разорвало бы на клочки, этих смелых ребят!» Потом, протягивая руку над парапетом траншеи и указывая мне на огромный купол святого Исаакия, православного собора в Ленинграде, сверкавшего вдали над крышами осажденного города, он сказал: «Посмотри на этот купол. Не правда ли, до чего же он католический!»
Сейчас перед ироническим и улыбающимся Вестманном де Фокса сидел мясистый, полнокровный, с его жирным лицом, протянутым навстречу худому и светлому лицу Вестманна, как лицо католического дьявола, сидящего на храмовых ступенях перед ангелом, одетым в серебряные одежды. Нечто чувственное иногда утяжеляло его остроумное неверие, впрочем то было, быть может, постоянное присутствие этой гордости, которая у латинян, в частности у испанцев, стесняет и препятствует их непроизвольным движениям, глубоким побуждениям, играм непредвзятого и вольного ума. Я чувствовал в де Фокса лукавую неуверенность, боязнь слишком раскрыться, показаться обнаженным в отношении чего-то тайного и подставить себя, безоружного, под опасность неожиданного ранения. Я слушал и молчал. Призрачный отблеск снега, в котором угасали розовые огни свечей и холодное сверканье хрусталя, фарфора и серебра, придавал словам, улыбкам, взглядам нечто умышленное, скрытное, производил впечатление какой-то засады, вечно настороженной и вечно избегаемой. — «Рабочие — не христиане», — говорил де Фокса. — «Почему же? Они — тоже христиане naturalites»[388], — отвечал Вестманн. — «Определение Тертуллиана[389] неприменимо к марксистам, — говорил де Фокса. — Рабочие-материалисты naturalites. Они не верят ни в ад, ни в рай». Вестманн пристально смотрел на де Фокса глазами, полными лукавства. — «А вы верите?» — спрашивал он. — «Я — нет!» — отвечал де Фокса.
И вот на столе появился шоколадный торт, большой монашеский торт, круглый, как колесо, изукрашенный сахарными цветами и зелеными весенними фисташками на шоколаде цвета монашеской рясы. Де Фокса принялся говорить о Дон-Жуане[390], о Лопе де Вега[391], о Сервантесе[392], о Кальдероне де ла Барка[393], о Гойе[394], о Федерико Гарсиа Лорке[395]. Вестманн говорил о сестрах Сакрэ Кёр, об их сладких пирогах, об их вышивках, об их молитвах на французском языке, приторном французском, с акцентом старообразия, напоминающим, скорее, «Принцессу Клевскую»[396], чем Паскаля[397] (скорее, «Опасные связи»[398], — поправил де Фокса, — чем Ламменне[399]). Де Фокса говорил о молодом поколении испанцев, о спортивном характере их католицизма, об их религиозном рвении, направленном к Святой Деве, святым и спорту, об их христианском идеале (не святой Людовик со своей лилией[400], не святой Игнаций с его посохом[401], но молодой рабочий-синдикалист или коммунист из предместий Мадрида или Барселоны в майке велосипедиста или футболиста). Он рассказал, что в период гражданской войны в Испании футболисты в большинстве своем были «красными», а почти все торреро — франкистами. Публика на корридах была фашистской, а на футбольных матчах — полностью марксистской.
— Будучи добрым католиком и добрым испанцем, — говорил де Фокса, — я был бы готов согласиться с Марксом и Лениным, если бы вместо обязанности разделять их социальные и политические теории, я мог бы просто почитать их как святых.
— Ничто не мешает вам почитать их как святых, — возразил Вестманн. — Вы же охотно опуститесь на колени перед королем Испании. Почему же нельзя быть и коммунистом по божественному праву?
— Вот это-то как раз и является идеалом во франкистской Испании, — ответил де Фокса, смеясь.
Когда мы встали из-за стола, ночь уже значительно продвинулась вперед. Усевшись в глубокие кожаные кресла в библиотеке перед широкими окнами, через которые открывался вид на порт, мы следили глазами за полетом чаек вокруг судов, замурованных в ледяном паркете. Отблеск снега стучался в наши стекла словно нежное и холодное крыло морской птицы. Я смотрел на Вестманна, который легко и бесшумно передвигался в этом призрачном свете, словно прозрачная тень. У него были очень светлые голубые глаза, похожие на белые стеклянистые глаза античных статуй, его лоб обрамляли серебряные волосы, как серебряные ризы, обрамляющие лики византийских икон. У него был прямой и тонкий нос, бледные и узкие, немного усталые губы, маленькие руки с длинными и тонкими пальцами, отшлифованными вечными соприкосновениями с кожей вожжей и седел, с лошадиной упряжью и поводками породистых собак, с фарфором и драгоценными тканями, со старой прибалтийской керамикой, с трубками Лиллехаммера и Дунхилля[402]. Сколько горизонтов, с их сверкающими снегами, пустынным водами, нескончаемыми лесами, вобрали в себя голубые глаза человека севера! Какая глубокая и ясная скука отразилась в этом светлом, почти белом взоре: благородная, античная скука, пресыщенная современным миром, сознающая его умирание! Сколько одиночества запечатлелось на этом бледном лбу!
Было в нем что-то прозрачное; его руки едва притрагивались к бутылкам опорто и виски, к рюмкам из светлого хрусталя и, казалось, растворялись в воздухе — такими бледными и легкими становились они в этом призрачном отблеске снегов. Он перемещался по комнате словно тень или любезный призрак, легко прикасаясь к кривизне мебели, к рюмкам, бутылкам, спинкам кожаных кресел. Запах опорто и виски таял в теплом аромате английского табака, смешиваясь с усталым и старинным запахом кожи и скудным запахом моря.
И вдруг с площади донесся странный звук, голос жалобный и встревоженный. Мы вышли на балкон. В первое мгновение площадь показалась нам пустынной. Замерзшая поверхность моря расстилалась перед нами; сквозь белую прозрачность снега были слабо видны очертания группы домов шведского Яхт-клуба, острова архипелага, и еще дальше — старая крепость Суоменлинна, жестко вставленная в ледяную линию горизонта. Взор отдыхал на холме обсерватории и деревьях Бруннспаркена, голые ветви которого были покрыты чешуей блистающего снега.
Хриплая жалоба, доносившаяся с площади, была похожа на подавленное рычанье, крик страдания, в котором вопль оленя мало-помалу переходил в ржание умирающего коня.
— Ах, проклятая кулебра! — воскликнул охваченный суеверным ужасом де Фокса. Но по мере того, как наши глаза привыкали к снежному блеску, мы стали различать, или нам казалось, что мы различаем, на набережной порта темное пятно смутных очертаний, которое медленно шевелилось. Мы вышли на площадь и подошли к этому пятну. При нашем приближении оно испустило громкий крик, затем умолкло.
Это был лось. Великолепный лось, с ветвистыми рогами, росшими, точно голые ветви зимнего дерева, над его широким и округлым лбом, покрытым рыжеватой шерстью, короткой и жесткой. Большой сумрачный глаз его был глубоким и влажным, и в нем блестело что-то светлое — отблеск слез. Он был ранен, у него было сломано бедро. Быть может, он ступил в какую-нибудь трещину на ледяной поверхности моря. Может быть он пришел из Эстонии, по пустынному зеркалу Финского залива или с Аландских островов, а может — по Ботническому заливу, со стороны Карелии. Привлеченный запахом жилья, теплым запахом человека, он дотащился до набережной порта, и сейчас лежал в снегу, запыхавшийся, и смотрел на нас своим влажным и глубоким взором.
Когда мы к нему подошли, лось попытался приподняться на задних ногах, но со стоном вновь упал на колени. Он был велик, точно огромная лошадь; у него были нежные добрые глаза. Вдыхая воздух, он как будто распознавал знакомый запах и с трудом тащился через площадь к Дворцу президента Республики. Он проник через открытую дверцу в решетчатой ограде, отделяющую кур д’оннер, и вытянулся у подножия маленькой лестницы, между двух неподвижных часовых, стоявших по обе стороны двери в больших стальных касках, надвинутых на лоб, и с ружьями на плечах.
Президент Финской республики Ристу Рити конечно уже спал в это время. Но сон президента республики гораздо менее глубок, чем сон короля. Разбуженный жалобами раненого лося, президент Ристу Рити послал узнать о причине этого странного и непонятного шума. И немного времени спустя мы увидели на пороге дворца первого адъютанта президента — полковника Слёрна.
— Добрый вечер, господин посол, — сказал полковник Слёрн удивленным голосом, заметив посла Швеции Вестманна.
Но тут он узнал графа де Фокса — испанского посла.
— Добрый вечер, господин посол, — снова сказал полковник Слёрн с выражением глубокого удивления.
Наконец он заметил меня.
— И вы тоже? — воскликнул он с ошеломленным видом.
И, обращаясь к Вестманну, добавил: «Речь, я надеюсь, не идет об официальном демарше?» — И вслед за этим он бросился предупредить президента Республики, что послы Швеции и Испании совместно с раненым лосем находятся у дверей дворца.
— Совместно с раненым лосем? Что они могут желать от меня в такой час? — спросил президент Ристу Рити в апогее изумления. Был час ночи. Но в Финляндии уважение к животным предписано не только моральным кодексом, которому каждый следует в своем великодушном сознании, это также и государственный закон. И вскоре президент Ристу Рити появился на пороге, облаченный в тяжелую волчью доху и высокую меховую шапку. Он сердечно приветствовал нас, подошел к раненому лосю, наклонился, чтобы осмотреть его сломанное бедро, и начал с ним тихо разговаривать, гладя его по шее своей рукой в перчатке.
— Я держу пари, что перчатки президента сделаны из собачьей кожи! — сказал мне де Фокса.
— Почему ты его об этом не спросишь?
— Ты прав, — ответил де Фокса, — и, приблизившись к президенту Республики, сказал:
Позвольте мне спросить вас, ваши перчатки не из собачьей кожи?
Президент Ристу Рити, не знающий французского языка, посмотрел на него с удивленным и озабоченным видом и обратился к помощи своего первого адъютанта, в равной мере озабоченного и удивленного, который перевел ему вполголоса странный вопрос испанского посла. Президент Республики был, казалось, весьма изумлен и притворился непонимающим. Быть может ему представлялось невероятным просто понять, что именно хотел узнать испанский посол; он искал скрытый смысл этого странного вопроса и пытался разгадать, какой политический намек могла скрывать эта фраза.
В то время, как президент Ристу Рити, стоя на коленях в снегу перед раненым лосем, озабоченно смотрел на де Фокса, время от времени бросая взгляд на перчатки, скрывавшие его руки, через площадь в направлении Бруннспаркена проезжал автомобиль, в котором ехали члены дипломатического корпуса в Хельсинках: посол Бразилии Пауло де Сузас Дантас, секретарь посольства Дании граф Адам де Мольтке-Гунфельдт и секретарь посольства Франции Виши Пьер де Хюарт. Мало-помалу весь дипломатический корпус собрался вокруг раненого лося и президента Республики. Цепочка автомобилей все удлинялась по мере того, как привлеченные необычным зрелищем, представленным этой группой людей и автомобилей с бляхами дипкорпуса, стоящих среди ночи перед дворцом президента Республики, все новые иностранные дипломаты, пересекавшие площадь в направлении Бруннспаркена, останавливались, выходили из машин и приближались к нашей группе, приветствуя нас голосами, полными тревоги и любопытства.
Пока полковник Слёрн телефонировал полковнику ветеринарной службы кавалерийских казарм, прибыл посол Румынии Ноти Константиниди с одним из секретарей посольства Титусом Михайлеско, а вскоре следом за ними появились посол Хорватии Фердинанд Боснякович, секретарь его посольства Мариан Андрашевич и посол Германии Виперт фон Блюхер.
— Ах! эти Блюхеры, — сказал потихоньку де Фокса, — они всегда появляются вовремя. Потом, обращаясь к послу Германии: «Добрый вечер!» и он поднял руку для гитлеровского приветствия, которое одинаково принято и у испанских фалангистов.
— Как! И вы тоже поднимаете лапу теперь? — потихоньку спросил у него секретарь посольства вишийской Франции Пьер де Хюарт.
— Разве вы не находите, что предпочтительнее поднимать одну лапу, чем поднимать обе? — улыбаясь, ответил де Фокса.
Пьер де Хюарт с изяществом выдержал удар и любезно ответил:
— Это меня не удивляет. Было время, когда работали руками и приветствовали шляпами, сейчас приветствуют руками и работают шляпами.
Де Фокса расхохотался и ответил:
— Браво, де Хюарт! Отдаю должное вашему уму! — Потом он повернулся ко мне и тихо спросил: «Какого дьявола он тут подразумевал? „Работать шляпами“ — что это означает?»
— Это означает, что у тебя в голове есть небольшое зернышко сумасшествия, — ответил я.
— Никогда нельзя до конца научиться французскому языку, — заметил де Фокса.
Лежавший на снегу между двух часовых, окруженный этой маленькой толпой иностранных дипломатов, к которым присоединилось несколько солдат, две немного захмелевшие веселые девицы, группа моряков, прибежавших из порта и два жандарма с ружьями на руках, раненый лось тихо стонал. Время от времени он, отдуваясь, склонял свою огромную голову и лизал сломанное бедро. Раз, повернув голову, он зацепился ответвлением своего большого рога за полу дохи президента Ристу Рити. Сила лося настолько велика, что от внезапного толчка президент Республики пошатнулся и несомненно упал бы, если бы посол Германии фон Блюхер не поддержал его за руку. «Ах! ах! ах!» — смеясь, восклицали хором иностранные дипломаты, как будто невинный жест немецкого посла имел значение политической аллегории.
— Перкеле! — воскликнула одна из девиц, увидев как пошатнулся президент Республики (Перкеле по-фински означает просто-напросто «черт», но это одно из слов, которых в Финляндии никогда не следует произносить, нечто вроде слова bloody[403] в эпоху королевы Виктории[404]). При восклицании молодой девицы все рассмеялись, в то время как стоявшие ближе к президенту кинулись помочь Ристу Рити высвободить полу его дохи от лосиного рога. В этот момент прибыл запыхавшийся Рафаэль Хаккарайнен, начальник протокольной части Министерства иностранных дел, прибыл как раз вовремя, чтобы услышать запретное слово перкеле, возникшее на устах веселой девицы. И Хаккарайнен затрепетал с ног до головы в горячем алькове своей драгоценной куньей шубы.
Это была странная и милая сцена: площадь, покрытая снегом, дома мертвенно бледные и призрачные, суда, плененные ледяной коркой, и эта группа людей в роскошных шубах и высоких меховых шапках, окружавшая раненого лося, лежащего у порога двери между двух часовых. Сцена, которая привела бы в восторг одного из этих шведских или французских художников, таких, как Гильдебрандт[405] или виконт де Бомон, которые в конце XVIII века, со своими карандашами и рисовальными альбомами, проникли вплоть до самых гиперборейских стран. Ветеринарный полковник и санитары-солдаты прибыли, наконец, со своей машиной и хлопотали вокруг лося, который терпеливо следил за ними своим влажным и добрым глазом; после неоднократных усилий, в которых принимали участие все — президент Республики, иностранные послы, две публичные девицы, — лось был уложен на носилки, приподнят на машину, которая медленно двинулась и скоро исчезла в глубине Эспланады, слившись с ослепительной белизной снега.
Иностранные дипломаты еще несколько минут обменивались шутками, закуривая сигареты и топчась на снегу. Стоял волчий холод.
— Спокойной ночи, господа, и благодарю вас, — сказал президент Республики, сняв свою меховую шапку и кланяясь.
— Доброй ночи, господин президент! — отвечали дипломаты, в свою очередь снимая меховые шапки и раскланиваясь.
Маленькая толпа рассеялась, обмениваясь громкими приветствиями. Машины удалились, с глухим рокотом моторов, в направлении Бруннспаркена, и солдаты, девицы, моряки тоже двинулись через площадь, смеясь и перекликаясь, уже издали, друг с другом. Вестманн, де Фокса и я — мы направились к шведскому посольству, время от времени оборачиваясь, чтобы посмотреть на двух часовых, неподвижно стоящих с каждой стороны у дверей президента Республики перед кровавым пятном, постепенно исчезавшим по мере того, как его прикрывал мелкий снег, наносимый ветром.
Мы снова уселись в библиотеке возле камина, выпивая и, молча, куря.
Временами до нас доносился собачий лай. Это был голос тоски, чистой, почти человеческой; он придавал этой светлой ночи под ясным небом, убеленной блеском снежного пожара, оттенок горячий и полнокровный. Это был единственный голос, живой и знакомый, в ледяном молчании этой призрачной ночи, и мое сердце слушало его и трепетало. Ветер доносил к нам порой треск замерзшего моря. Березовые дрова, потрескивая, горели в камине; огненные отблески пламени пробегали по стенам, по золотистым книжным корешкам, по мраморным бюстам шведских королей, выстроенных по всей длине высокого дубового карниза библиотеки. И я думал об этих старинных иконах Карелии, на которых ад представлен не в виде живых и благодетельных огненных языков, но в виде ледяных блоков, в которых замурованы грешники. Собачий лай, доносившийся к нам, был слабым; быть может он слышался с борта какого-нибудь парусника, закованного льдом возле острова Суоменлинна.
И тогда я рассказал историю собак Украины, «красных собак» Днепра.
IX. КРАСНЫЕ СОБАКИ
Дождь лил уже много дней. Море грязи на Украине медленно поднималось. Это было время высокого прилива украинской осени. Дождь лил уже много дней, и черная глубокая грязь вздувалась, как хлебная опара, которая начинает подниматься. Из глубины необозримой равнины ветер доносил жирный запах грязи, утяжеленный затхлой примесью запаха несжатых хлебов, гниющих в бороздах, и приятным утомленным запахом подсолнечников. Из черных зрачков подсолнечников зерна сыпались одно за другим, и длинные желтые ресницы выпадали одна за другой из большого круглого глаза, теперь пустого и белого, как глаз слепца.
Едва только появившись на маленьких площадях деревень, немецкие солдаты передовых частей молча бросали на землю свои ружья. Они были облеплены черной грязью с ног до головы: у них были длинные бороды и запавшие глаза, угасшие и белые, похожие на глаза подсолнечников. Офицеры смотрели на солдат, на солдатские ружья, брошенные на землю, и хранили молчание. Отныне «блицкриг» — молниеносная война — кончилась, уступив место «дрейсих-яре блицкриг» — молниеносной тридцатилетней войне. Победоносная война кончилась, начиналась война проигранная. И я видел, как в глубине угасших глаз немецких офицеров и солдат рождалось белое пятнышко страха, я замечал, как это пятнышко понемногу расширялось, сгрызая зрачок, сжигая корни ресниц, и эти ресницы выпадали одна за другой, как желтые ресницы подсолнечников. Когда немцы начинают бояться, когда таинственный немецкий страх проникает в них до костей, именно тогда они всего сильнее вызывают к себе отвращение и жалость. Их вид ничтожен, их жестокость печальна, их отвага молчалива и безнадежна. Именно в этот период немцы становятся особенно дурными. Я раскаивался, что я христианин, я краснел из-за того, что был христианином.
Русские пленные, которые направлялись с фронта в тыл, не были больше теми, что в первые месяцы войны против России. Это не были больше пленные июня, июля и августа, которых немецкие конвои сопровождали пешком в тыл, в самую жаркую пору, шагая дни за днями в красной и черной пыли украинской равнины. В первые месяцы войны женщины в деревнях выходили на пороги домов, смеялись и плакали от радости и выносили еду и питье пленным. «Ох, бедные, ох, бедные, — кричали они, — ох, бедные ребята». Они выносили еду и питье даже солдатам конвоя, сидевшим посреди маленькой площади на скамьях, окружающих опрокинутую в грязь гипсовую статую Ленина или Сталина, и солдаты курили, весело разговаривая между собой, уставив между колен свои автоматы. Во время часовой остановки в деревне русские пленные были почти свободны. Они уходили и приходили, заходили в дома и, раздеваясь догола, мылись возле колодцев. Но по свистку ефрейтора каждый из них возвращался на свое место, и колонна отправлялась в путь, выходила из деревни, запевая песню, тонула в желтом и зеленом море необозримой равнины. Женщины, старики и дети, смеясь и плача, следовали за колонной на порядочном участке ее пути. В какой-то момент они останавливались и долго стояли, делая прощальные жесты руками и посылая воздушные поцелуи кончиками пальцев уходившим в эту жару по пыльной дороге пленным, которые время от времени останавливались, крича: «До свидания, дорогая!» Солдаты немецкого конвоя, с автоматами за плечами, шли, смеясь и беседуя друг с другом, между сплошных изгородей подсолнечника, окаймлявшего дорогу. И подсолнечники наклонялись вперед, чтобы посмотреть на проход этих колонн, и долго следили за ними своими черными круглыми глазами, до тех пор, пока колонна не скрывалась в огромном облаке пыли.
Отныне победоносная война окончилась, начиналась проигранная война — тридцатилетняя молниеносная, и колонны пленных становились все более редкими. Солдаты немецкого конвоя не шли больше с автоматами за плечами, болтая между собой и пересмеиваясь; они сжимали колонну с флангов, рыча хриплыми голосами, и следили за своими пленниками черными блестящими глазами автоматных дул. Бледные и изможденные пленные едва тащились по грязи; они были голодны, они хотели спать, а в деревнях женщины, старики, дети смотрели на них глазами, полными слез, вполголоса повторяя: «Ничего, ничего!» Люди ничего не имели больше: ни даже куска хлеба, ни даже стакана молока; немцы все унесли, все украли. «Ничего, ничего! Это ничего, дорогая, это ничего, моя милая. Все равно Это не имеет значения, все равно!» — отвечали пленные. И колонна под дождем пересекала деревню, не делая остановки, под этот безнадежный рефрен: «все равно, все равно», и тонула в море грязи, черной грязи бескрайней равнины.
Потом начались первые «уроки под открытым небом», первые упражнения в чтении во дворах колхозов. Единственный раз, когда мне пришлось присутствовать на одном из таких уроков, случилось в колхозе одной деревни, возле Немировского, и с тех пор я всегда уклонялся от присутствия на этих упражнениях в чтении. «Варум нихьт?[406]» — говорили мне немецкие офицеры генерала фон Шоберта. — Почему не хотите вы присутствовать на уроках под открытым небом? Это очень интересный опыт, зер интерессант![407]
Пленные были выстроены в шеренгу во дворе колхоза. Вдоль ограды, под большим навесом виднелись беспорядочно сваленные в кучу сельскохозяйственные машины: косилки, плуги, сеялки, молотилки. Шел дождь, и пленные промокли до костей. Они находились здесь более двух часов и молчаливо стояли, опираясь друг на друга. Это были крупные ребята, блондины, с выбритыми головами, со светло-серыми глазами на широких лицах. У них были большие плоские руки с короткими, мозолистыми и искривленными большими пальцами. Почти все они были крестьянами. Рабочие, большей частью механики и ремесленники из колхозов, выделялись среди них ростом и руками: они были выше и худощавее, с более светлой кожей; руки у них были суховатые, с длинными гладкими пальцами, отшлифованными соприкосновениями с молотками, рубанками, английскими ключами, отвертками и рычагами моторов. Их можно было отличить и по их суровым лицам, по их мрачному взору.
Потом немецкий унтер-офицер — фельдфебель[408], сопровождаемый переводчиком, вышел на колхозный двор. Фельдфебель был маленьким и толстым и принадлежал к разновидности, которую я в насмешку называл «феттфебель». Он остановился перед пленными, расставив ноги, и принялся говорить, обращаясь к ним с добродушным видом отца семейства. Он говорил, что сейчас будет проведено испытание по чтению: каждый громко прочтет абзац из газеты, и те, кто с честью выдержат испытание, получат должность в конторах лагерей военнопленных. Другие, для которых экзамен окажется слишком трудным, будут направлены на земляные работы, станут чернорабочими или землекопами.
Переводчиком был зондерфюрер[409], маленький и худой, не старше тридцати лет, с бледным лицом, усеянным мелкими розовыми прыщами. Он родился в России среди «фольксдёйчей»[410] Мелитополя, и говорил по-русски со странным немецким акцентом (в первый раз, когда я с ним повстречался, я сказал в насмешку, что Мелитополь означает «город меда». «Да, в районе Мелитополя много меда, — ответил он грубым голосом, приняв надутый вид, — но я не занимаюсь пчеловодством, я учитель в школе»).
Зондерфюрер переводил слово за словом короткую и благожелательную речь фельдфебеля. Тоном школьного учителя, распекающего своих воспитанников, он посоветовал пленным уделять больше внимания произношению и читать одновременно с легкостью и прилежанием, потому что если они не выйдут с честью из этого испытания, им придется об этом пожалеть.
Пленные слушали, сохраняя тишину, а когда зондерфюрер умолк, принялись, смеясь, говорить все сразу. Многие из них имели униженный вид, вид побитых собак; порой они бросали взгляд на свои мозолистые крестьянские руки. Но другие зато смеялись и лица их прояснились, потому что они были уверены в том, что успешно выдержат экзамен и станут секретарями в каких-то конторах.
«Огэ, Петр!», «Огэ, Иванушка!» — кричали они своим товарищам с простотой и веселостью, свойственными русским крестьянам. Рабочие, стоя среди них, молчали; они поворачивали строгие лица к зданию правления колхоза, где находилась немецкая комендатура. Время от времени они смотрели на фельдфебеля, но зондерфюрера не удостаивали ни одним взглядом. Глаза у них были пустые и тусклые.
— Ruhe! Смирно! — закричал фельдфебель. Приближалась группа офицеров, во главе которой шел старый полковник, высокий и худой, немного сгорбленный, с серыми, коротко подстриженными усами, который слегка приволакивал одну ногу. Полковник бросил на пленных отсутствующий взгляд, потом быстро стал говорить монотонным голосом, глотая слова, как будто очень спешил заканчивать свои фразы. После каждой фразы он делал долгую паузу и смотрел в землю. Он заявил, что те, кто с успехом справится с экзаменом и так далее и так далее… Зондерфюрер слово за словом переводил речь полковника, потом он добавил от себя, что московское правительство затратило миллиарды на советские школы, что он знает это потому, что был до войны школьным учителем у фольксдёйчей в Мелитополе, что все, кому не посчастливится на экзамене, будут посланы работать чернорабочими и землекопами. Тем хуже для них, если они ничему не научились в школе. Создавалось впечатление, что зондерфюрер придает большое значение тому, чтобы все читали бегло и с хорошим произношением.
— Сколько их? — спросил у фельдфебеля полковник, почесывая затянутой в перчатку рукой свой подбородок.
— Сто восемнадцать, — ответил фельдфебель.
— По пять человек сразу и по две минуты на каждого, — сказал полковник, — мы должны с этим справиться за один час.
— Йа волль,[411] — сказал фельдфебель. Полковник сделал знак одному из офицеров, у которого под мышкой был зажат пакет с газетами, и экзамен начался.
Пять человек сделали шаг вперед; каждый из них протянул руку, чтобы взять газету, которую ему протягивал офицер (это были старые номера «Известий» и «Правды», найденные в конторе колхоза) и начал громко читать. Полковник поднял левую руку, чтобы посмотреть на часы-браслет, и так и остался с рукой, поднятой на уровень груди, и с глазами, прикованными к стрелкам. Шел дождь, газеты намокали и расползались в руках пяти пленных. Они, совсем красные, или очень бледные, обливаясь потом, запинались на словах, заикались, делали ошибки в произношении, перескакивали через строчки. Читать умели все, но с трудом, кроме одного, совсем юного, который читал уверенно, медленно, время от времени отрывая глаза от газеты. Зондерфюрер слушал чтение с иронической улыбкой, из-под которой, как мне казалось, просвечивал оттенок досады: в своем качестве переводчика он же был и судьей. Он был Судьёй. Он внимательно смотрел на читающих; его взгляд переходил с одного на другого с заученной медлительностью и нехорошим выражением. «Халы!» — скомандовал полковник. Пятеро пленных оторвали глаза от своих газет и застыли в ожидании. Фельдфебель, по знаку судьи, крикнул: «Те, кто не справились с экзаменом, будут становиться налево, те, кто справились — направо: туда!» Когда первые провалившиеся — их было четверо — по знаку судьи пошли, пристыженные, и сгруппировались слева, в рядах пленных возник молодой смех, лукавый и веселый крестьянский смех. Полковник тоже опустил руку и засмеялся. Офицеры тоже, равно как и фельдфебель, стали смеяться, и зондерфюрер — он тоже стал смеяться. «О, бедные, бедные! — говорили пленные своим отвергнутым товарищам, — вас пошлют чинить дороги! О, бедняги! Вы будете таскать камни на спине!» И они смеялись. Тот, который выдержал, стоял один, там, справа; он смеялся еще больше, чем другие, и поддразнивал своих неудачливых товарищей. Все смеялись, кроме тех пленных, которые походили на рабочих; они упорно смотрели на полковника и молчали.
Потом настала очередь следующей пятерки. Они тоже старалась хорошо читать, не споткнувшись ни на одном слове, не ошибаясь в ударениях, но только двоим удалось читать бегло; трое остальных, краснея от стыда, или бледнея от тоски, сжимали в руках газеты, время от времени облизывая свои пересохшие губы.
— Хальт! — сказал полковник. Пятеро пленных подняли головы, утирая пот газетами. — Вы, трое, — налево, вы, двое, — направо, — закричал фельдфебель по знаку зондерфюрера. И их товарищи насмехались над провалившимися: — О, бедный Иван, — говорили они. — О, бедный Петр! — похлопывая друг друга по плечам, как бы говоря: вот здесь вам придется таскать камни. И все смеялись.
Но один из третьей пятерки читал очень хорошо, бегло, отчетливо отделяя слога, и время от времени поднимал глаза, чтобы посмотреть в лицо полковнику. Газета, которую он читал, была старым номером «Правды» от 24 июня 1941 года, на первой странице которой было написано: «Немцы вторглись в Россию! Товарищи, солдаты! Советский народ победит и раздавит захватчиков». Под дождем слова вылетали звонкие, и полковник смеялся, зондерфюрер смеялся, фельдфебель, офицеры, — все смеялись, Даже пленные смеялись, с восхищением глядя на своего товарища, который читал совсем как учитель в школе. — Браво! — сказал зондерфюрер, и его лицо осветилось улыбкой; казалось, он гордится этим пленным, который хорошо читает; он был доволен и горд, как если бы дело шло об одном из его учеников. — Ты — туда, направо! — сказал пленному фельдфебель простодушным голосом, нежно подталкивая его раскрытой ладонью. Полковник посмотрел на фельдфебеля, как будто хотел ему что-то сказать, но промолчал, и я заметил, что он слегка покраснел.
В группе, объединившейся справа, люди смеялись вполне довольные. Те, кто с успехом выдержали экзамен, посматривали на своих несчастливых товарищей с насмешливым видом. Они тыкали указательными пальцами себя в грудь и говорили: «Секретарь!» Потом показывали на отвергнутых и делали им гримасы, повторяя: «Камни на спину!» Одни только те из числа пленных, которым предстояло пополнить количество счастливых кандидатов справа и которые походили на рабочих, молчали и пристально смотрели на полковника.
Было мгновение, когда этот последний встретился с ними взглядом. Он покраснел и, проявляя нетерпение, закричал: «Шнелль! Быстрее!»
Экзамен продолжался примерно около часа. Когда последняя группа пленных — всего трое — закончила свои две минуты чтения, полковник повернулся к фельдфебелю и сказал ему: «Сосчитайте их». Фельдфебель стал считать издали, вытянув свой указательный палец: Айн, цвей, дрей…[412] В группе слева — отвергнутых, было восемьдесят семь, в правой группе — группе лауреатов — тридцать один. Тогда, по знаку полковника, стал говорить зондерфюрер; можно было на самом деле подумать, что это школьный учитель, неудовлетворенный познаниями своих учеников. Он сказал, что он разочарован и жалеет, что пришлось отстранить стольких, что он был бы гораздо больше доволен, если бы мог всех их увидеть вместе, справа. Как бы то ни было, сказал он, те, кому не удалось пройти испытания, не должны отчаиваться; с ними будут хорошо обходиться и им не на что будет жаловаться, если на работе они проявят больше прилежания, чем они проявляли его на школьной скамье. Пока он говорил, в группе выдержавших смотрели на своих неудачливых товарищей с видом сочувствия, а самые молодые со смешком подталкивали друг друга локтями. Когда зондерфюрер кончил говорить, полковник повернулся к фельдфебелю и сказал: «Аллес ин Орднунг![413]» Потом он направился к зданиям комендатуры, не оборачиваясь; за ним шли офицеры, которые время от времени оборачивались и переговаривались, понизив голос.
— Вы, вы останетесь здесь до завтра, а завтра вы отправитесь в рабочий лагерь! — сказал фельдфебель левой группе. Потом он повернулся к группе, стоявшей справа, тем, кто выдержал, и жестким голосом приказал им построиться в шеренгу. Как только пленные выстроились локоть к локтю (у них были довольные лица и они смеялись, насмешливо глядя на своих товарищей), он их быстро пересчитал, сказал: «тридцать один», сделал рукой знак взводу эсэсовцев, ожидавшему в глубине двора. Потом он приказал: «Пол-оборота! Вперед! Марш!» Пленные сделали полуоборот и двинулись, топая ногами по грязи. Когда они находились у ограды двора, стоя лицами к ней, фельдфебель скомандовал: «Хальт!» и, повернувшись к эсэсовцам, которые расположились позади пленных уже с поднятыми автоматами, прочистил горло, плюнув на землю, и закричал: «Фейер![414]»
При треске залпа полковник, находившийся уже в нескольких шагах от дверей командного пункта, остановился и круто повернулся; офицеры тоже остановились и обернулись. Полковник провел рукой по своему лицу, как будто утирая пот, потом, сопровождаемый офицерами, вошел в дверь.
— Зо![415] — сказал мне зондерфюрер, проходя передо мной. — Надо почистить Россию от всей этой грамотной детворы. Крестьяне и рабочие, которые хорошо умеют читать и писать, опасны. Все они коммунисты.
— Натюрлихь[416], — ответил я, — но в Германии все рабочие и все крестьяне очень хорошо умеют читать и очень хорошо умеют писать.
— Немецкий народ, — это народ высокой «Культур».
— Разумеется, — ответил я, — немецкий народ — это народ высокой культуры.
— Нихьт вар![417] — сказал, смеясь, зондерфюрер, и он направился в контору комендатуры.
Я остался один посреди двора, перед теми пленными, которые не умели хорошо читать, и меня всего трясло.
Затем, по мере того, как усиливался их таинственный страх, по мере того, как в их глазах все расширялось это таинственное белое пятно, немцы стали убивать тех пленных, у которых были больные ноги и они не могли ходить; стали сжигать деревни, которые не удавалось сдать отрядам, производившим реквизиции: заданное число мер зерна или муки, заданное число мер ячменя или кукурузы, заданное количество лошадей и голов рогатого скота. Когда стало недоставать евреев, они начали вешать крестьян. Они вешали их за шею или за ноги на ветвях деревьев, на маленьких деревенских площадях, вокруг пустого пьедестала, на котором несколькими днями раньше стояла гипсовая статуя Ленина или Сталина; они вешали их рядом с телами евреев, поблекшими от дождей, которые раскачивались под черным небом уже много дней, рядом с собаками евреев, повешенными на тех же ветвях, что и их хозяева.
— А! Еврейские собаки! Ди юдишен Хунде![418] — говорили, проходя мимо, немецкие солдаты.
Вечерами, когда мы останавливались в деревнях на ночевку (мы находились уже в самом сердце древней территории днепровского казачества) и зажигали огни, чтобы просушить, не снимая ее с себя, нашу намокшую одежду, солдаты потихоньку ругались между собой. Они приветствовали друг друга насмешливым восклицанием: «Айн литер![419]» Они не говорили больше: «Хайль Гитлер!» Они говорили: «Айн литер» — «Один литр!» И они смеялись, протягивая к огню свои распухшие ноги, покрытые белыми пузырями.
Это были первые казачьи селения, которые мы встретили на нашем медленном, утомительном, нескончаемом марше к востоку. Старые бородатые казаки сидели на порогах домов и смотрели на проходящие колонны немецких войск и обозы. Время от времени они смотрели также на небо, слегка искривленное над огромной равниной, это прекрасное небо Украины, нежное и легкое, опертое на горизонте на высокие дорические колонны белых незапятнанных облаков, поднимающихся из глубины пурпурной осенней степи.
«Берлин, раухт Жюно»[420], — говорили солдаты, со смешком бросая старым казакам, сидевшим на порогах домов, пустые пачки от своих последних сигарет «Жионо». Табаку недоставало, и солдаты ругались. «Берлин раухт Жюно», — кричали они с насмешкой. И тогда я вспоминал автобусы и трамваи Берлина, которые несли эту рекламу: «Берлин раухт Жюно!», о лестницах Унтергрундена[421], где реклама: «Берлин раухт Жюно!» была написана красными буквами на всех лестничных маршах. Я думал о берлинской толпе — насупленной, тяжело ступающей, плохо умытой, с лицами пепельного цвета, блестящими от жира и пота, о женщинах, непричесанных, с красными глазами, с распухшими руками, в чулках, заштопанных нитками, о стариках и детях, лица которых яростны и жестки. Среди этой толпы, напуганной и глядящей исподлобья, я видел солдат, приезжавших в отпуск с русского фронта, этих солдат, молчаливых, исхудавших, строгих почти всегда, даже у наиболее молодых — с небольшой плешью или лысиной. Я смотрел на это таинственное белое пятно, которое все расширялось в их глазах, и я думал о Херренфольке[422], о героизме бесполезном, жестоком и безнадежном — Херренфолька: «Аус дем крафткелль Мильх»[423], — говорили солдаты, насмешливо бросая старым казакам, сидящим на порогах домов, свои последние пустые пачки «молока с яйцами Милеи». На этикетках брошенных в грязь коробок было написано: «Аус дем крафткелль Мильх». У меня пробегала дрожь по спине, когда я думал о Херренфольке, о таинственном страхе Херренфолька.
Иногда ночью я удалялся от бивуака или дома меня укрывавшего, уносил с собой одеяла и шел, чтобы вытянуться в поле хлебов, недалеко от лагеря или деревни. Лежа на мокром от дождей жнивье, я ждал рассвета, слушая сквозь сон, как проходят грохочущие обозы, отряды румынской кавалерии, колонны танков. Я слышал раздающиеся голоса, хриплые и грубые, немцев, колючие и веселые голоса румын: «Инаинте, байэзи, инаинте!»[424] Своры бродячих изголодавшихся собак приближались ко мне и обнюхивали, виляя хвостами. Это были маленькие украинские дворняжки, с желтоватой шерстью, красными глазами, кривыми ногами. Нередко одна из таких собачек ложилась возле меня, облизывала мне лицо, и каждый раз, когда чьи-нибудь шаги раздавались неподалеку на тропинке, или от резкого дуновения ветра слегка потрескивала солома, она настораживалась и тихо ворчала. Тогда я говорил песику: «Куш, Дмитрий!» и у меня было такое ощущение, что я говорю с человеком, говорю с русским. Я говорил песику: «Замолчи, Иван», и мне казалось, что я говорю с одним из этих пленных, которые так старались хорошо читать, выдержали испытание и теперь лежали в грязи, с лицами, съеденными негашеной известью, там, вдоль стены, ограждающей двор колхоза, в той деревне, что расположена неподалеку от Немировского.
Однажды ночью я пошел и улегся в поле подсолнечников. Это был действительно настоящий лес подсолнечников, настоящий густой лес. Согнувшиеся на своих высоких мохнатых стеблях со своим большим черным глазом, совсем круглые, с длинными желтыми ресницами, затуманенными сном, подсолнечники спали, опустив головы. Стояла ясная ночь. Небо, полное звезд, сверкало отблесками зелеными и синими, как внутренняя поверхность огромной морской раковины. Я уснул глубоким сном, и на рассвете был разбужен негромким приглушенным потрескиванием. Оно походило на шорох от ног множества людей, осторожно идущих босиком по траве. Я затаил дыхание и прислушался. С соседнего бивуака доносилось слабое чиханье моторов и хриплые голоса, перекликавшиеся в лесу у ручья. Вдали лаяла собака. На краю горизонта солнце, взламывая черную раковину ночи, поднималось, красное и горячее, над равниной, блещущей от росы. Шорох становился необъятным; он рос с минуты на минуту; это было похоже на потрескивание кустарников, охваченных пламенем, на тихий хруст соломы под ногами неисчислимой армии, осторожно крадущейся по жнивью. Вытянувшись на земле и задерживая дыхание, я смотрел, как подсолнечники медленно приподнимают свои желтые ресницы и мало-помалу открывают глаза.
Внезапно я заметил, что подсолнечники приподнимают головы и, медленно поворачиваясь на своих высоких стеблях, направляют свои большие черные глаза навстречу рождающемуся солнцу. Это было движение медленное, равномерное и всеобщее. Весь лес подсолнечников повернулся, наконец, чтобы смотреть на славу молодого солнца при его появлении. И я, я тоже поднял голову к востоку, глядя как солнце постепенно поднимается среди алых испарений рассвета над голубыми облаками дымов пожарищ, стоящими в далекой равнине.
Потом дождь прекратился, и после нескольких дней стремительного и холодного ветра внезапно ударил мороз. Не снег, но резкий и жестокий осенний мороз. За ночь грязь затвердела, и лужи покрылись блестящим стеклом, тонким, как человеческая кожа. Воздух стал прозрачным, и серо-голубое небо, казалось, все растрескалось, словно разбитое зеркало.
Немецкое продвижение на восток возобновилось и стало еще быстрее. Грохот артиллерии, треск автоматов и пулеметов отдавались чистыми сухими звуками, не порождавшими эха. Тяжелые танки генерала фон Шоберта, которые в течение долгих дождливых дней едва передвигались, неповоротливые, как жабы, на цепкой и клейкой грязи равнины, простиравшейся между Бугом и Днепром, снова загрохотали вдоль дорог, затвердевших от морозов. Синие дымки их выхлопов поднимались над вершинами деревьев легкими облачками, которые тотчас рассеивались, но оставляли в воздухе нечто, позволявшее догадываться об их присутствии.
Это был наиболее опасный момент большого кризиса русских в осенние дни 1941 года. Армия маршала Буденного — советского Мюрата[425] — медленно свертывалась в направлении к Дону, оставляя в арьергарде[426] отряды казацкой кавалерии и звенья этих маленьких вооруженных танкеток, которые немцы прозвали панцерпферде[427] — бронированные лошади. Панцерпферде — это были маленькие повозки, чрезвычайно мобильные, в большинстве случаев управляемые молодыми рабочими-татарами, стахановцами и ударниками сталелитейных заводов Дона и Волги. Их тактика была сходной с тактикой татарской конницы: они внезапно появлялись на флангах, поддразнивая наступающих, затем исчезали среди лесной поросли и кустарников, укрывались в складках местности и снова внезапно возникали позади, описывая широкие спирали по жнивью и несжатым нивам. Эта тактика была той тактикой легкой кавалерии, которой тщеславился еще сам Мюрат. Они крутились по равнине, словно лошади в манеже.
Но и сами эти панцерпферде день ото дня становились все более редкими, и я спрашивал себя, куда мог направиться Буденный, этот усатый Буденный, со своей многочисленной казачьей и татарской кавалерией? В Ямполе[428] мы еще не переправлялись через Днестр, когда крестьяне нам говорили: «Э! Буденный ждет вас за Бугом![429]» Буг был уже позади, и крестьяне говорили: «Э! Он вас ожидает за Днепром!». А теперь, с видом очень осведомленным: «Э! Буденный ждет вас за Доном!» И таким образом немцы все больше и больше углублялись в необозримую украинскую равнину, углублялись словно нож в рану, и рана уже причиняла боль, становилась опасной, превращалась в язву. По вечерам в селениях, где колонна останавливалась, чтобы провести ночь, я слушал хриплые голоса патефонов (в домах советов, правлениях колхозов, лавках и универмагах всегда находились патефоны с кучей пластинок; это были пластинки с обычными песнями заводов, колхозов и рабочих клубов, и среди пластинок непременно находился марш Буденного). Я слушал марш Буденного и думал: «Какого черта делает этот Буденный? Куда мог запропаститься этот усатый Буденный?»
В один прекрасный день немцы начали охоту на собак. Вначале я думал, что это вызвано какими-нибудь случаями бешенства и что генерал фон Шоберт приказал истребить собак. Потом я понял, что, видимо, должна существовать какая-то другая причина. Едва войдя в деревню, прежде даже, чем начать охоту на евреев, они начинали охоту на собак. Группы эсэсовцев и панцершютценов[430] — танкистов бегали по улицам, стреляя из автоматов и бросая гранаты в бедных дворняжек, с желтоватой шерстью, блестящими красными глазами и кривыми ногами; они разыскивали их в садах и палисадниках и яростно преследовали в полях. Несчастные животные убегали в леса, распластывались в ямах и рвах за огородами или искали убежища в домах, прячась по углам, на крестьянских постелях, за печами и под скамейками. Немецкие солдаты входили в дома, извлекали собак из их тайников и убивали ударами прикладов. Самыми жестокими в этой войне были панцершютцены-танкисты. Можно было думать, что у них личное озлобление к несчастным созданиям. «Но почему?» — спрашивал я панцершютценов. Их лица мрачнели. — «Спросите об этом у собак!» — отвечали они сухо и поворачивались ко мне спиной.
Но старые казаки, сидевшие на порогах домов, смеялись из-под своих усов и похлопывали себя по коленям. «Ах, бедные собачки! — говорили они. — Ах, бедные собачки!!» И они лукаво смеялись, как будто им внушали жалость вовсе не эти бедные животные, а эти бедные немцы. У стариков, смотревших поверх оград своих палисадников, у молодых девушек, спускавшихся к реке с двумя ведрами, раскачивающимися на коромысле, положенном на плечо, у детей, которые шли, чтобы почтительно похоронить в поле бедных убитых собак, — у всех на губах были одинаковые улыбки, одновременно печальные и лукавые. Ночью в полях и лесах слышался лишь редкий, одинокий лай, жалобный вой, безнадежные стоны, и можно было слышать, как собаки царапали землю у заборов, ограждавших сады, и у домов, ища пропитания, а немецкие часовые рычали: «Кто здесь?» странными голосами. Чувствовалось, что они чего-то боятся, боятся ужасного и таинственного, что они боятся собак.
Однажды утром я находился на артиллерийском наблюдательном пункте, чтобы посмотреть вблизи на атаку немецкого панцердивизиона[431]. Соединение тяжелых танков ожидало в лесу приказа об атаке. Утро было прозрачное и холодное. Я смотрел на поля, сверкающие изморозью, на леса подсолнечников, черных и желтых, под встающим солнцем (солнце было именно таким, о котором говорит Ксенофонт[432] в третьей книге «Анабазиса»); оно рождалось среди дымков танковых выхлопов, там, как раз впереди меня; оно было действительно похоже на молодого античного бога, обнаженного и розового, возникавшего из зеленой и голубой воды неба. Он поднимался, освещая дорическую колонну пятилетки, этого Парфенона из стекла, бетона и стали, Парфенона тяжелой индустрии СССР. Вдруг сразу я увидел танковое соединение, которое покинуло лес и веером развернулось на равнине.
За несколько мгновений до начала атаки на наблюдательный пункт прибыл генерал фон Шоберт. Он смотрел на поле боя и улыбался. Танки и штурмовые группы все приближались. Борозды, прорезанные их гусеницами на равнине, казались нанесенными на медной пластинке резцом гравера. Перед нами лежала равнина, тянущаяся к юго-востоку от Киева. Было что-то дюреровское[433] в этой обширной сцене, рисовавшейся с сухой точностью, в этих солдатах, таинственно облаченных в маскировочные сетки, словно античные гладиаторы, расположенные, как аллегорические[434] фигуры, по краям этой гравюры на меди, в открытой и глубокой перспективе деревьев, войск прикрытия, орудий, повозок, людей, лошадей, размещенных разнообразно и видимых сперва на переднем плане склона, постепенно спускающегося от наблюдательного пункта к Днепру, потом дальше, по мере того, как перспектива расширялась и углублялась. Это было и в людях, пригнувшихся позади танков с автоматами на прицеле, и в танках, рассеянных там и здесь, среди высокой травы и в зарослях подсолнечников. Было нечто дюреровское в готической выписанности деталей, которые глаз схватывал мгновенно, как будто на широко открытых челюстях этой мертвой лошади, на этом раненом, который тащился там, среди кустарников, на этом солдате, опершемся о ствол дерева и прикрывшем ладонью лоб, чтобы защитить глаза от лучей солнца, — резец гравера на миг задержался так, что вес его руки отметил их всех на меди более глубокими линиями. Точно так же и хриплые голоса, ржание лошадей, рассеянные сухие ружейные выстрелы, терпкий скрежет гусениц казались гравированными Дюрером в прозрачном и холодном воздухе этого осеннего утра.
Генерал фон Шоберт улыбался. Тень смерти уже реяла над ним, тень, столь же тонкая, как паутина, но разумеется, он чувствовал, как эта тень давит на его голову; он, конечно, знал, что несколько дней спустя он падет в предместьях Киева, что даже его смерть будет окружена фантастическим изяществом, как и весь его облик, облик по-венски элегантный элегантностью несколько фривольной (он, разумеется, знал об этом — что ему предстоит умереть несколькими днями позже, приземляясь на его маленьком самолете, на «аисте», в киевском аэропорту, только-только занятом; колеса «аиста», сбрив траву на посадочной полосе, налетят на мину, и он исчезнет в букете красных огней, в неожиданном фейерверке, и только его платок из синего полотна с вышитыми белым шелком инициалами упадет обратно на траву аэропорта.
Генерал фон Шоберт был одним из тех старых баварских аристократов, для которых Вена звучала лишь как почтительное прозвище Мюнхена. В нем было что-то древнее и юношеское; нечто вышедшее из моды было и в его сухощавом профиле, в его улыбке, иронической и грустной; было нечто меланхолическое и мечтательное в его голосе, когда в Бальци[435], в Бессарабии[436], он говорил мне: «Увы! Мы ведем войну против белой расы!»; в его голосе, которым в Широком, на Днестре, он говорил мне: «Вир зиген мит унзерем Тод» — мы победим через нашу смерть. Он хотел этим сказать, что последний, что высший лавр германских побед будет смерть германского народа, что своими победами немецкая нация завоюет свою собственную смерть. В это утро он смотрел, улыбаясь, на развернувшуюся веером танковую колонну на киевской равнине; на полях этого офорта Дюрера было старым готическим шрифтом написано: Wir siegen mit unserem Tod.
Танки, шедшие во главе штурмовых групп, уже далеко углубились в пустынную равнину. После первых автоматных очередей великая тишина развернулась на этом огромном пространстве волнующегося жнивья и трав, сожженных первыми осенними морозами. Казалось, что русские оставили поле битвы, чтобы укрыться там, на другой стороне реки. Несколько крупных птиц поднималось из густых зарослей акации, стайки маленьких серых птичек, похожих на воробьев, с писком летели вблизи, и их крылышки тускло блестели в лучах встающего солнца. Две диких утки поднялись с далекого пруда, медленно взмахивая крыльями, когда вдруг сразу из леса, расположенного там вдали, в глубине панорамы, возникло несколько черных точек, потом еще и еще. Точки быстро двигались, исчезали в кустах, снова появлялись, уже ближе, и со всей возможной скоростью бросались навстречу немецким панцерам.
— Die Hunde! Die Hunde!
— Собаки! Собаки! — с ужасом кричали солдаты вокруг. Ветер доносил до нас лай, радостный и свирепый, лай своры, преследующей лисицу.
Встретившись с внезапной контратакой собак, панцеры стали бросаться зигзагами, из стороны в сторону, яростно выплевывая огонь из своих орудий. Штурмовые группы, следовавшие за ними, остановились и заколебались, потом стали разбегаться и исчезли, охваченные паникой. Треск пулеметов доносился легкий и чистый, словно позвякивание по стеклу. Лай собачьей своры разъедал яростный рокот моторов, время от времени слышался слабый вскрик, который ветер заглушал шелестом травы. «Ди Хунде! Ди Хунде!» И вдруг до нас донесся глухой звук взрыва, потом другой, и еще… Мы увидели, как два, три, пять танков подскакивают над землей, и их стальные поверхности сверкают среди высоких гейзеров взметнувшейся земли.
— Ах! Собаки! — сказал генерал фон Шоберт, проводя рукой по своему лицу. Это были противотанковые собаки, выдрессированные русскими и приученные находить свою еду под брюхами танков. Подвезенные и заблаговременно выстроенные в укрытии ко времени неизбежной танковой атаки, голодавшие перед тем день или два, они, как только немецкие танки вышли из леса и развернулись в долине, по сигналу: «Пошел!» «Пошел!» ринулись к ним навстречу. «Алле! Алле!» — кричали русские солдаты, разом выпуская всю голодную свору, и собаки, каждая из которых несла на спине сумку, наполненную сильной взрывчаткой со стальной антенной взрывателя, торчащей на их позвоночниках, точно маленькие радиоантенны, бросались изо всех сил навстречу танкам в надежде найти свой завтрак под брюхом немецких панцеров; они ныряли под танки, и танки взлетали. — «Ди Хунде! Ди Хунде!» — кричали солдаты кругом.
Смертельно бледный, с печальной улыбкой на губах, генерал фон Шоберт провел рукой по своему лицу, посмотрел на меня и сказал по-французски уже мертвым голосом:
— Ах, зачем, зачем? И собаки тоже…
Вот, почему немецкие солдаты становились с каждым днем все более жестокими, охота на собак была безжалостной и злобной, а старые казаки смеялись, похлопывая себя по коленям: «Ах, бедные собачки!», «Ах, бедные собачки», — говорили они. По ночам из черной долины доносилось завывание и слышалось тревожное царапанье у домов и палисадников.
— Кто идет? — кричали странными голосами немецкие часовые. А дети пробуждались, выскакивали из постелей, тихо приотворяли двери и вполголоса бросали во тьму призыв: «Иддди ссюда! Идди ссюдда!»
Однажды поутру я сказал зондерфюреру из Мелитополя:
— Когда вы их всех убьете, когда в России не останется больше собак, тогда русские дети начнут бросаться под ваши танки.
— А, они все одной расы, — ответил он, вздыхая. — Все — собачьи дети! — И он удалился, плюнув на землю с глубоким презрением.
— I like russian dogs[437] — сказал Вестманн, — they ought to be fathers of the brave russian boys[438].
X. ЛЕТНЯЯ НОЧЬ
После нескончаемой зимней ночи, после холодной и ясной весны наконец наступило лето. Теплое, мягкое, дождливое финское лето, имеющее запах и вкус незрелого яблока. И вот уже приближался сезон «крапуня», уже первые раки финских рек — деликатес нордического лета, закраснелись на тарелках.
И солнце не заходило вовсе.
— Увы! Надо же мне было приехать в Финляндию, мне — испанцу, чтобы увидеть солнце Карла Пятого[439], — говорил граф де Фокса, глядя на ночное солнце, цветущее на балконе горизонта словно горшок с геранью. В прозрачный вечер молодые девушки Хельсинок отправлялись на прогулку в зеленых, красных и желтых платьях, с лицами, белыми от пудры, волосами, завитыми при помощи щипцов, и надушенные одеколоном Тэз’а, со лбами, увенчанными маленькими бумажными шапочками, обрамленными цветами тоже из бумаги, приобретенными у Штокмана. И они шли по Эспланаде, потрескивая своими бумажными туфлями.
Скудный запах моря доносился из глубины Эспланады. Тени деревьев легко ложились на чистые и светлые фасады дворцов; это были очень бледные зеленоватые тени, можно было подумать, что деревья были стеклянными. Молодые выздоравливающие солдаты, с повязками на лбу, с подвязанными руками и забинтованными марлей ногами, сидели на скамейках, слушая оркестр Кафе Рояль, и смотрели на небо, похожее на голубую бумагу, которую морской бриз колебал над кровлями домов. Витрины магазинов отсвечивали ледяным металлическим призрачным блеском белой северной ночи, на которую птичьи трели накладывали теплые тени. Зима отныне была далеко; она стала не более чем воспоминанием, но что-то от этой зимы, казалось, все еще присутствовало в воздухе, быть может, этот белесый свет, похожий на отблеск снега, на воспоминание об умершем снеге, запаздывавшее в теплом летнем небе.
Так начались кантри-пати[440] в Кракулле, на вилле посла Италии — Винченцо Чикконарди. Сидя перед камином со своим старым псом Рексом, лежавшим у его ног, и своим полоумным лакеем, который стоял как вкопанный, чопорный и неподвижный, вытаращив глаза, позади его стула, Чикконарди беседовал на неаполитанском диалекте, не без заметного берлинского акцента, с послом Германии фон Блюхером, выпячивая навстречу собеседнику свой рот, придавленный большим бурбонским носом, и складывал руки, словно для молитвы. Чикконарди нравился мне контрастом своей холодности, своей неаполитанской флегмы, с его иронией и устремленностью к могуществу и славе, которую изобличали барочная форма и как бы преувеличенные размеры его черепа, его лица, его челюстей и носа. Перед ним сидел фон Блюхер: долговязый, худой, немного сутулый, с серыми, очень коротко подстриженными волосами, с бледным синеватым лицом, изрезанным глубокими рубцами морщин; слушая, он монотонно повторял: йа, йа, йа[441]. Сквозь оконные стекла Чикконарди время от времени бросал взгляд на своих гостей, бродивших по лесу под дождем, и на маленькую сиреневую шапочку госпожи фон Блюхер, которая среди деревьев детонировала, как детонировал бы сиреневый тон Ренуара[442] посреди зеленого пейзажа Мане. Так начались ужины у Фискаторпа, на берегу озера, с послом Румынии Ноти Константиниди и госпожой Колетт Константиниди, графом де Фокса, Дину Кантемиром, Титусом Михайлеско и вечера в испанском посольстве, в посольстве Кроации, в посольстве Венгрии, долгие послеполуденные часы вокруг кофейных столиков под открытым небом в глубине Эспланады, или в баре Кэмпа с послом Рафаэлем Хаккарайненом и музыкантом Бенгтом фон Тёрном, прогулки по тротуарам Эспланады под зелеными деревьями, полными птиц, долгие часы, проведенные на веранде шведского яхт-клуба, на маленьком островке посреди порта, за разглядыванием волн, пробегавших по зеленой воде, словно белые ящерицы. А очаровательные уик-энды[443] в «стугах» на берегу озер, где вдоль пляжей Борёзунда и в виллах, которые всегда горделивые французы непременно называли замками — «ле шато»[444], но о которых всегда скромные финны отзывались просто-напросто: «замки — ле шато». Это были старинные деревенские дома, построенные из дерева и затем оштукатуренные, этой неоклассической архитектуры, которая вдохновлялась манерой Энгелиса, с дорическими колоннадами фасадов, покрытыми легкой зеленоватой плесенью. А счастливые дни на вилле, которую архитектор Сирен — создатель дворца Парламента в Хельсинки, построил для себя на островке Бокхольм посреди Борёзунда; на рассвете мы шли собирать грибы в лесу серебристых берез и красноватых сосен или отправлялись на рыбную ловлю между островами Сварте и Стремзе и слушали ночью, в тумане, жалобное мычание пароходных сирен и хриплые крики чаек, напоминавшие крики детей. Теперь стояли ясные дни и белые ночи финского лета; часы казались мне нескончаемыми в траншеях и узких ходах сообщения Ленинградского фронта. Огромный серый город на фоне зеленых лесов и болот отбрасывал при полуночном солнце странный металлический отблеск; иногда он казался городом, построенным из алюминия, — таким мягким и приглушенным был его блеск, иногда — городом стальным — таким холодным и жестоким становился этот блеск, иногда — городом серебряным — таким был этот блеск живым и глубоким. В некоторые ночи, когда я смотрел на него с небольших холмов Белоострова[445] или с опушек териокских лесов, он действительно казался мне городом из серебра, гравированном на нежном горизонте резцом Фаберже, последнего из крупнейших серебряных дел мастеров при дворе Санкт-Петербурга. Часы казались мне нескончаемыми в этих траншеях и ходах сообщения, окружавших море возле Кронштадтской крепости, которая высится в водах Финского залива посреди «тотлебенов» — маленьких искусственных островков из бетона и стали ее окружающих.
По ночам я не мог спать; я бродил по ходам сообщения, вместе со Свёртстремом, время от времени останавливаясь, чтобы через бойницу посмотреть на парки Ленинграда, на деревья Васильевского острова, столь близкие Евгению Онегину и героям Достоевского, или на купола церквей Кронштадта, красные, зеленые и синие огни радиоантенн, серые крыши Арсенала[446] и на ослепительные вспышки, извергаемые советским флотом, стоявшим на якорях там, на рейде, так близко, что, казалось, до него можно было дотянуться рукой. И мне думалось, что я и на самом деле, вытянув руку над бруствером траншеи в Териоках или Белоострове, могу дотронуться до зданий Ленинграда, с доминирующим над ними куполом Исаакия[447] и укреплениями Кронштадта[448] — так был прозрачен воздух этих белых летних ночей. В лесах Райкколы, на берегах Ладожского озера, я проводил долгие часы в «корсу» переднего края, слушая рассказы финских офицеров о смерти полковника Мерикаллио, моего друга Мерикаллио, который перед смертью поручил своей дочери передать его последний привет графу де Фокса, Михайлеско и мне.
Или же я отправлялся в какую-нибудь «лоттала» в глубине лесов, пить малиновый сироп с бледными и молчаливыми «сиссит», с их отточенными «пуукко»[449], висящими на их поясах под взглядами выжидательными и отсутствующими молодых «лотт», одетых в форму из серого полотна, с печальными лицами, склоненными над их белыми воротничками. А ближе к вечеру я спускался вместе со Свёртстремом к Ладоге и мы проводили долгие часы, сидя на береговом откосе озера, в маленьком заливе, в котором зимой головы лошадей, скованных льдом, выступали над сверкающей ледяной корой; что-то от их уже ослабленного запаха все еще удерживалось здесь, во влажном ночном воздухе.
Когда я покидал фронт, чтобы возвратиться в Хельсинки, де Фокса говорил мне: «Сегодня вечером мы пойдем выпить по стаканчику на кладбище!» И ночью, выходя из дома Титуса Михайлеско, мы шли, чтобы усесться на старом шведском кладбище, оставшемся нетронутым в центре Хельсинок, между Булеварди и Георгкату[450], где нас ждала скамья, стоящая близ могилы некоего Сиерка. Де Фокса извлекал из своего кармана бутылку Бордсбрейнвейна и, выпивая, мы обсуждали, какая из финских водок лучше остальных: Бордсбрейнвейн, Поммеранцбрейнвейн, Ерикойсбрейнвейн или Райамерибрейнвейн. На этом романтическом кладбище, где могильные камни выходят из земли словно спинки кресел, — и в самом деле кажутся старыми креслами, расставленными на театральной сцене (сцену представлял лес). На скамьях, под большими деревьями, сидели тени солдат, неподвижные и угрюмые; высокие деревья с нежно-зеленой листвой (синий отблеск моря трепетал в этой листве) тихо шелестели.
Ближе к рассвету де Фокса принимался осматриваться вокруг с опасливым видом и вполголоса говорил мне: «Ты слышал разговоры о привидении на улице Калевала? — Он боялся привидений и говорил, что лето в Финляндии — это сезон привидений. — Я хотел бы увидеть привидение, настоящее привидение», — говорил он мне, понизив голос, но он дрожал от страха и боязливо осматривался. Когда мы, покидая кладбище, проходили перед памятником Калевалы, де Фокса зажмуривался и отворачивался, чтобы не видеть призрачных статуй героев Калевалы.
Однажды вечером мы пошли посмотреть на привидение, которое каждую ночь в один и тот же час пунктуально появлялось на пороге дома в глубине улицы Калевала. Моего друга де Фокса влек к этой угрюмой улице не детский страх перед призраками, но болезненное любопытство увидеть, наконец, появление привидения не в ночном мраке, как это обычно у привидений, но при полном солнце, в ослепительном свете летней ночи в Финляндии. В течение нескольких дней все газеты в Хельсинки говорили о привидении улицы Калевала: каждый вечер, около полуночи, лифт одного дома, расположенного в глубине улицы около порта, начинал двигаться сам по себе, по непредвиденному сигналу поднимаясь на последний этаж; там останавливался, и после очень короткой паузы быстро и бесшумно спускался; слышался стук медленно открываемой дверцы лифта, затем входная дверь дома приоткрывалась, и на пороге появлялась женщина; молчаливая и бледная, она долго смотрела на маленькую толпу, собиравшуюся на противоположном тротуаре, тихо отступала, очень медленно закрывала дверь; спустя несколько мгновений слышался стук дверцы лифта, подъемный механизм приходил в движение и лифт быстро и бесшумно поднимался в своей металлической клетке.
Де Фокса с опаской шел и время от времени брал меня под руку. Наши призрачные отражения повторялись в витринах магазинов, в которых мы, казалось, несли на лицах налет белого воска. Мы прибыли к дому, в котором обитало привидение, за несколько минут до полуночи, под бледной истомой ночного удушья. Это был дом недавней постройки, очень модернистской архитектуры, весь сверкающий светлой покраской, стеклом и хромированной сталью. Его крыша щетинилась телевизионными антеннами. Возле ручки входной двери (одной из тех дверей, которые открываются изнутри из каждой квартиры, при помощи электрического прерывателя) была прибита алюминиевая дощечка с двойным столбцом кнопок из черного металла и списком имен квартиронанимателей. Над алюминиевой дощечкой в стене открывалось отверстие рупора громкоговорителя, благодаря которому каждый квартиросъемщик мог говорить со своими посетителями прежде, чем открыть им дверь. Справа от входной двери начиналась витрина магазина «Эланто», в которой было выставлено несколько банок с рыбными консервами; две очень зеленые рыбы, изображенные на розовой этикетке, вызывали в памяти абстрактный мир символов и призрачных знаков; слева была парикмахерская с надписью на вывеске — «Партури Кампаамо» — желтой на синем фоне; в витрине блестел женский бюст, сделанный из воска, два или три пустых флакона и пара целлулоидных гребней.
Улица Калевала узка, и кажется, что фасад дома, увиденный снизу вверх, находится в неустойчивом равновесии; можно было бы сказать, что он угрожающе нависает над маленькой толпой, собравшейся на противоположном тротуаре. Это был дом вполне современный, построенный с преобладанием в его отделке стекла и хромированной стали и украшенный телевизионными антеннами, ощетинившими его кровлю; фасад его, белый, гладкий и обнаженный, на котором неисчислимые стеклянные орбиты окон отражали светлое ночное небо с льдистыми отблесками алюминия, создавал идеальную мизансцену, нет, не для появления одного из этих ночных призраков, угрюмых, страшных и внушающих жалость, с их мертвенно-бледными, изможденными лицами, облаченных в леденящие саваны и распространяющих гнилостный запах могилы на старых европейских улицах, но одного из современных призраков, таких, какие могут появляться среди архитектуры Корбюзье[451], живописи Брака и Сальвадора Дали[452], музыки Хиндемита[453] и Онеггера[454], одного из этих никелированных streamlined[455] призраков, которые порой появляются на траурном пороге Эмпайр стэйтс Бильдинга[456], на высоких карнизах Рокфеллеровского центра[457], на палубе трансатлантического парохода или в холодном синем луче трансформаторного здания электроцентрали.
Маленькая толпа молча стояла перед домом, где обитало привидение. Здесь были люди из народа и буржуа, несколько моряков, двое солдат, группа молодых девушек в форме лоттасверде. Время от времени по соседней улице проходил трамвай, и тогда здесь дрожали стены и оконные стекла. На углу улицы появился велосипед, и затем он быстро пронесся перед нами; шелест шин на влажном асфальте оставался в воздухе еще в течение нескольких мгновений — казалось, нечто невидимое пронеслось перед нашими глазами. Де Фокса был очень бледен: он пристально смотрел на двери дома жадным взором, сжимая мою руку, и я чувствовал, как он дрожит от страха и желания. Внезапно мы услышали, что лифт включился; до нас донеслось легкое и долгое жужжание, потом стук дверцы, которую открыли и захлопнули наверху, на последнем этаже, шум опускающегося лифта… и вдруг двери дома отворились, и на пороге показалась женщина. Это была невысокая женщина средних лет, одетая в серое, с маленькой шапочкой из черного фетра (а быть может из черной бумаги), лежавшей на светлых волосах, прорезанных серебряными нитями. Очень светлые глаза ее казались двумя бесцветными пятнами на бледном исхудалом лице с выступающими скулами. Руки ее, скрытые перчатками из зеленой материи, висели вдоль бедер, и эти зеленые руки на сером платье казались двумя мертвыми листьями. Она остановилась на пороге, посмотрела на одного за другим всех собравшихся на противоположном тротуаре. У нее были белые веки и угасший взор. Потом она подняла глаза к небу, медленно поднесла руку к лицу и приложила ее, сложив козырьком, к своему лбу, чтобы защитить глаза от яркого света. Несколько мгновений она испытующе созерцала небо, затем опустила голову, уронила вдоль бедра поднятую руку и остановила свой взгляд на толпе, смотревшей на нее молча, с холодным и почти озлобленным выражением. Потом женщина удалилась и закрыла дверь. Послышался стук дверцы лифта, долгое легкое жужжание. Мы стояли и слушали, задерживая дыхание, внимая стуку дверцы там, наверху, на последнем этаже. Поднимающееся жужжание все удалялось, становилось все тише. Нам казалось, что лифт испарился, или пронизав кровлю, поднимается к небу. Толпа подняла головы, разглядывая ясное небо. Де Фокса сильно сжал мою руку; я чувствовал, что он дрожит с головы до ног. — Уйдемте! — сказал я ему. Мы удалились на цыпочках, проскользнув среди толпы, которая была словно загипнотизирована белым облачком, очень высоким, плывшим как раз над крышами. Мы прошли всю улицу Калевала и отправились посидеть на старое шведское кладбище у могилы Сиерка.
— Это было не привидение, — сказал де Фокса после долгого молчания, — это мы были привидениями! Ты видел, как оно на нас смотрело? Ему было нас страшно.
— Это было современное привидение — ответил я, — призрак севера.
— Да, — сказал Де Фокса, смеясь, — современные привидения спускаются и поднимаются на лифтах! Он нервно смеялся, чтобы скрыть свой ребячливый ужас.
Выйдя с кладбища, мы спустились по бульвару и пересекли улицу Маннергейма позади шведского театра. Мужчины и женщины лежали в траве, под деревьями Эспланады, подставляя свои лица белому ночному свету. Странная тревога, нечто вроде холодной лихорадки, охватывает северные народы во время белых летних ночей. Они проводят эти ночи, прогуливаясь по морскому берегу, лежа в траве общественных парков или сидя на скамейках в порту. Потом они возвращаются к себе домой по стенам, принюхиваясь к ветру. Едят они очень мало, растянувшись обнаженными на своих постелях, омываемые ледяным ослепительным светом, проникающим через открытые настежь окна. Они вытягиваются, голые, под ночным солнцем, словно под кварцевой лампой. Через открытые окна они видят, как движутся в стеклянистом воздухе призраки домов, деревьев и парусных судов, покачивающихся в порту.
Мы собрались в столовой испанского посольства вокруг тяжелого стола красного дерева, стоявшего на четырех огромных лапах, подобных слоновым ногам, и переотягощенного хрусталем и старинным испанским серебром. Стены были декорированы красной парчой. Сумрачная и коренастая мебель, изображения танцев детей, гирлянд, фруктов и дичи, полногрудые кариатиды, — весь этот испанский антураж, чувственный и траурно-мрачный, составлял своеобразный контраст с белым ослепительным ночным светом, лившимся в открытые окна. Мужчины в вечерних костюмах, декольтированные женщины, увешанные драгоценностями, — кругом этого массивного стола на слоновьих ногах, который едва виднелся среди шелковых юбок и черных брюк, в сумрачно-пурпурном отсвете парчи и приглушенном блеске серебра под пристально-тяжелыми взглядами королей и грандов Испании, развешанных на стенах при помощи толстых шелковых шнуров. (Золотое распятие было помещено на стене над посудным шкапчиком, и ноги Христа притрагивались к горлышкам бутылок с шампанским, опущенных в ведерки со льдом). Все вокруг имело похоронный вид и было словно изображено Лукой Кранахом[458]: кожа казалась мертвенно-бледной и дряхлой, глаза были обведены синими кругами, виски казались бледными и влажными, зеленоватый, трупный цвет разливался по лицам. Скулы у сидевших за столом сотрапезников были стянутыми и словно окаменевшими. От дыхания ночного дня тускнели оконные стекла.
Было около полуночи. Огонь заката тронул красным вершины деревьев Бруннспаркена. Становилось холодно. Я смотрел на обнаженные плечи Аниты Бенгенстрем — дочери посла Финляндии в Париже, и думал о том, что завтра мне вместе с де Фокса и Михайлеско предстоит уехать в Лапландию, за северный полярный круг. Лето уже приближалось к концу. Мы приедем в Лапландию с опозданием, к началу ловли лосося. Посол Турции Ага Аксель, смеясь, заметил, что прибытие с опозданием — одно из многих удовольствий дипломатической жизни. И он рассказал, что, когда Поль Моран был назначен секретарем французского посольства в Лондоне, посол Камбон, знавший репутацию лентяя, приобретенную Полем Мораном, сделал ему первую рекомендацию: «Дорогой мой, приходите на службу тогда, когда вы захотите, но не позже». Ага Аксель сидел, повернувшись лицом к окну; у него было лицо медного цвета и белые волосы, лежавшие вокруг лица, словно иконный венчик. Маленького роста, коренастый, с осторожными движениями, он, казалось, всегда подозрительно осматривался кругом («Это младотурок, который обожает коньяк!» — говорил о нем де Фокса. — «А! Вы, значит, молодой турок?» — спросила у него Анита Бенгенстрем. — «Я был гораздо больше турком, увы! когда я был моложе», — ответил Ага Аксель.
Посол Румынии Ноти Константиниди, который провел лучшие годы своей жизни в Италии и хотел бы кончить свои дни в Риме, на Виа Панама, говорил о римском лете, о головах фонтанов на пустынных площадях в полдень в самую жаркую пору лета, и, разговаривая, он дрожал, в холодном блистающем свете северной ночи, глядя на свою белую руку, забытую, словно то была восковая рука, на скатерти из синего атласа. Константиниди возвратился накануне из Микели — ставки генерала Маннергейма, куда он выезжал, чтобы вручить маршалу высокую награду, которой отметил его молодой румынский король Михай[459]. — «С тех пор, как я вас видел в последний раз, вы помолодели на двадцать лет. Лето принесло вам свой дар — молодость», — сказал маршалу Константиниди. — «Лето — ответил Маннергейм[460], — в Финляндии существует десять месяцев зимы и два месяца без лета!»
Беседа немного задержалась на маршале Маннергейме, на контрасте его «декадентских» вкусов и его царственных манер, его царственного вида, на огромном престиже, которым он пользовался в армии и в государстве, на жертвах, которых потребовала война от финляндского народа, на этой ужасной, первой военной зиме. Графиня Маннергейм заметила, что холод в Финляндию пришел не с севера, а с востока. — «Несмотря на то, что Лапландия расположена к северу от северного полярного круга, — добавила она, — в Лапландии холода гораздо слабее, чем на Волге».
— «Вот новый аспект восточного вопроса», — сказал Де Фокса. — «Разве вы думаете, что для Европы все еще существует восточный вопрос?» — спросил турецкий посол. — «Я придерживаюсь мнения сэра Филиппа Гуэдалла: для жителей востока восточный вопрос сводится отныне к тому, что думают о восточном вопросе турки».
Де Фокса рассказал, что в это самое утро он повстречался с послом Соединенных Штатов Артуром Шенфельдом, и этот последний был очень возмущен сэром Филиппом Гуэдалла в связи с его последней книгой «Man of War»[461], вышедшей в Лондоне во время войны, один экземпляр которой он приобрел в издательстве Штокмана. В главе, посвященной туркам, английский писатель отмечал, что нашествия варваров в прошлые века в Европе всегда начинались с востока, по той простой причине, что до открытия Америки варвары не могли прийти в Европу ниоткуда более.
— В Турции, — сказал Ага Аксель, — нашествия варваров всегда происходили с востока. Так было еще со времен Гомера.
— А разве во времена Гомера[462] уже существовали турки? — спросила Колетт Константиниди.
— Некоторые турецкие ковры, — ответил Ага Аксель, — значительно древнее, чем Илиада.
(Несколькими днями раньше мы все были у Дину Кантемира, который жил в Бруннспаркене, напротив английского посольства, в прекрасном доме Линдеров, и восхищались его коллекциями фарфора и восточных ковров. В то время, как Дину рисовал мне рукой в воздухе генеалогическое древо своих лучших «саксов», а Бенгт фон Тьёрн, стоя под портретом одной из Линдер, знаменитой своей красотой, говорил Мирна Бериндею и Титусу Михайлеско о живописи Галлеи Каллела, посол Турции и посол Румынии, стоя на коленях посреди комнаты, спорили по поводу двух маленьких молитвенных ковриков XVI века, которые Кантемир расстелил на полу. На одном из них были вытканы два ромба, чередующихся с двумя прямоугольниками, — розовых, сиреневых и зеленых, на другом — четыре прямоугольника — розовые, синие и золотистые, обнаруживавшие ярко выраженное персидское влияние. Посол Турции превозносил нежную гармонию красок первого — самую трудную цветовую гамму, какую он когда-либо, по его словам, видел, а посол Румынии, расхваливал изящество, почти женственное, второго ковра, напоминавшего своими тонами старинную персидскую миниатюру. — «Но это же вовсе не так, мой дорогой!» — говорил Константиниди, повышая голос. — «Я заверяю вас своим честным словом, что вы ошибаетесь!» — отвечал Ага Аксель нетерпеливо. Оба стояли на коленях и, разговаривая, жестикулировали, как будто совершали турецкую молитву. Не прекращая спора, они кончили тем, что уселись друг против друга на обоих ковриках, по-турецки поджав ноги. Ага Аксель говорил: «Ведь к туркам всегда были несправедливы»).
— От великой турецкой цивилизации, — говорил Ага Аксель, — не останется в конце концов ничего, кроме нескольких древних ковров. Мы — народ героический и неудачливый, все наши несчастья происходят от нашей вековой терпимости. Если бы мы были менее терпимыми, мы, быть может, покорили бы весь христианский мир.
Я спросил его, что означает в турецком понимании слово: «терпимость».
— Мы всегда были терпимыми с покоренными народами, — ответил Ага Аксель.
— Я не понимаю, — сказал де Фокса, — отчего турки не присоединились к христианству. Это в значительной мере все бы упростило.
— Вы правы, — сказал Ага Аксель, — если бы мы стали христианами, то сегодня мы были бы в Будапеште, а может быть и в Вене.
— Сегодня нацисты находятся в Вене, — заметил Константиниди.
— Если бы они были христианами, они там бы и остались, — ответил Ага Аксель.
— Самой трудной проблемой современности по-прежнему остается религиозная проблема, — сказал Бенгт фон Тьёрн. «Нельзя убить Бога». И он рассказал эпизод, происшедший за некоторое время до того в Турку[463] — финском городе, на берегу Ботнического залива. Советский парашютист, опустившийся в окрестностях города, был захвачен в плен и заключен в тюрьму. Пленный имел, примерно, тридцать лет от роду, и до войны был механиком на металлургическом заводе в Харькове. Он был также убежденным коммунистом. Одаренный созерцательным умом, он казался не только любопытным, но и хорошо информированным о многих проблемах и, в частности, о проблемах моральных. Его культурный уровень заметно превосходил уровень, свойственный обычно ударнику, стахановцу, члену этих «штурмовых бригад», которые на советских заводах носят имя в честь своего создателя и организатора — инженера Стаханова[464]. Он много читал в своей камере, предпочтительно книги по вопросам религии, которые директор тюрьмы, заинтересованный этим по-своему столь завершенным и любопытным человеческим экземпляром, позволял ему выбирать из своей личной библиотеки. Разумеется, военнопленный был материалистом и атеистом.
Спустя некоторое время его послали работать механиком в тюремную мастерскую. Однажды военнопленный заявил, что он хотел бы поговорить со священником. Молодой лютеранский пастор, очень уважаемый в Турку за свои познания и благочестие, выдающийся проповедник, прибыл в тюрьму и его проводили в камеру советского парашютиста. Они провели вдвоем в этой запертой камере около двух часов. Когда пастор в конце долгой беседы поднялся, чтобы уйти, заключенный положил руки на его плечи и после минутного колебания поцеловал его. Эти подробности были опубликованы в газетах Турку. Спустя несколько недель заключенный, который уже в течение нескольких дней казался погруженным в тревожные и мучительные раздумья, пожелал снова увидеться с пастором. Пастор снова явился в тюрьму, и их заперли, как и в первый раз, в камере коммуниста. Прошел примерно час, когда тюремщик, прохаживавшийся по коридору, услышал крик, призыв о помощи. Он открыл камеру и обнаружил в ней заключенного стоящим у стенки, а перед ним пастора, лежащего в луже крови. Перед смертью пастор рассказал, что в ходе их беседы военнопленный обнял его и одновременно ударил в спину острым стальным напильником. На допросе убийца заявил, что он убил пастора потому, что тот силой своих аргументов нарушил его мировоззрение коммуниста и атеиста. «Он был присужден к смерти и расстрелян. Он, — заключил Бенгт фон Тьёрн, — покушался убить Бога в лице этого пастора».
История этого преступления, рассказанная финскими газетами, произвела глубокое впечатление на общественное мнение. Лейтенант Гуммерус, сын бывшего посла Финляндии в Риме, рассказал мне, что его друг, командир отряда, приводившего в исполнение приговор, рассказывал, что на него произвела большое впечатление безмятежная ясность убийцы.
— Он снова обрел мир в своем сознании, — сказал де Фокса.
— Но это ужасно! — воскликнула графиня Маннергейм. — Как это можно питать мысль о том, чтобы убить Бога?
— Все современное человечество пытается убить Бога, — сказал Ага Аксель. — В современном сознании жизнь Бога находится всегда в опасности.
— Даже в мусульманском сознании? — спросил Константиниди.
— Даже в мусульманском сознании, к сожалению, — ответил Ага Аксель. — И не по причине соседства с коммунистической Россией и ее влияния, но в силу того факта, что убийство Бога носится в воздухе, что оно является составным элементом современной цивилизации.
— Современное государство, — сказал Константиниди, — питает иллюзию, что оно в состоянии защитить жизнь Бога простыми полицейскими мерами.
— Оно питает иллюзию защитить не только жизнь Бога, но и свое собственное существование. Возьмите, например, Испанию. Единственный способ опрокинуть Франко — это убить Бога, и отныне покушения на жизнь Бога на улицах Мадрида и Барселоны неисчислимы. Не проходит дня, чтобы кто-нибудь не стрелял из револьвера. И он рассказал, что накануне, в издательстве Штокмана, он нашел испанскую книгу, выпущенную совсем недавно, где первая строка на первой странице, прочтенная им, заключала фразу: «Бог, этот гениальный безумец..».
— Что важно отметить в преступлении, происшедшем в Турку, — сказал Бенгт фон Тьёрн, — так это не столько факт, что русский коммунист убил пастора, но что это Карл Маркс покушался убить Бога. Это типично марксистское преступление.
— Мы должны иметь смелость признать, что современное человечество легче принимает «Капитал», чем Евангелие, — сказал Константиниди.
— Это верно также и в отношении Корана, — сказал Ага Аксель. — Легкость, с которой молодые магометане принимают коммунизм, просто изумительна. В восточных республиках СССР Магомета без колебаний покидают ради Маркса. Что останется от Ислама без Корана?
— Католическая церковь, — сказал де Фокса, — показала, что она умеет обходиться без Евангелия.
— И наступит день, когда мы увидим коммуниста без Маркса[465], — добавил Кантемир. — По крайней мере, это является идеалом для многих англичан.
— Идеал множества англичан, — пояснил Константиниди, — это «Капитал» Маркса в издании «Блю бук»[466].
— Англичанам, — сказал Ага Аксель — не приходится бояться коммунизма. Для них проблема коммунизма — это остаться победителями в борьбе классов на поле, на котором они одержали победу под Ватерлоо, на футбольном поле в Итоне[467].
Графиня Маннергейм рассказала, что за несколько дней до этого посол Германии фон Блюхер в беседе с несколькими своими коллегами казался очень встревоженным коммунистической опасностью в Англии. «Don’t worry[468], — сказал ему граф Адам Мольтке-Хиндфельдт, секретарь датского посольства, — Britain never will be slaves[469]».
— Англичане, — возразил де Фокса, — обладают большой добродетелью совлекать с вопросов все излишние затемняющие их элементы. Таким образом они умеют обнажать самые сложные и запутанные проблемы. Мы еще увидим коммунизм, — добавил он, — прогуливающимся по улицам Британии, как леди Годива[470] на улицах Ковентри.
Было, вероятно, два часа ночи. Стало холодно, и от металлического света, проникавшего через широко открытое окно, лица собеседников выглядели до такой степени бледными, что я попросил де Фокса распорядиться, чтобы закрыли окна и зажгли свет. Все мы имели вид трупов, потому что ничто в такой мере не наводит на мысль о смерти, как человек в вечернем туалете при свете дня, или молодая женщина, с подкрашенным лицом и обнаженными плечами, украшенная безделушками, блестящими в солнечных лучах. Мы сидели кругом роскошного стола, как мертвецы, справляющие в Гадесе[471] некий траурный банкет. Металлический свет ночного дня придавал нашей коже мертвенно-бледный, погребальный отблеск. Лакеи закрыли окна и зажгли свет. И тогда нечто мягкое, интимное, личное, проникло в комнату, вино загорелось в бокалах, наши лица вновь зарозовели, глаза приобрели веселый блеск, и наши голоса снова стали теплыми и глубокими, как голоса живых людей.
Внезапно послышалась долгая жалоба сирен воздушной тревоги. Тотчас же начался заградительный огонь противозенитных батарей. С моря донесся мягкий, словно пчелиное жужжанье, рокот советских моторов.
— Это, быть может, смешно, — сказал Константиниди, — но мне страшно!
— Я тоже боюсь, — сказал де Фокса — и в этом нет ничего смешного.
Мы все не шевелились. Удары взрывов были тревожными и глухими, стены дрожали. Перед Колетт Константиниди бокал треснул с легким звоном. По знаку, поданному де Фокса, один из лакеев раскрыл окно. Нам стали видны советские самолеты; их было, наверное, не менее сотни. Они летели низко над крышами города, как огромные насекомые с прозрачными крыльями.
— Самое странное в этих светлых северных ночах, — сказал Мирсеа Бериндей, со своим странным румынским акцентом, — это возможность видеть при полном свете ночные жесты, мысли, чувства, вещи, которые рождаются только в таинственном мраке, которые ночь ревниво охраняет, укрывая в своей тьме. И, повернувшись к г-же Слёрн, он добавил: — Посмотрите! Вот ночное лицо!
Бледная, с губами слегка трепещущими и дрожащими, светлыми веками, госпожа Слёрн улыбалась, склоняя свой лоб. Госпожа Слёрн — гречанка. У нее прозрачное лицо, черные глаза, высокий и чистый лоб, античная нежность в улыбке и движениях. У нее совиные глаза — глаза Афины, с белыми, нежными и встревоженными веками.
— Я люблю, когда мне страшно, — произнесла госпожа Слёрн.
Время от времени глубокая тишина сменяла треск орудий артиллерии, разрывы бомб, рокот моторов. В эти короткие мгновения затишья становилось слышно пение птиц.
— Вокзал охвачен пламенем! — сказал Ага Аксель, сидевший напротив окна.
Даже магазины Эланто горели. Было холодно. Женщины кутались в свои шали. Ледяное солнце ночи проглядывало сквозь деревья парка. Где-то вдали, в стороне Суоменлинна[472], лаяла собака.
И тогда я стал рассказывать историю Спина, пса, принадлежавшего итальянскому послу Мамели, в дни бомбардировки Белграда.
XI. СУМАСШЕДШЕЕ РУЖЬЕ
Когда началась бомбардировка Белграда, посол Италии Мамели стал звать свою собаку Спина, очень красивого ирландского сеттера, трехлетка: «Идем, Спин, быстро!» Спин сидел в углу кабинета посола, как раз под портретами папы, короля и Муссолини, как будто испрашивая у них защиты. Он не осмеливался подойти к своему хозяину, который звал его, стоя на пороге. — Идем, Спин, быстро! Надо опускаться в убежище! Тогда, по необычности тона хозяина, Спин понял, что действительно есть основания для боязни. Он стал стонать, мочиться на ковер и осматриваться кругом, с видом, совершенно сбитым с толку.
Это был прекрасный английский пес — Спин, благородной и чистой породы, и у него была только одна страсть — охота. Мамели часто брал его с собой охотиться среди холмов и лесов окрестностей Белграда, на берегах Дуная или на островах, находящихся посреди реки перед Белградом, между Панчевым и Земуном. Он снимал с гвоздя ружье, вешал его себе за спину и говорил: «Идем, Спин!» Пес лаял и прыгал от радости, а когда они проходили по коридору, где висели ружья, патронташи и отличные ягдташи из английской кожи, принадлежавшие Мамели, Спин поднимал вверх глаза и вилял хвостом.
Но в это утро, едва лишь только началась бомбардировка Белграда, Спину стало страшно. Разрывы бомб были пугающими. Здание итальянского посольства, находившееся на небольшом расстоянии от бывшего королевского дворца, сотрясалось до самого основания ужасающими взрывами; куски штукатурки отрывались от стен, длинные трещины появлялись в перегородках и потолках. — «Идем, Спин! Быстро!» Спин спустился по лестнице в убежище, с хвостом, зажатым между задними ногами, повизгивая и мочась на ступеньках. Убежище было простым погребом на уровне земли. Не нашлось времени даже на то, чтобы укрепить его несколькими балками, чтобы усилить свод и поставить столбы из дерева или бетона; через отверстие, открывавшееся на уровне улицы, в него проникал свет, угрюмый и пыльный. Вдоль стен, в деревенской безыскусственности, светились ряды бутылей кьянти[473], бутылки французских вин, виски, коньяка и джина. С потолка свешивались копченые окорока[474] из Сен-Даниэля и ломбардские[475] салями. Этот погреб был настоящей мышеловкой. Достаточно было маленькой бомбы, чтобы все работники посольства оказались здесь погребенными, и собака Спин с ними вместе.
Это произошло утром, в воскресенье, 6 апреля 1941 года, в семь часов двадцать минут. Спин спускался по лестнице убежища и стонал от страха. Проходя по коридору, он поднял глаза: все ружья были на своих местах. Значит, эти невероятные взрывы не были ружейными выстрелами, но чем-то анормальным, совершенно бесчеловечным и противным природе. Земля дрожала, словно встряхиваемая землетрясением, дома сталкивались друг с другом, слышался страшный треск рушащихся стен, звон витрин, разбивающихся о тротуары, крики ужаса, плач, призывы на помощь, проклятия, мычание обезумевших людей, обращенных в бегство. Бомбы падали на Террасию, на площадь Споменик, на старый королевский дворец. По улицам на большой скорости проносились колонны автомобилей, увозя генералов, министров, сановников двора, высших служащих. Ужас охватил гражданские и военные власти, и они бросились в бегство, покидая столицу. Около десяти часов утра город оказался предоставленным самому себе. Начался грабеж. Городские подонки, к которым присоединились цыгане, набежавшие с Земуна и из Панчева, срывали защитные занавесы из листов волнистого железа над окнами и входами в магазины и даже пробирались в дома, чтобы грабить. Горожане и грабители сражались на улицах, на лестницах дворца, на лестничных площадках и внутри квартир. На площади Споменик горел королевский театр. Кондитерская, расположенная напротив театра на другой стороне площади, обрушилась. Это была турецкая кондитерская, знаменитая на всех Балканах своими возбуждающими афродизийными пирожными[476]. Толпа, горланя, рылась среди мусора и люди яростно дрались из-за драгоценных лакомств: всклокоченные женщины с пылающими лицами оглушительно выкрикивали непристойности, пожирая и пережевывая маленькие пирожные, карамели и драже, возбуждающие похоть. Эти страшные взрывы, этот грохот падающих стен, завывания ужаса, этот смех и потрескивания пожарищ, — Спин слушал все это, поджав хвост между задними ногами, опустив уши и повизгивая. Он прижимался к ногам посла Мамели и мочил его ботинки и брюки. Когда около полудня удары бомб мало-помалу стали удаляться и затем умолкли, Мамели и служащие его посольства поднялись на первый этаж, но Спин отказался покинуть убежище. Пришлось отнести ему еду вниз, в этот темный погреб, полный дыма. До рабочего кабинета посла в минуты затишья доносился жалобный визг Спина. Мир обрушился. Должно быть, произошло нечто невероятное и сверхъестественное, в чем Спин не был в состоянии отдать себе отчет. «Бомбардировка окончилась», — говорил ему Мамели каждый раз, спускаясь к нему в погреб. — Теперь ты можешь подняться наверх, опасности больше нет. Но Спину было страшно, он не хотел покидать погреба. Он не притронулся к пище и смотрел на свою еду с подозрением, глазами недоверчивыми и умоляющими, глазами собаки, которая боится быть преданной даже руками своего собственного хозяина. Никакие законы — человеческие, природные, более не существовали. Мир обрушился.
Около четырех часов после полудня того же дня посол Мамели приготовился еще раз спуститься в погреб, чтобы попытаться убедить Спина, что всякая опасность миновала и что все снова пришло в порядок, порядок обычный и традиционный, когда очень высоко в небе, со стороны Земуна и со стороны Панчева, послышалось жужжание. Первые бомбы упали возле Милос Велитога, большие бомбы, которые бомбардировщики вбивали в крыши совершенно так, как вбивают гвозди — одним ударом молотка, точным и ошеломляющим. И город снова дрожал до самых своих оснований. Толпа, завывая, убегала по улицам. Время от времени между двумя взрывами наступало великое молчание, все кругом было мертво, неподвижно и бездыханно. Это было совсем как будто тем молчанием природы, которое наступит, когда земля станет мертвой; бесконечное последнее молчание, звездное молчание земли, когда она станет холодной и мертвой, когда завершится разрушение мира. Затем, внезапно, новый ужасающий взрыв вырывал с корнями деревья и дома, и небо обрушивалось на город с громовым треском.
Посол Мамели и служащие посольства спустились в убежище и теперь сидели там, немного бледные, на стульях, которые прислуга разместила вокруг стола, посередине погреба. Они молча курили. В промежутках между взрывами слышалось только повизгивание Спина, уткнувшегося в ноги своего хозяина.
— Это конец света! — произнес второй секретарь принц Руффо.
— Это настоящий ад, — сказал посол Мамели, закуривая сигарету.
— Все силы природы сорвались с цепи и обрушились на нас, — заключил первый секретарь Гуидотти. — Сама природа сошла с ума!
— Ничего не поделаешь, — проговорил граф Фабрицио Франко.
— Нам ничего не остается кроме как вести себя подобно румынам, — заметил посол Мамели, — «тю-тюн си рабдаре» — курить и ждать.
Спин слышал эти слова и отлично понимал, что больше ничего не остается: курить и ждать. Но ждать чего? Посол Мамели и служащие его посольства, разумеется, знали, чего они ждут, сидя таким образом, бледные и встревоженные, куря сигарету за сигаретой. Если бы они, по крайней мере, проронили несколько слов, чтобы раскрыть Спину тайну этого мучительного ожидания! Тьма, окружавшая сознание пса в отношении всех происшествий этого ужасного дня и неясность причины этого ожидания, добавляли к страху, возбуждаемому разрывами бомб, тревогу, которая была ужаснее самой мрачной уверенности. Дело вовсе не в том, что Спин был трусливым псом, — он был смелой английской собакой, чистой породы, арийской собакой, в лучшем смысле этого слова: ни одной капли цветной крови в венах; это был смелый английский пес, воспитанный в лучшем собачнике Суссекса[477]. Он не боялся ничего, не боялся даже войны. Спин был охотничьим псом, а война, это знает каждый, разновидность охоты, в которой люди одновременно и охотники, и дичь, игра, в которой люди, вооруженные ружьями, охотятся друг на друга.
Он не боялся ружейный выстрелов, Спин. Он бросился бы с высоко поднятой головой один против целого полка. Услышав выстрелы, он становился радостным. Выстрелы входили в порядок вещей, предусмотренный природой; они были традиционным элементом в мире, окружавшем Спина. Что представляла бы собой жизнь без выстрелов? Что представляла бы жизнь без долгих походов среди кустарников и лесных опушек, среди холмов вдоль берегов Дуная и Савы[478], когда надо идти по линии знакомого запаха, натянутого, словно нить, через леса и поля, нить, по которой приходилось идти, как акробат движется по стальному канату, не отклоняясь, в дни, когда выстрел охотничьего ружья сухо отдается в ясном и чистом утреннем воздухе или, словно сопровождаемый легкой дрожью, доносится сквозь серую паутину осеннего дождя, или радостно грохочет над снежной долиной, — в эти дни выполняется порядок, установленный самой природой. Не хватает только этого выстрела, который придает последний штрих совершенству природы, мира и жизни.
В долгие зимние вечера, когда Мамели сидел в библиотеке у камина, зажав в зубах свою коротенькую трубочку и склонив голову над книгой (пламя весело потрескивало в камине, ветер свистел и дождь лил снаружи), Спин, лежа на ковре у ног хозяина, вспоминал в полусне этот сухой звук выстрела, сопровождаемый стеклянным звоном утреннего воздуха. Время от времени он поднимал глаза на старое турецкое ружье, висевшее на стене напротив двери, и вилял хвостом. Это было турецкое кремневое ружье с ложем, сплошь инкрустированным перламутром (Мамели приобрел его за несколько динаров у одного старьёвщика в Монастире[479]), которое, вероятно, стреляло еще в христианских солдат принца Евгения Савойского[480], в венгерских кавалеристов и кроатов[481], галопирующих в окрестностях Земуна. Старое и верное военное ружье, которое выполнило свой долг, сыграло свою роль, состоявшую в том, чтобы поддерживать древний и традиционный порядок, установленный природой. И оно тоже в своей далекой молодости умело придавать последний штрих совершенству мира в дни, когда его сухой треск разбивал стеклянную неподвижность утра, и юный улан падал с лошади, там, в Земуне[482], в Нови Саде, в Вуковаре. Спин не был, что называется son of а gun[483] но он не мог себе представить мир без ружья: пока голос ружья будет иметь свою власть, ничто не нарушит порядка, гармонии, совершенства природы.
Но ужасный грохот, сопровождавший в это утро обвал всего мира, не мог быть, не был дружественным голосом ружья. Это был никогда не слышанный ранее голос, новый, пугающий голос. Какое-то ужасающее чудовище, какой-то грозный чужеземный бог навсегда опрокинул царство ружья, этого привычного бога, который до сих пор управлял миром в порядке его и гармонии. Голос ружья станет отныне немым и навсегда побежденным этим диким грохотом. И облик самого Мамели, такого, каким он выглядел в эти жестокие минуты в сознании Спина, на фоне рушащегося мира и жизни в развалинах, был образом бедного маленького человека, сгорбленного, седеющего и бледного, который, прихрамывая, ходит среди раздетых полей и испепеленных лесов с пустой охотничьей сумкой на плечевом ремне, с ружьем бесполезным, немым и побежденным.
Между тем, страшная мысль внезапно пришла в голову Спину. Что, если этот ужасный голос… если этот дикий голос был ничем иным, как голосом ружья? Если ружье, охваченное внезапным безумием, стало бегать по всем дорогам — в полях, лесах и на речных берегах, разрушая все вокруг этим голосом, новым, ужасным, бредовым? При одной этой мысли Спин почувствовал, что кровь стынет в его жилах. Угрожающий образ Мамели, вооруженного этим обезумевшим ружьем, возник перед его глазами: вот Мамели вкладывает в ствол патрон, поднимает оружие, прикладывается, нажимает на собачку. Ужасный гром вылетает из дула. Страшный взрыв потрясает весь город до основания, глубокие бездны распахиваются в земле, дома сталкиваются и рушатся с оглушительным треском среди густых облаков пыли.
В погребе все молчали, бледные и покрытые испариной; некоторые молились. Спин закрыл глаза и перепоручил свою душу Богу.
* * *
В этот день я находился в Панчево, у въезда в Белград. Огромное черное облако, поднимавшееся над городом, издали казалось крылом огромного ястреба. Это крыло трепетало и прикрывало небо своей обширной тенью. Закатное солнце било в нее наискосок, извлекая из этой тени кровавые и как бы закопченные лучи. Это было крыло ястреба, раненого насмерть, который пытается приподняться и борется, разрывая небо своими жесткими маховыми перьями. Там, отвесно над городом, раскинувшемся на лесистом холме, в глубине широкой равнины, которую бороздили ленивые желтые речки, юнкерсы пикировали без передышки, вытянув шеи, со страшным завыванием, и рвали клювами и когтями белые дома, высокие дворцы, сверкавшие на солнце своими стеклами, дома пригородов и предместий, стоявшие на равнине. Высокие фонтаны земли вздымались вдоль берегов Дуная и Савы. Над самой моей головой слышалось непрестанное ворчание моторов, нескончаемый свист металлических крыльев, сверкавших в последних лучах дня. На горизонте рождались отголоски этих диких тамтамов[484]. Далекие огни пожарищ там и здесь поднимались над равниной. Рассеянные сербские солдаты кучками бродили по деревням. Кое-где виднелись немецкие патрули; они шли, согнувшись, по траншеям, обыскивали заросли камышей и тростников по берегам прудов, окаймлявших Тимис. Вечер был бледный и мягкий. Распухшая луна медленно поднималась над холмами далекого горизонта, рождая светлые отблески в водах Дуная. И в то время, как из комнаты, которую я занимал в одном полуразрушенном здании, я смотрел, как эта луна медленно поднимается в небе (а небо было сверкающе-розовым, как ногти ребенка), вокруг меня слышался жалобный хор собак. Нет такого человеческого голоса, который мог бы сравниться с голосом собак, выражающим всеобщее страдание. Никакая музыка, даже самая ясная, не может выразить человеческое страдание с такой полнотой, как голоса собак. Это были ноты модулирующие, вибрирующие, удерживающиеся на одной нити долгого и равномерного дыхания, которое внезапно прерывалось глубоким и отчетливым рыданием. Это были призывы, растерянные призывы одиночества — среди болот, чащ, зарослей камыша и тростников, в которых ветер пробегал с трепетом и дрожью. На поверхности прудов плавали мертвецы. Позолоченные лунным светом вороны тяжко поднимались, бесшумно взмахивая крыльями с забытой на обочинах дорог лошадиной падали. Банды изголодавшихся собак бродили вокруг селений, в которых еще дымились, словно головешки, отдельные строения. Собаки пробегали галопом, этим тяжелым галопом, укороченным и свойственным испуганным собакам, поворачивая на бегу головы туда и сюда, с раскрытой пастью, покрасневшими и сверкающими глазами, и время от времени останавливались, жалобно завывая на луну. А луна, желтая и тучная, взмокшая от пота, медленно поднималась в небе, розовом и чистом, как ногти ребенка, освещая прозрачным и мягким светом разрушенные селения, опустевшие дороги и поля, усеянные мертвецами, а также белый город, там, посередине, прикрытый крылом черного дыма.
Мне пришлось провести три дня в Панчево. Потом мы продвинулись вперед, переправились через реку Тимис, пересекли полуостров, образуемый Тимисом при его впадении в Дунай, и остановились еще на три дня в городе Рата, на берегу большой реки, как раз напротив Белграда, возле скрученных железных конструкций разбитого моста, который носил имя короля Петра II[485]. Уносимые желтыми стремительными водами Дуная, крутились обожженные бревна зданий, матрасы, мертвые лошади, овцы, быки. Там, перед нами, в тучном запахе весны, на противоположном берегу клубы дыма поднимались над румынским вокзалом и кварталом Дучианово. Наконец наступил день, когда уже перед вечером капитан Клингберг с четырьмя солдатами переправился в лодке через Дунай и оккупировал Белград. Тогда и мы также переправились через полноводную реку, протежируемые торжественным жестом фельдфебеля, гроссдёйчланд дивизиона, который управлял всем речным движением (одинокий, главенствующий, абстрактный, он был похож на дорическую колонну, этот фельдфебель, стоявший на берегу Дуная, единственный арбитр великой переправы людей и машин), и мы вошли в город близ румынского вокзала, посередине проспекта принца Павла.
Зеленый ветер шумел в листве деревьев. Закат был близок, последние дневные лучи падали с серого и грязного, будто покрытого серым пеплом, неба. Я шел мимо такси и трамваев, стоявших на месте и полных трупами. Большие коты, сидевшие на подушках, рядом с телами, мертвенно-бледными и уже раздувшимися, пристально смотрели на меня своими уклончивыми и фосфоресцирующими взорами. Один желтый кот, мяуча, долго следовал за мной по тротуару. Я шел по ковру из битого стекла. Оно страшно трещало под моими ботинками. Время от времени мне навстречу попадался какой-нибудь прохожий, неуверенными шагами пробиравшийся по стенкам, поминутно осматриваясь вокруг. Никто не отвечал на мои вопросы, все смотрели на меня странными белыми глазами и исчезали, не оборачиваясь. На их перепачканных лицах застыл отпечаток не ужаса, но оцепенения.
Через полчаса должно было наступить время затемнения. Террасия была пустынной. Перед отелем «Балкан», на краю воронки от бомбы, стоял автобус, полный трупов, площадь Споменик и Королевский театр еще горели. Вечер был будто из непрозрачного стекла молочный свет озарял обрушенные дома и пустынные улицы, брошенные автомашины и трамваи, остановившиеся на путях. Там и здесь, среди мертвого города, слышались ружейные выстрелы, сухие и злобные. Когда я, наконец, добрался до итальянского посольства, уже наступила ночь. Здание на первый взгляд казалось нетронутым, потом взор начинал понемногу различать разбитые стекла, сорванные решетчатые ставни, исковерканные стены, крышу, приподнятую дыханием страшного взрыва. Я вошел и поднялся по лестнице. Внутри дом освещали маленькие масляные лампы, стоявшие на столах там и здесь, словно лампады, зажигаемые перед иконами. На стенах колебались тени. Итальянский посол Мамели сидел в кабинете, склонив над бумагами свое бледное исхудавшее лицо, окруженное желтым ореолом пламени двух свечей. Он пристально посмотрел на меня, подняв голову, как будто не веря своим глазам. — «Откуда ты? — спросил он. — Из Бухареста? Из Тимишоары[486]? Переправился через Дунай? Как это тебе удалось?» Он рассказал мне о страшной бомбардировке, ужасном избиении. — «Нам есть, чего стыдиться, — сказал он, — нам, являющимся союзниками немцев. В посольстве все переживали дни тревоги, готовясь к обороне здания и ожидая пока немецкие войска займут город, покинутый на произвол грабителей. Одна бомба, в тонну весом, упала как раз позади стены, ограждающей сад. Но слава Богу! — заключил посол, — все мы целы и живы. Нет даже ни одного раненого». — Я смотрел на него, пока он говорил: у него было два бледных круга вокруг глаз, лицо поджатое, веки красные от бессонницы. Мамели — маленький, худощавый, немного сгорбленный, уже много лет он ходил, опираясь на палку, потому что рана, полученная им на войне, заставляет его прихрамывать, а теперь он стал еще и приволакивать ногу. Сколько лет я его знаю? О! Больше двадцати! Это порядочный и добрый человек, Мамели, и я его очень люблю. Война обижает его как оскорбление, наносимое его достоинству, его христианским чувствам.
Внезапно он умолк, провел рукой по лицу.
— Идем обедать! — сказал он после долгой паузы.
Вокруг стола виднелись бледные лица, плохо побритые и влажные от пота. В течение ряда дней Мамели и служащие посольства жили, как в осажденной крепости. Теперь осада была снята, но не хватало воды, не было электричества и газа. Однако, лакеи в ливреях были безукоризненны, хотя я и замечал на их заспанных лицах что-то испуганное. Отблески свечей отражались в хрустальных бокалах, в серебре, на белой скатерти. Мы поели суп, немного сыра и апельсины. После обеда Мамели проводил меня в свой кабинет, и мы принялись беседовать.
— А где же Спин? — спросил я. Мамели грустно посмотрел на меня. Стыдливая тень промелькнула в его глазах.
— Он болен.
— О! Бедный Спин! Что с ним?
Мамели покраснел и ответил мне с озабоченным видом, не глядя мне в глаза.
— Я не знаю, что у него, он болен.
— Но это, быть может, не слишком серьезно?
— Да, конечно, это не серьезно, — поторопился ответить Мамели, — это, должно быть, не опасно.
— Хочешь, я пойду посмотрю на него?
— Мерси, но, право, не стоит, — ответил Мамели, краснея, — лучше оставить его в покое.
— Спин и я — мы старые друзья, ему доставит удовольствие меня видеть!
— Да, конечно, ему будет приятно тебя видеть, — сказал Мамели, поднося к губам свою рюмку виски, — но, может быть, все же лучше оставить его в покое.
— Но ему будет приятно встретиться со старым другом! — И, говоря это, я встал: «Где он? Пойдем, пожелаем ему доброй ночи!»
— Ты же знаешь характер Спина, — объяснил Мамели, не покидая своего кресла. — Он не любит, чтобы за ним ухаживали, когда он нездоров. Он не хочет ни докторов, ни сиделок. Он предпочитает поправляться сам, один! — И с этими словами он поднял бутылку «Джонни Валькера» и спросил, улыбаясь: — «Еще немного виски?»
— Спин не болен, — настаивал я. — Он настроен против тебя за то, что ты не берешь его на охоту. Ты стал ленив последнее время. Ты любишь спокойствие и никогда не выходишь из дома. Это дурной признак. Отвечай: это правда, что ты стал лентяем?
— Это неправда, — сказал Мамели, краснея. — Нет, это неправда! Я хожу с ним на охоту раз в неделю. Мы с ним чудесно гуляли все последнее время, мы ходили даже на Фруску Гору; мы провели три дня на природе, как раз месяц назад, перед отъездом моей жены. Он не сердится на меня, Спин. Я говорю тебе, что он болен.
— Идем навестим его, если так! — направился я к двери. — Где он?
— Он в погребе, — ответил Мамели, опуская глаза.
— В погребе?
— Да, в погребе, в убежище я хотел сказать.
— В убежище? — переспросил я, пристально глядя на Мамели.
— Я все испробовал, но он не хочет подняться, — произнес Мамели, не поднимая глаз. — Вот уже почти десять дней, как он внизу, в убежище.
— Он не хочет подняться? Так, значит это мы к нему спустимся.
Мы сошли по лестнице, освещая себе путь керосиновой лампой. В самом темном углу погреба, в самом укромном углу, на диванных подушках лежал Спин. Я заметил сперва блеск, мягкий и испуганный блеск его светлых глаз, потом я услышал постукивание его хвоста по подушке и, остановившись на последней ступени, я вполголоса спросил у Мамели:
— Но какого чёрта, что с ним произошло?
— Он болен, — отвечал Мамели.
— Ну да, но что с ним такое?
— Он боится! — сказал Мамели, понизив голос и краснея.
Спин действительно имел вид собаки, подавленной страхом, невероятным ужасом. Кроме того, к его страху присоединялось чувство стыда; едва только он меня увидел и узнал по моему запаху и моему голосу, он опустил уши и спрятался, уткнув голову в передние лапы и глядя на меня снизу вверх, тихонько шевеля хвостом, как делает собака, которая стыдится самое себя. Он похудел. Его ребра обтянулись кожей, у него были впалые бока и заплаканные глаза.
— О! Спин! — воскликнул я с жалостью и упреком. Спин умоляюще смотрел на меня, взглянул с разочарованным выражением на Мамели и тогда я понял, что он полон самых запутанных чувств: страх, разочарование, сожаление, а также немного жалости, да, легкого сострадания.
— Это не только страх, — понял я, — тут есть и нечто другое!
— Нечто другое? — спросил Мамели с живостью, как будто даже обрадованно.
— Это не только страх, — продолжал я, — в нем живет чувство более таинственное и более глубокое. Я подозреваю и надеюсь, что это не только страх. Страх — чувство низкое. Нет, — добавил я, — это не один только страх.
Спин слушал меня, насторожив уши.
— Мне это больше по душе, — сказал Мамели. — Ты снимаешь большой камень с моего сердца. У нас никогда еще не было низких. Это был бы первый случай низости в нашей семье. Мы все — Мамели — мы всегда были смелыми. Для меня было бы большим горем, если бы Спин оказался недостойным того имени, которое он носит — имени Мамели!
О! Я убежден, что Спин — достойный носитель традиций твоей семьи. Не так ли, Спин? You are a brave dog, aren’t you?[487] — сказал я ему на его родном языке, лаская его лоб. Спин смотрел на меня, шевеля хвостом. Потом он посмотрел на Мамели своими глазами, полными разочарования, жалости, сожаления, взглядом, полным почтительных упреков.
— Спокойной ночи, Спин! — сказал я ему.
Мы с Мамели снова поднялись в его рабочий кабинет и сели в кресла перед угасшим огнем. Мы долго сидели молча, куря и выпивая. Время от времени Мамели вздыхал, поглядывая на меня. — «Завтра утром, — заговорил я, — вот увидишь, Спин будет здоров. У меня есть чудесное лекарство!» С этими словами я встал, и Мамели проводил меня до постели. Печальным голосом он сказал мне: «Спокойной ночи!» И я услышал, как он удаляется своими легкими, немного неуверенными шагами; у меня осталось впечатление, что он прихрамывал сильнее обычного.
Мне постелили на диване в гостиной, находившейся рядом со столовой. Я снял ботинки и бросился на подушку. Но мне не удавалось уснуть. Через большую стеклянную дверь, отделявшую гостиную от столовой, я видел во тьме мягкий блеск хрустальных стаканов и рюмок, фарфор и серебряные блюда. Диван мой стоял в углу, под большой картиной, изображавшей библейский эпизод с женой Потифара[488]. Плащ целомудренного Иосифа[489] был прекрасным плащом из красной шерсти, теплым и мягким. У меня же не было ничего, кроме моего непромокаемого, промокшего насквозь под дождями и покрытого грязью. В движении похотливой супруги Потифара мне виделся лишь жест милосердия, как если бы грешницей владело не порочное желание, а доброе и благородное стремление взять у Иосифа его плащ, чтобы набросить этот плащ на мои плечи. Шаги немецких дозоров тяжело отдавались на пустынной улице. Около часа ночи кто-то стал стучаться в двери болгарского посольства, расположенного как раз напротив итальянского. — «Тихо! Не шумите! — сказал я в полусне. — Не будите бедного Спина. Спин в это время спит, you are a brave dog, aren’t you?» И вдруг усталость сделала свое дело, и я головой вперед упал в сон.
Утром я сказал Мамели: — Возьми свое охотничье ружье!
Мамели пошел в коридор, снял со стены ружье, открыл его и продул стволы.
— А теперь, — сказал я, — идем за Спином.
Мы спустились по лестнице и остановились на пороге погреба. Едва только Спин увидел Мамели с ружьем в руке, он опустил глаза, спрятал нос в передние лапы и стал тихо скулить голосом ребенка.
— Идем, Спин! — сказал я.
Спин смотрел на ружье расширенными глазами и дрожал.
— Вставай, Спин! Идем! — повторил я тоном вежливой укоризны. Но Спин не двигался; он смотрел на ружье расширенными глазами и дрожал от страха.
Тогда я поднял его на руки. Он дрожал, как напуганный ребенок, и жмурился, чтобы не видеть ружья за плечами у Мамели. Мы медленно поднялись по лестнице и вышли в вестибюль. Там нас ожидал папский нунций в Белграде монсиньор Фелици и посол США мистер Блисс-Лэн. Узнав о моем прибытии и о том, что я в этот же день уезжаю в Будапешт, они поспешили в посольство, чтобы просить меня отвезти туда некоторые бумаги. Блисс-Лэн держал в руках большой желтый конверт, который он просил меня передать в посольство Соединенных Штатов в Будапеште. Кроме того, он дал мне текст телеграммы, которую я должен был послать из венгерской столицы мистрисс Блисс-Лэн, которая в эти дни находилась у своей приятельницы во Флоренции. Монсиньор Фелици также просил меня передать его пакет в папскую нунциатуру Будапешта.
— Прежде всего, — сказал я, — мне нужно позаботиться о Спине, который очень болен. Мы поговорим о ваших пакетах позже.
— О, конечно! — согласился монсиньор Фелици. — Прежде всего надо позаботиться о Спине!
— Кто такое Спин? — спросил посол Соединенных Штатов, вертя в руках свой большой желтый конверт.
— Кто такое Спин? Вы не знаете Спина? — удивился монсиньор Фелици.
— Спин болен, — сказал я, — его надо вылечить!
— Я надеюсь, вы не собираетесь убить его? — спросил Блисс-Лэн, указывая на ружье, которое Мамели конвульсивно сжимал в руке.
— Нам будет достаточно одного патрона! — сказал я.
— Но это ужасно! — воскликнул Блисс-Лэн с негодованием.
Сначала я пошел в сад и положил Спина на гравий одной из аллей, продолжая держать в руке его поводок. Спин попытался удрать. Он крутился, стараясь освободиться от поводка, и тихо скулил детским голосом. Но когда он увидел, что Мамели открывает ружье и вкладывает в ствол патрон, Спин, дрожа, распластался на земле и закрыл глаза. Монсиньор Фелици повернулся к нам спиной, отошел на несколько шагов в сад, потом остановился и опустил голову на грудь.
— Ты готов? — спросил я у Мамели.
Все отошли от нас: Гуидотти, принц Руффо, граф Фабрицио Франко, Баваи, Коста, Коррадо Софиа. Все молчали и смотрели на ружье, которое Мамели сжимал обоими трясущимися руками.
— Это отвратительно, то, что вы делаете! — сказал Блисс-Лэн сдавленным голосом. — Это отвратительно!
— Стреляй! — приказал я Мамели.
Мамели медленно поднял свое ружье. Все затаили дыхание. Спин, распластавшись на земле, тихонько плакал. Мамели медленно поднял ружье, приложился, прицелился, выстрелил.
Ружейный выстрел раздался короткий и чистый среди деревьев сада. Мамели целился в дерево. Стайка воробьев поднялась с испуганным писком, несколько листьев оторвалось от веток и тихо крутилось в пасмурном небе. Спин приподнял уши, открыл глаза и осмотрелся кругом. Это был знакомый голос, дружественный голос ружья, который спокойно отдался в его ушах. Все снова пришло в порядок, существовавший ранее, вернулось к гармонии прошлого. Природа не была опрокинута ужасным, грозным, безумным голосом обезумевшего ружья: она снова безмятежно улыбалась. Когда Мамели заложил в ствол патрон, Спин почувствовал, как кровь застыла в его жилах от ожидания, что из дула вырвется этот громовой удар, который опрокидывает всю природу, разрушает мир, населяет землю развалинами и скорбью. Он закрыл глаза и весь дрожал в тоске. Но вот ружье, наконец, выздоровевшее от своего чудовищного безумия, испустило свой старинный, знакомый клич среди этой успокоенной природы. Спин поднялся и, виляя хвостом, посмотрел вокруг с удивлением и еще не рассеявшимся недоверием, потом он фыркнул и стал бегать по саду с радостным лаем, подбежал и положил передние лапы на грудь Мамели и весело тявкнул в сторону ружья.
Мамели был немного бледен.
— Идем, Спин! — сказал он. И они вместе со Спином пошли вешать ружье на стену в коридоре.
Часть IV ПТИЦЫ
XII. СТЕКЛЯННЫЙ ГЛАЗ
Принцесса Луиза Прусская, внучка кайзера Вильгельма II (ее отец, принц Иоахим Гогенцоллерн, умерший за несколько лет до того, был младшим братом кронпринца), должна была в этот вечер прибыть, вместе с Ильзой, чтобы встретиться со мной на Потсдамском вокзале.
— Мы приедем в Литцензее на велосипедах, — телефонировала мне Ильза.
Стоял весенний вечер, влажный и теплый. Когда я сошел с берлинского поезда, шел небольшой дождь, наполнявший зеленеющий воздух серебряной пылью. Дома в глубине площади казались сделанными из алюминия. Группы офицеров и солдат стояли перед вокзалом. Пока я рассматривал пропагандистский плакат «Лейбстандарта» Адольфа Гитлера, висевший в здании вокзала (на плакате два эсэсовца, вооруженные автоматами, с готическими лицами, гладкими и острыми, с лбами, прикрытыми большими стальными шлемами, с холодным и жестоким блеском в их серых глазах, резко вырисовывались на фоне домов, охваченных пламенем, скелетов деревьев и орудий, утопавших до самых осей в грязи), я почувствовал чью-то руку, опершуюся на мой локоть.
— Добрый вечер, — сказала Ильза. Ее щеки покраснели от езды на велосипеде, и белокурые волосы были взлохмачены ветром. — Луиза ждет нас на улице. — Она улыбнулась и добавила: — She’s very sad, poor child, be nice to her.[490]
Луиза прислонила оба велосипеда к газовому фонарю и ждала нас, положив руку на руль одного из них.
— Как вы поживаете? — спросила она по-французски, на этом французском, обычном в Потсдаме[491], — жестком и застенчивом. Она смотрела на меня снизу вверх, улыбаясь, слегка склонив голову на плечо. Она спросила, нет ли у меня булавки? Увы! У меня тоже не было булавки. «Во всей Германии невозможно найти булавку», — сказала она, смеясь. (Она едва заметно разорвала свою юбку и казалась очень озабоченной этим событием). На ней была маленькая тирольская шапочка из зеленого фетра, сдвинутая на затылок, твидовая юбка табачного цвета, кожаная курточка мужицкого покроя, которая сжимала ее грудь, подчеркивая тонкую талию и узкие бедра, на босых ногах были сандалеты на деревянной подошве. Она была рада видеть меня снова. — Почему бы мне ни поехать с ней вместе в Литцензее? Ей, вероятно, удалось бы раздобыть для меня на время велосипед, и я провел бы ночь в замке. Но я не мог; я должен был следующим утром уехать в Ригу и в Хельсинки.
— Разве вы не можете немного задержать ваш отъезд? Там очень красиво — в Литцензее; собственно говоря, это не дворец, а старинный дом в усадьбе, окруженной великолепным лесом. Там, в лесах Литцензее, лани и олени бродят целыми семьями; природа там очень хорошая, совсем нетронутая…
Мы направились к центру города. Я шел рядом с Луизой, опиравшейся на свой велосипед. Дождь прекратился. Вечер был мягкий и ясный, хотя и безлунный. У меня было впечатление, что я иду рядом с молоденькой девушкой в предместьях моего родного города, что я снова стал юношей в Прато[492], и вечером, в час, когда работницы покидают фабрики, хожу, дожидаясь Бианку, на тротуаре Фаббрицоне за Порта дель Серраглио, и потом, провожая ее, иду с ней рядом, опираясь на свой велосипед. Местами на тротуаре было грязно, но Луиза шла, не обращая внимания на грязь; с беззаботностью девушки из народа, она ставила ноги в лужицы, так, как это делала Бьянка. Бледные и далекие звезды уже появлялись в небе, еще слегка затянутом облаками, птицы в ветвях деревьев щебетали нежно и весело, и в глубине долины слышался голос реки, словно шум занавеса, колеблемого ветром. Мы остановились на мосту и наклонились над парапетом, чтобы посмотреть на воду. Лодка, уносимая течением, вплывала под арку моста, в ней сидели два солдата. Луиза, опираясь на мраморный парапет, смотрела, как вода тихо струится между травянистыми берегами. Она наклонялась над парапетом, привстав на цыпочки, совсем так, как это делала Бьянка, на мосту Меркатале, чтобы посмотреть на воды Бисенцио, текущие вдоль высокой красной стены, окружающей город. Я покупал для Бьянки пакетик волчьих бобов — люпина, или тыквенных семечек, и она забавлялась, выплевывая шелуху в реку.
— Если бы мы были в Италии, — сказал я Луизе, — я купил бы вам два пакетика волчьих бобов или тыквенных семечек. Но в Германии не найдешь ни одного тыквенного семечка. Луиза, вы любите волчьи бобы и соленые семечки?
— Когда я была во Флоренции, я каждый день покупала пакетик семечек на углу улицы Торнабуони. Но все это теперь кажется сказкой.
— Почему бы вам ни поехать провести ваш медовый месяц в Италии, Луиза?
— А! Вы уже знаете, что я выхожу замуж? Кто вам сказал?
— Это Агата Ратибор сказала мне на днях. Поезжайте на Капри, ко мне, Луиза. Я буду далеко, в Финляндии. Вы будете хозяйкой дома. Воздух на Капри действительно сладок, как мед.
— Я не могу, у меня отобрали мой паспорт. Мы не можем выехать из Германии; в Литцензее мы живем, точно в изгнании… Жизнь принцев императорской крови была не слишком легкой. Они не могли покидать свою резиденцию и удаляться от нее больше, чем на несколько километров. Луиза смеялась, склоняя голову на свое плечо. Чтобы поехать в Берлин, ей приходилось испрашивать особое разрешение.
Деревья отражались в реке. Воздух был мягким, его освещала легкая вуаль серебристого тумана. Мы уже далеко отошли от моста, когда один молодой офицер остановился и приветствовал нас. Это был высокий белокурый молодой человек с открытым и улыбающимся лицом.
— О! Ганс! — сказала Луиза, краснея. Это был Ганс Рейнгольд. Стоя в положении «смирно» перед Луизой, с жестко вытянутыми вдоль бедер руками, он, улыбаясь, смотрел на девушку; мало-помалу его лицо медленно повернулось, как бы притягиваемое внешней силой, не зависящей от его воли, к взводу солдат, который приближался строевым шагом, сильно отбивая каблуками по асфальту. Это были его солдаты, возвращавшиеся с ученья в казарму.
— Почему ты не идешь с нами, Ганс? — спрашивала его Луиза.
— Я еще не кончил играть в солдатики. И я сегодня вечером занят по службе, — сказал Ганс. Теперь его взор скользил и не останавливался больше на Луизе; он следил за солдатами, которые удалялись, сильно отбивая шаг по асфальту улицы.
— До свидания, Ганс, — сказала Луиза.
— До свидания, Луиза! — ответил Ганс. Он поднял руку к козырьку своей фуражки, отдавая приветствие Луизе в деревянной манере Потсдама, затем повернулся в сторону Ильзы и мою, сказал «До свидания, Ильза!», приветствовал меня легким наклоном верхней части туловища, догнал рысью свое подразделение и исчез в глубине улицы.
Луиза шла молча. Слышалось только шуршание велосипедных шин на влажном асфальте, урчанье автомобиля на отдаленной улице, шаги прохожих на тротуаре. Ильза тоже молчала, время от времени встряхивая своей маленькой светло-русой головкой. Но порой, то здесь то там человеческий голос прерывал тишину (эти постоянные аккорды приглушенных звуков, фрагменты звуков, которые и составляют вечернюю тишину провинциального городка). Это был правда человеческий голос, находившийся в гармонии с этими аккордами звуков, именно человеческий голос, и ни что иное, как человеческий голос, простой и одинокий.
— Ганс должен ехать на фронт в будущем месяце, — сказала Луиза. — У нас как раз остается время на то, чтобы сыграть свадьбу. И после минутного колебания она добавила: «Эта война..». Потом умолкла.
— Эта война вас пугает, — сказал я.
— Нет, не в том дело. Это неправда — то, что вы говорите. Но есть в этой войне что-то…
— Что? — спросил я у нее.
— Ничего. Я хотела сказать… Но это бесполезно.
Мы подошли к ресторану, тому, что возле моста. Мы вошли. Зала была полна. Мы прошли и заняли место в глубине отдельного маленького зала, где несколько солдат сидели молча кругом столика, и две девушки, еще почти девочки, обедали в компании со старой дамой, быть может своей гувернанткой. У них были длинные светлые волосы, заплетенные в косы, лежавшие на спине, и накрахмаленные белые воротнички, опущенные на серые платья пансионерок.
Луиза казалась смущенной. Она осматривалась вокруг, как будто кого-то разыскивая, и время от времени с печальной улыбкой поднимала на меня глаза. Внезапно она заявила: — «Я не могу больше!» В ее простой грации была тень холодной суровости, той суровости, которая всегда присутствует в потсдамском характере, в барочной архитектуре Потсдама, в светлой штукатурке его храмов, дворцов, казарм и учебных заведений, его домов, одновременно царственных и буржуазных, подпирающих влажную и плотную зелень деревьев.
С Луизой я чувствовал себя свободно и просто, как с девушкой из народа, с работницей. Вся грация Луизы заключалась в ее простоте девушки из народа, в ее печали, немного застенчивой, печали, рожденной жизнью, лишенной радостей, вечной усталостью, усталостью многих дней, сумраком существования жесткого и бесцветного. В ней ничего не было от этой оскорбленной гордыни, печального самоотречения, ничего от ложного смирения, этой горделивой стыдливости, этой внезапной обидчивости, в которых люди среднего сословия охотно видят признаки падшего величия, но печальная простота, нечто вроде деликатного бессознательного терпения, блеск, слегка завуалированный, благородная невинность прошлого, темная скрытая сила того постоянства, что всегда таится в глубине гордости. Я чувствовал себя с ней просто и свободно, как с одной из этих работниц, которых по вечерам встречаешь в вагонах метро или на туманных улицах предместий Берлина, у ворот заводов, в час, когда немецкие работницы выходят группами и идут униженные и печальные, а на некотором расстоянии, вслед за ними, движется безрадостная и молчаливая толпа полуобнаженных и босоногих растрепанных девушек, которых немцы депортировали в качестве пленниц, после грабительского захвата белых рабынь в Польше, на Украине, в России.
Руки Луизы были мягкими и нежными, с ногтями бледными и прозрачными. У нее были тонкие запястья: на них виднелось это переплетение голубых вен, которые сходятся к запястью от линий кисти. Одну руку она положила на скатерть и смотрела на гравюры, развешанные по стенам зала. Это были самые знаменитые из высокородных представителей «хохшуле»[493] Вены, изображенные Верне[494] или Адамом[495], одни — в положении парадного испанского шага, другие — галопирующими среди пейзажа из голубых деревьев и зеленых вод. Я смотрел на руку Луизы. Это была рука одной из представительниц рода Гогенцоллернов. И я узнавал в ней руки Гогенцоллернов[496]: маленькие, с их провинциальной нежностью, они были пухлыми, с большим пальцем, отогнутым назад, очень коротким мизинцем, и средний палец на них был только чуть длиннее по сравнению с остальными. Но рука Луизы покраснела и была разъедена стиркой. Покрытая тонкими складками и изрезанная трещинами, она напоминала руки польских и украинских работниц, которых я видел сидящими на земле, вдоль стены, окружавшей литейный завод, поедающими небольшие куски черного хлеба, в день, когда я побывал в предместьях Рюлебена[497]. Они напоминали мне руки «белых рабынь» с востока, работниц русских металлургических заводов, которые под вечер заполняли тротуары заводских кварталов Панкова[498] и Шпандау[499].
— Не сможете ли вы привезти мне из Италии, или из Швеции, немного мыла? — спросила меня Луиза, пряча свою руку. — Я должна сама заниматься стиркой, стирать мои чулки и белье. Немного простого кухонного мыла. — И она добавила после смущенного молчания: — Я предпочла бы лучше работать на фабрике, простой работницей. Я не могу больше выносить это существование маленькой буржуазки.
— Ваша очередь быстро наступит, — сказал я ей. — Вас тоже направят работать на завод.
— О! Нет! Они не хотят и слышать об одной из Гогенцоллернов! Мы — парии в этой новой Германии. Они не знают, что им делать с императорскими высочествами, — добавила она с оттенком презрения.
В эту минуту двое солдат, с глазами, закрытыми черными повязками, вошли в залу. Их сопровождала санитарка, которая вела их за руки. Они заняли столик неподалеку от нашего и сидели неподвижные и молчаливые. Время от времени санитарка оборачивалась и смотрела на нас. Потом, понизив голос, она что-то сказала слепым солдатам, которые повернули головы к нам.
— Как они молоды! — сказала Луиза тихо. Можно сказать — двое детей.
— Им повезло: война их не сожрала. Война не пожирает трупов; она пожирает только живых солдат. Она пожирает ноги, руки, глаза живых солдат, и почти всегда в то время, когда они спят. Она поступает точно так же, как поступают крысы. Но люди более цивилизованны: они никогда не едят живых людей. Они, неизвестно почему, предпочитают есть трупы. Быть может оттого, что должно быть, очень трудно есть живого человека, даже и в то время, когда он спит. В Смоленске я видел нескольких русских пленных, которые ели трупы своих товарищей, умерших от голода и холода. Немецкие солдаты смотрели на них молча, с самым милым и почтительным выражением, какое только бывает на свете. Немцы полны человечности, не правда ли? Это не было их виной: им было нечем накормить пленных. Вот, почему они стояли, глядя на них, и качали головами, повторяя: «Арме лёйте![500] Бедняги!» Немцы — народ сентиментальный и самый цивилизованный на свете. Немецкий народ не пожирает трупов. Цивилизованный народ не ест трупов. Он пожирает живых людей…
— Я прошу Вас, не будьте так жестоки, не рассказывайте мне подобных ужасов, — сказала Луиза, беря меня за руку. Я почувствовал, как она дрожит, и на мгновение испытал ощущения ярости и жалости.
— Голод был жестоким, — продолжал я, — и меня стало рвать. Мне было стыдно перед немцами за свою слабость. Немецкие солдаты и офицеры смотрели на меня с презрением, как смотрели бы на какую-нибудь бабенку. А я краснел, я хотел извиниться за это мгновение слабости, но моя рвота мешала мне извиниться перед немцами.
Луиза молчала. Я чувствовал, как дрожит ее рука, опиравшаяся на мою. Она закрыла глаза; казалось, она перестала дышать. Наконец, продолжая дрожать и все еще не раскрывая глаз, она сказала:
— Иногда я спрашиваю себя, не несет ли и моя семья ответственность за все, что происходит сегодня. Как вы думаете, мы — Гогенцоллерны, ведь и на нас лежит часть ответственности?
— На ком не лежит ответственность? Я не Гогенцоллерн и, однако, я думаю, что и на мне тоже лежит часть ответственности за то, что происходит сегодня в Европе.
— Иногда я задаю себе вопрос, обязана ли я, будучи немкой, любить немецкий народ? Одна из Гогенцоллернов должна любить немецкий народ, не так ли?
— Вы не обязаны любить его. Но немцы все же очень милы.
— О, да! Они очень милы, — улыбнулась Луиза.
— Хотите, я расскажу вам историю про стеклянный глаз?
— Я не хочу слушать жестоких историй, — сказала Луиза.
— Это не жестокая история. Это немецкая история, сентиментальная история.
— Говорите тихо, — попросила Луиза, — эти двое слепых могут нас услышать.
— Разве вы думаете, что на свете есть что-нибудь милее слепых? Впрочем, да, на свете есть нечто еще более милое — это люди со стеклянным глазом. И все же я видел в Польше прошлой зимой людей еще более милых, чем слепцы, или чем люди со стеклянным глазом. Я был в Варшаве, в кафе «Европейское». Я только что вернулся со Смоленского фронта смертельно усталым: тошноты мешали мне спать. По ночам я просыпался от резких болей в желудке; у меня было ощущение, что я проглотил какое-то животное, и что это животное грызет мои внутренности. Это было так, как если бы я проглотил кусок живого человека. Я проводил долгие часы с устремленными во тьму глазами. Итак, я был в Варшаве, в кафе «Европейское». Оркестр играл старые польские и венские мелодии. За соседним столиком сидели несколько немецких солдат с двумя санитарками. Публика, заполнявшая кафе, была обычной публикой, многочисленной и несчастной, полной достоинства и рыцарственной печали, той, которую встречаешь во всех концах польской столицы в эти годы нищеты и рабства. Мужчины и женщины, с осунувшимися лицами, сидели за столиками, слушая музыку или тихо разговаривая между собой. На всех было поношенное платье, застиранное белье, стоптанная обувь. В их манерах было то благородство, свойственное польской нации, которое самым обычным движениям, словно отраженным в смутном старинном зеркале, придает античную грацию и благородство.
Но женщины были особенно чудесны в их благородстве и простоте, полной величия и гордости, которая вуалировала на их лицах бледность, проистекавшую от голода. У них были усталые улыбки. Но не было ни тени мягкости, покорности, выражения, возбуждающего жалость, абсолютно ничего униженного в этой усталой улыбке их страдальческих губ. У них был взгляд глубокий и ясный, и вместе с тем грозный. Они походили на раненых птиц, на плененных птиц, на этих чаек, подавленных неизбежностью бури, которые летят, белоснежные, в черном небе над морем и чьи крики смешиваются с шумом волн и порывами ветра. За столиком, соседним моему, сидели немецкие солдаты с вытаращенными глазами, и одно и то же выражение на их лицах не изменялось. В их пристальном взоре я видел, как странно расширялись и суживались зрачки, и я заметил, что они не мигают ресницами. А между тем, они не были слепы. Некоторые из них читали газеты, другие внимательно смотрели на музыкантов оркестра, на людей, входивших и выходивших из кафе, на гарсонов, двигавшихся между столиками, и сквозь потускневшие стекла больших окон — на огромную, пустынную под снегом площадь Пилсудского.
Внезапно я с ужасом заметил, что у них нет век. Я уже видел солдат без век несколькими днями ранее, в дебаркадере[501] Минского вокзала, при моем возвращении из Смоленска. Жестокий холод этой зимы приводил к самым странным последствиям. Тысячи и тысячи солдат теряли от морозов уши, носы, пальцы, половые органы. Многие потеряли все свои волосы. Можно было встретить солдат, облысевших за одну ночь, другие теряли волосы целыми прядями, словно зашелудивев. Многие потеряли веки. Сожженные холодом веки отрывались, словно лепестки мертвой кожи. Я с ужасом наблюдал в Варшаве глаза этих несчастных солдат в кафе «Европейское», эти зрачки, которые расширялись и суживались посреди глаза, выпученного и пристального в напрасном усилии избежать яркого света. Я думал о том, как эти бедняги спят, — с широко открытыми глазами, устремленными в мрак, думал о том, что их веками была ночь, что это были глаза, вытаращенные и пристальные, что они переживали дни, стремясь к встрече с ночами, что они сидели на солнце, ожидая, когда ночная тень опустится, словно веки, на их глаза, и что участью этих несчастных было безумие, что только безумие могло дать немного покоя их глазам, лишенным век…
— О! Довольно, — почти воскликнула Луиза. Она смотрела на меня расширенными зрачками странно белых глаз.
— Вы не находите, что все это мило, очень мило? — спросил я, улыбаясь.
— Замолчите! — прошептала Луиза. Она закрыла глаза, и я видел, что она дышала с трудом.
— Позвольте мне рассказать вам историю стеклянного глаза.
— Вы не имеете права делать мне больно, — сказала Луиза.
— Это всего лишь христианская история, Луиза! Разве вы не принцесса Императорского дома Германии, одна из Гогенцоллернов, и разве не, что называется, девушка их хорошей семьи? Почему бы я не должен был рассказать вам христианскую историю?
— Вы не имеете права, — произнесла Луиза резко.
— Позвольте мне, по крайней мере, рассказать вам детскую историю, — продолжал я.
— О! Я прошу Вас: замолчите, — настаивала Луиза. — Вы не видите, что я вся дрожу? Вы меня пугаете.
— Это история о неаполитанском ребенке и английских летчиках, — сказал я, — милая история. Есть известная прелесть даже в войне.
— Что в войне самое ужасное, — сказала Ильза, — это именно то, что в ней мило. Я не люблю смотреть, как улыбаются чудовища.
— В начале войны я находился в Неаполе, когда начались первые воздушные бомбардировки. Однажды вечером я отправился навестить одного из моих друзей, который живет в Вомеро. Вомеро — это высокий откос над городом, где начинается и спускается к морю холм Позилиппо. Это волшебное место. Всего несколько лет назад это было место еще дикое, усеянное отдельными домишками и виллами, тонувшими в зелени. Каждый домик имел свой огород, маленький виноградник, несколько масличных деревьев. На террасах склона произрастали баклажаны, томаты, зеленая капуста, горошек, там благоухали базилик, розы и розмарин. Розы и томаты из Вомеро не уступали ни в своей красоте, ни в славе античным розам Пестума[502] и томатам Помпеи[503]. Сегодня огороды стали садами. Но посреди огромных зданий из железобетона и стекла несколько вилл прошедших времен и смиренных крестьянских домишек существует и поныне, и порой зелень одинокого огорода скромно выделяется на фоне синевы залива, огромного и бледного. Там, как раз напротив, среди моря, в серебристом тумане, поднимается Капри, справа — Ишия, со своим высоким Ипомео, слева, сквозь прозрачное стекло моря и неба виден берег Сорренто[504], а еще левее — Везувий, этот благородный идол, нечто вроде огромного Будды, сидящего на берегу залива. Проходя по улицам Вомеро, там где Вомеро меняет свое имя и становится холмом Позилиппо, можно среди домов и деревьев увидеть сосну, одинокую и античную, осеняющую могилу Виргилия. Именно в этой стороне мой друг имел деревенский домик и маленький огород.
Ожидая, пока будет готов обед, мы сидели в огороде, курили и мирно разговаривали в беседке из виноградных лоз. Солнце уже зашло, и небо мало-помалу угасало. Место, пейзаж, час, время года были как раз такими, какие воспевал Санназар[505], воздух был именно деревенским воздухом Санназара, когда запах моря и аромат деревенских садов смешиваются в нежном восточном ветерке. Когда вечер начинал подниматься с моря, с большими букетами фиалок (море вечером кладет на выступы окон большие букеты фиалок, уже увлажненные ночной росой, которые благоухают всю ночь, наполняя комнаты приятным морским дыханием), мой друг заявил: — «Эта ночь будет ясной. Они непременно прилетят. Мне надо будет разместить в саду подарки английских летчиков». Я не понял и был очень удивлен, глядя на то, как мой приятель зашел в дом и вынес оттуда куклу, маленькую деревянную лошадку, музыкальную трубу и два пакетика с конфетами. Ничего мне не говоря, и, по-видимому, забавляясь моим удивлением, он заботливо расположил все это там и здесь, между кустами роз и латуком[506], на гравии маленькой аллейки и на краю бассейна, где слабо светилось целое семейство золотых рыбок.
— Что это ты собираешься делать? — спросил я.
Он посмотрел на меня серьезно, хотя и улыбался. И затем он рассказал, что его двое детей (в это время они уже спали) были охвачены ужасом при первых бомбардировках, что здоровье младшего тогда серьезно пошатнулось, и тогда он придумал преобразить в детский праздник страшные бомбардировки Неаполя. Как только ночью начинали завывать сирены, мой друг и его жена выскакивали из постелей, брали на руки обоих малышей и радостно кричали: «Как хорошо! Как хорошо! Английские самолеты прилетели, чтобы сбросить для вас подарки!» Они спускались в погреб — несчастное и тщетное убежище — и, прижавшись там друг к другу, коротали эти тревожные смертельные часы, смеясь и повторяя «как хорошо!», пока дети не засыпали, счастливые, чтобы увидеть во сне подарки английских пилотов. Время от времени, когда взрывы бомб и грохот обваливающихся зданий становились более близкими, двое маленьких просыпались, и отец говорил им: «Вот, вот, они уже близко, они готовы сбросить ваши подарки». Оба ребенка хлопали в ладоши и кричали: «Я хочу куклу! Я хочу саблю! Папа, как ты думаешь, а англичане привезут мне маленькую лодку?» Ближе к рассвету, когда шум моторов, понемногу стихая, удалялся, отец и мать брали за руки обоих детей и вели их в сад. «Теперь ищите! — говорили они. — Наверное, это упало в траву». Двое малышей искали среди розовых кустов, грядок латука и посадок томата, и находили там — куколку, там — маленькую деревянную лошадку, дальше — пакетик с конфетами. Отныне дети уже не боялись бомбардировок; они с нетерпением их ожидали и воспринимали с радостью. Иногда, по утрам, обыскивая садик, они находили в траве даже маленький аэроплан с заводной пружинкой, и это, конечно, был бедный английский самолет, который эти противные немцы сбили своими пушками, в то время как он бомбардировал Неаполь, чтобы доставить радость неаполитанским детям.
— О! How lovely![507] — воскликнула Луиза, хлопая в ладоши.
— А теперь, — сказал я, — я расскажу вам историю Зигфрида[508] и кошки. История Зигфрида и кошки не понравилась бы этим двум неаполитанским детям, но вам она очень понравится. Эта немецкая история, а немцы любят немецкие истории.
— Немцы любят всё немецкое, — сказала Луиза, а Зигфрид — это немецкий народ.
— А кошка, Луиза, — чем может быть кошка? Может ли и она также быть чем-то вроде Зигфрида?
— Зигфрид — единственный, — ответила Луиза.
— Вы правы: Зигфрид — единственный, а все остальные народы — кошки. Так слушайте же историю про Зигфрида и кошку. Я находился в селении Рита, возле Панчева, близ Белграда, и ждал переправы через Дунай. Несколько автоматных выстрелов раздавалось среди этого светлого апрельского утра, натянутого словно экран из прозрачного полотна между охваченным пламенем городом и нами. Отряд эсэсовцев ожидал приказа форсировать переправу. Они все были очень молоды, у всех у них были готические треугольные лица, с остроконечными подбородками, точеным профилем, и взгляд их светлых глаз был чистым и жестоким взглядом Зигфрида. Они сидели, молча, на берегу Дуная, повернув головы к костру пылающего Белграда, уставив свои автоматы между коленями. Один из них сидел в стороне, ближе к тому месту, где сидел я. Это был юноша, примерно лет восемнадцати, не более того, белокурый, голубоглазый, с алыми губами, освещенными улыбкой холодной и невинной. Его глаза были удивительного чисто синего цвета. Мы разговорились. Мы толковали о жестокости войны, о развалинах, всеобщем трауре, избиениях. Он рассказал мне, что новобранцы эсэсовского лейбстандарта увлекаются тем, чтобы, не сморгнув, выдерживать зрелище страданий другого. Он добавил, что рекрут эсэс не достоин быть сопричисленным к лейбстандарту, если он с честью не выйдет из испытания с кошкой. Новобранец должен захватить левой рукой за шкуру на спине живую кошку, оставив ее лапы свободными, чтобы она имела возможность защищаться, а правой рукой, вооруженной ножом, вырвать у нее глаза. Вот как учатся убивать евреев.
Луиза схватила меня за руку. Ее ногти впивались в меня сквозь сукно мундира.
— Вы не имеете права… — сказала она тихо, повернув свое бледное лицо к двум слепым солдатам, которые ели молча, слегка откинув головы назад. Сиделка им помогала, легкими неторопливыми движениями направляя неуверенные жесты их рук и притрагиваясь кончиками пальцев к тыльной стороне их рук, всякий раз, как только их нож или вилка, начинали блуждать по краю тарелок.
— О! Луиза, я прошу вас извинить меня, — сказал я, — у меня также есть отвращение к жестокости. Но есть некоторые вещи, которые вам следует знать. Вы должны узнать, что и кошки также, в известном смысле, принадлежат к той же породе, что и Зигфрид. Вы никогда не думали о том, что и Христос также, в известной мере, — то же, что и Зигфрид? Что Христос — это распятая кошка? Вы не должны верить, хотя в этой вере и воспитаны все немцы, что Зигфрид — единственный, что все остальные народы — кошки. Нет, Луиза. Зигфрид тоже принадлежит к расе кошек. Знаете ли Вы происхождение слова: капутт? Это слово произошло от еврейского коппарот, что означает жертва. Кошка — это коппарот; это жертва, это обратное понятие по отношению к Зигфриду, это Зигфрид, принесенный в жертву, распятый. Бывает время, и это время всегда наступает, когда Зигфрид — и он также, Зигфрид — единственный, становится кошкой, становится коппарот, жертвой, становится капутт. это момент, когда Зигфрид приближается к смерти, и Гаген-Гиммлер[509] готовится вырвать ему глаза, словно кошке. Участь немецкого народа состоит в том, чтобы превратиться в коппарот, в жертву, в капутт. Скрытый смысл его истории состоит в том, чтобы преобразить Зигфрида в кошку. Вы не должны оставаться в неведении насчет некоторых истин, Луиза. Вы тоже, вы должны знать, что все мы предназначены стать однажды коппарот, жертвами, стать капутт, что именно поэтому мы — христиане, что Зигфрид — он тоже христианин, что Зигфрид — тоже кошка. Императоры, дети императоров, внуки императоров, — они тоже должны знать некоторые истины. Вы получили очень плохое воспитание, Луиза.
— Я уже более не Зигфрид, — сказала Луиза, — я ближе к кошке, чем к принцессе императорской крови.
— Да, Луиза. Вы ближе к работнице, чем к принцессе из рода Гогенцоллернов.
— Вы думаете? — спросила Луиза застенчиво.
— Работница чувствовала бы к вам симпатию, если бы вы были ее товаркой на заводе.
— Я хотела бы работать на заводе. Я переменила бы имя. Я работала бы, как любая другая работница.
— Зачем менять имя?
— Одна из Гогенцоллернов… Вы думаете, остальные работницы уважали бы меня, если бы они знали мое настоящее имя?
— Что оно стоит сегодня, имя Гогенцоллернов!
— Расскажите мне историю про стеклянный глаз, — попросила внезапно Луиза, понизив голос.
— Это такая же история, как и многие другие. Бесполезно ее рассказывать. Это христианская история. Вы, конечно, знаете христианские истории, не правда ли? Они все похожи друг на друга.
— Что вы подразумеваете под этими словами — христианская история?
— Читали ли вы «Контрапункт» Олдоса Хаксли[510]? Так вот: смерть ребенка Филиппа, в последней главе, это — христианская история. Олдос Хаксли мог бы уберечь себя от бесполезной жестокости, заставившей его прекратить жизнь этого ребенка. Однажды Олдос Хаксли был приглашен в Букингемский дворец[511]. Королева Мэри и король Георг V хотели с ним познакомиться. Это было время наивысшего успеха «Контрапункта». Суверены приняли Олдоса Хаксли очень приветливо. Они говорили с ним о его книгах, расспрашивали о его путешествиях, о планах дальнейших работ, о духе современной английской литературы. После разговора, в то время, как Хаксли уже находился на пороге и готов был уйти, его величество, король Георг V любезно подозвал его. Он казался озабоченным: было заметно, что он хотел сказать что-то, но не осмеливался. Наконец, король сказал Хаксли колеблющимся голосом:
— Господин Хаксли, королева и я, мы должны сделать вам упрек. Ведь это правда было бесполезно, что вы заставили умереть ребенка.
— Oh! What a lovely story![512] — воскликнула Луиза.
— Это христианская история, Луиза.
— Расскажите мне историю про стеклянный глаз, — краснея, попросила Луиза.
Осенью 1941 года я находился на Украине, возле Полтавы[513]. Район этот был наводнен партизанами. Можно было подумать, что снова возвратились времена казачьих восстаний Хмельницкого[514], Пугачева[515], Стеньки Разина[516]. Банды партизан скрывались в лесах и болотах вдоль Днепра. Выстрелы и пулеметные очереди неожиданно раздавались среди развалин бывших деревень, в траншеях и чащах. Потом восстанавливалась тишина. Эта тишина — ровная, глухая, монотонная — тишина огромной русской равнины.
Однажды немецкий офицер проходил во главе своей артиллерийской колонны сквозь деревню. В деревне не было ни души; все дома казались давно уже покинутыми. В колхозных конюшнях около сотни лошадей лежало на полу, они все еще были привязаны своими поводами к пустым кормушкам: так они и погибли от голода. Деревня имела этот зловещий вид русских деревень, на которые обрушилась ярость немецких репрессий. Офицер смотрел с выражением, похожим на меланхолическое, или говорившим о чем-то вроде смутной тревоги, почти страха, на эти покинутые дома, солому, раскиданную на их порогах, окна, широко раскрытые, комнаты, опустевшие и немые. Из середины огородов, поверх оград, глядели черные, неподвижные и круглые глаза подсолнечников, пристальные в их короне длинных желтых ресниц; они печальными взорами следили за проходившей колонной.
Офицер продвигался вперед, склонившись над гривой своей лошади, обеими руками опираясь на выступы седельной луки[517]. Это был человек сорока, примерно, лет, с уже засеребрившимися волосами. Время от времени он поднимал глаза к небу, потом выпрямлялся на стременах и оборачивался, глядя на колонну. Солдаты шли группами, позади повозок, лошади скользили копытами в грязи, кнуты свистели в сыром воздухе, люди кричали: «Йа, йа!», чтобы побудить животных двигаться более резво. Стоял серый денек, и деревня имела призрачный вид в сером осеннем воздухе. Поднялся ветер; трупы евреев, повешенных на деревьях, стали понемногу раскачиваться. Долгий шепот пронесся из дома в дом, как будто толпа босых детей промчалась по их унылым комнатам; долгий хруст, словно целая армия крыс плясала сарабанду в этих покинутых домах.
Колонна остановилась в деревне, и солдаты уже рассыпались по улицам, разделявшим палисаднички, чтобы напоить лошадей, когда офицер промчался крупной рысью, очень бледный, крича: «Weg, weg, Leute!»[518] Быстро проезжая мимо, он слегка касался концом своего хлыста солдат, уже усевшихся на порогах домов. «Weg, weg, Leute!» — кричал он. Тогда среди солдат из уст в уста пробежало одно только слово: «Флек-тифус»[519]. Это страшное слово пронеслось по всей колонне, донеслось до последних артиллерийских орудий, остановившихся вне деревни, и все солдаты возвратились на свои места; колонна снова пришла в движение: «йа, йа!» Кнуты засвистели в сером воздухе, и артиллеристы, проходя мимо, бросали испуганные взгляды через открытые окна на внутренние помещения домов, где на соломенных тюфяках лежали мертвецы, бескровные, исхудалые и прозрачные, с расширенными открытыми глазами. Офицер, стоя неподвижно на своей лошади посреди деревенской площади возле опрокинутой в грязь статуи Сталина, смотрел, как проходила колонна, время от времени поднося руку к лицу и слегка массируя мягким и усталым жестом свой левый глаз.
До заката еще было далеко, но первые вечерние тени уже сгущались в листве деревьев, которые понемногу становились все более сумрачными, более плотными, таящими в своих кронах глубокую и тусклую синеву. Лошадь офицера от нетерпения била копытами по грязной земле, иногда делая вид, что она собирается подняться на дыбы и броситься быстрой рысью вместе с колонной, покидая деревню. Но офицер, пустив ее идти шагом, позади самой последней повозки, в хвосте колонны, привстал на стременах и посмотрел назад. Улица и площадь были пусты, покинутые дома всё так же унылы. И, однако, этот шепот, это хрустенье, которые производил ветер, облизывавший своим шершавым языком стены, слепленные из соломы и грязи, этот шепот и это похрустывание босоногих детей, или изголодавшихся крыс, все еще издалека сопровождали колонну. Офицер поднял руку к лицу и приложил ее к глазу, с выражением досадующим и печальным. Внезапно из деревни послышался ружейный выстрел, и пуля просвистела у него над ухом.
— Хальт! — воскликнул офицер. Колонна остановилась. Пулемет, находившийся в хвосте команды, застрочил по деревенским домам. За первым ружейным выстрелом последовали другие — огонь партизан мало-помалу становился более интенсивным, настойчивым и яростным. Двое артиллеристов упали им сраженные. Тогда офицер пришпорил свою лошадь, быстрым галопом промчался вдоль колонны и отдал приказание. Группы солдат бросились через поля, стреляя на бегу и окружая деревню. «К орудиям! — закричал офицер. — Разрушайте все!» Огонь партизан продолжался, еще один артиллерист упал. Офицер был охвачен страшной яростью. Он галопировал через поля, воодушевляя солдат, располагая орудия таким образом, чтобы они могли обстреливать деревню со всех сторон. Несколько домов загорелось. Штормовой удар зажигательных бомб обрушился на деревню, раскалывая стены, пробивая кровли, вырывая деревья, поднимая облака дыма. Партизаны продолжали невозмутимо стрелять. Но артиллерийский огонь был таким жестоким, что скоро вся деревня запылала одним сплошным костром. И тогда из огня вышла группа партизан с поднятыми руками. Среди них были и старики, но большинство оказалось молодежью; в их числе находилась даже одна женщина. Наклонившись с седла, офицер всматривался в них, в одного за другим. Пот струился с его лба, заливая лицо. — «Расстреляйте их!» — приказал он хриплым голосом, прикладывая руку к своему глазу. В голосе его была досада. Этот жест руки, прикрывавшей глаз, тоже, быть может, был жестом досады. «Фейер!» — закричал фельдфебёль. После залпа автоматов офицер обернулся, взглянул на только что упавшие тела и взмахнул хлыстом. «Йаволль»[520], — сказал фельдфебель, разряжая свой пистолет в эту кучу трупов. Офицер поднял руку, и артиллеристы снова подпрягли своих лошадей к орудиям; колонна пришла в походный порядок и вновь начала двигаться по дороге.
Офицер, склонившись над гривой своего коня, опираясь на выступы седельной луки обеими руками, следовал за колонной на расстоянии пятидесяти шагов от последнего орудия. Уже топот копыт начинал удаляться, заглушаемый грязью равнины, когда внезапный ружейный выстрел прозвучал у него в ушах.
«Хальт!» — закричал офицер. Колонна остановилась. Замыкающая батарея снова открыла огонь по деревне. Все пулеметы колонны открыли стрельбу по домам, охваченным пламенем. И все же неторопливые и регулярные ружейные выстрелы били сквозь облака черного дыма. «Четыре, пять, шесть…, — считал офицер громко, — только одно ружье стреляет, там всего один человек». И вдруг из облака дыма выскочила какая-то тень и побежала, подняв руки. Солдаты схватили партизана и подвели его к офицеру, который, склонившись на седле, внимательно его рассматривал. «Айн Кинд»[521] — сказал он вполголоса. Это был ребенок; на вид ему было не больше десяти лет; он был худ и загнан, одежда его была в лохмотьях, лицо черное, волосы опалены, руки обожжены. «Айн Кинд!» Ребенок смотрел на офицера спокойно, сощурив глаза; время от времени он медленно поднимал руку к лицу и сморкался в пальцы. Офицер сошел с лошади и, закрутив уздечку вокруг кулака, остановился перед этим мальчиком. У него был усталый и досадующий вид. «Айн Кинд!». У него тоже был мальчик, у него в Берлине, в его доме на Витцлебенплатц, мальчик того же возраста, нет, быть может, Рудольф был годом старше, ведь этот действительно был еще совсем ребенок: «айн кинд». Офицер похлопывал хлыстом по своим сапогам, и лошадь с ним рядом нетерпеливо переступала копытами и терлась мордой о его плечо. В двух шагах от них, наготове, с возбужденным лицом, стоял переводчик — фольксдёйчер из Балты. — «Это всего только малыш: айн Кинд! Я не затем прибыл в Россию, чтобы вести войну с малышами…» Вдруг офицер наклонился к мальчику и спросил его, остались ли еще в деревне партизаны. Голос офицера был усталым, полным досады; казалось, он отдыхал, пока переводчик повторял его вопрос по-русски, с акцентом жестким и злобным.
— Нет, — ответил ребенок.
— Почему ты стрелял в моих солдат?
Ребенок удивленно посмотрел на офицера. Переводчику пришлось повторить ему этот вопрос.
— Ты хорошо знаешь. Зачем же спрашиваешь? — ответил ребенок. Его голос был спокойным и ясным, он отвечал без тени страха, но не без некоторого безразличия. Он смотрел офицеру прямо в лицо и прежде, чем ответить, весь вытягивался, точно солдат.
— Ты знаешь, что такое немцы? — спросил у него офицер тихо.
— А ты, разве ты сам не немец, товарищ офицер? — ответил ребенок.
Тогда офицер сделал жест, и фельдфебель, схватив ребенка за руку, вытащил из кобуры свой пистолет.
— Нет, не здесь, немного дальше, — сказал офицер, поворачиваясь к ним спиной.
Ребенок зашагал рядом с фельдфебелем, торопясь, чтобы делать такие же крупные шаги. Внезапно офицер обернулся, поднял свой хлыст и крикнул: «Айн момент!» Фельдфебель тоже обернулся, растерянно посмотрел на офицера и возвратился, толкая впереди себя, вытянутой рукой, ребенка.
— Который час? — спросил офицер. Потом, не ожидая ответа, он стал ходить взад и вперед перед ребенком, похлопывая себя хлыстом по сапогам. Лошадь, которую он тянул за узду, следовала за ним, наклоняя голову и шумно отфыркиваясь. Потом офицер остановился перед ребенком, посмотрел на него молча, долгим и пристальным взглядом и, наконец, сказал усталым, тихим голосом, полным досады:
— Слушай, я не хочу причинять тебе зла. Ты всего только козявка; я не веду войны с козявками. Ты стрелял в моих солдат. Но я не веду войны с детьми. Либер Готт![522] Не я ее выдумал, войну! Офицер остановился, потом сказал ребенку со странной нежностью в голосе: — Слушай! У меня один глаз стеклянный. Трудно угадать, который именно. Если ты сумеешь сказать мне сейчас же, не раздумывая, который из двух глаз у меня стеклянный, я позволю тебе уйти, оставлю тебя на свободе.
— Левый глаз, — тотчас же ответил мальчик.
— Как ты это узнал?
— Оттого что из двух только в нем есть человеческое выражение…
Луиза коротко дышала и очень крепко сжимала мою руку.
— А ребенок? Что случилось дальше с ребенком? — спросила она, понизив голос.
— Офицер поцеловал его в обе щеки, одел его в золото и серебро, вызвал придворную карету, запряженную восьмериком белых коней с эскортом из сотни ослепительных кирасир, и пригласил этого мальчика в Берлин, где Гитлер принял его как королевского сына, при восторженных криках толпы, и выдал за него свою дочь.
— О! Да, я знаю, это не могло закончиться иначе.
— Я повстречал этого офицера некоторое время спустя в Сороках, на Днестре. Это очень серьезный человек, отец семейства, но настоящий пруссак, настоящий Пиффке, как говорят венцы. Он рассказывал мне о своей семье, о своей работе. Он — инженер-электрик. Он говорил мне также о своем сыне Рудольфе, мальчике десяти лет. Было действительно трудно отличить стеклянный глаз от другого. Он сказал мне, что именно в Германии изготовляют самые лучшие в мире стеклянные глаза.
— Замолчите, — сказала Луиза.
— У каждого немца есть стеклянный глаз! — сказал я.
XIII. КОРЗИНА УСТРИЦ
Мы остались одни. Два слепых солдата ушли в сопровождении санитарки. Ильза, которая до этих пор не проронила ни слова, посмотрела на меня, улыбаясь: «Стеклянные глаза, — сказала она, — это все равно, что стеклянные птицы. Они не умеют летать».
— О! Ильза, ты все еще веришь, что глаза летают? — спросила Луиза. — Ты — настоящий ребенок, Ильза.
— Глаза — это плененные птицы, — ответила Ильза. — Глаза этих двух немецких солдат были пустыми клетками.
— Глаза слепых — это мертвые птицы, — сказала Луиза.
— Слепые не могут выглянуть наружу, — ответила Ильза.
— Они любят смотреть на себя в зеркало, — сказала Луиза.
— Глаза Гитлера, — сказала Ильза, — полны мертвыми глазами. Они полны глазами мертвых. Там сотни, тысячи таких глаз.
Ее можно было принять за ребенка — Ильзу. Это была маленькая девочка, переполненная странными мыслями и странными причудами. Быть может оттого, что мать ее была англичанкой, мне казалось, что Ильза была портретом Невинности написанным Гейнсборо[523], который писал женщин, похожих на пейзажи, со всей наивностью, горделивой печалью, истомой и достоинством английского пейзажа. Но было в Ильзе нечто такое, что является недостатком английского пейзажа и живописи Гейнсборо, нечто инспирированное, капризное семя безумия. Ильза была, скорее, изображением Невинности, написанным Гойей. Эти светлые волосы, короткие и вьющиеся, эта разлитая по лицу молочная белизна (О, Гонгора!) среди роз рассвета, эти голубые глаза, усеянные серыми крапинками вокруг зрачков, эта привычка грациозно склонять головку на плечо, с непринужденностью, полной лукавства, — делали ее похожей на изображение Невинности, которое написал бы Гойя эпохи Каприччиосов[524], на горизонте сером и розовом пустынного кастильского пейзажа, изжаждавшегося пейзажа, над которым очень высоко пробегает невидимый ветер и запятнанного там и здесь кровавыми отблесками.
Ильза уже три года была замужем, но все еще сохраняла вид маленькой девочки. Ее муж отправился на фронт двумя месяцами раньше, и сейчас лежал во фронтовом лазарете близ Воронежа с осколком гранаты в плече. Ильза написала ему: «I’m going to have a baby, heil Hitler!»[525] Забеременеть было единственным средством избежать действия декрета об обязательных работах. Она не хотела идти работать на завод. Она предпочитала иметь ребенка. «Единственным способом сделать Гитлера рогоносцем, — говорила Ильза, — стало ожидать ребенка». Луиза краснела и скромно журила ее: «Ильза!». Тогда Ильза говорила: «Don’t be so Potsdam, Луиза!»[526]
— Глаза сделаны из отвратительного материала, — сказал я, — из материи клейкой и мертвой. Их нельзя ухватить пальцами — они выскальзывают, как слизняки. В апреле 1941 года я приехал из Белграда в Загреб. Война против Югославии едва закончилась всего несколько дней назад. Свободное государство Кроация только что родилось. Теперь в Загребе царил Анте Павелич[527] со своими бандами усташей[528]. Во всех городах на стенах были наклеены большие портреты Павелича — Поглавника Кроации, и манифесты, прокламации, указы нового национального государства кроатов. Стояли первые дни весны. Прозрачные серебристые туманы поднимались над Дунаем и Дравой[529]. Холмы Фруска Гора вырисовывались вокруг легкими зелеными волнами, покрытые виноградниками и полями хлеба. Светлая зелень виноградников и плотная зелень хлебов чередовались, сменяя друг друга и смешиваясь в игре света и теней, под небом шелковистой голубизны. Стояли первые дни хорошей погоды после стольких недель дождя; улицы выглядели словно потоки грязи. Мне предстояло остановиться в Илоке[530], на полпути между Нови Садом и Вуковаром, чтобы провести там ночь. В единственном трактире городка обед был подан на большом общем столе, кругом которого вместе сидели вооруженные крестьяне, жандармы, в сербской форме с кроатскими кокардами на груди, и несколько беженцев, которые пересекли реку на пароме между Паланкой и Илоком.
Пообедав, мы все покинули столовую и вышли на террасу. Дунай сверкал под луной; на нем виднелись появлявшиеся и исчезавшие между деревьями огни плотов и буксиров. Большое серебристое спокойствие опускалось на зеленые холмы Фруска Горы. Был час затемнения. Патрули вооруженных крестьян стучали в двери евреев для вечерней проверки, вызывая их по именам монотонными голосами. Двери были отмечены красной звездой Давида. Евреи показывались в окнах и говорили: «Мы здесь, мы дома». — «Добро, добро», — отвечали крестьяне, ударяя об землю прикладами своих винтовок. На домах большие трехцветные плакаты «Прогласа», нового управления Загреба, дырявили лунный свет грубыми пятнами красно-бело-синего. Я смертельно устал, и около полуночи отправился лечь спать. Я лежал на спине и через раскрытое окно смотрел, как луна тихо поднималась над деревьями и крышами. На фасаде противоположного дома — штаб-квартире усташей Илока, был наклеен огромный портрет Анте Павелича — главы нового государства Кроации. Это был портрет, напечатанный черной краской на толстой зеленоватой бумаге. Поглавник пристально смотрел на меня большими черными глазами, глубоко запрятанными под низким, жестоким и упрямым лбом. У него был широкий рот, толстые губы, прямой и мясистый нос и обширные уши. Никогда я не поверил бы, что у человека могут быть такие большие и такие длинные уши. Они опускались у него до середины щек, смешные и чудовищные, и это, наверное, было ошибкой в перспективе, ошибкой художника, рисовавшего портрет.
Перед рассветом компания венгерских гонведов[531], затянутых в свою желтую форму, прошла под окнами с песней. Венгерские солдаты поют с перерывами, в какой-то как бы рассеянной манере. Время от времени вступает один голос, начинающий песню. Затем он умолкает. Двадцать, тридцать голосов коротко отвечают ему и сразу смолкают. В течение нескольких мгновений слышен лишь размеренный шаг и позвякивание оружия и патронных подсумков. Другой голос подхватывает песню и смолкает. Двадцать, тридцать голосов отвечают и тоже умолкают. И снова тяжелый и жесткий ритм шагов, позвякивание оружия и подсумков. Это была песня, печальная и жестокая; что-то одиночествующее слышалось в этих голосах, в этих ответах и в этих внезапных паузах. Это были голоса, исполненные горькой крови; эти печальные, жесткие, отдаленные венгерские голоса поднимались из обширных и далеких равнин человеческой печали и жестокости.
На следующее утро на улицах Вуковара патрули венгерских жандармов, вооруженных автоматами, стояли на перекрестках. Площадь Вуковара возле моста была полна народом. Группы молодых девушек шли по тротуарам, смотрясь в зеркальные витрины (там была одна, одетая во все зеленое, которая проходила там и здесь, медлительная и легкая, как зеленый лист, носимый ветром). Портреты Анте Павелича смотрели на меня со стен глазами, глубоко запрятанными под низким и жестоким лбом. Дыхание Дуная и Дравы придавало розовому утру неясный запах влажной травы. От Вуковара до Загреба, через всю Эсклавонию, богатую посевами хлебов, зелеными лесами, увлажненную реками и ручьями, в каждом селении портреты Поглавника следили за мной своими сумрачными взорами. Отныне лицо Анте Павелича стало мне хорошо знакомым, оно было для меня лицом друга. Плакаты, наклеенные на стенах, говорили, что Анте Павелич был «протектором»[532] кроатского народа, отцом крестьян Кроации, братом для всех, кто борется за свободу и независимость кроатской нации. Крестьяне читали плакаты, поднимали головы и поворачивали ко мне свои лица с их большими выступающими скулами, глядя на меня теми же темными и глубокими глазами, какими смотрел Поглавник.
Вот отчего, когда я впервые увидел Анте Павелича в Загребе сидящим за его рабочим столом во дворце старинного города, у меня было ощущение, что я встретился со старым другом, которого я, казалось, знал нескончаемые годы. Я смотрел на его широкое плоское лицо с чертами жесткими и грубыми. Его глаза сверкали глубоким черным огнем на бледном желтовато-охристом лице; оттенок бесконечной тупости был запечатлен на нем; вероятно, он исходил от его чудовищных ушей, которые вблизи казались еще больше, еще смешнее, еще чудовищнее, чем на портретах.
Но постепенно я начал думать, что, быть может, этот тупой вид был ни чем иным, как застенчивостью. Та чувственность, которую придавали его лицу эти мясистые губы, как бы аннулировалась странной формой и необычайной величиной ушей, которые, находясь рядом с этими толстыми плотскими губами, казались двумя совершенно абстрактными вещами, будто сюрреалистическими раковинами, изображенными Сальвадором Дали, двумя метафизическими объектами, и вызывали во мне впечатление такого же уродства, которое мы испытываем, прослушивая известные музыкальные композиции Дариюса Мийо[533] и Эрика Сати[534] (не было ли это благодаря ассоциации понятий об ушах и музыке?). Когда Анте Павелич поворачивал свое лицо так, что я видел их в профиль, эти огромные уши, казалось, оттягивали его голову на сторону, как два крыла, вынужденные к попыткам приподнять его массивное тело. Известная тонкость, что-то вроде хрупкой худобы, той, которую мы видим на некоторых портретах работы Модильяни[535], появлялась в такие минуты на лице Анте Павелича, словно маска страдания. И тогда я приходил к заключению, что он добр, что в основе его характера лежит человечность, простая и великодушная, состоящая из застенчивости и христианского милосердия. У меня было впечатление, что этот человек способен, не сморгнув, вынести ужасные физические мучения, страшное утомление и тяжкие истязания, но абсолютно не в состоянии переносить малейших моральных страданий. Человек добрый — вот каким он мне казался, и этот тупой вид я воспринимал как застенчивость, как доброту, как простоту, как его манеру — по существу крестьянскую — обращаться лицом к фактам, к людям и вещам, лицом — к элементам физическим, конкретным и отнюдь не моральным, лицом — к элементам своего физического мира, не своего морального мира.
У него были большие руки, широкие и волосатые, вздутые и узловатые, и было заметно, что эти руки стесняли его, что он не знал, куда их деть. То он клал их на стол, то поднимал, чтобы погладить мочки своих огромных ушей, то опускал их в карманы своих брюк. Но большей частью он опирался кулаками на край стола, переплетал между собой свои большие волосатые пальцы и массировал их, потирал друг о друга жестом грубоватым и скромным. Его голос был серьезен, музыкален, странно нежен. Он говорил по-итальянски медленно, с легким тосканским акцентом: он говорил мне о Флоренции, о Сиене, где ему пришлось провести долгие годы изгнания. А я, слушая его, думал о том, что это был тот самый террорист, который подготовил убийство короля Югославии Александра, что это был человек, на совести которого лежала смерть Барту[536]. Я был склонен думать, что, быть может, не колеблющийся ради защиты своего народа перед крайними средствами, он испытывает отвращение к крови. «Это добрый человек — думал я, — человек, простой и великодушный». Анте Павелич смотрел на меня своими глубокими черными глазами, двигал своими огромными ушами и говорил: «Я буду руководить моим народом с добротой и справедливостью» — слова, поражающие в подобных устах.
Однажды утром он пригласил меня сопровождать его в короткой поездке сквозь Кроацию, к Карловацу[537] и словенской границе. Утро было свежее и ясное, майское утро; ночь еще не сняла свое зеленоватое покрывало с лесов и чащ, окаймляющих Саву; это еще была зеленая майская ночь, покрывавшая леса, предместья, дворцы, поля, туманные речные берега. На блестевшем краю горизонта, походившем на трещину в стекле, солнце еще не появлялось. От возни птичьего народа вспухала шевелюра деревьев. И вот солнце внезапно озарило широкую долину, розовый луч поднялся над полями и лесами, и Анте Павелич, остановив машину, вышел на дорогу и сказал, указав на пейзаж широким охватывающим жестом: «Это моя родина».
Жест этих больших волосатых рук, с вспухшими и узловатыми суставами, был, быть может, несколько грубым для столь нежного пейзажа. И этот большой, массивный человек геркулесовского сложения, стоящий на краю дороги перед зеленой долиной и распыленной синевой неба, — эта большая голова, эти огромные уши — отделялись от этого пейзажа, хрупкого и нежного, с грубостью статуй Мештровича[538], в глубине светлых площадей городов Дуная и Дравы. Затем мы снова уселись в машину и весь день ехали сквозь чудесную страну, простирающуюся между Загребом[539] и Любляной[540], и поднимались вдоль склонов Загребской Горы — лесистой горы, возвышающейся над Загребом. Время от времени Поглавник выходил из машины и останавливался, чтобы поговорить с крестьянами. Он говорил о сезоне, о посевах, об урожае, который год обещал хорошим, о скоте, о временах мира и труда, которые принесла свобода народу Кроации. Мне нравилась простота, с какой он держался, добродушие его слов, эта манера смирения, с которой он обращался к смиренным, и я с удовольствием слушал его голос, серьезный, музыкальный, необычайно мягкий. Мы возвратились влажным вечером, пересекая буйные реки, проезжая над пурпурными облаками, которые казались воздушными мостами, оставляя в стороне разбросанные там и здесь зеленые озера среди лесов бирюзовой голубизны. И я долго сохранял воспоминание об этом голосе, столь нежном, об этих глазах, черных и глубоких, об этих огромных ушах, изваянных среди хрупкого кроатского пейзажа.
Несколькими месяцами позже, в конце лета 1941 года, я возвратился из России усталый и больной, после долгих месяцев, проведенных в пыли и грязи огромной равнины, заключенной между Днестром и Днепром. Мой мундир был изорван, выгорел от солнца и дождей, был весь пропитан этим запахом меда и крови, который характерен, как запах войны на Украине, в Бессарабии и Молдавии, но в самый вечер моего прибытия секретарь Президиума Совета позвонил мне в Атеней-Палас, чтобы предупредить, что вице-президент Совета Михай Антонеску хочет со мной поговорить. Антонеску сердечно встретил меня и предложил мне чашку чая в своей обширной и светлой «студио»[541], и принялся говорить со мной по-французски с тем горделивым акцентом, который напоминал мне манеру говорить графа Галеаццо Чиано. Он был в штатском, с высоким стоячим воротничком и серым шелковым галстуком. Он был похож на директора швейной фабрики. Можно было бы сказать, что на его лице, жирном и круглом, было нарисовано розовое женское лицо «которое походило на него, как сестра»[542]. Я сказал ему, что нахожу его в «прекрасном виде». Он отблагодарил меня улыбкой глубокого удовлетворения. Разговаривая, он пристально смотрел на меня своими маленькими глазами рептилии, черными и блестящими. Я не знаю других глаз в мире, которые больше, чем глаза Михая Антонеску, походили бы на змеиные. На его столе, в хрустальной вазе, стоял букет роз.
— Я очень люблю розы, — сказал он мне, — я предпочитаю их лаврам. Я сказал ему, что его политика подвергается риску просуществовать столько, сколько живут розы: «пространство одного утра».
— Пространство одного утра? — ответил он. — Но это целая вечность! И потом, пристально глядя на меня, он посоветовал мне немедленно возвратиться в Италию.
— Вы были неосторожны, — сказал он мне, — ваши корреспонденции с русского фронта вызвали много возражений. Вам уже не восемнадцать лет, ваш возраст не позволяет вам разыгрывать «анфан террибля»[543]. Сколько лет вы уже провели в тюрьме в Италии?
— Пять лет, — ответил я.
— И вам этого недостаточно? Я советую вам быть осторожнее в будущем. Я вас очень уважаю. В Бухаресте все читали вашу «Технику государственного переворота» и все вас любят. Позвольте мне в связи с этим сказать вам, что вы не имеете права писать, что Россия выиграет войну. К тому же вы ошибаетесь: рано или поздно Россия падет.
— Она падет вам на спину! — ответил я.
Он посмотрел на меня своими глазами рептилии, улыбнулся, подарил мне розу, проводил меня до дверей и сказал мне:
— Желаю удачи!
Я покинул Бухарест на следующее утро и не имел даже времени нанести визит моей милой знакомой по Парижу — княгине Марте Бибеско, которая одиноко жила в изгнании, вдали от своей виллы Могозёа. Я провел в Будапеште несколько часов и продолжал путь в Загреб, где остановился для отдыха на несколько дней. В первый же вечер по моем прибытии я уже сидел на террасе кафе «Эспланада» с моим другом Пливериком и его дочерью Недой. Большая терраса была переполнена сидящими (можно было бы сказать на корточках) людьми вокруг металлических столиков. Я наблюдал томных красавиц Загреба, одетых с провинциальной элегантностью, в которой еще чувствовалась ушедшая в прошлое венская грация эпохи 1910–1914 годов, и думал о кроатских крестьянках, обнаженных под их широкими холщовыми юбками, накрахмаленными и похожими на скорлупу раков, на стрекозиные надкрылья. Под этой коркой холста, жесткого и потрескивающего, угадывалась розовая шелковистая и теплая мякоть голых тел. Оркестр «Эспланады» играл старинные венские вальсы; скрипачи, с серыми волосами, были возможно теми самыми, которые видели, как проезжал эрцгерцог Фердинанд[544] в своей черной коляске с запряжкой из четверки белых коней, и скрипки возможно были те же, которые играли на свадьбе императрицы Зиты, последней австрийской императрицы. И женщины, даже Неда Пливерик, были живыми копиями поблекших портретов: они тоже принадлежали к старой Вене «альт Виен»[545], они тоже были «Аустриа феликс»[546], они тоже были «Радецки марш[547]». Деревья сверкали этой теплой ночью, мороженое — розовое, зеленое и голубое, медленно таяло в стаканчиках; веера из перьев медленно колыхались в ритме вальсов, также как и эти веера из шелка, усыпанного стеклярусом и пластинками перламутра; тысячи томных глаз — светлых, темных и лунных — летели во мрак словно птицы на террасе «Эспланады», перепархивали между деревьями бульваров, над крышами, в небе зеленого шелка, слегка разорванного на краю горизонта.
К нашему столику приблизился офицер. Это был командир П., бывший капитан Императорской австрийской армии, теперь адъютант Анте Павелича, Поглавника Кроации. Он шел, подрагивая бедрами, среди столиков и металлических стульев. Время от времени он подносил руку к своему кепи и грациозно склонялся вправо и влево; женственные, полные истомы глаза его летали как птицы вокруг этого высокого и жесткого кепи устарелой формы, напоминавшей Габсбургов. Он подошел к нашему столику, улыбаясь, и это была старомодная, устаревшая улыбка, вышедшая из моды и освещавшая его жирное лицо и маленький рот, затененный короткими темно-русыми усиками. Он приветствовал одной и той же улыбкой иностранных дипломатов, высших функционеров государства и шефов усташей в приемной Анте Павелича, где он сидел за пишущей машинкой, склонившись над черными клавишами, с руками, затянутыми в перчатки ледяной белизны, как и те, которые носили некогда офицеры австрийской Императорской гвардии. Сжав губы, он ударял совсем тихо по черным клавишам одним только пальцем правой руки, положив левую руку на бедро, как будто для фигуры кадрили. Командир П. склонился, улыбаясь, перед Недой и поднес руку в белой перчатке к блестящему козырьку своей кепи. Он стоял так, наклоняясь вперед и не говоря ни слова. Затем он выпрямился, словно сработала непредвиденная пружина, обернулся ко мне и, выразив мне свою радость оттого, что видит меня в Загребе, спросил тоном любезного упрека, скандируя слова так, как если бы он пел их в ритме того венского вальса, который играл в это время оркестр: «Почему вы не предупредили меня тотчас же, как только вернулись в Загреб? Приходите ко мне завтра утром, в одиннадцать часов; я добавлю ваше имя на листе аудиенций. Поглавник будет рад вас видеть снова». Понизив голос и склоняясь, как если бы дело шло о любовном признании, он добавил: «Очень, очень рад!»
На следующее утро, в одиннадцать часов, я сидел в приемной Анте Павелича. П., склоненный над пишущей машинкой, очень медленно ударял по черным клавишам одним пальцем правой руки, затянутой в перчатку ледяной белизны. Уже несколько месяцев я не видел Анте Павелича. Когда я проник в его кабинет, я заметил, что он изменил расположение мебели. В последний раз, перед тем, как я был здесь несколькими месяцами раньше, его стол стоял в глубине комнаты, в углу, наиболее удаленном от окна; теперь же он стоял перед самой дверью таким образом, что перед ним оставалось лишь самое необходимое пространство для прохода одного человека. Я вошел и едва не ударился о стол коленями.
— Это система моего изобретения, — сказал Анте Павелич, пожимая мне руку и смеясь: если кто войдет сюда с преступными намерениями, он, наткнувшись на стол и оказавшись сразу передо мной, будет растерян и выдаст себя. Это метод — противоположный принятому Гитлером и Муссолини, которые оставляют между собой и посетителем пустое пространство огромной залы.
Я наблюдал его, пока он говорил это. Мне показалось, что он глубоко изменился. Усталый, отмеченный неприятностями, заботами, с глазами, покрасневшими от бессонницы. Но голос его был все тем же: музыкальным, необычайно мягким. Голос человека простого, доброго, великодушного. Его огромные уши удивительно похудели. Они стали прозрачными. Сквозь его правое ухо, которое находилось ближе к окну, я видел, как просвечивали розовые отблески крыш, зеленый свет деревьев, синева неба. Другое ухо, обращенное к одной из стен комнаты и находившееся в тени, казалось изготовленным из белого вещества, хрупкого и ломкого; можно было подумать — восковое ухо. Я смотрел на Анте Павелича, на его волосатые руки, его низкий, упрямый, жесткий лоб, чудовищные уши. Что-то вроде жалости вызывал во мне этот человек — простой, добрый, великодушный, богатый человеческими чувствами столь деликатными. Политическая ситуация за эти последние месяцы серьезно осложнилась. Восстание партизан вызвало брожение во всей Кроации — от Земуна до Загреба. Глубокое искреннее страдание отражалось на бледном, почти землистом лице Поглавника. Как он должен страдать, подумал я, это золотое сердце!
Адъютант П. вошел, чтобы сообщить о прибытии посла Италии Раффаэле Казертано.
— Пригласите его войти, — сказал Анте Павелич, — посол Италии не должен дожидаться в приемной.
Казертано вошел, и мы долго разговаривали совершенно просто и с большой сердечностью о проблемах, вызванных создавшейся ситуацией. Банды партизан по ночам пробирались до предместий Загреба. Но верные усташи Павелича быстро одержали верх в этой неприятной гверилье.
— Кроатский народ, — говорил Анте Павелич, — хочет быть руководимым с добротой и справедливостью. Я присутствую здесь, чтобы соблюдать доброту и справедливость.
Пока он говорил, я смотрел на ивовую корзину, стоявшую на столе, справа от Поглавника. Крышка ее была приподнята: было видно, что корзина полна чем-то вроде «фрутти дель маре» — плодов моря. По крайней мере, так мне показалось; можно было бы сказать устрицы, но уже извлеченные из их раковин, как бывает иногда на больших подносах в витринах Фортнума и Мэзона на Пикадилли[548] в Лондоне. Казертано посмотрел на меня и подмигнул:
— Это тебе говорит кое о чем, хороший суп из устриц, а?
— Это устрицы из Далмации? — спросил я у Поглавника.
Анте Павелич поднял крышку корзины, и, показывая мне эти морские фрукты, эту массу, клейкую и желатинообразную, сказал с улыбкой, с его доброй усталой улыбкой:
— Это подарок от моих верных усташей; здесь двадцать килограммов человеческих глаз.
XIV. «OF THEIR SWEET DEATHS»[549]
Луиза смотрела на меня расширенными глазами с выражением страдания и отвращения на ее бледном лице.
— Мне стыдно самой себя, — сказала она тихо, с улыбкой глубокой униженности, — нам всем должно быть стыдно самих себя.
— Почему бы мне должно было быть стыдно себя самой? — возразила Ильза. — Мне не стыдно меня самой. I’m feeling myself pure innocent and virginal as a Mother of God[550]. Война не настигла меня. Она ничего не может против меня. У меня во чреве ребенок, и я священна. Мой ребенок. Вам никогда не приходило в голову, что мой ребенок может стать маленьким Иисусом?
— У нас нет необходимости в другом маленьком Иисусе, — сказал я. — Каждый из нас может спасти мир. Каждая женщина может произвести на свет другого Иисуса, каждый из нас в состоянии, посвистывая, карабкаться на Голгофу, предоставить себя, чтобы его прибили гвоздями, напевая на кресте. Это не так уже трудно сегодня — быть Христом.
— Зависит только от нас самих, — сказала Ильза, — чувствовать себя чистыми и невинными, как Богоматерь! Война не в состоянии загрязнить меня, она не в состоянии загрязнить ребенка в моей утробе.
— Это не война грязнит нас, — ответила Луиза, — это мы сами загрязняем все наши мысли, все наши чувства. Мы грязны. Это мы сами приносим бесчестье нашим детям в нашей утробе.
— А мне наплевать на войну, — сказала Ильза.
— О! Ильза! — воскликнула Луиза тоном упрека.
— Don’t be so Potsdam, Луиза! Мне наплевать на войну.
— Дайте, я расскажу вам историю детей Татианы Колонна, — сказал я. — Это тоже христианская история, Луиза.
— Я не доверяю вашим христианским историям! — сказала Луиза.
— Дайте я расскажу вам историю детей Татианы Колонна. Летом 1940 года, когда Муссолини объявил войну Англии, служащие королевского посольства Италии в Каире покинули Египет и возвратились на родину. Секретарь посольства в Каире, принц Гвидо Колонна оставил Татиану с двумя детьми в Неаполе, а сам проследовал в Рим, где оставался некоторое время в Министерстве иностранных дел, в ожидании нового назначения. Однажды ночью, в начале осени, Татиана проснулась от тревожного рева сирен. Соединение английских самолетов, появившееся с моря, находилось низко над городом. Это была первая бомбардировка Неаполя. Жертвы были многочисленны, и нанесенный ущерб значителен. Они были бы, конечно, еще больше, если бы Неаполь не был защищен кровью святого Януария, единственной противовоздушной обороной, на которую могли рассчитывать неаполитанцы. Испуг двух детей Татианы был очень велик. Младший из них серьезно заболел. В течение ряда недель у него была лихорадка с бредом. Как только малыш поправился, Татиана с обоими детьми отправилась к Гвидо, который тем временем был назначен секретарем посольства в Стокгольме.
Когда Татиана прибыла в Стокгольм, был конец зимы. Стаи воробьев уже возвещали возвращение весны. Утром, когда дети Татианы спали, один воробей влетел к ним в комнату через открытое окно. Оба ребенка проснулись, завывая от страха: «Мама! Мама! Помоги!» — кричали они. Татиана прибежала. Дети, белые от ужаса, почти в конвульсиях, дергались, повторяя, что английский самолет влетел через окно и летает у них в комнате.
Бедный воробей перелетал, чирикая, с одного предмета на другой, напуганный детскими криками и внезапным появлением Татианы. Он бы давно улетел через то же окно, если бы его не сбивало с толку зеркало в дверце шкафа, о которое он уже два или три раза ударился клювом. Наконец он таки нашел окно и улетел.
Оба ребенка заболели. Худенькие и бледные, они лежали в своих постельках и смотрели на небо, дрожа от страха, что английский самолет вот-вот влетит к ним в открытое окно. Ни докторам, ни медицине не удавалось излечить их от этого необычайного ужаса. Весна уже кончалась. Уже бледное пламя летних дней пылало в чистом небе Стокгольма. Чириканье воробьев слышалось на вершинах деревьев Карлаплана, и двое детей в своих постельках, спрятав головы под одеяла, дрожали от страха, слушая это чириканье.
Однажды Татиана вошла в детскую с большим ящиком, полным игрушек. Здесь были маленькие заводные аэропланы, мягкие птички из материи, набитые паклей, книжки с картинками, на которых были изображены самолеты и птицы. Сидя в кроватках, дети принялись играть с птичками из материи и аэропланами из жести, заводя пальчиками винты и перелистывая книжки с картинками. Татиана объяснила малышам, какая разница существует между аэропланом и птицей, рассказала о жизни воробьев, малиновок, реполовов[551], о подвигах знаменитых пилотов. Каждый день она расставляла вокруг них чучела маленьких птичек, подвешивала к потолку крошечные жестяные самолетики, раскрашенные красной и синей краской, вешала на стены деревянные клетки с канарейками, которые весело щебетали.
Когда обоим детям стало лучше, Татиана стала ежедневно, по утрам, водить их играть под деревьями Сканзена[552]. Сидя на лужайке, она заводила ключиками их маленькие самолеты, винты начинали жужжать, и игрушки, подпрыгивая, бежали по траве. Потом Татиана крошила немного хлеба на каком-нибудь камне, и маленькие птички, щебеча, слетались отовсюду, чтобы поклевать крошки. Наконец однажды Татиана повезла детей в аэропорт Бромма, посмотреть вблизи на большие трехмоторные самолеты, отправлявшиеся каждое утро в Финляндию, Германию, в Англию. На траве в аэропорту воробьи весело прыгали и болтали между собой, не опасаясь огромных алюминиевых птиц, скользивших по лугу с оглушительным ревом или опускавшихся с неба, чтобы осторожно сесть на траву. Так выздоровели дети Татьяны Колонна. Теперь они больше не боятся птиц. Они знают, что воробьи не бомбардируют городов, даже если это английские воробьи.
— How charming[553] — воскликнула Ильза, хлопая в ладоши.
— Это прекрасная история, почти сказка, — воскликнула Луиза и добавила, что история детей Татианы Колонна напомнила ей известные рисунки Леонардо до Винчи, где наброски женских и детских голов пересекаются рисунками птичьих скелетов и летающих машин.
— Наверное, — сказала она, — Татиана — чистая и милая, как одна из женщин Леонардо?
— О, да, — сказала Ильза, — конечно, она чистая и милая, как одна из женщин, изображенных Леонардо. Конечно, Татиана и сама такая же, как дети и как птицы, она верит в небо. Можете ли вы представить себе птицу или ребенка, которые не верили бы в небо?
— Не существует больше неба в Европе, — сказала Луиза.
— Татиана, — сказал я, — похожа на тех бабочек, которые выдумывают чудесные сказки, чтобы нашептывать их цветам. Прежде, чем Татиана рассказала своим детям о том, что птицы не бомбардируют городов, птицы, конечно, бомбили города.
— Бабочки любят умирать, — сказала Ильза. — Это одна женщина-христианка, женщина, которой теперь нет уже в живых, сказала мне, что бабочки любят умирать, а также, что существуют два рода женщин и два вида роз: бессмертные, которые живут вечно, и такие, которые любят умирать.
— Даже умершие розы бессмертны! — сказала Ильза.
— Шекспир любил аромат умерших роз, — ответил я, —…«of their sweet deaths are sweet odors made»[554]…
Однажды вечером я обедал на вилле итальянского посла, на берегу Ванзее. Была ясная ночь. Последний зимний месяц отражался во льду озера.
Несмотря на то, что молодые немецкие женщины, сидевшие вокруг стола, были очень красивы и утончены, все же в их ясных глазах, в блеске их кожи и их волос существовало нечто извращенное. Они смеялись смехом отсутствующим и ледяным, переглядываясь между собой слегка затуманенными глазами. Эта манера смеяться и переглядываться придавала их красоте неприятный оттенок сообщничества и одиночества. В вазах из Нимфенбурга[555] и Мейсена, расставленных здесь и там, и в большой стеклянной раковине из Мурано, стоявшей посреди стола, раковине, напоминавшей своим цветом густой туман, свойственный предутренней лагуне, цвели горделивые охапки великолепных роз — белых и алых, или молочно-нежных, словно кожа юной девушки. Эти розы были доставлены в то самое утро самолетом из Венеции; они еще были пропитаны венецианским воздухом; крики гондольеров рано утром на пустынных каналах еще дрожали, отдаваясь в их широких прозрачных лепестках. Свет серебряных канделябров отражался в саксонском фарфоре, с мертвенными отблесками сонной воды, и мягко угасал в глубоких отсветах хрусталя, усеивавшего стол (холодный отсвет альпийских льдов на рассвете), и в сверкающей поверхности больших застекленных проемов, отделявших закрытую веранду, на которой мы сидели, от деревьев парка и берегов Ванзее, неподвижного под холодной луной.
На лицах сотрапезников время от времени зажигались слабые огни, быть может, отблески той шелковой скатерти, на которой лежало огромное старинное кружево из Бурано[556], своим цветом несколько напоминавшее слоновую кость, быть может отблески роз. Тайное дыхание этих роз, с его легким ароматом, создавало в комнате атмосферу венецианской лоджии, в час, когда запах грязи лагуны соединяется с дыханием ночных садов. Оживленные слоем лака, который некие недавние реставраторы неосторожно противопоставили их первобытным краскам, несколько картин той молодой французской школы, которая считала себя наследницей Ватто[557], висели по стенам. Это были натюрморты: розы, освещающие своими красками сумрачные пейзажи статуй и черных деревьев, серебряных амфор и зеленых плодов. Розы казались тенями роз — и взгляд останавливался на венецианских розах, жизнь которых била ключом, с юношеской гордостью, и в саксонских вазах, в чаше из Мурано[558] находил я воспоминание о далеких умерших розах, живое воспоминание в настоящем о розах прошлого.
Сотрапезники сидели, как мне показалось, немного странным образом, плотно прижавшись спинами к спинкам своих стульев и немного откинув назад верхнюю часть туловища. Во время еды они, казалось, инстинктивно отстранялись от своей пищи и смотрели мимо. Женщины разговаривали бархатистыми голосами и с неожиданной деликатностью, которая способствовала тому, что они казались далекими, отсутствующими и угасшими. У них был усталый вид и синие круги под глазами. Было нечто отдаленное и одновременно условное в рафинированности их манер, изяществе туалетов, причесок, наложенной на лица косметики.
Их изысканная элегантность казалась результатом бессознательного усилия, для которого богатство, беззаботность в отношении средств, привилегированность рождения и воспитания, и гордость, прежде всего гордость, были единственным моральным поводом. То свойство, каким женщина владеет в наиболее высокой степени: уменье наслаждаться настоящим, ловить ускользающую минуту — оно-то и казалось у них потускневшим, изменившимся, отравленным затаенным страхом перед временем, уходящей молодостью, скрытой потребностью в чем-то недостающем, чем-то бессильным преодолеть тревоги дней и событий. Глухая зависть, горькие сожаления, горделивое недовольство самими собой брали верх над всеми остальными свойствами их характеров. А также — нечто вроде чувственной кастовой гордости.
Мужчины, сидевшие кругом стола, имели, словно для контраста, вид развязный, веселый, я сказал бы, отдохнувший, в известном смысле ко всему безразличный. В их числе было несколько итальянцев, один швед, бразильский посол. Остальные — немцы. Но все — дипломаты, и благодаря их долговременным сношениям с иностранцами, привычке жить вдали от Германии, они не только не казались немцами, но почти свободными людьми, разве только втайне чуть-чуть боязливыми, напуганными именно этим различием, отделявшим их от остальных немцев. В отличие от женщин, мужчины имели безмятежный вид и свободно смеялись без тени страха или гордости, как если бы самый факт их нахождения у этого стола, на вилле итальянского посольства, бесконечно отдалял их от мутной, мрачной и жестокой Германии, от этой ужасной зимы.
— Эдди — солдат? В самом деле солдат? — спрашивал, смеясь, граф Дорнберг, начальник Протокола Министерства иностранных дел Райха. Огромный Дорнберг, почти двух метров роста, которому его острая бородка придавала сходство с фавном, нагибался над столом вперед, опустив на атласную скатерть две большие волосатые руки.
— Действительно, солдат, — ответил я.
— Эдди будет очень стесняться, когда ему придется раздеваться на глазах у его товарищей, — сказала Вероника фон Клем.
— Бедный Эдди, ведь он такой застенчивый, — проговорила княгиня Агата Ратибор.
Это Аксель Мунте рассказал мне на Капри, несколькими днями раньше, историю Эдди Бисмарка: как Эдди Бисмарк покинул Капри, чтобы провести несколько дней в Швейцарии, и как он был внезапно отозван в Германию военными властями. Теперь Эдди находился в одной из казарм Страсбурга, в настроении безнадежном и, как говорила Вероника, «ужасно стесненный». Рассказывая мне историю военных похождений Эдди Бисмарка, Аксель Мунте смеялся, показывая свои острые зубы. Стоя и опираясь на свою трость, с манто, перекинутым через его худые плечи, он тряс головой и смеялся, а весь необозримый пейзаж с морем, оливами и рифами, к которому он прислонился, будто к стене, сотрясался от сухой грозы. Мы были на вершине его башни Материта: непомерное насмешливое лукавство Акселя Мунте сверкало под голубым небом Капри, словно одинокое дерево. Даже трава не росла вокруг в его тени, бесплодной и пыльной. Земля была вся расколота глубокими трещинами. Временами в этих трещинах виднелся блестящий глаз какой-нибудь тощей ящерицы, или извивался обезумевший червяк. Человек, земля, деревья, ящерицы казались написанными кистью Эль Греко. Аксель Мунте извлек из своего кармана письмо Эдди Бисмарка и стал громко читать его, кое-где бормоча и останавливаясь после каждой фразы, чтобы позубоскалить в свою серую бородку, похожую на дерево, источенное червями, временами возбуждаясь и повторяя два-три раза одно и то же слово, делая вид будто он не знает, как его следует произнести. У него была мания насмехаться над своим собеседником.
— Солдат Эдди Бисмарк! — закричал внезапно Аксель Мунте, поднимая руку и размахивая письмом, точно знаменем. — Солдат Эдди Бисмарк! Вперед, марш! Фюр Готт унд Фатерлянд! Ихь! Ихь! Ихь![559]
— Это справедливо и благородно, — сказал итальянский посол Дино Альфиери своим глупым и любезным голосом, — что Германия обращается с призывом к лучшим своим сынам. И это прекрасно, что один из Бисмарков сражается, как простой солдат, в армии Райха[560].
Все рассмеялись, и Дорнберг, с глубокой серьезностью заявил:
— Исключительно благодаря Эдди Германия выиграет войну!
Несколькими днями раньше, прежде чем покинуть Капри и возвратиться в Финляндию, я спустился к морю и, бродя среди маленьких улочек, сдавленных между высокими стенами, испещренными пятнами сырости, прошел мимо Фортино, дома Моны Вильямс, оставшейся в Америке, в котором в отсутствие Моны Эдди Бисмарк был ревнивым «бускипером»[561]. Шел дождь, и Фортино имел вид больной и меланхолический.
— Господин граф отправился на войну! — сказал мне киприот-садовник, заметив, что я прохожу мимо. И образ Эдди, белокурого и изящного Эдди, чистящего картошку в страсбургской казарме, преисполнил меня лукавым удовольствием. — «Господин граф отправился на войну! Вперед, марш! Фюр Готт унд Фатерлянд!» — кричал Аксель Мунте, сотрясаясь от сухого смеха и размахивая письмом Эдди с радостной насмешливостью.
— Эдди на поле битвы будет, конечно, отличным солдатом, достойным имени, которое он носит, — сказал Альфиери своим вежливым и глупым голосом. И все рассмеялись.
— Эдди — очень милый мальчик; я очень его люблю, — произнесла Анна-Мария Бисмарк. — Эта война без него оставалась бы всего лишь войной хамов!
Анна-Мария — шведка. Она вышла замуж за брата Эдди, князя Отто фон Бисмарка, советника посольства в Риме.
— Имя, которое он носит, слишком хорошо для поля битвы, — отозвался граф Дорнберг с иронической интонацией.
— Я не могу представить себе ничего нелепее для одного из Бисмарков, как быть убитому на этой войне, — продолжала Анна-Мария.
— О, да, это в самом деле было бы смешно! — проговорила злым голосом княгиня Агата Ратибор.
— Не так ли? — сказала Анна-Мария, бросая на Агату взор, исполненный мягкого презрения.
Какая-то мелочность, горделивая и злонамеренная, проницала беседу, которой Вероника и Агата управляли с изяществом суховатым и лишенным блеска. Слушая этих красивых молодых женщин, я думал о работницах из предместий Берлина. Был тот час, когда они возвращаются к себе домой или в свой «Лэгер»[562] после долгого рабочего дня на военных заводах Нейкельна, Паукова и Шпандау. Далеко не все из них — работницы от рождения. Многие происходят из буржуазных семейств или являются женами чиновников и офицеров, захваченными зубчатыми шестернями обязательных работ. Среди них много также и «рабынь» из Польши, с Украины, из Белоруссии и Чехословакии, с «П» или «ОСТ», нашитыми на груди. Но все они — работницы, буржуазки, рабыни с оккупированных, ограбленных территорий — уважают друг друга, помогают друг другу, защищают друг друга. Они работают десять-двенадцать часов в день под присмотром эсэсовцев, вооруженных автоматами; каждая из них передвигается лишь в своем углу, не пересекая линий, нанесенных мелом на полу. Вечером они выходят — разбитые, грязные, черные от машинного масла, с волосами, усыпанными металлической ржавчиной. Кожа у них на лицах и на руках обожжена кислотами, глаза окаймлены кругами вследствие страха, лишений, тревоги.
Здесь была та же самая тревога, тот же самый страх, но развращенный, обесцененный надменной чувственностью, бесстыдной гордостью, прискорбным моральным безразличием, которые я чувствовал в этот вечер у молодых немецких женщин, сидевших вокруг стола у итальянского посла. Их туалеты были доставлены контрабандой из Парижа, из Рима, из Стокгольма, из Мадрида в дипломатическом багаже, вместе с духами, рисовой пудрой, обувью и бельем. Они не то что бы гордились своей привилегированной элегантностью. Это были женщины, получившие рафинированное воспитание, такие мелочи не возбуждали их гордости. Они владели ими по праву, это им «было положено». И все же их элегантность, без сомнения, в значительной мере содействовала (хотя, быть может и бессознательно) их патриотизму. «Их патриотизму». Они гордились страданиями, лишениями, трауром немецкого народа, всеми ужасами войны, которые они, благодаря старым или недавним привилегиям, считали себя вправе не делить с народом. Таким и был «их патриотизм»: жестокое удовлетворение своим собственным страхом, своей собственной тревогой, а также всеми страданиями, всеми лишениями немецкого народа.
В этой теплой комнате, с паркетом, укрытым толстыми мягкими коврами, освещенной этим холодно-матовым светом, который изливали луна и розоватое пламя свечей, слова, жесты и улыбки молодых женщин были направлены к тому, чтобы с завистью и сожалением вызвать в памяти мир счастливый, безнравственный, наслаждающийся и раболепный, удовлетворенный своей чувственностью и надменностью. И мертвенный аромат роз, угасший блеск старинного серебра и старого фарфора напоминали о нем, но с траурным ощущением мертвенной разложившейся плоти. Вероника фон Клем, жена чиновника немецкого посольства в Риме, всего несколько дней назад вернулась из Италии с еще не прошедшим возбуждением от последних сплетен бара «Эксцельсиор», от обедов у принцессы Изабеллы Колонна и от Гольф-клуба Акуазанты, который широко поддерживал своими личными средствами граф Галеаццо Чиано с его политическим и светским окружением. Она рассказывала о последних римских скандальных историях. Манера, с которой остальные немецкие молодые женщины — княгиня Агата Ратибор, Мария-Терезия, Алиса, баронесса фон Б., княгиня фон Т. комментировали их, позволяла заметить оттенок презрения, которому другие женщины — итальянки или американки, шведки или венгерки по рождению — баронесса Эдельштам, маркиза Теодоли, Анжела Ланца, баронесса Джозефина фон Штум, противопоставляли милосердие лукавое и ироническое, но одновременно и горьковато-пикантное.
— В последнее время много говорят о Филиппо Анфузо, — говорила Агата Ратибор. — Кажется, прекрасная графиня Д. перешла из объятий Галеаццо Чиано в объятия Анфузо.
— Это доказывает, — сказала маркиза Теодоли, — что в настоящее время Анфузо в большом фаворе у Чиано.
— Но разве можно это сказать о Бласко д’Айета? — спросила Вероника. — Он наследовал от Чиано маленькую Джоржину и как раз это-то и было причиной слуха, что он впал в немилость.
— Бласко никогда не попадет в немилость, — ответила Агата. — Его отец, шамбеллан двора, защищает его перед королем, Галеаццо Чиано, зять Муссолини, защищает его перед Дуче, а его жена — верная католичка, защищает его перед Папой. Чтобы защититься от Галеаццо, у Бласко всегда найдется под рукой какая-нибудь Джоржина.
— Римская политика, — сказала Вероника, — делается четырьмя или пятью красивыми малыми, всецело занятыми тем, чтобы обмениваться друг с другом тридцатью наиболее идиотическими женщинами во всем Риме, и всегда одними и теми же.
— Когда этим тридцати женщинам перевалит за сорок, — сказала княгиня фон Т., — в Италии начнется революция.
— Почему же не тогда, когда этим четырем или пяти красивым малым исполнится немного больше сорока, — поинтересовалась Анна-Мария фон Бисмарк.
— Ах, это совсем не одно и то же, — сказал Дорнберг. — Политических деятелей, видите ли, опрокидывают с гораздо большей легкостью, чем три десятка старых любовниц.
— С точки зрения политической жизни, — проговорила Агата Ратибор, — Рим — всего лишь гарсоньерка[563].
— Дорогая, на что Вы жалуетесь, — спросила Вирджиния Казарди, со своим американским акцентом, — Рим — священный город, город избранный Богом затем, чтобы у него на земле имелось убежище.
— Я слышала хорошее «мо»[564] по поводу графа Чиано, — сказала Вероника, — но не знаю, могу ли я повторить его? Оно идет из Ватикана.
— Вы можете повторить его, — ответил ей я, — у Ватикана есть тоже своя лестница обслуживания.
— Граф Чиано занимается любовью, говорят в Ватикане, а думает, что делает политику.
— Фон Риббентроп, — сказала Агата, — рассказывал мне, что со времени их встречи в Милане для подписания Стального Пакта граф Чиано смотрел на него так, что он приходил в смущение.
— Послушать Вас, — произнес я, — так можно подумать, что министр фон Риббентроп тоже был любовницей Чиано.
— Отныне, — сказала Агата, — он тоже перекочевал в объятия Филиппо Анфузо.
Вероника рассказала, что графиня Чиано, к которой она питала искреннюю симпатию, за последнее время неоднократно демонстрировала свое стремление разорвать брачные отношения с графом Чиано, чтобы выйти замуж за молодого флорентийского аристократа маркиза Эмилио Пуччи.
— Разве графиня Эдда Чиано — одна из этих тридцати женщин? — спросила княгиня фон Т.
— В политике, — ответила Агата. — Эдда — та из тридцати, которая имеет меньше всего успеха.
— Итальянский народ обожает ее, точно святую. Не надо забывать, что она — дочь Муссолини, — сказал Альфиери своим милым и глупым голосом.
Все рассмеялись, а баронесса фон Б., обращаясь к Альфиери и грациозно наклонившись, заявила:
— Я здесь — посол тридцати самых красивых женщин Рима. — Что вызвало у всех сотрапезников припадок самого сердечного смеха.
Желание выйти замуж за молодого маркиза Пуччи, приписываемое Эдде Чиано, было не более чем сплетней, не имевшей никакого серьезного значения. Но в словах Вероники и комментариях остальных молодых немецких женщин (да и сам Альфиери, весьма лакомый до римских сплетен, предпочитал в некоторых случаях чувствовать себя, как сам он говорил, послом тридцати самых красивых женщин Рима, чем послом Муссолини) она приобретала значение национального события, фундаментального факта итальянской жизни; она навлекала на себя безмолвное осуждение всего итальянского народа. Разговор долго вертелся вокруг графа и графини Чиано, рисуя молодого министра иностранных дел среди золотой когорты «бьюти»[565] дворца Колонна и «дэнди» дворца Чиги, любезно развлекаясь соперничествами, интригами и ревностями этого двора, элегантного и безнравственного, принадлежностью к которому гордилась сама Вероника (Агата Ратибор тоже принадлежала бы к нему, если бы не была отныне тем, что и Галеаццо Чиано, сам немного «старая дева», презирал больше всего, то есть именно старой девой). Она привела нам на память и как бы заставила дефилировать перед нами весь кортеж римских «сливок», с его раболепными интересами, жадной ловлей почестей и развлечений, его моральным безразличием, характерными для общества глубоко разложившегося. И это было продолжением горделивого сравнения коррупции итальянской жизни — пассивности, одновременно циничной и безнадежной, всего итальянского народа — с женственностью и «героизмом» немецкой жизни. Можно было подумать, что каждая из них: Вероника, Агата, княгиня фон Т., графиня фон В., баронесса фон Б. говорили: «Посмотрите, как я страдаю! Поглядите, в какое состояние привели меня голод, лишения, усталость, жестокости войны, полюбуйтесь и покраснейте!»
И, действительно, другие молодые женщины, чувствовавшие себя в Германии иностранками, краснели, как если бы у них не оставалось иного средства скрыть улыбку, которую вызывала у них эта светская эклога[566], «героизму» немецкой жизни и блеску этой горделивой плоти, этих элегантных туалетов. Или как если бы они в глубине своего сознания чувствовали себя подобными остальным и виновными, как они.
Я видел сидящую напротив меня, между графом Дорнбергом и бароном Эдельштамом, женщину, уже не находившуюся в цвете лет и улыбавшуюся усталой улыбкой легкомысленным и злым словам Вероники и остальных дам из ее компании. Я ничего не знал о ней, кроме того, что она была итальянкой и что ее девичья фамилия была Антинори, и что она вышла замуж за крупного чиновника Министерства иностранных дел Райха, имя которого часто встречалось в немецкой политической хронике: барона Брауна фон Штума, имевшего титул посла. Я со страдальческой симпатией смотрел на ее усталое лицо, осунувшееся, но минутами все еще молодое, ее светлые глаза, затуманенные и мягкие, будто стыдящиеся втайне, и тонкие морщинки, окружавшие ее виски и рот, печальный и горький. Итальянское изящество ее лица еще не совсем угасло, так же, как и нежная мечтательность, которая присутствует во взоре итальянских женщин и которая иногда кажется взглядом любви, позабытым между полусомкнутых ресниц. Время от времени она смотрела на меня, и я чувствовал, что ее взгляд останавливается на мне как признание ее заброшенности, которое выдавало мне тайну ее смятения. Я стал замечать, что она была предметом недоброжелательного внимания Вероники и ее приятельниц. Они с чисто женской иронией наблюдали ее простое платье, ногти без лака, брови не выщипанные и не удлиненные, губы не напомаженные, как будто им доставляло лукавое удовольствие обнаруживать на лице и во всей фигуре Джозефины фон Штум тревогу и страх, немного отличавшиеся от их тревоги, их страха, печаль не немецкую, отсутствие этой гордости нищетой других, в которую они так подчеркнуто облачались. Но мало-помалу я стал улавливать тайный смысл этого взгляда, в котором мне удалось заметить немую мольбу, как будто она просила меня о помощи и дружбе.
Сквозь слегка затуманенные стекла замерзшее Ванзее[567] казалось огромной бляхой из блестящего мрамора, где линии, прорезанные коньками и парусными санями, начертали таинственные изречения. Черневшая в лунном свете высокая стена лесов окружала озеро, точно стена тюрьмы. Вероника вспоминала о зимнем солнце на Капри, о каприотских днях Эдды Чиано и ее легкомысленного двора.
— Это просто невероятно, — говорил Дорнберг, — какими людьми окружает себя графиня Чиано. Я не видел ничего подобного даже в Монте-Карло, возле старых дам и жиголо[568].
— В сущности, Эдда и есть старая дама! — сказала Агата.
— Но ей всего лишь тридцать лет, — воскликнула княгиня фон Т.
— Тридцать лет, — настаивала Агата, — это много для тех, кто никогда не был молод. — И она добавила, что графиня Чиано никогда не была молодой, что она уже была старухой, что у нее склад мышления, характер, капризные и деспотические настроения старой женщины. И, как эти старые дамы, которые окружают себя улыбающимися лакеями, помимо услужливых друзей и покладистых любовников, она не выносила около себя никого, кроме подозрительных субъектов, способных забавлять и развлекать ее.
— Это невероятно печальная женщина, — заключила она, — ее злейший враг — скука. Она проводит целые ночи, играя в кости, как какая-нибудь негритянка из Гарлема. Это, в своем роде, мадам Бовари. Вы можете себе представить, что получилось бы из Эммы Бовари[569], если бы она ко всему была еще и дочерью Муссолини?
— Она часто плачет. Она целые дни проводит запершись в своей комнате и рыдая, — сказала Вероника.
— Она всегда смеется, — сообщила злобным голосом Агата, — она часто проводит ночи, предаваясь пьянству среди своей милой компании любовников, мошенников и шпиков.
— Было бы гораздо хуже, — сказал Дорнберг, — если бы она пила совсем одна. — И он рассказал, что знавал в Адрианополе[570] бедного английского консула, который смертельно скучал, и чтобы не пить одному, садился ночью перед зеркалом. Он пил часами, молча, в своей пустынной комнате, до тех пор, пока его отражение в зеркале не принималось смеяться. Тогда он поднимался и шел спать.
— Уже через пять минут Эдда бросила бы свой бокал в это зеркало, — съязвила Агата.
— У нее очень больная грудь, она знает, что не проживет долго, — посочувствовала Вероника. — Ее экстравагантности, эти капризные и деспотические настроения происходят от ее болезни. Иногда мне ее жаль.
— Она не вызывает жалости в итальянцах, — парировала Агата. — Итальянцы ее презирают. Почему бы они должны были ее жалеть?
— Итальянцы презирают всех, кому они униженно служат, — презрительно сказала графиня В.
— Быть может, это всего лишь презрение прислуги, — сказала Агата, — но они ее не выносят.
— Каприоты ее не любят, — согласился Альфиери, — но они ее уважают и прощают ей все ее экстравагантности. «Бедная графиня, — говорят они, — это не ее вина, ведь она дочь сумасшедшего!». У народа, населяющего Капри, странный взгляд, и к тому же только ему одному свойственный взгляд на историю. В прошлом году, после моей болезни, я отправился на Капри, чтобы провести там несколько недель выздоровления. Рыбаки из Пиккола Марина, когда они видели, что я прохожу мимо них очень худой и бледный, воображали, что я немец оттого лишь, что я посол в Берлине, и говорили мне: «Не принимайте все так близко к сердцу, месье! Ну что для вас такого, если Гитлер проиграет войну? Думайте о своем здоровье!».
— А! А! А! — засмеялся Дорнберг. — Думайте о своем здоровье! Это недурная политика!
— Говорят, она ненавидит своего отца, — сказала княгиня фон Т. с иронией.
Все принялись смеяться, но Альфиери, самый красивый из всех послов и самый рыцарственный из мужчин, заметил:
— А! Так вы первая бросаете в него камень?
— Мне было восемнадцать лет, когда я бросила первый камень, — сказала княгиня фон Т.
— Если бы Эдда получила несколько лучшее воспитание, — сказала Агата, — она превратилась бы в отличную нигилистку.
— Я не знаю, в чем заключается ее нигилизм, — сказал я, — но в ней несомненно есть что-то дикое. Это мнение разделяет также и Изабелла Колонна. Однажды вечером на обеде в одном известном римском доме говорили о принцессе Пьемонтской. Графиня Чиано заявила: «Династия Муссолини такая же, как и Савойская, она не продлится долго. Меня ожидает такой же конец, как и принцессу Пьемонтскую». Все были ошеломлены — принцесса Пьемонтская сидела тут же, за столом. В другой раз, на балу во дворце Колонна, графиня Чиано сказала Изабелле, которая шла, чтобы ее встретить: «Я задаю себе вопрос, когда мой отец решится вымести все это?» Однажды мы говорили о самоубийстве. Она мне неожиданно сказала: «У моего отца никогда не хватит смелости на самоубийство». Я ответил ей: «Покажите ему вы сами, как пускают в себе пулю из пистолета!» На другой день полицейский комиссар явился просить меня от имени графини Чиано больше с ней не встречаться.
— И вы никогда больше с ней не виделись? — спросила меня княгиня фон Т.
— Нет, один раз, немного спустя. Я прогуливался в лесу, который находится позади моего дома, со стороны Матромании, и встретил ее на тропинке. Я сказал ей, что она могла бы воздержаться и не ходить в мой лес, если ей не хотелось со мной встречаться. Она странно посмотрела на меня и ответила, что хотела со мной поговорить. «Что же вы хотите мне сказать?» — спросил я. У нее был униженный и печальный вид. — «Ничего. Я хотела вам сказать, что могла бы вас уничтожить, стоило мне пожелать». — Она протянула мне руку: — «Останемся добрыми друзьями, хотите?» — сказала она. — «Мы никогда не были добрыми друзьями», — ответил я. Она удалилась молча. Дойдя до конца тропинки, она обернулась с улыбкой. Я был глубоко взволнован. С этого дня я всегда испытываю к ней большую жалость. Должен также добавить, что я чувствую к этой женщине суеверное уважение. Она — что-то вроде Ставрогина[571].
— Что-то вроде Ставрогина, говорите вы? — спросила меня княгиня фон Т. — Почему вы думаете, что это что-то вроде Ставрогина?
— Она любит смерть, — ответил я. — У нее необыкновенное лицо: в некоторые дни это маска убийцы, в другие — маска самоубийцы. Я не буду удивлен, если мне однажды сообщат, что она кого-нибудь убила или покончила с собой.
— Да, она любит смерть, — сказал Дорнберг. — На Капри она часто выходит одна по ночам, вскарабкивается на высокие скалы, торчащие из моря, ходит по тропинкам на краю бездны. Однажды ночью крестьяне видели, как она сидела на отвесной скале обрыва Тиберия, свесив ноги в пустоту. Она склоняется с высоты Мигглиары, как с высоты балкона, над пропастью, глубиной в пятьсот метров. В одну грозовую ночь я видел своими глазами, как она ходила по крыше картезианского монастыря[572], скача с одного купола на другой, будто околдованная кошка.
— Да, она любит смерть.
— Разве достаточно любить смерть, — сказала графиня фон В., — чтобы стать убийцей или самоубийцей?
Достаточно того, чтобы любить смерть, — ответил я, — это и есть тайная сущность Ставрогина, таков тайный смысл его ужасной исповеди. Муссолини знает, что его дочь принадлежит к породе Ставрогиных, и боится ее; он приказывает присматривать за ней, хочет знать каждый шаг ее, каждое ее слово, каждую мысль, каждый порок. Он дошел даже до того, что бросил в ее объятия человека из полиции, чтобы иметь, наконец, возможность хотя бы глазами другого следить за своей дочерью в такие минуты, когда она собой не владеет. Что он хотел бы вырвать у нее, так это исповедь Ставрогина. Его единственный враг, его подлинный соперник — это его дочь. Она — его подсознание. Вся черная кровь всех Муссолини течет не в жилах отца, она течет в жилах Эдды. Если бы Муссолини был наследственным монархом, а Эдда — его наследным принцем, он заставил бы ее отречься, чтобы чувствовать себя более уверенно на троне. В конце концов Муссолини счастлив, что его дочь ведет столь беспорядочную жизнь и что столько зла подстерегает ее. Он может царить в мире. Но может ли он мирно спать? Эдда неумолима: она преследует его по ночам. И однажды между этим отцом и этой дочерью прольется кровь…
— Вот романтичная история, — сказала княгиня фон Т. — Разве это не история Эдипа[573]?
— Да, быть может, — ответил я, — в том смысле, в каком тень Эдипа существует также и у Ставрогина.
— Я думаю, что Вы правы, — сказал Дорнберг, — достаточно того, чтобы любить смерть. Один врач из немецкого военного госпиталя в Анакапри, капитан Кифер, был вызван однажды в гостиницу Кизисана, чтобы осмотреть графиню Чиано, которая страдала сильными и упорными головными болями. Таким образом, он получил возможность наблюдать Эдду вблизи. Капитан Кифер — хороший немецкий врач, который умеет смотреть в корень дела и знает, что все болезни таинственны. Он вышел из комнаты графини Чиано глубоко потрясенный. Позже он рассказал, что заметил на ее виске белое пятнышко, похожее на шрам от пистолетного выстрела. Он добавил, что это, несомненно, шрам от того пистолетного выстрела, который она, со временем направит себе в висок.
— Еще одна романтическая история! — воскликнула княгиня фон Т. — Я должна признаться, что эта женщина начинает меня привлекать. Вы на самом деле думаете, что она покончит с собой в тридцать лет?
— Не бойтесь: она покончит с собой в семьдесят лет! — неожиданно сказала Джозефина фон Штум.
Мы все повернулись и посмотрели на нее с изумлением. Все стали смеяться. Я смотрел на нее молча: она была очень бледна и улыбалась.
— Она не принадлежит к породе бабочек, — сказала Джозефина фон Штум презрительно.
Наступило мгновение неприятного молчания.
— Когда я в последний раз возвращалась из Италии, — произнесла, наконец, Вирджиния Казарди, со своим американским акцентом, — я привезла с собой итальянскую бабочку.
— Бабочку? Что за идея! — воскликнула Агата Ратибор, которая выглядела возбужденной и как бы даже оскорбленной.
— Римскую бабочку с Аппиевой дороги, — сказала Вирджиния. Она поведала нам, что эта бабочка опустилась однажды на ее прическу, в то время, как она обедала с несколькими друзьями в этом ресторане, носящем такое странное название, возле могилы Цецилии Метеллы[574].
— Какое же это странное название у ресторана? — спросил Дорнберг.
— Он называется «Oui non si muiore mei»[575] — ответила Вирджиния.
Джофина фон Штум стала смеяться, пристально глядя на меня, а потом она сказала тихим голосом: «Какой ужас!»
— Римская бабочка не такая, как все остальные, — сказала Вирджиния.
Она привезла бабочку из Рима в Берлин на самолете, в картонной коробке, и выпустила ее на свободу в своей спальне. Бабочка стала летать по комнате, потом села на зеркало и оставалась там неподвижно несколько дней, только изредка чуть-чуть двигая своими нежными синими усиками. — Она смотрелась в зеркало, — сказала Вирджиния. Несколько дней спустя, поутру, она нашла ее на стекле зеркала мертвой.
— Она утопилась в зеркале, — сказала баронесса Эдельштам.
— Это история нарцисса, — сказала маркиза Теодоли.
— Вы полагаете, что бабочка утопилась? — спросила Вероника.
— Бабочки любят умирать, — сказала Джозефина фон Штум, понизив голос.
Все стали смеяться. Возмущенный этим глупым смехом, я смотрел на Джозефину.
— Ее убило собственное отражение, собственное отражение в зеркале, — сказала графиня Эмо.
— Я думаю, что как раз отражение-то и умерло в первую очередь, — сказала Вирджиния, — это всегда происходит именно так.
— Ее отражение осталось в зеркале, — сказала баронесса Эдельштам. — Бабочка не умерла, она улетела.
— Бабочка! Это красивое слово — бабочка, — произнес Альфиери своим голосом, глупым и любезным. — Вы заметили, что слово «фарфалла»[576] на французском — мужского рода, а на итальянском — женского. В Италии с дамами очень галантны.
— Вы хотите сказать с «бабочками»? — заметила княгиня фон Т.
— По-немецки «бабочка» тоже мужского рода, — сказал Дорнберг. — «Дер Шметтерлинг»[577]. У нас в Германии стремятся превозносить мужской род.
— Дер Криг[578] — война! — сказала маркиза Теодоли.
— Дер Тод[579] — смерть, — сказала Вирджиния Казарди.
— На греческом «смерть» тоже мужского рода, — сказал Дорнберг. Это — бог Танатос.
— Но по-немецки, — заметил я, — «солнце» женского рода: «ди Зонне»[580]. Нельзя понять историю германского народа, если не учитывать, что это история народа, для которого солнце — женского рода.
— Увы! Возможно вы правы, — сказал Дорнберг.
— В чем это Малапарте прав? — спросила Агата с иронией. — Слово «луна» по-немецки мужского рода: «дер Монд»[581]. В равной мере очень важно, чтобы понять историю немецкого народа.
— Разумеется, — ответил Дорнберг, — это тоже очень важно.
— Все, что только есть таинственного у немцев, — сказал я, — все что только есть у них болезненного, все происходит от женского рода солнца — «ди Зонне».
— Да, мы, к несчастью, народ очень женственный, — заключил Дорнберг.
— Кстати о бабочках, — сказал Альфиери, обращаясь ко мне, — ты, кажется, писал в одной из своих книг, что Гитлер — бабочка?
— Нет, — ответил я, — я писал, что Гитлер — женщина.
Все переглянулись с удивлением, несколько смущенные.
— В самом деле, — сказал Альфиери, — мне кажется абсурдным сравнивать Гитлера с бабочкой.
Все рассмеялись, и Вирджиния заявила:
— Мне никогда не пришло бы в голову положить Гитлера между страницами, чтобы его высушить; между страницами «Майн Кампф», точно бабочку. Очень странная идея.
— Это идея школьника, — сказал Дорнберг, улыбаясь в свою бородку фавна.
То был час «Вердункелюнга»[582]. Чтобы полюбоваться замерзшим Ванзее, сверкающим под луной, Альфиери, вместо того, чтобы приказать закрыть окна шторами, распорядился потушить свечи. Призрачный отблеск луны мало-помалу проник в комнату, распространился по хрусталю, фарфору и серебру, как отдаленная музыка. Мы сидели, внимательные и молчаливые, в серебристой полутьме. Слуги ходили вокруг стола тихими шагами в лунном полумраке, этом прустовском полумраке, который казался отраженным «морем, почти превратившимся в простоквашу и голубоватым, точно снятое молоко». Ночь была прозрачная, без ветерка, неподвижные деревья тянулись к бледному небу, снег искрился, сверкающий и голубоватый.
Мы сидели так довольно долго, глядя на озеро и молча. В этом молчании был тот же горделивый страх, та же тревога, которые я заметил в смехе и голосах молодых немецких женщин.
— Это слишком прекрасно, — сказала вдруг Вероника, резко поднимаясь, — я не люблю грустить.
Мы последовали за ней в гостиную, залитую светом, и вечер еще долго продолжался в приятных разговорах. Джозефина подошла и села возле меня. Я заметил, что была минута, когда она хотела со мной заговорить. Она смотрела на меня несколько мгновений, потом встала и вышла из комнаты. Больше я не видел ее в этот вечер. Я думал, что она уехала, потому что мне показалось, что я слышал скрип колес по снегу и шум удаляющегося автомобиля. Было уже два часа ночи, когда мы покинули Альфиери и Ванзее. Чтобы вернуться в Берлин, я сел в ту же машину, где сидели Агата и Вероника. Пока мы ехали по автостраде, я спросил у Вероники, хорошо ли она знает Джозефину фон Штум.
— Это итальянка, — ответила Вероника.
— She’s rather crazy[583], — добавила Агата своим немного кисловатым голосом.
* * *
Однажды вечером я ехал в вагоне метро, набитом людьми, бледными, потными и грязными, с кожей пепельного цвета. И вдруг я увидел сидевшую напротив, с большой сумкой на коленях, Джозефину фон Штум. Она улыбнулась мне и сказала: «Добрый вечер», немного краснея. Она была одета удивительно просто, почти бедно; ее обнаженные руки растрескались от холода и были покрыты теми красноватыми штрихами, которые стирка оставляет на изнеженной коже. Она показалась мне униженной и сгорбленной; она была бледна, похудела, ее глаза были окаймлены красноватыми обводами, губы казались прозрачными. Она сказала мне, будто извиняясь, что вышла купить что-нибудь к обеду, но что ей пришлось простоять четыре часа в очереди перед магазином. Она торопилась вернуться к себе, было поздно и она тревожилась о двух своих детях, которые одни оставались дома. «Трудная жизнь!» — добавила она. Она говорила, улыбаясь, но голос ее дрожал, и время от времени она краснела.
Она спросила меня, что нового в Италии. Она охотно вернулась бы в Италию, чтобы провести хоть несколько дней в Риме или Умбрии[584], в доме своей матери, потому что ей очень было бы нужно отдохнуть, но она не могла этого сделать. Ее долг немецкой женщины (говоря слова «немецкая женщина», она покраснела) предписывает ей оставаться в Германии, чтобы нести свою часть военных тягот, как все остальные немецкие женщины. «А ведь приятно чувствовать себя итальянцем в этой стране, вы не находите?» — сказал я ей. Печаль омрачила ее лицо, словно ночь, опускающаяся на мирный итальянский пейзаж. «Я больше не итальянка теперь, Малапарте, — ответила она. — Я немка». Нечто униженное и безнадежное промелькнуло в выражении ее лица. Мне рассказывали, что из трех сыновей ее мужа (когда посол Браун фон Штум на ней женился, он был вдовцом и имел трех сыновей от первого брака), один погиб в России, другой был страшно изувечен, а третий — раненый, находился в госпитале в Берлине. Что же до троих детей, которых она сама имела от посла Брауна фон Штума, то второй из них — десятилетний ребенок, трагически погиб несколькими месяцами ранее в бассейне одной гостиницы в Тироле[585]. Джозефина была вынуждена вести дом: мести, мыть, готовить, стоять в очередях перед лавочками, сопровождать свою маленькую дочку в школу, кормить грудью своего младенца. «У меня нет больше молока, я истощена, Малапарте», — сказала она, краснея. Так вот постепенно она опустилась до последней шеренги темного и заброшенного женского населения Германии периода войны, этого сумрачного населения, полного тревоги, не ведающего ни смягчения своей участи, ни надежд.
Посол Браун фон Штум был горд, что его жена делит нищету, страдания и ограничения, предписываемые войной всем женщинам Германии. Он не хотел, чтобы Джозефина пользовалась привилегиями, принадлежавшими женам дипломатов и крупных чиновников Министерства Иностранных дел Райха. «Я хочу, чтобы моя жена служила примером, чтобы она делила общую участь», — говорил он. Ограничения, усталость, страдания, немое отчаяние его жены увенчивали его дни, дни лояльного и верного прусского функционера. Он был горд тем, что Джозефина работала и переутомлялась, как всякая другая немецкая женщина. Барон Браун фон Штум, посол, был горд, что его жена стоит в очередях перед магазинами, сама тащит к себе домой свой ежемесячный мешок с углем, моет паркет и готовит на кухне. Он питался в клубе Министерства иностранных дел, если не принимал участия в постоянных роскошных официальных банкетах. Повар Ауслендер-клуба в 1942 году славился на весь Берлин. Вина там тоже были лишь отборные; что до него, то он предпочитал белым красные: папское «Шатонёф» — любому мозельскому или рейнскому. Его любимым коньяком был «Курвуазье», но в зимний период он предпочитал «Хеннеси». «Я знавал месье Хеннеси в Париже, в 1936 году», — часто говорил он. Вечерами он возвращался поздно, в роскошном автомобиле министерства; в эти часы он был горд тем, что находил свою жену бледной, измученной, полной тревоги и страха. Барон Браун фон Штум, посол, был честным и лояльным функционером Райха, верным своему долгу пруссаком, преданным до жертвенности немецкой партии и Райху. Йа, йа, хайль Хитлер!
Наступил момент, когда Джозефина фон Штум сказала мне: «Я уже приехала, всего хорошего!». Это была не та станция, до которой я ехал. Мне надо было выходить дальше, у Кайзерхофа, но я поднялся с ней вместе, взял ее тяжелую сумку и сказал: «Разрешите мне вас проводить?» Мы поднялись по лестнице, вышли из метро и прошли несколькими уже темными улицами. Грязный снег скрипел под нашими ногами. Мы поднялись на лифте на третий этаж. Перед своей дверью Джозефина спросила: «Может быть вы зайдете?» Но я знал, что ей нужно готовить обед для ее маленькой дочки, накормить младенца, убрать квартиру… — «Мерси, — ответил я, — мне нужно идти, у меня важное деловое свидание. Если вы позволите, я зайду в другой раз, тогда мы сможем поговорить…» Я хотел сказать ей: «мы поговорим об Италии», но не сказал этого, быть может из стыдливости, быть может также потому, что мне показалось жестоким говорить ей об Италии. И потом… кто знает, существовала ли Италия в действительности. Быть может Италия была только сказкой, сном? Кто мог знать существует ли еще Италия? Ничего отныне более не существовало. Ничего, кроме мрачной, черной, жестокой, горделивой и безнадежной Германии. Ничего иного не существовало отныне. «Италия? Ах, да, да!» Я спустился по лестнице, смеясь, потому что я не был вполне уверен в эту минуту, что Италия на самом деле существует. Я спустился по лестнице, смеясь, и, очутившись на улице, плюнул на грязный снег: «Ах, да, да, Италия, — произнес я громко. — Ах, да, да!»
Несколькими месяцами позже, по возвращении моем из Финляндии, я остановился на два дня в Берлине. У меня не было транзитной визы, как обычно. Мне не было разрешено, как обычно, остановиться в Германии более чем на два дня. Вечером, на вилле Ванзее, когда посол Альфиери сказал мне в конце обеда своим голосом, любезным и глупым, что Джозефина фон Штум выбросилась из окна, я ни в малой мере не испытал ни чувства удивления, ни сострадания. Это было для меня горем, отмеченным старой датой; уже целые месяцы я знал, что Джозефина фон Штум выбросилась из окна. Я знал это с того вечера, когда, смеясь, спустился по лестнице, громко восклицая: «Ах, да, да, Италия!»
И я тогда еще плюнул на грязный снег: «Ах, да, да, Италия!»
XV. ДЕВУШКИ ИЗ СОРОК[586]
— О! Как трудно быть женщиной! — сказала Луиза.
— А барон Браун фон Штум, посол, — спросила Ильза, — когда он узнал о смерти своей жены…
— Он и не шевельнулся. Только слегка покраснел и сказал: «Heil Hitler!»
В это утро он, как обычно, председательствовал на очередной пресс-конференции в Министерстве Иностранных дел. Он казался вполне безмятежным. Ни одна немка не присутствовала на погребении Джозефины, не были даже жены коллег барона фон Штума — посла. Кортеж был очень немногочисленным и состоял лишь из нескольких берлинских итальянок, группы итальянских рабочих из организации Тодта и нескольких чиновников итальянского посольства. Джозефина не была достойна сожаления немцев. Жены немецких дипломатов гордятся страданиями, нищетой и лишениями немецкого народа. Немки, жены немецких дипломатов не выбрасываются из окон, не кончают самоубийством. Heil Hitler Барон Браун фон Штум, посол, следовал за гробом в форме гитлеровского дипломата время от времени он бросал вокруг подозрительный взгляд, время от времени он краснел. Ему было стыдно, что его жена (ах! это была итальянка, на которой он женился!) не имела силы противостоять страданиям немецкого народа.
— Иногда мне стыдно того, что я женщина, — сказала Луиза тихо.
— Почему, Луиза? Разрешите мне рассказать вам историю девушек из Сорок, — сказал я, — из Сорок на Днестре, в Бессарабии. Это были бедные молодые еврейские девушки, которые убегали в поля и леса, чтобы скрыться и не попасть в руки немцев. Поля пшеницы и леса Бессарабии были полны молодыми еврейками, которые прятались там, оттого, что боялись немцев, боялись их рук.
Они не боялись их лиц, их ужасных хриплых голосов, их голубых глаз, их широких тяжелых ступней, их автоматов, но только их рук. Когда колонна немецких солдат шла по краю дороги, молодые еврейки, укрывшиеся в пшенице или за стволами акаций, тряслись от ужаса. Если одна из них начинала плакать, кричать, ее товарки зажимали ей рот руками или затыкали ей рот соломой, но девушка, рыча, сопротивлялась — она боялась немецких рук, она уже чувствовала под своей юбкой эти немецкие руки, гладкие и твердые, она уже ощущала эти железные пальцы, проникающие в ее тайную плоть. Молодые девушки дни за днями жили, укрываясь в полях, среди пшеницы, и спали в своих лохмотьях среди высоких золотых колосьев, словно в горячем лесу золотых деревьев; они шевелились очень осторожно, чтобы колосья не колебались. Когда немцы замечали, что колосья колеблются в безветренные часы, они говорили: «Ахтунг! Партизаны!» и разряжали свои автоматы в направлении золотого леса пшеницы. Молодые еврейские девушки затыкали соломой рты своим раненым товаркам, чтобы помешать им кричать они заклинали их умолкнуть, упирались им в грудь коленом, чтобы удержать их на земле, сдавливали на их горле пальцы, окаменевшие от ужаса, чтобы только помешать им крикнуть.
Это были молодые еврейские девушки в возрасте от 18 до 20 лет: самые молодые, самые красивые. Остальные девицы, уродливые и безобразные из гетто Бессарабии, оставались запертыми в своих домах и лишь приподнимали занавески своих окон, чтобы взглянуть на проходивших немцев, трепеща от страха. Быть может, это был не только страх; быть может, то было что-то другое, что заставляло трепетать этих несчастных девиц, горбатых, хромых, кривоногих, золотушных, изуродованных оспой, или с волосами, съеденными экземой. Они тряслись от страха, приподнимая занавески своих окон, чтобы взглянуть на проходивших немецких солдат, и в ужасе отступали перед отсутствующим взглядом, непроизвольным жестом, звуком голоса одного из них. Между тем, они смеялись, с лицами, покрасневшими и внезапно покрывшимися потом, в полутьме своих комнат и, прихрамывая, прижимались друг к другу, чтобы затем снова подбежать к угловому окну и еще раз увидеть проходящих немецких солдат на повороте дороги.
Но молодые девушки, укрывавшиеся в полях и лесах, бледнели, заслышав рокотание мотора, топот лошадиных копыт, скрежет колес на дорогах, поднимающихся от местечка Бельцы, в Бессарабии, к Сорокам на Днестре, в стороне Украины. Они жили, как дикие звери, питались только милостыней крестьян: несколькими ломтями хлеба или мамалыгой, несколькими крохами соленой брынзы. Бывали дни, когда на закате немецкие солдаты отправлялись в поля на охоту за еврейскими девушками. Они двигались, как двигались бы широко растопыренные пальцы раскрытой руки, огромной руки, прочесывая хлеба и перекликаясь друг с другом: «Курт! Фриц! Карл!» У них были молодые, немного охрипшие голоса, их можно было принять за охотников, вышедших на облаву и обшаривающих вереск, чтобы поднять из него перепелок, куропаток или фазанов.
Захваченные врасплох и испуганные жаворонки взлетали, шумно хлопая крылышками, в пыльное, сумеречное небо, и солдаты, подняв головы, следили за ними глазами. Девушки, прячущиеся в хлебах, сдерживали дыхание, и видели руки немецких солдат, сжимающие приклады автоматов, появляющиеся и исчезающие среди колосьев, эти немецкие руки, покрытые светлой и блестящей шерстью, как волосками, покрывающими стебли чертополоха, эти немецкие руки, гладкие и твердые. Теперь охотники сближались; они шли немного пригнувшись, слышалось их тяжелое, немного хриплое дыхание. Наконец, одна из девушек испускала крик, потом другая, еще одна…
В один из дней санитарная служба 11-й немецкой армии решила открыть в Сороках бордель для военных. Но в Сороках не было других женщин, кроме старух и девиц с отталкивающей внешностью. Городок был в большей своей части разрушен минами и бомбами, как немецкими, так и русскими. Почти все население его покинуло. Молодые мужчины последовали за Советской Армией к Днепру; остались только квартал, занятый городским садом, и тот, который генуэзцы создали вокруг старой крепости, поднимающейся на западном берегу Днестра, среди лабиринта низких лачуг, слепленных из дерева и глины и населенных полунищими татарами, румынами, болгарами и турками. С вершины откоса, поднимающегося над рекой, виден город, зажатый между Днестром и обрывистым берегом притока, обсаженным лесом. Дома в этот период были опустошены и почернели от пожаров, некоторые из них, находившиеся выше городского сада, все еще дымились. Вот, что представляли собой Сороки на Днестре, когда в доме возле генуэзской крепости был открыт бордель для военных: город в руинах, с улицами, забитыми колоннами солдат, лошадей и грузовых автомобилей.
Санитарная служба направила патрули на охоту за молодыми еврейками, укрывавшимися в хлебах и лесах, соседствующих с городом. И когда бордель был торжественно открыт официальным визитом, проведенным в суровом военном стиле командующим 11-й армией, там уже находился десяток бледных молодых девушек, с глазами, покрасневшими от слез, которые, дрожа, принимали генерала фон Шоберта с его свитой. Все они казались очень юными, а некоторые — еще просто были детьми. Они не носили этих длинных пеньюаров из красного, желтого или зеленого шелка, с широкими рукавами, которые служат традиционной униформой восточных борделей, но просто — свои лучшие платья, простые и приличные платья молодых девиц, принадлежащих к доброй провинциальной буржуазии, так что многих из них было легко принять за студенток (да некоторые из них и были раньше студентками), собравшихся у одной из подруг, чтобы лучше подготовиться к экзаменам. Они имели вид напуганный, униженный и скромный. Я видел их за несколько дней до открытия борделя, когда их вели по дороге: десяток девиц, шедших посередине, у каждой в руке ее имущество — пакет под мышкой, кожаный чемоданчик, или сверток, перевязанный веревочкой. Их сопровождали двое эсэсовцев, вооруженных автоматами. Волосы девушек были серыми от пыли, несколько колосьев цеплялось за их юбки, чулки были изорваны. Одна из них прихрамывала, одна нога ее была босая, и свою туфлю она несла в руке.
Месяц спустя, однажды вечером, когда я проезжал через Сороки, «зондерфюрер» Шёнк пригласил меня пойти с ним вместе навестить евреек в военном борделе. Я отказался, и Шёнк стал смеяться, ехидно посматривая на меня.
— Ведь это не проститутки, — сказал он, — это молодые девушки из хороших семейств.
— Я знаю, что это порядочные девушки, — ответил я.
— Но это не дает вам основания жалеть их, — сказал Шёнк. — Эти девушки — еврейки.
— Я знаю, что они еврейки, — ответил я.
— Так что же? — спросил Шёнк. — Вы боитесь обидеть их, если пойдете их навестить?
— Есть вещи, которых вы не в состоянии понять, Шёнк.
— Что тут еще понимать?
— Эти бедные девушки из Сорок, — ответил я, — не проститутки, они не торгуют собой добровольно; они вынуждены проституироваться. Они имеют право на всеобщее уважение. Это — военнопленные, которых вы эксплуатируете гнусным образом. Какой процент немецкое военное командование получает с заработка этих несчастных?
— Любовь этих девиц ничего не стоит, — ответил Шёнк, — это бесплатное обслуживание.
— Принудительная работа, вы хотите сказать?
— Нет, — ответил Шёнк, — бесплатное обслуживание, во всяком случае нет смысла им платить.
— Нет смысла им платить? Почему же?
«Зондерфюрер» Шёнк сказал мне тогда, что как только их «служба» окончится, через пятнадцать дней их отошлют обратно к себе.
— Да, — добавил Шёнк с озабоченным видом, — к себе или в госпиталь, я не знаю. В концлагерь, может быть?
— Почему, — сказал я, — вы не поместите в этот бордель, вместо этих несчастных молодых еврейских девушек, русских солдат?
Шёнк принялся хохотать и смеялся очень долго. Он ударял меня рукой по плечу и продолжал смеяться: Ах, зо! Ах, зо! Но я был убежден, что он не понимает того, что я хотел сказать. Я был уверен, что он думает, что я намекаю на известный дом в Бельцах, история которого тогда недавно раскрылась и была у всех на устах, и где «лейбстандарт» эсэсовцев имел свой тайный бордель для педерастов. Он не понимал того, что я хотел сказать, но хохотал, раскрывая огромный рот и похлопывал меня по плечу рукой.
— Если бы там были русские солдаты, вместо этих несчастных молодых евреек, это было бы гораздо забавнее, нихьт вар?
На этот раз Шёнк вообразил, что он понял, и захохотал еще громче. Потом он серьезным тоном спросил:
Вы верите, что русские — гомосексуалисты?
— Вы догадаетесь так ли это в конце войны! — ответил я.
— Йа, йа, натюрлихь, мы догадаемся об этом в конце войны, — заключил Шёнк с самодовольным смехом.
Однажды вечером, очень поздно, ближе к полуночи, я направился к генуэзской крепости; я спустился к реке, прошел по улочке жалкого квартала, постучал в дверь дома и вошел. В просторной комнате, освещенной керосиновой лампой, подвешенной к потолку, посередине, на диванах, стоявших вдоль стен, сидели три девицы. Наверх отсюда поднимались по деревянной лестнице. Из верхних комнат сюда доносился скрип дверей и болтовня голосов, отдаленных и как бы тонущих во мраке.
Все три девицы подняли глаза и смотрели на меня. Они сидели в позах, более чем скромных, на низких диванах, накрытых этими дрянными румынскими коврами от Катетеа Альба, на которых всегда есть красные, желтые и зеленые полосы. Одна из девушек читала книгу, которую она опустила себе на колени, едва только я вошел, чтобы, молча, посмотреть на меня. Можно было сказать, что эта сцена в борделе, написанная Паскеном. Они смотрели на меня, не проронив ни слова; одна из них приглаживала пальцами свои черные волосы, вьющиеся и собранные на лбу, точно волосы маленькой девочки. В углу комнаты, на столе, покрытом желтой шалью, стояло несколько бутылок пива и цуики и двойной ряд бокалов на тонких ножках.
— Гуте нах![587] — сказала после долгого молчания девушка, приглаживавшая волосы.
— Буна сера! — ответил я по-румынски.
— Буна сера! — ответила девушка, изобразив на своем лице подобие жалкой улыбки.
Теперь я уже не помню, почему я пришел в этот дом; однако же я знаю, что пришел туда без ведома Шёнка, не из любопытства или смутной жалости, но зачем-то таким, что теперь, быть может, отклоняло мое сознание.
— Уже очень поздно! — сказал я.
— Сейчас, должно быть, закроют, — сказала девушка.
Между тем, одна из ее подруг поднялась с дивана и лениво, все время глядя на меня, но не показывая вида, что она на меня смотрит, подошла к граммофону, стоявшему в углу, на круглом столике, покрутила завод и опустила иглу на пластинку. Из граммофона послышался женский голос, поющий танго. Я подошел к граммофону и поднял иглу.
— Варум? [588] — спросила девушка, которая, подняв руки, уже готовилась танцевать со мной. Не ожидая моего ответа, она повернулась ко мне спиной, возвратилась и села на диван. Она была малорослой и слишком полной. На ногах у нее были ярко-зеленые матерчатые туфли. Я сел на диван с ней рядом, и девица, чтобы дать мне место, подтянула юбку себе под ногу, пристально глядя на меня. Она улыбалась. Не знаю почему, но эта улыбка возмутила меня. В эту минуту я услышал, как наверху, на лестнице, открылась дверь, и женский голос позвал: «Сусанна!».
Еще одна девица, худая и бледная, спускаясь по лестнице. Ее волосы рассыпались по плечам, в руке у нее был подсвечник с горящей свечей, защищенной воронкой из пожелтевшей бумаги. На ней были стоптанные башмаки, на согнутой руке ее держалась свернутая салфетка, и рукой она придерживала свое красное дезабилье — нечто вроде купального халата, затянутого в талии шнуром, точно ряса. Она остановилась на ступенях посреди лестницы и внимательно посмотрела на меня, наморщив лоб, как если бы мое присутствие здесь было для нее досадным фактом. Потом она бросила беглый, не столько негодующий, сколь подозрительный взгляд на граммофон, где диск с легким шумом продолжал раскручиваться вхолостую, заметила нетронутые стаканы и бутылки, стоявшие в прежнем порядке, и произнесла голосом хрипловатым, в выражении которого чувствовалось нечто жесткое и невежливое: «Идем спать, Сусанна, уже поздно».
Девушка, которую вновь прибывшая назвала Сусанной, принялась смеяться, иронически глядя на свою подругу.
— Ты уже устала, Любка? — спросила она. — Что же такого ты делала, что уже так устала?
Люба не ответила. Она села на диван напротив нас и, зевая, стала рассматривать мою военную форму.
— Ты — не немец, — сказала она, обращаясь ко мне. — Кто же ты такой?
— Итальянец.
— Итальянец? — Теперь девушка смотрела на меня с милым любопытством. Читавшая положила свою книгу и остановила на мне усталый и отсутствующий взгляд.
— Там красиво, в Италии, — сказала Сусанна.
— Я предпочел бы, чтобы она была скверной страной, — сказал я, — от этого нет никакого проку, что там красиво.
— Я хотела бы поехать в Италию, — сказала Сусанна. — В Венецию. Я хотела бы жить в Венеции.
— В Венеции? — повторила Люба и засмеялась.
— Ты не поедешь со мной в Италию? — спросила Сусанна. — Я никогда не видела гондол.
— Если бы я не была влюблена, — сказала Люба, — я хоть сейчас бы уехала.
Ее подруги принялись смеяться, и одна из них заявила: «Мы все тут влюбленные!»
Остальные продолжали смеяться и странно смотрели на меня.
— У нас много любовников, — сказала Сусанна по-французски, с мягким акцентом, свойственным еврейкам из Румынии.
— Они не дадут нам уехать в Италию! — сказала Люба, закуривая сигарету. — Они так ревнивы!
Я заметил, что лицо у нее удлиненное и тонкое, с маленьким печальным ртом и нежными губами. Рот маленькой девочки. Но нос сухощавый, словно восковой, и красные ноздри. Куря, она временами поднимала глаза к потолку и пускала дым в воздух с наигранным безразличием. В ее опустошенном взгляде было что-то одновременно покорное и безнадежное.
Девушка, сидевшая с книгой на коленях, встала и, обеими руками прижимая книгу к груди, сказала мне: «Ноапте буна!»[589] — Ноапте буна! — ответил я.
— Ноапте буна, домнуле капитан, — повторила девица, склоняясь передо мной со скромной и немного неуклюжей грацией. Потом, повернувшись к нам спиной, она поднялась по лестнице.
— Тебе нужна свечка, Зоя? — спросила у нее Люба, следившая за ней глазами.
— Спасибо, я не боюсь темноты, — ответила Зоя, не оборачиваясь.
— Ты увидишь меня во сне, — крикнула Сусанна.
— Конечно! Я буду спать в Венеции! — откликнулась Зоя, исчезая.
Мы сидели какое-то время молча. От грохота далекого грузовика задрожали оконные стекла.
— Вы любите немцев? — спросила вдруг Сусанна.
— Почему бы нет? — ответил я с легким недоверием, которое девица тотчас же заметила.
— Они очень милы, не правда ли? — сказала она.
— Среди них есть и милые.
Сусанна долго смотрела на меня, потом сказала с невероятной ненавистью:
— Они очень любезны с женщинами.
— Не верьте ей, — сказала Люба. — В сущности, она их очень любит.
Сусанна стала смеяться, как-то странно глядя на меня. Что-то глубокое и влажное рождалось в глубине ее взора. Что-то как бы таяло в ее глазах.
— У нее, быть может, есть кое-какие основания их любить, — сказал я.
— О, конечно, — сказала Сусанна, — они — моя последняя любовь.
Я заметил, что ее глаза были полны слез, и однако же она улыбалась. Тогда я тихо погладил ее руку, и Сусанна склонила голову на грудь, потому что молчаливые слезы заливали ей лицо.
— Почему ты плачешь? — сказала ей Люба своим хриплым голосом, бросая сигарету. — Нам осталось ровно два дня этой прекрасной жизни. Тебе кажется этого недостаточно, двух дней? Это тебя не устраивает? — Она заговорила громче и подняла руки над головой, двигая ими так, как если бы призывала на помощь, потом закричала, голосом, полным ненависти, возмущения, страдания и страха: — «Два дня! Еще два дня, и после этого нас отошлют домой. Не больше двух дней, и ты плачешь? Сейчас ты плачешь. Мы уйдем отсюда!»
Она бросилась ничком на диван, зарылась головой в подушки и вся дрожала. Ее зубы громко стучали, время от времени она повторяла этим странным голосом, полным страха: «Два дня! Не больше двух дней!» Одна из туфель соскользнула с ее босой ноги и шлепнулась на деревянный пол. Можно было видеть ее красноватую ступню, покрытую сморщенной кожей и отмеченную белыми шрамами, маленькую, точно ступня ребенка. Я подумал, что она, должно быть, прошла пешком огромные расстояния. Кто знает, откуда она пришла, сколько селений и полей пересекла в своем бегстве, прежде чем быть захваченной и насильно помещенной в этом доме?
Сусанна молчала, опустив голову на грудь, забыв свою руку в моих руках. Можно было подумать, что она не дышит. Внезапно она тихо спросила, посмотрев на меня:
— Вы верите, что они нас отошлют домой?
— Они не могут заставить вас оставаться здесь всю жизнь!
— Через каждые двадцать дней они производят смену девушек, — сказала Сусанна, — и вот уже восемнадцать дней, как мы здесь. Но вы действительно думаете, что нас отпустят домой?
Я чувствовал, что она чего-то боится, но не понимал чего именно. Потом она рассказала мне, что изучала французский язык в школе Шицинау, что отец ее был коммерсантом в Бельцах, что Люба была дочкой врача, а еще три их подруги — студентки. Она добавила, что Люба училась музыке, что она, как ангел, играет на рояле и что она непременно стала бы выдающейся артисткой.
— Как только она выйдет из этого дома, она может продолжать свои занятия, — сказал я.
— Кто знает? Это после всего, что мы вынесли-то? И потом: куда мы направились бы, чтобы продолжать учиться?
Люба приподнялась на локтях. Лицо ее было твердо, как сжатый кулак, глаза ее странно блестели на восковой коже. Она дрожала, словно в лихорадке.
— Да, — сказала она. — Я наверное стала бы великой артисткой!
И она принялась смеяться, копаясь в карманах своего пеньюара, чтобы отыскать там сигарету. Потом она встала, подошла к окну, откупорила бутылку пива, налила три стакана и принесла их нам на деревянном подносе. Она двигалась легко и бесшумно.
— Я хочу пить — сказала она, и, закрыв глаза, принялась жадно глотать пиво.
Стояла тяжкая жара: через приоткрытые окна в комнату проникало густое дыхание летней ночи. Люба ходила босая по комнате, с пустым стаканом в руке, глядя прямо перед собой остановившимся взором. Ее длинное худое тело колебалось от походки вразвалку в мягком колоколе ее широкого розового пеньюара, и ее босые ноги шаркали по деревянному полу с нежным отдаленным шорохом. Другая девушка, за все время не проронившая ни слова, не обнаружившая ни единого признака жизни, как если бы она смотрела на нас ничего не видя и не отдавая себе отчета в том, что происходит вокруг нее, уснула, запрокинувшись на диване, в своем бедном, во многих местах заштопанном платье, с одной рукой — на животе, и другой, сжатой в кулак, на груди.
Время от времени со стороны городского сада доносился сухой треск винтовочного выстрела. С другого берега Днестра, ближе к верховьям, в стороне Ямполя, слышался грохот артиллерии, который заглушался в шерстяных складках этой давящей ночи.
Люба, наконец, остановилась перед своей уснувшей подругой и, молча, долго смотрела на нее. Потом, обратившись к Сусанне, она сказала: «Надо отнести ее в постель: она устала».
— Мы работали весь день, — сказала мне Сусанна извиняющимся тоном, — мы смертельно устали. В течение дня нам приходится обслуживать солдат, а потом, вечером, с восьми до одиннадцати, приходят офицеры. У нас нет ни минуты передышки. Она говорила об этом равнодушно, как о любой другой работе. Она даже не выказывала ни тени возмущения. Продолжая говорить, она встала и помогла Любе поднять их подругу. Едва только ноги последней коснулись пола, она встала, застонав, словно от боли, и совершенно безвольно повисла на руках девушек, преодолевая лестницу. Наконец, ее шаги и стоны затихли за закрытой дверью.
Я остался один. Керосиновая лампа, подвешенная к потолку, коптила. Я встал, чтобы опустить фитиль, и лампа стала раскачиваться, заставляя бежать по стене мою тень, тени стульев, бутылок и других предметов. Быть может, наилучшим, что я мог сделать, было уйти в это время. Я сидел на диване и смотрел на дверь. Я чувствовал, что напрасно продолжаю оставаться в этом доме. Лучше было уйти, не ожидая возвращения Любы и Сусанны…
— Я боялась, что уже не застану вас здесь! — сказал за моей спиной голос Сусанны. Она бесшумно спустилась и приводила в порядок бутылки и стаканы. Потом она подошла к дивану и села рядом со мной. Она напудрила лицо, и теперь казалась еще бледнее. Она спросила, сколько времени я еще проведу в Сороках.
— Не знаю, — ответил я, — два-три дня, может быть. Я должен ехать на Одесский фронт. Но скоро я вернусь.
— Вы думаете, немцам удастся взять Одессу?
— Мне безразлично, что сделают немцы, — ответил я.
— Я хотела бы иметь возможность сказать то же самое, — заметила Сусанна.
— О! Простите меня, Сусанна, я не хотел… — и после стеснительного молчания я добавил, — все, что ни делают немцы, — бесполезно. Чтобы одержать победу, нужно совсем другое.
— Знаете ли вы, кто одержит победу? Вы, может быть, думаете, что ее одержат немцы, англичане, русские? Победу одержим мы — Люба, Зоя, Марика, я и все такие, как мы. Это б… ее одержат.
— Замолчите! — сказал я ей.
— Это б… ее одержат! — почти выкрикнула Сусанна. Потом она начала молчаливо смеяться и, наконец, голосом испуганной девочки спросила у меня:
— Вы верите, что они отошлют нас домой?
— Почему бы им ни отослать вас домой? — сказал я. — Вы боитесь, что они отошлют вас в другой дом, вроде этого?
— О, нет! После двадцати дней подобной работы мы не на что больше не годимся. Я их видела, предыдущих… — она замолкла, и я заметил, что ее губы трясутся. В этот день она была вынуждена «обслужить» сорока трех солдат и шестерых офицеров. Она стала смеяться. Она не могла более выносить эту жизнь. Это было не столько отвращение, сколько физическая усталость. Это не столько отвращение, — повторила она, улыбаясь. Эта улыбка причиняла мне боль, словно она же еще и оправдывалась. Но, может быть, и что-то еще большее заключалось в этой улыбке, в этой двусмысленной улыбке, что-то загадочное… Она добавила, что и другие, те, кто был здесь раньше ее, раньше Любы, Зои, Марики, находились в плачевном состоянии, когда они покидали этот дом. Это были не женщины, а лохмотья. Она видела их, как они выходили, с их маленькими чемоданчиками и узелками, зажатыми под мышкой. Двое эсэсовцев, вооруженных автоматами, заставляли их сесть в грузовик, чтобы отвезти бог весть куда. — «Я хотела бы вернуться домой, — сказала Сусанна. — Вернуться домой!»
Лампа снова начала коптить. Жирный запах керосина распространялся по комнате. Я тихо сжал обеими руками руку Сусанны. Эта рука дрожала, как испуганная птица. Ночь тяжело дышала на пороге двери, как больная корова. Ее горячее дыхание проникало в комнату с шелестом древесной листвы и шепотом реки.
— Я видела их, когда они выходили отсюда, — сказала Сусанна, дрожа, — их можно было принять за привидения.
Мы еще долго сидели молча в полутьме этой комнаты. Я чувствовал, как горькая печаль переполняла меня. Я не верил более собственным словам. Они стали дурными и лживыми. И даже наше молчание казалось мне дурным и лживым.
— До свидания, Сусанна, — сказал я тихо.
— Вы не хотите подняться? — ответила Сусанна.
— Уже слишком поздно, — сказал я, направляясь к двери, — до свидания, Сусанна.
— До свидания, — ответила Сусанна, улыбаясь.
Ее униженная улыбка блистала на пороге. Небо было полно звезд.
* * *
— И вы ничего больше не слышали об этих бедных девушках? — спросила Луиза после долгого молчания.
— Я знаю, что два дня спустя их увезли. Каждые двадцать дней немцы заменяли девиц. Тех, которые покидали бордель, они сажали на грузовики и отвозили к реке. Шёнк говорил мне после, что не было смысла так их жалеть. Они ни на что больше были не годны. Они были приведены в состояние лохмотьев. И, к тому же, это были еврейки…
— Они знали, что их расстреляют? — спросила Ильза.
— Они знали это. Они дрожали от ужаса при мысли, что их расстреляют. О! Они хорошо это знали! Все в Сороках отлично это знали.
Когда мы вышли, небо было полно звезд. Они сверкали холодным и мертвенным блеском, точно стеклянные глаза. Хриплые свистки поездов доносились с вокзала. Бледная весенняя луна поднималась в гладком небе, деревья и дома казались сделанными из чего-то липкого, вялого. Птица пела в ветвях, там, в стороне реки. Мы спустились по пустынной улице к берегу и сели на откосе.
Вода в темноте журчала, словно шорох босых ног в траве. Еще одна птица запела в ветвях дерева, которое уже было все озарено бледным огнем луны, и другие птицы ответили ей вблизи и издалека. Большая птица в бесшумном полете пролетела над деревьями, спустилась к самой воде, пересекла реку неуверенно и медлительно. Я припомнил ту летнюю ночь в римской тюрьме Реджина Коэли, когда стайка птиц спустилась на крышу тюрьмы и принялась петь. Они летели, конечно, с деревьев Яникуля. У них гнезда на дубе Тассо, подумал я. И, подумав, что их гнезда находятся на дубе Тассо, я заплакал. Мне было стыдно моих слез, но после долгих дней, проведенных в тюрьме, достаточно того, чтобы запела птичка, чтобы это одержало верх над гордостью и одиночеством мужчины. «О! Луиза», — сказал я и, сам того не желая, я взял руку Луизы и сжал ее обеими руками.
Луиза мягко отняла свою руку и посмотрела на меня скорее удивленно, чем рассерженно. Она была изумлена этим неожиданным жестом, быть может, она сожалела, что подверглась этой мучительной ласке. А я, я хотел сказать ей, что я помнил о руке Сусанны, позабытой в моих руках, маленькой, влажной руке Сусанны, там, в борделе в Сороках. И еще я помнил руку этой русской работницы, которую я потихоньку сжал в поезде подземки в Берлине, широкую руку, красноватую и сожженную кислотами. У меня было ощущение, что я все еще сижу рядом с этой несчастной еврейской девушкой на диване борделя в Сороках, рядом с Сусанной. И большая жалость к Луизе охватила меня, жалость к Луизе Прусской, к принцессе Императорского дома Луизе фон Гогенцоллерн. Птицы пели вокруг нас в сумеречном свете луны. Две молодые женщины умолкли и слушали, как река текла во мраке вдоль берега, с затуманенным блеском ее воды.
— Я сожалею о том, что я женщина, — тихо сказала Луиза на своем французском языке из Потсдама.
Часть V СЕВЕРНЫЕ ОЛЕНИ
XVI. ГОЛЫЕ ЛЮДИ
Губернатор Лапландии Каарло Хиллиле поднял стакан и произнес: «Малианн!» Мы обедали во дворце губернатора в Рованиеми, столице Лапландии, построенной на Северном полярном круге.
— Северный полярный круг проходит как раз у нас под столом и под нашими ногами, — сказал Каарло Хиллили. Граф Огюстен де Фокса, посол Испании в Финляндии, наклонился, чтобы посмотреть под стол. Все покатились со смеху, и де Фокса тихо промолвил сквозь зубы: «Эти проклятые пьяницы!». Все кругом действительно были пьяны и с бледными, покрытыми потом лицами, с блестящими остановившимися глазами, этими глазами финнов, которым алкоголь придает отблеск перламутра.
Обратившись к де Фокса, я сказал: — «Огюстен, ты слишком много пьешь!» И Огюстен мне ответил: — «Да, ты прав. Я слишком много пью, но это последний стакан». И, отвечая Олафу Коскинену, который, подняв свой стакан, говорил ему: «Малианн!», де Фокса сказал: — «Нет, благодарю, я больше не пью». Но губернатор, пристально глядя на него, спросил: — «Вы отказываетесь пить за наше здоровье?» И я вполголоса повторял на ухо испанцу: — «Огюстен, ради Бога, не совершай неосторожностей, ты должен всегда говорить „да“, ради Бога, всегда отвечай „да“».
И де Фокса, говорил «да», всегда «да», и время от времени поднимал свой стакан, повторяя: «Малианн». И у него было красное лицо, влажное от пота, неуверенные глаза за запотевшими стеклами его очков. — Остается положиться на Бога! — подумалось мне, когда я поглядел на него.
Было, должно быть, около полуночи. Солнце, окруженное легкой дымкой тумана, сверкало на горизонте, как апельсин в шелковистой бумаге. Призрачный свет севера с ледяной резкостью проникал через раскрытые окна, заливал ослепительным блеском, словно хирургическую операционную, большой зал, отделанный в финском ультрамодернистском стиле — с низким потолком, стенами, окрашенными белой краской, паркетом из розоватой березы, где мы с шести часов сидели вокруг стола. Большие прямоугольные окна, узкие и длинные, открывали вид на обширные долины Кеми[590] и Уны и лесистый горизонт Унасваара; на стенах несколько старых «рийа» — этих паласов, которые финские пастухи и крестьяне ткут на своих примитивных станках, а также эстампы шведских художников Шёльдебрандта и Авиллина и француза — виконта де Бомона. Среди прочих здесь висел один рийа большой ценности, на котором были вышиты деревья, северные олени, луки и стрелы, — розовые, серые, зеленые черные; другой, тоже очень редкий, на котором преобладали цвета белый, розовый, зеленый и каштановый, находился рядом. Эстампы представляли пейзажи Остенботнии[591] и Лапландии[592], скачки в Оулу[593], в Кеми и Унасе, перспективный вид порта в Тёрне и Тори до Рованиеми[594]. В конце XVIII и начале прошлого века, когда Шёльдебрандт, Авиллин и виконт де Бомон гравировали на меди эти чудесные доски, Рованиеми был всего лишь большим селением финских пионеров — оленьих пастухов и лапландских рыбаков, живших в маленьких рубленых домиках из сосновых бревен, окруженных со всех сторон высокими заборами. Все селение жалось вокруг Тори — кладбища и красивой деревенской церкви, окрашенной в серый цвет, которую итальянский архитектор Басси создал в этом неоклассическом стиле, шведском по своему происхождению, но включившем в себя элементы французского стиля Луи XV и русского Екатерининской эпохи, который узнаешь в покрытой белым лаком мебели старых финских домов Северной Остенботиин и Лапландии. Между окон и над дверями залы висели старинные «пуукко» с клинками, украшенными насечкой, и костяными рукоятками, одетыми шкурой северного оленя с шерстью короткой и нежной. У каждого из сотрапезников тоже был на поясе свой «пуукко».
Губернатор сидел во главе стола, на стуле, покрытом шкурой белого медведя. А я сидел — бог весть почему — справа от губернатора, испанский посол, граф Огюстен де Фокса, сидел — бог весть почему — слева от него. — «Это не из-за меня, ты понимаешь, — говорил он мне, — это из-за Испании». Титус Михайлеско был пьян, он говорил испанцу: — «Ах, это из-за испанцев! Не правда ли! Из-за твоих испанцев?» Я пытался его успокоить: — «Это не моя вина», — говорил я. — «Ты же представляешь Италию, ты? А если так? Почему ты сидишь от него справа? Нет, он представляет своих итальянцев, не правда ли Малапарте, ты представляешь своих итальянцев твоих!»
— Замолчи! — отвечал Титусу Огюстен. — Я обожаю разговоры пьяных и я слушал Михайлеску и де Фокса, спорящих между собой с подавленной и церемонной яростью пьяниц. — Не лезь в бутылку, губернатор левша! — говорил Михайлеску. — Ты ошибаешься, он не левша, он косоглазый, — отвечал де Фокса. — А! Если он косоглазый, это совсем другое дело, ты должен был протестовать, — возражал Михайлеску. — Ты думаешь, что он косит глазом нарочно, чтобы сажать меня с левой стороны от себя? — спрашивал де Фокса. — Конечно же, он косит нарочно! — отвечал Михайлеску. Тогда граф Огюстен де Фокса, посол Испании, — обратился к Каарло Хиллла, губернатору Лапландии, и сказал: «Господин губернатор, я сижу слева от вас, я не на своем месте». Губернатор в полном удивлении посмотрел на него: «Как? Вы не на своем месте?» Де Фокса слегка наклонился: «Вы не находите, — ответил он, — что мне следовало бы сидеть на месте господина Малапарте?» Губернатор смотрел на него ошеломленный, потом он обратился ко мне: — Как? — сказал он. — Вы хотите поменяться местами? Все стали с удивлением смотреть на меня. — Но вовсе нет! — ответил я. — Я сижу на своем месте. — Вы видите сами, — сказал губернатор с торжествующим видом, обращаясь к испанскому послу, — он на своем месте. Тогда Титус Михайлеско обратился к де Фокса. — Но дорогой мой, разве ты не видишь, что господин губернатор одинаково хорошо владеет и правой и левой рукой? Де Фокса покраснел, протер свои очки салфеткой и смущенно сказал: — Да, ты прав. Я этого не заметил! Я строго посмотрел на Огюстена. — Ты слишком много выпил! — сказал я. — Увы! — ответил де Фокса с глубоким вздохом.
Прошло уже шесть часов с тех пор, как мы сели за стол, и после «крапуйя» — этих красных раков из Кеми, после вкусных шведских закусок, икры, «сийки» и копченых оленьих языков, после капустного супа со свиными шкварками, огромных лососей из Ураса, розовых, как губы девушек, жаркого из оленя, запеченных медвежьих лап, салата из огурцов с сахаром, — после всего этого на туманном горизонте стола, среди опустевших бутылок «снапа», мозельских вин и шато-лафита можно было заметить, наконец, при свете рассветного неба, коньяк. Мы все сидели неподвижно, погруженные в глубокое молчание, наступающее в час коньяка на финских обедах; мы пристально смотрели друг на друга, не прерывая ритуального молчания иначе как для того, чтобы произнести: «Малианн!»
Хотя все мы уже кончили есть, челюсти губернатора Каарло Хиллила продолжали производить постоянный и глухой, почти угрожающий шум. Этот Каарло Хиллила был мужчиной немногим более чем тридцатилетнего возраста, маленького роста, с очень короткой шеей, совершенно терявшейся между плеч. Я смотрел на большие пальцы его рук, атлетические плечи, короткие мускулистые руки. У него были маленькие косящие глазки, размещенные под узким лбом и прикрытые двумя тяжелыми красными веками. У него были темно-русые волосы, вьющиеся, или, скорее, курчавые, не длиннее ногтя. Губы были почти синие, пухлые и потрескавшиеся. Он говорил, нагибая голову и прижимая свой подбородок к груди; время от времени он прикусывал губы, поглядывая исподлобья. В его глазах жил взгляд дикий и хитрый, взгляд короткий и грубый, в котором мелькало что-то возбужденное и жесткое.
— Гиммлер — это гений! — сказал Каарло Хиллиле, ударив кулаком по столу. Он имел в это утро четырехчасовую беседу с Гиммлером и очень этим гордился.
— Хайль Гиммлер! — сказал де Фокса, поднимая стакан.
— Хайль Гиммлер! — повторил Каарло Хиллиле, потом, сурово глядя на меня с видом серьёзного упрека, он добавил: — Вы хотите заставить нас поверить, что вы его встретили, говорили с ним и что вы его не узнали?
— Повторяю вам, я не знал, что это Гиммлер, — ответил я.
Несколькими днями раньше, в холле отеля «Похьянкови» группа немецких офицеров толпилась у входа в кабину лифта. На пороге кабины стоял человек среднего роста, в гитлеровской форме, напоминавший лицом Стравинского[595]; это был мужчина монгольского обличия, с выступающими скулами и близорукими глазами, напоминающими рыбьи глаза, белесоватыми за толстыми стеклами очков, как за стеклами аквариума. У него было странное лицо с выражением жестоким и смутным. Он громко говорил что-то и смеялся. Потом он закрыл решетчатую дверцу лифта и был готов нажать кнопку, когда я подошел, быстрым шагом прокладывая себе дорогу между офицерами, открыл дверцу и проник в кабину прежде, чем офицеры могли бы меня удержать. Субъект в гитлеровской форме предпринял жест, предназначенный к тому чтобы оттолкнуть меня; удивленный, я оттолкнул его сам и, закрыв дверь изнутри, нажал кнопку. Вот так я и очутился в этой железной клетке с глазу на глаз с Гиммлером. Он смотрел на меня с удивлением, быть может, также и с раздражением, был бледен и показался мне обеспокоенным. Укрывшись в углу кабины, он как бы защищался обеими поднятыми руками или готовился отразить какую-то внезапную атаку, глядя на меня своими рыбьими глазами и слегка запыхавшись. Я смотрел на него с удивлением. Сквозь стекла лифта я видел офицеров и нескольких агентов Гестапо, взбегавших вверх по ступеням со всей скоростью, на какую они только были способны, и сталкивавшихся друг с другом на лестничных площадках. Я повернулся к Гиммлеру и извинился, улыбаясь, что нажал на кнопку, не спросив у него предварительно, на каком этаже он хочет остановиться. — На третьем, — сказал он, улыбаясь. Казалось, он стал немного успокаиваться.
— Я тоже, — заявил я, — я выйду на третьем. Лифт остановился. Я открыл дверь и знаком предложил ему выйти первому. Но Гиммлер склонился, указав мне любезным жестом на дверь, и я вышел из лифта первым, на глазах ошеломленных офицеров и агентов Гестапо.
Едва только я лег, накрывшись одеялом, какой-то эсэсовец постучал в мою комнату. Гиммлер приглашал меня выпить пунш в его апартаментах «Гиммлер? Перкеле!» — подумал я. Перкеле — это непроизносимое финское слово, которое означает: дьявол! Гиммлер? Что он от меня хочет? Где я мог с ним повстречаться? Мне ни на миг не приходило в голову, что им и был человек в лифте. Гиммлер! Мне было нелегко снова подняться с постели. Кроме того, это было приглашение. Не приказ. Я просил передать Гиммлеру, что благодарю его за приглашение и прошу меня извинить, но что я смертельно устал и уже лёг. Минуту спустя постучали снова; на этот раз это был агент Гестапо, он принес мне в дар от Гиммлера бутылку коньяка. Я поставил на стол два стакана и предложил выпить агенту Гестапо. — Прозит! — сказал я. — Хайль Гитлер, — ответил агент. — Айн литер, — ответил я в свою очередь. Коридор находился под наблюдением агентов Гестапо, гостиница окружена эсэсовцами, вооруженными автоматами. — Прозит, — сказал я. — Хайль Гитлер! — ответил агент. — Айн литер, — отозвался я. На следующее утро директор гостиницы любезно попросил меня освободить мою комнату. Он перевел меня на первый этаж, в комнату в глубине коридора, с двумя постелями. Другая постель была занята агентом Гестапо.
— Ты напрасно сделал вид, что не узнаешь его, — сказал мой друг Якко Леппо, сверля меня враждебным взглядом.
— Как я мог узнать? Ведь я никогда не видел его.
— Гиммлер — человек выдающийся, чрезвычайно интересный, — сказал Якко Леппо. — Ты должен был принять его приглашение.
— Я не хочу иметь с этим человеком ничего общего, — ответил я.
— Вы ошибаетесь, — сказал губернатор. — Я тоже, прежде, чем узнал его, представлял себе, что Гиммлер — ужасный человек: с пистолетом в правой руке и с хлыстом в левой. После того, как мы проговорили с ним четыре часа, я убедился, что Гиммлер — человек большой культуры, артист, настоящий артист, благородная душа, открытая всем человеческим чувствам. Я скажу больше: это чувствительный человек! (именно так он выразился, губернатор: «чувствительный человек»!). Он добавил, что теперь, когда он близко познакомился с Гиммлером и имел честь говорить с ним в продолжение четырех часов, теперь, если бы ему предстояло изобразить его, он нарисовал бы его с Евангелием в одной руке и молитвенником в другой (именно так сказал губернатор: «с Евангелием в одной руке и с молитвенником в другой!». И он стукнул по столу кулаком.
Де Фокса, Михайлеско и я, мы не могли скрыть уклончивой улыбки. Де Фокса повернулся ко мне и спросил:
— Когда ты встретил его в лифте, что было у него в руках: пистолет и хлыст, или Евангелие и молитвенник?
— У него в руках ничего не было, — ответил я.
— Значит, это был не Гиммлер, это был кто-то другой, — серьезно заметил де Фокса.
— Евангелие и молитвенник, непременно, — сказал губернатор, стукнув по столу кулаком.
— Ты нарочно сделал вид, что не узнал его, — сказал мой друг Якко Леппо, — ты отлично знал, что встретился с Гиммлером.
— Вы избежали серьёзной опасности, — сказал мне губернатор, — некоторые из присутствовавших при этом могли вообразить, что происходит покушение и выстрелить в вас.
— У тебя, вероятно, будут неприятности, — заметил Якко Леппо.
— Малианн! — сказал де Фокса, поднимая бокал.
— Малианн! — ответили все хором.
Сотрапезники сидели очень прямо, плотно прижавшись к спинкам стульев, слегка покачивая головами, как если бы их колебал сильный ветер. Запах коньяка — сухой и сильный — распространился в комнате. Якко Леппо пристально смотрел на де Фокса, Михайлеско и на меня с враждебным пламенем в своих бесцветных глазах. — «Малианн!» — говорил время от времени губернатор Каарло Хиллиле, поднимая свой стакан. — «Малианн!» — отвечали хором остальные. Сквозь стекла больших окон я видел печальный пейзаж, пустынный и безнадежный пейзаж долин Кеми и Уны, эту перспективу чудесной прозрачности и глубины, перспективу теряющихся вдали лесов, вод и небес. Необозримый горизонт, залитый ослепительным светом севера, грубым и чистым, открывался в глубине далеким колыханьем «тунтурит» — этих лесистых возвышенностей, скрывавших в своих влажных складках болота, озера и извилистые русла больших арктических рек. Я смотрел на это небо, пустое и очень высокое, эту мрачную бездну света, подвешенную над сияющим холодом листвы и вод. Вся тайная суть этого призрачного пейзажа была в этом небе, в цвете неба, в этой высокой пустыне, подвешенной вверху и ледяной, сожженной чудесным белым светом с его холодным и мертвым гипсовым оттенком. Под этим небом, в котором бледный диск ночного солнца казался нарисованным на гладкой белой стене, деревья, камни, травы, воды струились подобно странным субстанциям, вялым и клейким, — таким был этот сверкающий гипсовый отблеск севера. В этом блеске, неподвижном и чистом, человеческие лица казались гипсовыми масками, слепыми и немыми. Лица без губ, без глаз, без носов, бесформенные и гладкие гипсовые лица, напоминающие яйцеобразные головы известных сюрреалистических картин де Кирико[596].
На лицах сотрапезников, освещенных, с ледяной грубостью, слепящим светом, лившимся через окна, сохранилось очень мало теней: всего одна капля синевы во взгляде под веками и в складке, отделяющей веко от брови. За исключением этого блика у глаз, свет севера сжигает всякий признак жизни, всякий человеческий признак, и придает живому человеку вид мертвеца. Обратившись к губернатору, я сказал ему, улыбаясь, что его лицо, как и лица остальных, напоминали мне лица солдат, уснувших в Тори в ночь моего прибытия в Рованиеми. Они спали на брошенной на землю соломе и у них были гипсовые лица — без глаз, без губ, без носов, гладкие головы в форме яиц; закрытые глаза этих спящих были зонами, нежными и чувствительными, в которых белый свет лежал, как легкое прикосновение, создавая таким образом маленькое теплое гнездышко, каплю тени. Именно каплю голубизны. Единственным живым местом на этих лицах и была эта капля тени. — «Лицо в форме яйца? У меня тоже лицо в форме яйца?» — спросил губернатор с удивленным и обеспокоенным взглядом, поочередно притрагиваясь к своим глазам, носу, губам. — Да, — сказал я ему, — совсем как яйцо. — Все посмотрели на меня с удивлением и тревогой, притрагиваясь к своим лицам. И тогда я рассказал им о том, что мне довелось увидеть на дороге в Петсамо[597]. Я остановился в Соданкиле[598] светлой ночью; небо было белым, деревья, холмы, дома, — всё казалось гипсовым. Ночное солнце выглядело живым глазом, лишенным ресниц.
И тогда я увидел, как по дороге из Ивало приближается машина медицинской службы и останавливается перед маленькой гостиницей напротив почты, где был расположен госпиталь. Несколько одетых в белое санитаров (ах! эта ослепительная белизна их фартуков, сшитых из льняной пряжи) принялись вытаскивать из машины носилки и укладывать их в ряд на газоне. Трава была белой, как бы накрытой прозрачной подсиненной вуалью. На носилках лежали, вытянувшись, тяжелые, неподвижные, будто замороженные, гипсовые статуи с овальными гладкими головами, без глаз, носов и ртов. А их головы имели яйцевидную форму.
— Статуи? — спросил губернатор. — Вы действительно хотели сказать «статуи»? Гипсовые статуи? И их привезли в госпиталь на машине медицинской службы?
— Статуи, — подтвердил я. — Гипсовые статуи, но внезапно серое облако закрыло небо, и в наступившей полутьме вещи и существа, скрытые до той поры в этом неподвижном белом свете, появились вокруг меня, обнаруживая свои подлинные формы. В полумраке, созданном этим облаком, гипсовые статуи неожиданно превратились в человеческие тела, гипсовые маски — в живые лица, живые человеческие лица. Это были люди — раненые солдаты, и они следили за мной глазами, удивленные и неуверенные, потому что я тоже в их глазах внезапно превратился из гипсовой статуи в человека, живого человека, созданного из тела и теней.
— Малианн! — серьезно сказал губернатор, пристально глядя на меня с выражением удивления и беспокойства.
— Малианн! — ответили все присутствующие хором, поднимая стаканы с коньяком, наполненные почти вровень с краями.
— Но что такое происходит с Якко? Он сошел с ума! — неожиданно спросил Фокса, хватая меня за руку.
Якко Леппо сидел на стуле неподвижно, слегка наклонив голову вперед; он говорил негромко, без жестикуляции, с бесстрастным лицом, и глазами, полными черной ярости. Его правая рука медленно скользнула вниз вдоль туловища и обнажила «пуукко» с ручкой из оленьей кости, укрепленное на поясе. Внезапно подняв эту толстую и короткую руку, вооруженную кинжалом, он пристально уставился в сидевшего напротив Титуса Михайлеско. Все сотрапезники повторили его жест и обнажили свои «пуукко».
— Нет, это делается не так, — сказал губернатор. Он тоже обнажил свой «пуукко», повторив жест охотника на медведей. — Я понимаю: прямо в сердце, — сказал Титус Михайлеско, слегка бледнея.
— Вот так: прямо в сердце, — закончил губернатор, делая вид, что он наносит удар кинжалом сверху вниз.
— И медведь падает, — сказал Михайлеску.
— Нет, он не сразу падает, — вмешался Якко Леппо. — Он делает два-три шага вперед, потом шатается и падает. Это прекрасная минута.
— Они все смертельно пьяны, — тихо сказал де Фокса, сжимая мою руку, — мне становится страшно.
— Не показывай, ради бога, вида, что ты испуган! — ответил я. — Если они заметят, что ты боишься, они почувствуют себя задетыми. Они не дурные люди, но когда напьются, превращаются в детей.
— Они не дурные люди, я знаю, — подтвердил де Фокса. — Они — как дети, но я боюсь детей!
— Чтобы показать им, что ты не боишься, тебе надо твердым голосом сказать: «Малианн» и одним духом осушить свой бокал, глядя им прямо в лицо.
— Я не могу больше, — сказал де Фокса. — Еще один бокал — и со мной будет покончено.
— Ради бога, не напивайся, — ответил я, — когда испанец напьётся, он становится опасен.
— Сеньор посол, — сказал один из финских офицеров, фон Гартман, по-испански, обращаясь к де Фокса, — в Испании, во время гражданской войны, я развлекался преподавая моим друзьям игру с пуукко. Это очень интересная игра. Хотите, я вас научу тоже, сеньор посол?
— Я не вижу в этом необходимости, — ответил де Фокса с плохо скрытой подозрительностью.
Фон Гартман, обучавшийся в кавалерийской школе в Пинероло и сражавшийся в Испании в качестве волонтера армии Франко, учтив, но не терпит противоречий; он любит, чтобы к нему относились с вежливым почтением.
— Вы не хотите, чтобы я вас научил? А почему? Это игра, которой вы должны научиться, сеньор посол. Смотрите: на стол кладут левую руку, растопырив пальцы, затем хватают пуукко правой рукой и решительным ударом вонзают лезвие в стол между двумя пальцами. Говоря это, он поднял свой пуукко и нанес удар между пальцами своей левой руки. Острие пуукко вошло в стол между указательным и средним пальцами.
— Видите, как это делается? — спросил фон Гартман.
— Вальгаме Диос![599] — воскликнул де Фокса, бледнея.
— Хотите попробовать, сеньор посол? — сказал фон Гартман, протягивая де Фокса свой пуукко.
— Я охотно попробовал бы, — заявил де Фокса, но я не могу растопырить пальцы, у меня пальцы, как на лапе утки.
— Странно, — сказал фон Гартман недоверчиво. — Покажите!
— Не стоит, — ответил де Фокса, пряча руки за спиной. — Это недостаток. Просто природный недостаток. Я не могу растопырить пальцы!
— Покажите, — повторил фон Гартман.
Все наклонились над столом, чтобы увидеть эти пальцы испанского посла, перепончатые, как у утки. А де Фокса прятал руки под столом, опуская их в карманы или убирая за спину.
— Значит, вы перепончатолапый, — сказал губернатор, потрясая своим пуукко. — Покажите нам ваши руки, господин посол.
Все, потрясая своими кинжалами, склонились над столом.
— Перепончатолапый? — протестовал де Фокса. — Я не перепончатолапый. Не совсем так, если хотите. Это просто немного кожи между пальцами.
— Надо разрезать кожу, — сказал губернатор, поднимая свой длинный пуукко. Это неестественно — иметь гусиные лапы.
— Гусиные лапки? — сказал фон Гартман. — У вас уже гусиные лапки в вашем возрасте, сеньор посол: покажите мне ваши глаза!
— Глаза? — спросил губернатор. — Почему же глаза?
— У вас тоже есть гусиные лапки, — сказал де Фокса.
— Покажите-ка ваши глаза!
— Мои глаза? — повторил губернатор встревоженным голосом.
Все склонились над столом, чтобы поближе рассмотреть глаза губернатора.
— Малианн! — сказал губернатор, поднимая стакан.
— Малианн! — ответили все хором.
— Вы не хотите пить с нами, господин посол? — спросил губернатор тоном упрека, обращаясь к де Фокса.
— Господин губернатор, господа! — сказал серьёзно испанский посол, вставая с места. — Я не могу больше пить, я заболею.
— Вы больны? — спросил Каарло Хиллила. — Вы в самом деле больны? Пейте же! Малианн!.
— Малианн! — ответил де Фокса, не поднимая стакана.
— Бога ради, Огюстен, — забормотал я, — если они поймут, что ты не пьян, ты пропал… Чтобы они не поняли, что ты не пьян, надо пить, Огюстен. Когда находишься в компании финнов, надо пить; тот, кто не пьет с ними, не напивается с ними вместе или запоздает по сравнению с ними хотя бы на два-три малианна, на две-три рюмки, становится человеком, которому нельзя доверять; все смотрят на него с подозрением. Бога ради, Огюстен, только бы они не заметили, что ты не пьян!
— Малианн! — сказал де Фокса со вздохом, поднимая стакан.
— Пейте же, господин посол! — сказал губернатор.
— Valgame Dios! — воскликнул Огюстен и, закрыв глаза, одним духом опустошил свой стакан, наполненный до краев коньяком.
Губернатор снова наполнил стаканы и произнес: «Малианн!»
— Малианн! — ответил де Фокса, поднимая стакан. — Бога ради, Огюстен, не напивайся! — сказал я. — Пьяный испанец — это нечто ужасное. Вспомни, что ты испанский посол!
— Плевать! — сказал де Фокса. — Малианн!
— Испанцы не умеют пить, — заявил фон Гартман. — Во время осады Мадрида я был вместе с Терцио под Университетским городком…
— Как? — прервал де Фокса. — Мы, испанцы, мы не умеем пить?
— Бога ради, Огюстен, вспомни, что ты испанский посол!
— Суомелле! — сказал де Фокса, поднимая стакан. «Суомелле» значит: За здравие Финляндии!
— Арриба Еспана![600] — сказал фон Гартман.
— Огюстен! Ради всего святого не напивайся!
— Заткнись! Суомелле! — сказал Де Фокса.
— Да здравствует Америка! — сказал губернатор.
— Да здравствует Америка! — откликнулся де Фокса.
— Да здравствует Америка, — хором ответили все собутыльники, поднимая стаканы.
— Да здравствует Германия! Да здравствует Гитлер! — сказал губернатор.
— Заткнись! — сказал де Фокса.
— Да здравствует Муссолини! — сказал губернатор.
— Заткнись! — сказал я, улыбаясь, и поднял стакан.
— Заткнись! — сказал губернатор.
— Заткнись! — ответили хором все собутыльники, подняв свои стаканы.
— Америка, — заметил губернатор, — большой друг Финляндии. В штатах есть сотни и сотни тысяч финских эмигрантов. Америка — наша вторая родина.
— Америка — это рай финнов, — подтвердил де Фокса. — Когда европейцы умирают, они надеются попасть в рай, когда умирают финны, они надеются попасть в Америку!
— Я, когда умру, — сказал губернатор, — я не отправлюсь в Америку. Я останусь в Финляндии!
— Разумеется, — присоединился к нему Якко Леппо, — не сводя угрожающего взгляда с де Фокса. — Живые или мертвые, мы хотим оставаться в Финляндии!
— Конечно! — подтвердили все собутыльники, бросая на де Фокса враждебные взгляды. — Мы хотим оставаться в Финляндии, когда умрем!
— Мне хочется икры, — сказал де Фокса.
— Вы хотите икры? — переспросил губернатор.
— Я очень люблю икру! — подтвердил де Фокса.
— В Испании много икры? — спросил префект Рованиеми Олави Коскинен.
— Была русская икра в свое время, — ответил де Фокса.
— Русская икра? — перепросил, наморщив лоб, губернатор.
— Русская икра превосходна, — сказал де Фокса, — ее очень любят в Мадриде.
— Русская икра отвратительна, — ответил губернатор.
— Полковник Мерикальо, — начал де Фокса, — рассказал мне очень забавную историю насчет русской икры…
— Полковник Мерикальо мертв! — перебил Якко Леппо.
— Мы были на берегу Ладожского озера, — продолжал говорить де Фокса, — в лесу Райккола. — Несколько финских сиссит нашли в одной русской траншее коробку, полную какого-то светло-серого жира. Полковник Мерикальо вошел в корсу на передовой линии, когда сиссит собирались смазывать этим жиром свои ботинки. Полковник Мерикальо втянул носом воздух и сказал: «Какой странный запах! Пахнет рыбой!» — «Это их сапожная мазь воняет рыбой!» — ответил один из сиссит, показывая ему коробку из белой жести. Это была коробка икры.
— Русская икра, в самом деле, годна только для чистки обуви, — произнес губернатор с глубоким презрением. В это мгновение лакей распахнул настежь двери и возгласил: — «Генерал Дитль!»
— Господин посол, — сказал губернатор, поднимаясь и обращаясь к де Фокса, — немецкий генерал Дитль, герой Нарвика[601], командующий Северным фронтом, сделал мне честь, приняв мое приглашение. Я счастлив и горд, господин посол, что вы встретитесь с генералом Дитлем в моем доме.
Снаружи доносился необычайный шум: целый хор, составленный из лая, мяуканья и рычанья, такой, что можно было думать — стая собак, кошек и диких свиней уже ворвалась в холл гостиницы. Мы удивленно переглядывались. Дверь снова открылась, и мы увидели входящего на четвереньках генерала Дитля во главе группы офицеров, также входивших на четвереньках за ним гуськом! Странный кортеж — с кошачьим концертом, лая, мяукая и хрюкая, достиг центра столовой, где генерал Дитль поднялся на ноги с самой корректной воинской выправкой, как будто по команде «смирно», встал, подняв руку к своему кепи, и оглушительно выкрикнул финское пожелание, предназначенное тем, кто чихает: «нуха!»[602]
Я смотрел на человека странного вида, возникшего перед нами: высокий, худой и уже высохший, — кусок грубо оструганного каким-нибудь баварским плотником старого дерева. У него было готическое лицо, лицо старинных деревянных скульптур, выполненных немецкими мастерами. На этом сияющем лице горели глаза, одновременно ребяческие и дикие, ноздри — невероятно волосатые, лоб и щеки, изрубленные бесконечным количеством маленьких морщинок, совсем как покрытое сетью трещин старое, очень сухое дерево. Его волосы, плоские и темные, коротко подстриженные, спускающиеся на лоб совсем как чёлки у пажей Мазаччо[603], придавали его лицу нечто монашеское и, вместе, юношеское, вызывавшее неприятное чувство. Его манера смеяться, перекашивая рот, еще усиливала это отталкивающее впечатление. Жесты его были резкими, нервными, лихорадочными, они вскрывали в его характере нечто болезненное, присутствие в нем и вокруг него чего-то, от чего он как будто отрекался, что постоянно его подстерегало и ему угрожало. Он был ранен в правую руку, и все в нем, до связанных и укороченных движений этой раненой руки, казалось, выдавало это его тайное подозрение некоей силы, подстерегавшей и угрожавшей ему. Это был человек еще не старый — ему было лет пятьдесят. Но и он, также, как все молодые Alpenjäger’ы из Тироля или Баварии, рассеянные в девственных лесах Лапландии, в болотистой тундре Арктики, на всем огромном фронте, который от Петсамо, почти до острова Рыбачьего, опускается вдоль берегов Лицы до Алакуртти[604] и Саллы[605], — он нес в своем лице в зеленовато-желтом цвете кожи, во взгляде, униженном и печальном, признаки этого замедленного разложения, сходного с лепрой[606] и поражающего все живые существа на крайнем Севере, это старческое разложение, которое портит волосы, прорубает на лице глубокие морщины, охватывает все тело еще живого человека зеленой и желтой вуалью гниения. Внезапно он посмотрел на меня. У него был взгляд животного, нежного и покорного судьбе, с оттенком какого-то смирения и безнадежности, смутившим меня. Это был тот же взгляд, таинственный и звериный, каким смотрели на меня эти немецкие солдаты, эти молодые альпенйегеры Дитля, потерявшие зубы и облысевшие, с лицами, изрезанными морщинами, и носами, заострившимися, словно носы трупов, солдаты, которых я видел грустно и задумчиво бродящими в глубоких лесах Лапландии.
— Нуха! — крикнул Дитль. И потом добавил: — Где же Эльза?
Эльза вошла. Маленькая, худенькая, миловидная, одетая как кукла, имевшая вид хрупкой девочки (Эльзе Хиллиле, дочери губернатора, уже исполнилось восемнадцать, но она все еще казалась ребенком), она вошла через дверь в глубине огромной залы, держа в обеих руках большое серебряное блюдо, на котором стояли бокалы с пуншем. Она медленно продвигалась вперед по паркету из розовой березы, часто раскачиваясь на своих маленьких ножках. Она подошла к генералу Дитлю и с прелестным реверансом сказала ему: «Хювоепяйвэ!»[607] — здравствуйте.
— Хювоепяйвэ, — ответил Дитль, склоняясь. Он взял с серебряного блюда бокал пунша, поднял его и крикнул: «Нуха». Офицеры его свиты, в свою очередь, взяли бокалы, подняли их и крикнули: «Нуха!» Дитль запрокинул голову назад и одним духом выпил, офицеры повторили его жест с синхронным звоном бокалов. Запах пунша, диковатый, жирный и нежный, распространился по комнате. Это был тот же запах — жирный и нежный, каким пахнет олень под дождем, — запах оленьего молока. Я прикрыл глаза, и мне показалось, что я снова нахожусь в лесу Инари, на берегу озера, близ устья Утейоки[608]. Идет дождь, небо кажется безглазым лицом, белым лицом мертвеца. В древесной листве и в траве дождь шуршит и неясно шепчет. Старая лапландка сидит на берегу озера с трубкой, зажатой в зубах; она безразлично, не мигая, смотрит на меня. Стадо оленей пасется в лесу; олени подняли головы, смотрят на меня. У них глаза униженные и безнадежные — таинственный взгляд мертвецов. Запах оленьего молока примешивается к дождю. Группа немецких солдат, с лицами, прикрытыми сеткой от мошкары, с руками, защищенными большими перчатками из оленьей кожи, расселись под деревьями на берегу озера. У них глаза униженные и безнадежные, у них тоже таинственный взгляд мертвецов.
Генерал Дитль взял за талию маленькую Эльзу и увлек ее через залу, танцуя с ней нечто вроде вальса, темп которого все подхватили, в такт хлопая в ладоши и исторгая звон из своих бокалов при помощи рукояток пуукко и кинжалов альпенйегеров. Стоявшая у одного из окон группа офицеров пила, молча созерцая эту сцену. Но вот один из них повернул голову ко мне, глядя на меня невидящими глазами, а я, я узнал князя Фредерика Виндишгретца. Я улыбнулся ему издали и окликнул его уменьшительным: «Фрикки!» Он обернулся в другую сторону, чтобы увидеть, кто его окликает. Кто знает, откуда мог донестись этот голос, который призвал его из глубины воспоминаний, таких далеких?
Передо мной стоял старик. Это не был больше молодой Фрикки Рима, Флоренции и Форте деи Марми. И, однако, нечто от былого изящества оставалось в нем. Но теперь в этом изяществе было нечто разрушенное; его лоб был затуманен белой прозрачной вуалью. Я видел, как он поднимает свой бокал, шевелит губами, чтобы произнести «Нуха!», откидывает назад голову, чтобы выпить. И при этом движении кости лица казались хрупкими, и сквозь поредевшие волосы становилась видна белая кожа, обтянувшая череп, и мертвенная кожа лба светилась красноватым отблеском.
Он тоже терял волосы, у него тоже были расшатаны зубы. Позади его восковых ушей виднелась линия выгиба затылка, хрупкого и нежного затылка большого ребенка, непрочного затылка старца. Его руки дрожали, когда он ставил бокал на стол. Ему было двадцать пять лет, Фрикки, но у него уже был таинственный взгляд мертвеца.
И тогда я подошел к Фредерику и назвал его вполголоса; «Фрикки!» Фредерик медленно обернулся: он медленно узнавал меня. Я был для него в этот миг утопленником, медленно всплывающим из глубин со своим неузнаваемым лицом. Мало-помалу Фредерик узнал меня, с грустью вглядываясь, исследуя мое изменившееся лицо, мой усталый рот и белый взгляд. Он молча сжал мою руку. Мы долго вглядывались друг в друга, улыбаясь, и в эти мгновения Фредерик снова возникал перед моими глазами на пляже Форте деи Марми: солнце текло по песку, словно медовая река; сосны вокруг моего дома источали свет золотистый и теплый, словно мед (не Клара теперь была замужем, а Суни была влюблена). Мы оба подняли глаза и посмотрели на белый отсвет листьев, воды и неба. — «Бедный Фрикки», — подумал я. Фредерик стоял перед окном неподвижно; можно было подумать, что он не дышал. Он молчаливо созерцал необозримые лапландские леса; это спокойное удаление, это медленное просветление перспектив, зеленых и серебристых, рек, озер, лесистых «тунтурит» под белым ледяным небом. Я притронулся рукой к руке Фредерика и это, быть может, было лаской. Фредерик повернул ко мне свое лицо, с кожей желтой и морщинистой, на котором светились его глаза, униженные и безнадежные. И тогда, внезапно, я узнал его взгляд.
Я узнал его взгляд и вздрогнул. «У него взгляд животного, — подумал я с ужасом, — таинственный взгляд животного. У него глаза оленя, — подумал я, — униженные и безнадежные глаза оленя». Я хотел сказать ему: — «Нет, Фрикки, только не ты!» Но у него, у него тоже был взгляд животного, униженный и безнадежный взгляд оленя. — «Нет Фрикки, только не ты!» Но Фредерик смотрел на меня молча, и это было как будто я смотрю в глаза оленя. Как будто олень смотрит на меня своим глазом, униженным и безнадежным.
Другие офицеры, товарищи Фредерика, были также молоды: двадцать, двадцать пять, тридцать лет. Но все они несли на своих лицах, желтых и морщинистых, признаки старости, разложения, смерти. У всех были глаза оленей, униженные и безнадежные. — «Это животные, — подумал я, — это дикие животные!» — подумал я с отвращением. Все они имели на лицах и в глазах прекрасную, чудесную и печальную снисходительность диких животных. У всех было это сосредоточенное и меланхолическое безумие животных, их таинственная невинность, их жестокое милосердие. Это ужасное христианское милосердие, которым обладают животные. — «Животные — это Христос», — подумал я, и мои губы дрожали, мои руки дрожали. Я смотрел на Фредерика, смотрел на его товарищей: у всех было одно и то же лицо, изнуренное и изрезанное морщинами, тот же облысевший лоб, та же беззубая улыбка, у всех тот же взгляд оленя. Даже жестокость, немецкая жестокость угасла на их лицах. У них были глаза Христа, глаза животного. И внезапно мне пришло на память то, рассказ о чем я слышал с первых минут после моего прибытия в Лапландию, о чем каждый говорил, понизив голос, как о вещи таинственной (это и на самом деле была таинственная вещь), то, о чем говорить запрещалось. Мне пришло на память то, о чем мне рассказали в первые же минуты после моего прибытия в Лапландию, по поводу этих молодых немецких солдат, этих альпенйегеров генерала Дитля, которые вешались на деревьях в глубине лесов или сидели дни и дни на берегу озера, всматриваясь в горизонт, а потом пускали из пистолета пулю себе в висок, или, движимые своеобразным безумием, чем-то вроде любовной мании, бродили по лесам, словно дикие звери, или кидались в неподвижную воду озер, или, растянувшись на ковре из лишайников под соснами, скрипящими от ветра, ждали смерти, совершенно тихо встречая ее в ледяном и отдаленном от всех одиночестве леса.
— Нет, Фрикки, только не ты! — хотел я ему сказать, но Фредерик спросил меня: — «Ты не видел моего брата в Риме?» Я ответил ему: — «Да, я видел его перед отъездом, вечером, в баре „Эксцельсиор“. Однако, я знал, что Хуго мертв, что князь Хуго Виндишгретц, офицер итальянской авиации, упал, объятый пламенем в небе Александрии. Но я ответил ему: — „Да, я видел его вечером, в баре „Эксцельсиор“. Он был с Маритой Гуглиельми. И Фредерик спросил меня: — „Как он поживает?“ Я ответил: — „Хорошо!“ Он спрашивал меня о тебе, поручил мне передать тебе привет…“ И я, тем не менее, знал, что Хуго мертв. — „Он тебе не поручал передать мне письмо?“ — спросил Фредерик. — „Я видел его всего одну минуту, вечером, накануне моего отъезда, у него не было времени написать тебе, он просил передать от него привет“. Вот, что я ответил ему, и, однако, я знал, что Хуго мертв. Фредерик сказал: — „Он смелый малый, Хуго!“ Я ответил: — Да, он действительно смелый малый, Хуго; все его очень любят; он просил меня обо всем рассказать тебе». И, однако, я знал, что Хуго мертв. Фредерик посмотрел на меня: — «Иногда, ночью, — сказал он, — я просыпаюсь и думаю, что Хуго мертв..». Он сказал это, глядя на меня своими глазами дикого животного, своими глазами оленя, этим таинственным взором дикого животного, которым смотрят глаза мертвых. — «Почему ты думаешь, что твой брат умер? Я видел его в баре „Эксцельсиор“ перед отъездом из Рима», — ответил я. И, однако, я знал, что Хуго мертв. — «Что плохого в том чтобы быть мертвым? — спросил Фредерик. — В этом нет ничего плохого. Это не запрещено. Ты думаешь, это запрещено, быть мертвым?» Тогда я ему неожиданно сказал, и мой голос задрожал: — «О, Фрикки, Хуго умер. Я видел его в баре „Эксцельсиор“ накануне моего отъезда из Рима: он уже был мертвецом. Он просил меня передать тебе привет. Он не мог написать тебе письма, потому что он уже был мертвецом».
Фредерик посмотрел на меня своим взглядом оленя, своим униженным и безнадежным взглядом дикого животного, этим таинственным взглядом животного, который имеют глаза мертвых; он улыбнулся и сказал: — «Я уже знал, что Хуго умер. Я уже давно знал, что он умер. Это чудесная вещь — быть мертвым». Он наполнил мой бокал. Я взял бокал, который Фрикки протянул мне, и моя рука дрожала. «Нуха!» — сказал Фредерик. И я ответил: «Нуха!».
— Я хотел бы возвратиться в Италию на несколько дней, — сказал Фредерик после долгого молчания. — Я бы хотел вернуться в Рим. Это такой молодой город, Рим. — Потом он добавил: — Паола — что делает? Ты ее давно не видел?
— Я встретил ее на площадке для гольфа как-то утром, незадолго до моего отъезда из Рима. Она красива Паола. Я очень люблю Паолу, Фрикки.
— Я тоже очень люблю ее, — сказал он. Потом он спросил:
— А графиня Чиано, — что она поделывает?
Что ты хочешь, чтобы она делала? Она, как и все другие.
— Ты хочешь сказать, что…
— О! Вовсе нет, Фрикки.
Он посмотрел на меня, улыбаясь. Потом спросил:
— А Мариза что делает? А Альберта?
— О, Фрикки, все они потаскухи. Это очень модно сейчас в Италии — быть потаскухами. Все становятся потаскухами. Король, Папа, Муссолини, наши обожаемые князья, кардиналы, генералы, — все становятся потаскухами в Италии..
— Так было всегда в Италии, — сказал Фредерик.
— Так всегда было и всегда будет. Я тоже был потаскухой, был годами, как и все остальные. Потом эта жизнь мне опротивела; я возмутился и отправился на каторгу. Но даже отправиться на каторгу — это лишь еще одно средство оставаться потаскухой. Даже быть героем, даже purnare за свободу — это лишь средство оставаться потаскухой в Италии. Даже и утверждать, что это ложь, что это оскорбление всех тех, кто погиб за свободу, — это лишь средство быть потаскухой. Нет выхода, Фрикки!
— Так всегда было в Италии, — повторил Фредерик. — Это всегда та же родина, с знаменами, потрескивающими внутри того же белого брюха.
— Внутри твоего белого брюха:
«Родина зовет, И рвет знамена ветер»— Не правда ли, это ты написал эти стихи?
— Да, это мои стихи. Я написал их в Липари.
— Это очень печальная поэзия. Она называется Ex-voto, кажется. Это поэзия безнадежности. Чувствуется, что стихи созданы в тюрьме. Он посмотрел на меня, поднял бокал и сказал: — Нуха!
Я ответил:
— Нуха!
Мы долго хранили молчание. Фредерик смотрел на меня, улыбаясь, своими глазами дикого животного, униженного и безнадежного. Между тем, ужасающий вой доносился из глубины зала. Я обернулся и увидел генерала Дитля, губернатора Каарло Хиллила и графа де Фокса посреди группы немецких офицеров. Время от времени голос Дитля приобретал резкий и пронзительный тон, после этого раздавался оглушающий хор криков и смеха. Я не понимал, что говорил Дитль. Мне казалось, что он повторял очень громко одно и то же слово, всегда одно и то же: слово «трауриг»[609], что значит «грустно». Фредерик посмотрел вокруг и сказал мне: «Это ужасно: днем и ночью все одна и та же непрекращающаяся оргия. Между тем, количество самоубийств среди офицеров и солдат все увеличивается с впечатляющей скоростью. Гиммлер прибыл сюда лично, чтобы попытаться положить конец этой эпидемии самоубийств. Он будет арестовывать мертвецов, он будет хоронить их со связанными руками. Он воображает, что можно воспрепятствовать самоубийствам при помощи террора. Вчера он приказал расстрелять трех альпенйегеров, которые покушались повеситься. Гиммлер не знает, что это чудесная вещь — стать мертвым». — Он посмотрел на меня своим взором оленя, этим таинственным взором животного, наделенного глазами мертвеца… — Многие стреляют из пистолетов себе в висок, многие топятся в реках и озерах, и это самые молодые из нас. Другие в бреду уходят в леса и там бродят.
— Трррааауууррриш! — воскликнул пронзительный голос генерала Дитля, имитирующий страшный свист мины Штука до того точно, что генерал авиации Менш взвыл: «Бум!» — подражая ужасающему разрыву. Все хором присоединились к вою, свисту, рычанью, изощряясь при помощи губ, рук и ног воспроизвести грохот рушащихся стен и шумное дыхание взрывов, распространяющихся в небе. — «Тррраууррриш!» — кричал Дитль, «Бум!» — рычал Менш. И все повторяли хором крики и шум. В этой сцене было что-то дикое и гротескное, варварское и ребяческое вместе. Этот генерал Менш был человек, приблизительно, пятидесяти лет, маленький, худощавый, с лицом желтым и сморщенным и лукавыми глазами, окруженными сетью тонких морщинок. Он выл: «Бум!» — и смотрел на де Фокса со странным выражением, полным презрения и ненависти.
— Хальт! — крикнул неожиданно генерал Менш, поднимая руку. И обратившись к де Фокса, он резко спросил:
— Как говорят «трауриг» по-испански?
— Говорят «triste»[610], я думаю, — ответил посол.
— Попробуем «трист», — сказал Менш.
— Тррррист, — закричал Дитль.
— Бум! — зарычал Менш. Потом он поднял руку и сказал:
— Нет, «triste» не подходит. Испанский — это не язык военных.
— Испанский — это христианский язык, — сказал де Фокса. — Это язык Христа.
— Стойте! Христ!.. — заявил Менш. — Попробуем Христ!
— Хррррист! — закричал Дитль.
— Бум! — зарычал генерал Менш. Потом он поднял руку и сказал:
— Нет. Христ не подходит.
В этот момент к генералу Дитлю подошел офицер и заговорил с ним, понизив голос. Дитль обернулся к нам и громко сказал:
— Господа, Гиммлер возвратился из Петсамо и ждет нас в Главном штабе. Идемте, отдадим Гиммлеру наши приветствия, приветствия верных немецких солдат!
Наш быстро мчавшийся автомобиль пересек пустынные улицы Рованиеми, погруженные в белое небо, на уровне наших глаз перерезанное розовым шрамом горизонта. Было, наверно, часов десять вечера, а может быть часов шесть утра. Бледное солнце отражалось в кровлях, дома имели цвет матового стекла, река печально блестела между деревьями.
Мы скоро доехали до поселка, образованного военными бараками, построенными на опушке леса из серебристых берез, поблизости от города. Здесь находился Главный штаб Северного фронта. Офицер подошел к Дитлю, что-то сообщил ему, и Дитль, обернувшись к нам и смеясь, сказал: «Гиммлер сейчас в „сауне“ Главного штаба. Идемте, мы увидим его голым!» Раскат смеха встретил его слова. Дитль почти бегом устремился к рубленому из сосновых бревен бараку, стоявшему в лесу поодаль. Он толкнул дверь и мы вошли.
Внутреннее помещение сауны — финской парильни — занимали большой очаг и котел, из которого кипящая вода изливалась на раскаленные камни, нагроможденные над огнем, на котором горели ароматные березовые поленья, — вода, поднимавшаяся вверх облаком пара. На скамьях, расположенных одна под другой в виде этажерки, вдоль стены сауны сидело и лежало человек десять обнаженных людей; людей белых, вялых, дряблых и безоружных, таких необычно голых, что они казались даже лишенными кожи. Вернее, они имели кожу, подобную коже ракообразных: бледную и розоватую, и эта кожа испускала кисловатый запах, свойственный ракообразным. У каждого из них была грудь широкая и жирная, с молочными железами вздутыми и отвисшими. Лица, суровые и жесткие немецкие лица, находились в странном противоречии с членами — голыми, белыми и обвисшими, они создавали впечатление масок. Эти голые люди сидели или лежали на скамьях, как трупы, выбившиеся из сил. Время от времени они медленно и с трудом поднимали руки, чтобы утереть пот, струившийся вдоль их конечностей, беловатых и испещренных желтыми родимыми пятнами, похожих на цветную чесотку. Они сидели и лежали на скамьях как трупы, выбившиеся из сил.
Голые немцы необыкновенно безоружны. Без мистики они больше не внушают страха. Тайна их силы не в коже, не в костях, не в их крови, но в их мундирах. Их подлинная кожа — это мундир. Если бы народам Европы была известна дряблая, беззащитная и мертвенная нагота, скрывающаяся под «фельдграу»[611] немецких мундиров, немецкая армия не испугала бы даже самого слабого и безоружного народа. Ребенок посмел бы напасть на целый немецкий батальон. Достаточно было бы увидеть их голыми, чтобы понять тайный смысл их национальной жизни, историю их нации. Они были сейчас голыми перед нами, как трупы, робкие и преувеличенно стыдливые. Генерал Дитль поднял руку и громко воскликнул: «Хайль Гитлер!» — «Хайль Гитлер!» — ответили эти голые люди, старательно поднимая свои руки, вооруженные березовыми вениками. Это был наиболее характерный момент «сауны», ее наиболее священный обряд. Но даже жест этих рук, вооруженных вениками, оставался слабым и вялым.
Среди этих голых офицеров на нижней скамье сидел человек, которого, мне показалось, я узнал. Пот стекал по его лицу, по его выступающим скулам, лицу, на котором близорукие глаза, лишенные своих очков, блестели блеском белесым и вялым, похожие на рыбьи глаза. Он высоко держал голову, с видом горделивым и дерзким, время от времени откидывая ее назад; при этих резких движениях глазные орбиты, ноздри, уши источали ручьи пота, так, как если бы вся его голова была наполнена водой. Он держал руки на коленях в позе наказанного школьника. Между двумя предплечьями выступал, хотя и вялый, но вздутый живот, розовый, со странно рельефным пупком, который возвышался над этим нежным тоном, как бутон розы: пупок ребенка на животе старика.
Я никогда не видел брюха настолько голого, настолько розового, настолько нежного, что хотелось пощупать его вилкой. Крупные капли пота скользили вниз по груди и струились по коже этого нежного живота, чтобы соединиться внизу, на лобке, как роса, упавшая на куст. Ниже лобка висели два захирелых яичка, вялых и упрятанных в саше[612] из увядшей кожи, измятой, как бумажный мешочек. Казалось, он гордится этими своими двумя яичками, как Геркулес своей мужественностью. Этот человек, казалось, таял, превращаясь в воду на наших глазах, — так он потел; я боялся, что через несколько мгновений от него не останется ничего, кроме пустой и вялой кишечной пленки, потому что даже кости его, казалось, размягчались и распадались. У него был вид шербета[613], посаженного в печь. За время более короткое, чем нужно, чтобы сказать «аминь», от него могло не остаться ничего, кроме лужицы пота на полу.
Когда Дитль поднял руку и сказал: «Хайль Гитлер!», этот человек поднялся, и я его узнал. Это был персонаж из лифта. Это был Гиммлер. Он стоял перед нами (ноги плоские, с пальцами большими и странно приподнятыми), его короткие руки висели вдоль тела. Пот стекал с кончиков его пальцев словно ручеек. С его лобка тоже стекал поток настолько основательный, что Гиммлер походил на скульптуру «маннекенпис»[614] в Брюсселе. Вокруг его дряблых грудей росли две небольшие волосяных короны, два ореола светло-русого руна. Из сосков пот истекал, как молоко.
Опираясь на стену, чтобы не скользить на мокром и липком полу, он повернулся, показав две круглых выступающих ягодицы, на которых, словно татуировка, отпечатался рисунок слоев деревянной скамьи. Наконец, ему удалось восстановить равновесие и, обернувшись, он поднял руку и хотел заговорить, но пот, который тек по его лицу и наполнял его рот, помешал ему произнести Хайль Гитлер! При этом жесте, который они приняли за сигнал к порке, остальные голые мужчины подняли свои веники и начали сперва хлестать друг друга, после чего, по общему согласию, они со все возрастающей грубостью обрушили свои бичи на плечи, спину и ягодицы Гиммлера.
Березовые ветви оставляли на этой дряблой коже белые отпечатки своих листьев. Потом эти следы краснели и наконец изглаживались. Поросль березовых листьев мгновенно появлялась и исчезала на коже Гиммлера. Голые люди поднимали и опускали свои бичи с яростной грубостью; их дыхание выходило коротким свистом из их вспухших губ. Гиммлер сначала пытался защищаться, закрывая руками лицо. Он смеялся, но насильственным смехом, обнаруживавшим под собой ярость и страх. Затем, когда бичи опустились ниже и стали кусать его бока, он стал поворачиваться то в одну, то в другую сторону, прикрывая живот локтями, вертясь на цыпочках, втянув шею в плечи и смеясь истерическим смехом так, как будто он страдал больше от щекотки, чем от ударов. Наконец, Гиммлер увидел дверь «сауны», открытую за нашей спиной, и, протянув руки вперед, чтобы проложить себе путь, бросился к ней, преследуемый этими голыми людьми, не перестававшими хлестать его. Он удирал бегом, устремляясь к берегу реки, достигнув которого и погрузился в воду.
— Господа, — заявил Дитль, — в ожидании, пока Гиммлер выйдет из бани, — я приглашаю вас выпить по стакану у меня. — Мы вышли из леса, пересекли лужайку, следуя за Дитлем, и вошли в его маленький деревянный домик. У меня было впечатление, что я переступил порог чистенького домика в Баварских горах. В комнате потрескивали и ярко горели еловые ветви, чудесный запах еловой смолы растекался в теплом воздухе. Мы снова принялись пить, хором крича: «Нуха!» каждый раз, когда Дитль или Менш подавали сигнал, поднимая свои стаканы. В то время, когда остальные, потрясая своими пуукко или кинжалами альпенйегеров образовали кольцо вокруг Менша и де Фокса, изображавших последние минуты корриды (Менш был быком, а де Фокса — торреро), генерал Дитль сделал знак Фредерику и мне следовать за ним. Мы вышли из комнаты и прошли в его рабочий кабинет. В углу у стены здесь стояла походная кровать. На полу лежали шкуры полярных волков; постель вместо одеяла была покрыта великолепной шкурой белого медведя. На стенах были кнопками прикреплены многочисленные фотографии горных пейзажей: башен Вайолета, Мармолада, Тофаны, виды Тироля, Баварии, Кадора. На столе, возле окна, в кожаной рамке стояла фотография женщины с тремя маленькими девочками и мальчиком. У женщины было чистое, простое и милое лицо. Из смежной комнаты доносился пронзительный голос генерала Менша, сопровождаемый раскатами хохота, диким воем, шумом топота ног и аплодисментов. От голоса Менша звенели стекла в окнах и оловянные кувшинчики на камине.
— Не будем пока мешать этим детям забавляться! — сказал Дитль, вытягиваясь на своей маленькой походной кровати. Он обратил свой взор к окну, и у него тоже были глаза оленя, униженные и безнадежные, тот таинственный взгляд животного, каким смотрят мертвые. Белое солнце, пробиваясь сквозь деревья, освещало бараки альпенйегеров, вытянувшиеся в линейку по опушке леса, и деревянные домики офицеров. С реки доносились голоса и хохот купальщиков. Гиммлер, розовое пузо Гиммлера… Птица крикнула в ветвях сосны. Дитль закрыл глаза. Он спал.
Фредерик тоже уснул в простом кресле, накрытом волчьей шкурой, вытянув одну руку вдоль тела и положив себе на грудь другую — руку ребенка, маленькую и белую. Это чудесная вещь — быть мертвым. Далекое урчанье мотора, серебристая зелень березового леса. Вот самолет зарокотал ближе в высоком и прозрачном небе. Теперь это было похоже на отдаленное жужжанье пчелы. Оргия в соседней комнате возобновилась с дикими криками, звоном бьющихся стаканов, хриплыми голосами и хохотом, ребяческим и грубым. Я наклонился над Дитлем, глядя ему в лицо, желтое и морщинистое. Дитль, победитель в Нарвике, герой немецкой войны, герой немецкого народа. Он тоже был Зигфридом, он тоже был одновременно Зигфридом и кошкой. Этот герой, он тоже — «каппорот», жертва, капут. Это чудесная вещь быть мертвым.
Из соседней комнаты доносились пронзительный голос Менша и серьезный — де Фокса, шум пререкания. Я подошел к порогу. Менш стоял перед де Фокса. Этот последний был бледен, и на лице его выступили капли пота. В руках у обоих были бокалы. Окружавшие их офицеры тоже держали в руках бокалы.
Генерал Менш провозглашал:
— Выпьем за здоровье Германии, Италии, Финляндии, Румынии, Венгрии…
— …Кроации, Болгарии, Словакии… — подсказывали остальные.
— Кроации, Болгарии, Словакии, — повторил Менш.
— Испании, — сказал граф де Фокса, испанский посол в Финляндии.
— Нет, не надо Испании! — воскликнул Менш.
Де Фокса медленно опустил свой бокал. Его лоб был бледен и влажен от пота.
— …Испании, — повторил де Фокса.
— Nein, nein, Spanien nicht![615] — закричал генерал Менш.
— Испанская Голубая дивизия, — сказал де Фокса, — сражается на Ленинградском фронте бок о бок с немецкими солдатами.
— Nein, Spanien nicht! — прокричал Менш.
Все смотрели на де Фокса, бледного и решительного, стоявшего лицом к лицу с Меншем и смотревшего на него горделиво и гневно.
— Если вы не пьете за здравие Испании, — сказал де Фокса, я крикну: Дерьмо для Германии!
— Nein, — кричал Менш, — Spanien nicht[616]
— Дерьмо для Германии! — закричал де Фокса, поднимая свой бокал. И он обернулся ко мне с триумфальным блеском в глазах.
— Браво, де Фокса, — сказал я, — ты выиграл свое пари!
— Да здравствует Испания! Дерьмо для Германии! — кричал де Фокса.
— Ja, ja. Дерьмо для Германии, — ответили хором все присутствующие, поднимая бокалы.
Все обнимались, некоторые катались по полу. Генерал Менш тащился на четвереньках, пытаясь поймать бутылку, которая медленно катилась по полу, удаляясь от него.
XVII. ЗИГФРИД И ЛОСОСЬ
— Кресла, обитые человеческой кожей? — недоверчиво переспросил Курт Франц.
— Да, — повторил я, — это были кресла, обитые человеческой кожей.
Все рассмеялись. Георг Бендаш заявил: — Это должно быть очень комфортабельно.
— Эта кожа очень мягкая, очень тонкая, — сказал я, — почти прозрачная.
— В Париже, — сказал Виктор Маурер, — я видел книги, переплетенные в человеческую кожу. Но кресел видеть мне не приходилось.
— Эти кресла находятся в Италии, — сказал я, — в замке графов де Конверсано в Пулье. Это один из графов Конверсано, около середины XVII века, приказывал убивать своих врагов — священников, дворян, повстанцев, разбойников, и обдирать с них шкуры, чтобы этой кожей обивать кресла в большом зале его дворца. Там есть кресло, спинка которого покрыта кожей с живота и груди одной монахини. На этой спинке еще заметны следы сосков, сосков стертых и изношенных вследствие долгого употребления…
— Вследствие употребления? — спросил Георг Бендаш.
— Подумайте о сотнях и сотнях лиц, сидевших в этом кресле за три столетия; мне кажется, этого достаточно, чтобы истерлась даже грудь монахини…
— Этот граф де Конверсано наверное был монстр, — заметил Виктор Маурер.
— Кожей всех евреев, которых вы уничтожили, — сказал я, — сколько сотен тысяч кресел можно было бы обить ею?
— Миллионы, — сказал Георг Бендаш.
— Шкура евреев ни на что не годится, — отозвался Курт Франц.
— Разумеется, шкура немцев лучше, — сказал я, — ее можно замечательно выделать.
— Ничто не может идти в сравнение с кожей германца, — сказал Виктор Маурер, которого генерал Дитль называл «парижанин». Виктор Маурер, кузен Ганса Моллье, секретаря по делам прессы немецкого посольства в Риме, по своему происхождению мюнхенец, прожил много лет в Париже, и теперь принадлежал к партии P.C. капитана Руперта. Париж для Виктора Маурере был бар Ритц, а Франция для него была его друг Пьер Кот.
— После войны, — сказал Курт Франц, — можно будет получить шкуру немцев задаром.
Георг Бендаш расхохотался. Он лежал на траве, накрыв лицо антимоскитной сеткой, и жевал березовый листок, время от времени приподнимая свою маску, чтобы плюнуть. Он смеялся, а потом спросил: «После войны? Какой войны?»
Мы сидели на берегу Утейоки[617], поблизости от озера… Река текла, словно кидаясь из стороны в сторону, между огромными каменными глыбами. Над городком Инари поднимался голубой дым: лапландские пастухи готовили свой суп из оленьего молока в медных котлах, подвешенных над очагами. Солнце на горизонте дрожало, будто колеблемое ветром. Лес был теплый, зеленовато-голубой, прорезаемый ручейками ветра, которые чудесно шептались в листве и траве. На противоположном берегу реки паслось стадо оленей. Между деревьями серебристо светилось озеро — как будто фарфоровое и покрытое трещинами розового и зеленого цвета. Великолепный старинный мейсенский фарфор. Это были именно зеленые и розовые тона мейсенского фарфора, этот зеленый — скромный и горячий, этот розовый — теплый, там и здесь сгустившийся в легкие пятна пурпура, бледного и блистательного… Начинался дождь, вечный летний дождь приарктических областей. Всеобщий шелест легко пронесся по лесу. Внезапно солнечный луч покрыл зеленый и розовый мейсен озера, и в воздухе послышалось долгое позвякивание, сладостное и жалобное позвякивание фарфора, который потрескивает.
— Война кончилась для нас, — сказал Курт Франц.
И в самом деле, война была от нас далека. Мы были вне войны, на удаленном континенте, во времени абстрактном, отрезанном от человечества. Я провел уже более месяца в лесах Лапландии, в тундре, вдоль Лицы, среди скоплений каменных глыб, пустынных, голых и холодных, фьорда Петсамо на Ледовитом океане, в красноствольных сосновых лесах и в лесах березовых, белых, на берегах озера Инари[618], в «тунтури» области Ивало[619]. Уже больше месяца я жил среди этого странного народа, молодых баварских или тирольских альпенйегеров, беззубых и облысевших, с лицами желтыми и морщинистыми, с глазами униженными и безнадежными, глазами диких животных. Я задавал себе вопрос: что же могло так глубоко изменить их. Это были действительно немцы, это были те же немцы, которых я встречал возле Белграда, в Киеве, в Смоленске, близ Ленинграда, с теми же хриплыми голосами, твердыми лбами, руками широкими и тяжелыми.
Но было в них еще нечто удивительное, нечто чистое, чего мне никогда еще не приходилось встречать у немцев. Быть может, то была их животная жестокость, их жестокая невинность, сходная с невинностью животных и детей. Они говорили о войне как о событии древнем, отдаленном во времени, говорили с тайным презрением, с злопамятством, относившимся к насилиям, голоду, разрушениям, избиениям. Они казались удовлетворенными природной жестокостью, как будто их уединенная жизнь в этих нескончаемых лесах, их удаленность от цивилизации, тоска бесконечной полярной ночи, этих долгих месяцев мрака, раздираемого иногда пожарами северных сияний, пытка нескончаемым днем, с солнцем, равно смотрящим днем и ночью в окно с горизонта, — будто все это побуждало их отвергать жестокость, свойственную человеку. Они восприняли безнадежную униженность диких животных, их таинственное чувство смерти. У них были глаза оленей, эти темные, блестящие и глубокие глаза, этот таинственный взор животных, который приобретают глаза мертвецов.
Всего за несколько ночей до этого я вышел из лесов. Я не мог спать. Было больше полуночи. Белое небо обладало удивительной прозрачностью; можно было думать, что оно сделано из шелковой бумаги. Я не видел на нем ни тени облаков; оно было таким ясным, таким прозрачным, что казалось огромным глубоким пространством, нагим и опустелым. Однако, мелкий, невидимый дождь падал с этого ясного неба; он мочил до костей — в листве, в кустах, в светлом ковре лишайников, он слышался музыкальным и очень нежным шепотом. Я углубился в лес и прошел больше мили, когда хриплый голос окликнул меня по-немецки и приказал мне остановиться. Патруль альпенйегеров, с лицами прикрытыми антимоскитными сетками, приблизился ко мне. Это был один из многочисленных патрулей, специально предназначенных для герильи[620] в северных лесах, который прочёсывал их и «тунтурит» районов Ивало и Инари, охотясь за норвежскими и русскими партизанами. Мы сели под защитой нескольких каменных глыб, у огня, вокруг костра, сложенного из мелкого кустарника, куря и разговаривая, под легким дождем, пахнущим смолой. Они сказали мне, что видели следы волчьей стаи. Несколькими днями ранее они уже догадались о присутствии волков по той тревоге, которую обнаруживали оленьи стада. Все эти солдаты были тирольскими или баварскими горцами. Время от времени до нас из глубины леса доносился треск ветвей, хрипловатый крик птицы.
Пока мы беседовали вполголоса (вполголоса, как всегда в этом климате, где голос кажется не свойственным человеку, звучит фальшиво и чуждо, кажется отдельным от человека, полным безнадежности, и это, действительно, голос тайной тоски, которая не имеет иного средства, чтобы себя выразить, себя исчерпать, кроме, как выражая себя в собственной речи, звучащей как ее эхо), мы увидели, как между деревьев, в сотне шагов от нас, бегут рысью несколько животных, похожих на собак, с короткой шерстью, серой, с оттенком ржавого железа. «Волки!» — заговорили солдаты. Волки пробежали мимо нас и смотрели на нас глазами красными и блестящими. Они, казалось, не испытывали к нам никакого страха, никакого недоверия. В этой доверчивости не было, впрочем, и ничего мирного, но, я сказал бы, нечто отсутствующее, что-то вроде благородного и печального безразличия. Они бежали бесшумно, легко и быстро, шагом удлиненным, быстрым и спокойным. В них не было ничего дикого, но они хранили отпечаток благородной скромности, чего-то вроде горделивой и очень жестокой снисходительности. Один из солдат поднял свой автомат, но его товарищ надавил на дуло, обратив его вниз. В этом жесте был отказ, отречение от жестокости, свойственной человеку. Как будто и человек тоже, в этом бесчеловечном одиночестве, не находил иного средства проявить свою человечность, как принимая животность, печальную и мягкую.
— Вот уже несколько дней, — сказал Георг Бендаш, — генерал фон Хёйнерт вне себя. Он никак не может поймать одного лосося. Вся стратегия немецких генералов бессильна против лососей.
— Немцы — плохие рыбаки, — ответил Курт Франц.
— Рыба не любит немцев, — отозвался Виктор Маурер.
Лейтенант Георг Бендаш, адъютант генерала от кавалерии фон Хёйнерта, был первым немцем, которого я встретил по прибытии в Инари. На гражданской службе Георг Бендаш был судьей трибунала в Берлине. Это был человек лет тридцати, высокий, широкоплечий, с костистыми челюстями. На ходу он немного сутулился и смотрел исподлобья. — Взгляд, — говорил он, — неподходящий для судьи. Время от времени он плевал на землю с выражением глубокого презрения на своем сумрачном лице. По своему цвету это лицо напоминало выделанную кожу. Это именно в связи с цветом его лица мы начали в этот день говорить о креслах графа Конверсано, обитых человеческой кожей. Его манера плевать на пол не была, как говорил Бендаш, собственно предуказана адъютантам немецких генералов от кавалерии, «но я имею свои основания это делать», — заявлял он. Иногда у меня было впечатление, что он плюет на всех немецких генералов. Находясь в присутствии генерала фон Хёйнерта и лапландских лососей, он склонялся перед лососями. Но в конце концов, он, как все немцы, судьи или нет, уважал генералов. В этом-то и было несчастье всех лососей в Европе: в том, что даже немцы сочувствовали лососям, но тем не менее уважали генералов.
Тотчас же по прибытии в Инари, я начал бродить по городку в поисках постели. Я умирал от усталости и едва держался на ногах от желания спать. Я проделал шестьсот километров через Лапландию, чтобы добраться до Инари, я умирал от желания растянуться на постели. Но в Инари постели были редкостью.
Городок насчитывал не более четырех или пяти деревянных домиков, сгруппированных вокруг чего-то вроде старинного магазина «секатавара кауппа»[621], владелец которого финн, господин Юхо Никайнен, принял меня с сердечной улыбкой, предъявив мне свои лучшие товары: целлулоидные гребни, пуукко с ручками из оленьей кости, таблетки сахарина, перчатки из собачьей кожи, сетки против москитов.
— Постель? Постель чтобы спать?
— Ну, конечно, чтобы спать!
— И вы приходите за этим ко мне? Но я не торгую кроватями. У меня была раньше походная кровать в моей лавке, но я продал ее уже три года тому назад директору Осаки Панки в Рованиеми.
— Вы не можете указать мне кого-нибудь, — спросил я, — кто согласился бы уступить мне свою кровать хотя бы на несколько часов?
— Уступить вам свою кровать? — переспросил Юхо Никайнен. — Вы хотите сказать, найти кого-то, кто уступил бы вам свою очередь? Хе! Это мне кажется очень трудно. Немцы забрали наши кровати; теперь мы спим по очереди на том небольшом количестве постелей, которые у нас остались. Вы можете попробовать у госпожи Ирья Пальмунен Химанко. Возможно, у нее в ее гостинице и найдется свободная постель, или что ей удастся убедить какого-нибудь немецкого офицера уступить вам на несколько часов свою. При необходимости, ожидая своей очереди поспать, вы можете пока отправиться на рыбную ловлю. Я могу найти для вас за недорогую цену все необходимое для ловли лосося.
— В реке много лососей?
— Их было страшно много, пока немцы не начали строить мост Утейоки. От плотников, с их пилами, молотками и топорами, много шума, и этот шум беспокоит лососей. В Ивало немцы тоже построили мост, и лососи покинули Ивалойоки[622]. Но это еще не все. Немцы ловят рыбу с гранатам. Это настоящее избиение. Они уничтожают не только лососей, но все виды рыб. Или они воображают, что могут обращаться с лососями так, как они обращаются с евреями? Мы им никогда этого не позволим. Как-то раз я сказал генералу фон Хёйнерту: «Если немцы, вместо того чтобы воевать с русскими, будут продолжать войну с лососями, мы будем защищать лососей».
— Легче воевать с лососями, — ответил я, — чем с русскими.
— Вы ошибаетесь, — сказал Юхо Никайнен, — лососи очень отважны, их победить вовсе не легко. По моему мнению, немцы совершают большую ошибку, воюя с лососями. Придет день, когда немцы начнут бояться и лососей тоже. Это именно так кончится. Прошлая война тоже кончилась этим.
— Но тем временем лососи покидают ваши реки?
— Это не из страха, — сказал Юхо Никайнен с обидой в голосе. — Лососи не боятся немцев. Они их презирают. Немцы вероломны, и, в частности, в отношении и рыбной ловли. Они не знают, что такое «fair play»[623]. Они бьют лососей гранатами, понимаете ли вы это? Они не думают, что рыбная ловля — это спорт. Для них это вроде блицкрига! Лосось — животное самое благородное на свете. Он предпочитает лучше погибнуть, чем поступиться законами чести. Против джентльмена он сражается до конца, так, как это пристало джентльмену, каким он и является: он героически идет на смерть, но он не унижается до того, чтобы мериться силами с вероломным противником. Он предпочитает изгнание бесчестью битвы с недостойным его противником. Немцы приходят в ярость оттого, что не могут больше найти лососей в наших реках. Знаете ли вы, куда эмигрируют лососи?
— В Норвегию[624]?
— Вы находите, что норвежцы находятся в лучшем положении, чем лососи? В Норвегии тоже немцы. Лососи эмигрируют вверх, мимо острова Рыбачьего, к Архангельску и Мурманску.
— А! Они уплывают в Россию?
— Да, уплывают в Россию, — сказал Юхо Никайнен. На его бледном финском лице с выступающими скулами во все стороны разбежались мелкие морщинки. Так трескается выставленная на солнце глиняная маска. Так я заметил, что он улыбается. — Они уплывают в Россию, — повторил он. — Будем надеяться, что они не вернутся однажды с красными головами!
— Вы убеждены, что они вернутся?
— Они вернутся. И скорее, чем многие думают, — сказал Никайнен. Потом он добавил, понизив голос: «Вы можете мне поверить, господин офицер, немцы проиграют войну».
— А! — воскликнул я. — Вы говорите, что немцы проиграют войну?
— Я хочу сказать, войну с лососями, — пояснил Юхо Никайнен. — Разумеется, все люди здесь — и лапландцы, и финны, держат сторону лососей. Недавно на берегу реки были найдены мертвыми немецкие солдаты. Быть может, это лососи их убили? Вы не думаете?
— Это возможно, — сказал я, — дорогой господин Юхо Никайнен! Я с удовольствием буду приветствовать триумф лососей. Их дело — это тоже дело человечества и цивилизации. Но тем временем я хотел бы иметь постель, чтобы уснуть.
— Вы очень устали?
— Я умираю от усталости и желания спать.
— Я советую вам пойти в гостиницу, к госпоже Ирья Пальмунен Химанка, — сказал Юхо Никайнен.
— Это далеко отсюда?
— Не больше мили. Вам, вполне вероятно, придется сложиться вдвое, чтобы спать с немецким офицером…
— В той же постели?
— Немцы любят спать в чужих постелях. Если вы ему скажете, что это не ваша постель, он, быть может, оставит и вам немного места.
— Спасибо, господин Юхо Никайнен, китоксиа пальон![625]
— Хювое пяйвэ![626]
— Хювое пяйвэ!
Госпожа Ирья Пальмунен Химанка встретила меня приветливо. Это была женщина немногим за тридцать лет, с лицом печальным и усталым; она сейчас же сказала мне, что будет просить лейтенанта Георга Бендаша, адъютанта генерала фон Хёйнерта, уступить мне одну из своих постелей.
— На скольких же постелях спит этот господин? — спросил я.
— У него две кровати, в его комнате, — ответила госпожа Ирья Пальмунен Химанка, — я надеюсь, что он согласится уступить вам одну из них, хотя с немцами, вы знаете…
— Плевать мне на немцев! Я хочу спать…
— Мне тоже наплевать, — уточнила госпожа Ирья Пальмунен Химанка, но лишь до известной степени… немцы…
— Немцы, — сказал я, — их никогда не следует просить об услуге. Если кто-нибудь попросит немца об услуге, он может быть уверен, что ему ответят «нет»; все превосходство herren volk’ов заключается в том, чтобы говорить нет. С немцами никогда нельзя ни просить, ни умолять. Предоставьте это дело мне, госпожа Ирья Пальмунен Химанка; я тоже нахожусь в школе лососей.
Угасшие глаза госпожи Ирья Пальмунен Химанка внезапно загорелись.
— О! — сказала она. — Какой благородный народ итальянцы! Вы первый итальянец, которого я встречаю в жизни, и я не знала, что итальянцы встают на защиту лососей от немцев. И это несмотря на то, что вы союзники немцев. Вы — благородный народ!
— Итальянцы тоже, — сказал я ей, — принадлежат к расе лососей.
— Все европейские народы — не что иное как лососи!
— Что с нами будет? — проговорила госпожа Ирья Пальмунен Химанка, — если немцы уничтожат всех лососей в наших реках или вынудят их эмигрировать? В мирные времена мы все были страстными любителями рыбной ловли, лето проводили в Лапландии — английской, канадской, северо-американской. Ах, эта война!
— Поверьте мне, госпожа Ирья Пальмунен Химанка, эта война закончится, как и всякая другая. Лососи выгонят немцев.
— Дай Бог, — воскликнула госпожа Ирья Пальмунен Химанка.
Мы поднялись на первый этаж. Гостиница в Инари построена как приют альпинистов. Это деревянное двухэтажное строение, к которому пристроено маленькое кафе, где лапландские пастухи и рыбаки сходились по воскресеньям, после религиозной службы, чтобы поговорить об оленях, о водке и лососях, прежде чем вернуться в свои хижины и палатки, затерянные в бесконечной глубине приарктических лесов. Госпожа Ирья Пальмунен Химанка остановилась перед одной из дверей и вежливо постучала.
— Herein![627] — закричал изнутри хриплый голос.
— Лучше я войду один, — сказал я, — предоставьте это мне. Вы увидите: все будет хорошо.
Я толкнул дверь и вошел. В маленькой комнате, отделанной березовыми панелями, стояли две кровати. На той, которая находилась ближе к окну, лежал Георг Бендаш, с лицом, накрытым противомоскитной сеткой. Я не сказал даже «добрый вечер» и бросил на свободную кровать рюкзак и непромокаемый плащ. Георг Бендаш приподнялся на локтях, осмотрел меня с ног до головы, совсем как судья смотрит на преступника, улыбнулся и, продолжая улыбаться, разразился ругательствами сквозь зубы, с крайней мягкостью и крайней куртуазностью. Он подыхал от усталости, потому что провел целый день стоя посреди ледяного потока Утейоки, рядом с генералом фон Хёйнертом, и очень хотел поспать еще как следует часика два.
— Приятного сна, — сказал я.
— Плохой сон, когда в комнате спят двое, — сказал Георг Бендаш.
— Еще хуже спится втроем, — сказал я, растягиваясь на постели.
— Я хотел бы знать, который час, — сказал Георг Бендаш..
— Десять часов.
— Десять утра или десять вечера?
— Десять вечера.
— Почему бы вам не пойти погулять по лесу часа два? — предложил Георг Бендаш. — Дайте мне, по крайней мере, поспать еще два часа.
— Я тоже хочу спать. Я пойду гулять завтра утром.
— Здесь вечер или утро — совершенно одно и то же. Солнце светит в Лапландии даже ночью, — сказал Бендаш.
— Я предпочитаю дневное солнце.
— Вы тоже приехали из-за этих проклятых лососей? — спросил Бендаш после короткого молчания.
— Лососей? В этой реке еще есть лососи?
— Один, единственный, — сказал Георг Бендаш, — но это огромное животное, удивительно хитрое и отчаянно смелое. Генерал фон Хёйнерт запросил подкрепления из Рованиеми. Он не покинет Инари, пока его не захватит.
— Подкрепления?
— Генерал, — сказал Георг Бендаш, — он всегда генерал, даже когда дело идет о ловле лосося. Вот уже десять дней мы проводим стоя в воде до самого пуза. Этой ночью мы едва не поймали его. Я хочу сказать, что этой ночью нам недоставало очень немногого, чтобы он не проскользнул у нас между ног. Он приплыл к нам, но не захотел брать наживку. Генерал в бешенстве, он говорит, что лосось над нами смеется.
— Смеется над вами?
— Смеяться над немецким генералом… — сказал Георг Бендаш. — Но завтра прибудет подкрепление, которое генерал запросил из Рованиеми.
— Батальон альпенйегеров?
— Нет, просто капитан альпенйегеров, капитан Карл Шпрингершмидт, специалист по ловле альпийской форели. Шпрингершмидт родом из Зальцбурга. Вы не читали его книгу: «Tirol am Atlantischen Ozean?»[628] Тиролец всегда тиролец, даже на берегах Северного Ледовитого океана. Если это специалист по форели, он сумеет поймать одного лосося, как вы думаете?
— Форель — это не лосось, — сказал я, улыбаясь.
— Кто знает? Капитан Шпрингершмидт говорит, что да, а генерал фон Хёйнерт говорит, что нет. Мы увидим, кто из них прав.
— Это не достойно немецкого генерала — требовать подкрепления против одного лосося.
— Генерал всегда генерал, — возразил Георг Бендаш, — даже когда ему противостоит всего один лосось. Как бы там ни было, капитан Шпрингершмидт ограничится тем, что даст ему несколько полезных советов. Генерал хочет действовать один. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Георг Бендаш лег на спину и закрыл глаза, но почти тотчас же открыл их; снова сел на кровати, спросил, как мое имя и имя моих родителей, дату и место моего рождения, национальность, вероисповедание и расовую принадлежность, точно так, как если бы он допрашивал обвиняемого. Потом он вытянул из-под своей подушки бутылку водки и налил два стакана.
— Прозит!.
— Прозит!
Он снова растянулся на спине, закрыл глаза и уснул, улыбаясь. Солнце било прямо ему в лицо. Целое облако мошкары наполнило комнату. Я отдался сну…
Я проспал, возможно, несколько часов, когда моих ушей достиг слабый звук кастаньет[629]. Бендаш спал глубоким сном, с лицом накрытым сеткой против гнуса, словно рейтар[630], умирающий на песке цирковой арены. Короткий и нежный стук кастаньет сразу пробудил меня, а также я различил шорох трав, трепет сминаемых листьев. Это был в самом деле стук кастаньет. Казалось, нескончаемая процессия дефилирует под нашими окнами. Это было похоже на дефиле[631] испанских балерин, ночную процессию севильских танцовщиц, направляющихся к алтарю Святой Девы из Макарены и потрясающих своими кастаньетами в мягко подложенных под головы правых руках, в то время, как левые руки опущены на бедра.
Это был действительно стук кастаньет, который мало-помалу становился все громче, отчетливее, ближе. Правда, этому звуку недоставало всех тех запахов, которые обычно ему сопутствуют, — запаха увядших цветов, жареных оладий, ладана. Но это был звук кастаньет и притом множества кастаньет. Нескончаемая процессия андалузских танцовщиц дефилировала в искристом потоке ледяного ночного солнца. Их не сопровождали крики толпы, взрывы петард, отдаленная радостная музыка. Ничего, кроме этого сухого и все приближающегося стука кастаньет.
Я соскочил с постели и разбудил своего компаньона. Георг Бендаш приподнялся на локтях, прислушался и посмотрел на меня, улыбаясь. Потом сказал своим ироническим и уверенным голосом: «Это олени. Два копыта, подвешенных на их задних ногах, стучат на бегу друг о друга и производят этот стук, так похожий на кастаньеты. Вы приняли их за испанских танцовщиц? — добавил он. — Генерал фон Хёйнерт тоже думал, что это танцовщицы из Андалузии. Мне пришлось привести оленя к нему в комнату в два часа ночи». Бендаш плюнул на пол и снова уснул, улыбаясь.
Я подошел к окну. Стадо из нескольких сотен оленей, галопируя вдоль лесной опушки, двигалось, направляясь к реке. В гиперборейском[632] лесу они были духами средиземноморских стран, горячей южной земли, духами Андалузии, насыщенной оливковым маслом и пропеченной солнцем. И я вдыхал в ледяном воздухе воображаемый запах человеческого пота.
Ночное солнце било своими косыми лучами в маленькие островки, разбросанные посреди озера, пятная их кровью. Там, в глубине городка Инари, жалобно лаяла собака. Все небо было покрыто чем-то вроде рыбьей чешуи, блистающей и колеблющейся в холодном ослепляющем свете. Я возвращался к озеру вместе с Куртом Францем и пересекал лесистые склоны долины. Среди сотен островков, разбросанных в центральной части озера, я видел священный остров лапландцев — Юконсаари — языческий алтарь, наиболее знаменитый во всем округе Инари. Это здесь, на этом маленьком островке конической формы, окрашенном вверху ночным солнцем в алый цвет, словно жерло вулкана, древние лапландцы собирались весной и осенью, чтобы принести в жертву своим демонам оленей и собак. Еще и сегодня лапландцы испытывают священный ужас перед Юконсаари; они отправляются сюда только в известные даты, побуждаемые неосознанным воспоминанием, быть может какой-то темной ностальгией о старых языческих церемониях.
Мы сели под дерево, чтобы отдохнуть, глядя на огромное серебристое озеро, которое простиралось перед нами, безлюдное, под ледяным пламенем ночного солнца. Война была от нас далеко. Я не чувствовал подле себя этого печального запаха человека, человека в поту, человека раненого, человека изголодавшегося, человека мертвого, запаха, отравлявшего воздух несчастной Европы. Но запах смолы, этот запах холодный, скудный, запах полярной природы: запах деревьев, воды, земли, запах дикого животного… Курт Франц курил свою коротенькую норвежскую трубку, трубку фирмы «Милли Хаммер», приобретенную им в «Секатарава кауппа» господина Юхо Никайнена. Я смотрел на него, я исподтишка наблюдал его, я обонял его запах. Это был человек, может быть такой же, как и остальные, может быть такой же, как и я. Он источал запах дикого животного. Запах белки, лисицы, оленя. Запах волка. Вот именно: запах волка летом, когда голод не вынуждает его быть жестоким. Это был запах дикий, запах волка летом, когда трава зеленая и ветер теплый, когда вода, высвобождаемая ледниками, растекается по лесам тысячами ручейков, журчащих и стремящихся навстречу чистому озеру, растворяя его жестокость, его дикость, умиротворяя его жажду крови. От него исходил запах волка пресытившегося, волка отдыхающего; впервые за три года войны я чувствовал себя спокойно рядом с немцем. Мы были вдали от войны, вне войны, вне человечества, вне времени. Война была от нас далека. От него исходил действительно запах летнего волка, запах немца, когда война окончена, когда он более не жаждет крови.
Мы спустились из долины. Почти на опушке леса, в соседстве с поселком Инари, мы прошли мимо ограды в виде высокого палисадника из стволов белой березы.
— Это Голгофа оленей, — сказал Курт Франц. — Осенний обряд забоя оленей — это нечто вроде Пасхи лапландцев, он напоминает жертвоприношение Агнца. Олень — это Христос лапландцев. Мы вошли в эту просторную ограду, и в холодном резком свете, падающем на траву, перед моими глазами предстал необычный, удивительный лес: это были тысячи и тысячи оленьих рогов, то фантастически нагроможденных, то редких и местами одиноких, как костяные кусты. Легкий зеленоватый, желтый и красный мох покрывал наиболее старые из них. Многие рога были молодыми, нежными, и твердая костяная кора еще не покрыла их. Одни были плоскими и широкими, с симметричными отростками, другие напоминали своей формой ножи: можно было думать, что это стальные лезвия, торчащие из-под земли. С одной стороны, у ограды, были свалены тысячи и тысячи оленьих черепов, напоминавших по своей форме ахейские[633] каски, с пустыми треугольными орбитами в твердой лобовой части, белой и гладкой. Все эти рога походили на стальные доспехи воинов, павших на поле битвы. И притом вокруг не было никаких следов битвы: порядок, спокойствие, мир, глубокий и торжественный. Порыв ветра пронесся по лугу, зашуршав пучками травы, выросшей между неподвижными костяными деревьями этого необыкновенного леса.
Осенью стада оленей, побуждаемые и ведомые инстинктом, тайным призывом, преодолевают огромные расстояния, чтобы достичь этих диких голгоф, где лапландские пастухи ждут их, сидя на корточках в своих «шляпах четырех ветров» — нелиентуулен лакки[634] — сдвинутых на затылки, со своими короткими сверкающими пуукко, зажатыми в их маленьких руках. (Малые размеры и нежность рук лапландцев удивительны. Это самые маленькие, самые нежные руки в мире. Замечательный ансамбль, бесконечно тонкий, изготовленный из лучшей стали. Пальцы тоже тонкие, терпеливые, драгоценные как инструменты швейцарского часовщика из Шо де Фон, или гранильщика алмазов из Амстердама). Послушные и ласковые, олени подставляют шейную вену смертельному лезвию пуукко. Они умирают без крика, с патетической и безнадежной покорностью. «Как Христос», — говорит Курт Франц. Внутри ограды, на земле, пропитанной таким количеством крови, растет густая трава. Но маленькие листочки некоторых кустов кажутся сожженными каким-то большим огнем; быть может, это огонь и жар крови сжигает их и придает им красноватый цвет.
— Нет, нет! Это не может быть от крови! — сказал Курт Франц. — Кровь не сжигает.
— Я видел, как от одной капли крови, — ответил я, — выгорали целые города.
— Кровь вызывает во мне отвращение, — сказал Курт Франц, — это грязная вещь. Она пачкает все, до чего ни коснется. Блевотина и кровь — вот две вещи, которых я не выношу больше всего.
Он провел рукой по лбу, уже разъеденному лысиной, точно паршой. Он сжимал мундштук своей «Лилли Хаммер» беззубым ртом, но время от времени вынимал его изо рта, чтобы яростно плюнуть, слегка наклоняясь вперед. Пока мы шли по поселку, две женщины, две старых лапландки, сидевшие на пороге одного их домов, провожали нас своими полузакрытыми глазами, постепенно поворачивая вслед за нами свои желтые морщинистые лица. Они сидели на корточках и, соединив руки под коленями, курили свои короткие глиняные трубки. Шел тихий дождь. Большая птица пролетела низко над кронами деревьев, испуская хриплые и монотонные вскрики.
Перед гостиницей генерал фон Хёйнерт готовился отправиться на рыбную ловлю. Он надел лапландские сапоги из оленьей кожи, достигавшие ему до половины бедер, и задрапировался в широкую антимоскитную накидку. Руки его до локтей были скрыты большими перчатками из собачьей кожи, и теперь, стоя перед гостиницей, он ждал, когда его лакей-лапландец Пекка закончит упаковку мешков с провизией. Генерал фон Хёйнерт был в полной боевой форме: на лоб его надвинута стальная каска, на поясе укреплен большой маузер. Он опирался на свою длинную удочку, как немецкий копейщик на свое копье, и время от времени обращался к капитану альпенйегеров, стоявшему с ним рядом, маленькому, коренастому человеку, с серыми волосами и лицом тирольского горца, розовым и улыбающимся. Позади генерала, на почтительной дистанции, находился Георг Бендаш, в одеревенелой стойке по команде «смирно», тоже обутый, в перчатках и при оружии, закутанный в сетку от гнуса, опускающуюся почти до самых ног. Он приветствовал меня движением головы, и по тому, как он шевелил губами, я догадался, что он шепчет про себя какое-то крепкое берлинское проклятие.
— На этот раз, — заявил генерал фон Хёйнерт, — победа у меня в руках!
— Вам не очень везло в прошлые разы, — сказал я ему.
— Я тоже так считаю: мне не везло, — ответил генерал фон Хёйнерт. — Но капитан Шпрингеншмидт так не считает. Он думает, что это моя вина. Лососи капризны и упрямы, а я не считался с их настроением. Серьёзная ошибка. К счастью, капитан Шпрингеншмидт информировал меня о темпераменте форелей. — Итак, теперь…
— Форелей? — прервал я.
— Форелей. А почему нет? — сказал генерал фон Хёйнерт. — Капитан Шпрингеншмидт, специалист по ловле знаменитой форели в Тироле, утверждает, что тирольские форели имеют темперамент совершенно одинаковый с лапландскими лососями. Не правда ли, капитан Шпрингеншмидт?
— Jawohl![635] — склонил голову капитан Шпрингеншмидт. Затем, повернувшись ко мне, он добавил по-итальянски, с мягким акцентом, свойственным тирольцам, говорящим на этом языке: — С форелями никогда не следует иметь такого вида, как будто вы спешите. Надо запастись терпением. Терпением монашеским. Если форель замечает, что рыбак располагает временем и не спешит, а запасся терпением, она начинает нервничать, волнуется и совершает какую-нибудь ошибку. Рыбак должен быть готов к тому, чтобы воспользоваться такой ошибкой форели…
— Да, — произнес я, — но лососи?
— Лососи в точности таковы, как и форели, — улыбнулся капитан Шпрингеншмидт. — Форель — животное нетерпеливое: она устает ждать и устремляется навстречу опасности. Если она кусает, она пропала. Тихонько, деликатно рыбак тянет ее к себе, это детская игра. Форели… Лососи — это те же форели, только более крупные. Незадолго до войны в Лондеке, это в Тироле…
— Мне кажется, — перебил его генерал фон Хёйнерт, — что мой лосось — это самый прекрасный экземпляр лосося, какого когда-либо видели в этих реках. Это огромное, огромное животное, удивительной смелости. Подумайте только, в прошлый раз оно немного что не ткнулось своей мордой мне в колени.
— Это дерзкий лосось, — сказал я, — он заслуживает наказания.
— Это проклятый лосось! — заключил генерал фон Хёйнерт. — Единственный лосось, оставшийся в Утейоки. Он, по-видимому, забрал себе в голову выгнать меня из реки силой и остаться хозяином на ее глубинах. Мы посмотрим, у кого больше гордости: у лосося или у немца! — Он стал смеяться, открывая большой рот и заставляя трепетать вокруг него широкие складки своей противомоскитной накидки.
— Может быть, — сказал я ему, — это ваша генеральская форма так возбуждает его. Вам следовало бы переодеться в штатское. Это не fair play[636]— отправляться на ловлю лосося в генеральской форме.
— Was? Was sagen Sie, bitte?[637] — переспросил генерал фон Хёйнерт с помрачневшим лицом.
— Вашему лососю, — добавил я, — по всей вероятности, не достает sense of humour[638]. Капитан Шпрингеншмидт, возможно сумеет вам сказать, как следует себя вести по отношению к лососю, лишенному чувства юмора.
— С форелями, — объяснил капитан Шпригеншмидт, — надо играть в игру очень тонко. Генерал должен иметь такой вид, как будто он находится в реке совсем по иной причине, чем та! какую может себе представить форель. Форели требуют, чтобы их обманывали.
— На этот раз он от меня не уйдёт! — заявил генерал фон Хёйнерт энергичным тоном.
— Так вы преподадите лососям урок — относиться с уважением к немецким генералам, — засмеялся я.
— Ja, ja, — воскликнул генерал фон Хёйнерт. Но лицо его тотчас омрачилось, и он подозрительно посмотрел на меня.
В это время госпожа Ирья Пальмунен Химанка появилась на пороге гостиницы. За ней следовал Пекка с подносом, на котором стояла бутылка водки и несколько стаканов. Она подошла, улыбаясь генералу, наполнила стаканы и предложила сначала ему, а затем каждому из нас.
— Prosit! [639] — сказал генерал фон Хёйнерт, поднимая свой стакан.
— Prosit. — повторили мы хором.
— Fur Gott und Vaterland.[640] — сказал я.
— Heil Hitler! — ответил генерал.
— Heil Hitler! — повторили остальные.
Тем временем подошло человек десять Alpenjäger’oe, накрытых противомоскитными сетками и вооруженных автоматами. Это был патруль, назначенный для сопровождения генерала до реки, а затем для размещения на обоих берегах, чтобы в процессе рыбной ловли защищать его от неожиданных сюрпризов со стороны русских или норвежских партизан.
— Идемте! — сказал генерал, пускаясь в дорогу.
Мы тронулись, молча, предшествуемые и замыкаемые на известной дистанции солдатами эскорта. Невидимый дождь шептался вокруг в листве. Птица закричала на одном из деревьев, стадо оленей со стуком кастаньет пробежало галопом между сосновых стволов. В холодном свете ночного солнца лес казался серебряным. Мы шли к берегу реки; мокрая от дождя трава была нам выше колена. Георг Бендаш смотрел на меня исподлобья, со своим выражением побитой собаки. Время от времени генерал фон Хёйнерт оборачивался и молча смотрел на Бендаша и Шпрингершмидта. — Jawohl! — отвечали одинаковыми голосами оба офицера, поднося правые руки к бортам своих стальных касок. Наконец, примерно через час пути, мы дошли до берега. Утейоки в этом месте расширяет свое ложе, усеянное крупными обломками скал из темного гранита, омываемыми быстрым и пенистым, но не глубоким потоком. Пекка и остальные лапландцы, которые несли все необходимые инструменты для рыбной ловли и мешки с провизией, остановились, чтобы расположиться под защитой скалы, часть солдат эскорта расположилась на берегу вдоль реки, другая цепочкой пересекла реку и остановилась на противоположном берегу, повернувшись к реке спинами. Генерал фон Хёйнерт внимательно осмотрел удилище своего спиннинга, попробовал катушку и, повернувшись к Бендашу, сказал: «Пошли!», после чего вошел в реку, сопровождаемый своими двумя офицерами. Я оставался на откосе и сидел под деревом рядом с Куртом Францем и Виктором Маурером.
Голос реки был сильным, полным и певучим. Иногда он рассыпался на отдельные вскрики, иногда сливался, затухая в серьезном и глубоком звуке. Стоящий посередине течения, погруженный до живота в ледяную воду, генерал держал свое удилище словно ружье и осматривался вокруг, чтобы можно было поверить, что он находится здесь, в этот час, посреди реки, совсем по иной причине, чем та, которую смог бы себе представить лосось. Бендаш и Шпрингеншмидт держались по обе стороны от него, немного сзади, в положении, напоминавшем о военном чинопочитании. Пекка и остальные лапландцы уселись в кружок на берегу и закурили свои трубки, молчаливо наблюдая за генералом. Птицы кричали в сосновых ветвях.
Прошло, приблизительно, около часа, когда лосось внезапно атаковал генерала фон Хёйнерта: длинное удилище получило толчок, заколебалось, согнулось, затем леска натянулась, и генерал закачался на ногах, сделал шаг вперед, потом еще два шага, согнул ноги в коленях и геройски устоял, сопротивляясь этой неожиданной атаке. Битва началась. Рассеянные на берегу лапландцы, солдаты эскорта, Курт Франц, Виктор Маурер и я затаили дыхание. Вдруг генерал пошёл: большими шагами, твердыми и тяжелыми, он двинулся по течению, с силой опуская в воду свои сапоги, удерживаясь правой ногой то за один скалистый выступ, то за другой, постепенно уступая поле битвы, шаг за шагом, с заученной медлительностью. И это не было какой-либо новой тактикой, даже для немецкого генерала, потому что ловля лосося предусматривает, что идти вперед — это значит уступать поле битвы. Время от времени генерал останавливался, укреплял позицию с трудом захваченную. Мне следовало бы сказать: с трудом утраченную, чтобы применить язык ловли лососей, упорно сопротивляясь постоянным и яростным толчкам противника, затем мало-помалу, медленно, осторожно, маневрируя своей стальной катушкой, начинал наматывать леску, пытаясь подтянуть поближе мужественного лосося. Лосось, в свою очередь, уступал понемногу поле боя, с заученной медлительностью: иногда он появлялся над водой, и мы видели его спину — сверкающую, серебристую и розовую, затем следовали сильные удары хвостом, которые поднимали фонтаны брызг вспененной воды; иногда он показывал свою длинную морду, полуоткрытый рот и глаза — круглые, расширенные и пристальные. Потом, едва только он находил опору в виде двух камней, между которыми он мог испытать очередную увертку, или более быстрое течение, на которое он мог опереться своим хвостом, он выдавал своему противнику резкий и внезапный толчок, привлекая его к себе и увлекая вниз по течению на всю длину стальной лески, раскручивавшейся со звоном. Этим повторяющимся приемам лосося генерал фон Хёйнерт противопоставлял своё немецкое упорство, свою прусскую гордость, свое самолюбие, и чувство, что в этой игре ставкой служит не только его профессиональный престиж, но и престиж его формы. Он подавал голос коротким и хриплым криком: «Ахтунг!» Потом поворачивал голову, чтобы прорычать Бендашу и Шпрингеншмидту другие слова, но хриплые звуки его голоса перекрывались то мягким, то глуховатым пением речных струй. И потом — какую помощь мог оказать в эти мгновения своему генералу в его борьбе с лососем бедный Георг Бендаш? И какую помощь мог оказать ему в борьбе против такой форели бедный Шпрингеншмидт? С каждым новым шагом генерала вперед Георг Бендаш и капитан Шпрингеншмидт не могли сделать ничего иного, как тоже шагнуть вперед. И так шаг за шагом генерал и два его офицера спустились почти на целую милю вниз по течению, увлекаемые толчками сильного и отважного лосося. Эта борьба, с ее чередующимися превратностями, развертывалась уже около трех часов, когда я заметил ироническую улыбку на желтом и сморщенном лице Пекки и других лапландцев, сидевших кружком со своими короткими трубками в зубах. Тогда я взглянул на генерала: он был на середине реки, в военной форме, со стальной каской, надвинутой на лоб, и с большим маузером, укрепленным на поясе, под его обширной антимоскитной накидкой. Широкие красные лампасы на его брюках сверкали в мертвенном блеске полуночного солнца. Теперь можно было заметить, что у него не хватит силы долго сопротивляться упорно борющемуся противнику… Я чувствовал, как нечто новое проявляется в нем, я угадывал это по его нетерпеливым жестам, по злобному лицу, по той интонации, с которой он время от времени кричал: «Achtung!», интонации раненой гордости, страха и скрытой тревоги. Генерал был возбужден и испуган. Он боялся быть смешным. Вот уже три часа, как он борется с лососем. Это было недостойно немецкого генерала, что его постигает неудача в борьбе с рыбой и в такой долгой борьбе.
Он начал опасаться, что останется побежденным. Если бы он, по крайней мере, был один! Но у нас на глазах, под ироническими взглядами лапландцев, на глазах солдат эскорта, расположенных по обеим сторонам реки! И к тому же: был прецедент Советской России. Надо было кончать. Его достоинство страдало, достоинство немецкого генерала, всех немецких генералов, всей немецкой армии. И к тому же был прецедент России.
Внезапно генерал фон Хёйнерт обернулся к Бендашу и крикнул ему хриплым голосом:
— Genug! Erschisst ihn![641]
— Jawohl![642] — ответил Георг Бендаш и приблизился к нему.
Он пошел вниз по течению большими, медленными и твердыми шагами, и когда он оказался возле лосося, который бился в пенистой воде, увлекая за собой генерала, он остановился, вынул из-за пояса свой пистолет, наклонился над смелым лососем и в упор выпустил две пули ему в голову.
Часть VI МУХИ
Глава XVIII. ГОЛЬФ ГОНДИКАП[643]
— Oh по, thank God.[644] — воскликнул сэр Эрик Друммонд, первый лорд Пертский[645], посол Его Величества Короля Британии в Квиринале[646]. Это было осенним днем 1935 года.
Солнце прикрыло розовое облачко, окаймленное зеленым; золотистый луч, упавший на стол, заставил зазвенеть хрусталь и фарфор. Распростертая необозримость римского ландшафта раскрывалась перед нашими глазами своими глубокими перспективами желтой травы, бурой земли, зеленых деревьев, близ которых сверкали под октябрьским солнцем одинокие мраморные надгробия и красные арки акведуков[647]. Гробница Цецилии Метеллы пламенела в осеннем огне, пинии и кипарисы Аппиевой дороги раскачивал ветер, пахнущий тмином и лавром.
Завтрак медленно приближался к концу. Лучи солнца преломлялись в бокалах, тонкий аромат портвейна разливался в воздухе медового оттенка, сладостный и теплый. Вокруг стола собралось с полдюжины римских принцесс, по происхождению американок или англичанок, улыбавшихся словам Бобби, дочери лорда Пертского, лишь недавно вышедшей замуж за молодого графа Сэнди Мэнэсси. Бобби рассказывала, что одноглазый Беппе, главный банщик Форте деи Марми, в наиболее острый момент напряженных дипломатических отношений между Англией и Италией по Эфиопскому вопросу, в день, когда Ноте Fleet[648] вошла в боевой готовности в Средиземное море, сказал ей: «Англия совсем как Муссолини: она всегда права, и в частности тогда, когда виновата».
— Do you really think England is always right[649] — спросила лорда Пертского принцесса Дора Русполи.
— Oh по, thank God.[650] — ответил лорд Пертский, краснея.
— Мне очень хотелось бы знать, правдива ли история о кадди и Ноте Fleet[651], — сказала принцесса Джан ди Сан Фаустино. Несколько дней спустя после появления Ноте Fleet в Средиземном море лорд Перт играл в гольф, и его мяч, отскочив, упал в лужу грязной воды. — «Пойди, принеси мне мой мяч», — сказал лорд Пертский, обращаясь к кадди. «Почему вы не пошлете Home Fleet?» — спросил маленький римский кадди. История, по всей вероятности, придумана, но она имела успех в Риме.
— What a lovely story.[652] — воскликнул лорд Пертский.
Солнце било лорду Пертскому прямо в лицо, лукаво вскрывая в его цвете, нежном и розовом, губах, в глазах прозрачной голубизны нечто ребяческое и женственное, которое открыто в каждом высокородном англичанине; эту милую скромность, этот оттенок невинности, эту юношескую стыдливость, которую ни годы, ни увеличивающийся груз ответственности и почета не в состоянии изгладить и погасить; они живут, достигая чудесного расцвета уже в преклонных годах, ибо и седовласые англичане сохраняют добродетель мгновенно краснеть из-за пустяков. День был теплый и золотой — день тревожной осени. Могилы на Аппиевой дороге, большие латинские пинии, желтые и зеленые просторы Аджера, — весь этот пейзаж, печальный и уединенный, отражался на розовом лице лорда Пертского, гармонически сочетаясь живым и деликатным образом с его ясным лицом, голубыми глазами, белыми волосами, улыбкой скромной и чуть меланхолической.
— Britannia may rule the waves, but she cannot waive the rules[653], — заявил я, улыбаясь.
Все вокруг засмеялись, и Дора Русполи сказала своим хрипловатым и торопливым голосом, жестикулируя правой рукой и поворачивая лицо с его матовой кожей: «Большая внутренняя сила нации сказывается в том, что она не может нарушить традиционных правил, is ‘nt it?[654]»
— То rule the waves, to waive the rules[655]… это удачная игра слов, — сказала Джан ди Сан Фаустино. — Но я терпеть не могу игры слов.
— Это joke[656], которым очень гордится Хэммен Вопер, — сказал я.
— Хэммен Вопер — это gossip writer[657] не правда ли? — спросила Дора Русполи.
— Что-то в этом роде, — ответил я.
— Вы читали «Нью-Йорк» Сесиля Битона? — спросил меня Уильям Филиппе, посол США, сидевший рядом с Корой Антинори.
— Сесил — очень симпатичный мальчик, — отозвалась дочь Уильяма Филиппса Беатриса или «Б», как ее прозвали друзья.
— Это чудесная книга — подтвердила Кора Антинори.
— Жаль, — сказала Джан ди Сан Фаустино, — что Италия не имеет такого писателя, как Сесил Битон. Итальянские писатели провинциальны и скучны. У них нет sense of humour.[658]
— Это не совсем их вина, — объяснил я. — Италия — это провинция, а Рим — столица провинции. Вы можете себе представить книгу о Риме, написанную Сесилем Битоном?
— Почему бы нет? — возразила Дороти ди Фрассо. — Что касается сплетен, Риму не приходится завидовать Нью-Йорку. Риму не достает вовсе не сплетен, но только gossip writer, как Сесил Битон. Вспомните сплетни о Папе и Ватикане. Что касается меня, то я никогда не возбуждала столько сплетен в Нью-Йорке, сколько возбуждаю их в Риме. And what about you, my dears![659]
— Никто никогда не создавал сплетен на мой счет, — сказала Дора Русполи, бросая на Дороти взгляд оскорбленного достоинства.
— Нас рассматривают просто как «курочек», — проговорила Джан ди Сан Фаустино. — Это нас, по крайней мере, молодит.
Все присутствующие рассмеялись, а Кора Антинори заявила, что факт проживания в провинции, вероятно, не единственная причина того, что итальянские писатели скучны. «Даже и в провинции, — заметила она, — можно иметь интересных писателей».
— В сущности, и Нью-Йорк — провинциальный город, — сказала Дора.
— Что за мысль! — воскликнула Джан, глядя на Дору с презрением.
— Это отчасти зависит от характера языка, — объяснил лорд Перт.
— Язык, — сказал я, — имеет большое значение не только для писателей, но для народов и государств также. Войны, в известном смысле, — не более чем синтаксические ошибки.
— Или просто ошибки произношения, — добавил Уильям Филиппе. — Миновала та эпоха, когда слово «Италия» и слово «Англия» писались различным образом, но произносились одинаково.
— Возможно, — согласился лорд Перт, — что и на самом деле все заключается не более чем в произношении. Это именно тот вопрос, который я себе задаю всякий раз, когда выхожу, закончив беседу с Муссолини.
Я представил себе лорда Перта, беседующим с Муссолини в огромной зале дворца Венеция[660]:
— Пригласите английского посла, — говорит Муссолини, обращаясь к Наварре, главе судебных приставов.
По сдержанному жесту Наварры дверь почтительно растворилась, и лорд Перт шагнул через порог, медленно двигаясь по блестящему полу из наборного мрамора к массивному ореховому столу, поставленному перед большим камином XVI века. Муссолини, стоявший прислонившись спиной к столу или камину, ожидая его и улыбаясь, сделал несколько шагов навстречу, и теперь они оба стояли друг перед другом: Муссолини, весь собранный и напряженный в усилии казаться и предлагать себя, балансирующий своей огромной головой, вздутой, жирной, белой, круглой и лысой, которой вздувшийся валик под затылком, начинавшийся сразу от ушей, придавал ужасающий вес, и Лорд Перт — прямой, улыбающийся, осторожный и скромный, с лицом, озаренным легким детским румянцем. Муссолини верит в себя самого (если только он во что-нибудь верит), но не верит в несовместимость логики и удачи, воли и судьбы. Его голос горяч, серьезен и, однако, деликатен; голос, обладающий порой странностью глубоко женских интонаций, чего-то болезненно женского. Лорд Перт не верит в себя самого. Oh no, Thank God![661]; он верит в силу, в престиж, в вечность государственного флота и банка Великобритании, в sense of homour[662] флота и в fair-play[663] банка Великобритании; он верит в тесное соотношение игрового спортивного поля в Итоне и поля сражения в Ватерлоо. Муссолини здесь, лицом к лицу с ним, один: он знает, что не представляет собой никого и ничего, он представляет самого себя. Лорд Перт — не более как представитель Ее Величества Британии.
Муссолини говорит «How do you do?[664]», как если бы он говорил: «I want to knew now you are»[665]. Лорд Перт говорит: «How do you do?», как если бы он говорил: «I don’t want to know how you are»[666]. У Муссолини мужицкий акцент романьи, он произносит слова: «проблемы, Средиземноморье, Суэц, Эфиопия», как он сказал бы «белот[667], пинар, агрикультура, форли». У лорда Перта акцент undergraduate из Оксфорда, у него есть дальние родственники в Шотландии он произносит слова «проблемы, Средиземноморье, Суэц, Эфиопия», как сказал бы «крикет, серпантин, виски, Эдинбург»; его лицо улыбчиво, но бесстрастно, его губы слегка шевелятся, едва притрагиваясь к словам, его взгляд глубок и скрытен, как будто он смотрит, закрыв глаза. Лицо Муссолини бледно и пухло, с контрактурой любезной гримасы, заданной безмятежности и аффектированного удовольствия. Его толстые губы двигаются так, как если бы он сосал слова. Его глаза круглы и расширены, его взгляд одновременно пристален и тревожен — взгляд человека, который знает, что есть покер и что не есть покер. Взгляд Лорда Перта — это взгляд человека, который знает, что есть крикет и что не есть крикет.
Муссолини говорит: «I want»[668]. Лорд Перт говорит: «I would like»[669]. Муссолини говорит: «I don’t want»[670]. Лорд Перт говорит: «We can’t»[671]. Муссолини говорит: «I think»[672]. Лорд Перт говорит: «I suppose, may I suggest, may I propose, may I believe»[673]. Муссолини говорит: «Inequivocobiimente»[674]. Лорд Перт говорит: «Rather; may be, perhaps, almost probably»[675]. Муссолини говорит: «Му opinion»[676]. Лорд Перт говорит: «Public opinion»[677]. Муссолини говорит: «The fascist revolution»[678]. Лорд Перт говорит: «Italy»[679]. Муссолини говорит: «The King»[680]. Лорд Перт говорит: «His Majesty the King»[681]. Муссолини говорит: «J»[682]. Лорд Перт говорит: «The British Empire»[683].
— Иден[684] тоже, — сказала Дороти ди Фрассо, — имел некоторые затруднения найти общий язык с Муссолини. Кажется, они произносили одни и те же слова на разный лад.
Дора Русполи стала рассказывать забавные случаи (которые породили в римском обществе много толков), связанные с недавним пребыванием в Риме Антони Идена. Тотчас после завтрака, который в его честь дал лорд Перт в английском посольстве, Иден ушел один, пешком. Было три часа дня. В шесть часов он все еще не вернулся. Лорд Перт начинал тревожиться. Между тем, молодой секретарь французского посольства, прибывший за несколько дней до того во дворец Фарнезе прямо с Ке д’Орсэ[685][686] (уплачивая в Риме свою дань новичка, следом Шатобриана и Стендаля, оставленным ими в Вечном городе), бродил по залам и коридорам Ватиканского музея незадолго до часа его закрытия. И он увидел сидящего на крышке этрусского саркофага[687], между палицей Геракла и длинным бледным бедром Коринфской Дианы, молодого блондина с тонкими усиками, углубленного в чтение маленького томика, переплетенного в темную кожу (томик Горация[688], как ему показалось). Припомнив фотографии, опубликованные в эти дни на первых страницах римских газет, молодой секретарь французского посольства узнал в этом уединившемся читателе Антони Идена, который в спокойном полумраке Ватиканского музея отдыхал, читая «Оды» Горация, от скучных официальных приемов и завтраков, от дипломатических бесед и переговоров, быть может также и от непобедимой скуки, которую все порядочные англичане чувствуют, думая о самих себе.
Это открытие, которым молодой секретарь французского посольства простодушно поделился со своими коллегами и с тремя-четырьмя римскими принцами, встреченными в Охотничьем клубе и в баре «Эксцельсиор», живо заинтересовало римское общество, столь апатичное по своей природе, по традиции, а также из гордости. В тот же вечер на обеде у Изабеллы Колонна не говорили больше ни о чем другом. Изабелла была в восторге; эта простая биографическая подробность, ничтожная по виду, казалась ей возвышенным штрихом. Иден и Гораций. Изабелла не могла припомнить ни одной строки из Горация, но ей казалось, что должно существовать нечто общее между Иденом и дорогим, любезным, добрым старым латинским поэтом. Она чувствовала втайне себя раздосадованной, что сама давно не догадалась, пока ей кто-то не подсказал, что было что-то общее между Горацием и Антони Иденом.
На следующий день, с десяти часов утра, все римские «пижоны», как бы случайно назначили друг другу рандеву в Ватиканском музее; каждый нес под мышкой или ревниво сжимал в руке томик Горация. Но Антони Иден не подавал признака жизни, и к полудню все были разочарованы. В Ватиканском музее было жарко, и Изабелла Колонна, остановившись перед окном с Дорой Русполи, чтобы немного подышать свежим воздухом и дать разойтись всем этим людям, сказала Доре, когда они остались одни: «Дорогая, посмотрите же на эту статую. Разве не похожа она на Идена? Это Аполлон, вероятно. Между тем, он похож на Аполлона, he’s a wonderful young Apollo!».[689] Дора приблизилась к статуе, созерцая ее сквозь розовую вуаль своей близорукости: «Это не Аполлон, дорогая, всмотритесь получше. Это статуя женщины — быть может Дианы, а может быть Венеры. Пол не имеет никакого значения, пол, в этом вопросе. Вы не находите, что это все-таки на него похоже?»
Гораций за несколько часов вошел в моду. На столах Гольф-клуба Аквацанты, на хлопчатобумажных скатертях в красную и белую клетку, рядом с мешочком «Гермес», пачкой сигарет «Кэмел» или «Гольд Флэкк», или коробкой табака Дунхилля, всегда лежал томик Горация, изданный Скиапарелли[690]; именно Горация, в обложке или шелковом саше, так как Скиапарелли в последнем номере «Vogue»[691] рекомендовала применять то же саше, чтобы предохранить книги от горячего песка морских пляжей или от влажной пыли площадок для гольфа. Однажды был найден забытым на столе — быть может, умышленно забытым — старый экземпляр венецианского издания «Од» Горация в великолепном переплете с золотым тиснением XVI века. Хотя золото и поблекло с веками, герб Колонна[692] сверкал на его переплете. Геральдических знаков Сурсоков[693] на нем не было, но каждый и так мог догадаться, что это — книга, с которой Изабелла не разлучается ни днем, ни ночью.
На следующее утро Иден отправился в Кастель[694] Фузано. Как только эта новость распространилась в Риме, на автостраде, ведущей в Остию[695], образовалась процессия шикарных автомобилей. Но после нескольких заплывов и короткой солнечной ванны Иден покинул Кастель Фузано, проведя там не более часа. Все возвратились в Рим в дурном настроении. Вечером у Дороти дель Фрассо эта «охота за сокровищем» стала темой беседы. Дороти не пощадила никого, кроме Изабеллы, которая, как заявила Дороти, открыла, что один из ее предков, принадлежавший к роду Сурсоков, долгие годы живший в Константинополе во времена Эдуарда VII[696] и в Лондоне в период Королевства Абдул Гамида[697], перевел на сирийский «Оды» Горация. Значит, было нечто общее между Сурсоками, Горацием и, разумеется, Иденом, и это неожиданное родство с Иденом переполняло Изабеллу законной гордостью. После этого Иден неожиданно вернулся в Лондон, и на площадке гольфа в Аквацанте люди смотрели друг на друга недоверчиво — как ревнивые любовники, или с печальным доверием — как любовники разочарованные. Изабелла, которой кто-то, возвратившийся из Форте деи Марми, сообщил невинную шутку Джан (намек на ритуальный банкет, принятый на востоке после похоронной церемонии), отменила в последнюю минуту званый обед. И Дора устремилась в Форте деи Марми, чтобы отдать отчет Джан о событиях и сплетнях этой удивительной странной недели.
— Ах! Ты тоже, моя дорогая! — произнесла Джан ди Сан фаустино. — Я видела тебя издали в этот день, и у тебя было такое лицо! Я тотчас же сказала себе: и она попалась!
— Какой необычайный город, Рим! — сказал лорд Перт. — Здесь вечностью дышит самый воздух. Всё становится материалом для легенд, даже светские сплетни. Вот и сэр Антони Иден вошел в легенду. Ему достаточно было провести неделю в Вечном городе, чтобы войти в вечность.
— Да, но он вышел обратно и очень быстро, этот хитрец! — заметила Джан.
Это были золотые годы Гольф-клуба, это были счастливые и обаятельные дни Аквацанты. Потом пришла война, и «link»[698] изменился в нечто вроде «пасео»[699], где молодые женщины Рима дефилировали перед Галеаццо Чиано и его двором с колеблющимися driver[700] в своих маленьких белых ручках. Вознесенная красноватыми облаками войны звезда Галеаццо быстро взлетела над горизонтом, и новый золотой век, дни, по-новому счастливые и чудесные, настали для Гольф-клуба. Порой имена, манеры, взгляды, одежда имели что-то, быть может, слишком недавнее, краски слишком свежие, чтобы не вызывать подозрений порой оскорбительных, которые пробуждают обычно люди и вещи чересчур новые в обществе слишком старом, где подлинность никогда не признавалась ни за новизной, ни за молодостью. Сама быстрота этого возвышения Галеаццо и его двора была таким явным признаком незаконности, что ошибиться было невозможно.
Англичане уехали. Французы уехали. Многие другие иностранные дипломаты готовились покинуть Рим. Немецкие дипломаты заняли места английских и французских, но чувствительный декаданс проявлялся в манерах; известная недоверчивость, нескончаемое тревожное состояние заместили свободную грацию, царившую раньше, старинную счастливую непринужденность. Принцесса Анна Мария фон Бисмарк (светлое шведское лицо которой казалось вышитым на небе из голубого шелка на фоне пиний, кипарисов и надгробий Аппиевой дороги[701]) и другие молодые женщины немецкого посольства отличались грацией скромной и улыбчивой, которой ощущение себя иностранками в этом Риме, где все другие иностранки ощущают себя римлянками, добавляло еще больше деликатности и стыдливости. Но в воздухе было рассеяно сожаление, нежное и тонкое сожаление.
Юный двор Галеаццо Чиано был, скорее, легким и великодушным. Это был двор горделивого и капризного принца. В него вступали милостью женщин и его покидали не иначе как по случаю внезапной немилости принца. И это был рынок улыбок, почестей, должностей и назначений. Королевой этого двора была женщина, как и полагается, но это была не какая-нибудь фаворитка Галеаццо, молодая и прекрасная, — нет. Это была женщина, для которой Галеаццо был фаворитом, юным и прекрасным, и к которой римское общество уже давно — не без упорного сопротивления вначале — стало относиться как к античной верховной власти, что проистекало от ее имени, ее ранга, ее богатств и ангельского предрасположения ее ума к интриге. Ко всему этому присоединялось, как врожденный дар, ощущение исторической неустойчивости и социального классового самосознания, заглушавшего у нее политическое чутье, уже слабое и неуверенное.
И теперь в благоприятнейшем положении (отныне не подлежавшем более обсуждению) «первой дамы Рима», благодаря заблуждениям, в которые беспорядок войны и неуверенность в завтрашнем дне погрузили римское общество, благодаря этой языческой безнадежности, которая проникает в истощенные вены старых католических аристократий при приближении некоей страшной бури, и, наконец, благодаря этой коррупции моральных устоев и нравов, которая предшествует глубоким революционным событиям, принцесса Изабелла Колонна за короткое время сумела превратить дворец на площади Санти Апостоли[702] в цитадель против тех «принципов незаконности», которые граф Галеаццо Чиано и его двор воплощали с новым и живым блеском в областях политической и светской. Это могло быть сюрпризом лишь для тех, кто, не будучи в курсе политического непостоянства знатных фамилий Рима в течение тридцати или пятидесяти предшествовавших лет или находясь вне «публичных секретов» «гратэнов», не знали подлинного личного положения Изабеллы в римском обществе.
Тот факт, что Изабелла приняла на себя — и уже в течение ряда лет выполняла — роль весталки, твердой охранительницы наиболее суровых принципов законности, не мешало тому, что «маленькая Сурсок», как прозвали Изабеллу в первый период ее замужества, когда она только что прибыла в Рим со своей сестрой Матильдой, вышедшей замуж за Альберто Теодоли, рассматривалась многими не более как парвеню[703], как втершаяся, и в дорическом ордере дома Колонна она представляла собой ордер коринфский. Лицом к лицу с той незаконной Италией, которую Муссолини и его революция возвели на почетный пьедестал, Изабелла в течение нескольких лет, а именно до Конкордата[704], находилась в положении порядочного и улыбающейся оговорки, и смотрела на текущие события, так сказать, через форточку. Она обусловила свои взаимоотношения с «революцией», такой, какой эта последняя казалась при взгляде из окон дворца Колонна: с тем же щепетильным этикетом, с той же суровой протокольностью, с какой она оговаривала условия своих знаменитых контрактов о сдаче внаем здания с бедной мистрисс Кеннеди, которая долго снимала в качестве жилицы помещение во дворце Колонна. В день, когда Изабелла открыла свои двери перед Итало Бальбо, «легитимный» Рим не ощутил ни в малой мере удивления, и нельзя было сказать, что эта новость оказалась скандальной. Но никто, быть может, не понял подлинных и глубоких оснований, по которым Изабелла изменила свою позицию и по которым присутствие Итало Бальбо в салонах дворца Колонна оказалось возможным.
Не только для самой Изабеллы и для римского общества, но и для всего итальянского народа война была тем, что испанцы называют термином, заимствованным у тавромахии[705]: el momento la verdad[706]. Это момент, когда человек со шпагой в руке, один, выходит против быка. В этот момент и обнаруживается la verdad — правда о человеке и правда о животном, стоящем против него. Всякая гордость человеческая и животная теряет цену: человек в эти мгновения одинок и наг перед животным, оно — также одиноко и обнажено. В начале войны, в этот момент verdad, Изабелла — она тоже оказалась одинокой и нагой, и она широко раскрыла настежь двери дворца Колонна перед Галеаццо Чиано и его двором, показывая тем самым, что она делает окончательный выбор между принципами законности и незаконности, создавая таким образом из дворца на площади Санти Апостоли то, чем было Парижское архиепископство во времена Кардинала де Ретца. Иными словами, она сама становилась Кардиналом де Ретцем в этой цитадели незаконности, в этой королевской резиденции, где собиралось отныне все, что поднялось на поверхность двусмысленного и не подлинного за эти последние годы в этом новом Риме и этой новой Италии. Изабелла царила по-королевски, не отказываясь, впрочем, от старого любезного и лукавого предрасположения к тирании, и Галеаццо имел здесь вид, скорее, инструмента этой тирании, чем самого тирана.
Белые розы и алая земляника среди зимы — эти королевские первинки, которые ежедневно прибывали самолетом из Ливии дону Итало Бальбо, — не украшали более стол Изабеллы (Бальбо был мертв и мертвы были розы и земляника Ливии). Но было много улыбающихся лиц, розовых щек и губ цвета земляники, принадлежавших молодым женщинам, которых Изабелла представляла — таковы другие королевские первинки — ненасытному тщеславию Галеаццо.
Со времени эфемерного царствования Итало Бальбо остряки Рима, которые всегда оставались такими же, как те, о которых говорит Стендаль, сравнивали стол Изабеллы с взлетной дорожкой для политических и светских стартов, наиболее высотных и наиболее рискованных. Это отсюда Бальбо отправился в свое крейсирование над Атлантикой, здесь начался его подъем для последнего полета. Теперь, с тех пор, как тут царил Галеаццо Чиано, стол Изабеллы превратился в нечто, подобное Autel de la Patrie[707].
Недоставало только шкуры неизвестного внизу, под ним (кто знает, может быть в один прекрасный день и труп неизвестного тоже окажется там?). Ни одна молодая женщина, вызвавшая восхищение Галеаццо во время какой-нибудь мимолетной встречи, ни один знатный иностранец, ни один денди из дворца Чиги, стремящийся к повышению в чине или назначению на пост в каком-либо хорошем посольстве, не мог избежать необходимости (каждый, впрочем, ходатайствовал всеми возможными средствами) уплатить Изабелле и Галеаццо гостевым подношением венка из роз. Теперь избранные перешагивали через порог дворца Колонна с видом таинственного и, однако, откровенного соучастия, подобно участникам заговора, не скрываемого и публично известного. Приглашение Изабеллы не имело более никакого подлинного значения в свете; быть может, оно имело политическое значение, однако даже насчет политического значения приглашений на площадь Санти Апостоли многие ошибались.
Изабелла первая и, быть может, единственная, поняла еще прежде, чем открыть перед ним двери дворца Колонна, что граф Галеаццо Чиано, молодой и галантный министр иностранных дел, счастливый зять Муссолини, не котировался в итальянской политике и в итальянской жизни. Но тогда из каких соображений Изабелла соорудила на дворце Колонна павильон Галеаццо Чиано? Те, кто упрекал ее — а таких было немало — за то, что она опекала Чиано исключительно из светской амбиции (можно ли представить себе более смешное обвинение?) или из страсти к интриге, казалось, забывали, что «первая дама Рима» не имела, конечно, необходимости смягчать свое положение в свете, и еще того менее — защищать его, и что при своем альянсе с Чиано она рисковала только потерей всего, а выиграть ей было нечего. С другой стороны, была известная участь альянсов, заключенных с графом Чиано. Надо отдать справедливость светскому гению Изабеллы и величию ее общественной политики: никто, даже сам Муссолини, не мог бы царить в Риме против Изабеллы. По части приобретения могущества Изабелла не могла ничему и ни у кого научиться; она предприняла свой поход на Рим, начав его гораздо раньше, почти за двадцать лет до Муссолини. И надо признать, что ей этот поход удался значительно лучше.
Основания для пристрастия Изабеллы к Галеаццо были гораздо более сложными и гораздо более глубокими. В обществе, находящемся в состоянии упадка и близящемся к своему окончательному разрушению, когда у народа принципы исторической, политической и общественной законности не пользовались более никакими авторитетами, когда у нации классы, ближе всего связанные с охраной общественных устоев, потеряли всякий престиж в стране, которую Изабелла с непогрешимым чутьем одной из Сурсоков чувствовала направляющейся отныне к тому, чтобы превратиться в самую большую левантинскую страну Запада (с точки зрения политических нравов Рим заслуживал куда больше, чем Неаполь, определения лорда Розбери: «единственный восточный город в мире, где нет европейского квартала»), — в Италии, похоже, была ситуация, что только победа принципов незаконности может гарантировать мирное разрешение страшного социального кризиса, который война предвещала и подготовляла, и отсюда шло умение реализовать высшее и непосредственное стремление классов-охранителей в период серьезного кризиса спасти то, что будет возможно спасти.
Некоторые делали Изабелле наивный упрек в том, что она оставила «дело законности для дела незаконности». В переводе «гратэнов»[708] это значило предпочесть графа Галеаццо Чиано герцогу Пьемонтскому. Этот, последний, в глазах классов-охранителей олицетворял принцип законности, то есть порядок и сохранение общественных устоев, и казался единственным человеком, способным гарантировать мирное разрешение кризиса в рамках Конституции. Если есть в Европе принц, богатый заслугами, то это, конечно, Умберто Савойский. Его изящество, его красота, его доброта, его улыбающаяся простота в обхождении — вот те добродетели, которые итальянский народ ищет в принцах. Но чтобы выполнить те задачи, которые ему предписывали классы-охранители, ему недоставало некоторых необходимых качеств.
В отношении ума герцог Пьемонтский имел его как раз столько, что он мог бы им довольствоваться, но не столько, сколько считали необходимым другие. В отношении чувства личной чести было бы клеветой заявить, что он не имел его совсем. Он имел его, но не столько, однако, сколько подразумевают охранители в моменты опасности под «чувством чести» принца. На языке напуганных охранителей выражение «чувство чести» у принца означает эту разновидность особенной чести, которая стремится спасти не только монархический принцип, не только конституционные институты, не только династические интересы, но и всё, что стоит за этим принципом, этими институтами, этими интересами, — иначе говоря, — общественный порядок. Вокруг герцога Пьемонтского, с другой стороны, не было никого, в ком можно было быть уверенным, что он понимает, что именно воплощает в себе выражение «чувство чести» для охранителей в моменты серьезных и опасных социальных кризисов.
Что касается герцогини Пьемонтской, на которую многие возлагали большие надежды, она не была такой женщиной, с которой Изабелла могла прийти к взаимопониманию. В моменты серьезных социальных кризисов, когда все поставлено на карту и всё находится в опасности, а не только королевская фамилия и ее династические интересы, княгиня Изабелла Колонна, рожденная Сурсок, не могла бы общаться с герцогиней Пьемонтской иначе как «на равных». Изабелла называла ее «фламандка», и этот эпитет на сухих губах Изабеллы вызывал образ одной из этих плодовитых девушек фламандской живописи: с рыжими волосами, цветущей грудью, и ртом ленивым и лакомым. Изабелла считала, что некоторые положения герцогини Пьемонтской, некоторые странные знакомства (и в самом деле несколько рискованные) с людьми, враждебными монархии (прямо сказать — коммунистами), позволяют предположить, что герцогиня предпочитает советы мужчин, даже своих противников, рекомендациям женщин, даже своих подруг.
— Она не имеет друзей и не хочет их иметь, — вот заключение, сделанное Изабеллой, которая глубоко сожалела об этом не для себя (это само собой разумелось), но для «бедной фламандки».
Было ясно, что предпочтение Изабеллы в выборе между герцогом Пьемонтским и графом Галеаццо Чиано не могло не быть оказано этому последнему. Но в числе многочисленных резонов, которые убеждали Изабеллу предпочесть графа Чиано герцогу Умберто[709], один был глубоко ошибочным: что Чиано был политически и исторически наиболее чистым представителем принципов незаконности, иначе говоря, того, что классы охранители рассматривают как «прирученную революцию», в соответствии с их выражением (а для общественного консерватизма прирученная революция всегда более полезна, чем реакция жестокая или просто глупая и нелепая), — в этом нет сомнения. Но вот где была фатальная ошибка Изабеллы: в своем выборе она отдавала должное убеждению, свойственному многим, что Чиано был анти-Муссолини и что он воплощал собой не только в реальности, но и в сознании итальянского народа единственную политику, способную «спасти то, что можно спасти», а именно политику дружбы с Англией и Америкой: что это был, наконец, — иначе говоря, «новый человек», разыскиваемый всеми (Галеаццо был слишком молод в свои тридцать шесть лет, чтобы его рассматривать как «нового человека» в стране, где надо иметь более семидесяти лет, чтобы стать новым человеком), по крайней мере он был завтрашним человеком, тем, кого выдвигали серьезность и темнота ситуаций. Впоследствии же увидят, насколько серьезной и богатой непредвиденными последствиями была эта ошибка. Увидят однажды и то, что Изабелла была не более, чем инструментом провидения, — того провидения, с которым у неё были такие хорошие сношения, при посредстве Ватикана, — чтобы ускорить агонию общества, осужденного на смерть, и придать ему свое лицо и свой стиль.
Многие разделяли с Изабеллой эту иллюзию, что граф Чиано был анти-Муссолини, человеком, на которого Лондон и Вашингтон смотрели с доверием. Сам Галеаццо, в своем тщеславии и своем блаженном оптимизме, был внутренние убежден, что он вызывает симпатию в англо-американском общественном мнении и что он представляет собой, в расчетах Лондона и Вашингтона, единственного человека в Италии, способного (после неизбежного разгромного конца войны) собрать все сложное наследство Муссолини и совершить без невосстановимых утрат и бесполезных кровопролитий переход от муссолиниевского порядка к новому порядку, вдохновленному англосаксонским либерализмом: единственный человек, в общем, дающий Лондону и Вашингтону гарантии порядка и, особенно, — полезного продолжения общественного устройства, глубоко нарушенного Муссолини и которое война угрожала опрокинуть до самых его основ.
Как могла бы она, несчастная Изабелла, не поддаться этой щедрой иллюзии?! У нее, левантийки[710], даже египтянки по рождению, любовь к Англии были в крови; она была частью ее существа, ее воспитания, ее привычек и интересов, моральных и практических: она была как бы предназначена к тому, чтобы искать или изобретать у других то, что она сильно и глубоко ощущала в себе и хотела видеть в них. С другой стороны, она обнаружила в Галеаццо — в его природе, его характере, его манерах, позах, которые так легко принять за политические направления, — многочисленные элементы, внушающие ей доверие, способные открыть её сердце навстречу большим и живым надеждам и создающие нечто вроде почти идеальных родственных уз между ней и графом Чиано; это были худшие элементы, так сказать левантийские элементы, итальянского характера, которые никогда еще не становились столь очевидными, как в день, когда кризис вместе с войной приблизился к своему фатальному завершению.
Галеаццо обладал всеми этими элементами в изобилии, и как бы отягченными и ожесточенными (он осознавал их, даже порой испытывал удовольствие от них), как по происхождению его семьи — не тосканской, но греческой (он родился в Ливорно, но его семья происходила из Форми, близ Гаёте; они были простые рыбаки, владельцы нескольких несчастных лодок; Ливорно — это место, где Левант проявляется в своих наиболее ярких красках, наиболее реально и прямо) — как по происхождению, так и по дурному воспитанию, которое стало для него чудесной удачей еще и по своей манере понимать богатство, могущество, славу, любовь, — манере, которая своеобразно напоминала стиль турецкого паши. И не случайно Изабелла инстинктивно учуяла в Галеаццо другого Сурсока.
За недолгий период времени Изабелла стала чем-то вроде арбитра политической жизни Рима, понимая ее в том вполне светском смысле, который слово «политика» приобретает для «гратенов». Неискушенному глазу, наблюдающему различные выражения улыбающейся дерзости, она могла казаться счастливой, но это счастье — как бывает всегда, благодаря бессознательным силам, в подгнившем обществе, во времена бедственные и развращенные, — постепенно принимало аспект морального безразличия и печального цинизма, верным зеркалом которых являлся маленький двор, собиравшийся вокруг ее стола во дворце на площади Санти Апостоли.
Вокруг этого стола было все, что Рим мог представить лучшего и худшего в отношении имен, манер, репутаций и нравов. Приглашения во дворец Колонна были теперь предметом высшего честолюбия (легко удовлетворяемым впрочем) не только молодых женщин римского «гратэна» (вот фатальный порог пересекают Венеры, до сих пор презираемые, и венецианки, сошедшие с своего Севера, чтобы вступить в соревнование со своими торжествующими римскими соперницами, и не одна здесь не погнушалась смешать темную по своим истокам и новую кровь Чиано с кровью древней и знаменитой Т., С., или Д.), но и маленьких актрис из Сине-ситэ, к которым за последнее время из своеобразного утомления, чисто прустианского, «стороны Германтов», или из иллюзорной потребности опрощения, граф Чиано склонялся всё более и более.
С каждым днём всё возрастало количество «вдов Галеаццо», как называли наивных фавориток, которые, впадая в немилость у графа Чиано, очень легко воспламенявшегося и очень быстро утомлявшегося в любви, как и во всем прочем, отправлялись изливать на грудь Изабеллы свои слезы, свои исповеди, свою ревнивую ярость. То, что называли «днем вдов», повторялось трижды в неделю. В эти дни, в назначенный час после полудня, между тремя и пятью часами, Изабелла принимала «вдов». Она встречала их с распростертыми объятьями и улыбающимся лицом, как будто поздравляла их не то с избавлением от некоей опасности, не то с какой-то неожиданной находкой. И, казалось, она испытывала необычайную радость, странное удовольствие, едва ли не физическое, болезненное сладострастие, скажем прямо, — примешать свой несколько пронзительный смех и свое чувство едва сдерживаемой радости к слезам и сетованиям бедных «вдов». У этих, последних, над настоящим и глубоким любовным огорчением преобладали досада, унижение, злость. И в эти минуты лукавый гений Изабеллы, этот гений интриги и введения в заблуждение, достигал высот и благородства чистого искусства, игры свободной и бескорыстной, незаинтересованной безнравственности, задевающей невинность. Она смеялась, шутила; разжалобившись — плакала, но в глазах её искрилось удовлетворение, как будто слезы злости и унижения этих бедных женщин удовлетворяли ее потребность в таинственном мщении.
В этом искусстве, в этой игре Изабеллы materiam superabat opus[711]. Большой секрет Изабеллы, за которой дурное любопытство всего Рима неотступно следило, шпионило, обшаривало в течение многих лет, открылся бы, может быть, в эти минуты нескромному взору, если бы патетическую и лукавую сцену триумфа Изабеллы и унижения «вдов» могли вынести эти нескромные взоры. Но и того немногого, что просачивалось наружу сквозь откровенность какой-нибудь «вдовы», взволнованной и ошеломленной этой странной игрой, было достаточно, чтобы пролить разоблачающий свет, тусклый и патетический, на сложную и таинственную натуру несчастной Изабеллы.
Вокруг Галеаццо и его двора, раболепного и элегантного, с каждым днем все больше расширялось эта пустыня безразличия, или презрения, или ненависти, которая становилась отныне нравственным пейзажем несчастной Италии. Быть может, и сама Изабелла в какие-то минуты чувствовала, как сужается вокруг нее этот мрачный горизонт, но у нее не было зрения на то, чего она не хотела видеть, поглощенная своей химерической надеждой, сооружением своей великодушной интриги, которая должна была помочь Италии преодолеть страшное испытание — неизбежность поражения, и найти убежище, как новая Андромеда[712] в ласковых руках английского Персея[713]. Постепенно все вокруг неё рушилось. Даже ростом своего тщеславия граф Чиано как бы подчеркивал день ото дня все больше его отрыв от реальной итальянской жизни, подтверждающей то, что Изабелла знала уже давно, что она знала, может быть, только одна: полное отсутствие какого-либо веса Галеаццо в итальянской жизни, его значение, превратившееся в чисто формальное, декоративное. Все это, тем не менее, не вызывало в ней чувств горечи и недоверия, не могло раскрыть ей глаза, не позволяло ей осознать ее фатальную ошибку, а лишь утверждало ее в ее глубокой и великодушной иллюзии и служило новым основанием для ее гордости. Что за важность, если Галеаццо перестал быть человеком сегодняшнего дня, если он был человеком завтрашнего? Изабелла оставалась единственной, кто еще в него верил. Этот молодой человек, любимый богами, этот молодой человек, которого боги, благосклонные и ревнивые, переполнили своими чудесными дарами и осыпали милостями еще более чудесными, — спасет Италию, когда наступит предназначенный для этого день; он унесет ее на своих руках сквозь огонь в великодушное и надежное лоно Великобритании. В своей апостольской миссии она обладала рвением Флоры Макдональд[714].
Ничто не могло поколебать ее иллюзию, что Галеаццо был единственным человеком в Италии, на которого могли рассчитывать английская и американская политика (Лондон и Вашингтон, благодаря ловкой и неутомимой пропаганде Изабеллы в Ватикане, где посол Ее Величества Британии Осборн укрылся перед Святым Престолом с самого начала войны, хорошо знали, какая любовь и какое уважение всего итальянского народа окружали графа Чиано), человеком, которого Лондон и Вашингтон втайне держали про запас для дня, когда настанет время подведения итогов, того дня, который англичане называют: «the morning after the night before»[715]. Ни осторожность влиятельных многочисленных преданных друзей, которых они имели в Ватикане, ни их упорные сомнения, ни их советы, призывающие к умеренности и смирению, ни их покусывание губ и покачивание головами, ни ледяные оговорки английского посла Осборна не были в состоянии вывести Изабеллу из ее заблуждения. Если бы кто-нибудь сказал ей: Галеаццо слишком любим богами, чтобы он мог надеяться на спасение; если бы кто-нибудь открыл ей участь, предназначенную в качестве высшей милости ревнивыми богами тем, кто ими любим всего более, и сказал: участь Галеаццо — послужить агнцем для Муссолини, для ближайшей, неизбежной Пасхи, — нет сомнения, что Изабелла огласила бы залы дворца Колонна своим пронзительным смехом: «Но, мой дорогой, что за идея!» Изабелла, она тоже была слишком любима богами.
В последнее время, когда война начинала показывать свое настоящее лицо, свое таинственное лицо, — нечто вроде печального соучастия установилось между Изабеллой и Галеаццо; оно увлекало их как бессознательная сила, постепенно, ко все более очевидному моральному безразличию, к фатализму, рождающемуся вследствие слишком долгого внутреннего самообмана иллюзиями, а также и взаимного обмана. Закон, который отныне регулировал их взаимоотношения, был тем же самым, который руководил обедами и галантными празднествами во дворце Колонна. Не прустианский закон предместья Сен-Жермен, не закон недавнего Мэйфейра[716] или еще более недавнего Парк Авеню, но легкий и щедрый закон богатых кварталов Афин, Каира и Константинополя, снисходительный закон, основанный на капризах и скуке, щадящий всякую нравственную неуверенность. В этом испорченном дворе, раболепной царицей которого была Изабелла, Галеаццо теперь играл роль паши: ожиревшему, розовому, улыбчивому и деспотичному, ему недоставало теперь только бабушей и кальяна[717], чтобы гармонично вписываться в рахат-лукумный [718]колорит дворца Колонна.
После долгого, более чем годичного отсутствия, время которого я провел на русском фронте, на Украине, в Польше, в Финляндии, я однажды утром возвратился в Гольф-клуб Аквацанты и, сидя в уголке на террасе, чувствовал, как меня охватывает странное ощущение недомогания и тревоги, глядя на игроков, медленно двигающихся неуверенными шагами на отдаленном откосе небольших возвышенностей, едва заметно понижающихся в направлении красных арок акведуков, на фоне пиний и кипарисов, венчающих могилы Горациев и Курциев.
Это было ноябрьским утром 1942 года. Солнце было мягким, влажный ветер с моря доносил насыщенный запах водорослей и травы. Невидимый самолет жужжал в небе, и это жужжание падало с неба, как дождь, как звонкая цветочная пыльца.
Всего несколько дней прошло, как я вернулся в Неаполь после долгого пребывания в клинике, в Хельсинки, где я перенес серьезную операцию, обессилевшую меня вконец. Я вынужден был опираться на трость при ходьбе, лицо мое было бледное и расстроенное. Игроки начинали возвращаться к Клубу маленькими группами, и красавицы дворца Колонна, денди из бара «Эксцельсиор», ироническая и холодная группа молодых секретарей из дворца Чиги проходили передо мной, приветствуя меня улыбками; многие были удивлены, видя меня, они не знали, что я возвратился в Италию, и думали, что я еще в Финляндии. Заметив мою худобу и бледность, они на минуту останавливались, чтобы спросить, как я себя чувствую, очень ли холодно в Финляндии и намерен ли я остаться на некоторое время в Риме, или собираюсь вернуться на Финский фронт. Бокал мартини дрожал в моей руке; я был еще очень слаб, я говорил «да», говорил «нет», смотрел на них и смеялся про себя. Наконец, пришла Паола, и мы сели за столик, в стороне у окна. «В Италии ничто не изменилось, не правда ли?» — спросила Паола. — «О! Всё изменилось, — ответил я. — Просто невероятно, как все изменилось». — «Вот странно, — удивилась Паола, — я этого не замечаю». Она смотрела на дверь, и вдруг добавила: — «Вот Галеаццо, — ты находишь, что и он тоже изменился?»
— «Галеаццо тоже изменился, — сказал я. — Всё изменилось. Все в страхе ждут великого каппарота, капута, великого кота». — «Как?!» — воскликнула Паола, вытаращив глаза. Галеаццо вошел. Он на мгновение задержался на пороге, потирая руки. Он смеялся, покусывая губы и вздернув подбородок; приветствовал, расширяя глаза, с широкой сердечной улыбкой, не приоткрывая губ; он останавливал долгий взгляд на женщинах и бросал короткие взгляды на мужчин. Потом он пересек залу, выпячивая грудь и втягивая живот, стараясь скрыть, что он разжирел, не переставая потирать руки и поворачивать голову направо и налево. Он сел за столик в углу, куда тотчас направились, чтобы присоединиться к нему, Киприенна дель Драго, Бласко д’Айет и Марчелло дель Драго. Голоса, которые было понизились до шепота, едва только Чиано появился на пороге, зазвучали громче, и все стали громко спрашивать о чём-то друг друга от одного столика до другого, как если бы они переговаривались над рекой с берега на берег. Они все звали друг друга их прозвищами, окликали один другого через всю залу, потом оборачивались, чтобы посмотреть на Чиано с целью удостовериться, что он их заметил и услышал, потому что именно эту единственную цель преследовали все эти громкие призывы, веселые оклики, улыбки и переглядывания. Время от времени Галеаццо поднимал голову и принимал участие в этом общении, говоря громко и останавливая свой взгляд то на одной, то на другой молодой женщине (его глаза никогда не останавливались на мужчинах, как будто мужчин и не было в комнате). Он улыбался, понимающе подмигивал, делал маленькие знаки поднятой бровью или нижней губой (мясистой и выступающей) с кокетством, которому женщины отвечали утрированным смехом, заставлявшим их наклоняться над столами, склонив голову на плечо, чтобы лучше слышать, не переставая исподтишка осматривать друг друга и с ревнивой заботой следить за собой.
За столиком, соседним нашему, сидели Лавиния, Джанни, Джоржетта, Анна-Мария фон Бисмарк, князь Отто фон Бисмарк и два молодых секретаря из дворца Чиги.
— Все имеют довольный вид, — сказала Анна-Мария фон Бисмарк, обращаясь ко мне. — Разве есть что-нибудь новое?
— Что вы хотите услышать нового в Риме? — спросил я.
— В Риме есть новое: это — я, — сказал Филиппо Анфузо, подходя к столу фон Бисмарков. Филиппо Анфузо прибыл в это утро из Будапешта, куда он был направлен незадолго перед этим, чтобы заменить посла Джузеппе Таламо.
— О! Филиппо! — воскликнула Анна-Мария.
— Филиппо! Филиппо! — послышались крики вокруг. Филиппо поворачивался, улыбаясь и распределяя приветствия направо и налево со своим обычным натянутым видом, покачивая головой так, как будто у него был фурункул на шее и не зная, что делать со своими руками, которые он то опускал вдоль туловища, то запрятывал в карманы, или они безвольно болтались то так, то сяк. Он производил впечатление изготовленного из дерева и свежевыкрашенного: чернота его волос, чересчур блестящих, казалась чрезмерной даже для такого мужчины, как он, для такого посла, как он. Он смеялся, и его глаза блестели, его прекрасные, почти таинственные глаза, и, продолжая смеяться, он мигал ресницами со своим обычным видом — истомлённым и чувствительным. Его слабым местом были его колени, слегка вывернутые внутрь таким образом, что они соприкасались друг с другом. Он сознавал это слабое место, это единственное слабое место, и страдал из-за него молча. «Филиппо! Филиппо!» — кричали кругом. Я заметил, что Галеаццо остановился на середине фразы, поднял глаза на Анфузо, и лицо его омрачилось. Он ревновал к Анфузо. Я удивился, что он ревнует к Анфузо. У Чиано тоже было слабое место в коленях, вывернутых внутрь так, что они соприкасались. Единственная вещь, общая для Галеаццо и Филиппо, были эти соприкасающиеся колени.
— Американцы высадились вчера в Алжире, — сказал Анфузо, садясь за стол фон Бисмарков, между Анной-Марией и Лавинией, — вот из-за чего люди сегодня счастливы.
— Замолчите, Филиппо, не будьте противным, — сказала Анна-Мария.
— Чтобы быть справедливым, я должен признать, что они совершенно также счастливы, как и в день, когда Роммель[719] прибыл в Эль-Аламейн[720], — продолжал Анфузо. — Четыре месяца тому назад, в июне, когда итальянские и немецкие войска под командованием Роммеля на полной скорости вступили в Эль-Аламейн и, казалось, что они с минуты на минуту должны занять Александрию и Каир, Муссолини срочно вылетел на самолете на египетский фронт, в форме маршала Империи, увозя в своем багаже знаменитую «шпагу Ислама», которую Итало Бальбо[721], губернатор Ливии, торжественно вручил ему несколькими годами раньше. В свите Муссолини среди прочих находился губернатор Египта, которого дуче должен был с большой помпой утвердить в Каире. Это был Серафино Маззолини, бывший посол Италии в Каире, получивший назначение губернатора Египта. И Серафино тоже торопливо отлетел в самолете на фронт Эль-Аламейна, сопровождаемый армией секретарей, машинисток, переводчиков, экспертов по арабским проблемам и блестящим штабом, где изобиловали ссорившиеся и уже кусавшиеся между собой оглушающие ливийскую пустыню своими ревнивыми и тщеславными стычками любовники, мужья, братья, кузены фавориток Чиано и несколько великолепных, горделивых и меланхоличных фаворитов Эдды, впавших в немилость. Война в Ливии, — говорил Анфузо, — не принесла счастья фаворитам гаремов Эдды и Галеаццо: каждый раз, когда англичане в ходе очередных успехов битвы в пустыне делали шаг вперед, в их руки попадало несколько персонажей этого двора.
Тем временем новости, которые начали поступать в Рим с фронта Эль-Аламейна, говорили о нетерпении, с которым Муссолини стремился совершать свой триумфальный въезд в Александрию и в Каир, и о ярости Роммеля в отношении Муссолини, доходившей до того, что он отказывался от встречи с ним: «К чему он только сюда явился, что ему тут делать?! Кто его к нам послал?!» Муссолини, утомленный ожиданием, мрачный и молчаливый, расшаркивался перед бедным губернатором Египта. Раны, нанесенные тщеславию и честолюбию куртизанок дворца Чиги и дворца Колонна назначением Серафино Маззолини губернатором Египта, все еще зияли и кровоточили в Риме. Проблемой момента для многих было не завоевание Египта, но способ, каким можно было бы помешать Серафино прибыть в Каир. Все надеялись на англичан. Сам Чиано, хотя и по иным мотивам, был далеко не удовлетворен развитием событий. — Ах, да, конечно, в Каир! — восклицал он, чтобы сказать, что Муссолини никогда не войдет туда. В сущности, если в дни победы в Эль-Аламейне что-нибудь утешало Галеаццо в многочисленных огорчениях, как говорил Анфузо, так это только тот факт, что Муссолини не находился в Риме (хотя бы всего на несколько дней), что он, наконец, решился больше «не крутить нам…», по его собственному выражению.
— Отношения между Чиано и Муссолини, — заметил я, — кажется, не слишком хороши даже сегодня, если верить тому, что говорят в Стокгольме.
— Он желает, возможно, своему тестю небольшого поражения, — сказал Анфузо, имитируя марсельский акцент.
— Вы же не станете утверждать, что война для них не более чем семейный вопрос? — спросила Анна-Мария.
— Увы! — воскликнул Филиппо с глубоким вздохом, бросив на потолок взгляд своих красивых глаз.
— У Киприенны скучающий вид сегодня, — сказала Джоржетта.
— Киприенна слишком умна, — пояснил Анфузо, — чтобы находить Галеаццо занимательным.
— В сущности, это правда, в больших дозах Галеаццо надоедает, — заметила Анна-Мария.
— Я, наоборот, нахожу его очень остроумным и забавным, — возразил князь Отто фон Бисмарк.
— Он, вероятно, забавнее, чем фон Риббентроп[722], — сказал Филиппо. — Вы знаете, что фон Риббентроп говорит о Галеаццо?
— Конечно, знаю, — ответил Отто фон Бисмарк, вдруг забеспокоившись.
— Нет, вы не знаете, — возразила Анна-Мария. — Расскажите же, Филиппо.
— Фон Риббентроп говорит, что Галеаццо был бы великим министром иностранных дел, если бы он не занимался иностранной политикой.
— Надо признать, что для министра иностранных дел, — заметил я, — он занимается ею совсем немного. Его несчастье в том, что он слишком много занимается политикой внутренней.
— Это совершенно верно, — сказал Анфузо, — он только этим и занимается с утра до вечера. Его передняя стала филиалом Министерства внутренних дел и Правлением фашистской партии.
— Назначение префекта или федерального секретаря, — вставил один из двух молодых секретарей дворца Чиги, — он принимает ближе к сердцу, чем назначение посла.
— Мути был одной из его креатур, — добавил другой.
— Но теперь они смертельно ненавидят друг друга, — заметил Анфузо. — Я думаю, что они рассорились из-за назначения графа Магистрати послом в Софию.
— А что до этого Мути? — спросил фон Бисмарк.
— Чиано занимался внутренней политикой, а Мути — политикой иностранной, — ответил Филиппо.
— Галеаццо — странный человек, — сказал я. — Он воображает, что он очень популярен в Америке и в Англии.
— Это бы еще ничего, — подхватил Анфузо, — ведь он, представь себе, воображает, что очень популярен в Италии!
— Какая превосходная мысль! — воскликнул фон Бисмарк.
— Я очень люблю его, — произнесла Анна-Мария.
— Если вы верите, что это может изменить ход войны — сказал Анфузо со странным выражением лица и краснея.
Анна-Мария улыбнулась и посмотрела на Анфузо: «Вы ведь тоже очень его любите, не так ли, Филиппо?»
— Я, конечно, очень его люблю, — проговорил Анфузо, — но кому это нужно? Если бы я был его матерью, я дрожал бы за него.
— Почему же вы не дрожите сейчас, если вы его любите? — спросила Анна-Мария.
— У меня нет времени, я слишком занят тем, что дрожу за самого себя.
— А! Но что такое с вами со всеми сегодня? — спросила Лавиния. — Это война делает вас такими нервными?
— Война? — переспросил Анфузо. — Какая война? Людям наплевать на войну. Вы разве не видели огромные афиши, которые Муссолини распорядился развесить во всех магазинах и расклеить на стенах всех улиц? (Это были большие трехцветные афиши, на которых крупными буквами были напечатаны простые слова: «Мы ведем войну»). Он хорошо сделал, напомнив нам, что мы ведем войну, — добавил Анфузо, — а то никто больше об этом и не вспоминал.
— Состояние умов итальянского народа в этой войне действительно очень любопытно, — снова заговорил князь Отто фон Бисмарк.
— Я задаю себе вопрос, — продолжал Анфузо, — на кого Муссолини возложит всю ответственность, если война пойдет неудачно.
— На итальянский народ, — ответил я.
— Нет, Муссолини никогда не возлагает ответственности за что бы то ни было на большое количество голов, ему нужна всего лишь одна голова, одна из таких голов, которая, кажется, сделана нарочно для таких вещей… Он возложит ответственность на Галеаццо. Иначе, чему он может послужить, Галеаццо? Муссолини бережет его только для этого. Посмотрите на его голову: разве она не кажется вам изготовленной нарочно?
Мы все посмотрели на графа Чиано: у него была круглая, казалось, немного раздутая, немного слишком большая голова. «Слишком велика для его возраста», — съязвил Анфузо.
— Вы невыносимы, Филиппо, — возмутилась Анна-Мария.
— Я думал, что ты друг Галеаццо, — сказал я Анфузо.
— Галеаццо не нуждается в друзьях, он не хочет их иметь, он презирает их и относится к ним, как к лакеям, — продолжал Филиппо. И, смеясь, добавил: — Ему достаточно дружбы Муссолини.
— Муссолини его очень любит, не правда ли? — спросила Джоржетта.
— О! Да, очень, — ответил Анфузо. — В феврале 1941 года, во время неудачной греческой кампании, Галеаццо вызвал меня в Бари, чтобы поговорить о министерских делах. Это был момент очень трудный для Чиано. В это время он был подполковником, командовал эскадрильей бомбардировщиков в лагере Палезе возле Бари. Он был очень раздражен против Муссолини, называл его большим башмаком. Как раз в эти дни состоялась встреча в Бордигера, на которой Муссолини беседовал с Франко и Серрано Сунером. В последний момент Галеаццо, совсем готовый к отъезду, у которого уже чемодан был в руках, был оставлен дома. — Муссолини меня ненавидит! — заявил он мне. В этот же вечер Эдда телеграфировала ему, чтобы сказать, что старший из их детей, Фабрицио, серьезно заболел. Эта новость глубоко взволновала Галеаццо. Он заплакал и сказал мне: «Он меня ненавидит, ничего нельзя поделать, он меня ненавидит!» — Потом добавил: «Этот человек всегда приносил мне несчастье».
— Приносил несчастье? — переспросила Лавиния, смеясь. — Как люди самонадеянны!
— Если я не ошибаюсь, Галеаццо был близок к тому, чтобы подать в отставку, — произнесла Джанни.
— Галеаццо никогда не уйдет по доброй воле, — возразил Анфузо, — он слишком любит власть. Он слит со своим министерским креслом, как с любовницей. Он трясется от страха при мысли, что ему с минуты на минуту дадут отставку.
— В то время, — сказал я, — в Бари, у Галеаццо было еще одно основание для страха: это были как раз те дни, когда Гитлер передал Муссолини, при их свидании в Бреннере, мемориал Гиммлера против Галеаццо.
— Не был ли это, скорее, мемориал, направленный против Изабеллы Колонна? — предположила Анна-Мария.
— Что вы об этом знаете? — спросил ее Отто фон Бисмарк с легкой тревогой в голосе.
— Весь Рим целый месяц толковал об этом, — сказала Анна-Мария.
— Это был скверный момент для Галеаццо, — заговорил Анфузо. — Даже самые близкие его друзья отвернулись от него. Бласко д’Айет пришел сказать мне, что в случае выбора между Галеаццо и Изабеллой он примет сторону Изабеллы. Я ответил ему: «А между Гитлером и Изабеллой?» Вопрос не стоял, разумеется, о выборе между графом Галеаццо Чиано и принцессой Изабеллой Колонна, но люди думали так.
Однажды поутру Галеаццо пригласил меня зайти к нему. Это было в необычный час, примерно в восемь утра. Я нашел его в ванной комнате. Он только что вылез из воды и, выбираясь из ванны, заявил мне: «Фон Риббентроп нанес мне удар кинжалом в спину. Это фон Риббентроп стоит за Гиммлером. Мне кажется, что в этом мемориале требуют моей головы. Если Муссолини пожертвует мою голову фон Риббентропу, он покажет, что он — то, что все мы знаем и так: он — подлец. — При этом, упираясь обеими руками в свой голый живот, он добавил: „мне надо немного похудеть“». Когда он вытерся досуха, он отбросил свою простыню и, стоя совершенно голым перед зеркалом, начал смолить себе волосы пучком травы, которую он выписывает из Шанхая, травы, которую китайцы применяют как брильянтин. — «К счастью, — сказал он, — я не министр иностранных дел Китайской республики».
И он продолжал: «Ты знаешь Китай так же, как и я; это чудесная страна, но подумай о том, что ожидало бы меня, если бы я там впал в немилость. И он стал описывать мне китайскую казнь, которую ему пришлось наблюдать на одной из улиц Пекина. У осужденного, привязанного к столбу, маленьким ножом снимают лоскут за лоскутом все мясо, кроме нервов артериальной и венозной системы. Человек превращается, таким образом, в нечто вроде сплетения костей, нервов и вен, и сквозь эту сеть проходят солнечные лучи и пролетают мухи. Казнимый может жить так в течение нескольких дней». Галеаццо с мучительной любезностью останавливался на самых ужасающих деталях и весело смеялся. Я чувствовал его желание быть жестоким, и в то же время — его страх, его бессильную ненависть.
— В Италии, — добавил он, — такие вещи происходят приблизительно точно так же. Муссолини придумал казнь гораздо более жестокую, чем китайская казнь: пинок ногой в зад. — И, говоря это, он притронулся к своему заду. — И ведь не сам по себе этот удар ногой причиняет боль, — сказал он, — нет, но ожидание, это постоянное безнадежное ожидание — ежедневное, ежечасное, ежеминутное. — Я сказал ему, смеясь, что он и я — мы оба были провидцами, потому что у нас, к счастью, большие зады. Галеаццо помрачнел и, ощупывая эту часть своего тела, спросил меня: — «У тебя в самом деле такое впечатление, что у меня большой зад?» Он был очень озабочен тем, что эта часть его тела разжирела. Потом, одеваясь, он сказал мне: «Муссолини никогда не сделает из моей головы никому подарка — побоится. Он знает, что все итальянцы за меня, итальянцы знают, что я единственный человек в Италии, который имеет смелость противоречить Муссолини».
Он услаждал себя иллюзиями, но не мне было разубеждать его, и я хранил молчание. С этого момента он был искренне уверен, что он противоречит Муссолини. В действительности же Галеаццо дрожал с утра до вечера от страха, что может получить этот удар ногой в зад. Лицом к лицу с Муссолини Галеаццо таков же, как и все остальные, как мы все: это испуганный лакей. Он тоже всегда говорит ему «да» с львиной смелостью. Но как только Муссолини поворачивается к нему спиной, он ничего больше не боится. Если бы рот у Муссолини располагался на спине, Галеаццо не колебался бы положить голову ему в пасть, как это делают укротители с хищниками. Порой, когда он говорит о войне, о Муссолини, о Гитлере, он рассказывает самые занимательные вещи. Ему нельзя отказать ни в уме, ни в интеллекте, некоторые его суждения о политических ситуациях обнаруживают в нем человека, знающего свое дело и дела других. Однажды я спросил его, что он думает о возможном исходе войны.
— И что он вам ответил? — спросил князь фон Бисмарк с иронической улыбкой.
— Что пока еще нельзя сказать, какая из наций выиграет войну, но уже известны те нации, которые ее проиграли.
— А какие нации уже проиграли ее, войну? — спросил фон Бисмарк.
— Польша и Италия.
— Это не слишком интересно — узнать, кто ее проиграл, — сказала Анна-Мария. — Я хотела бы знать, кто ее выиграет.
— Не будьте нескромны, — сказал Анфузо. — Это государственная тайна. Разве неправда, что это государственная тайна? — добавил он, обращаясь к князю Отто фон Бисмарку.
— Разумеется, — ответил тот.
— Иногда Галеаццо в своих суждениях невероятно неосторожен, — продолжал Филиппо Анфузо. — Если бы стены его кабинета во дворце Чиги и стол Изабеллы могли говорить, Муссолини и Гитлер услышали бы хорошенькие вещи!
— Ему следовало бы быть осторожнее, — согласилась Джоржетта. — Стол Изабеллы — это говорящий стол.
— Опять эта старая история! — сказал фон Бисмарк.
Когда в начале 1941 года Гитлер передал Муссолини, при свидании в Бреннере[723], мемориал Гиммлера, направленный против Галеаццо[724], эта новость вызвала сперва оцепенение, потом страх, затем очевидное и насмешливое удовлетворение. Но за столом у Изабеллы над этим мемориалом смеялись, как над скверной шуткой неверных или, по меньшей мере, нескромных, лакеев. — Гитлер, — какой хам! — говорила Изабелла.
Этот мемориал на самом деле был нацелен не столько на графа Чиано, сколько на принцессу Изабеллу Колонна, которую Гиммлер называл «пятая колонна». День за днем, слово за словом, все беседы, которые имели место за этим столом, были переданы со скрупулезной достоверностью, и не только слова Галеаццо, Эдды, Изабеллы, замечания тех приглашенных, чьи имена, общественное положение, политическое положение или пост, занимаемый ими в государстве, придавали значение, не только суждения Чиано или иностранных дипломатов, посещавших дворец Колонна, — о войне и военных ошибках Гитлера и Муссолини, но также светские сплетни, женские пикировки, даже невинные реплики таких второстепенных лиц, как Марчелло дель Драго или Марио Панса; быстрые экспромты Эдды о том или другом — о Гитлере, о фон Риббентропе, о фон Макензене, рассказы о ее частых поездках в Будапешт, в Берлин и в Вену, нескромности Чиано о Муссолини, о Франко[725], о Хорти[726], о Павеличе, или о Петене[727], или об Антонеску, резкие суждения Изабеллы о вульгарных любовных связях Муссолини и ее горькие предсказания об исходе войны, также, как любезные флорентийские сплетни Сандры Спаллетти и скандальные анекдоты, рассказанные какой-нибудь молоденькой актрисой Сине-ситэ по поводу любовных отношений Геббельса и Паволини, — всё входило в этот пунктуальнейший документ. Большая часть его была посвящена амурной жизни Чиано, его неверности, ревности его фавориток, коррупции его маленького двора. Но что спасло Чиано от ярости Муссолини, так это часть, посвященная Эдде в этом рапорте Гиммлера. Документ имел бы смертельные последствия для Галеаццо, если бы он умолчал об Эдде, о ее романах, опасных связях ее друзей, скандалах в Кортина-д’Ампеццо[728] и на Капри. Обвинения против его дочери вынудили Муссолини встать на защиту своего зятя.
Однако мемориал Гиммлера не преминул распространить подозрение в глубинах дворов Галеаццо и Изабеллы. Кто снабдил Гиммлера фактическими данными для этого документа? Прислуга дворца Колонна? Метрдотель Изабеллы? Или кто-нибудь из близких друзей Изабеллы и Галеаццо? Называли то или другое имя, заподозрили ту или иную молодую женщину, чья гордость была ранена недавним восхождением соперницы. Все «вдовы» были подвергнуты осторожным допросам, у них допытывались, их обшаривали со всех сторон. — Во всяком случае, это не я и не вы, — сказала Изабелла графу Чиано. — «Уж конечно не я!» — ответил Галеаццо. — Ах! Мой дорогой, — пропела Изабелла, поднимая очи к потолку, расписанному Пуссеном[729].
Единственным последствием мемориала Гиммлера было немедленное удаление графа Чиано из Рима. Галеаццо уехал в Бари[730]. Его на некоторое время прикомандировали к эскадрилье двухмоторных самолетов лагеря в Папезе, и в течение некоторого времени в залах дворца Колонна и даже дворца Чиги о нем не говорили иначе как понизив голос или с подчеркнутым безразличием. Но сердце Изабеллы, даром что оно было глубоко ранено этим «уж конечно не я», оставалось верным Галеаццо (не в ее возрасте… женщина может ошибаться!). И она говорила о нем не как о человеке, впавшем в немилость, но как о человеке, который возможно впадет в немилость с минуты на минуту. Если употребить спортивный термин «the ball was ’nt now his foot»[731].
— Держу пари, — сказала Анна-Мария, грациозно поворачиваясь к Филиппо Анфузо, — что в документе Гиммлера не было ни слова о вас.
— Там была целая страница о моей жене, — ответил Анфузо, смеясь, — этого достаточно.
— Целая страница о Марии? Ах, бедная Мария, какая честь! — произнесла Джоржетта без тени лукавства.
— А обо мне? Не было ли там целой страницы также и обо мне? — спросила, смеясь, Анна-Мария.
— Вот вопрос, — заговорил я, — который относится к тем, что задал мне однажды генерал фон Шоберт. Мы были на Украине, в первые месяцы кампании в России. Генерал фон Шоберт пригласил меня на обед в штабе армии, и нас было человек десять офицеров за столом. В ходе разговора фон Шоберт спросил меня, что я думаю о положении немецкой армии в России. — Мне кажется, — ответил я, намекая на известную итальянскую поговорку, — что если немецкая армия не находится в положении «цыпленка в пакле» (очень озабоченного), то она напоминает «цыпленка в степи».
— Ах, Боже мой! — воскликнула Анна-Мария.
— Очень забавно, — сказал фон Бисмарк, улыбаясь.
— Ты уверен, — спросил Филиппо Анфузо, — что генерал фон Шоберт понял, что ты хотел этим сказать?
— Я надеялся, что он понял. Генерал фон Шоберт был в Италии и немного говорит по-итальянски. Но когда переводчик, капитан Шиллер, тиролец из Мерано[732], который заявил о себе в свое время, что он по национальности немец, перевел мой ответ, стараясь пояснить смысл итальянской поговорки, генерал фон Шоберт спросил меня тоном упрека и с выражением, одновременно удивленным и суровым, почему в Италии цыплят выращивают в пакле? «Но мы не выращиваем их в пакле, — ответил я. — Это популярное выражение, означающее трудности, с которыми встречается и борется несчастный цыпленок, случайно вынужденный разрывать кучу пакли». — «У нас в Баварии, — сказал мне генерал фон Шоберт, — цыплят выращивают на опилках или на рубленой соломе». — «Но у нас в Италии тоже их растят на опилках или рубленой соломе», — ответил я. — «Тогда почему же вы говорили о пакле?» — спросил генерал фон Шоберт, наморщив лоб. — «Но это всего лишь популярная поговорка, — отвечал я, — просто пословица». — «Гм! Это странно», — сказал генерал фон Шоберт. — «У нас в Восточной Пруссии, — сказал полковник штаба Старк, — цыплят выращивают на песке, это система экономичная и рациональная». — «Но и у нас в Италии, — сказал я, — в некоторых районах, где почва песчаная, цыплят выращивают на песке»…
Я начинал «потеть водой и кровью» и попросил, понизив голос, переводчика помочь мне выкрутиться из этого положения, но Шиллер улыбался и смотрел на меня исподлобья, как будто хотел сказать: «Ты здорово вляпался! Почему это я должен тебя вытаскивать?» — «Если это так, — сказал генерал фон Шоберт, — я не понимаю, при чем здесь пакля? Это верно, что дело идет о поговорке, но все поговорки и народные пословицы всегда имеют какую-то связь с реальностью. Это показывает, что вопреки вашему противоположному утверждению, в Италии есть районы, где цыплят выращивают в пакле. Это система антирациональная и жестокая». Он в упор сурово смотрел на меня, и я читал в его взгляде зарождение недоверия и презрения. Мне хотелось ему ответить: «Да, мой генерал, я не смел вам этого сказать, но правда заключается в том, что в Италии цыплят выращивают в пакле и не только в той или другой области, но во всех областях: в Пьемонте, в Ломбардии, в Тоскане, в Умбрии, в Калабрии, в Сицилии, — везде, во всей Италии, и не только цыплят, но и детей тоже, все итальянцы выращены в пакле. Вы не замечали, что все итальянцы выращены в пакле? Но посмотрите на них, посмотрите на них хорошенько — вы увидите, что все итальянцы были выращены в пакле!» И он, может быть, понял бы меня, может быть, он поверил бы мне и сам никогда не узнал бы иначе, сколько правды в этом было. Но я потел крупными каплями и повторял, что нет, что это неправда, что ни в одной итальянской области цыплят не воспитывают в пакле, что речь идет всего лишь о поговорке, о принятом выражении: «Ein Volksprichwort»[733].
В этот момент майор Ханбергер, пристально смотревший на меня в течение нескольких минут своими глазами, напоминавшими серое стекло, холодно сказал: «Тогда объясните мне, причем здесь степь? Was bat die Steppe mit Küchen zu Tun?»[734] Я обернулся к переводчику, чтобы попросить его помощи, умоляя взглядом, чтобы он спас меня ради Бога от этой новой и еще худшей опасности. Но я с ужасом заметил, что Шиллер и сам начинал обливаться холодным потом. По лбу его бежали ручьи, лицо было бледно. Тогда мне стало страшно. Я осмотрелся вокруг и увидел, что все смотрят на меня пристально и сурово: я почувствовал, что я пропал и начал повторять один раз, два раза, три раза, что дело идет о поговорке, о принятой манере изъясняться, о простой игре слов.
— Всё это хорошо, — сказал майор Ханбергер, — но я не понимаю, что степь может иметь общего с цыплятами. Тогда я возбужденно ответил, что немецкая армия была совсем как цыпленок в степи, именно как цыпленок в степи. — «Хорошо, — сказал майор Ханбергер, — но я не понимаю, что есть странного в присутствии цыпленка в степи. Во всех деревнях Украины есть много кур, соответственно много и цыплят, и мне не кажется, чтобы в этих цыплятах было что-нибудь странное. Это такие же цыплята, как и все остальные». — «Нет, — ответил я, — это не такие же цыплята, как все остальные». — «Это не такие же цыплята как все остальные?» — повторил майор Ханбергер, изумленно и пристально вглядываясь в меня. — «В Германии, — сказал генерал фон Шоберт, — выращивание кур достигло научного уровня, бесконечно превосходящего советское выращивание. Очень вероятно, что степные цыплята по своему качеству гораздо ниже, чем немецкие цыплята». Полковник Старк нарисовал на листке бумаги курятник, модели, принятой в Восточной Пруссии, майор Ханбергер процитировал многочисленные статистические данные, и таким образом, мало-помалу, беседа превратилась в лекцию о научном выращивании куриных пород, в которой приняли участие все другие офицеры. Я оставался немым, утирая пот, стекавший по моему лбу, и время от времени генерал фон Шоберт, полковник Старк и майор Ханбергер умолкали, чтобы пристально посмотреть на меня и сказать мне, что они всё еще не поняли, что общего между немецкими солдатами и цыплятами. А остальные офицеры смотрели на меня с глубоким соболезнованием.
Наконец, генерал фон Шоберт[735] встал и сказал: «Schluss!»[736] Мы все поднялись из-за стола и вышли, рассеявшись по улицам городка, чтобы направиться на ночлег. Луна была круглая и желтая в зеленоватом небе. Переводчик — лейтенант Шиллер, сказал, желая мне доброй ночи: «Надеюсь, что вы научились тому, что не следует остроумничать, когда имеешь дело с немцами!» — «Ach so»[737], — ответил я и направился к своей постели, настолько возбужденный, что не мог уснуть. Миллионы сверчков пели в безмятежной ночи, а мне казалось, что это миллионы цыплят кудахчут в бесконечной степи. Когда мне удалось, наконец, заснуть, уже пели петухи.
— Это прелестно! — воскликнула Анна-Мария фон Бисмарк, хлопая в ладоши. Все смеялись, но князь Отто фон Бисмарк смотрел на меня странным взглядом. «У вас большой талант рассказывать истории, — заметил он, — но я не люблю ваших цыплят».
— Я их обожаю! — воскликнула Анна-Мария.
— Вам я могу сказать правду, — сказал я, обращаясь к Отто фон Бисмарку[738]. — В Италии цыплят выращивают в пакле. Но эту истину нельзя разглашать. Не будем забывать, что мы ведем войну.
В это время Марчелло дель Драго подошел к столу фон Бисмарков: «Война? — спросил он. — Вы все еще говорите о войне. Вы не могли бы говорить о чем-нибудь другом? Война вышла из моды».
— Да, в самом деле, она вышла из моды, — согласилась Джоржетта. — В этом сезоне ее больше не носят.
— Галеаццо, — сказал Марчелло, обращаясь к Анфузо, — просил меня спросить у тебя, не сможешь ли ты сегодня зайти ненадолго в Министерство?
— Почему бы нет, — ответил Анфузо иронически и немного враждебно, — мне ведь за это платят.
— Около пяти часов. Идёт?
— Я предпочел бы лучше шесть часов, — сказал Анфузо.
— Хорошо, значит в шесть, — согласился Марчелло Дель Драго, и потом, указывая глазами на молодую женщину, сидевшую за столиком недалеко от фон Бисмарков, спросил кто она такая.
— Как? Вы не знаете Бриджитту? — удивилась Анна-Мария. — Это моя большая приятельница. Правда, она красива?
— Очаровательна, — подтвердил Марчелло дель Драго и, направляясь к столику Галеаццо, два или три раза обернулся на Бриджитту.
В это время многие начали выходить, удаляясь через луга в направлении к площадкам гольфа. Мы продолжали сидеть, разговаривая, и немного времени спустя увидели Марию Панса, сопровождающую Галеаццо к столику Бриджитты. Анна-Мария заметила, что Галеаццо разжирел.
— В прошлую войну, — сказал Анфузо, — все худели, в эту все жиреют. Вселенная перевернулась. Ничего не понимаю!
Фон Бисмарк ответил так, что я не мог уловить была ли в его словах заключена ирония, что полнота является признаком душевного здоровья: — Европа, — сказал он, — убеждена в своей победе. — Я заметил, что народы были худыми, что достаточно проехать через Европу, чтобы увидеть, до какой степени исхудали народы. — И, однако, — добавил я, — народы уверены, что одержат победу.
— Какие народы? — спросил фон Бисмарк.
— Все народы, — ответил я. — Даже немецкий народ, разумеется.
— Вы говорите, разумеется? — отозвался фон Бисмарк с иронией.
— Всех больше исхудали рабочие, — продолжал я. — Даже немецкие рабочие, разумеется. И, однако, среди всех прочих, это рабочие, которые наиболее уверены в выигрыше войны.
— Вы думаете? — на лице фон Бисмарка было ошеломленное выражение.
Стоя перед Бриджиттой, граф Чиано что-то громко говорил ей, по своей привычке поворачивая голову направо и налево и смеясь. Бриджитта сидела за столом и, согнув руки в локтях и подперев лицо ладонями, поднимала на него свои прекрасные глаза, полные невинного лукавства. Потом она встала и вышла с Галеаццо в сад, где стала прогуливаться вокруг бассейна, непринужденно болтая.
Граф Чиано имел галантный вид и громко говорил, поглядывая вокруг и хмуря брови одновременно горделиво и сердечно. Все наблюдали эту сцену, понимающе подмигивая.
Готово! — сказала Анна-Мария.
— Бриджитта действительно очаровательная женщина, — заметил фон Бисмарк.
— Галеаццо — любимец женщин, — сказала Джоржетта.
— Здесь нет ни одной женщины, — ответил Анфузо, — у которой не было бы истории с Галеаццо.
— Я знаю одну, которая не поддалась ему, — сказала Анна-Мария.
— Да, но ее здесь нет, — ответил Анфузо, лицо которого омрачилось.
— Что вы знаете?! — сказала Анна-Мария с грацией немного агрессивной.
В этот момент Бриджитта вошла и подошла к Анне-Марии. Она была весела и смеялась двусмысленным смехом.
— Смотрите, Бриджитта, — обратился к ней Анфузо, — граф Галеаццо всегда побеждает на войне.
— О! Я знаю, — ответила Бриджитта. — Меня уже предупреждали.
— А я, напротив, всегда проигрываю. Но я устал от войны, и Галеаццо меня не интересует.
— Правда? — спросила Анна-Мария с недоверчивой улыбкой.
Все мы тоже вышли в сад и направились к первой площадке под осенним солнцем, на которой приятно пахло медом и увядшими цветами. Игроки показывались и исчезали в складках местности, как пловцы, попадавшие между волнами. Можно было видеть клюшки, взлетавшие и сверкавшие в солнечных лучах, игроков, воздевавших руки к небу, соединяя кисти и оставаясь на мгновение в этой молитвенной позе, потом клюшки колебались, описывали широкую дугу в воздухе, зеленом и розовом, исчезали и, вновь сверкая, взлетали вверх. Это было похоже на балет, разыгрываемый на огромной сцене, и ветер создавал в траве сладостный музыкальный напев. Голоса раздавались в лугах — голоса зеленые, желтые, красные, синие, которым расстояние придавало эластичную звонкость, слабую и бархатистую. Молодые женщины группой сидели в траве, смеясь и болтая. Они все поворачивали головы к Галеаццо, который прогуливался поблизости с Бласко д’Айета, проходя, точно на параде, мимо этой юной стайки, лукавой и дразнящей. Это был букет самых красивых лиц и самых прекрасных имен в Риме. Смешавшись с ними, сидело несколько более смешливых, с более живым румянцем, глазами более живыми, губами более красными, манерами более смелыми и свободными — самых красивых молодых женщин Флоренции, Венеции и Ломбардии. И одна была — вся в красном, другая — в синем, та — в зеленом, или в платье цвета старого золота, или в розовом, приближающемся к цвету слоновой кости, или в серовато-пепельном, эта — в платье телесного цвета. И сверх того — одна, мило гордящаяся своим лбом юноши и чистыми линиями рта, имела короткие и завитые волосы, у другой — они были заплетены на затылке, у третьей — они приподнимались на висках. Все, смеясь, показывали свои лица, воспламененные солнцем и свежим воздухом. Марита походила на Алкивиада[739], Паола — на Форнарину[740], Лавиния — на Аморрориску, Бьянка имела вид Дианы, Патриция — походку Сельваджии, Мануэла — Фьяметты[741], Джорджина — Беатриче[742], Энрика — Лауры[743]. На этих лицах, на губах и в глазах было нечто от куртизанок и, вместе с тем, — невинное. Подпорченная слава блистала на этих лицах, белых и розовых, в этих влажных взорах, которые в тени, отбрасываемой на них ресницами, приобретали выражение чувственной стыдливости.
Долгие порывы ветра проносились в теплом воздухе, гордое солнце золотило стволы пиний, руины гробниц на Аппиевой дороге, кирпичи, камни и осколки античных мраморных плит, разбросанные среди кустарников на обочине луга. Сидя вокруг бассейна, молодые англоманы из дворца Чиги говорили между собой по-английски, отдельные слова, пахнущие кэпстеном и микстурой Кровэна, долетали до нас.
На fairway[744], слегка позолоченном усталыми огнями осени, приближались и удалялись старые итальянские принцессы, урожденные Смит, Браун, Самуэль, торжественные вдовицы, опирающиеся на трости с серебряным яблоком вверху, престарелые красавицы д’аннунциенского поколения[745], с медленной походкой, глазами, опоясанными черными кругами, с длинными руками, белыми и приобретшими веретенообразную форму. Девочка с развевающимися волосами, крича, преследовала белокурого мальчика, в брючках гольф. Это была живая сценка, но уже немного затуманенная, немного «не в точку», и потертая на сгибах, как старинная цветная гравюра.
Пришла минута, когда Галеаццо, увидев меня, отошел от Бласко д’Айета и, подойдя ко мне, положил руку на мое плечо. Прошло больше года с тех пор, как мы разговаривали в последний раз, и я не знал, что ему сказать. — «Когда ты вернулся? — спросил он с легким упреком. — Почему ты не зашел ко мне?» Он говорил со мной конфиденциальным тоном с какой-то непосредственностью для него очень редкой. Я ответил ему, что был серьезно болен в Финляндии и сейчас всё еще очень слаб. — «Я очень устал», — добавил я. — «Устал? Ты, может быть, хочешь сказать — пресытился?» — спросил он. — «Да, пресытился всем», — ответил я. Он посмотрел на меня, и после паузы сказал: «Вот увидишь, еще немного и дела пойдут лучше».
— Дела пойдут лучше? Италия — мертвая страна, — сказал я. — Что ты хочешь делать с мертвецом? Его можно только похоронить.
Никогда нельзя знать заранее, — возразил он.
— Может быть ты и прав, — согласился я, — никогда нельзя знать заранее.
Мы были знакомы еще с детства, и он всегда вступался за меня без всяких просьб с моей стороны. Он защитил меня в 1933 году, когда меня приговорили к пяти годам заключения, он защитил меня, когда меня арестовывали в 1938, 1939 и 1941 годах, он защитил меня от Муссолини, от Старачи, от Мути, от Боччини, от Сениза, от Фариначчи, и я чувствовал к нему глубокую сердечную благодарность, вне всяких политических соображений. Он вызывал во мне жалость. Я хотел бы тоже помочь ему когда-нибудь. Кто знает, может быть и я смогу помочь ему когда-нибудь? Но теперь ничего нельзя было сделать. Оставалось только его похоронить. При наличии всех друзей, какие у него были, можно было надеяться, по крайней мере, что он будет похоронен.
— Будь осторожен со стариком, — сказал ему я.
— Я знаю. Он меня ненавидит. Он ненавидит весь мир. Порой я себя спрашиваю, не сошел ли он с ума. Ты думаешь, еще можно что-нибудь сделать?
— Больше нечего делать отныне. Слишком поздно. Тебе следовало что-нибудь сделать в 1940 году, чтобы помешать ему втянуть Италию в эту постыдную войну.
— В 1940-м? — спросил он и засмеялся смехом, который был мне неприятен. Потом добавил: — Война могла пойти удачно.
Я замолчал. Он угадал то горестное и враждебное, что заключалось в моем молчании, и сказал: — «Это не моя вина. Это он захотел войны. Что я мог сделать, я?»
— Уйти.
— Уйти. А потом?
— А потом? Ничего.
— Это ни чему бы не послужило, — сказал он.
— Это ни чему бы не послужило, но ты должен был уйти.
— Уйти, уйти! Каждый раз, когда мы заговариваем об этих вещах, ты не способен сказать мне ничего другого. Уйти! А потом?
Галеаццо внезапно отошел от меня и быстрыми шагами направился к Клубу. Я видел, как он остановился на мгновение на пороге, а затем вошел.
Я прогуливался еще немного на лугу. Потом тоже вошел в Клуб. Галеаццо сидел в баре между Киприенной и Бриджиттой. Вокруг него сидели Анна-Мария, Паола, Марита, Джоржетта, Филиппо Анфузо, Марчелло дель Драго, Бонарелли, Бласко д’Айет и совсем молоденькая девушка, которой я не знал. Галеаццо собирался рассказать, как он вручал декларации об объявлении войны Франции и Англии.
Когда посол Франции Франсуа Понсе вошел в его кабинет во дворце Чиги, граф Чиано сердечно встретил его и тотчас же сказал: — «Вы, конечно, понимаете, господин посол, по какой причине я пригласил вас».
— Я не слишком понятлив обычно, — ответил Франсуа Понсе, — но на этот раз понимаю.
Тогда граф Чиано, стоя за своим бюро, произнес официальную формулу объявления войны: «От имени Его Величества Короля Италии, императора Эфиопии» и т. д…
Франсуа тоже взволновался и сказал:
— Значит, это война.
— Да.
Граф Чиано был в форме подполковника авиации. Французский посол сказал ему: «А вы, что вы будете делать? Вы станете бросать бомбы на Париж?»
— Думаю, что да. Я офицер и буду выполнять мой долг.
— Ах! Постарайтесь, по крайней мере, чтобы вас не убили, — ответил Франсуа Понсе. — Дело того не стоит.
После этих слов французский посол растрогался и сказал еще несколько слов, которые Галеаццо счел неуместным повторить. Потом граф Чиано и Франсуа Понсе расстались, пожав друг другу руки.
— Что же мог сказать вам французский посол? — заинтересовалась Анна-Мария. — Мне очень хочется узнать.
— Одну очень любопытную вещь, — ответил Галеаццо, — но я не могу ее повторить.
— Держу пари, что он тебе сказал какую-нибудь дерзость, — сказала Марита, — вот почему ты не хочешь ее повторить.
Мы все рассмеялись, и Галеаццо — больше остальных.
— У него было основание сказать мне какую-нибудь дерзость, — согласился Галеаццо, — но на самом деле он ничего не сказал мне колкого, он был очень взволнован.
Потом он продолжал рассказывать, как посол Великобритании выслушал объявление войны. Сэр Перси Лоррэн вошел и тотчас же спросил его, почему он просил его приехать. Граф Чиано огласил ему официальную формулу объявления войны.
— От имени Его Величества Короля Италии, императора Эфиопии и т. д.
Сэр Перси Лоррэн внимательно слушал его, как если бы не хотел упустить ни одной запятой, потом холодно спросил: «Это действительно точная формулировка объявления войны?»
Граф Чиано не мог скрыть своего удивления: «Да, это точная формулировка», — сказал он.
— А! — воскликнул лорд Перси Лоррэн. Потом он сказал: — May I have a pencil?[746]
— Yes, certainly[747]. — И граф Чиано протянул ему карандаш и лист бумаги со штампом Министерства Иностранных дел. Посол Великобритании старательно отрезал, при помощи разрезального ножа верхнюю часть со штампом, после того как он согнул бумагу в нужном месте, посмотрев на кончик карандаша, потом попросил графа Чиано: — «Не будете ли вы так любезны продиктовать мне то, что вы только что прочли?»
— С удовольствием, — ответил граф Чиано, глубоко изумлённый. И он прочел очень медленно, слово за словом, декларацию войны. Когда он кончил диктовать, сэр Перси Лоррэн, который во время диктовки оставался бесстрастным, склоненным над листом бумаги, поднялся, пожал руку графа Чиано и направился к двери. Потом он вышел, не оборачиваясь.
— Вы что-то забыли в своем рассказе, — сказала Анна-Мария фон Бисмарк со своим легким шведским акцентом.
Галеаццо удивленно посмотрел на нее немного смущенный и ответил: «Я ничего не забыл».
— Ну, да, ты кое-что забыл! — сказал Филиппо Анфузо.
— Ты позабыл нам рассказать, — подтвердил я, — что сэр Перси Лоррэн, дойдя до порога, обернулся и сказал тебе: — «Вы думаете, что война будет легкой и очень быстрой. Нет, вы ошибаетесь: война будет очень долгой и очень трудной. До свидания».
— А! Вы тоже это знаете? — удивилась Анна-Мария.
— Как ты сумел узнать это? — спросил Галеаццо, заметно раздосадованный.
— Это граф де Фокса, посол Испании в Хельсинки, рассказал мне об этом, но все на свете это знают. Это секрет в итальянской манере.
— Я в первый раз слышала этот рассказ в Стокгольме, — объяснила Анна-Мария.
Галеаццо улыбался, но трудно было сказать, был он больше смущен или раздосадован. Все смотрели на него, смеясь, и Марита крикнула ему: «Take it easy[748], Галеаццо». Женщины смеялись и мило насмехались над ним. Галеаццо делал усилие, чтобы тоже засмеяться, но было что-то фальшивое в его смехе, что-то надтреснутое в нем самом.
— Он был прав, Франсуа Понсе, — заверила Патрициа. — Дело того не стоит.
— О! Правда, нет, умирать не стоит, — согласилась Джоржетта.
— Никто не хочет умирать, — заключила Патриция.
Лицо Галеаццо омрачилось, он был раздражен и смущен. Теперь беседа ожесточилась, коснувшись нескольких из его сотрудников. Молодые женщины открыто высмеивали посланника В., который после своего возвращения из Южной Америки поставил свою палатку в Гольф-клубе, чтобы находиться постоянно на глазах у Галеаццо, в надежде, что последний не потеряет его из вида и не позабудет о нем. «Он играет в гольф даже в прихожей дворца Чиги», — сказала Киприенна. Патриция заговорила об Альфиери, и все женщины закричали, что это настоящая привилегия для Италии иметь такого посла, как Дино Альфиери. «Он так красив!» — говорили они. Во всей Италии в это время рассказывали анекдот, который, как впоследствии было выяснено, был придуман какой-то веселой шпаной: офицер немецкой авиации, застав Альфиери со своей женой, ударил его дважды хлыстом по лицу. «Небо не допустит, чтобы на его лице остались шрамы!» — воскликнула Патриция. Анна-Мария спросила Галеаццо, правда ли, что он направил Дино Альфиери в Берлин, потому что ревновал к нему, как все утверждали. И все смеялись, Галеаццо тоже, но всем было понятно, что он раздосадован. «Ревновал, я? — спрашивал он. — Это все Геббельс рассказывает. Это он ревнует к Альфиери[749]. Он очень хотел бы, чтобы я отозвал его». — «О! Галеаццо, оставь его там, где он есть, — сказала Марита без лукавства. — Он так хорошо справляется там, в Берлине!» — И все снова рассмеялись. Потом заговорили о Филиппо Анфузо и его венгерских любовных связях. «В Будапеште, — заявил Филиппо, — женщины не хотят меня. Венгерки все темноволосые и сходят с ума по блондинам». Тогда Джоржетта повернулась к Галеаццо и спросила, почему он не направит в Будапешт посланника — блондина.
— Блондина? Но разве существуют блондины, делающие карьеру? — засомневался Галеаццо и начал считать на пальцах блондинов, делающих карьеру. «Ренато Прунас», — подсказала одна из молодых женщин. — «Гуглиельмо Рулли», — шепнула другая. Но Галеаццо не выносил Рулли и не упускал случая с ним расправиться: — Нет, только не Рулли, нет, — сказал он, наморщив лоб. — Я — блондин, — сказал Бласко д’Айет. — Да, Бласко, Бласко!
— Назначить нам Бласко в Будапешт, — закричали все женщины.
— Почему бы нет? — ответил Галеаццо. Но Анфузо, который не разделял шутливого тона, потому что был осведомлен о том, каким образом совершались назначения и выбор посланников во дворце Чиги, повернулся к Бланко д’Айету, улыбаясь, и сказал ему агрессивным тоном: «Ты-то всегда готов отнять у меня мой пост!» — напоминая о случае, когда Бласко заменил его в качестве главы кабинета графа Чиано. Тем временем все молодые женщины стали протестовать, почему Альберто еще не утвержден советником, почему Буби не удалось вступить в число членов кабинета, почему Чиги был переведен в Афины, тогда как у него так успешно шли дела в Бухаресте, из-за того, что Галеаццо не решался назначить Цезарино послом в Копенгаген на место Запуппо, который сидел там так долго. «И все задавали себе вопрос, что он может там делать!» — заявила Патриция.
— Я хочу вам рассказать, — заговорил Галеаццо, — каким образом посол Запуппо получил известие о вторжении немецких войск в Данию. Запуппо клялся всеми богами, что немцы никогда не окажутся такими идиотами, чтобы захватить Данию. Вергилио Лилли клялся в противном. «Но нет, мой дорогой Лилли, — говорил посол Запуппо, — что Вы хотите, чтобы они делали в Дании, немцы?» И Лилли отвечал ему: «На что вам, черт возьми, знать, что немцы будут делать в Дании?! Для вас имеет значение знать, придут они или не придут». — «Они не придут», — говорил Запуппо. — «Они придут», — отвечал Лилли. — «Значит, мой дорогой Лилли, вы хотите сказать, что знаете больше, чем я?» Виргилио Лилли жил в гостинице «Британия». Каждое утро, пунктуально, в восемь часов точно, старый лакей, с белыми волосами и розовым лицом, окаймленным бакенбардами в старинном стиле, в синей ливрее с золотыми пуговицами, входил в его комнату и приносил поднос с чаем. Он ставил поднос на маленький столик возле постели и, склоняясь, говорил: — «Вот вам чай, как обычно». Прошло двадцать дней, и эта сцена повторялась каждое утро точно в восемь часов и заканчивалась одной и той же фразой: «Вот ваш чай, как обычно». Но настало утро, когда старый лакей вошел, как всегда пунктуально, в восемь часов. Он сказал, склоняясь, с той же самой интонацией: «Вот ваш чай, как обычно. Немцы пришли». Виргилио Лилли подскочил на своем ложе и телефонировал послу Запуппо, чтобы сообщить ему, что в течение ночи немцы вступили в Копенгаген.
История о Запуппо и Лилли очень позабавила всё общество, и Галеаццо, смеявшийся вместе с остальными, казалось, оправился от своего смятения и беспокойства. От Запуппо беседа перешла к войне, и Марита заявила: «Довольно, надоело!» Ее подруги возмущались, что в Кьюиринетте больше не показывали американских фильмов и что во всем Риме нельзя было больше найти ни капли виски и ни пачки американских или английских сигарет. Патриция заявила, что в этой войне единственное, что осталось делать мужчинам, это сражаться, если у них есть к тому охота и свободное время, которого не жаль терять («Нам недостает не охоты, — ответил Марчелло дель Драго, — но именно времени!»). А женщинам остается ожидать только прибытия англичан и американцев с их победоносными легионами «Кэмела», «Лакки Страйк»[750] и «Голд Флэйк»[751]. «А whole of a lot of „Camel“»[752], — сказала Марита на нью-йоркском сленге. И все заговорили по-английски со своим неопределенным акцентом, который равно далек и от оксфордского, и от акцента Харпер-базара[753].
Вдруг через открытое окно влетела муха, потом другая, затем еще десяток, еще два десятка, сотня, тысяча. В несколько мгновений целое облако мух заполнило бар. Это был час мух: каждый день, в известный час, который меняется в зависимости от сезона, рой жужжащих мух атакует гольфы Аквацанты. Игроки вращали клюшками вокруг своих голов, чтобы избавиться от этого круговорота черных блестящих крыльев; мальчики — кадди, бросив на траву свои мешки, махали руками перед своими лицами; старые римские принцессы «урожденные Смит, Браун, Самуэль», торжественные вдовицы, престарелые красавицы д’аннунциенского поколения, прогуливавшиеся на fairway, удирали, махая руками и тростями с серебряными яблоками.
— Мухи! — воскликнула Марита, подпрыгнув. Все засмеялись, и она сказала: — Может быть это смешно, но я боюсь мух.
— Марита права, — заметил Филиппо Анфузо[754], — мухи приносят несчастье.
Раскат смеха встретил слова Филиппо, а Джоржетта заметила, что ежегодно новый бич обрушивается на Рим: в один год — это нашествие крыс, в другой — набег пауков, в третий — тараканы. «А с начала войны — это мухи», — сказала она.
— Гольфы Аквацанты знамениты своими мухами, — подтвердил Бласко д’Айет. — В Монторфано и в Уголино все над нами смеются.
— Здесь не над чем смеяться, — произнесла Марита. — Если война продлится еще немного, мы все будем съедены мухами.
— Это именно тот конец, которого мы заслуживаем, — заключил Галеаццо, поднимаясь. Он взял Киприенну под руку и направился к двери. Все остальные двинулись за ними.
Проходя мимо, он взглянул на меня, казалось о чем-то вспомнил и, отпустив руку Киприенны, положил свою руку мне на плечо и продолжал идти рядом со мной, как будто подталкивая меня. Мы вышли в сад и молча стали прогуливаться вдоль и поперек. Внезапно Галеаццо обратился ко мне, как будто громко продолжал излагать неприятную мысль:
— Ты помнишь, что ты говорил мне когда-то по поводу Эдды? Я рассердился на тебя и не позволил тебе продолжать. Но ты был прав. Мой настоящий враг — это Эдда. Она не отдает себе в этом отчета. Это не ее вина; я не думаю, что это ее вина, я даже не задаю себе этого вопроса, но я чувствую, что для меня Эдда представляет опасность, что я должен постоянно бояться ее как врага. Если придет день, когда Эдда оставит меня, если в ее жизни произойдет что-нибудь, что-нибудь серьезное, — я пропал. Ты знаешь, что ее отец обожает ее, что он никогда ничего не предпримет против меня, пока он думает, что доставит ей этим неприятность, но он только ждет подходящей минуты. Все зависит от Эдды. Я много раз пытался объяснить ей, до какой степени некоторые ее поступки для меня опасны. Может быть и нет ничего плохого в том, что она делает, я не знаю, я даже и не хочу знать. Но с Эддой невозможно разговаривать. Это твердая женщина и странная. С ней никогда не знаешь, чего следует ожидать. Она меня часто пугает. — Он говорил короткими фразами, своим хриплым, немного фальшивым голосом, отгоняя в то же время мух от своего лица белой и полной рукой, монотонным жестом…
Мухи жужжали вокруг нас с яростной настойчивостью. Время от времени слабый и мягкий удар от пасовки по мячу доносился до нас с далекой площадки. — Я не знаю, кто распускает эти глупые слухи про Эдду, о ее намерении развестись со мной, чтобы выйти замуж — не знаю за кого… Ах! Эти мухи, — прервал он сам себя с нетерпеливым жестом. Потом, через мгновение, добавил: — Все это только сплетни. Эдда никогда не сделает ничего подобного. Но пока что ее отец насторожил уши. Ты увидишь — я не останусь надолго в Министерстве. Знаешь, что я думаю? Что я всегда останусь Галеаццо Чиано[755], даже если перестану быть министром. Мое положение, моральное и политическое, останется для меня выигрышным, если Муссолини и даст мне отставку. Ты ведь знаешь, каковы итальянцы: они забудут мои ошибки и мои вины и будут видеть во мне только жертву.
— Жертву? — спросил я.
— Ты думаешь, итальянский народ не знает, кто должен отвечать за все, кто единственный отвечает? Что он не сумеет различить Муссолини и меня? Что он не знает, что я возражал против войны, что я всё сделал…
— Итальянский народ, — ответил я, — ничего не знает, ничего не хочет знать и не верит больше ничему. Вы должны были, — ты и остальные, — сделать что-нибудь в 1940 году, чтобы помешать этой войне. Сделать что-нибудь, чем-нибудь рискнуть. Это был момент, чтобы дорого продать свою шкуру. Теперь ваша шкура ничего не стоит. Но вы слишком любите власть — вот в чем правда. И итальянцы это знают.
— Ты думаешь, что если я сейчас ушел бы…
— Сейчас слишком поздно. Вы пойдете все ко дну с ним вместе.
— Что же я тогда должен делать? — спросил Галеаццо кислым и нетерпеливым голосом. — Чего от меня хотят? Чтобы я позволил выкинуть себя на свалку, как грязное белье, когда это произойдет?! Чтобы я согласился идти ко дну вместе с ним?! Я не хочу умирать, я!
— Умирать? Дело того не стоит, — ответил я, повторяя слова французского посла Франсуа Понсе.
— Это совершенная правда, дело того не стоит, — сказал Галеаццо. — И потом, к чему умирать? Итальянцы — славные люди. Они не хотят ничьей смерти.
— Ты ошибаешься, — ответил я. — Итальянцы — не те, что были раньше. Они с удовольствием будут смотреть, как вы умираете. Ты, он и все остальные.
— А чему послужит наша смерть? — спросил Галеаццо.
— А ничему. Она ничему не послужит.
Галеаццо замолчал. Он был бледен. Его лоб увлажнился потом. В этот момент молодая девушка пересекла луг, направляясь навстречу группе игроков, которые шли обратно в клуб, вращая в руках блестевшие на солнце клюшки.
— Какая красивая девушка! — сказал Галеаццо. — Она тебе нравится? А? — И он слегка подтолкнул меня локтем в бок.
Глава XIX. КРОВЬ
Едва покинув римскую тюрьму Реджина Коэли, я отправился на вокзал и сел в поезд, направлявшийся в Неаполь. Это произошло 7 августа 1943 года. Я бежал от войны, от резни, от Fleck Typhus’a[756], от голода; я бежал от тюрьмы, от вонючей камеры без воздуха и без света, от нечистого тюфяка, набитого соломой, от поганого супа, клопов, вшей, «параши» с экскрементами. Я хотел уехать к себе, уехать на Капри, в мой уединенный дом на скале у моря.
Теперь я достиг конца моего долгого и жестокого четырехлетнего путешествия через Европу, через войну, кровь, голод, сожженные деревни, разрушенные города. Я устал, был разочарован и подавлен. Тюрьма в Италии — еще тюрьма и всегда тюрьма, ничего кроме тюрьмы, полицейских сыщиков, людей в наручниках. Это была Италия. Они тоже — Марио Аликата и Цезарини Сфорца — после долгих месяцев в тюремной камере, как только они вышли вместе со мной из Реджина Коэли, возвратились к себе. Я отправился на вокзал, сел в неапольский поезд, я хотел тоже возвратиться к себе. Поезд был переполнен беглецами, стариками, женщинами, детьми, офицерами, солдатами, священниками, агентами полиции. На крышах вагонов ехали солдаты: одни — вооруженные, другие — без оружия, одни — в форме, оборванные, грязные и печальные, другие — полуголые, отталкивающие и веселые, и эти, последние, были дезертиры, которые возвращались к себе или бежали куда глаза глядят, смеясь и распевая песни, как будто они были поражены и возбуждены каким-то огромным, каким-то удивительным страхом.
Все бежали от войны, от голода, от заразы, руин, террора и смерти. Все бежали от войны, от немцев, бомбардировок, нищеты, страха; все бежали в Неаполь, навстречу войне, немцам, бомбардировкам, нищете, страху, к убежищам, полным нечистот, экскрементов, людей изголодавшихся, изнуренных, отупевших. Все бежали от безнадежности, несчастной и удивительной безнадежности проигранной войны, все бежали навстречу надежде окончания голода, окончания страха, окончания войны, навстречу несчастной и удивительной надежде проигранной войны. Все бежали от Италии — двигались навстречу к Италии.
Стояла ужасная жара. Я еще не смог помыться, и находился в том же состоянии, как и в своей камере N 9462 четвертого коридора Реджина Коэли; я еще нес на себе жирный и сладковатый запах клопов, длинной бороды, обросших спутанных волос и сломанных ногтей. В купе нас было двадцать, тридцать, сорок, — кто знает сколько? Прижатые друг к другу, сгрудившиеся друг с другом — с губами, вспухшими от жажды, с полиловевшими лицами — мы все стояли на цыпочках, вытянув шеи и раскрыв рты, чтобы иметь возможность дышать; мы имели вид повешенных, которых толчки поезда заставляли раскачиваться ужасающим образом. Время от времени с неба доносился звук «ток, ток, ток», поезд тотчас останавливался, все выскакивали из вагонов на землю и спешили присесть в кюветах, идущих вдоль железнодорожного полотна, и смотрели оттуда в небо до тех пор, пока звуки «ток, ток, ток» не прекращались. На всех станциях наш поезд проходил мимо длинных немецких составов, стоявших или двигавшихся, переполненных солдатами и вооружением. Немцы смотрели, как мы проезжаем мимо своими серыми жестокими глазами. Какая усталость была в этих глазах, какое презрение и какая ненависть! — «Куда они направляются?» — говорили мои спутники. Один человек, стоявший рядом, спросил, не с фронта ли я еду. — «Какой там фронт?! — не выдержал другой солдат. — Нет больше фронта. Нет войны. Нет неминуемой победы. Нет больше Viva il Duce![757] Ничего больше нет. Какой фронт?» Я ответил: «Я возвращаюсь из Реджина Коэли». Солдат с подозрением посмотрел на меня: «Это что такое, Реджина Коэли? Монастырь?» — спросил он. — «Это тюрьма», — ответил я.
— «Какая еще тюрьма? — сказал солдат. — Теперь нет больше тюрем. Нет больше фликов, нет тюремных надзирателей, нет тюрем. Ничего больше нет. Теперь в Италии нет тюрем. Кончено с тюрьмами, кончено с Италией! Ничего больше нет!»
Все начали смеяться, глядя на солдата. Это были улыбки канальи, скверные, страдальческие, этот смех был смехом безнадежности. Ему смеялись прямо в лицо, и я — я тоже смеялся. Нет больше тюрем в Италии, — повторяли в купе, ха, ха, ха! В купе, в коридоре, в других купе все смеялись, весь поезд смеялся, даже механик, даже машинист, весь поезд — от головы до хвоста, с судорогами и подскакиванием на рельсах. И так с этим гнусным смехом поезд дал свисток, замедлил ход и остановился возле огромной груды обломков штукатурки и окровавленных лохмотьев. Это был Неаполь.
Сквозь черное и блестящее мушиное облако солнце било отвесно на крыши и асфальт улиц, горячее дыхание шло от развалин, нагроможденных вокруг разбитых зданий, тучи сухой пыли, похожей на песчаные облака, поднимались из-под ног редких прохожих. Город при первом взгляде казался пустынным, но постепенно ухо начинало различать доносившееся с улиц и дворов жужжание, звуки приглушенных голосов, глухой и отдаленный шум. И тогда, бросив кругом испытующий взгляд, проникающий в донную жизнь полуподвалов, взгляд, обшаривающий узкие и высокие расселины, разделяющие дома между собой и называемые улицами старого Неаполя, можно было увидеть скопления людей то остановившихся, то двигающихся или жестикулирующих, группы сидящих на корточках вокруг небольших огней, зажженных между двумя камнями, и смотрящих как кипит вода в старом бидончике из-под керосина, в кастрюле, в глубокой сковороде или в кофейнике; мужчин, женщин и детей, спящих вперемежку, иногда друг на друге, на матрасах, волосяных тюфяках, всевозможных убогих постелях, выставленных за двери во дворы среди развалин, в тени шатких стен, или у входов в эти пещеры, проделанные в туфе, отсыревшем от селитры, которые повсюду под Неаполем углубляются в земные недра. В интерьерах «басси» виднелись люди стоящие, сидящие или вытянувшиеся на высоких барочных железных или медных кроватях, украшенных изображениями святых или Мадонн. Многие сидели тоже на корточках, молча на пороге у своих дверей, с этим печальным видом, свойственным неаполитанцам, которые не знают больше что им делать и чего-то ждут. В первые минуты город показался мне не только опустошенным, но и безмолвным. Я видел, как люди бежали, жестикулируя, как шевелились их губы, но я не слышал ни звука, ни шума, ни голосов. Лишь постепенно в пыльном воздухе поднимались смутные крики — по крайней мере так мне казалось — и принимали для моего уха форму и вещественность и, наконец, с полной силой зазвучали вокруг меня с шумом, подобным шуму реки в половодье.
Я спускался к порту по широкой, прямой и длинной улице, оглушенный и ошеломленный этим адским шумом, окутанный облаками ослепляющей пыли, которую поднимал над развалинами обрушенных домов морской бриз. Солнце било своим большим золотым молотом на террасы и фасады домов и поднимало черные стаи жужжащих мух. Подняв глаза, я видел зияющие окна, открытые балконы, и на балконах женщин с распущенными волосами, которые причесывались, вглядываясь в синее небо, точно в зеркало. Певучие голоса слетали с вышины, из невидимых помещений, тотчас подхватываемые тысячами ртов, передававших их из губ в губы, из окна в окно и с улицы в улицу с звонким гулом, как делают жонглеры со своими разноцветными мячами. Стаи детей бегали босиком туда и сюда, одетые в лохмотья истрепанных рубашонок, а самые маленькие — совсем голыми. Они бегали, крича, истекая потом и очень возбужденные, но с мечтательной осторожностью лунатиков. И это было не для смеха, не в силу какой-то оживленной игры, — нет. Когда я в них внимательно всматривался, то замечал, что они целиком поглощены своей мелкой торговлей: один тащил головку лашука, другой — стакан, наполненный неизвестной микстурой, третий — полено дров; многие, как муравьи, волокущие зернышко пшеницы, надрывались, таща полуобгорелую балку, изломанную старую мебель, бочку, какой-нибудь предмет домашней обстановки, извлеченный из груды кирпичей и обломков. Трупный запах поднимался над грудами щебня и штукатурки. Стаи мух, огромных и ленивых, с золотистыми крылышками, жужжали среди руин. Наконец, я увидел море.
Море меня растрогало, и я заплакал. Ни река, ни долины, ни гора, даже не дерево, не облако — ничто не дает такого представления о свободе, как море. Даже и сама свобода не дает такого представления о свободе, как море.
В своей тюрьме узник неотрывно смотрит часами, днями, месяцами и годами на стены своей камеры, одни и те же стены, гладкие и белые. В этих стенах он видит море. Но он не может себе представить его синим, он не сумеет иначе представить его себе, как белым, гладким, голым, без волн, без бурь — угрюмое море, освещенное тусклым светом, тем, который проходит между прутьями тюремной решетки. Таково его море, такова его свобода: белое море — гладкое и голое, свобода — угрюмая и холодная.
Но то, что было сейчас передо мной — это было море, теплое и нежное неаполитанское море, свободное синее море Неаполя, всё в завитках маленьких барашков, которые преследовали друг друга со сладостным шумом под ласковым ветром, надушенным солью и разморенном. То, что было передо мной, — это было морем, синим, огромным, свободным морем, плиссированным ветром. Это не было море белое, холодное, гладкое, голое — море тюрьмы, но море теплое и синее, море глубокое. То, что расстилалось передо мной, — это было море. Это была свобода, и я плакал, неотрывно глядя издали, с верхней части улицы, пересекающей большую площадь и спускающуюся к порту, и я не смел к нему приблизиться, я не смел даже протянуть руку из боязни, что оно исчезнет, скроется за горизонтом, отступит с отвращением при приближении моей несчастной грязной руки, засаленной и с обломанными ногтями.
Я был готов и дальше плакать здесь, наверху, посреди улицы, глядя на море издали, и я не слышал пчелиного жужжания высоко и далеко в синем небе, не замечал, что люди спасались, спеша укрыться под землей в пещерах, выкопанных на откосе горы. Наконец, какой-то ребенок подошел ко мне, притронулся к моей руке и вежливо сказал: «Сеньор, вот они идут!» И в этот момент я почувствовал себя подхваченным толпой, которая бежала, громко крича, сверху вниз по широкой улице, в конце которой сверкало море. Мне трудно было узнавать знакомые места, но по колоннам одной из церквей мне показалось, что я узнаю улицу Санта-Лючия. Толпа вливалась под большой портал и исчезала, поглощенная какой-то потаенной пещерой. Я шел тоже, следуя за толпой, чтобы укрыться в мраке подземелья, но, подняв глаза, остался стоять, оледенев от ужаса.
Толпа молчаливых существ спускалась ко мне по улочкам и лесенкам, которые от улицы Санта Лючия поднимаются на Пиццофальконе и на Монте ди Дио. Это было таинственное сборище лемуров[758] и монстров[759], которые, обленившись, живут в гротах, дворах и подвалах этого квартала Неаполя, в глубинах сотен темных переулочков, образующих лабиринт Паллонетто. Они направлялись ко мне, сгрудившись, как армия, движущаяся на штурм хорошо охраняемого замка. Они шли, медлительные и немые, в этом томительном молчании, которое предшествует разрывам первых бомб, в угрожающем одиночестве, созданном вокруг них священной особенностью их ужасающего уродства. Это были шайки кривоногих, увечных, хромых, горбатых, одноруких, безногих, — этих уродов, которых держат в Турине вдали от человеческого глаза, в милосердном уединении убежища Коттоленго. Война вырвала их из религиозного заточения в глубине домов, где жалость и священный ужас, суеверие народа и семейная стыдливость скрывали их в течение всей жизни, осужденных на полумрак и молчание. Монстры спускались медленно, помогая друг другу одеться в отребья, с лицами, сведенными гримасой, которая не была гримасой страха, но гримасой ненависти и мелкого тщеславия. Был ли то ослепительный свет, призрачный луч этого часа, боязнь ли неминуемого железного и огненного шторма? Выражение этих лиц казалось сатанинским, гримаса — злобной, враждебной всему творению; злоба сверкала в этих глазах, сожженных лихорадочным возбуждением или смоченных удивительными слезами, в них светился ирреальный свет. Страшная судорога сводила слюнявые рты. Если было что-то во всех них общего, то это признак страха и бессильной ярости — пенистая слюна на губах.
Это были женщины, одетые в чудовищное отребье, покрытые щетиной, с грудями, висящими поверх изодранных сорочек; одна из них была вся всклокочена; свалявшимися клочьями, напоминавшими кабанью шкуру, она держала за руку мужчину примерно тридцати лет, может быть мужа, может быть брата, с глазами остановившимися и расширенными, с ногами атрофированными и скрюченными какой-то костной болезнью. Она шла с открытой грудью, на которой виден был лишь один из двух сосков: маленький, иссохший до корня, пораженный какой-то инфекционной болезнью или съеденный раком; одна грудь была черной и как бы обугленной, тогда как другая, отвисшая и морщинистая, падала почти до низа живота. Это были скелеты, одетые в лохмотья, с черепами, обтянутыми желтой кожей, натянутой на кость, с зубами, открытыми страшной судорогой, или древние старцы, беззубые и лысые, с собачьими мордами. Это были молодые девицы с головами чудовищно большими и опухшими, на маленьких и очень худых телах, огромные старухи, жирные и раздутые, с невероятными животами и совсем маленькими птичьими иссохшими головками, на которых негибкие волосы подымались над черепом, редкие, как перья. Это были кривоногие дети с монголоидными лицами, среди которых одни передвигались на четвереньках, другие прихрамывали, опираясь на случайно подобранные обломки дерева, служившие им костылями, наконец, третьи лежали в каких-то самодельных колясках, которые подталкивали их товарищи. Это были все «монстры», которых улочки Неаполя хранят в своем лоне со священной стыдливостью, объекты религиозного культа, ходатаи и наследники в той магии, которая является тайной религией этого народа. В первый раз за все время их потаенного существования война вытеснила их из скрытых убежищ и заставила выйти на солнечные улицы.
И их молчаливая процессия к пещерам, вырытым в склоне горы, сходна с процессией священных идолов, с кортежем инфернальных божеств, которые, появившись на поверхность земли, вследствие какого-то подземного катаклизма, спешили возвратиться, чтобы затаиться вновь в таинственных подземельях.
Внезапно среди них я увидел бога. Я видел тайного бога, окруженного почитанием «монстров». Я видел короля этого «двора чудес». Он двигался вперед медленно, сопровождаемый и поддерживаемый группой ужасных карликов. Это было существо, но я не знаю, было ли то животное или человек. Укрытое с головы большим покрывалом, ниспадавшим до ног, оно казалось тощим и малорослым. На его голову было наброшено, точно затем, чтобы скрыть его от взоров непосвященных, одно из этих шелковых покрывал, которыми в Неаполе бывает покрыта даже самая нищенская постель; желтое и очень широкое, оно спадало широкими складками вдоль плеч и ног и волочилось по земле, развеваясь от бриза, дувшего с моря. Карлики окружали это существо словно короной: одни поддерживали его, так как, ослепленное этим покрывалом, оно не могло двигаться без их помощи, другие расчищали перед ним дорогу, отталкивая со сдавленным рычаньем и чем-то вроде свиного хрюканья, кривоногих, увечных, слепых, замешкавшихся в пыли; третьи быстро разметали улицу своими лапками, переворачивая валуны, кирпичи и куски штукатурки, чтобы оно не оступилось; еще другие удерживали руками края покрывала, чтобы оно не соскользнуло или чтобы помешать ему приподняться от ветра, открывая взглядам профанов свою ужасную тайну, но недостаточно для того, чтобы помешать мне увидеть под краем, приподнятым его дуновением, ногу, тощую и бесформенную, ногу, которая показалась мне (я и сейчас еще трепещу) покрытой шерстью, как ноги животного.
Это существо медленно спускалось с вытянутыми вперед руками, как движутся слепые, и можно было подумать, что его ноги связаны, словно путами, тем же таинственным грузом, которое оно несло на голове. Под покрывалом, в самом деле, на месте, где находилась, вернее должна была находиться голова, можно было найти нечто бесформенное, изумляющее, медленно покачивающееся, склоняясь то на одно, то на другое плечо. Но я задрожал, увидев, что этот монстр вовсе не стремился удержать свое покрывало от падения; он не производил никаких движений, предназначенных к тому, чтобы сохранить в равновесии большой и тяжелый предмет, который носят на голове. И я с дрожью, пронизавшей меня до костей, подумал, что этот ужасающий монстр, этот тайный бог Неаполя, был мужчиной или женщиной с головой животного — быка, козла или пса — скорее всего быка, если судить по его объему; или же что у него было две головы, что показалось мне более правдоподобным, судя по тем странным движениям, которые угадывались мне под желтым покрывалом, — там как будто было две головы, и каждая из них двигалась совершенно самостоятельно.
Улочка, откуда он спускался, была завалена мусором и кусками штукатурки — почти все дома здесь были поражены бомбами, и многие из них обвалились. На этом фоне руин и смерти бог шел точно в пустыне. Он покинул свой потаенный храм, и теперь он тоже готовился спуститься в земные недра, в царство подземелий плутонического Неаполя. Не знаю, испустил я крик или отступил, охваченный страхом, — бог приближался ко мне посреди своих придворных карликов, покачивая под желтым покрывалом своими чудовищными головами. Меня пробудили от ужаса гортанные крики карликов уже совсем близко от меня. Я повернулся в поисках, куда убежать, и очутился у входа в пещеру, в которой в мертвенном молчании, прерываемом только одиноким криком ребенка и призывом какой-то женщины, двигалась вся священная толпа монстров, следовавшая за страшным богом. Они шли, волоча ноги в пыли, вывернув наружу свои скрюченные руки, с напряженными ртами, готовые царапать, кусать, рвать и кромсать на клочья любую плоть, чтобы проложить себе дорогу среди толпы к этому входу в зловонный мрак. Их молчание было полно ярости и угрозы.
Подталкиваемый толпой монстров, я вошел в пещеру. Это был грот, темный и глубокий, один из тех подземных галерей, где проходили акведуки Анджевенов, которые образуют в подземном Неаполе необозримый и неисследованный лабиринт. Время от времени эти галереи проявляются на свету, образуя на улицах внезапно возникающие колодцы. Еще Бокаччио[760] рассказывал об этих колодцах в новелле «Андреуччо да Перуджия». В этих мрачных пещерах, в этой тысяче гротов, пробитых в туфе, ютится странное оборванное население, которое обрело здесь убежище и безопасность от бомб; оно живет уже три года в скученной тесноте, валяясь в собственных экскрементах, засыпая на убогих ложах, принесенных из разрушенных домов, торгуя, меняя, справляя свадьбы и похороны, продолжая свои маленькие труды и свои дела, занимаясь темной контрабандой. Едва лишь я сделал несколько шагов по этому подземному городу, я обернулся и через отверстие входа увидел поднимающееся море. В это царство Плутона[761] разрывы бомб доносились совсем ослабленные, но стены пещеры колебались, и трещины, возникавшие в сводах и стенах из туфа, пропускали ручейки струящейся пыли. Я был окружен большим шумом, но шумом не плача, рыданий, скрежета зубов, а криками, пением, голосами, окликающими и откликающимися среди гула толпы. И я узнал старый и счастливый голос Неаполя, его подлинный голос. У меня было впечатление, что я нахожусь в Меркато, или выхожу на площадь, заполненную радостной толпой, возбужденную ритмами Пьедигротта[762] или литургическими песнопениями какой-нибудь процессии. Это был настоящий Неаполь, Неаполь живой, выживший, несмотря на три года бомбардировок, голода, эпидемий; это был Неаполь народный — улочек, подвалов, лачуг, кварталов, лишенных света, солнца, хлеба. Электрические лампы, подвешенные к сводам пещеры, освещали тысячи и тысячи лиц этой оборванной толпы; большое движение, которое заставляло ее двигаться по кругу, и создавали иллюзию большой площади какого-нибудь простонародного квартала Неаполя среди ночи, где происходит какое-нибудь важное, какое-нибудь известное народное празднество.
Я никогда не чувствовал себя таким близким этому народу, я, считавший себя до тех пор иностранцем в Неаполе, я никогда не чувствовал так свою близость к этой толпе, которую до этого дня считал отличной от меня, далекой и чужой. Я был покрыт пылью и потом, на мне была изодранная форменная одежда, у меня была длинная борода, руки и лицо засаленные и грязные; я всего несколько часов тому назад покинул тюрьму и находил, наконец, в этой толпе немного человеческого тепла, человеческой взаимной привязанности, человеческой солидарности, нищету той же нравственной природы, что и моя, но большую, более глубокую, быть может более настоящую, быть может более древнюю, чем моя, страдание, которому его древность, его фатальность, его природная таинственность придавали священное значение и по сравнению с которым мои страдания были только человеческими и недавними, без глубоких корней в моем прошлом, страдания, не отмеченные безнадежностью, страдания, освещаемые большими и прекрасными надеждами, рядом с которыми мое несчастное и пошлое отчаяние было лишь тщедушным чувством, за которое мне становилось стыдно.
Вдоль стен пещеры пылали огни — в тех местах, где смещения туфа образовали углубления вроде ниш или где боковые ответвления Анджевенского акведука отходили от основного русла подземной реки, чтобы углубиться в недра горы. На этих огнях кипели кастрюли с супом, это, должно быть, была народная кухня; Муссолини запретил их в Неаполе, но народ, предоставленный самому себе вследствие бегства принцев и богачей, организовал их своими средствами, чтобы пользоваться взаимопомощью и не умирать с голода. Запах похлебки из потатов[763] и сухой фасоли поднимался над этими кастрюлями и раздавался знакомый крик: «Doie lire! Doie lire’na minesta’e Verdura, doie lire!»[764]
Поднятые сотнями рук глиняные тарелки, миски, бидоны белой жести, сосуды всех видов мелькали над этим океаном голов, всплывали над поверхностью толпы, блестели или белели в свете электрических ламп и красных отблесках огней; было слышно, как губы втягивают и сосут, челюсти грубо и энергично жуют, звенят тарелки и оловянные или железные убогие столовые приборы.
Время от времени звуки жевания прекращались, челюсти останавливались в неподвижности, голоса и крики умолкали, возглас человека, поджаривающего картофель, или продавца воды застывал на губах, и все прислушивались. Страшное молчание, прерывающееся только хриплым и свистящим дыханием толпы, сменяло шум и крики. Разрыв бомбы слабо доносился до пещеры, отдаваясь из грота в грот до глубин мрачных внутренностей горы, смешиваясь с шумом прибоя. Наступало религиозное молчание, пауза не ужаса, но волнения и сострадания. «Бедняги!» — воскликнул кто-то возле меня, думая о страданиях в разрушенных домах и о тех, кто заживо погребен под развалинами в подвалах и жалких убежищах портовых кварталов.
Все громче, нарастая, из глубины пещеры слышалось пение: группы женщин хором исполняли слова литии по усопшим, страшные священники — оборванцы, бородатые, неправдоподобно грязные, в черных сутанах, совсем побелевших от штукатурки, — присоединили свои голоса к женскому хору, время от времени прерывая пение, чтобы благословлять толпу, отпускать всем этим людям их грехи на варварской латыни, перемешанной с неаполитанскими словами. Толпа выкрикивала имена своих покойников и имена тех своих близких, кто находился в опасности, обитая в портовых кварталах, уничтожаемых бомбардировками, или находился в море в связи с войной. Толпа кричала: «Michee! Rafiliii! Carmiliii! Cuncitii! Mariii! Genariii! Pascaaa! Pepiii! Maculatiii!» И все протягивали к священникам руки со сжатыми кулаками, как будто они зажимали там какие-то реликвии, связанные с дорогими усопшими, — прядь волос, лоскут материи или кожи, обломок кости. Издали доносился долгий необузданный плач. В течение нескольких минут огромная толпа захлебывалась рыданиями, бросалась на колени, воздевая руки к небу, выкрикивая обращения к Мадонне Кармеля[765], святому Януарию[766], святой Лючии, в то время как грохот бомб приближался, сотрясая землю, отдавался в недрах издолбленной тоннелями горы, проносился горячим дыханием в этих зловонных пещерах.
Потом, внезапно, как только разрывы бомб стали более отдаленными, музыкальные призывы изготовителей жареного картофеля, продавца картофельных пончиков, торговца водой («Свежая вода! Свежая вода!») одержали верх, прерываемые жалобными сетованиями женщин и угрюмым распевом гнусавых священников. Послышалось звяканье монет, бросаемых в кружку для сбора милостыни, которую исхудалые монахи отталкивающего вида и испитые монахини несли, встряхивая, среди толпы. Там и здесь раздавался смех. Раскат горьковатого смеха, пение, веселый голос, женское имя раздавались и размножались эхом вокруг. Старый шум Неаполя, его прошлый голос восстанавливались и поднимались, звонкие, как голос моря.
Внезапно вскрикнула женщина, почувствовавшая приближение родовых мук, она умоляла и стонала, с завываниями, словно собака ночью. Десять, сто импровизированных акушерок и кумушек с взъерошенными волосами, с глазами, в которых блистала радость, пробились сквозь толпу и сомкнулись вокруг роженицы, которая снова испустила громкий крик. Кумушки оспаривали друг у друга право подержать новорожденного. Одна из них, наиболее подвижная и смелая старуха с всклокоченными волосами, толстая и оплывшая, вырвала его у соперниц, сжимала его, ощупывала, поднимала, чтобы избежать давки, вытерла полой своего платья, плюнула ему в лицо, чтобы его помыть; она обмывала его, в то время как священник приближался, чтобы его окрестить.
— Немного воды! — крикнул он. Все протягивали бутылки, чайники, кастрюли. «Назовите его Бенуа! Назовите его Бьенвену, назовите его Жанвье! Жанвье! Жанвье!» — кричали в толпе.
Эти крики, эти имена утонули в глубоком подземном шуме, в котором пение, смех, певучие выкрики лоточников, продавцов воды и жареного картофеля перемешивались, как разрозненные такты одной единственной песни, одной единственной жизни, мешаясь с ржанием лошадей, которых извозчики укрыли от опасности в этом убежище. И огромная пещера действительно казалась большой ночной площадью в ночь конкурса Пьедигротта, когда крики празднества умолкают в городе, и толпа, возвращающаяся из Пьедигротта, выйдя из маленьких открытых колясок, останавливается на площади, чтобы немного подышать свежим воздухом перед сном, выпить последний стакан отжатого лимонного сока, съесть последний «таралло», и вокруг слышатся только пожелания доброй ночи, фразы прощания и крики «всего наилучшего», разъединяющие кумовьев, друзей и родственников.
Уже группы детей возвещали с порога пещеры, что опасность миновала, уже передавали из уст в уста о разрушениях и обвалившихся зданиях, о погибших, раненых, заживо погребенных в руинах, уже толпа начинала продвигаться к выходу, когда с высоты укрепления, воздвигнутого из каких-то обломков мебели в глубокой нише пещеры, как будто с внезапно открывшегося балкона высокий субъект, с лицом, окруженным густой черной бородой, начал поднимать руки и, наклоняясь во весь свой рост над толпой, кричать диким и ужасным голосом: «А! Потаскухи! А! Потаскухины дети! Вот где бардак! Убирайтесь вон! Убирайтесь вон!» И он делал обеими руками жест, изгоняющий посторонних из окрестностей своего замка, зевая и протирая глаза, не только как будто его только что вытащили из постели, прервав его глубокие сон, но как будто эта огромная чуждая толпа вызвала в нем недоверие, угрожая какой-то только ему присвоенной привилегии, касающейся этого подземного королевства, где он обосновался как господин и сеньор.
И тогда я поднял глаза — так сильна была для меня иллюзия, что я нахожусь в стороне улицы Катапане Октрои дю Сел, Эписери-Вьелле, внизу, возле порта, — я поднял глаза к этому черному туфовому небу, чтобы поискать на горизонте Везувий, его маленькую пенковую трубку, зажатую в зубах, его дымный розовый фуляр вокруг шеи, точно у старого моряка, смотрящего на море через свое окно. Постепенно все эти люди, смеющиеся, болтающие и окликающие друг друга, словно при разъезде со спектакля, выходили через отверстие пещеры на дневной свет, пошатывались и, поднимая глаза, с тревогой смотрели на густое облако пыли и дыма, покрывавшее весь город.
Небо было тускло-голубое, море — блестящее и зеленое. Посреди толпы людей, поднимавшихся к улице Толедо, я на ходу осматривался вокруг в надежде натолкнуться на какого-нибудь знакомого, встретить друга, который даст мне приют на ночь, до прибытия в порт маленького пароходика из Капри, который отвезет меня домой. Прошло уже два дня с тех пор, как пароходик из Капри покинул Санта Лючию. Бог знает, сколько дней еще придется мне ожидать возможности вернуться к себе! Близился час заката, жара постепенно становилась влажной и тяжкой, и у меня было ощущение, что я иду, окутанный шерстяным покрывалом. Справа и слева, с обеих сторон улицы, поднимались огромные груды развалин, казавшихся мне гораздо более жестокими, более могильными под этим нежным небом из синего шелка, чем руины Варшавы, Белграда, Киева, Гамбурга, Берлина под их небом, жестким и меняющимся, дождливым, холодным и белесым. Чувство ледяного одиночества сжимало мое сердце, и я смотрел вокруг в надежде узнать чье-либо дружеское лицо среди этих орд оборванных людей, в чьих глазах, побледневших от голода, бессонницы и тревоги, светился чудесный огонь отваги и достоинства.
Банды ребятишек располагались лагерями среди обрушенных домов. При помощи убогой мебели, состоящей из матрасов, соломенных стульев, кастрюль, глиняной посуды всех видов, отрытой ими в нагромождениях деревянных балок и скрученного взрывами железного лома, они оборудовали свои берлоги, вырытые в горах штукатурки, и жалкие хижины, созданные между уцелевших стен. Возле самодельных очагов занятые делом девочки готовили в старых консервных банках обед мальчишкам, самые маленькие из которых играли среди обломков, не заботясь ни о чем, кроме своих стеклянных шариков, разноцветных камешков и обломков зеркала, тогда как более взрослые от рассвета до заката в поисках какой-нибудь еды или работы готовы были оказать любую услугу, например, отнести чемоданы и узлы из одного конца города в другой, помочь эвакуируемой семье перетащить ее скарб на вокзал или в порт. Они тоже принадлежали к этой одичавшей семье брошенных детей, к «besprisorni»[767], которых я уже видел в Киеве, в Москве, в Ленинграде, в Нижнем Новгороде в те годы, которые последовали в России за окончанием гражданской войны и великим голодом. Под этими развалинами, в которых они устроили свои убогие логовища и построили свои хижины из белой жести и обгорелых досок, быть может дышал еще кто-нибудь из многочисленной толпы заживо погребенных, над которой три года войны, разрушений и избиений возвели фундамент этого нового Неаполя, более оборванного, более изголодавшегося, более окровавленного, но, вместе с тем, более чистого, более благородного и более подлинного, чем старый. Аристократы, богачи и властители покинули город, лежащий в развалинах. Здесь оставалась только неисчислимая армия оборванных людей, с глазами, полными старой ненасытной надежды, и эти «besprisorni», с жесткими линиями ртов, с непокрытыми лбами, на которые одиночество и голод нанесли татуировку ужасных и таинственных слов. Я ставил ноги на ковер разбитого стекла, на кучи штукатурки, на последние обломки всеобъемлющего кораблекрушения, и древняя надежда пробуждалась во мне.
Время от времени меня останавливал испуганный крик:
— Mo’vénne! Mo’vénne! (Вот оно начинается! Вот оно начинается!). Я видел группы детей и собак, отступающих, подняв головы, или бегущих, чтобы найти безопасное место, тогда как другие оставались сидеть на земле, внимательно следя за стеной, находившейся в неустойчивом равновесии, которая внезапно рушилась, подняв огромное облако пыли. При глухих раскатах обвала поднимался радостный крик: дети и собаки бежали снова обратно в развалины, чтобы ликвидировать тот ущерб, который обвал причинил занятым ими местам.
По мере того, как я спускался к рынку, руины встречались все чаще: несколько домов горело, и толпа оборванных мужчин и женщин пыталась тушить пожары подручными средствами: одни — совковыми лопатами захватывали мусор и бросали его на огонь, пока он не угасал, другие передавали из рук в руки ведра с морской водой, которые последние звенья этой цепи черпали в порту, третьи вытаскивали из руин деревянные балки, мебель, куски дерева (всё это могло гореть) и уносили их подальше от огня. Повсюду в городе царили беготня со всех ног, взаимопомощь, переноска мебели из домов в развалины и отверстия пустых пещер и расселин в туфе; приезжали и уезжали тележки с овощами, туда, где народ скапливался особенно густо в поисках убежищ и безопасности.
Перекрывая крики и грохот, всюду доминировали чистые и безразличные музыкальные призывы продавцов воды: «Свежая вода! Свежая вода!» На улицах центра отряды полицейских наклеивали поверх плакатов с портретом Муссолини и надписью «Viva il Duce!»[768] новые — с портретами короля Бадоглио, с надписью: «Да здравствует верный Неаполь! Да здравствует монархический Неаполь!», и это было единственной помощью, которое новое правительство оказывало в этой замученной жизни. Обозы спускались по улице Чиайя и на площади Жертв, увозя к морю руины, загромождавшие улицы. За ними следовали колонны немецких солдат. Они разгружали их на рифах улицы Караччиоло, на отведенном для этого пространстве, там, где возвышается Колонна Догали. И так как среди этого мусора там и здесь встречались руки, головы, остатки человеческих тел в стадии разложения, трупный запах был ужасающим, и когда проезжали мимо эти повозки, люди бледнели. На повозках сидели зеленые от усталости, пережитого страха, бессонницы и отвращения люди, представляющие разновидность «монатти», в большинстве своем возчики из окрестностей Везувия, привыкшие каждое утро привозить в город на этих самых повозках овощи и фрукты на рынки рабочих кварталов.
Все старались помогать друг другу, и можно было видеть бескровных и исхудавших людей, которые бродили среди руин с бутылями и кастрюлями, полными воды, или с кастрюлями супа, стараясь распределить эту жалкую еду и эти капли воды между самыми беспомощными бедняками, самыми старыми и хворыми, лежащими среди развалин в тени стен, угрожающих обвалом. Улицы были забиты грузовыми машинами, трамваями, покинутыми на скрученных рельсах, повозками с мертвыми лошадьми в оглоблях. Тучи мух жужжали в пыльном воздухе. Молчаливая толпа, собравшаяся на площади возле театра Сан Карло, казалась только что пробудившейся от глубокого сна.
На лицах были написаны ошеломление и страх, в глазах отражались мертвенная бледность и холод. Люди стояли у закрытых магазинов, на витринах которых занавеси из волнистого листового железа были изрешечены осколками бомб; время от времени на площадь выезжали тележки, их тянули маленькие и тощие несчастные ослики; повозки были нагружены изломанной мебелью и предметами обстановки, за ними следовали банды оборванцев устрашающего вида, бежавших вприпрыжку, волоча ноги в пыли и строительном мусоре и глядя вверх; они смотрели на небо и кричали одним и тем же голосом без остановок и передышки: «Mo’véneno! Mo’véneno! Е bi’! Е bi’! Е bi’lloco!», что означало: «Вот они! Вот они. Ты видишь их там?» При этом монотонном крике толпа менялась в лицах, обращала глаза к небу, и крики «Mo’vëneno» и «Е bi’, е bi’» повторялись, передаваясь из группы в группу, с тротуара на тротуар; но никто не шевелился и не спешил бежать, как будто этот крик, ставший обычным, этот привычный страх, эта опасность, ставшая теперь постоянной, не внушала более ужаса, или как будто страшная усталость отняла у этих людей все — даже до стремления бежать от опасности и искать укрытия. Наконец, в небе слышалось пчелиное жужжание, высокое и отдаленное, и толпа бросалась во дворы, исчезала, словно по волшебству, спускаясь в пещеры, пробитые в склонах гор. Оставались только несколько стариков и детей, бродивших на пустынных улицах, и несчастная женщина, отупевшая от голода, которую кто-то, появившийся из зева пещеры, среди развалин, хватал за руку и тянул в убежище.
Над обрушенными домами и над чудом сохранившимися зданиями что-то торжествовало такое, в чем мне не удавалось сначала отдать себе отчет. Это было великолепное и жестокое синее небо Неаполя и, однако, по контрасту с ослепительной белизной штукатурки в эту жаркую пору лета, с грудами развалин, казавшихся меловыми, с трещинами стен, выделявшимися там и здесь незапятнанной чистотой, — оно казалось черным, казалось таким темно-синим, каким бывает небо в звездные и безлунные ночи. В некоторые мгновения думалось, что оно сделано из какого-то твердого материала, может быть, из черного камня.
Мрачный и траурный, со своими белыми полуобрушенными стенами и угасшими огнями, город простирался под этой жесткой синевой — черной, жестокой и удивительной.
Члены королевской семьи, аристократы, богачи, буржуа, власти, — все покинули Неаполь. В городе оставались только бедняки, неисчислимый народ бедняков. Оставался только огромный девственный и таинственный «континент неаполитанцев». Я провел ночь в доме одного друга в Колашоне, старом доме, вершина которого поднималась над крышами Чиатамоне и пляжем Кьайа. Утром с откоса Пиццофальконе я увидел маленький пароходик из Капри, стоявший на якоре у мола Санта-Лючии. Мое сердце подскочило в груди, и я бросился по склону холма вниз к порту.
Но я не успел пройти по Монте ди Дио, чтобы углубиться в лабиринт Паллонетто, как одно слово начало возникать вокруг меня, прошептанное кем-то потихоньку с таинственной интонацией. Оно слетало вниз с балконов и из окон, выходило из темных недр опустошенных «басси» в глубинах дворов и переулков. Оно мне сначала показалось новым словом, никогда еще не слышанным ранее или, может быть, забытым, Бог знает как давно, в глубинах моего подсознания. Я не понимал его смысла, не мог ухватить его. Для меня, возвращавшегося из четырехлетнего путешествия сквозь войну, убийства, голод, сгоревшие деревни и разрушенные города, — для меня оно было непонятным словом, которое звучало в моих ушах словно иностранное слово.
Вдруг я услышал, как оно вышло — чистым и прозрачным, будто кусок стекла, из дверей одного «бассо». Я подошел к этой двери и заглянул внутрь. Это была бедная комната, почти целиком занятая огромной железной кроватью и комодом, на котором я заметил один из этих стеклянных шаров, которые обычно защищают от литья из воска скульптурные изображения Святого Семейства. В углу над очагом, в котором горел древесный уголь, шел пар из кастрюли. Старуха, наклонившись над очагом, раздувала угли и махала на них полой своей юбки, задрав ее и держа обеими руками. Но в это мгновение она была почти неподвижна и насторожена, повернув лицо к дверям. Ее поднятая юбка позволяла видеть ее желтые и костлявые бедра, колени, блестящие и гладкие. Кошка дремала на красном шелковом покрывале, разостланном на кровати. В колыбели, перед комодом, спал грудной ребенок. Две молодые женщины стояли на коленях на каменном полу, соединив руки, подняв лица к небу в позе экстатической молитвы. Древний старец сидел между кроватью и стеной, укутанный зеленой шалью с розовыми и желтыми цветами. У него было бледное лицо, сжатые губы, глаза, расширенные и пристальные, и его правая рука, лежавшая вдоль тела, показывала пальцами рожки в жесте заклинания нечистых духов. Он был похож на статуи этрусков, которых изображали лежащими на саркофагах. Старик пристально смотрел на меня. И вдруг он пошевелил губами. Одно только слово вылетело ясно и отчетливо из его беззубого рта: «O’sangue!»[769]
Я отступил, удивленный и испуганный. Это слово внушало мне отвращение. В течение четырех лет слово, ужасное, жестокое и отвратительное немецкое слово: «Blut, Blut, Blut!»[770] билось в мои уши, как журчанье воды, льющейся из крана: «But, Blut, Blut.» Теперь это же самое слово, произнесенное по-итальянски, слово «sangue» внушало мне страх и отвращение, вызывало во мне тошноту. Но в этом голосе, в этой интонации был резонанс, показавшийся мне чудесным. Это было сладостное слово, слетевшее с губ этого древнего старца, это слово «O’sangue». Слово удивительно древнее и новое. Мне казалось, что я услышал его впервые и, однако, оно имело знакомый моему уху и очень сладостный звук. Но это слово, казалось, сразило двух молодых женщин и старуху, потому что они сразу поднялись, крича: «O’sangue! O’sangue!» Затем они вышли через дверь, сделали, пошатываясь, несколько шагов посредине улицы, все время выкрикивая это слово и одновременно вырывая себе волосы и царапая ногтями свои лица, потом, внезапно, они побежали за группой людей, поднимавшихся к церкви Святой Марии Египетской[771] и тоже кричавших: «O’sangue! O’sangue!»
Я пошел, я также пошел позади этой кричавшей толпы, и по мосту Чиайя мы подошли к церкви Святой Терезы Испанской[772]. По всем переулкам, спускавшимся, как ручьи, с вершины горы к улице Толедо, огромное количество народа бежало, с лицами, несшими выражение тревоги, безнадежности и невыразимой любви. В верхней части этих переулков виднелись другие скопления людей, поднимающихся вдоль по улице Толедо, там, совсем внизу, вопли, в которых я различал только крик: «O’sangue! O’sangue!»
Это было впервые после четырех лет войны, впервые за весь мой жестокий путь — сквозь избиения, голод, разрушенные города — впервые я услышал, как произносят слово «Кровь» с таинственным и священным выражением. Во всех частях Европы: в Сербии, в Кроации, в Румынии, в Польше, в России, в Финляндии это слово нашло отзвук ненависти, страха, презрения, радости, ужаса, жестокой и варварской услужливости, чувственного удовольствия, с оттенком, всегда внушавшим мне ужас и отвращение. Слово «Кровь» стало для меня страшнее, чем даже сама кровь. Трогать кровь, омочить руки в этой несчастной крови, лившейся во всех странах Европы, не причиняло мне такого отвращения, как слышать это слово «Кровь». Между тем, в Неаполе, именно в Неаполе, в самом несчастном, в самом голодном, в самом униженном, самом замученном из городов Европы, в самом жалком из городов Европы, я слышал, как слово «Кровь» произносят с религиозным уважением, со священным страхом и глубоким чувством милосердия — этими ясными, чистыми, невинными и приятными голосами, которыми обладают неаполитанцы, когда они произносят слова: мама, дитя, небо, Мадонна, хлеб, Иисус — с той же невинностью, с той же чистотой, с той же располагающей искренностью. Из этих беззубых ртов, из этих губ, бледных и увядших, этот крик «O’sangue! O’sangue!» поднимался как заклинание, как молитва, как священное имя. Века и века голода, порабощения, варварства, украшенного тогами[773], палюдаментами, коронами и грязью, века и века несчастий, холеры, коррупции, позора не смогли затушить в этом народе, благородном и несчастном, священное уважение к Крови. Крича и плача, воздевая руки к небу, толпа бежала к собору. Она заклинала кровь с чудесным безумием, оплакивая кровь, пролитую напрасно, кровь потерянную, землю, омытую кровью, лохмотья, пропитавшиеся кровью, драгоценную кровь людей, смешавшуюся с пылью дорог, сгустки крови на стенах тюрем. В лихорадочных глазах толпы, на лбах, бледных, костистых, влажных от пота, в руках, воздетых к небу и содрогающихся от великого потрясения, видна была набожность, священный ужас: «O’sangue! O’sangue!»
После четырех лет войны — жестокой, кровожадной, безжалостной, я впервые слышал, как это слово произносят с религиозной боязнью, со священным почитанием. И я слышал его на устах этих людей, изголодавшихся, преданных, покинутых, не имеющих ни хлеба, ни кровли над головой, ни могил. После четырех лет это слово звенело снова как слово божественное. Чувство надежды, покоя, мира возникали во мне при звуках этого слова: «O’sangue! O’sangue!» Наконец, я достиг конца моего долгого пути: это слово для меня действительно было портом назначения, последней моей станцией, дебаркадером, молом, у которого я, наконец, мог коснуться земли людей, родины людей просвещенных.
Небо было чистым. Зеленое море расстилалось к горизонту, как необозримый луг. Солнечный мёд струился вдоль фасадов, украшенных бельем, развешанным от окон до окон для просушки. Вдоль карнизов кровель, вдоль края стен, ставшего кружевным от изорвавших стены бомб, на приоткрытых, словно края ран, трещинах дворцовых фасадов небо отсвечивало, словно нежные синеватые десны. Мистраль[774] доносил запахи, вкус моря, юный скрип судов, касавшихся подводных камней у берега, одинокие и жалобные крики моряков. Небо стекало, как синяя река, на этот город в руинах, полный мертвецов, лишенных могил, на единственный в Европе город, где кровь человека была еще священной, на этот народ, добрый и сочувствующий, который испытывал еще к человеческой крови уважение, стыдливость, любовь и почитание, на этот народ, для которого слово «Кровь» было еще словом надежды и спасения. Достигнув закрытых дверей собора, толпа упала на колени, громкими криками требуя, чтобы эти двери открылись, и заклинание «O’sangue! O’sangue!» колебало стены домов, полное священного стремления, религиозного безумия.
Я спросил у человека, стоявшего со мной рядом, что произошло. В городе пронесся слух, что на собор упала бомба и разрушила крит, где хранились две раки, содержащие драгоценную кровь Святого Януария. Это был только слух, но он пронесся по городу словно молния, проник в самые дальние и темные переулки, в пещеры, самые глубокие. Можно было подумать, что до этих пор за все четыре года войны не было пролито и одной капли крови, что, несмотря на миллионы погибших, усеявших Европу своими телами, здесь верили, что ни одна капля крови не увлажнила землю. При известии, что два драгоценных сосуда были разбиты, что несколько капель свернувшейся крови утрачены, — казалось, весь мир покрылся кровью, что вены всего человечества были перерезаны, чтобы насытить ненасытную землю. Но вот на лестнице показался священник собора, поднял руки вверх, предписывая молчание, и объявил, что драгоценная Кровь спасена.
«O’sangue! O’sangue!» Толпа, стоя на коленях, плакала, взывая к Крови; у всех были смеющиеся лица, и слезы радости блестели на этих истощенных от голода лицах. Глубокая надежда проникла в сердца всех, как будто отныне ни одна капля крови не должна будет упасть на жаждущую землю.
Чтобы спуститься в порт, я пересекал улицы, находящиеся позади Французской площади, заваленные огромными кучами руин. Запах непохороненных трупов отравлял воздух. Черные тучи мух издавали среди стен тревожное гудение. Облако густого дыма поднималось над портом. Меня мучила страшная жажда: губы мои распухли и были черны от мух. Все фонтаны умерли, во всем городе не было капли воды. Повернув возле Двух Львов, я вернулся обратно к Меркаданте. Маленький мертвый ребенок лежал на проезжей части; казалось, он спал. Ореол мух окружал его лицо, изрезанное страшными морщинами. Я свернул на улицу Медина: в глубине ее, позади статуи Меркаданте, горел дом; группы детей, играя, преследовали друг друга с громкими криками. При звуке моих шагов тучи мух, жужжа, поднимались, садились на мое лицо, потное и пыльное, заполняли орбиты моих глаз. Невероятное зловоние исходило из куч мусора, но слегка солоноватый запах моря проникал всюду. В глубине улицы Медина я увидел маленький бар. Он был открыт. Я побежал бегом и остановился на пороге, задыхаясь. Мраморная стойка, усеянная осколками стекла, была пустынна. У металлического столика сидел мужчина, полный и вялый, одетый в трикотажную майку с короткими рукавами. Его отвисшая волосатая грудь выступала из-под майки, которую пот приклеивал к коже. Человек обмахивался газетой, сложенной вдвое, и время от времени вытирал лоб грязным носовым платком. Облако мух жужжало в воздухе; тысячи, десятки тысяч мух сидели на потолке, на стенах, на разбитых зеркалах. Позади стойки на стене висели портреты короля, королевы, принца и принцессы Пьемонтских. Все они тоже были черны от мух.
— Можете ли вы дать мне стакан воды? — спросил я.
Человек смотрел на меня и продолжал отмахиваться.
— Стакан воды? — повторил он.
— Я очень хочу пить, просто не могу больше.
— Вам хочется пить и вы хотите стакан воды?
— Да, — сказал я, — стакан воды. У меня адская жажда.
— Хе, стакан воды! — воскликнул человек, поднимая брови.
— Разве вы не знаете, что это вещь драгоценная? Не осталось больше ни капли воды во всем Неаполе. Мы сначала умирали от голода, потом мы умирали от жажды, и если мы все еще живы, то мы умираем от страха!
— Хорошо, — ответил я, садясь за другой столик. — Я буду ждать, пока кончится война, чтобы напиться.
— Надо набраться терпения, — сказал мужчина. — Я, видите ли, я никуда не тронулся из Неаполя. Вот уже три года, как я жду здесь конца войны. Когда попадают бомбы, я только зажмуриваюсь. Я не двинусь отсюда, даже если они обрушат на землю всю постройку. Остается набраться терпения. Мы еще посмотрим, у кого окажется больше терпения: у войны или у Неаполя. Вы правда хотите стакан воды? Под стойкой вы найдете бутыль, в ней, наверно, осталось еще немного воды. Стаканы здесь.
— Спасибо, — ответил я.
Под стойкой я нашел бутыль, в которой оставалось немного воды. На этажерке были вытянуты в линию останки примерно двадцать стаканов; ни одного такого, из которого можно было бы пить. Я напился из горлышка бутыли, отгоняя рукой мух от своего лица.
— Проклятые мухи! — воскликнул я.
— Вот это верно, — сказал мужчина, обмахиваясь газетой, — проклятые мухи!
— Почему вы в Неаполе не объявите тоже войну мухам? — спросил я. — У нас в Северной Италии — в Милане, в Турине, во Флоренции и даже в Риме — муниципалитеты организовали борьбу с мухами. Не осталось больше ни одной мухи в наших городах.
— Нет больше мух в Милане?
— Ни одной. Мы их всех убили. Это вопрос гигиены, таким образом предупреждают распространение болезней, инфекций.
— Хе, но мы в Неаполе тоже немного воевали с мухами. Мы действительно вели войну против мух. Вот уже три года, как мы воюем с мухами.
— Но почему же тогда так много мух в Неаполе?
— Хе, что вы хотите, сеньор, это мухи оказались победителями!
Песчанки на Украине. Август 1941 г.
Пунта дель Массулло, Капри. Сентябрь 1943 г.
Фрагменты переводов
Антуан де Сент-Экзюпери Цитадель
I
Ибо я слишком часто видел, как жалость сбивается с пути. Но мы, руководители людей, научились исследовать их сердца для того, чтобы уделять наши заботы только достойным внимания. И что касается жалости, то я отказываю в ней ранам тщеславия, мучающим сердца женщин, равно как умирающим и равно как мертвым. И я знаю почему это так.
В моей молодости было время, когда я испытывал жалость к нищим, к их язвам. Я нанимал для них исцелителей и покупал лекарства. Караваны доставляли мне с далекого острова ценимые на вес золота мази, которые наращивают на раны новую кожу. Так поступал я до того дня, когда понял, что нищие держатся за свое зловоние как за редкую роскошь, когда подсмотрел, как они расчесывали и смазывали пометом свое тело, как делает тот, кто унаваживает землю, чтобы она вырастила ему пурпурный цветок. Они с гордостью демонстрировали друг другу свои гнойники и тешили свое тщеславие полученными пожертвованиями, потому что тот, чья выручка была больше, вырастал в собственных глазах, подобно тому первосвященнику, который показывает самого прекрасного идола. Если они соглашались подвергнуться осмотру моего врача, то лишь в надежде, что их язва поразит его своей величиной и отвратительным видом. И они размахивали своими культями, чтобы удерживать свое место в мире. Итак, они соглашались принять заботу о себе как почесть, предоставляя свои члены лестным для них омовениям, но едва только болезнь начинала излечиваться, как они без нужды срывали повязки, словно чувствовали себя ненужными, не вскармливая собой своих болезней, и были отныне озабочены лишь тем, чтобы воскресить свою язву. И, наконец, снова облачившись в свою болезнь, гордые и бесполезные, они продолжали свой караванный путь, с деревянными плошками в руках, занимаясь вымогательством у путешественников во имя своего нечистоплотного бога.
Было также время, когда я испытывал жалость к мертвым, думая, что тот, кого я предоставлял его участи в пустыне, погибает в безнадежном одиночестве; я еще не предвидел, что нет никогда одиночества для тех кто, умирает. Я еще не сталкивался с их снисходительностью.
Но мне случалось видеть эгоиста или скупца, который громко негодовал против того расхищения, которым ознаменовывались его последние часы, просил, чтобы вокруг него собрали всех близких его дому и затем разделявшего свое добро в пренебрежительной справедливости, как будто ничтожные игрушки, распределяемые среди детей.
Я видел малодушного раненого, который кричал, призывая на помощь, не проявляя величия в минуту серьезного испытания, внезапно умолкавшим и отказывавшимся от всякой помощи, как только он начинал сознавать, что требуемая им помощь подвергнет опасности его товарищей. Мы прославляем такую самоотверженность. Но я не находил в ней ничего иного, кроме признаков затаенного презрения. Я знаю таких, которые делят с другими содержимое своей фляжки в то время, как их иссушивает солнце, или последнюю корку хлеба в самом разгаре голода. И это, прежде всего, потому, что они не сознают больше необходимости в этом, и в царственном неведении предоставляют другому глодать эту кость.
Я видел женщин, оплакивающих мертвых воинов. Но ведь это мы же сами их обманули! Мы видели, как они возвращались невредимыми и прославленными, с большим шумом рассказывающими о своих подвигах, приводящими в качестве свидетельства испытанных опасностей смерть других, смерть, которую они называют ужасной, оттого, что она могла постигнуть так же и их самих. Я сам в молодости любил чувствовать над своей головой этот ореол сабельных ударов, полученных другими. Я возвращался, воспевая своих погибших товарищей и их страшную участь. Но тот, кто избран смертью, занятый своей кровавой рвотой или тем, чтобы удержать свои выползающие внутренности, он один открывает истину — узнает, что ужаса смерти не существует. Его собственное тело предстает перед ним, как инструмент отныне бесполезный, переставший служить ему, и он отбрасывает это тело, изношенное и не скрывающее от него свое разрушение. И если это тело испытывает жажду, умирающий не ощущает ничего, кроме жажды, которую хорошо было бы утолить. И тогда становятся бесполезными все его члены, служившие для украшения, питания, ублажения этого наполовину уже чуждого ему тела, которое теперь не больше чем его домашняя собственность, вроде осла, привязанного к столбу у его дома.
Тогда начинается агония, которая суть не что иное как колебания сознания, последовательно опустошаемого и наполняемого волнами воспоминаний. Эти волны приходят и уходят, как волны прилива и отлива, принося и унося весь запас образов, все ракушки, сбереженные памятью, все звуки всех слышанных когда-либо голосов. Они снова поднимаются, вновь омывают водоросли сердца, и вот вся нежность этого сердца снова оживает. Но равноденствие подготовляет окончательный отлив, сердце опустошается. Эти волны уносят все свое достояние, уходят и воссоединяются в Боге.
Конечно, я видел людей, бегущих от смерти, заранее охваченных испугом. Но те, кто умирает — разуверьтесь — я никогда не видел их ужасающимися.
Так почему же я стал бы сожалеть о них? Почему буду я терять время, оплакивая их кончину? Я слишком хорошо постиг превосходство мертвых. Что приходилось мне видеть более легкого, чем смерть этой пленницы, которая развлекала меня в мои шестнадцать лет? Когда ее принесли ко мне, она уже была поглощена своим умиранием, дыша такими укороченными вдохами и пряча в подушку свой кашель, словно газель в конце преследования, уже загнанная, но еще не подозревающая об этом. Она любила улыбаться, но эта улыбка была словно ветерок, пробежавший над рекой, словно след какой-то мечтательной мысли, или полоса, оставленная на воде проплывшим лебедем. Улыбка, день ото дня все более очищенная, более драгоценная и более мгновенная, до тех пор, пока она не стала такой чистой и неуловимой, как колебание воздуха, оставленное пролетевшим лебедем.
Также и смерть моего отца. Моего отца, завершенного и превратившегося в камень. Волосы убийцы седеют, — говорит пословица, — когда его кинжал, вместо того, чтобы опустошить бренное тело жертвы, наполняет его таким величием. Злоумышленника, спрятавшегося в царской опочивальне лицом к лицу не со своей жертвой, а с гигантским гранитным саркофагом попавшего в ловушку молчания, которого сам он является причиной, обнаруживают на рассвете приведенным в рабство одной лишь только недвижностью мертвого.
Так мой отец, которого цареубийство сразу утвердило в вечности, испустив свое последнее дыхание, заставил окружающих задерживать дыхание в течение трех дней. Языки развязались и плечи перестали чувствовать себя придавленными только лишь после того, как мы предали его земле.
Но он показался нам таким значительным, он, который не правил, но давил и оставлял на всем след своей личности, что, опуская его в могилу на едва выдерживавших этот груз канатах, мы ощущали себя не погребающими труп, но убирающими созревший хлеб в ригу. Он был таким же весомым, как первая плита закладываемого храма. И мы не зарыли его, но запечатали в земле, его, ставшего, наконец, тем, чем он и был — камнем.
Это он разъяснил мне смерть и научил, когда я был молод, смело смотреть ей в глаза, ибо сам, он никогда не опускал глаз. Мой отец был по крови орлом.
Это случилось в том проклятом году, который прозвали «Пиршеством Солнца», потому что солнце в тот год расширило пустыню. Оно блистало на песке, среди костей, сухих терновников, прозрачной кожи мертвых ящериц и верблюжьей травы, уподобившейся конскому волосу. Созидающее стебли цветов, оно поглотило свои создания и царило на их разбросанных трупах, как дитя на изломанных им игрушках. Оно высосало даже подземные источники и выпило воду редких колодцев. Оно вобрало в себя даже позолоту песков, которые стали столь пустынными, столь белыми, что мы окрестили этот край Зеркалом. Ибо зеркало точно так же не содержит в себе ничего, и образы его наполняющие не имеют ни веса, ни длительного существования. И еще потому, что зеркало иногда, как соляное озеро, обжигает глаза.
Погонщики верблюдов, если они сбивались с пути, попадались в эту ловушку, которая никогда не отдавала того, что ею было захвачено. Вначале они не сознавали этого. И влачили, будто тень от солнца, призрак своего существования. Прилипшим к этому световому клею, им казалось, что они еще идут, уже поглощенные вечностью, казалось, что они еще живы. Они гнали вперед свои караваны, туда, где никакое усилие не могло противостоять неподвижности пространства. Идя к колодцу, которого больше не существовало, они радовались свежести сумерек, тогда как отныне эти сумерки были для них лишь бесполезной отсрочкой. Они сожалели, быть может, — о, простаки, — что ночи слишком долги, в то время как вскоре ночи станут проходить над ними, подобные миганию ресниц. И, переругиваясь между собой своими гортанными голосами по поводу мелких несправедливостей, они не знали, что им справедливость уже оказана.
Ты полагаешь, что здесь торопится караван? Дай минуть двадцати столетиям и вернись посмотреть!
Растворенные во времени и превращенные в песок призраки, выпитые зеркалом, — такими я сам их обнаружил, когда отец мой, чтобы наставить меня смерти, посадил меня на лошадь и увез вместе с собой.
— Здесь, — сказал он, — был колодец.
В глубине одной из этих вертикальных труб, которые настолько глубоки, что не отражают более чем одну звезду, даже грязь затвердела, и плененная здесь звезда угасла. А отсутствия одной единственной звезды также достаточно, чтобы уложить караван на месте, как и подготовленной на его пути засады.
Люди и животные напрасно стеснились вокруг узкого жерла, словно вокруг оборвавшейся пуповины, чтобы извлечь из груди земли влагу для своей крови. Самые надежные работники, опустившиеся на дно этой бездны, напрасно царапали жесткую корку. Похожий на живых бабочек, в агонии корчащихся на булавках, роняя шелковистый ворс, пыльцу и золото своих крылышек, караван, пригвожденный к месту этим единственным пустым колодцем, уже начинал белеть в неподвижности нарушенных упряжек, развязанных узлов, рассыпанных алмазов, ценность которых стала равной щебню, и тяжелых золотых слитков, покрывавшихся песками.
И когда я смотрел на них, мой отец сказал: «Ты знаешь свадебные пиры, когда они уже покинуты гостями и возлюбленными. Рассвет обнаруживает беспорядок ими оставленный: разбитые глиняные кувшины, перевернутые столы, в очаге угасшие угли, — все сохраняет отпечаток происходившей сутолоки. Но расшифровывая эти следы, — сказал мой отец, — ты ничего не узнаешь о любви».
— Раскрой книгу Пророка, — сказал он мне также, — задерживаясь на обрисовке характеров или на золоте красочных заставок, — невежда не постигнет сущности, которая заключена не в бренной оболочке, а в божественной мудрости. Назначение восковой свечи — не в плавящемся воске, оставляющем пятна, а в свете.
Между тем как я трепетал, наблюдая на пустынном плато, похожем на алтарь древних жертвоприношений, эти остатки трапезы Бога, отец мой сказал еще:
— Того, что имеет значение, ты не увидишь во прахе. Не задерживайся взглядом на этих мертвецах. Здесь нет ничего, кроме повозок, поваленных для вечности по вине их сопровождавших.
— Тогда кто же наставит меня? — воскликнул я.
И отец мне ответил:
— Сущность каравана ты постигаешь тогда, когда он разрушается. Забудь шум напрасных слов и смотри: если каравану на его пути встречается пропасть, — он огибает эту пропасть, если перед ним поднимается скала — он уклоняется в сторону, если песок слишком сыпуч — он ищет в стороне, где песок более жесток, но всегда затем он принимает прежнее направление. Если соль солончака трескается и оседает под тяжестью его грузов, ты видишь, как он приходит в беспокойство, выводит из жидкой грязи животных и исследует почву, чтобы найти более надежную, но вскоре приходит в порядок и вновь продолжает путь в ту же сторону. Если падает какой-либо груз с одного из вьючных животных, это замечают, поднимают разбитые ящики, восстанавливают вьюки, стараются лучше привязать их и затянуть узлы веревок и затем продолжают ту же дорогу. Порой умирает тот, кто служил каравану проводником. Его окружают. Его зарывают в песок. Спорят. Потом избирают в проводники другого, пускаются в путь и принимают направление опять на ту же звезду. Караван восстанавливает таким образом необходимое ему направление. Он — как тяжелый камень, катящийся по невидимому откосу.
Городские судьи приговорили однажды молодую женщину, совершившую какое-то преступление, к тому, чтобы солнце сожгло нежную оболочку ее кожи, и попросту привязали ее к столбу в пустыне.
— Я покажу тебе, — сказал мне отец, — что вмещают в себе люди.
И он снова взял меня с собой.
Пока мы ехали, целый день прошел над нею, и солнце выпило ее теплую кровь, ее слюну и пот ее подмышек. Выпило из ее глаз всю влагу света. Ночь опускалась со своим кратким милосердием, когда мы приблизились, отец мой и я, к границе запретной площадки, где у каменистого утеса виднелась она, белая и обнаженная, более хрупкая, чем ветка, вскормленная сыростью, но сейчас — сломленная тяжелыми потоками ливня, безмолвно простирающая руки, словно виноградная лоза, уже надломленная потопом и взывающая к милосердию Бога.
— Слушай ее, — сказал мне отец, — она постигает сущность.
Но я был малодушный ребенок.
— Быть может, она страдает, — отвечал я ему, — и может быть, она боится…
— Она прошла уже через это, — сказал мне отец, — страдание и страх — это болезни животных, созданные для смиренного стада. Она постигает истину.
И я услышал ее жалобы. Окруженная этой безграничной ночью, она призывала к себе вечернюю лампу дома, и комнату, где все собирались, и дверь, которая хорошо закрылась за ней. Предоставленная всей вселенной, которая не позволяла видеть ее лица, она призывала ребенка, которого целуют перед сном и который является конечным результатом всего в мире.
Обреченная на этой пустынной площадке неведомому прохожему, она воспевала шаги супруга, которые слышны вечером на пороге, которого узнают, впускают и он успокаивается. Восстановленная в этой беспредельности, не имея ничего более, за что удержаться, она умоляла, чтобы ей вернули те ее обязанности, которые одни лишь дают возможность существования: тот моток шерсти, чтобы она его расчесала, ту миску, чтобы ее помыть — только ту; этого ребенка, чтобы его убаюкать, именно этого, а не другого. Так она кричала, обращаясь к вечности, к вечным основам дома, сближенная со всем селением, потому что ее осенял покров той же всеобщей вечерней молитвы.
Мой отец снова взял меня на седло, когда голова осужденной бессильно поникла на ее плече. И мы умчались.
— Ты услышишь, — сказал мне отец, — их ропот в шатрах сегодня вечером и их упреки в жестокости. Но я вобью им обратно в горло всякую попытку возмущения: я выковываю человека.
Однако я угадывал доброту моего отца.
— Я хочу, чтобы они любили, — закончил он, — живую воду фонтанов и зеленый ковер ячменя, возобновленный на почве, растрескавшейся от летнего зноя. Хочу, чтобы они славили возвращение времен года. Хочу, чтобы они питались подобно плодам, вызревающим среди медлительного молчания. Хочу, чтобы они долго оплакивали свою скорбь и долго чтили своих мертвых, потому что наследие медленно переходит из поколения в поколение, и я не хочу, чтобы они теряли на пути свой мед. Я хочу, чтобы они стали похожи на оливовую ветвь. Ту, которая ждет. Тогда в них начнет проявляться великий трепет присутствия Бога, который приходит как дуновение и сотрясает дерево. Он ведет их, направляет их от рассвета к ночи, от лета к зиме, от жнивья зеленеющего к жнивью, созревшему для жатвы, от юности к старости и затем от старости к новым детям.
Ибо так же, как о дереве, ты ничего не знаешь о человеке, если ты смотришь на него во времени и стремишься познать его по его различиям. Дерево — вовсе не семя, затем ветка, затем тонкий ствол, затем мертвое дерево. Дерево — это то могущество, которое заключает медленный брак с небом. Так и с тобой, мой маленький мужчина. Богу обязан ты своим рождением, он заставляет тебя расти, наполняет, последовательно, желаниями, сожалениями, радостями и страданиями, яростью и прощением, а затем он побуждает тебя возвратиться в Него. Однако ты — не этот школьник, не этот супруг, не этот ребенок и не этот старик. Ты тот, кто совершается. И если ты сумеешь обнаружить в себе эту ветвь, колеблемую и надежно прикрепленную к стволу оливы, ты постигнешь в своих движениях вечность.
И все вокруг тебя станет вечным.
Вечен и фонтан, поющий и утолявший жажду отцов твоих, вечен блеск глаз возлюбленной твоей, улыбающейся тебе, вечна прохлада ночей. Время больше — не песочные часы, пересыпающие свой песок, но жнец, перевязывающий пряслом сноп свой.
II
Так с вершины самой высокой из башен цитадели я увидел, что ни страдание, ни смерть в лоне Бога, ни скорби не стоят сожалений. Ибо исчезнувшее, коль скоро память о нем чтима, более живо в настоящем и более могущественно, чем существующее. И я понял томление людей и преисполнился жалостью.
И я принял решение излечить их.
Мне жаль того, кто пробуждается среди древней ночи, чувствуя себя хорошо укрытым звездным покровом Бога, и внезапно ощущает себя странником.
Я запрещаю задавать ему вопросы, зная, что не существует удовлетворяющего ответа на них. Тот, кто спрашивает, ищет прежде всего бездны.
Я осуждаю беспокойство, толкающее воров на преступление, научившись читать в душе их и познав, что нельзя спасти их, освободив от нищеты. Ибо если они жаждут золота ближнего своего — они ошибаются. Золото блещет, как звезда. Эта страсть, сама себя не сознающая, обращена к блеску, которым они никогда не овладеют. Они идут от одного отблеска к другому, похищая напрасные ценности, как безумец, который, чтобы схватить луну, гонится за ее отражением и вычерпывает до дна черную воду фонтанов. Они спешат бросить в недолговременное пламя кутежей бесполезный прах ими похищенный. А затем снова возвращаются на свои ночные стоянки, бледные, как будто стоящие на пороге свидания, неподвижные, из боязни спугнуть что-то, воображая, что здесь рано или поздно они найдут то, что однажды удовлетворит их.
Такой, если я освобожу его, пребудет верен своему культу, и мои вооруженные стражники, ломая ветви сада, захватят его завтра же под окном соседа, переполненного собственным сердцебиением и надеющегося, что в эту ночь ему улыбнется счастье.
И, конечно, я простираю на них прежде всего мою любовь, усматривая в них более горячности, чем в добродетельных, гордо восседающих в своих лавочках. Но я строитель града. Я решил заложить здесь первые камни моей цитадели. Я оставляю караван в пути его. Он не более чем зернышко на ложе, обметаемом ветрами. Ветер несет его куда хочет, словно запах кедрового семени. Я противлюсь ветру и сажаю семя, чтобы кедры возросли во славу Бога.
Надо, чтобы любовь нашла к чему прилепиться ей. Я спасаю того только, кто любит то, что есть, и алчбу которого можно насытить.
И оттого-то я и замыкаю женщину в браке, оттого и приказываю забросать камнями жену, нарушившую целомудрие. Но я, конечно, понимаю жажду ее и знаю, как велика горечь ее, против которой она выступает. Я свободно читаю в сердце ее — облокотившейся на краю террасы, в час, в который вечер создает чудесные происшествия, замкнутый со всех сторон высоким морским горизонтом. Я вижу ее, предоставленную, будто палачу, мукам собственной нежности. Я вижу ее всю, трепещущую, брошенную, точно форель на песке, и ожидающую, словно подарка морской волны, появления синего плаща возлюбленного ее.
Свой зов она обращает к ночи, всей ночи, обступившей ее. Всякий, кто только ни возникнет перед ней, исполнит желание ее. Но понапрасну станет она метаться от одного плаща к другому, ибо нет мужчины, который бы насытил ее. Так река, чтобы освежить струи свои, призывает излияние волн морских, а волны вечно сменяются. Одна сменяет другую. К чему узаконивать смену супругов: тот, кто ценит в любви больше всего приближение ее, тот никогда не узнает встречи с нею…
Я спасаю только ту, которая может статьи создать вокруг себя дом, наподобие того, как кедр создается возле семени своего и найдет в границах своих расцвет свой. Я спасаю ту, что любит всего более не весну, но гармонию того цветка, в которой весна сокрыта, которая любит всего более не любовь, но именно то единственное лицо, в каком любовь себя выразила на этот раз.
Вот почему я вычеркиваю ту супругу, рассеявшую себя в вечере, или же собираю ее в одно целое. Я располагаю вокруг нее, словно на линии границы, жаровню, чайник, медный поднос, чтобы мало-помалу, сквозь всё это она узнала знакомое лицо, лицо близкое, улыбку, которая может родиться только здесь, среди всего этого. И пусть это станет для нее как бы постепенным появлением Бога. А тогда и дитя закричит, чтобы она покормила его грудью, спутанная шерсть начнет искушать пальцы, чтобы они расчесали ее, и очаг потребует своей доли в ее дыхании. С этих пор она станет пойманной и готовой к служению. Ибо я тот, кто создает сосуд вокруг аромата, чтобы сохранился он. Я тот обычай, который велит завязи стать плодом. Я тот, кто принуждает женщину воплотиться в образ и существовать в нем для того, чтобы позже я вручил от ее имени Богу не этот слабый вздох, рассеиваемый ветром, но ее истинное рвение, истинную нежность, истинное страдание…
Также много размышлял я о смысле мира. Этого смысла не существует вне детей рожденных, жатвы убранной, дома, наконец, приведенного в порядок. Он появляется из вечности, в которую возвращаются все дела завершенные. Это мир амбаров наполненных, овец, спящих в овчарнях, белья, сложенного стопкой, мир единственного совершенства, мир всего, что является даром Богу, ибо оно хорошо сделано.
И мне показалось, что человек во всем подобен цитадели. Он опрокидывает стены, чтобы обеспечить себе свободу, но сам он не более чем крепость, обрушенная и отверстая звездам. И здесь начинается тревога его, происходящая от чувства несуществования. Пусть он создаст свою истину, истину запаха зрелой виноградной лозы, или ягнят, руно которых надлежит стричь ему. Истину выкапывают, словно колодец. Взгляд человеческий, когда он рассеян, теряет видение Лика Божьего. Больше чем жена нецеломудренная, открытая всем обещаниям ночи, ведает о Боге тот, собранный в себе и мудрый, который не знает ничего, кроме веса собранной им шерсти.
Цитадель моя! Я построю тебя в сердце человеческом!
Ибо есть время избирать среди семян, но есть и время, выбрав единожды семена для всех посевов, веселиться, наблюдая всходы зеленей. Есть время для созидания, но есть время и для созданного. Есть время для багровой молнии, взламывающей плотины в небе, но есть время и для цистерн, где воды, излитые небом, воссоединяются вновь. Есть время для завоевания, но приходит и время стабилизации государств: я, слуга Бога моего, испытываю стремление к вечности.
Я презираю все, что изменяется. Я приговариваю к удушению того, кто поднимается среди ночи и бросает на ветер свои пророчества, словно дерево, пораженное молнией, которое трещит, ломается и воспламеняет весь лес вместе с собой. Я прихожу в ужас, когда Бог движется. Неизменный, пусть воссядет Он снова в вечности. Ибо есть время для созидания мира, но есть и время — счастливое время — обычного и привычного.
Надо умиротворять, возделывать и шлифовать. Я тот, кто шпаклюет трещины почвы и скрывает от людей следы потоков вулканической лавы. Я — луговина над бездной. Я — то хранилище, в коем плоды покрываются позолотой. Я — паром, получивший от Бога в залог все поколение и пропуск с одного берега на другой. Бог, в свою очередь, получит его из рук моих таким, каким мне его доверил, более зрелым, быть может, более мудрым, лучше чеканящим серебряные амфоры, но неизменным. Я заточил мой народ в любви моей.
Вот отчего я благословляю того, кто, чтобы в свой черед вести народ к совершенству, до седьмого колена передает и возобновляет знание изгиба подводной части судна или кривизны щита. Я благословляю того, кто от своего предка-певца унаследовал неведомо кем созданную песнь и, в свою очередь, повторяя ее и, в свою очередь, ошибаясь, добавляет к ней свой сок, свой аромат, свою интонацию. Я люблю женщину носящую или женщину кормящую младенца, я люблю стадо постоянно обновляемое, я люблю времена года повторяющиеся. Ибо я — прежде всего тот, кто живет. О, Цитадель, жилище моё, я спасу тебя от замысла, построенного на песке, и окружу рожками, чтобы трубить тревогу при нашествии варваров!
Ill
Ибо я открыл великую истину. Я узнал, что люди живут в домах своих и что смысл вещей для них изменяется соответственно смыслу дома. И что дорога, ячменное поле и откосы холмов различно воспринимаются человеком в зависимости от того, составляют они все вместе поместье или же нет. Ибо вдруг, внезапно, все эти, не связанные между собою предметы объединяются в нечто единое и овладевают сердцем. А оно обитает в той же Вселенной, в которой осуществляется или нет царство Божие. И как ошибаются неверные, которые смеются над нами и полагают своей целью богатства осязаемые, каких не существует в мире. Ибо если они жаждут владеть этим стадом, то из одной лишь гордыни. А радости гордыни сами по себе неосязаемы.
Также поступают и те, кто думает охватить мыслью имение мое, разделяя его на составные части. «Есть там, — говорят они, — овцы, есть козы, есть ячмень, есть жилища, есть горы — и что же еще?» Сколь нищи они, не способные владеть ничем более. И как им холодно в мире. И я подумал: как схожи они с тем, кто расчленяет труп. «Жизнь, — говорит он, — вот она! Я показываю ее при полном дневном свете: это лишь смесь костей, крови, мышц и внутренностей». Тогда как жизнь — это тот свет очей, которого мы не можем обнаружить в демонстрируемом ими прахе. Тогда как мое имение — это нечто совсем иное, чем эти овцы, эти поля, эти жилища и эти горы, а именно, то, что их превосходит и связывает воедино. Это родина любви моей. И они будут счастливы, если познают это, ибо станут и они жить в моем доме. И все обычаи во времени есть то же, что жилище в вечности. Ибо хорошо, если протекающее время не кажется нам более полезным или потерянным, подобно горсти песка, но созидающим нас самих. Хорошо, если время становится строительством. И так иду я от праздника к празднику и от годовщины к годовщине, от сбора виноградного к следующему сбору, как шел я в детстве из залы совета в опочивальню в просторном дворце отца моего, где каждый шаг был исполнен смысла.
Я предписал свой закон, который стал как бы формой стен и устройства жилища моего. И безрассудный пришел сказать мне: «Освободи нас от принуждений твоих и мы станем тогда великими». Но я знал, что они, прежде всего, потеряют познание Лика и любовь к нему, а значит и познание самих себя, и решил я против желания их обогатить их любовью. Ибо они, для того, чтобы им ходить свободно, предлагали мне обрушить стены во дворце отца моего, где каждый шаг был исполнен смысла.
Это было жилище обширное, одно крыло коего предназначалось для женщин — и с потайным садом, где журчал фонтан. (И я приказываю так создавать сердце дома, затем чтобы можно было от чего-либо приближаться или удаляться. Чтобы можно было уходить и возвращаться. Иначе везде было бы нигде. И не быть вовсе не означает быть свободными). Были также крытые житницы и стойла. И случалось, житницы стояли пусты, и стойла оставались незанятыми. И мой отец не допускал использовать одни вместо других. «Стойло, — говорил он, — есть стойло, и ты не живешь больше в доме, если не знаешь, где ты находишься». «Мало толку, — говорил он также, — от обычая более или менее привычного. Человек — не скотина в хлеву, и любовь значит для него больше, чем привычка. Ты не можешь любить дом, у которого нет лица и где шаги не имеют смысла».
Была во дворце зала, предназначенная только для приема больших посольств, куда солнечные лучи допускались только в те дни, когда песчаная пыль, встревоженная всадниками, вздымалась к небу, и знамена колыхались на горизонте по ветру, словно волны на море. Но ее оставляли пустынной в случае прибытия мелких князей, не имевших значения. Была зала правосудия и зала, куда выносили покойников. Была и пустая комната, назначения которой никто никогда не узнал и которая, быть может, его и не имела, кроме как поучать смыслу тайны, показывая, что никогда нельзя постичь всего.
И слуги, пробегавшие по коридорам со своей ношей, переносили тяжелые ткани, служившие обивкой для стен, струившиеся по плечам их. Они поднимались по лестницам, открывали двери и спускались по другим лестницам и, смотря по тому, находились они ближе или дальше от центрального фонтана, — делались более или менее молчаливыми, становясь все более тревожными и незаметными, как тени возле границы женских владений, ошибка знакомства с которыми стоила бы им жизни. И сами женщины — спокойные, надменные или скрытные, соответственно месту, занимаемому ими во дворце. Я слышу голос безрассудного: «Сколь расточительно используется место, сколько богатств остается без применения, сколько удобств утрачено по небрежности! Надо было разрушить эти бесполезные стены и снести эти короткие лестничные подъемы, тогда человеку было бы свободнее!» И я отвечаю: «Тогда люди станут скотом на публичной площади и, опасаясь скуки, придумают глупые игры, которые будут еще подчинены правилам, но правилам, лишенным величия. Ибо дворец может благоприятствовать созданию поэм, но какую поэму написать о тех дурачествах, которые они пустят в оборот? Быть может, они еще долго будут жить тенью стен, которые придадут их песням скорбь об утраченном; потом и самая тень изгладится из их памяти и они перестанут помнить и понимать ее. И чем станут они отныне утешаться?
Так, и человек, затерянный среди недели, дни которой не имеют имен, или среди года, лишенного праздников, у которого отсутствует Лик; так и человек, находящийся вне иерархии, завидующий своему соседу, если тот в чем-либо его превосходит, и прилагающий все усилия, чтобы привести его к своему уровню. Какую радость извлекут они впоследствии из этой мелководной лужи, которую создадут?
Я воссоздаю поля. Я строю в горах плотины, чтобы задержать вешние воды. Я противостою таким образом естественным склонам. Я восстанавливаю иерархии там, где люди уже смешались вместе, словно воды в своей луже. Я натягиваю тетиву луков. Из несправедливости сегодняшней я создаю справедливость завтрашнюю.
Я восстанавливаю верное направление пути там, где каждый находится на месте без движения и называет это гниение счастьем. Я презираю гниющие воды их правосудия и высвобождаю того, кто основал прекрасную несправедливость. И таким образом я облагораживаю свое государство.
Ибо я знаю их рассуждения. Они восхищались человеком, которого основал отец мой. «Как посметь издеваться, — говорили они себе, — над столь замечательной удачей?» И во имя того, кого создало столько принуждений, они разбили эти принуждения. И до тех пор, пока принуждения еще жили в сердце их, они действовали. Затем, мало-помалу, они позабыли о принуждениях, и тот, кого стремились спасти, умер.
Вот отчего я ненавижу иронию, которая свойственна не человеку, а крабу. Ибо краб говорит нам: «Ваши обычаи в другом месте были иными. Почему же не изменять их и впредь?» Точно так же, как он говорит им: «Кто заставляет вас убирать жатву в житницы и размещать скот в стойлах?» И он же сам попадается в свою словесную ловушку, ибо не знает того, чего не могут охватить слова. Он не знает, что люди живут в доме.
А его жертвы, которые не умеют более познавать истину, начинают разрушать ее основания. Люди расточают таким образом свое наиболее драгоценное достояние — смысл вещей. И они чувствуют себя необычайно гордыми в дни праздников, не уступая обычаям, предавая свои традиции, празднуя в честь врага своего. И, конечно, они испытывают какое-то внутреннее побуждение во время своих кощунственных попыток. Потому что есть в этом кощунство. Потому что они восстают против чего-то, что еще тяготеет над ними. И живут лишь тем, что враг их еще дышит, тень законов его еще достаточно стесняет их, чтобы они чувствовали себя противниками законов. Но и самая тень со временем сглаживается. Тогда они уже не чувствуют ничего. Ибо даже вкус победы позабыт ими. И они зевают. Они сменили дворец на публичную площадь, но однажды испробовав удовольствие попирать эту площадь, с хвастливой надменностью они перестают понимать, что они делают здесь теперь, топчась в собственных экскрементах. И вот они уже видят в смутном сне, как они восстанавливают дворец, с тысячью дверей, с драпировками, струящимися по плечам, с медлительными приемными. Вот они грезят о потайной комнате, придающей оттенок таинственности всему жилищу. И, сами того не зная, позабыв об этом, они оплакивают дворец моего отца, тот, в котором каждый шаг был исполнен смысла.
Вот отчего, хорошо понимая это, я противопоставляю свой деспотизм такому разрыхлению вещей и не прислушиваюсь к доводам тех, кто мне говорит о естественных откосах. Ибо я слишком твердо знаю, что естественные откосы увеличивают лужи воды у подножия ледников, сглаживают неровности гор и разбивают движение рек, тянущихся к морю, на тысячи противоречивых водоворотов. Ибо я хорошо знаю, что естественные откосы создают такое положение, когда могущество власти распределяется между всеми и люди уравниваются. Но я управляю и я выбираю. Я хорошо знаю, что кедр также торжествует над действием времени, которое хотело бы превратить его в пыль, и год от года возвышается, противопоставляя силам, гнетущим его книзу, величие своего лиственного храма. Я следую жизни и я организую окружающее. Я созидаю глетчеры вопреки интересам луж. Меня не трогает, если лягушки квакают о несправедливости. Я перевооружаю человека для того, чтобы он существовал.
Вот отчего я оставляю без внимания болтуна, который приходит упрекать пальму за то, что она не кедр, и кедр — за то, что он не пальма, и смешивая все книги в кучу, стремится к хаосу. И я хорошо знаю при этом, что болтун прав со своей абсурдной наукой, ибо вне жизни и кедр, и пальма объединятся, расточившись в пыль. Но жизнь противодействует беспорядку и естественным откосам — наоборот, она из пыли сооружает кедр.
Истинность моих предписаний состоит в том, что человек должен родиться. И я не ищу в обычаях, и в законах, и в языке моего государства, в них самих их значения. Я слишком хорошо знаю, что, собирая камни, создают тишину. Кто не раскрывал себя самого в камнях? Я знаю слишком хорошо, что при помощи притираний и локонов оживляют любовь. Я знаю слишком хорошо, что ничего не смыслит тот, кто расчленит труп и взвесит его кости и внутренности. Ибо кости и внутренности ничего не стоят сами по себе, не более, чем чернила и бумага. Цену имеет лишь мудрость, которую сообщает книга, не зависящая от состава бумаги.
И я отказываюсь спорить об этом, ибо нет здесь ничего, что можно было бы доказывать. Язык моего народа, — я спасу тебя от загнивания. И я вспоминаю этого неверующего, посетившего отца моего;
— «Ты приказываешь, чтобы у тебя все молились с четками из тринадцати зерен. Какое значение имеют тринадцать зерен, — говорил он, — молитва не останется ли той же самой, если ты изменишь число?» — И он приводил ловкие доводы в пользу того, чтобы люди молились с четками из двенадцати зерен. Я — ребенок, понимавший ход спора, я наблюдал за отцом моим, сомневаясь в весомости его ответа, настолько аргументы, приводимые противником, казались мне блестящими.
— Скажи мне, — продолжал этот последний, — в чем именно весомее оказываются четки из тринадцати зерен.
— Четки из тринадцати зерен, — ответил мой отец, — равны по весу всем тем головам, которые во имя их я уже отрубил…
Бог просветил неверующего, и он примкнул к обращенным.
Жилище человеческое! Кто станет закладывать тебя, основываясь на рассуждениях? И кто способен построить тебя, руководствуясь логикой? Ты существуешь и не существуешь. Ты есть и тебя нет. Ты составлено из материалов, не связанных меж собой, но надо изобрести тебя, чтобы открыть. Точно так же, как тот, кто разрушил жилище свое, чтобы узнать его, не владеет более ничем, кроме кучи камня, кирпича и черепицы, не находит ни тени, ни тишины, ни покоя, которым служили они, и не знает, каких ему услуг ожидать от этой кучи камня, кирпичей и черепицы, ибо недостает им того замысла, который их превосходит: души и сердца зодчего. Ибо недостает камню души и сердца человеческих.
Но поскольку в рассуждении не будет ничего, кроме кирпича, камня и черепицы, нет души и сердца их превосходящих и изменяющих могуществом своим в тишину, как душа и сердце ускользают от рассуждений логики и законов, выражаемых числами, так и прихожу я с самоуправством моим. Я — архитектор. Я — обладающий душой и сердцем. Я — единственный, обладающий могуществом создавать из камней тишину. Я прихожу и замешиваю это тесто, которое не больше чем материал, согласно образу создания, приходящему ко мне от одного лишь Бога и существующему вне законов логических. Я строю мою государственность, охваченный тем пристрастием, которое надлежит отражать ей, как иные создают свою поэму, переворачивая фразу и заменяя слово, не испытывая нужды оправдать перед кем-то эту замену и этот поворот, охваченные только тем пристрастием, что ведомо сердцам их.
Ибо я — руководитель. И я пишу законы и учреждаю праздники, и назначаю жертвоприношения, и из их овец, из их коз, из их жилищ и из их гор я создаю эту государственность, напоминающую дворец отца моего, где все шаги были исполнены смысла. Ибо без меня — что стали бы делать они с кучей камней, перемещая ее справа налево, если не новую кучу камней, сложенных еще хуже? Я же управляю и я избираю. И я один — для того, чтобы управлять. И вот они могут молиться в тишине и в тени, которыми они обязаны моим камням. Моим камням, уложенным согласно образу, хранимому в сердце моем.
Я — руководитель. Я — учитель. Я — ответственный. И я прошу их помогать мне. Прошу, хорошо понимая, что руководитель — вовсе не тот, кто спасает остальных, но тот, кто просит его самого спасти. Ибо это через меня, через образ, который я несу в себе, основывается единство; мной, мной одним создаваемое единство моих овец, моих коз, моих жилищ, моих гор, то единство, которым вот они увлеклись уже, как увлеклись бы юной богиней, открывшей свежие объятия свои в солнечных лучах и которую они сперва не узнали. И вот они уже любят дом, который я изобрел согласно желанию моему. И сквозь него любят меня — архитектора. Равно как тот, кто любит статую, не любит ни глину, ни камень, ни бронзу, но — работу скульптора. И я вызываю в них привязанность к их жилищу, в тех, кто принадлежит к моему народу, чтобы научились они узнавать его. Но они не могут научиться узнавать его до тех пор, пока оно не будет вскормлено их кровью. И украшено жертвами их. Да, оно потребует от них даже и крови, и тела их, ибо станет для них полным значения. И тогда не смогут они не узнавать это строение божественное, напоминающее Лик. И почувствуют они любовь к нему. И вечери их станут ревностными. И отцы, едва только сыновья их раскроют глаза и уши, озаботятся, прежде всего, показать им его, чтобы оно не утонуло более в пучине различных вещей, не связанных меж собою.
И я сумел создать жилище мое достаточно просторным, чтобы придать смысл даже и звездам. И если они подвергнутся опасности, ночью, на пороге своем, то поднимут голову и воздадут хвалу Богу за то, что так хорошо руководит Он кораблями своими. И если я создам постройку достаточно прочную, чтобы она охватывала жизнь их в прочности своей, то будут они идти от праздника к празднику, как из приемной в приемную, твердо зная куда идут они и прозревая сквозь все различия жизненные лик Божий.
Цитадель! Я построил тебя как корабль, я сшил тебя гвоздями, оснастил и спустил на воду ожидать времени попутного ветра.
Корабль людей, не имея которого они пропустили бы вечность!
Но я знаю те угрозы, которые поднимаются против корабля моего. Всегда шквалы подстерегают его на мрачном море, в открытых водах. И рисуются другие возможные картины несчастий. Ибо всегда остается мысль о том, чтобы разрушить храм и взять часть камней его для другого храма. И этот другой не будет более истинный или более ложный, ни более справедливый, ни более несправедливый. И никто не познает бедствия, ибо качество тишины не записано в куче камней.
Вот отчего я хочу, чтобы они подняли на плечи и поддержали капитана корабля. Затем, чтобы спасти их из рода в род, я хочу этого, ибо никогда не смогу я украсить храм мой, если ежеминутно буду я заново начинать строительство.
Марсель Пруст Отрывок из романа «Пленница», входящего в эпопею «В поисках утраченного времени»
…Вы увидите у Стендаля некое ощущение высоты над уровнем моря, сливающееся с духовной жизнью. Это возвышенное место, где Жюльен Сорель находится в заключении, башня, в верхней части которой заточен Фабрицио, колокольня, где аббат Бланес занимается астрологией и откуда Фабрицио так прекрасно охватывает взором все кругом. Вы говорили мне, что видели известные картины Вермеера, — так отдаете ли вы себе отчет, что все это — фрагменты одного и того же мира, что это всегда — при всей гениальности, с которой они воссозданы, — тот же стол, тот же ковер, та же женщина, та же новая и единственная красота, загадочная в данную эпоху, когда ничто более не сходствует с ней и не объясняет ее, если не искать ее родственной близости с другими лицами, а выделять лишь впечатление, вызываемое красками. Так вот эта новая красота — она остается идентичной и во всех творениях Достоевского. Женщина Достоевского столь же отличная от прочих, как и женщина Рембрандта, с ее таинственным лицом, располагающая к себе красота которого внезапно меняется так, как будто она играла комедию добра, претворяясь в ужасающую наглость (даром, что в сущности своей она, кажется, действительно, скорее, добра), — не правда ли, ведь это всегда одна и та же: будь то Настасья Филипповна, пишущая свои влюбленные письма Аглае, и, вместе, сознающаяся, что она ее ненавидит, или та же Настасья Филипповна, оскорбляющая родителей Гани; или Грушенька, столь кроткая у Катерины Ивановны, которую эта последняя всегда считала такой ужасной и вдруг сразу обнаруживающая свою злобу и оскорбляющая Катерину Ивановну (даром, что и Грушенька ведь по существу-то добрая)? Грушенька, Настасья — это лица такие своеобразные, они вовсе не таковы только, как куртизанки Карпаччио, но, скорее, похожи на Вирсавию Рембрандта. И, заметьте, он, конечно, и сам не знал, что эти сверкающие лица раздваиваются при внезапных вспышках гордости, которая заставляет женщину показаться иной, чем она есть на самом деле («ты не такая», — говорит Мышкин Настасье при ее визите к родителям Гани, и Алеша мог бы то же самое сказать Грушеньке во время ее прихода к Катерине Ивановне).
Но зато, словно в виде реванша, когда наш автор хочет дать «идею картины», эти идеи всегда глуповаты и говорят нам не больше, чем о картинах, на которых Мышкин хотел бы видеть представленным осужденного на смерть, в момент, когда… и так далее, Святую Деву — в момент, когда… и так далее. Но чтобы возвратиться к новой красоте, которую Достоевский принес в мир, как это было раньше у Вермеера, тут должно быть сотворение некоей души, некого цвета одежд и мест. У Достоевского мы находим не одно лишь создание существ, но также и жилищ: и Дом Убийства в «Братьях Карамазовых», с его дворником, — не столь же ли он чудесен, как шедевр Дома Убийства в «Идиоте», — этот мрачный, и такой длинный, и такой высокий, и такой обширный дом Рогожина, где он убивает Настасью Филипповну? Эта новая и ужасная красота дома, эта новая и смешанная красота женского лица — вот то неповторимое, что Достоевский принес в мир, и все сближения, которые могут делать литературные критики, сравнивая его с Гоголем, или сравнивая с Поль де Коком, не представляют никакого интереса, поскольку находятся вне этой тайной красоты.
В итоге, если я говорю тебе, что это из романа в роман одна и та же сцена, так это означает только, что в одном и том же романе встречаются те же сцены, которые повторяются, если роман очень длинный.
Я мог бы легко тебе показать в «Войне и мире» и известную сцену в коляске…
— Я не хотел вас прерывать, но когда вижу, что вы покидаете Достоевского, боюсь о нем забыть. Дорогой мой, что вы хотели сказать однажды, когда мне говорили: это все равно, что сторона Достоевского у мадам де Севинье. Уверяю вас, я ничего не понял, мне кажется, это так далеко отстоит одно от другого…
— Подойдите, дитя мое, я вас поцелую, за то, что вы так хорошо запоминаете все, что я говорю, вы вернетесь потом к своей пианоле, потом. И еще: я признаю, что сказанное мной тогда было довольно глупо. Но сказать так у меня было две причины; первая из них — частное соображение. Случалось, что г-жа де Севинье, как Эльстир, и как Достоевский, вместо того, чтобы описывать вещи в логическом порядке, иначе говоря, начиная с причины, показывает нам, напротив, следствие, результат, который нас поражает. Так Достоевский представляет нам своих действующих лиц; их поступки кажутся нам столь же обманчивыми, как эти красочные эффекты Эльстира, у которого море порой кажется находящимся в небе, или у писателя, пока мы не узнаем, что тот или иной скрытный человек — в сущности, человек превосходный, или же совсем напротив… — Да, но пример г-жи Севинье? — Сознаюсь, — ответил я, смеясь, что это притянуто за волосы, но в конце концов я смогу и тут найти примеры.
— Но разве он когда-либо кого-нибудь убил, Достоевский? Все его романы, какие я знаю, могли бы носить название «История одного преступления». У него это как навязчивая идея. Это неестественно, что он всегда говорит об этом. — Нет, я не думаю, дорогая Альбертина, хотя я и плохо знаю его жизнь. Известно, что, как и все люди на свете, он познал грех — в одной ли форме, в другой ли, и, вероятно, в форме, запрещаемой законами. В этом смысле он должен был быть немного преступником, как и его герои, которые, впрочем, вовсе не совсем преступны, но их осуждают благодаря совпадению обстоятельств. И, быть может, вовсе не было такой необходимости, чтобы он сам стал преступником. Я не романист; возможно, что создатели литературных произведений искушаются некоторыми жизненными формами, которых лично они и не испытывали. Если мы отправимся вместе в Версаль, как мы условились, я покажу вам портрет порядочного человека, лучшего из мужей — Шодерло де Лакло, написавшего самую ужасающе извращенную книгу, и как раз напротив этого портрета висит другой — г-жи де Жанлис, которая писала моралистические сказки, а в жизни, не довольствуясь тем, что обманывала герцогиню Орлеанскую, еще казнила ее и тем, что отвратила от нее любовь ее детей. Однако, я признаю все же, что у Достоевского эта озабоченность убийством представляет собой нечто необычное, и он, по этой причине кажется мне весьма странным. Но я изумляюсь уже, когда слышу, как Бодлер говорит:
Если насилие, яд, кинжал и пожар…. …Значит дух наш, увы! не достаточно смел и отважен!Но я могу, по крайней мере, верить, что Бодлер не вполне искренен. Тогда как Достоевский… Все это кажется мне настолько от меня далеким, насколько вообще это возможно, если только я не ношу в себе самом неведомых для самого меня стремлений, так как люди не реализуют себя в жизни иначе, как в известной последовательности. У Достоевского я нахожу колодцы чрезвычайно глубокие, но в чем-то еще и изолированные от другой человеческой души. И, однако, это — великий Творец. Прежде всего, тот мир, который он изображает, действительно кажется созданным для него. Все эти буффоны, которые без конца возвращаются, все эти Лебедевы, Карамазовы, Иволгины, Сергеевы, — весь этот невероятный кортеж — это человечество еще более фантастичное, чем народ «Ночного дозора» Рембрандта. И, быть может, не фантастично ли оно точно так же благодаря освещению и костюмам, — в сущности, оно ведь изменчиво. Но, во всяком случае, оно полно истин глубоких и единственных, принадлежащих одному лишь Достоевскому. Они, эти буффоны, занимают амплуа как бы не существующее, подобно известным персонажам античной комедии, и, однако же, как они раскрывают действительные аспекты человеческой души! Но что меня убивает, так это та торжественная манера, в которой говорят и пишут о Достоевском. Между тем, заметили вы ту роль, которую самолюбие и гордость играют у его действующих лиц? Можно сказать, что для него любовь и ненависть — самые безумные, доброта и предательство, скромность и наглость — ничто иное как два состояния одного и того же характера. Самолюбие и гордость мешают Аглае, Настасье, капитану, которого Митя таскает за бороду, Красоткину — другу-врагу Алеши, обнаружить себя «такими», каковы они есть на деле. Но есть и многие другие стороны величия Достоевского. Я очень мало знаю его книги. Но разве не этот простой и такой скульптурный мотив, достойный искусства античности, словно фриз, прерываемый и возобновляемый опять, где действуют отмщение и искупление, представляет собой преступление отца Карамазова, от которого забеременела несчастная безумная нищенка, таинственный штрих, животный и необъяснимый, когда мать, чувствуя приближение родов, являясь неведомо для себя исполнительницей в руках отмщающей судьбы и слушаясь также бессознательно своего материнского инстинкта, со смесью, быть может, злопамятства и физиологической признательности к насильнику, отправляется родить к отцу Карамазову? Это первый эпизод, таинственный, великий и величественный, как создание женщины в скульптурах Орвието. И, как реплика, поражает следующий эпизод, более чем двадцать лет спустя, — убийство отца Карамазова этим сыном его и безумной — Смердяковым, завершающееся вскоре после его свершения актом столь же таинственно скульптурным и необъяснимым в своей красоте, столь же темной и естественной, как и роды в саду отца Карамазова: Смердяков удавливается, совершив свое преступление.
Что же до Достоевского, я не покидал его в той мере, в какой вам это показалось, говоря о Толстом, который во многом его имитировал. И у Достоевского мы находим сконцентрированное, еще сжатое и скороговорочное, многое из того, что вскоре расцветет у Толстого. Есть у Достоевского эта угрюмость примитивов, предвосхищающая будущих учеников, которые придут, чтобы прояснить ее.
Эдмон де Гонкур Хокусай (1760–1849)
ВВЕДЕНИЕ
В «Echó de Paris» 7 июня 1892 года за моей подписью опубликована эта статья:
Литературная жизнь среди своих огорчений иной раз приносит и приятные сюрпризы, но для этого нужны обычно долгие годы. Этой зимой я получил такое письмо из Японии:
«Иокогама (главный госпиталь)
Месье!
Позвольте молодому французу поблагодарить Вас за огромное удовольствие, которое доставил ему «Утамаро», умеющему оценить эту книгу лучше других, так как я нахожусь в центре Японии.
Мне было пятнадцать лет, когда я прочел «Сестру Филомену» и захотел стать интерном. Так я стал медиком. «Дом художника» заставил меня прибыть в Японию. Одним словом, как та путеводная звезда, которая служит указателем пути моряка, оставаясь сама в неведении об участи тех, кем она руководит, так Ваше влияние было преобладающим для всей моей жизни. Я говорю это сейчас, но почему не сказал я Вам этого раньше? — проклятая застенчивость, заставляющая нас оставаться безгласными в присутствии любимой женщины! Она же виновата и в том, что мы замыкаем в себе наши литературные привязанности, и не по этой ли причине я никогда не посмел нанести Вам хотя бы один визит, будучи в Париже.
………………………………………………………………………
Разрешите мне предоставить себя в Ваше распоряжение. Я — в Японии, люблю Японию, говорю по-японски и, как говорят в старинных пьесах, «Я предан Вам душой и телом». Воспользуйтесь же мной, как Вам будет угодно.
Доктор Мишо».Это письмо побудило меня просить доктора, без большой надежды на удачу, прислать перевод биографии Хокусая, извлеченной из рукописи «Укиё-э-Руйко» Кёдэна, последовательно дополненной Самба, Муймейо, Геккином Кио-Саном Танэхико, перевод которого я не мог добиться от японцев, проживающих в Париже, и сегодня я получил этот перевод от любезного доктора, сделанного в сотрудничестве с японцем Ураками.
Этот перевод, по моему замыслу, должен войти в очерк, посвященный Хокусаю. Однако никто в моем возрасте не может быть уверен в своем завтрашнем дне. Вот почему я хочу, чтобы этот биографический очерк японских Вагари, очерк о великом художнике, который так живо интересует мир европейского искусства, очерк, который не только не был обнародован, но даже не был переведен на французский язык, сейчас появляется в «Echó de Paris» впервые.
Хокусай.
Родившийся в Иеддо[775], Хокусай был, как говорят, сыном фабриканта зеркал придворного Токугава[776].
Его детское имя Токитаро, позднее он переменил его на Тэцудзиро.
Вначале он поступил учеником к Кацукаве Сюньсё, и своим псевдонимом художника избрал имя Кацукава Сюньро. Здесь он рисует актеров и театральные сцены в стиле Цу-Цуми То — Рин и создает множество рисунков на летучих листках (fenilles Nolontes), называемых кёка суримоно.
Выгнанный из дома своего учителя по причинам, оставшимся неизвестными, он становится последователем художника Тавароя — Сори и делается известным как продолжатель этого мастера.
Затем он меняет свой стиль и создает новый, присущий ему одному. Тогда он уступает свое имя Сори одному из своих учеников Содзи и возвращает семье Тавароя полученную от нее сигнатуру.
Лишь в десятом году эпохи Квансэй (1789) зрители впервые прочли внизу оттисков этого мастера имя Хокусая (Хокусай Токимадза-Тайто), имя, принятое им, как говорят, в силу его особого почтения к богу Хокутиэн-Мёкэну. Что до имени Тайто — он оставил его позднее своему зятю Сигенобу.
Стиль, носящий название Хокусай-Рю, есть стиль подлинной живописи Укиё-э, живописи натуралистической, и Хокусай представляет собой подлинного и единственного зачинателя живописи, которая, имея в основе старую китайскую живопись, тем не менее, стала новейшей японской школой.
Творчество Хокусая возникло не только затем, чтобы возбуждать восхищение сотоварищей художников, — нет! Ему выпало на долю пленить своей небывалой новизной широкие слои народа. В течение ряда лет эпохи Каансэй (1789–1800) Хокусай написал множество сказок и романов, предназначенных для женского и детского чтения, романов, которые сам же он и иллюстрировал. Эти романы он подписывал как писатель именем Токитаро-Како и как художник — Гвакио-дзин-Хокусай. И лишь благодаря его изобретательной и чудесной кисти народные сказки и романы получили столь широкое распространение.
Он стал также прекрасным поэтом в области Хайкай (народная поэзия).
В то время он жил в Асакудзэ, куда стекалось множество молодых художников из Киото и Осака, посещавших его мастерскую, и в то время, когда в городах Нагоя[777], Киото[778] и Осака[779] не было недостатка в художниках, ни один из них не мог с ним сравняться. В эти годы из-под его кисти выходят книги, оттиски гравюр, бесчисленные рисунки.
Вскоре (как принято у художников того времени, постоянно менявших свои имена) мастер завещает свою сигнатуру «Хокусай» одному из учеников, державшему ресторан в квартале публичных домов, — Йосивара, и этот, каждый раз, когда Хокусай открывал собрание художников для принятия новой сигнатуры, писал в своем заведении картины в 16 кен (32 метра). С этого времени он подписывает свои работы Сакино-Хокусай Тайто (старый Хокусай Тайто). Он переменил и еще один раз свое имя, назвавшись Тамэ-Кацу или И-итцу.
Не имея достаточно времени, чтобы дать образцы своей живописи ученикам, он награвировал целые темы, которые позднее имели огромный успех.
Он был также чрезвычайно искусен в той области живописи, которая называется Киоку-э — живопись фантазии, создаваемой при помощи самых разнообразных предметов, смоченных китайской тушью, как например, мензуркой для измерения жидкостей, яйцами, бутылками[780].
Он писал также изумительно левой рукой, как и правой, или держа лист вверх ногами. Живопись, сделанная при помощи ногтей его пальцев, была совершенно удивительна, и для тех, кто не был очевидцем этой манеры художника, его работы, сделанные ногтем, всегда казались исполненными кистью.
«Изучая, — говорит он, — в течение долгих лет живопись различных школ, я проник в их тайны и принял от них все, что нашел лучшего. Нет для меня ничего скрытого в живописи. Я испробовал мою кисть на всем и достиг удачи во всем!» В самом деле, Хокусай работал всюду, начиная от наиболее доступных картинок, называемых Камбан (как сказал мне Хаяси, Камбан — не что иное, как вывеска или афиша какого-либо торговца), то есть картинок-реклам для бродячих театров, и кончая самыми возвышенными и утонченными сюжетами и композицией.
Его произведения охотно разыскивались иностранцами, и был год, когда его рисунки и гравюры[781] экспортировались сотнями, но почти тотчас же губернаторством Токугава на этот экспорт было наложено запрещение.
В продолжение ряда лет эпохи Темпо (1830–1844) Хокусай выпустил в свет большое количество «нисикиэ» — красочных оттисков и «рисунков любви», то есть картинок непристойного содержания, названных сюнга, восхитительных по цветовым качествам и подписанных псевдонимом Гумматэи.
Самая большая честь, которой удостоился этот мастер в продолжении своей жизни, было то, что известность его достигла двора Токугава и что он мог, не боясь чьего-либо соперничества, демонстрировать перед великим принцем успехи, достигнутые его талантом. Однажды, когда сёгун[782] посетил с целью развлечения город Иеддо, Хокусай был приглашен принцем, чтобы рисовать в его присутствии. На огромном листе бумаги малярной кистью (brosse a colle) он сначала нанес петушьи следы, потом, внезапно изменяя рисунок и покрыв эти следы индиго, он создал пейзаж реки Тицута, который и подарил изумленному принцу[783].
Хокусай имел манию постоянно менять место своего пребывания, никогда не жил более одного-двух месяцев в том же месте.
Хокусай умер 13 апреля 2-го года Кайэи (1849) (ошибка: Хокусай умер 10 мая 1849 г. Примечание Гонкура) в возрасте 90 лет. Он похоронен на кладбище храма Сейкёдзи в квартале Хати-Кэндэра-Мати в Асакусэ, где еще и сейчас можно прочесть его эпитафию.
Последней поэтической фразой, оставленной им в его смертный час, было почти непереводимое на чужой язык: «О свобода, прекрасная свобода, наступающая, когда мы уходим в поля, согретые летним солнцем, расставаясь с нашим телом!»[784]
Хокусай имел трех дочерей, младшая из которых была искусной художницей. Из множества учеников, которых имел Хокусай, число тех, имена которых вошли в историю и стали известны публике, достигает шестнадцати или семнадцати.
* * *
В 1860 году я открыл и опубликовал по манускрипту заседаний Королевской Академии художеств, сохранившемуся в библиотеке одного из швейцаров и подобранному им где-то на набережной, неизданную биографию Ватто, составленную графом де Кайлюс, которую считали утраченной и которой недостает в «Неизданных мемуарах» о членах этой Академии, вышедших в 1854 году.
Сейчас я даю впервые на европейском языке неизвестную биографию Хокусая, крупнейшего из мастеров Дальнего Востока.
Для биографии этого великого художника далекого Востока, совершенно неизвестной в Европе, эта краткая заметка была уже кое-чем, но, конечно, этого недостаточно.
С тех пор на родине Хокусая японцем Индзима-Хандзиро опубликована биография художника Кацусика-Хокусаи-дэн, иллюстрированная рисунками и портретами, содержащая материалы, представляющие огромный интерес.
Между тем, перевода этой японской биографии довольно ли, чтобы узнать человека и его творчество? — Нет! Надо держать в руках все, созданное этим творчеством, собранное с наивозможнейшей полнотой, и ни в Японии, ни в Европе, думается мне, не существует такой полной картины этого творчества, как в коллекции Хаяси, в продолжении многих лет собирающего работы своего любимого художника. И лишь благодаря этому собранию, содержащему лучшие оттиски, маленькие книжечки, наиболее редкие иллюстрации романов в 90 томах, наиболее полно собранные, рисунки наиболее подлинные, — благодаря ему я смог написать эту биографию, при помощи эрудиции этого сотоварища по работе, который любезно согласился предоставить мне свои знания и коллекцию, и в течение долгих и трудных занятий, когда мне приходило в голову просить его о переводе предисловий Хокусая, предпосланных им своим альбомом, предоставившего мне для моего труда огромную документацию, какой не найти ни в Кацусика-Хокусаи-дэн, ни в Укиё-э-Руйко[785] Кёдэна.
Эдмон де Гонкур.
Отель. 20 декабря 1895 г.
ХОКУСАЙ (1760–1849)
I
В обоих полушариях одна и та же несправедливость преследует все независимые таланты прошлого. Вот художник, который победоносно поднял живопись своего отечества над персидскими и китайскими влияниями, и путем, я бы сказал, благоговейного изучения природы, омолодил ее, обновил, сделал действительно японской; вот всеобъемлющий художник, который в одинаково жизненных рисунках изобразил человека, женщину, птицу, рыбу, дерево, цветок и побег травы; вот художник, выполнивший тридцать тысяч рисунков и гравюр[786]; вот художник который был подлинным создателем школы Укиё-э[787], основатель народной школы живописи, то есть человек, который, не довольствуясь копированием академических работ школы Тоса, изображая в жеманно-условной манере летопись придворной жизни и официальную жизнь высоких сановников, с искусственной пышностью аристократического быта, широко раскрыл двери своего творчества и народу своего отечества, в стремлении к реальности, избегая требований аристократической живописи своего времени; вот, наконец, пламенный проповедник и слуга искусства, подписывающий свои творения — «безумец рисунка».
И вот этот художник, за исключением того культа, которым окружили его память ученики, рассматривался современниками как площадной забавник, низменный рисовальщик, чьи произведения недостойны взгляда серьезных ценителей Империи восходящего солнца, обладающих утонченным вкусом. И это презрение, в основательности которого еще вчера меня пытался убедить американский художник Лафарж вследствие тех разговоров, которые он некогда имел в Японии с идеалистическими художниками этой страны, продолжалось до последних дней, дней, когда мы — европейцы, французы в первую очередь[788], вскрыли для родины Хокусая большого мастера, которого она потеряла полвека тому назад.
То, что делает Хокусая одним из самых своеобразных мастеров на свете, — это же свойство помешало ему насладиться заслуженной им славой при жизни, и «Словарь знаменитых людей Японии» отмечает, что Хокусай не встретил в свое время того почтения, которым были окружены великие художники Японии, в силу того, что он посвятил свое творчество отражению народной жизни[789], но что будь он последователем школ Кано и Тоса, он несомненно возвысился бы над всеми Окио и Бунсё.
II
Хокусай[790] родился на восемнадцатый день первого месяца десятого года Хореки, т. е. 5 марта 1760 года.
Он родился в Иеддо, в квартале Хондзё, квартале, расположенном на другом берегу Сумида, примыкающем к деревне, квартале, излюбленном художником, одно время подписывавшим свои рисунки «крестьянин из Кацусика» (Кацусика был округ той провинции, где находится квартал Хондзё).
Согласно данным, приведенным в завещании его внучки Сираи-Тати, он был третьим сыном Кавамура Итироёмона, который под именем Бунсэй работал в области искусства, но род или, вернее, жанр его деятельности остался нам неизвестен. В возрасте около четырех лет Хокусай, первое имя которого было Токитаро, был усыновлен Накадзимой Иссэ — фабрикантом зеркал при княжеском дворе Токугавы, усыновление, которое позже заставляло многих ошибочно считать этого Никадзиму Иссэ его отцом.
Хокусай еще мальчиком поступил кем-то вроде коммивояжера по книжной торговле в большое книготорговое предприятие Иеддо, где, благодаря увлечению созерцанием книжных иллюстраций, настолько лениво и небрежно исполнял свои обязанности, что вскоре был выгнан и лишился места.
Это перелистывание иллюстрированных книг в книжном магазине, эта жизнь среди изображений, захвативших его в те месяцы, пробудила в юноше вкус и страсть к рисунку, и в 1773–74 гг. мы уже находим его работающим у одного гравера по дереву, а в 1775 — под новым именем Тэцудзо, гравирующим шесть последних листов к роману Санго. И вот — он гравер, гравер в возрасте восемнадцати лет.
Ill
В 1778 году Хокусай, называвший себя в ту пору Тэцудзо, бросает свое ремесло гравера, не соглашаясь более быть лишь исполнителем, переводчиком для таланта кого-то другого, одержимый желанием изобретать, творить, воплощать в лишь ему присущих формах образы, рождаемые его воображением, — короче, самому стать настоящим художником.
И вот восемнадцати лет он поступает в мастерскую Сюнро, где его молодой талант заслуживает ему имя, имя Кацукава Сюнро, которым мастер разрешает ему подписывать свои композиции, представляющие серию актеров, в формате и манере Сюнро, своего учителя, где у молодого рисовальщика, молодого Сюнро, лишь начинает появляться нечто, что позднее станет великим Хокусаем. И с настойчивостью в упорной работе он все рисует и выпускает в свет до 1786 года новые и новые композиции, подписываемые сигнатурой[791] Кацукава Сюнро или просто Сюнро.
Композиции Хокусая за эти годы, так же, как первые композиции Утамаро, были награвированы в маленьких пяти сеновых книжечках, общедоступных, исполненных в одном только черном цвете, в желтых обложках, откуда произошло их название Кибёси — желтые книжки.
Первая желтая книжка, иллюстрированная им в 1781 году, в возрасте двадцати одного года, был маленький роман в трех выпусках, названный «Аригатай Тсуно Итидзи»[792]
«При любезном обхождении — все позволено», роман, которого ни Хаяси, ни японские биографы художника не встречали и текст которого при его выходе в свет приписывался Китао Масанобу, а позднее — знаменитому романисту Кёдену, когда как и текст, и рисунки принадлежат Хокусаю, который опубликовал эту работу под псевдонимом Корэва сан, прозвище, переводимое «Разве это так?» — рефрен песенки того времени.
В следующем, 1782, году Хокусай публикует «Гонцов Камакура» — два выпуска, в которых и текст и рисунки выполнены им, причем текст подписан именем Сёбуцу, а рисунки — именем Сюнро. Это рассказ об историческом происшествии, описывающий попытку ниспровержения третьего сёгуна, предпринятую Сёбуцу в XVII веке. В последовательности картин мы видим молодого честолюбца — заговорщика, еще почти ребенка, пустившегося в воинственное предприятие, обучающегося у таинственного стратега воинскому искусству и волшебному средству быть видимым одновременно в шести повторенных обликах. Он организует заговор и велит зарезать гонцов. Он верит в покровительство бога, благосклонного к его намерениям, и ему кажется, что он видит себя в зеркале уже сёгуном, а одного из своих приближенных — первым министром. Он держит совет со своими сообщниками и затем храбро борется с воинами, присланными чтобы захватить его, и наконец, оказавшись пленником, вспарывает себе живот, в то время, как его мать, жена и дети, среди связанных соучастников, покорно идут на пытки; мать подвергается пытке «копчением».
В том же году Хокусай публикует еще два романа в двух томиках «Небесные цари четырех стран света, одетые по последней моде», с текстом, подписанным Корэвасан и принадлежащем ему так же, как и рисунки с подписью Сюнро.
В этом или следующем году, он выпускает еще одну желтую книжку, которая подписана одним лишь именем — Кацукава Сюнро, представляющую собой историю Нитирена, буддийского священника, основателя новой секты.
Мы видим крещение, первое обучение, созерцание природы, жизнь аскета в горной пещере, изгнание отовсюду священника — новатора, благодаря революционности его мнений, лишение сана в храме, появление кометы, знаменующей трагические события, его самозащиту при помощи четок от воина, стремящегося его убить, потопление монгольского флота, вызванное силой его таинственного влияния, осуждение его на смерть, когда сабля палача была раздроблена молнией, его изгнание на отдаленный остров, его проповеди, странствия и, наконец, смерть посреди плачущих учеников.
В 1784 году Хокусай иллюстрирует две работы: «Аромат цветов веера» (2 тома) и «Путешествие Йосицунэ на гору, увиденную в ящике кукольного театра». Текст Икудзимонаи (неизвестен), иллюстрация Сюнро. Этот Икудзимонаи вполне может быть самим Хокусаем.
В 1785 году Хокусай выпускает две желтые книги, где ничего не говорит насчет текста и лишь объявляет, что иллюстрации принадлежат Сюнро. Это «Превращение злобы в огне светлячков из Удзи» (три тома) и «Наследство родителя — слава для носа» (3 тома). Здесь, в последней работе, Сюнро становится Гумматеи.
В этот, первый, период Хокусай нередко является одновременно иллюстратором и писателем — автором тех романов, которые он публикует. Его литература — высокого качества, благодаря тонким наблюдениям за японской жизнью. Это подтверждается и примером некоторых вещей, таких, как его первый роман, которые приписывались таким романистам, как Кёдэн. Согласно Хаяси, литературное творчество мастера имеет и другую заслугу: насмешливый ум художника сделал его пародистом литературы его современников, их стиля, их приемов, и главное — скопления происшествий и смеси современных ему персонажей с людьми XII и XIV веков, что особенно чувствуется в «Гонцах Камакура», где он использовал для легенды XVII века все баснословные и невероятные происшествия древней японской истории.
Эта двойная роль — писателя и художника — сохраняется им не долее, чем до 1804 года, после которого он остается только художником.
IV
В этом, 1786, году, когда молодому художнику было двадцать шесть лет, особый случай заставил его покинуть мастерскую Кацукава. Он нарисовал вывеску для торговца эстампами, которой этот торговец был так удовлетворен, что, сделав к ней богатое обрамление, поместил ее перед своей лавкой, где она и находилась до тех пор, пока проходивший мимо лавки товарищ Хокусая по мастерской, но более старого выпуска, чем он, найдя вывеску плохой, разорвал ее, чтобы спасти честь школы Сюнро.
Так возник спор между старыми и новыми учениками мастерской, вследствие которого Хокусай покинул ее, приняв решение не поддаваться ничьему внушению и стать художником, вполне независимым от предыдущих школ. И тогда в этой стране, где художники меняют имена почти так же часто, как платье, он покидает имя Кацукава, чтобы принять сигнатуру Мугура, что означает «куст», и объявляет для сведения публики, что художник, носящий это новое имя, не принадлежит ни к какой школе. И, стряхнув с себя полностью гнет стиля Кацукава, он создает рисунки, подписываемые Мугура, более свободные, более ему и лишь ему одному свойственные.
V
В 1876 г. Хокусай публикует Дзэндзен Тайкэйки — фрагмент из истории Минамото, где у молодого художника впервые начинают появляться ужасные кавалькады и тела, сплетенные для убийства его будущего творчества.
В 1789 году Хокусай, снова под именем Сюнро, иллюстрирует «Сказку для детей» Кёдэна, относящуюся к легенде о Момотаро, где его рисунки, придающие животным черты человеческой жизни и быта, имеют нечто общее со «Сценами частной жизни зверей» Гранвилля.
Злобная старая женщина, с лицом «кислым, точно уксус», поймав на месте преступления воробья, который клевал крахмал, приготовленный для белья, отрезает ему язык. Тут мы видим комический взлет воробьев, во весь дух спасающихся в толкотне отчаянного страха. Но по соседству со злой старухой живет добрая семья, любившая этого воробья. И вот муж и жена идут по полям и лесам, крича: «Кто видел воробья с отрезанным языком? Милый воробышек, отзовись! Где ты? Что с тобой случилось?» Наконец, они находят бедного маленького раненого в воробьином доме, где мать уже перевязала язычок своему ребенку, а братья и сестры ласково за ним ухаживают. Добрых стариков здесь ждет любезный прием. Отец воробьиного семейства танцует для них Сузумэ одори — танец воробьев, а когда они уходят, им дарят маленький ящичек, в котором по возвращении они находят молоток, — удивительный молоток, с каждым ударом которого падает новая золотая монета.
Между тем, злая соседка видела все это через окно. Она добивается приглашения к воробьям и получает от них на прощание ящик, из которого — лишь только она открывает крышку — выходят рогатые чудовища, превращающие ее в монеты.
Наоборот, добрая женщина находит еще персик, откуда выходит Момотаро, завоеватель королевских чудовищ.
В 1793 г. Хокусай иллюстрирует любопытную книгу — «Дорога богатства и бедности», текст которой написан Кёдэном, и дает параллельное изображение двух жизней так, как любил это делать художник Хогарт.
Первая картинка изображает первое умывание бедного ребенка его отцом возле постели с лежащей женщиной, и другая, противоположная ей, — умывание богатого ребенка на глазах врача, акушерки, прислужниц.
Наступление для обоих детей гуэн-буку — совершеннолетия, вступления в жизнь взрослого человека, отмечаемое там бритьем лба, производимым у богатого специальным мастером, у бедного — его матерью.
И здесь действительно начинаются две дороги: дорога богатого — в своем доме, среди толпы слуг, и дорога бедняка, одинокого и дурно одетого, под дождем на улице. Дорога богатого — среди ландшафтов с цветущими деревьями, ласкающими его взгляд своей красотой, и дорога бедняка — среди опустошенных пейзажей, среди гор, похожих на гору близ Киото, где рытвины и впадины словно образуют иероглиф слова «отец», возле скал, похожих на иссохшие груди матери бедняка, останавливая его мысли на воспоминаниях об их несчастиях.
Аллегории всё продолжаются: богатого принимают в гостинице прелестные мусмэ, на фоне далекого пейзажа, включающего в себя черты женщины из Йосивара, тогда как бедняк, поступивший на работу в контору, проходит по мосту, представляющему собой сорабан (счеты); входит в храм, с башнями из столбиков монет, идет возле пагоды, вместо крыши покрытой кассовой книгой, и так движется по своему суровому пути, «сжигая концы своих ногтей», что по-японски значит — вынося жестокие страдания.
И в конце двух дорог бедняк становится богатым: он садится на лошадь, ведомую обезьяной (воля, увлекаемая разумом), встречает оборванного богача, стыдящегося того, что он оказался на этой дороге, в то время, как вдали, в рубище нищих, исчезают двое приятелей, деливших с ним радость во времена его богатства.
И как апофеоз бедняка, последняя картинка показывает нам его облокотившимся на ящики с золотом и бутылкой саке в руках.
В 1794 г. Хокусай, под именем Токитаро Како, иллюстрирует маленькую книжку «Веревка девочки», текст которой написан Кёрори.
Это довольно туманная история, где мы видим молодую девушку, покупающую газету, чтение которой заставляет ее уйти из своего дома, оставив письмо, над которым проливают слезы мужчина и женщина, обитающие в доме. В пути она подвергается нападению злых самураев, и освобождена прохожим, оказывающим ей гостеприимство. Она уходит, чтобы отомстить за своего отца, павшего от руки убийцы. Далее, в момент, когда она готова убить своего врага, она узнает, что он отец ее спасителя, влюбленного в него. И Хокусай показывает ее выпускающей из рук его волосы, которые она схватила, готовясь его убить и довольствующая тем, что она лишает его отличий воина.
Может быть в этот или же в последующие за ним годы вышла серия цветных эстампов, соединенных в один альбом — «Импровизированный праздник в квартале зеленых домов», показывающих карнавал на улицах Йосивара, где видны женщины в театральных костюмах, увенчанные цветами, исполняющие танцы, разыгрывающие сцены из драм, изображающих времена года.
В 1795 году Хокусай, носивший в то время имя Сюнро, еще раз меняет его, приняв наследство — мастерскую Таварая Сори, школы Сотацу и подпись Сори.
Это та эпоха, когда он выпускает в свет эти бесчисленные серии чудесных суримоно.
Взбалмошный, как все великие художники, Хокусай нередко бывал в дурном настроении и с злорадным удовольствием старался быть неприятным для людей, которые не выказывали той почтительности, которую, как ему казалось, следовало проявить в обращении с ним, или тех, чей вид внушал ему антипатию.
Онойё Байко, известный актер первых лет века, узнав о таланте Хокусая изобретать привидения, возымел идею обратиться к воображению художника, чтобы он нарисовал ему выходца с того света, с целью использовать этот образ в одной из пьес своего театра. Актер пригласил художника к себе, но Хокусай всегда избегал посещать кого-либо и отказывался от приглашений. Тогда актер решился сам сделать визит, но найдя мастерскую художника столь грязной, что он не мог заставить себя сесть на землю, он приказал принести свое дорожное одеяло, на котором и приветствовал Хокусая.
Но обиженный художник и не повернулся к нему, продолжая рисовать, и знаменитый Байко уехал в крайнем раздражении. Однако он так ценил рисунки Хокусая, что имел слабость после принести ему извинения, чтобы добиться прощения.
В то же время Хокусаю нанес визит один из поставщиков сёгуна, который явился попросить у него рисунок. Неизвестно, чем не понравился гость художнику, но принял он его сидя во дворе под ярким солнцем, истребляя вшей на своей одежде, и бросил довольно грубую реплику, что он очень занят и не может заниматься с гостями. Гость покорился необходимости ждать окончания охоты, производившейся хозяином, и получил желанный рисунок, но едва лишь он вышел за дверь, как Хокусай бегом догнал его, крича насмешливо вслед: «Не забудьте, если вас спросят, как нашли вы мою мастерскую, сказать, что она очень богата, очень чиста!»[793]
XXI
Среди всех романов, иллюстрированных Хокусаем с 1805 по 1808 годы, иллюстрации к книге «Сок добывателя камфары с юга» имели огромный успех, успех такой, что Хокусай отнесся к нему довольно ревниво, что вызвало охлаждение между Бакином и Хокусаем, приведшее к обоюдному нежеланию продолжать совместную работу. Однако издатели настолько искусно щадили самолюбие обоих мастеров, что добились от них согласия на сотрудничество для окончания этой работы, вышедшей в 1811 г.
Но когда рисунки были закончены и вручены Бакину, он нашел, что они не соответствуют тексту и потребовал изменений, а Хокусай, которому сообщили об этой претензии писателя, ответил, что этот текст нуждается в изменениях. Когда же издатели отгравировали и выпустили и текст и рисунки в том виде, в каком они были ими получены, между авторами вспыхнула ссора.
С момента этого расхождения между Хокусаем и Бакином художник задался целью выпускать книги рисунков, обходясь без текста литератора и по той же стоимости выпуска, как и тогда, когда он соединил свое имя с именем Бакина.
Благодаря этому намерению, несколько лет спустя родилась «Манга», при обстоятельствах до сих пор совершенно неизвестных, которые раскрыты для нас предисловием Ханьшу, предпосланным первому тому и по моей просьбе переведенным Хаяси. Хокусай — художник столь необычайного таланта, — говорит Ханьсю, — после своего путешествия на Запад остановился в нашем городе (Нагоя) и здесь познакомился с нашим другом Бакудзеном; он беседовал с ним о рисунке, и во время этих разговоров нарисовал более трех сотен изображений. Между тем мы возымели желание, чтобы эти уроки послужили желающим изучить это искусство, и было решено издать эти рисунки, объединив их в одном томе. Когда мы спросили Хокусая, какое имя дать этому тому, он ответил просто: «Манга», и это название, увенчанное его именем, мы и поставили на обложке: «Хокусай. Манга», что в буквальном переводе означает — «ман» — по воле представления, «гам» — рисунок, и перевод приблизительно выглядит так: «рисунок, вылившийся непосредственно».
«Манга» — это изобилие образов, лавина рисунков. Этот разгул карандаша, эти пятнадцать тетрадей, где наброски теснятся на листах, как кладка яиц шелковичного червя на листе бумаги, творение, подобного которому нет ни у одного из западных художников. «Манга» — это множество лихорадочных набросков всего, что только есть на Земле, в небе, под водой, эти волшебные мгновения, выхваченные из жизни тел и душ движущейся жизни человечества и животного мира; наконец, это разнообразие бредовых видений на бумаге этого великого «безумца рисунка» — всё там!
Уже тут, в первом томе, едва вы открыли его, в этих свободных набросках, где немного розового цвета дает впечатление кожи тел, немного серого — полутона на бумаге кремового оттенка — дети, дети, дети во всех их играх и забавах, позах, шалостях и радостях; затем боги, гении, буддийские и шинтоистские[794] священники, высмеянные в тысячах маленьких насмешливых карикатур; затем все ремесла, все профессии в работе за своим трудом, силачи в напряжении силы и ловкости; еще японки, грациозно сидящие на корточках, в своей жизни «на четырех лапках», в кокетстве их туалетов, анатомическом изображении их стройных фигур в банях, и японцы спящие, размышляющие, молящиеся, читающие, играющие, рассуждающие, обмахивающиеся веерами, стряпающие, опьяняющиеся вином, прогуливающиеся пешком или верхом, удящие рыбу, дерущиеся — в яркой передаче всех этих мгновений, остроумной, немного иронической; и еще все животные, даже те, которые не встречаются в Японии, как, например, слон и тигр, и все птицы, все рыбы, все насекомые, и все деревья, все растения, — вот то, чем наполнены пятьдесят страниц этого первого тома, в котором первая таблица представляет чету Такасаго — типов старинной семьи, популярных в Японии: женщину, несущую метлу, чтобы подмести сосновые иглы, и мужчину с вилами, чтоб собрать их.
В конце этого первого тома, вышедшего в 1812 году, Хокутен Бакудзен (художник, по совету которого родилась «Манга») и Хоку-Ун (который стал учителем архитектуры мастера), чье сотрудничество заключалось просто в копировании и сокращении (уменьшении. — С.Т.) рисунков, объявляют себя учениками мастера.
Второй том «Манга» вышел лишь в 1814 году, два года спустя после выхода первого тома, с предисловием Рокудзюэна и в сотрудничестве для воспроизведения рисунков с Тоэнро Бакузеном и Тодоя Хоккэн, который в будущем станет лучшим из учеников и приблизится больше, чем кто-либо другой к таланту Хокусая. По множественности мотивов это все то же разнообразие: на одной странице — ремесленники, и рядом — муки буддийского ада; целая страница различных телодвижений женщин; напротив такой же страницы, изображающей телодвижения мужчин, страница масок рядом со страницей домашней утвари и принадлежностей семейного быта; наконец, страница с обломками скал для декорирования сада, в этой стране живописнейших садов, где обломки скал оплачиваются дороже, чем в любом другом месте на земном шаре, против страницы с изображениями фантастических животных, поедающих дурные сны.
Третий том вышел в следующем году (1815) с предисловием Сёкудзана, который просто топит старую школу и заявляет, что старые мастера, иллюстрировавшие манускрипты Кэндзи, должны уступить место новым художникам, авторам «красных картинок» (рисунков народной школы).
Многие рисунки этого тома посвящены трудной и тяжелой работе рудокопов. За ними следуют две занимательные двойные таблицы: одна, посвященная борьбе, делает нас свидетелями жестоких схваток, мускулистых и напряженных сочетаний тел, перегибов туловищ, резких отрывов от земли одним из противников другого, этих задов победителей на головах поверженных побежденных, другая показывает нам танцоров в бешеных эпилептических антраша[795] дьявольского танца.
Затем доисторические портреты двух первых царей Китая, банда озорных негров, китайские тени, представляющие плод воображения Хокусая, и, помещенные один против другого, бог грома, изображенный с нимбом, образуемым тамбурином, и бог ветра, обеими руками закрывший два отверстия над своим подбородком, не считая тех ветров, которые он несет на спине.
Заголовок этого тома, гравированный в этих прекрасных, крупных, орнаментальных китайских иероглифах, напоминающих куски, высеченные из яшмы, заключенный в кадр, поддерживаемый на своих шеях двумя маленькими японцами с насмешливыми лицами, характерными хохолками на лбу и на висках, — представляет восхитительный рисунок.
Четвертый том вышел в следующем, 1816, году, с предисловием Хоцана. Этот том наполнен сюжетами мифологических или доисторических времен. Мы видим Кинтоки, изгоняющего дьявола, видим девятиголового дракона, приползшего пить из девяти чаш, в которых он найдет свою смерть, видим Сэннина, оседлавшего огромного карпа, и среди всего этого — страницы с изображением овощей, страницы трав, страницы веток кустарника с их розовато-серыми тонами, непередаваемые по нежности доставляемого впечатления. Два любопытных листа представляют радостно плавающих в воде мужчин и женщин, поддерживаемых плавательными снарядами, ныряющих срывая подводные растения, схватывая руками рыб… Последняя страница представляет мужчину и женщину, жирных, с отвисшими челюстями и плутовской усмешкой на лицах, относящейся к чему-то съестному, что они рассчитывают найти в котелке, крышку которого приподнимает мужчина. Эта добрая чета, изображающая беспутные радости низшего класса, чета Вагодзин, противопоставляемая чете Такасаго — мужчине с вилами и женщине с метлой.
Пятый том, вышедший летом того же 1816 года, начинается предисловием Рукудзюэна. Это том, который представляет собой почти что курс архитектуры. Он открывается портретами двух первых архитекторов, преподавших японцам искусство строить храмы, дворцы и жилища, — Татико-но Микото и Ама-но-Хикодзати-но Микото, — в официальных облачениях и с дощечками о их назначении на должность в руках. За этими портретами следует Торий, башня с большим колоколом шестиугольной и вращающейся библиотеки, изобретенной священником Фудаи, — от входа в здание, где скрыты книги буддийского вероучения, до крыш, изукрашенных бонзами.
Среди этих гравюр помещена любопытная композиция, представляющая моление, возносимое к небу человеком, стоящим на самой вершине горы, соединив обе руки в жесте, выражающем просьбу, вокруг палки, к верхнему концу которой привязана его молитва, записанная на ленте бумаги, которую ветер приподнимает в воздух.
Заканчивается том изображениями мифических и исторических персонажей, таких как богиня Узумэ, Сарудахико — бог, возвративший свет на землю, китайский воин Кан-он, почитаемый в Китае, образ которого там можно встретить в каждом самом бедном жилище.
В том же 1816 году выходит еще шестой том, имеющий на фронтисписе символический лук, тетива которого натянута двумя драконами. Здесь представлены физические упражнения, в которых чудесно показаны сила и ловкость. Это, прежде всего, стрелки из луков. Стрельба из лука на высоте уха, над головой, ниже пояса, с заключительной гравюрой, дающей детали самого лука, кожаные перчатки, деревянную утку, служащую мишенью. После идут борцы, затем всадники: картины рыси, иноходи, галопа этих кусающихся косматых маленьких лошадей, похожих на личинки под всадниками, сидящими в седле, с заключительной гравюрой, представляющей изукрашенное седло, узду, тяжелые стремена.
Самым замечательным в этом томе из всех изображенных движений человеческого тела является фехтование на копьях и саблях, где семьдесят два совсем маленьких наброска и двадцать более крупных показывают нам выпады и отступления, скручивание тел, повороты ног, парады, рипосты этого подобия войны. Отдельная гравюра показывает руки и кисти, давая движения для охвата в борьбе раскрытой ладонью. Наконец, здесь же мы встречаем изображения, учащие обращению с тяжелыми мушкетами, проникшими в Японию из Голландии, и Хокусай в особом примечании уточняет год их появления в Японии (1542).
В 1816 году появляется еще и седьмой том «Манга». Том, весь заполненный ландшафтами, солнцем, туманами и грозами.
В том же 1816 году выходит восьмой том с заголовком, имитирующем кусок вышитой ткани. Он открывается изображением Вака-Мусути но Ками — женщины, изобретшей тканьё из древесных волокон, и рядом с ней — принцессы Сеприо, жены императора, которая первой подала мысль о разведении шелковичного червя за 2614 лет до нашей эры. За ними следуют изображения шелкоткацкого производства, которые кажутся нарисованными инженером. Далее художник переходит к гимнастам, совершающим упражнения на трапеции, подвешенной к бамбуку, к акробатам, жонглирующим саблями, несущим на лбу на конце длинного шеста чашу, наполненную водой, соблюдая равновесие, снимающих шляпу, стоя на одной ноге при помощи другой, пьющих лежа навзничь чашку с чаем, поставленную на земле позади них. Две гравюры, изображающие слепых, поражают своей правдивостью. И, наконец, этюды худых и жирных, уморительные по богатству забавной фантазии художника. Надо видеть этих массивных японок во время их тяжеловесных передвижений для прогулки, в дряблом бессилии их прелестей, во сне или в бане. Надо видеть их полнокровных спутников, запыхавшихся от ходьбы, обливающихся потом, обрушивающихся в изнеможении для отдыха на свои тяжеловесные ягодицы. Но вот страница жирных повернута, и перед нами бока, почти просверленные выпирающими ребрами, спины, на которых легко пересчитать узлы позвоночных столбов, истощенные шеи, чахлые руки, чахоточные ноги этой комической анатомии, напоминающей сразу скелеты и юмористическую школу плаванья Домье.
Между появлением восьмого и девятого тома, вышедшего лишь в 1819 году, проходит три года. Этот том полон анекдотических событий, относящихся к интимной жизни Киёмори. Вот путешественница, которая быстро идет по деревне, направляясь к двум женщинам, стоящим у дверей далекого жилища. Это Хатокэ, любовница Киёмори, красивейшая женщина и лучшая из танцовщиц своего времени. Две сестры ходатайствовали о том, чтобы танцевать перед Киёмори, и из снисхождения к их красоте и молодости она согласилась поддержать просьбу перед своим возлюбленным. Но принц, увлеченный ими, захотел сделать их своими любовницами. Они отказались, и чтобы спастись от его власти, стали монахинями, и Хатокэ, благодарная им за их деликатность по отношению к ней, идет, чтобы навестить их в монастыре.
Далее мы видим самого чувственного Киёмори в присутствии жены Минамото, с грустью, отраженной в ее унылой позе, и руке, подпирающей щеку. Киёомори победил Минамото и хочет истребить его семью, состоящую из жены и трех детей, которой он овладел при его бегстве. Но прежде, чем дать приказ умертвить их, он поддался любопытству увидеть жену Минамото и внезапно обольщенный ее красотою он требует, чтобы она согласилась ему принадлежать, на что она безропотно согласилась при условии, что он пощадит ее детей. Этот торг и является сюжетом гравюры. Со временем наступит день, когда эти трое детей отомстят за отца, истребят семейство Тайра, и старший из троих станет Йоритомо, первым сёгуном Камакуры.
Другая картина представляет Оканэ, женщину, известную своей геркулесовой силой, которую мускулистый воин хотел остановить на ее пути, но она, одной рукой держащая на голове барабан, продолжает спокойно продвигаться вперед, а другой — увлекает за собой этого мужчину с его двумя саблями.
Здесь же гравюры, изображающие японских музыкантш в год богатого урожая и радость неожиданно накормленных крестьян. Тут же рядом, неизвестно почему, портрет одного голландского астронома.
В том же, 1819, году выходит десятый том, с предисловием, подчеркивающим настойчивость, проявленную Хокусаем, чтобы выпустить в свет и создать эти десять томов.
Уличные гимнасты, фокусники, престиджитаторы[796], эквилибристы и шпагоглотатели, извергатели пчелиных роев, чудотворцы, умеющие делать свою голову невидимой…
Но я хотел бы остановиться лишь на двух изображениях из всех включенных в этот том, с их мрачной фантастикой, превышающей все, что может себе представить в этом жанре воображение европейца и не без основания заслуживших Хокусаю имя мастера в изображении привидений. Это явления двух уже умерших женщин. Одна из них Казанэ, уродливая женщина, убитая своим мужем, которую художник представляет с ее лбом гидроцефалического зародыша под мелким колючим кустарником волос; один глаз ее закрыт, другой широко открыт, со зрачком, напоминающим зрачок вареной рыбы, с обнаженным хрящом ее носа; ее челюсти без десен, полуоткрытые и зияющие до ушей, ее руки, руки скелета, поднятые к голове в содрогании идиотического танца аборигена какой-нибудь Огненной земли; появление, вызывающее испуг, особенно если увидеть его вечером при свете лампы.
Другое явление, по-видимому, возникающее в мрачном небе точно явление какой-то искривленной и ослабевшей личинки, белой и окутанной собственной шевелюрой, — это душа маленькой служанки — Окику. Она жила в доме, где было десять драгоценных тарелок, и имела несчастье разбить одну из них. Владелец тарелок столь жестоко попрекал этим девушку, что она бросилась в колодец. С того дня она каждую ночь появляется над колодцем и в доме, прилегающем к колодцу, а также других соседних домах слышен её голос, рассказывающий одну за другой истории каждой из этих десяти тарелок. Дойдя до десятой, той, которую она разбила, слышно, как на этот раз вместо легенды она испускает рыдание столь раздирающее, что все соседи уже не раз обращались к священнику, чтобы он своими молитвами помог ей, наконец, вознестись на небо и там успокоиться.
«Манга» в 1819 году кажется оконченной этим десятым томом, и проходит пятнадцать лет прежде, чем появляется продолжение. Когда, наконец, в 1834 году, выходит одиннадцатый том, в предисловии к нему Танэхико заявляет: «Манга» была закончена десятым томом, но алчные издатели так преследовали нашего старца, что он согласился вновь взяться за кисть и нарисовал этот том, предполагая достичь в будущем окончания двадцатого тома».
В этом одиннадцатом томе мы встречаемся с вариациями предыдущих. Позы, положения тел в будничной жизни, фигурки людей, сидящих или идущих в спокойной прогулке, или в напряжении работы, в спокойном средоточии страдания и в лихорадочном бешенстве злобы; гравюры, гравюры, тучные борцы и маленькие зарисовки уголков природы, модели игрушек и пистолетов. Два художника, рисующих ногу Ню со скульптуры в таком размере, что она кажется стволом старого дуба. Далее японка, рассказывающая какую-то повесть воину, дающая своему гребню возможность, согласно обычаю, упасть на землю.
В том же, 1834, году вышел двенадцатый том, очень близкий к карикатуре. В нем всё высмеяно в крайних преувеличениях: том смешных падений, бесконечных носов Тэнгу, на которых совершаются фокусы, силуэтов, китайских теней, ужасающих старух. Мы видим лица женщин, ставших чудовищными благодаря приложенному к ним увеличительному стеклу. Удлинение шей во время сна, которое, согласно суеверию, распространенному в Японии и на Филиппинах, позволяет головам — владельцам этих шей отправляться исследовать другие страны и даже планеты. Тела жителей края, где люди имеют лишь по одной руке и одной ноге и где они спарены по двое (accotes deux par deux).
И будто для того, чтобы усилить противоречивость сюжетов, за которые берется его кисть, Хокусай порой склоняется к скатологии. Так, в одиннадцатом томе мы видим японку с платьем, спущенным до пояса, брошенную на землю одним из ее соотечественников в пылу насилия, а в описываемом сейчас двенадцатом томе — в слуховом окне узкого и темного жилища появляется профиль, с трудом могущий быть приписанный самураю, меж двух его сабель, поднявшихся выше головы, тогда как снаружи трое японцев затыкают носы пальцами и рукавами своих одежд.
Тринадцатый том вышел лишь осенью 1849 года, после смерти Хокусая, произошедшей весной того же года.
В тринадцатом томе два чудесных рисунка: божественная Каннон — на одном из своих монументальных карпов, изображенных так, как лишь один Хокусай умел это делать, и тигр, переправляющийся через водопад посреди рисунка, изображающего в гористой провинции Хида «переход по нитке» — мост, состоящий из одной веревки, по которой скользят, перебирая ее руками и вися над пропастью; также рисунки, представляющие образцы деревенских жилищ, изображающие высушивание дынь (для приготовления из них супов), рисунки, изображающие очистку риса от кожуры.
Четырнадцатый том, совсем новый, вышел лишь в 1875 году и составлен из посмертных рисунков Хокусая. Помимо единичных рисунков на различные темы, он почти весь составлен из изображений животных, как реальных, так и фантастических. Здесь кошка, пожирающая мышь, собака, лающая на луну, лисица под дождем, морские львы, козы, разбуженная летучими мышами белка, кабан, переплывающий реку, медведь в снегах, ослы, лошади, корейский лев, тайное совещание крыс.
Пятнадцатый и последний том «Манга» вышел в 1878 году с предисловием, в котором издатель говорит, что, владея всеми досками оригиналов «Манга», он договорился с Хокусаем перед его смертью, что «закончит издание, выпустив пятнадцатый том и что он поэтому отгравировал рисунки, предназначенные для публикации, которые еще не появлялись». Издатель лжет, так как большая часть рисунков, имеющих ценность (!? — С. Т.), взята из тома, носящего название Гако Хокусай — «Зеркало рисунков Хокусая».
Десять первых томов, выпущенных небольшим тиражом, доски которых хранятся в Иеддо, имеют издателями трех издателей этого города и одного издателя в Нагоя. Начиная с выпуска десятого тома, доски дальнейших томов были уступлены издателю Сиракуя из Нагоя.
Лишь один только том — именно двенадцатый — носит имя гравера, и этот гравер Иэгава Томэкити.
В 1817 году, во время поездки Хокусая в Нагоя, художник получил заказы на множество книжных иллюстраций, и в то время, как его ученики восхваляли точность изображения быта и природы в рисунках мастера, рисунках сравнительно очень малого формата, противники «народной школы» объявляли, что маленькие вещицы, выходящие из-под кисти Хокусая, принадлежат, скорее, ремеслу, чем подлинному искусству. Это задевало самолюбие Хокусая и побудило его заявить, что если талант художника характеризуется большой величиной изображений и крупностью мазков, он готов к тому, чтобы поразить величиной своих завистников. Тогда его ученик Бакудзэн и его друзья пришли ему на помощь, чтобы публично выполнить громадное полотно — Дхарму[797] в совершенно невиданном масштабе по сравнению даже с тем, который был им создан в 1804 году.
Это произошло на пятый день десятого месяца года, и демонстрация имела место перед двором Нисидзакэё. Японская биография Хокусая дает отчет по рассказу и рисункам Йонкоана, друга художника.
Посреди северного двора дворца, огражденного изгородью, была развернута специально для этого изготовленная бумага, в несколько раз более толстая, чем та, которая служит для изготовления японских плащей. Лист бумаги, на котором Хокусай собирался рисовать, имел поверхность 194 кв. метра. Для того, чтобы бумага была гладкой и натянутой, под нее была сделана постель из рисовой соломы значительной толщины, а куски дерева, уложенные на известном расстоянии один от другого, служили грузом, мешавшим ветру поднимать ее. Против залы совета и мест для публики были воздвигнуты леса, леса, на высоте которых движущиеся на блоках веревки были предназначены, чтобы поднять гигантский рисунок, верх которого был прикреплен к громадной и толстой доске. Кисти огромных размеров были наготове. Самая маленькая из них была величиной с метлу. Китайская тушь, стоявшая здесь в огромных кубах, была перелита в бочки.
Эти приготовления заняли все утро, пока с момента первых солнечных лучей во дворе дворца собиралась толпа аристократов, нищих, женщин всех классов, стариков и детей, чтобы видеть выполнение рисунка.
После полудня Хокусай и его ученики, с полуцеремонной осанкой и обнаженными руками и ногами, принялись за работу. Ученики, черпая тушь из бочек и переливая ее в бронзовые тазы, сопровождали всюду с этими тазами рисующего художника.
Сначала Хокусай взял кисть размером с копну сена и, намочив ее в туши, изобразил нос, затем правый глаз, потом левый глаз Дхармы. Потом, сделав несколько шагов, он нарисовал рот и ухо. После этого он побежал бегом, чтобы нанести контур черепа. Сделав это, он изобразил волосы на голове и бороду, взяв, чтобы их оттенять, другую кисть, изготовленную из волокна кокосового ореха, которую он опустил в более светло разведенную тушь. Тогда его ученики принесли на огромном подносе кисть, сделанную из рисовой пакли (sac de riz) и всю пропитанную тушью, к которой была привязана веревка, и эту кисть, положенную на назначенное Хокусаем место, он, зацепив себя веревкой за шею, повлек туда и сюда маленькими шагами, создавая таким образом крупные мазки платья Дхармы. Когда этот контур был закончен и надо было положить красной краски на платье, ученики взялись за ведра, лопатами доставая оттуда краску и разбрасывая ее, в то время, как другие мокрыми полотнами растаскивали ее с тех мест, где ее оказывалось слишком много.
Лишь с наступлением ночи изображение Дхармы было полностью закончено, и при помощи блоков удалось, наконец, поднять большую часть чудовищной живописи, тогда как часть бумаги всё еще оставалась среди народа, который, по японскому описанию, напоминал армию муравьев вокруг куска пирога. И только на следующий день леса были убраны и произведение полностью поднято в воздух.
Этот сеанс заставил имя Хокусая «прозвучать подобно раскату грома», и спустя немного времени во всем городе на всех оконных занавесях, ширмах, стенах и даже на песке играющие дети ничего не изображали, кроме Дхармы, ничего, кроме образа этого святого, предписавшего себе отказ от сна, о котором легенда рассказывает, что однажды ночью, нечаянно задремав, он, пробудясь, обрезал свои ресницы и бросил их как можно дальше от себя как отверженных грешников. Тогда эти ресницы чудесным образом пустили корни там, где они упали, и на этом месте выросло деревцо, оказавшееся чайным, дающее ароматный напиток, разгоняющий сон.
Это не единственная грандиозная работа, выполненная Хокусаем. Позднее, в Хондзё, он нарисовал колоссальную лошадь, а еще некоторое время спустя — в Хёгоку — гигантского Хотэя. Хотэй был подписан «Кинташиа Хокусаи», что означает «Хокусай из дома с парчовым мешком» — намек на холщовый мешок, являющийся обычным атрибутом этого бога.
В день, когда он изобразил лошадь со слона величиной, рассказывают, что он положил свою кисть на рисовое зерно, и когда после этого рисовое зернышко рассмотрели в лупу, то смотревшим казалось, что в микроскопическом пятнышке, сделанном кистью, прикоснувшейся к его поверхности, можно видеть двух отлетающих воробьев.
LI
В 1848 году, за год до смерти, Хокусай опубликовал «Трактат о цвете», на обложке которого виден Дайкоку, раскручивающий Какэмоно, на котором написан заголовок и имя автора и где первая таблица изображает над маленьким японским Рапэном, приготовляющим китайскую тушь, самого художника в одном из положений танца святого Иои (picturale), рисующим, держа одну кисть во рту, по кисти в каждой руке и по кисти в каждой из ног. Трактат составлен Хокусаем под именем Хатииэмона. Он заслуживает быть переведенным хотя бы в наиболее любопытных своих частях. Начинается он так: «Невежественный Хатииэмон говорит: я написал этот томик, чтобы научить детей, любящих рисовать, легкой манере окрашивать их рисунки, издавая этот томик по дешевой цене, в расчете на то, что всякий может купить его, чтобы передать молодежи опыт моих восьмидесяти восьми лет.
Когда мне исполнилось шесть лет, я начал рисовать, и в течение восьмидесяти четырёх лет я работал независимо от различных школ, и мысль моя всегда вращалась возле вопросов, связанных с рисованием. Так как для меня немыслимо изложить все в столь малом объеме, я хотел бы здесь лишь сказать, что вермильон — это не карминный лак, что индиго — не зеленого цвета, а также рассказать в общих чертах приемы проведения кругов, квадратов и прямых или кривых линий; и если мне придется когда-либо выпустить продолжение этого тома, я посвящу детей в тайну передачи мощи океана, быстроты стремнин, спокойствия стоячих водоемов, а также всех состояний, рисующих как силу, так и слабость живущих на земле. В самом деле, есть птицы, которые не взлетают высоко, цветущие деревья, которые не плодоносят, и все эти особенности жизни, окружающей нас, заслуживают глубокого изучения. Если мне удастся в этой истине убедить начинающих художников, то я смогу считать, что я первый «провлек мою трость по этому пути».
Далее следует таблица примерно в пятидесяти красках всех цветов, использованных мастером, а на следующей — над двумя руками, держащими кисть наклонно, чтобы набрать краску, — даны такие указания: «… краски не должны быть ни слишком густы, ни слишком жидки, и кисть должно держать в лежачем состоянии, иначе она оставляет грязные следы; вода для окраски, скорее, светлая, чем темная, иначе она будет утяжелять тон, — контур никогда не должен быть слишком отчетлив, но очень (degrade); не употреблять краску, пока она не отстоится и не опустится пыль, поднявшаяся на поверхность; краску растирайте пальцем и ни в коем случае не кистью; не кладите цвета на места, где нет темных теневых линий, где только и может быть наложен цвет. Лишь специальные краски следует употреблять, чтобы расцветить животных и растения, представленные в черном цвете в гравюрах, следующих одна за другой, чтобы окрасить петуха, орла, уток, рыб».
Черный цвет заставляет его сказать: «Есть древний черный и черный свежий, черный блестящий и черный матовый, черный освещенный и черный, погруженный в тень. Для древнего черного в него добавляется красный, для черного свежего — синий, для черного матового — белый, для черного блестящего примешивается клей, для получения черного освещенного надо дать ему серый отблеск..».
Немного далее, говоря о цветах, Хокусай открывает для нас любопытный тон акварели, принятый в их живописи. Это тон — «улыбающийся». Но слушайте самого старого художника: «Этот тон, названный улыбающимся — Вараи гума — применяется для окраски женских лиц, чтобы придать им живой румянец, а также для раскраски цветов. Вот средство изготовить этот тон: надо взять минеральную красную, распустить ее в кипящей воде и оставить отстояться до образования осадка. Это секрет, которого не сообщают обычно художники».
Хокусай добавляет: «Для расцветки изображений цветов обычно добавляют квасцы к этому осадку, но эта смесь темнит тон. Я тоже употребляю квасцы, но несколько иным образом, вынесенным мною из опыта: я долго толку ее и растираю в чашечке, поворачивая ее на малом огне, пока эта смесь полностью не высохнет. Тогда полученное вещество хранят в сухом виде, чтобы пользоваться им, смешивая его с белой краской, а чтобы получить этот белый, окрашиваемый едва-едва следами красного, я растираю белый до, и после, распуская красный в большом количестве воды, ввергаю ее в середину этой воды, едва окрашенной, и когда она покроет поверхность этой гуаши, добиваюсь желаемого тона».
Что любопытно в трактате Хокусая — это независимость, которую проповедует своим ученикам этот независимый мастер, объявляя им, что «не следует думать, что нужно раболепно следовать предписанным правилам, и каждый должен идти в своей работе согласно своему вдохновению».
В том же году он выпускает следующий том, носящий то же название, где говорится: «В первом томе я описал применение цветов вообще, в этом — я занимаюсь цветами в жидком состоянии», и далее идут приемы, как и в первом томе, как живописать корейского льва, кабана, кроликов…
В одном месте, в первом томе, он говорит о приемах голландцев и о европейской живописи маслом в следующих выражениях: «В японской живописи дают форму и цвет, не стараясь давать рельеф, но европейские приемы стараются воссоздать рельеф и вызвать обман зрения». В этой фразе Хокусай неумышленно противопоставил оба приема.
В этом втором томе, вероятно, намекая на гравюры Рембрандта (впоследствии один американский критик обвинит его в том, что он перенес в Японию манеру Рембрандта, смешав ее с канонической японской манерой), Хокусай говорит о голландских приемах создания офортов, приемах, состоящих в рисовании на меди, покрытой глазурью, и предупреждает, что он «разоблачит» эти приемы в следующем томе. Но этому второму тому «Трактата о цвете» суждено было стать последней работой художника.
Словарь неологизмов
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Николай Михайлович Карамзин — историк и писатель, человек, сыгравший огромную роль в русской культуре. Вся читающая Россия проливала некогда слезы над трагической участью «Бедной Лизы», жадно глотала страницы повести «Наталья, боярская дочь», читала и перечитывала «Письма русского путешественника». А знакомясь впервые с «Историей государства Российского», люди гордились славным прошлым своего народа, отдавая, вместе с тем, должное подвигу автора, критически обобщившего древние летописи, предания и исторические документы с IX по XVI век включительно и развернувшего на их основе грандиозную картину становления и развития Российской державы. Труд Карамзина представлял для своего времени замечательное явление и в чисто художественном отношении. А. С. Пушкин назвал слог карамзинской истории «дивной резьбой на меди и мраморе».
Однако интересно отметить, что сам Карамзин, посвятивший названным трудам всю свою жизнь, гордился и не скрывал этой своей гордости тем, что именно он впервые ввел в русский язык новые слова. Об одном из этих слов — слове «промышленность» сам он говорил так: «Это слово сделалось ныне обыкновенным — автор употребил его первый».
В самом деле: изобрести новое слово, обогатить свой родной язык, дополнив его чем-то несуществовавшим до тех пор, но необходимо ему нужным, — разве это не законное основание для гордости писателя?! Мы часто употребляем слова, которые были созданы Тредьяковским, Кантемиром, Ломоносовым, Державиным, Карамзиным или заимствованы (скалькированы, как говорят языковеды) ими с других языков. Такая работа постоянно велась и ведется; мало того, она и будет вестись до тех пор, пока язык живет и развивается, пока не стал он мертвым языком, закостеневшим на определенном историческом этапе, как, например, древнееврейский, древнегреческий и церковнославянский языки.
Напомним еще один интересный пример того, как относились к новому слову, введенному ими в язык, русские писатели.
Спустя полстолетия после смерти Карамзина Ф. М. Достоевский в своем «Дневнике писателя» за ноябрь 1877 года посвящает целую главку только слову «стушеваться» и его истории. «Во всей России», — с какой-то особой торжественной гордостью пишет Достоевский, — есть один только человек, который знает точно происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек — я, потому что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз я». И еще: «Мне в продолжении всей моей литературной деятельности всего более нравилось в ней то, что и мне удалось ввести совсем новое слово в русскую речь».
В это время Достоевским уже были написаны романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток», «Бесы». Жизнь гениального писателя подходила к концу — ему осталось жить менее четырех дет. Правда, еще не была произнесена знаменитая речь на пушкинском юбилее, не были написаны «Братья Карамазовы»… Но все равно, мы чувствуем, что этой гордости, гордости одним единственным словом никто и ничто не отнимет у писателя, ничто не поколеблет.
Такие новые слова принято называть неологизмами. Объяснение этого литературоведческого термина мы легко обнаружим в любой энциклопедии, в каждом толковом словаре. Пояснительный текст расшифрует его состав и языковое происхождение от совмещения греческих слов «нео» — новый и «логос» — слово. Однако привычное и уже ставшее для нашего уха почти русским окончание «изм» настроит невольно и на другое: не только «нео логос», но и буквальное «нео логизм» отложится в сознании как новый логизм, то есть нечто новое, вытекающее из привычного старого, согласно законам естественной логики словообразования, зависимого от склонения существительных, спряжения глаголов, взаимодействия суффиксов и флексий, — словом, тех правил, которым подчинялся и которые выработал данный язык в процессе своего развития и обогащения.
В словарном составе языка, которым мы пользуемся, содержится великое множество слов. И с каждым днем их становится больше. Они поступают в него по многим каналам. Здесь и терминологические новшества, отвечающие потребностям науки и техники в обозначении новых физических явлений и приборов, технологических процессов, синтетических материалов; с другой стороны, налицо постоянная фильтрация из других языков, засорение словаря за счет проникающих в него арготизмов, профессионализмов местных диалектов.
Если приглядеться к нашему словарному фонду, нетрудно понять, что весь он состоит, в сущности, из архаизмов (прошлое языка) и неологизмов (его будущее). Где же настоящее? Строго говоря, его не существует. Настоящее — это сумма архаизмов и неологизмов, которые мы затрудняемся отнести к единой из этих групп, поскольку они ощущаются нами как таковые. Это или славянские корни и слова, составившие основу русского языка и неощущаемые как архаичные, или неологизмы, прочно вошедшие в язык нередко более сотни лет назад, в которых мы перестали узнавать их новизну. Для нас неологизмы Карамзина или Шевырева «всегда были» на том основании, что они стали привычными задолго до нашего рождения. Язык во многом подобен живому организму, и как отдельные клетки человеческого организма непрерывно отмирают и заменяются новыми, так и отдельные слова в языке нарождаются, тогда как другие постоянно сходят со сцены. Таково свойство всякого живого языка. Мы не говорим и не пишем не только на языке Пушкина и Лермонтова, но и на языке Толстого и Достоевского, более того, пожелай мы писать на языке почти наших современников — Блока и Маяковского — нам пришлось бы стилизовать нашу речь, сознательно и трудолюбиво заменяя другими множество приходящих на ум слов и фразеологизмов, появившихся позже и не свойственных их времени.
Давно стали трюизмом слова Демокрита о том, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Живой язык — тоже такая река. И если мы не всегда ощущаем в нем каждодневных изменений, а они несомненно есть, то заметить изменения на протяжении десяти-двадцати лет не так уже трудно.
В данной работе мы вынуждены ограничить себя неологизмами, введенными русскими поэтами, писателями, публицистами и критиками, иначе говоря, «подписными неологизмами», то есть такими, авторство которых с большей или меньшей точностью удается проследить. Эта тема сама по себе уже настолько велика и сложна, принадлежность многих неологизмов тому или иному автору настолько трудно установить с достаточной точностью, что не может быть и речи о расширении темы. Однако же Достоевский, в цитированной выше заметке, не случайно оговаривается, что она, быть может, не всякому читателю покажется достаточно интересной и поэтому он адресует ее «будущему Далю». Не пытаясь претендовать на столь почетное звание, мы хотели бы собрать и привести то немногое, что в этом отношении известно, в какое-то подобие системы, уверенные, что такая работа будет интересной и полезной для людей, серьезно занимающихся литературным трудом — писательством, поэзией, критикой и журналистикой. То высокое уважение к слову как таковому, которое завещано нам не только Карамзиным и Достоевским, но и всей литературой нашей, подсказывает нам, что такая попытка не будет излишней.
Жил себе человек, писатель или поэт, трудился, оставил по себе память — один или несколько томов произведений. И в тексте этих произведений, а также, может быть, писем, дневников, набросков мы можем найти два-три слова, или даже десятка слов, которые до него в русском языке не встречалось и не существовало. Заслуживает ли он за это нашей благодарности? А может, напротив, — осуждения? Или же вообще столь незначительная подробность может и должна быть оставлена без внимания? Кто взял бы на себя смелость рекомендовать однозначный ответ на эти вопросы? Может быть следует призвать себе на помощь «табель о рангах» и утвердиться в миссии, что если тот или иной неологизм принадлежит перу Пушкина или Льва Толстого, этого уже достаточно, чтобы оправдать наше пристальное внимание, а если мы имеем дело с неслучайно забытым автором, то нет никакого резона уделять наше драгоценнее время как ему, так и тем более его неологизмам. Здесь мы невольно вступаем на зыбкую почву личного отношения и вкусовых оценок. Такой подход, разумеется, не имеет ничего общего с подходом научным.
Попытки нащупать более объективный и равно для всех приемлемый принцип подхода к вопросу естественно было бы начать с установления каких-то критериев. Но каких? Проще всего утвердиться в убеждении, что неологизм тогда только оправдывает свое существование, когда он уже выдержал проверку временем. В самом деле, кто сейчас усомнится в нужности для русского языка слов «атмосфера» или «промышленность». Но это слова — термины. С ними дело обстоит куда проще, и разногласия, если и возникают, то лишь у их колыбели. Затем все страсти утихают, и слово или забывается, или прочно занимает свое месте в словарном фонде. Иное дело — образы. Вот встретилось, например, у поэта, только одно слово, встретилось только у него одного и только один единственный раз. Никому другому ни до, ни после не случалось этим словом воспользоваться. Стало быть, в фонд не вошло, в языке не удержалось. Зачем же сомнения? Казнить, нельзя помиловать. И казнить забвением.
Но если это, употребленное единственный раз слово-образ было для поэта необходимо? Если его неожиданное появление подобно ослепительной вспышке и благодаря именно ему ярким светом озарена строка, строфа, а то и все произведение? Тогда как?
Вот, у очень скромного и потому мало известного, но настоящего поэта, нашего современника, Григория Петникова, мы встречаем строчку «нога вгрузается в песок». Глагола «вгрузаться» мы не найдем ни в одном толковом словаре, хотя производных от «груз — грузить», с различными суффиксами и приставками, предостаточно. Мы убедимся, что «вгрызаться» можно, а «вгрузаться» нельзя. Да и нужно ли подобное слово? Но этот несложный по своему строению неологизм дает нам осязаемо ощутить и вес человеческого тела, принимаемый ногой, и путь, лежащий перед этим человеком, и, так сказать, структуру этого пути — сыпучую, утомительную и, вместе с тем, отрадную чувством преодоления, поочередного напряжения и расслабления мышц, и так далее, и так далее. Многое вложил автор в это к месту употребленное им слово. Пожалуй, казнить нельзя, помиловать!
У того же поэта мы встретили достаточно известное слово «животрепещущий». Мы знаем: бывают животрепещущие темы и проблемы, новости и вопросы. Толковый четырехтомник Ушакова так объясняет это слово: «Злободневный, соответствующий жизненным потребностям, а во втором значении — жизненный, как бы живой, с пометкой (книжн.), наконец, в третьем значении — с пометкой (разговори., шутлив.) — зыбкий, непрочный, ненадежный (например: животрепещущий мостик). Какой же тут неологизм? А Петников сказал: «…подходят утром с моря лодки с животрепещущей хамсой» (стихотв. «Открытие утра»). И печально-знакомое, затертое в газетных штампах слово ожило, сверкнуло и забилось, действительно затрепетало, будто только что поднятое из морских глубин, из соленой влаги и свежести, прогретой утренними лучами. Может быть это и не неологизм по формальным признакам, но во всяком случае мы радуемся вместе с автором чудесной поэтической находке.
Неологизмы, как и все слова русского языка, легко подразделяются на несколько групп соответственно принятому этимологическому разделению частей речи. Большинство их при таком разделении мы отнесем к существительным, прилагательным и глаголам, крайне незначительную часть составляют наречия и числительные. В графах, предусмотрительно оставленных для местоимений, предлогов, союзов и междометий, нам, вероятно, придется оставить лишь прочерки, свидетельствующие об отсутствии даже единичных примеров. Однако же такое разделение неологизмов никак не отразит их специфической сущности и функциональных признаков. Поэтому в качестве основного подразделения, отражающего характеристику собственно неологизмов по их значению и месту, которое они занимают (или стремятся занять) в языке, в словарном фонде, нам кажется уместным ввести два понятийных определения: «слово-термин» и «слово-образ». Согласно этим признакам, можно разделить на две только группы большинство неологизмов прошлого, настоящего и, по-видимому, также будущего.
Слова-термины отвечают назревшей настоятельной потребности давать общепонятные и удобные для запоминания имена новым явлениям, процессам сооружениям и механическим устройствам, возникающим в науке, технике, общественной и политической жизни.
С Ломоносовым в русский язык вошло множество научных терминов. Карамзин ввел немало терминов и понятия, относящиеся к общественно-социальному устройству и взаимоотношениям. Еще позже мы встречаем целый букет неологизмов, пополнивших арсенал политической терминологии, нашедших впервые место в знаменитом «Карманном словаре иностранных слов», изданном Петрашевским в 1845 году. На всех этих, равно как и других неологизмах, доставшихся нам в наследство от иных, подчас менее известных авторов, легко без особых доказательств убедиться, что введение новых слов терминологического значения диктовалось отнюдь не прихотью или фантазией их авторов. В своей работе над языком они послушно повиновались требованиям времени. На каком-то этапе своей научной многосторонней работы Ломоносов просто не мог уже обойтись без слов «материя», «атмосфера», «кристаллизация», Карамзин — без слов «общественность», «промышленность», «потребность», Петрашевский — без слов «материализм», «социализм», «коммунизм», «терроризм». Пути создания большинства слов этого порядка легко прослеживаются: их основа обычно заимствуется от греческих и латинских, а также западноевропейских корней и различными способами транскрибируется (калькируется) на русский лад так, чтобы обеспечить возможность существительным склоняться, глаголам — спрягаться, а прилагательным эпитетам — усиливаться по закону образования сравнительной и превосходной степеней. Эта работа над языком, необходимая и своевременная, начавшаяся особенно интенсивно со времени Петра Первого, после не угасала уже никогда, хотя авторство современных слов-терминов за редкими исключениями нами уже не прослеживаются со сколько-нибудь убедительной достоверностью.
Вторая, пожалуй, еще более словообильная группа неологизмов — это слова-образы. Ими, как правило (разумеется, не существующее без исключения), одаряли язык, нередко обогащая, но, к сожалению, не менее часто засоряя его вычурными ненужностями, художники слова (иногда и кисти) — поэты, писатели, критики, публицисты. Их вклад в эту сокровищницу ценен не только сам по себе и не только теми словообразованиями, которые вошли и прочно удержались в литературе и быту, были приняты в словарный запас, а их происхождение большей частью позабыто. Мы часто произносим слова, не подозревая, что это слова — цитаты, что они являются неотъемлемым авторским достоянием хорошо известных нам и чтимых нами людей. Между тем неологизмы, как вошедшие, так и только пытавшиеся войти в словарный фонд через литературу и поэзию, интересны своим происхождением и принадлежностью тому или иному автору. Они тоже как-то характеризуют его творческий процесс, психологию, принципы работы над словом. Наряду с «чистыми неологизмами», новообразованиями являются обогащения известных и широко применяемых слов новыми значениями. Так, давно известное как обозначение одного из пяти чувств человека слово «вкус» с какого-то определенного времени стало означать развитое чувство изящного.
У ряда русских писателей — Л. Толстой, Е. Дриянский, М. Пришвин и другие — мы встретимся с большим языковым пластом охотничьего словаря. Здесь на него обрушатся всевозможные «выжлецы» и «смычки», «пазанки», «чепраки» и «подпалины» и многое другое. Раньше казалось, что хвост — это всегда хвост: и у рыб, и у змей, и у млекопитающих… А тут, не угодно ли: у волка — полено, у лисицы — труба, у зайца — цветок, у легавого щенка — прутик. Ловкий заяц умеет «отростать» от своры собак, но еще надо выяснить «тонный» это заяц или «шумовой», и так далее.
Это множество анонимных слов и словозначений не придумано авторами тех книг, в которых появилось впервые. Писатели-охотники только подслушали их во время охоты, запомнили и позже применили в своих произведениях.
Эти красочные интересные слова, составляющие большую группу и в значительной части уже полумертвые и полузабытые, останутся вне нашей темы: они не имеют авторов и не помнят своего родства.
Другая группа естественно отпадает сама собой. Это, скорее, неологизмы — заумные речения, встречающиеся от Сумарокова до наших дней. Здесь знаменитый некогда «дыр-бул-щур» Крученых, «зга-ра-амба» В. Каменского, «ашер-вер-вумба» Кирсанова, а также всевозможные междометия и звукоподражания. Ограничивая себя пределами неологизмов русских писателей, мы сделаем исключение для В. Хлебникова. Он может быть представлен выборочно: без заумий, перевертней, корнесловия, занимающих большое место в его произведениях. Нам кажется, что достаточно будет «Заклятия смехом» и словообразований, несущих конкретную смысловую нагрузку, чтобы отразить работу Хлебникова в области создания именно неологизмов.
Приходится, разумеется, отказаться также от «блатной музыки» — иначе «старой и новой фени» — языка уголовного мира, широко вводимого в произведениях В. Каверина «Конец хазы», И. Сельвинского («Вор» и др.), равно, как и используемого отдельными писателями современного арго, смыкающегося и с «блатным» с его «фраерами», «клёвыми чувихами», «лабухами» и «чуваками» (Вас. Аксенов и др.).
Тут мы вплотную подходим к смыкающемуся с неологизмами, так сказать, пограничному языковому явлению: к переосмыслениям прочно существующих в языке слов, к приданию им новых значений и смыслов. Сюда надо отнести слова, не вошедшие в наш словарь оттого, что они сами по себе были очень давно известны и только границы их применения были иными до тех пор, пока на каком-то этапе смысловое содержание их видоизменилось и расширилось.
Так, Ломоносову, помимо ряда приведенных в словаре неологизмов, принадлежит несомненный приоритет введения в науку слова «ось» в значении «земная ось», хотя «ось» в значении «тележной оси» была общеупотребительным понятием еще за много сотен лет до появления Ломоносова. Точно так же уже на заре истории нашего государства существовали понятия слова «уделы» — удельные княжества и удельные князья. Гораздо позже это слово приобрело звучание в переносном смысле: «О, горький наш удел! Смерть есть удел всего живого» и т. д. Но лишь Ломоносовым введено понятии «удельный вес». Благодаря Ломоносову получили общепринятое ныне значение и смысл в научных определениях такие слова-термины, как «насос» (воздушный), «огнедышащие» (горы), «преломление» (лучей), «равновесие» (тел), «кислоты», «квасцы», «щелочи», слова «наблюдение», «движение», «явление», «частица» и немало других, хотя почти все они употреблялись и ранее (сравни: «явление Христа народу», «преломление хлеба», «кислое молоко»).
Еще дальше от понятия неологизмов отстоят новые фразеологизмы. Ограничимся здесь только одним примером. Автором выражения «сидеть между двух стульев», в его общепринятом теперь переносном значении, с полным основанием признается Салтыков-Щедрин (статья «Тревоги времени», 1863 г.). Все слова этого предложения хорошо были известны и ранее, но образное значение, приданное ему автором, стало общепринятым только с определенного времени и благодаря именно ему. Это образное значение, по сути своей, неологистично, хотя и нет ни одного неологизма.
Не довольствуясь принятым расположением неологизмов в алфавитном порядке, мы сочли необходимым дополнить наш словарь небольшим разделом, в котором дали тоже по алфавиту, всех авторов, включенных в словарь, и простой перечень (на этот раз без указания источников) неологизмов, разнесенных по фамилиям их создателей. Когда мы уже завершили эту несложную дополнительную работу, она показалась нам в чем-то более существенной, чем это представлялось вначале. Тут и там открывались как бы неведомые до сих пор никому из знатоков и исследователей, не решаюсь сказать, портреты, но, по меньшей мере, отчетливые силуэты, в которых без труда угадывался знакомый абрис того или иного хорошо знакомого поэта или писателя, увиденный впервые с необычной точки зрения. Неповторимость мировоззрения, почерка, интонации сопутствовала почти каждому неологизму, тем больше ощутимая, чем больше их собиралось в группу под рубрикой данного имени. Словно четко отгравированный отпечаток, дактилоскопический оттиск мысли авторов читали мы над этими словами.
Но к чему удивляться? «Слово не есть наша произвольная выдумка: всякое слово, получающее место в лексике языка, есть событие в области мысли», — так задолго до наших дней сказал Василий Андреевич Жуковский, поэт, у которого учились, не забудем того, и Пушкин, и Тютчев, и Некрасов, и многие другие крупнейшие наши поэты. И это замечательное высказывание его не нуждается ни в каких пояснениях.
А
АДЕПТ — С. Шевырев.
АДИЩЕ — В. Маяковский, «Адище города».
АДКИ — В. Маяковский, «Адище города» («крохотные, сосущие светами адки»).
АЖУРЬ — И. Северянин, «Четкая поэза» («томилась вешнею ажурью».
АЛОВСТРЕЧНЫЙ — И. Северянин, «Июльский полдень» («в аловстречном устремленьи»).
АЛОРАТНЫЙ — В. Хлебников, «Ночь в окопе» («и алоратные полки»).
АЛОСИЗЫЙ — И. Северянин («день алосиз»).
АЛОЦВЕТИКИ — И. Северянин («губы-алоцветики жарко протяни»).
АЛЬПОРОЗА — И. Северянин.
АМАЛЬГАМА — С. Шевырев.
АМЕРИКОЛИЦЫЙ — В. Маяковский, «Беспризорщина» («школа — кино америколицее»).
АНГЕЛИЦА — В. Маяковский, «Шесть монахинь» («ангелицы, попросту ответ поэту дайте»).
АНКЕТИРОВАННЫЙ — Б. Пильняк, «Чертополох» («все они анкетированные, командирующиеся»).
АНТАНТА — В. Ленин.
АППЕТИТЕЦ — Н. Асеев, «Маяковский начинается» («всю жадность ненасытных аппетитцев»).
АПОЛЛОНЕЦ — И. Северянин, «Лесефея» («душой поэта и апполонца» — от название журнала «Аполлон»).
АССАМБЛЕЯ — Петр I.
АТМОСФЕРА — М. Ломоносов.
Б
БАЛАЛАЕЧНЫЙ — А. Чехов («балалаечней нашего братца трудно найти»).
БАМБАНЯЩИЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1–2 («бамбанящих бочек»).
БАТАЛИЯ — Петр I.
БЕГИНЯ — В. Хлебников (ср. «бегиня» и у Маяковского: «наш бог — бег»).
БЕГНЯ — В. Маяковский, «Барышня и Вульворт» («Бродвей сдурел, бегня и гуллево»).
БЕЗБОЧЬ — А. Белый.
БЕЗВЕРЕН — В. Бенедиктов.
БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ — К. Бальмонт (название стихотв.).
БЕЗГЛАГОЛЬНЫЙ — А. Пушкин («Шихматов безглагольный»).
БЕЗГЛАДЬ — С. Есенин, «На Кавказе» («Я в твою безгладь пришел»), II, 176.
БЕЗГОЛОВЕЦ — В. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм» («Философские безголовцы»).
БЕЗГРЕЗЬЕ — И. Северянин, «Элементарная соната» («мертвому в немом безгрезьи»).
БЕЗГРОШИЕ — И. Сельвинский, «Девушка играет на кларнете» («безгрошие дочиста»).
БЕЗДАРЬ — И. Северянин («талантливые трусы и обнаглевшая бездарь»).
БЕЗДРЕВЕСНОСТЬ — О. Мандельштам, «И Шуберт на воде…» («и бездревесности кружилися листы…»).
БЕЗЗАКАТНЫЙ — А. Блок, «Кармен» («видишь, день беззакатный»).
БЕЗЗВУЧИТЬ — Н. Языков (см. Чуковский: «Маяковский и Ахматова»).
БЕЗЗИМНИЙ — О. Мандельштам, «Эта область в темноводье…» («степь беззимняя гола»).
БЕЗЛЕПИЦА — Сологуб («Я безлепицей измучен…»).
БЕЗЛИСТВЕННЫЙ — О. Мандельштам, «И я выхожу из пространства» («безлиственный дикий лечебник»).
БЕЗЛИСТНЫЙ — И. Северянин, «Баллада» («преданье в безлистную книгу времен навек занесло свои строки», а также, «Октябрь» («в безлистном шелесте страниц»).
БЕЗЛУЧЬЕ — И. Северянин, «В грехе — забвенье» («в немом безлучьи»).
БЕЗМЯСЫЙ — С. Есенин, «Пугачев» («Тень с веревкой на шее безмясой»).
БЕЗНАДЕЖЬЕ — И. Северянин, «Октябрь» («и сколько смерти безнадежья»).
БЕЗОБРАЗИЯ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («над безобразней валили бульваром»).
БЕЗТИННЫЙ — И. Северянин, «Качалка грезэрки» («над безтинным прудом»).
БЕЗУДЕРЖЬ — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву).
БЕЗУТОЛОЧЬ — А. Белый, «Мигнет медовой желтизною» («не подберешь безутолочи толк»).
БЕЛИБЕРДОНОСЦЫ — М. Салтыков-Щедрин.
БЕЛЛЕТРИСТИКА — С. Шевырев.
БЕЛОГОЛЫЙ — С. Кирсанов, «Дорога в Венецию» («на стенах белоголых»).
БЕЛОМЕДВЕЖИЙ — И. Сельвинский, «Зима в Подмосковье» («в беломедвежьих дохах»).
БЕЛООБЛЕЗЛЫЙ — А. Н. Толстой, «Петр Первый», ч. I, гл. 1 («вдоль белооблезлой стены»).
БЕЛОРУЧНИЧАТЬ — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву).
БЕЛОТРЕПЕТНЫЙ — Л. Мей, «Забытые ямбы» («две белотрепетные пташки»).
БЕЛЬ — С. Есенин, «В этом мире я только прохожий» («посоленная белью песка»).
БЕМОЛЬНО — В. Горянский, «Призыв» («вздыхать бемольно»).
БЕРЕЗЬ — С. Есенин, «Низкий дом с голубыми ставнями» («только видели березь да цветь»).
БЕСКОНЕЧНОЧАСТЫЙ — В. Маяковский.
БЕСКОНЕЧНОЭТАЖНЫЙ — Ф. Достоевский, «Чужая жена и муж…» («ворота одного бесконечноэтажного дома»).
БЕСКРИЗИСНЕЙШИЙ — А. Вознесенский.
БЕСКРЫЛЬЕ — И. Северянин, «Ты ко мне не вернешься» («он скрывает бескрылье утомленных плечей»).
БЕСОЛЮБИВЫЙ — В. Хлебников («граблями дев бесолюбивых»).
БЕСПАМЯТСТВОВАТЬ — О. Мандельштам, «Я слово позабыл («среди кузнечиков беспамятствует слово»).
БЕСПОКЛОННО — И. Северянин, «Это все для ребенка» («да и то бессловесно, да и то беспоклонно»).
БЕСПОПИЙ — И. Северянин, «Пляска мая» («тут беспопья свадьба, там кого-то вздули»).
БЕСТЕЛЫЙ — В. Маяковский, «Человек» («облако, или бестелые… скользили»).
БЕСШАБАШЬЕ — В. Маяковский, «Про это» (пальцы сами ведут бесшабашье»).
БИБЛЕЕЦ — В. Маяковский, «Война и мир» («библеец лицом), «Юбилейное».
БИЛЬЕ-ДУ — И. Тургенев, стих. «На Кудрявцева» («как старой девы билье-ду», от франц., «любовная записка»).
БИЧЕЛУЧЬЕ — И. Северянин.
БЛАГОВЕЩИЙ — А. Пушкин, «Чистый лоснится пол» («вещать благовещие речи»).
БЛАГОГЛУПОСТЬ — М. Салтыков-Щедрин, «Деревенская тишь», 1863 г.
БЛЕДНОКРЫЛЫЙ — Вл. С. Соловьев, «Осеннею дорогой» («рой бледнокрылых духов»).
БЛЕДНО-ПАЛЕВЫЙ — А. Белый, «Первое свидание» («на бледно-палевые плечи»).
БЛЕДНОТА — И. Северянин, «Намеки жизни» («зажгли огонь, пугаясь бледнотою»).
БЛЕДНОТЕЛЫЙ — А. Белый, стихотв., «В полях» («туман бледнотелый ползет»).
БЛЕКОТА — К. Чуковский (письмо к сыну от 26. II. 1938 г. «Бальмонтовский перевод рядом с твоим блекота»).
БЛЕСНЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 2, 17 («рот белой блеснью зубов»).
БЛЮДИЩЕ — В. Маяковский.
БОГОПОДОБНЫЙ — Г. Державин, «Фелица» («Богоподобная царевна»).
БОЖЕТВАРЬ — В. Хлебников, «Морской берег» («в парчевом снегу поет божетварь»), Ш, 281–282.
БОЖИК — В. Маяковский, «Облако» («а ты, недоучка, крохотный божик».
БОЖИЧ — В. Хлебников, «Курган Святогора» («не станем ли… народом божичей?»).
БОЖИЩЕ — В. Маяковский, «Облако» («Я думал: ты — всесильный божище»).
БОЛОНОЧИЙ — Н. Асеев, «В те дни, как мы были молоды» («на жизнь болоночью плюнувши»).
БОЛЬШЕВЕТЬ — О. Мандельштам, «Стансы» («я должен жить, дыша и большевея»).
БОРОДЬЕ — В. Маяковский, «Чье рождество» («месть ступени лестниц бородьем»).
БОЯРИТЬСЯ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 16 («боярился позой своей»).
БРАВУРА — Б. Пастернак, «Повесть» («с бравурой Шумана в душе»).
БРАВУРИТЬ — И. Северянин, «В кленах раскидистых» («бурно бравурит весна»).
БРАЖНОСТЬ — Н. Некрасова, «Под вечер солнце…» («и бражности не выдержав земной»).
БРАННОЛЮБИВЫЙ — Н. Языков («браннолюбивая старина» в смысле воинственная).
БРАНЧЛИВЫЙ — Б. Пастернак, «Стрижи» («уходит бранчливая влага»).
БРЕДЬ — В. Маяковский, «Сергею Есенину» («осуществись такая бредь»).
БРИЛЛИАНТИТЬСЯ — И. Северянин, «Русская» («бриллиантится веселая роса»).
БРИЛЬНЯ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1,4 («с порога клопеющей брильни»).
БРОДЛИВЫЙ — Л. Мей («хмелем бродливым»).
БУГОРНЫЙ — Н. Огарев. Эпиграмма (вместе гомосексуальный, педерастический, от франц. bougie).
БУДЕТЛЯНЕ — В. Хлебников (для замены слова «футуристы»).
БУДУАР — С. Шевырев и Н. Греч.
БУЕРАЧАЩИЙ — А. Белый, «Маски».
БУЙНИЧАТЬ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («крапива в засухе не буйничала»).
БУЙНОГРИВЫЙ — И. Сельвинский, «Пролог к трилогии, «Россия» («а рыжий буйногривый ураган»).
БУРЕНОСЕЦ — В. Жуковский, «Одиссея» («буреносцу Посейдону»).
БУРНОНОГИЙ — Н. Языков, «Конь».
БУРОСТВОЛЬНЫЙ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («буроствольные сосны стоят»).
БУТОНЧАТАЯ — Н. Северянин, «Зизи» («не жаль себя, бутончатой и кроткой»).
БУШЛАТНИК — О. Мандельштам, «Колют ресницы…» («так вот бушлатник шершавую песню поет»).
БЫВУН — В. Хлебников («жилец бывун не в этом мире»), Неизданный Хлебников, с. 97.
БЫКОМОРДЫЙ — В. Маяковский, «Война и мир» («быкомордая орава»).
БЫЛИЦА — Г. Петников, «Черновики стиха» («читай земли зеленые былицы»).
БЫСТРОЖИВУЩИЙ — О. Мандельштам, «Медлительнее снежный улей» («Трепетание стрекоз быстроживущих»).
В
ВАЛЮТЦА — В. Маяковский, «Письмо писателю… Горькому» («смердит покоем, жратвой, валютцей»).
ВАЯЛЬНЯ — В. Хлебников (сравни: читальня).
ВГРУЗАТЬСЯ — Г. Петников, «Евпаторийские стихи» («нога вгрузается в песок»).
ВЕДЬМИНСКОСДОБНЫЙ — В. Хлебников (Т. V, с. 115) («ведьминскосдобная пышка войны»).
ВЕЕРООБРАЗНЫЙ — В. Хлебников, «Зверинец» («у моржа верообразная нога»).
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ — В. Тредьяковский (по Л. Тимофееву).
ВЕНОСКЛЕРОЗНЫЙ — В. Горянский, «Призыв» («вы до сих пор веносклерозны»).
ВЕРБЕНЯТА — С. Есенин, «Пугачев», «вербам не вывести зеленых вербенят»).
ВЕРБЛЮДОКОРАБЛЕДРАКОНИЙ — В. Маяковский, «У интернационал» («эскадры верблюдокорабледраконьи»).
ВЕРЖЕННЫЙ — В. Маяковский, «Война и мир» («ложью верженные ниц»).
ВЕРСИЙКА — В. Маяковский, «Севастополь-Ялта» («не верь ни единой версийке»).
ВЁРСТКИЙ — О. Мандельштам, «Влез бесенок в мокрой шерстке» («воздух версткий»).
ВЕРТОВЕТР — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 4 («вертоветр поднимал вертопрахи»).
ВЕСЕЛОНРАВНАЯ — Г. Державин.
ВЕСЕНЬ — Г. Петников, «Самая весенняя пионерская» («рассмеялася весень»).
ВЕСНОГУБЫЙ — В. Хлебников.
ВЕТРОГОН — В. Белинский (письмо от 1840 г. Боткину (о Панаеве).
ВЕЧЕРОВЫЙ — В. Хлебников, «Не шалить» («вечеровые уструги»).
ВЗБОЧЬ — А. Белый, «Маски».
ВЗБУРИТЬСЯ — В. Маяковский, «Человек» («взбурься баллад поэтовых тина»).
ВЗГРЕМЕТЬ — А. Пушкин, «Воспоминания о Царском селе» («взгремел на арфе золотой»).
ВЗДОРОСЛОВИЕ — Н. Карамзин («одическое вздорословие»).
ВЗДОШЕК — В. Маяковский, «Владимир Маяковский» («а в ваших душонках поношенный вздошек»).
ВЗДРОЖАТЬ — И. Северянин, «Самогимн» («Париж и даже Полинезия вздрожат»).
ВЗМЕДВЕДИТЬСЯ — В. Маяковский, «Про это» («ему лишь взмедведится может такое»).
ВЗОРЛИТЬ — В. Маяковский, «Необычайное приключение» («пойдем, поэт, взорлим, вспоем»).
ВИЗГЛЫЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1. 2 («свинья, задрав визглое рыло»).
ВИЗЖАВЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 11 («скрипнул визжавый замок»).
ВИКТОРИЯ — Петр I (победа).
ВИНОТОЧИВЫЙ — Д. Давыдов, «Герою битв, биваков…» («с виноточивою баклажкой»).
ВИРШЕПИСЕЦ — Б. Пастернак, «Волны» («я вместо жизни виршеписца»).
ВИТИЙСТВЕННЫЙ — Б. Пастернак, «Стрижи» («витийственный возглас их»).
ВИТОГЛАВЫЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 3, 27 («здесь витоглавая, там златоглавая»).
ВКРЕСЛЕННЫЙ — В. Маяковский, «Взяточник» («под Марксом в кресло вкресленный»).
ВЛЕКУЩЕВЛАСТНЫЙ — Д. Бурлюк («влекущевластный пляж»).
ВЛИЯНИЕ — Н. Карамзин.
ВНЕЗАПИТЬСЯ — Б. Шершеневич, «Содержание плюс горечь» («как внезапится солнце»).
ВНИМАНИЕ — В. Тредьяковский (по Л. Тимофееву).
ВОДНЯЧИЙ — В. Маяковский, «Атлантический океан» («встает из глубин воднячий ревком»).
ВОДОБЕГ — Н. Языков (в смысле, «водоворот»).
ВОДОПОЛАЯ — Л. Мей, «Забытые ямбы» («смотрел… на водополую Неву» — в смысле полноводную, в весеннем разливе).
ВОДОРОД — М. Ломоносов.
ВОДЬ — С. Есенин («розовая водь»).
ВОЗДУХОЛЕТНЫЙ — А. Белый, «Первое свидание» («воздухолетный септ-аккорд»).
ВОЖАКОРУМ — А. К. Толстой, «Порой веселой мая» («In verba вожакорум» — словами вожаков).
ВОЗВЕДЕНЕЦ — Г. Державин (по Л. Тимофееву).
ВОЗОБОЖАТЬ — Ф. Достоевский, «Записные книжки», 1881 г. («До чего человек возобожал себя» — о Л. Н. Толстом).
ВОЛГАРИТЬ — В. Короленко.
ВОЛИТЬ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («ты их волишь увидеть»).
ВОЛКОВОЙ — А. Белый, «Первая симфония» («щелкали зубами волковые люди»).
ВОЛНОВАНЬЕ — Е. Боратынский, «Запрос Муханову («и персей томных волнованье»).
ВОЛНОВАТЫЙ — С. Есенин, «Голубень» («на грядки серые капусты волноватой»).
ВОЛНОВИЙ — В. Маяковский, «Атлантический океан» («потеет над чем-то волновий местком»).
ВОЛОСОЧЕС — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1,4 («волосочес напомаженный» — вместо, «парикмахер»).
ВОЛШБА — Вяч. Иванов, «Сфинксы над Невой» («волшба ли ночи белой приманила») и позже М. Цветаева, «Попытка ревности» («к волшбам остыв»).
ВОЛЬНОТЕЧНЫЙ — В. Бенедиктов.
ВОПЬЮ — И. Северянин, «Весенние триолеты» («вопью тебя и сердце воспылает»).
ВОССКОРБЕТЬ — Е. Боратынский, «Стансы» («и, наблюдая, восскорбил»).
ВПЕРЕКОР — Н. Полетаев, Сб. «Резкий свет», 1926 г., стихотв. «Зайчик» («и рукам усталым вперекор»), также в том же сборнике: «вперекор календарю».
ВПЕЧАТЛЕНИЕ — В. Тредьяковский (по Л. Тимофееву).
ВПЛЕСНИТЬСЯ — В. Маяковский, «Про это» («стараюсь в стенку вплесниться»).
ВПОЛГОЛОСНЫЙ — О. Мандельштам, «Я в львиный ров…» («как вполголосная органная игра»).
ВПОЛПЛЕЧА — О. Мандельштам, «Увы, растаяла свеча…» («хаживали вполплеча»).
ВПОПЕРЕК — А. Твардовский («пласты ложатся впоперек»).
ВРАСПАХ — И. Сельвинский, Пролог к пьесе, «Умка…» («враспах летит тоска моя»).
ВРЕМИРИ — В. Хлебников, «Там, где жили свиристели» («стая легких времирей»).
ВРЕМЯКЛЮВЫЙ — В. Хлебников, «Искушение грешника» («времяклювая цапля»).
ВРЕМЫШИ — В. Хлебников («Времыши-камыши на озера бреге»).
ВСАЧИВАНИЕ — Л. Толстой, «Война и мир», т. 3, ч. 3, гл. XXVII («расходившееся звездой по Москве всачивание французов»).
ВСАЧИВАТЬСЯ — Л. Толстой, «Война и мир», т. 3. ч. 3, гл. XXVI («солдаты, как вода в песок всачивались»).
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬСТВО — Вл. С. Соловьев, «Ех oriente lux» («и к вседержительству готов»).
ВСЕЛЕННОХВОСТЫЙ — В. Хлебников, «Искушение грешника» («вселеннохвостая кошка»).
ВСЕЛЕННОЧКА — В. Хлебников.
ВСЕМСТВО — Ф. Достоевский, «Записки из подполья» («ведь не оправдываюсь же я этим всемством»).
ВСЕНИПОЧЕМСТВО — М. Салтыков-Щедрин (статья 1861 г.).
ВСЕОЗАРЯЮЩИЙ — Е. Боратынский, «Когда исчезнет омраченье» («луч блестящий всеозаряющего дня»).
ВСЕОТРИЦАЮЩИЙ — Н. Щербина, «Юношам — членам всеславянского комитета» («шайки грубой всеотрицающих невежд»).
ВСЕПОБЕДНЫЙ — И. Северянин, «Земля и солнце» («в своей всепобедной любви»).
ВСЕРАДОСТНО — Вл. Соловьев, «Иммануэль» («владеешь ты всерадостною тайной»
ВСЕСИЯЮЩИЙ — Вл. С. Соловьев, «Над чуждой властью» («во всесияющей святыне»).
ВСЕЧЕРТНО — И. Северянин, «К черте черта» («отожествленное всечертно с вечностью»).
ВСКАТЫВАТЬСЯ — В. Хлебников, «Зверинец» («морж вскатывается на помост»).
ВСКИПЕЛЫЙ — В. Маяковский, «Ленин» («в этом кофе враз вскипелом»).
ВСКОЛЕБЛЕННЫЙ — Б. Пастернак, «Повесть» («справиться с улыбкой, всколебленной им»).
ВСЛИЗИТЬСЯ — В. Маяковский («вслизились в землю»).
ВСТРЕЧАЛЬНЫЙ — В. Каменский, «Цувамма» («из… встречальной страны»).
ВСХЛИПЕНЬ — С. Есенин, «Эта улица мне знакома…» («голос громкий всхлипень зычный»).
ВТЕСНЕННЫЙ — Е. Боратынский, «К чему невольнику…» («в грани узкие втесненная судьбою»).
ВЦЕЛОВАТЬ — В. Маяковский.
ВШТОПОРИТЬ — В. Маяковский, «Красавицы» («в смокинг вштопорен»).
ВЫБРЯЦАТЬ — В. Маяковский (по Л. Тимофееву).
ВЫБРЮШИТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 7 («лишь выбрюшил урч»).
ВЫВНИ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 5 («вывни ветров»).
ВЫГРУСТИТЬ — В. Маяковский, «Мысли и призыв» («лица не выгрущу»).
ВЫГРЫЗТЬ — В. Маяковский, «О советском паспорте» («я волком бы выгрыз»).
ВЫДИВИТЬ — В. Маяковский, «150 миллионов» («пошел грозою вселенную выдивить»).
ВЫЕЛОЗИВАТЬ — А. Солженицын, «Август четырнадцатого» («червячным движением выелозив»).
ВЫЕМ — А. Грибоедов, «Горе от ума» («хвост сзади, спереди какой-то чудный выем») и позже у Маяковского, «Шесть монахинь» («где у женщин выпуклость, у этих выем»).
ВЫЁРЗЫВАТЬ — А. Белый, «Москва» («выерзывая носем»).
ВЫЕСТЬ — В. Маяковский, «О советском паспорте» («глазами доброго дядю выев»).
ВЫЖЕЛТЕНЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. I, 15 («улица бросилась в выжелтень пламени»).
ВЫЖЕЛЧЕНЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («вспыхнув в выжелчень пламени»).
ВЫЖИРЕТЬ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («как выжиревший лакей»).
ВЫЗОРЕННЫЙ — М. Волошин, «Дом поэта» («окрестные холмы вызорены»).
ВЫЗАРИТЬ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («вызарю в мою последнюю любовь»).
ВЫЗЛИТЬ — В. Маяковский, «О том, как у Керзона…» («мисс Гаррисон до того преследованиями вызлена») и в др. месте: «вызлить смерть».
ВЫЗМЕИТЬ — В. Маяковский, «Хорошо» («рельсы по мосту вызмеив»).
ВЫЗНАКОМИТЬ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («празднику тела сердце вызнакомь»).
ВЫЗНАТЬ — С. Есенин, «Песнь об Евпатии Коловрате» («от белой вызнати до… сермяжника»).
ВЫКАЙМИТЬ — В. Маяковский, «Про это» («вечер зубцы стенные выкаймил»).
ВЫКАЛИТЬ — В. Маяковский, «Юбилейное» («Рассвет лучища выкалил»).
ВЫКИПЯЧИВАТЬ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («пока выкипячивают, рифмами пиликая»).
ВЫКРЕСАТЬ — Г. Петников, «Из записной книжки 41 года» («выкресает из скал золотистые искры»).
ВЫКРУТ — В. Маяковский, «Хорошо» («мебелях, с бронзовыми выкрутами»).
ВЫКРУТИТЬ — В. Маяковский (по Л. Тимофееву) («выкрутить длинный ус»).
ВЫЛАСКИВАТЬ — В. Маяковский, «Война и мир» («каждый волос выласкиваю»).
ВЫЛЮБИТЬ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («любовница, которую вылюбил Ротшильд»).
ВЫМОЗЖИТЬ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («голову вымозжу каменным Невским»).
ВЫМОЛОДИТЬ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («вымолоди себя»).
ВЫМУЧИТЬ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («вымучивший душу в бреду мою»).
ВЫМЧАТЬ — В. Маяковский, «Киев» («Ширь во всю, не вымчать и перу»).
ВЫМЫЧАТЬ — В. Маяковский, «Владимир Ильич Ленин» («засеченный вымычал негр»).
ВЫНИКНУТЬ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («в муке коленопреклоненный выник»).
ВЫПЕСНИТЬ — С. Есенин.
ВЫПРИНА — А. Белый, «Маски» (от глагола «выпирать»).
ВЫПУТАННЫЙ — В. Маяковский, «Про это» («город, выпутанный в дымы трубного леса»).
ВЫРЖАТЬ — В. Маяковский, «Братья-писатели» («пьяной песней душу выржу»).
ВЫСВЕТИТЬ — В. Маяковский, «Разговор с товарищем Лениным» («встал со стула, радостью высвечен»).
ВЫСИНИТЬ — В. Маяковский, «Человек» («лежишь, волоса луною высиня»).
ВЫСЛАВИТЬ — М. Волошин, «Дом поэта» («не выславить на скудном языке»).
ВЫТАРЧИВАТЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. I, 14 («вытарчивал угол сарая»).
ВЫТАЯТЬ — В. Маяковский, «Хорошо» (от глагола «таять»: «Двина-река, трупы вытая»).
ВЫТЕЛИТЬ — В. Маяковский, «Гимн взятке» («эдак на двести бабочку вытелю»).
ВЫТИСНУТЬСЯ — А. Н. Толстой, «Петр Первый», кн. I, гл. 4, 19 («вытиснулся в дверь»).
ВЫТОМЛЕН — В. Маяковский, «Люблю» («Я вытомлен лирикой»).
ВЫФРАНТИТЬ — В. Маяковский.
ВЫХВАЛКА — Н. Асеев, «Знаменосец революции» («в отчаянной выхвалке забияки»).
ВЫХВАЩИВАТЬСЯ — В. Маяковский, «Уже» («выхващиваются хвосты»).
ВЫХМУРИТЬСЯ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («душа… выйдет… выхмурясь тупенько»).
ВЫЦВЕТИТЬ — М. Волошин, «Дом поэта» («не выцветить, ни кистью на бумаге»).
ВЫШИБАЛИЙ — В. Маяковский («лики вышибальи»).
ВЫЩЕМИТЬ — В. Маяковский, «Война и мир» («кто зубы еще злобой выщемил»).
ВЫЩЕТИНИТЬСЯ — В. Маяковский.
ВЯЗКОСТЬ — М. Ломоносов.
ВЬЮЖИТЬСЯ — Б. Пастернак, «Марбург» («вы в кружеве вьюжитесь»).
ВЬЮНИТЬСЯ — Ф. Достоевский, «Голядкин» (варианты?).
Г
ГАЛДАНИСТЫЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 3, 3 («от этой галданистой дамы»).
ГАКТИРОВАННЫЙ — Ф. Достоевский, от франц. gants перчатки.
ГВОЗДЕВЫЙ — И. Сельвинский («был у меня гвоздевый быт»).
ГВОЗДИМЫЕ — В. Маяковский, «Сволочи» («гвоздимые строками, стойте»).
ГВОЗДИНЫЕ — Вяч. Иванов, стихотв., «Гвоздиные язвы».
ГЛАЗАСТОРОГИЙ — В. Хлебников, «Искушение грешника» («глазасторогие козлы»).
ГЛОССОЛАЛИЯ — А. Белый, литерат. термин.
ГЛУБИНЕТЬ — В. Урин («чтоб глубинели недрами сердца»).
ГЛУПИЗМ — В. Ленин.
ГЛУПОТЕЛИЕ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 1 («страдал глупотелием»).
ГЛУПОТЕЛЫЙ — («атакам бессмысленной и глупотелой истомы»).
ГЛУХООТВЕТНЫЙ — Н. Гоголь, «Тарас Бульба» («глухоответная земля»).
ГЛЫБАСТЫЙ — Б. Пастернак, «Мухи мучкапской чайной» («а глыбастые цветы на посуде»).
ГЛЫБКИЙ — Н. Клюев, «Плач по Есенину» («тошнехонько облик кровавый и глыбкий»), позже Мандельштам, «Еще далеко мне до патриарха» («листаю книги в глыбких подворотнях»).
ГЛЫШКИ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («в передке, совсем избитом снежными глышками»).
ГОГОТЕНЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 15 («гоготень доносился из зала»).
ГО-ГУ — Г. Державин, «устрицы го-гу» (с франц. haut gout высокого вкуса).
ГОЛОВОТЯП — М. Салтыков-Щедрин, «История одного города»
ГОЛОЛОБЫЙ — В. Маяковский, «Вот так я сделался собакой» («лицо луны гололобой»).
ГОЛОСАТЫЙ — С. Есенин, «Ямщик» («голосатые запевки»).
ГОЛУБОВОДНАЯ — Н. Языков (о реке).
ГОЛУБОТВЕРДЫЙ — О. Мандельштам, «Преодолев затверженность природы» («голуботвердый глаз проник») и «А. Белому» («с голуботвердой чокаясь рекой»).
ГОРИНОЖ — В. Хлебников («с нависня пан летит, бывало, горинож»); предполагают, что неологизм произведен от украинского выражения «до гори ногами», т. е. вверх ногами, нависень — навес или выступ).
ГОРОРЫТСТВО — Г. Державин (по Л. Тимофееву).
ГОСТИНОПОДОБНЫЙ — Б. Пильняк, «Заволочье» («гостиноподобный лифт пропел»).
ГОСТЬЁ — В. Маяковский, «Про это» («гостье» идет по лестнице»).
ГРАММАТОЕДЫ — В. Белинский («пуристы, грамматоеды и корректоры нападают на язык Гоголя»).
ГРЕЗЭР — И. Северянин, «Фиолетовый транс» («я грезэр»), «Качалка грезэрки» — название стихотворения.
ГРЕЗОФАРС — И. Северянин («я трагедию жизни претворю в грезофарс»).
ГРОБИЗНА — В. Хлебников, «Зангези», плоек. XIV («Гробизны певцом»).
ГРОМАДЬЁ — В. Маяковский («я планов наших люблю громадьё»).
ГРОМОГЛАГОЛЬНЫЙ — В. Бенедиктов.
ГРОМОГОЛОСИЕ — В. Маяковский, «Война и мир» («изоржав громоголосие меди»).
ГРОМОКИПЯЩИЙ — Ф. Тютчев, «Люблю грозу…» («громокипящий кубок с неба»), позже И. Северянин дал название, «Громокипящий кубок» одному из своих стихотворных сборников.
ГРУСТИНЫ — В. Каменский, «Соловей» («в шелестинных грустинах»).
ГРУСТНЯК — В. Хлебников (сравн. ивняк).
ГРЯЗЕОСЕННИЙ — Д. Бурлюк.
ГРЯЗНОГРИВЫЙ — И. Сельвинский, «По душам» («там фашизм грязногривый»).
ГУЛЛЕВО — В. Маяковский, «Барышня и Вудьворт» («Бродвей сдурел — бегня и гуллево»).
ГУМАННОСТЬ — В. Белинский.
ГУСИТСТВОВАТЬ — Б. Пильняк, «Мать-и-мачеха» («в Европе гуситствовал Штейнер»).
ГУТОР — И. Северянин, «Надрубленная сирень» («весенний гутор»).
Д
ДАМАСКОСТАЛЬ — Д. Бурлюк, «Играют старой башне дети» («дамаскостали дряхлость, ржа»).
ДАМИЙ — И. Северянин, «Диссона» («дамьи туалеты пригодны для витрин»).
ДАМЬЁ — В. Маяковский, «Люблю» («дамьё от меня рекетой шарахалось») — сравн. мужичьё.
ДАРБАЛДАЯТЬ — Ф. Достоевский (см. «Неизданный Достоевский» — «Лит. наследство», вып. 83, с. 310. («Записные тетради 1872–1875 гг.).
ДАРОХРАНЕНЬЕ — К. Некрасова, «Разговор со столом» («раскрой дарохраненье лет»).
ДВОРОБРОД — А. Белый, «Московский чудак гл. 1, 20.
ДВУИСКРЕННИЙ — О. Мандельштам, «Исполню дымчатый обряд» («двуискренние сердолики»).
ДВУХМЕТРОВОРОСТЫЙ — В. Маяковский, «О советском паспорте» («как змею двухметроворостую»).
ДЕБРИСТЫЙ — А. Белый, «Котик Летаев» (от слова дебри, «дебристый мир») и «Московский чудак», гл. 3, 13 («дебристый мир»).
ДЕБЮТ — С. Шевырев.
ДЕКАБРЫЙ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («ушел от окон, хмурый, декабрый»).
ДЕРЖАВЕЦ — А. Пушкин, «Медный всадник» («перед державцем полумира»).
ДЕСЯТИЧНООЗНАЧЕННЫЙ — О. Мандельштам, «Стихи о неизвестном солдате» («сквозь эфир десятичноозначенный»).
ДЕТВА — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («на обтесанных плитах подъезда детва» — вместо детвора, дети).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — В. Тредьяковский (по Л. Тимофееву).
ДЖЕНТЛЬМЕННИЧАТЬ — Ф. Достоевский.
ДЗЕНЕНЬЕ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («дзененье комариков»).
ДИАГНОЗИТЬ — И. Северянин, «Колокола собора чувств» («врач диагнозит»).
ДИНАСТ — Б. Пастернак, «Урал впервые» («сосны… храня иерархию мохнатых династов»).
ДИССОНА — И. Северянин (название стихотворения).
ДНЕВАТЕЛЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 3, 4 («стал он дневатель бульваров»).
ДНЕНОЩНО — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 2, 6 («он трудился дненощно»).
ДОДЕРЮЧИТЬ — А. Белый, стихотв. «Лес» («над лесом гребень додерючит»).
ДОЖДИНКИ — В. Маяковский.
ДОЖДИТЬ — В. Соколовский — поэт пушкинской поры («зачем по скату сей вершины дождишь отрадой красоты»), впрочем, это слово встречается и много ранее — в старинных новгородских рукописях.
ДОКТРИНА — В. Белинский.
ДОЛДОННЫЙ — А. Солженицын, «Август четырнадцатого» («долдонными своими голосами»).
ДОЛОМЕРИЕ — С. Есенин, «Курган Святогора» («уподобен доломерию Эвклида»).
ДОНКИХОТСТВО — Г. Державин, «Фелица» («не донкихотствуешь собой»), см. также К. Фофанов, «Декаденты» и др.
ДОМИРАЮЩИЙ — Л. Н. Толстой, «Война и мир», т. 3, ч. 3, гл. XX(«как пуст бывает домирающий обезматочивший улей»).
ДОМОВИЙ — В. Маяковский, «Про это» («тени меж домовых камней»).
ДОМЧЕНКИ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1,2 («домики, просто домченки»).
ДОМЧЕНОЧКИ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 2 («даже дамченочки»).
ДОНЫННЫЙ — В. Хлебников, «Из будущего» («донынное зло»).
ДОХРОМАТЬ — В. Маяковский, «Война и мир» («день кое-как дохромать»).
ДРАКОНИТЬ — А. Чехов.
ДРАПРИТЬ — И. Северянин, «День алосиз» («драприт стволы в туманную тунику»).
ДРЕБЕЗГА — В. Маяковский, «Про это» («сыпала вниз дребезгою звоночной»).
ДРЕВНЕАЛЫЙ — К. Некрасова, «Археолог» («стихи на древнеалом языке»).
ДРЕВНЕВЕКОВЬЕ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («подумал о русском древневековьи»).
ДРЕЖЖАТЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 2, 2 («громко лучиной дрежжал»).
ДРЕМЛИНЫ — Г. Петников, «История одного вечера» («дремлины ковыля»).
ДРЕНЦЕВАТЫЙ — А. Белый, «Маски».
ДРЫГОНОЖЕСТВО — В. Маяковский, «Ленин» («дом Кшесинской, за дрыгоножество подаренный»).
ДУБАСЫ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («услышать дубасы в вагоны»).
ДУБОВООЛИВКОВЫЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 3, 27 («с дубовооливковым колером»).
ДУШЕГУБНЫЙ — А. К. Толстой, «Ночь перед приступом» («делами душегубными»).
ДУШЕДРЯНСТВОВАТЬ — М. Салтыков-Щедрин.
ДУШЕМУЧИТЕЛЬНЫЙ — Е. Боратынский, «Подражателям» («душемучительный поэт»).
ДУШЕМУТИТЕЛЬ — О. Мандельштам, «Рояль» («звуколюбец, душемутитель»).
ДЫМНОСИНИЙ — А. Белый, стихотв. «Безумец» («дымносиние стелет волокна»).
ДЯДЬЁ — В. Маяковский, «Марш комсомольца» («пусть их скулит дядьё»).
Е
ЕВНУШИЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 2, 1 («старым евнушьим лицом»).
ЕДУЧИЙ — К. Некрасова, «Чеснок» («а чеснок так едуч»).
ЁЖЬ — В. Маяковский, «Про это» («ежью кожи, гнева брови сборами»), а также в, «Рабочим Курска» («крик, вгоняющий в дрожание и в ёжь»).
Ж
ЖАРЕВО — В. Каменский, «Емельян Пугачев» («жарит жаркое жарево»).
ЖАРОВЕНЬ — Б. Пастернак («как бронзовой золой жаровень») — вместо жаровня.
ЖЕВОТИНА — В. Маяковский, «Облако в штанах» («жевотина старых котлет»).
ЖЕЛВАСТЫЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 17 («какой-то желвастый профессор»).
ЖЕЛЕЗАВУТ — В. Хлебников, «Немотичи и немичи» («железавут играет бубен»); по объяснению автора, видоизмененное старинное слово; елавут — булава.
ЖЕЛТОБИЛЕТНЫЙ — Н. Асеев, «О Москве» («желтобилетная листва бульварная»). Желтый билет — узаконенное удостоверение на право занятия проституцией в царской России.
ЖЕЛТОГЛАЗИНА — В. Маяковский, «Ленин» («завод — желтоглазина»).
ЖЕЛТООГРОМНЫЙ — К. Бальмонт, «Медвяная тишь» («от луны округлой и желтоогромной»).
ЖЕЛТОРОД — А. Белый, «Котик Летаев» («все какие-те желтороды песков»).
ЖЕЛТОСМУГЛЫЙ — Г. Державин.
ЖЕЛТОСТВОЛЫЙ — К. Фофанов, «В сосновой роще» («желтостволых колоннад»).
ЖЕЛЧЕЙ — О. Мандельштам, «Дикая кошка — армянская речь…» («нету его ни желчей, ни нелепей»).
ЖЕМЧУГОВЕЮЩИЙ — В. Хлебников, «Морской берег» («жемчуговеющий рот»).
ЖЕНИРОВАТЬСЯ — И. Панаев, «Литературные воспоминания» («как бы несколько женировался званием литератора»), — от франц. gener.
ЖЕНОКЛУБ — И. Северянин («на чашку чая в женоклуб»).
ЖЕСКНУТЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 2 («жескнул глазами»).
ЖЕСТОЧИТЬСЯ — А. Белый, «Москва» («Ожесточились дико глаза»).
ЖИВАТЬСЯ — В. Маяковский, «Владикавказ — Тифлис» («живались в пажах Князевы сынки»).
ЖИВОТНООКИЙ — В. Хлебников («ехала животноокая дева»), т. V, с. 101.
ЖИВОТРЕПЕТНЫЙ. — Ф. Тютчев, «Вчера, в мечтах обвороженных…» («вдруг животрепетным сияньем»).
ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ — Г. Петников, «Открытие утра» («лодки с животрепещущей хамсой»).
ЖИЗНЕННОЧКА — О. Мандельштам, «Восьмистишия» (о бабочке) («жизненночка и умиранка»).
ЖИЖИТЬСЯ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов», / Все в прошлом / («варенье засахаривается и жижится»).
ЖИЛЯВЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 16. («размахались жилявые руки»).
ЖИРНОЖИВОТЫЙ — В. Маяковский, «Киноповетрие» («жирноживотые, лобоузкие»).
ЖУПЕЛ — Г. Державин, по разъяснению автора, церковно-славянское слово означающее горящую серу, однако вошло в употребление позже, как словесное обозначение некоего пугала, впервые употребленное в пьесе А. Н. Островского, «Тяжелые дни» как реплика купчихи: «Как услышу я слово «жупел», так руки и ноги затрясутся».).
ЖИДОМОРНИЧАТЬ — Б. Пастернак (в письме к О. Мандельштаму («институт жидоморничает»), осенью 1924 г. (см., «В. Л.», № 9, 1972 с. 158.
З
ЗААЛМАЖЕННЫЙ — Н. Асеев, «Курские края» («стекол заалмаженный узор»).
ЗААУКАТЬ — С. Кирсанов, «Будущим людям» («вас мы кличем, зааукав»).
ЗАБЕГЛЫЙ — Л. Н. Толстой, «Война и мир», т. 4, ч. 3, гл. Ill («собаки загрызают забеглую бешеную собаку»).
ЗАБЕЛЕНЬБЕНЬКАТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 2 («забеленьбенькала там колокольня»).
ЗАБЕЛОГРУДИТЬСЯ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («ласточки, забелогрудяся, взвизгнули»).
ЗАБЕНЗИНИТЬ — В. Маяковский, «Ответ на будущие сплетни» («теперь забензинено шесть лошадих).
ЗАБИРЮЗОВИТЬСЯ — А. Белый, «Москва под ударом, гл. 1, 14 («забирюзовились воздухи»), «Москва под ударом», гл. 11,14.
ЗАБОРОЗДИТЬ — А. Белый, «Забороздили заборики».
ЗАБУЛДЫКАТЬ — А. К. Толстой, «Боюсь людей передовых» («индюк… распустит хвост и забулдыкает спесиво»).
ЗАВАРЫЗГАННЫЙ — А. Белый, «Москва под ударом, гл. 1, 2 («заварызганный карлик»).
ЗАВЕДЕНЕТЬСЯ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1,4 («там заведенелися полотеры»).
ЗАВЕЯННЫЙ — А. Фет («На пажитях завеянные рвы»).
ЗАВИРАЛЬНЫЙ — М. Загоскин («завиральные идеи»), по словам И. Панаева, см. «Литературные воспоминания» последнего.
ЗАВИШНЕТЬСЯ — Шершеневич, «Содержание плюс горечь» («рот поцелуем завишнится»).
ЗАВОЛОСАТИТЬ — Б. Пастернак («Осенний лес заволосател»).
ЗАВОНЯЛЫЙ — А. Белый, «Москва под ударом» гл. 1, 14 («коврика дух завонялый»).
ЗАВЫСОКИЙ — В. Хлебников, «Зверинец» («завысокий жираф»).
ЗАГОСТЕВАТЬСЯ — Г. Петников, «Три урока» («загостевавшиеся чужеземцы»).
ЗАГРЕЗИТЬСЯ — И. Северянин, «Качалка грезэрки» («стоит вам повертеться, и загрезится сердце»).
ЗАГРЕТЫЙ — В. Маяковский, «Человек» («обезночил загретый»).
ЗАГРОБЬ — В. Маяковский, «Про это» («верить бы в загробь…»).
ЗАГРОЗАРЕЛО — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14.
ЗАДЕТИТЬСЯ — А. Белый, «Москва под ударом» («весь задетился), гл. 2, 11.
ЗАДНЕВЫВАТЬ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («когда здесь задневывали мужчины»).
ЗАЗВУЧАЛЬНЫЙ — В. Каменский, «Соловей» («зазвучальный ответ»).
ЗАЗОВЬ — В. Хлебников («зазовь манности тайн»), вместо призывность.
ЗАЗЯБЛИВАТЬ — О. Мандельштам, «Чернозем» («кларнетом утренним зазябливает ухо»).
ЗАКОРЧИТЬСЯ — Н. Асеев, «Как соловей расцеловавший» («дней закорчившихся пощечин»).
ЗАКОСОЛАПИТЬ — И. Репин, «Далекое — близкое» («наш хозяин закосолапил к Маланье»).
ЗАКУДРИТЬСЯ — И. Северянин, «Боа из хризантем («их головки закудрились»).
ЗАЛЕЖАННЫЙ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («мужчины залежанные, как больница»).
ЗАЛЕТЕЙСКИЙ — Б. Пастернак («сквозь залетейские миазмы»).
ЗАЛЮБОВНЫЙ — В. Бенедиктов.
ЗАЛЬДИТЬСЯ — И. Северянин, «Мороженое из сирени» («зальдись, водопадное сердце»).
ЗАМОКЛЫЙ — А. Белый, «Москва» («замоклый зябоик»).
ЗАНЕЖЕННЫЙ — В. Маяковский, «Необычайные приключения…» («занежен в облака ты»).
ЗАНИМАТЕЛЬНО — Н. Карамзин.
ЗАПУНЦОВЕТЬСЯ — Н. Асеев, «Письмо к ученикам льговской средней школы» («и блестят они, запунцовясь»).
ЗАРАТУСТРИТЬ — Хлебников, «Усадьба ночью» («Заря ночная заратустрит»).
ЗАРЕВУМ — Н. Асеев, «Стальной соловей» («а наш заревум стальной»).
ЗАРИФМОПЛЕСТЬ — В. Маяковский, «О поэтах» («пустяк, который легше зарифмоплесть»).
ЗАРОЖДЕСТВЕТЬ — В. Маяковский, «Про это» («весело елками зарождествели»).
ЗАРУСОФИЛЬСТВОВАТЬ — В. Маяковский, «Киев» («даже чуть зарусофильствовал от этой шири»).
ЗАСТИТЬСЯ — М. Цветаева, «Русской ржи от меня поклон» («ниве, где баба застится»).
ЗАТВЕРДЕНЕТЬ — А. Белый, стихотв., «Родине» («затверденей»).
ЗАТЕНТЕРЕНЬКАТЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («дождь затентеренькал по крыше»).
ЗАУТРЕННИЙ — Г. Петников, «Лето» («полями в заутреннем свете идем»).
ЗАФЕТЮНИТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 2 («пыль зафетюнила… в носищи и рты»).
ЗАЯНТАРЕННЫЙ — Б. Пастернак, «Повесть» («заянтаренные соусами пальцы»).
ЗВАНЬ — С. Есенин, «Пугачев» («звань к оружью под каждой оконницей»).
ЗВЕЗДИТЬ — И. Северянин, «Колокола собора чувств» («везде мы звездим»).
ЗВЕЗДОНОСНО — О. Мандельштам, «Еще мы жизнью полны» («пишет звездоносно… лиловое чернило»).
ЗВЕЗДООЧИТЫЕ — А. Белый, стихотв., «Под окнам» («вдали иного бытия звездоочитые убранства»).
ЗВЕЗДЬ — В. Маяковский, «Про это» («глядит в удивленьи небесная звездь»).
ЗВЕНЬ — С. Есенин, «Анна Снегина» («приятная хладная звень»).
ЗВЕНЫШКО — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («Ньютон в здании английской культуры только звенышко»).
ЗВОНИСТЫЙ — С. Есенин, «Лисица» («и рассыпал звонистую дробь»).
ЗИМОПИСЬ — Л. Мартынов («Летопись и зимопись твоя»).
ЗВЕРОРЫБИЙ — В. Маяковский, «Париж» («вокруг меня из зверорыбьих морд…»).
ЗВОНКОНОГИЙ — В. Маяковский, «150 000 000» («слов звонконогие гимнасты»).
ЗВУКОЛЮБЕЦ — О. Мандельштам, «Рояль» («звуколюбец, душемутитель»).
ЗВУКОПАС — О. Мандельштам, «От сырой простыни говорящая…» («знать, нашелся на рыб звукопас»).
ЗВУЧАЛЬ — В. Хлебников.
ЗВУЧНОКОПЫТНЫЙ — Н. Языков, «Конь».
ЗЕЛЕНИЗНА — П. Флоренский, «Воспоминания, Пристань и бульвар» («эта зеленизна морской воды»).
ЗЕЛЕНОГРАММА — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /Вдогонку/ («пришлет он зеленограмму»).
ЗЕЛЕНОНОГО — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 2, 7 («зеленоного стрельнула лягушка»).
ЗЕМЛЕПАХ — В. Хлебников («и землепах немеет грозный»), т. 5, с. 99.
ЗЕМЬ — В. Маяковский, «Рабочим Курска» («неизвестно чем распахиваем земь»).
ЗЕРНИТЬСЯ — О. Мандельштам. Из переводов Фр. Петрарки — «Речка разбухшая…» («зернится скорбь в гнезде»).
ЗЛАТОКОЛЕСНЫЙ — А. Белый, «Первое свидание» («златоколесных зодиаков»).
ЗЛАТОКОННЫЙ — Г. Плетников, «Гроза под Петергофом» («и над ватагой златоконной»).
ЗЛАТОЛОБО — В. Маяковский, «Необычайное приключение» («Послушай, златолобо…»).
ЗЛАТООРДНЫЙ — Н. Клюев, стихотв., «Ленин» («Борис, златоордный мурза»).
ЗЛАТОУСТЕЙШИЙ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («Я, златоустейший, чье каждое слово»).
ЗЛАТОШВЕЙНЫЙ — В. Тредьяковский.
ЗЛОПЫХАТЕЛЬСТВО — М. Салтыков-Щедрин.
ЗМЕЕНОГИЙ — А. Белый, «Первое свидание» («златоголовый, змееногий»).
ЗНАКОМОСТЬ — Б. Пастернак, «Волны» («опять знакомостью напева»).
ЗНОЙТЬСЯ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 3, 4 («перегусты зноилися облаком»).
ЗОИЛИАДЫ — Вяч. Иванов (посвящ. Чуковскому в «Чукоккале»): («зоилиады и занозы»).
ЗОЛОТОПИСЬМО — В. Хлебников («крылышкуя золотописьмом тончайших жил»).
ЗОЛОТОРОЖДЕННЫЙ — В. Маяковский, «Письмо тов. Кострову…» («взвивается слава золоторожденной кометой»).
ЗОРЕВОЛОСЫЙ — К. Некрасова, «Отрывок» («зореволосая сидела девица»).
И
ИГРАНИЕ — В. Маяковский, «Тамара и демон» («воды и пены играние»).
ИДЕИШКА — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /Поэтесса/.
ИЗВЕСЕЛИТЬ — В. Маяковский, «Германия» («мы еще извеселим берлинские улицы»).
ИЗВЕСТНЯКОВИТЬСЯ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («Англия замирает… известняковится»).
ИЗВЕТЛИВЫЙ — О. Мандельштам, «Стихи о неизвестном солдате» («До чего ж эти звезды изветливы»).
ИЗВИВНЫЙ — В. Лидин, «У художников» («извивную, длинную фигуру трагика Каратыгина»).
ИЗВИНЯЮСЬ — И. Гончаров, в письме к Достоевскому («опять тысячу раз извиняюсь»).
ИЗДЕТСКИЙ — П. Флоренский, «Воспоминания. Пристань и бульвар» («этому издетскому нежному чувству»).
ИЗДИНАМИТИТЬ — В. Маяковский («а еще и издинамитить старое»).
ИЗДЫБЛЕННЫЙ — В. Маяковский, «Про это» («каждым острием издыбленного в ужас волоса»).
ИЗДЫМИТЬСЯ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («издымится мясо дьявола»).
ИЗИЗДЕВАТЬСЯ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («досыта изиздеваюсь, нахальный и едкий»).
ИЗОБРАЗИСТ — Н. Асеев, «Знаменосец революции» («мужицкого образа изобразист»).
ИЗОМЛЕТЬ — Н. Асеев, «Заплыв» («разве можно в мечтах изомлеть»).
ИЗОРЖАТЬ — В. Маяковский, «Война и мир» («грохотом изоржав»).
ИЗОХАННЫЙ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («выполоскать горло сердцу изоханному»).
ИЗРАДИИТЬ — В. Маяковский, «Париж» («твой израдиило лоб»).
ИЗРОСШИЙ — В. Маяковский, «Про это» (вариант) — («разметал изросшие волосы»).
ИЗРЫДАТЬСЯ — А. Фет («изрыдалась осенняя ночь»).
ИЗЫГРАТЬ — В. Маяковский, «Стих резкий о рулетке…» («если всю доску изыграть эту»).
ИЗЫСК — И. Северянин, «Мороженое из сирени» («пора популярить изыски»).
ИКАРИН — В. Маяковский, «Москва — Кенигсберг» («конец крылам икариным»).
ИКОННЫЙ — С. Есенин («твой иконный и строгий лик»).
ИМЕНИННИТЬ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («каждое слово имениннит тело…»).
ИНДЕВЬ — С. Есенин, «Песнь о великом походе» («в берег бьет вода пенной индевью»).
ИНТУИТ — И. Северянин («я, самоучка-интуит»).
ИРОНЯЩИЙ — И. Северянин, «Уайльд» («без слез рыдал иронящий Уайльд»).
ИСКОПАЕМОХВОСТАТЫЙ — В. Маяковский, «Во весь голос» («чудовищ ископаемохвостатых»).
ИСКРЕЖЕЩЕННЫЙ — В. Маяковский, «Про это» («зубом искрежещенным в звериный лязг»).
ИСКРЕСТИТЬСЯ — В. Маяковский, «Голосуем за непрерывку» («искрестилась толпа»).
ИСКРОКИПУЧИЙ — Н. Языков, «Ау!» («искрокипучее вино»).
ИСПАВЛИНИТЬСЯ — В. Маяковский («цветы испавлинятся в каждом окошке»).
ИСПЕПЕЛИМО — Н. Асеев, «Стихи о Гоголе. Родина. Конец» («слово навеки не испепелимо»).
ИСПЕРЧЕННЫЙ — В. Маяковский («инцидент исперчен»).
ИСПЕШЕХОДИТЬ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («грудь испешеходили, чахотки площе»).
ИСПЛЕНЕННЫЙ — В. Маяковский, «Владимир Ильич!» («везде, где народ испленен»).
ИСПОДТИШЕЧНЫЙ — В. Шершеневич, «Содержание плюс горечь» («хоть один поцелуй исподтишечной украдкой»).
ИСПРОМОЗГЛОСТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1. 1 («тащился с ведром испромозглости»).
ИСПРЫСКАТЬСЯ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («камни и крыши испрыскались дождичком»).
ИССВЕРЛИТЬ — В. Маяковский (по Л. Тимофееву).
ИССЕДЕВШИЙ — В. Маяковский, «Про это» («разметал поседевшие волосы»).
ИССЛЕЗЕННЫЙ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («окровавив исслезенные веки»).
ИССМЕЯТЬСЯ — В. Хлебников, «Заклятие смехом» («о, иссмейся рассмеяльно»).
ИССОБАЧИТЬСЯ — М. Салтыков-Щедрин, «Верный трезор» («совсем он с тех пор иссобачился»).
ИСТЛЕВАТЬ — Н. Языков («истаевать в твоей любви»). Позже В. Брюсов, «Последние мечты» («душа истаевает»).
ИСТЕМНИТЬ — В. Маяковский («Тенью истемня весенний день») и «Про это» («эта тема день истемнила»).
ИСТОРЖЕННЫЙ — А. Пушкин, «Из А. Шенье» («исторженные пни высоко громоздит»).
ИСХЛОПАНО — В. Маяковский, «Про это» («Дверье крыло… исхлопано»).
ИСЦЕЛОВАТЬ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («цепь исцелую во мраке каторги»).
ИСЧОКАННЫЙ — В. Маяковский, «Про это» («в тостах стаканы исчоканы»).
ИСШЕЛЕСТИТЬ — В. Маяковский, «Париж» («исшелестен тысячей шин»).
ИТАЛЬЯНИТЬСЯ — О. Мандельштам, «Возможна ли женщине мертвой хвала?» («смеясь, итальянясь, русея»).
ИУДИТЬ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («небо опять иудит»).
ИЮЛИТЬ — В. Маяковский.
К
КАЛЕКШИ — В. Маяковский, «Есенину» («но скажите вы — калеки и калекши»).
КАМЕНОСЕЧЕЦ — Г. Державин (по Л. Тимофееву).
КАНОННЫЙ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («Англия — канонная страна»).
КАПИТАЛОПОСЛУШНЫЙ — В. Ленин.
КАПЛЕРОСНЫЙ — В. Тредьяковский.
КАРЛИЧИЙ — О. Мандельштам, «На доске малиновой…» («карличья, в ушастых шапках, стая»).
КАРНАВАЛИЗАЦИЯ — М. Бахтин, «Проблемы поэтики Достоевского» (литературоведческий термин).
КАРТАВКА — Ф. Достоевский.
КИПЯТКОВЫЙ С. Есенин, «Все живое особой метой» («этих дней кипятковая вязь»).
КЛЕНЕНОЧЕК — С. Есенин, «Там, где капустные грядки» («клененочек маленький матке зеленое вымя сосет»).
КЛЕНОХОД — И. Северянин, «Фиолетовый транс» («безумным жестом остолблен кленоход»).
КЛОБУЧЬЕ — А. К. Толстой, «Боривой» («утекай, клобучье племя»).
КЛОПОВАТЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 5 («дом клоповатого цвета»).
КОАЛИЦИЯ — С. Шевырев.
КОММУНИЗМ — М. Петрашевский, «Карманный словарь иностранных слов», 1845 г.
КОМПЛИМЕНТЩИНА — В. Маяковский, «Германия» («комплиментщины официальной болтовня»).
КОМСОМАЛЬЧИК — В. Маяковский, «Стихотворение о проданной телятине» («комсомальчик ручку протягивает»).
КОНФУЗИОНИЗМ — В. Ленин.
КОРШУННИЦА — О. Мандельштам, «Грифельная ода» («и ночь-коршунница»).
КОСМАТОВЛАСЫЙ — В. Хлебников, «Зверинец» («косматовласый Иванов»).
КОСТРЕВАТЫЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 3, 26 («прошел костреватый мужчина»).
КОТЯЧИЙ — Н. Асеев, «Тех-тешка» («принимался за котячий мелкий Tpya».
КРАСИВЕЙШИНА — В. Хлебников, «Зверинец» (о павлине: «где синий красивейшина роняет долу хвост»).
КРАСОВИТЫЙ — О. Мандельштам, «Когда щегол…» («а чепчик — черным красовит»).
КРАСНОРУКАВЫЙ — Б. Пастернак, «Охранная грамота («он привстал краснорукавый»).
КРАСНОФЛАГИЙ — Б. Маяковский, «Про это» («даже в нашем краснофлагомстрое»).
КРАСНОШЕЛКИЙ — В. Маяковский, «Про это» («красношелкий огонь под землей знаменя»).
КРЕПКОГРУДЫЙ — Н. Щербина, «Два титана» («крепкогрудый океан»).
КРЕСТАСТЫЙ — И. Сельвинский, «Сирень» («туманная, да крестастая»).
КРЕСТОСЛОВИЦА — В. Набоков, «Другие берега», гл. XIII, 3 («тогда-то я и придумал новое слово крестословица, столь крепко вошедшее в обиход»), тоже, что кроссворд.
КРИКОГУБЫЙ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («сегодняшнего дня крикогубый Заратустра»).
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — М. Ломоносов.
КРИЧАК — В. Хлебников.
КРОВОТОЧИНА — И. Сельвинский («Если много кровоточин…»).
КРУПНОДЫРНЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3 («означились вдруг крупнодырные ноздри»).
КРУТОПОКЛОННЫЙ — О. Мандельштам, «На доске малиновой…» («на кону горы крутопоклонной»).
КРЫЛЫШКОВАТЬ — В. Хлебников («Крылышкуя золотописьмом» — о кузнечике).
КРЫСЯТИТЬСЯ — А. Белый, «Московский чудак», гл. I, II («крысятился прохиком»).
КСАНТИППОСТЬ — А. К. Толстой, «Б. М. Маркевичу» («твою ксантиппость я сношу»).
КУБАРИТЬ — Екатерина II («кубарить кубари»), см. «Были и небылицы», в букв. значении: пускать волчки, в переносном: слоняться без толку).
КУВЕРДИТЬСЯ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 13 («кувердилась старуха»).
КУЛАКАСТЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 2, 10 («кулакастый булыжник»).
КУРНЯВКАТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 2, 9 («курнявкает кошка»).
КУСАВА — О. Мандельштам, «Восьмистишия» («с большими усами кусава» — о бабочке).
КУЦАВЕЕШНЫЙ — Ф. Достоевский, «Идиот» («Куцавеешная капитания»).
КЮХЕЛЬБЕКЕРНО — А. Пушкин (шуточный неологизм от фамилии Кюхельбекер).
Л
ЛАВРИЙ — В. Маяковский, «Киев» («наша сила — правда, ваша — лаврьи звоны»).
ЛАЙМ-ЛАЙТ — А. Ахматова, «Тайны ремесла» («лайм-лайта холодное пламя») (от англ. — свет рампы).
ЛАМПИОНИЯ — В. Маяковский, «Разговор с фининспектором о поэзии» («я в долгу перед бродвейской лампионией»).
ЛАЯКА — Д. Давыдов, «Голодный пес» («Задай лаяка, Варшаве чёс, хватай собака…»).
ЛБЁНКИ — В. Маяковский, «Люблю» («мыслишки звякают лбёнками медненькими»).
ЛЕБЕДИВО — В. Хлебников («О, лебедиво! О, озари…»).
ЛЕВ — И. Панаев (с франц., в смысле: светский франт, см. Иванов-Разумник, статья о «Воспоминаниях» И. Панаева.
ЛЕВИТАНИСТЕЕ — А. Чехов. Письмо к Л. Мизиновой («природа грустнее, левитанистее»).
ЛЕВОГРУДЫЙ — М. Цветаева, «Слезы — на лисе моей облезлой!» («громче левогрудой стукотни»).
ЛЕГЕНДАРЬ — В. Маяковский, «МЮД» («воскресает годов легендарь»).
ЛЕГКОДУМНЫЙ — С. Есенин, «Может поздно, может слишком рано» («легкодумных, лживых и пустых»).
ЛЕГКОМЫСЛЫЙ — В. Маяковский, «Юбилейное» («в моей позорно легкомыслой головенке»).
ЛЕГКОЯЗЫЧНЫЙ — А. Пушкин, «Бородинская годовщина» («легкоязычные витии»).
ЛЕДОВНЯ — А. Белый, «Начало века» (о холодной комнате).
ЛЕЕВА — В. Маяковский, «Левый марш» («стальною разлейтесь леевой»).
ЛЕПОКУДРЫЙ — Л. Мей («пляшут изящно оне, лепокудрые дщери Зевеса»).
ЛЕСОФЕЯ — И. Северянин (название стихотв.).
ЛЕТНЕПИКЕЙНЫЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («одевшись в летнепикейный костюм»).
ЛИВИСТО — С. Есенин «Сукин сын» («с лаем, ливисто ошалелым»).
ЛИДИЕСЕРДНЫЙ — И. Северянин («лилиесердный герцог»).
ЛИЛОВОИЗНЕЖЕННЫЙ — И. Северянин, «Мороженое из сирени» («в лиловоизнеженном крепе»).
ЛИЛОВОЛИСТИСТЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 7 («от обой прихотливых лиловолистистых»).
ЛИМОННИЧАТЬ — Ф. Достоевский.
ЛИМОННОЛИСТНЫЙ — И. Северянин («лимоннолистный лес»).
ЛОБЗАЛЬНЫЙ — Ф. Сологуб, «Лила, лила, лила, качала» («была милее дев лобзальных»).
ЛОБОУЗКИИ — В. Маяковский, «Киноповетрие» («жирноживотые, лобоузкие»).
ЛОЖНОВОЛОСАЯ — О. Мандельштам, «Разрывы круглых бухт» («ложноволосая — и пахнет долгой ложью»).
ЛОЙОЛЬСТВОВАТЬ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («в Европе… лойольствовал Шпенглер»).
ЛОШАДЬЁ — В. Маяковский (по Л. Тимофееву).
ЛОШАЖИЙ — С. Есенин, «Годы молодые с забубенной славой» («ну стегать по лошажим спинам»).
ЛЮБАВИЦА — В. Хлебников.
ЛЮБЁНОК — В. Хлебников.
ЛЮБЁНОЧЕК — В. Маяковский, «Облако» («должно быть маленький, смирный любеночек»).
ЛЮБЕЦ — В. Хлебников.
ЛЮБИСТЕЛЬ — В. Хлебников (аналог слову свиристель).
ЛЮБОВНЯ — В. Хлебников (аналог слову часовня).
ЛЮБРОВА — Б. Хлебников (аналог словам дуброва, дубрава).
ЛЮБИЙЦА — В. Хлебников.
ЛЮБИК — В. Хлебников.
ЛЮБЯНИН — В. Хлебников.
ЛЮБЯТА — В. Маяковский, «Облако в штанах» («миллион миллионов маленьких грязных любят»).
ЛЮДЬЁ — В. Маяковский, «Люблю» («с детства людье трудами муштровано»); позже О. Мандельштам, «Дикая кошка — армянская речь» («были мы люди, а стали людьё»).
ЛЮЛЬКИ — Г. Державин, «К музе» (по разъяснению автора — в значении «клумбы» — «употреблено в смысле, какой у немцев имеет слово beet»).
ЛЫСАСТЫЙ — Белый, «Маски».
ЛЬВОЯРОСТНЫЙ — Н. Лесков (иронично, в статье «На смерть М. Н. Каткова»).
ЛЬДЯРЕБРОСТЬ — В. Бенедиктов.
ЛЬНЯНОКУДРАЯ — О. Мандельштам, «Я нынче в паутине световой…» («и льнянокудрою, каштановой волной»).
М
МАГДАЛИНИТЬСЯ — А. Герцен (от имени Мария Магдалина).
МАЙНО — И. Северянин, «День на ферме» («Было повсюду майно»).
МАМОНТНЫЙ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /В небе/ («подобия туловищ мамонтных»).
МАНДЕЛЬШТАМП — И. Сельвинский, «Записки поэта» (шуточный неологизм от фамилии поэта О. Мандельштама).
МАНДОЛИНИТЬ — В. Маяковский, «Во весь голос» («мандолинят из-под стен»).
МАНЖЕТЩИКИ — В. Маяковский, «Ленин» («в очках манжетщики, злобой похаркав»).
МАРАМОРОХИ — А. Белый, «Первое свидание» («то мараморохами зол, то добрым делом соглаголет»).
МАРЕВНЫЙ — А. Блок.
МАРТОКОШАЧИЙ — В. Горянский, «Призыв» («в мартокошачий впадаю транс»).
МАРТЫШНИЧАТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 4 («мартышничали голодранцы»).
МАССОМЯСЫЙ — В. Маяковский, «Война и мир» («массомясая, быкомордая орава»).
МАТЕРИЙКА — Н. Гоголь («сестре я прислала материйку, это такое очарование»), В. Маяковский, «Бруклинский мост» («красней как флага нашего материйка»).
МАШИНЬЁ — В. Маяковский, «Рабочим Курска» («машиньё сдыхало, рычажком подрыгав»).
МАШУЧИ — Б. Пастернак, «Душистой веткой машучи», затем О. Мандельштам, «Он дирижировал… И машучи ступал».
МГЛИТЬСЯ — Н. Асеев, «На жизнь болоночью плюнувши» («и мглились штыки в Перми»).
МЕДНОГОЛОСИНА — В. Маяковский, «Военно-морская любовь» («как взревет медноголосина»).
МЕЛКОБИСЕРНЫЙ — О. Мандельштам, «Я живу на важных огородах» («в мелкобисерных иззябла огоньках»).
МЕЛКОМОНЕТНЫЙ — В. Горянский, «Призыв» («ваши страсти мелкомонетны»).
МЕЛОЧИННЫЙ — В. Маяковский, «Про это» («все, что мелочинным роем оседало»).
МЕРЗЛИК — И. Сельвинский, «С чего начинается весна» («напрасно бедный зяблик-мерзлик…»).
МЕРТВОСТЬ — В. Маяковский, «Про это» («тополя возносят в небо мертвость»).
МЕТР — Симеон Полоцкий (в смысле термина стихосложения).
МЕЩЕТ — Ф. Тютчев (вместо мечет: «солнце… мещет… луч»).
МИЛЛИАРДНОРАЗЛИЧНЫЙ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /Надежда/ («миллиардноразличные спектры»).
МИЛЛИОНИТЬ — В. Маяковский.
МИЛЛИОННОГЛАВЫЙ — В. Маяковский, «Ленин» («класс миллионноглавый напрягает глаз»).
МИЛЛИОННОКРЫШИЙ — В. Маяковский, «Сволочи» («миллионнокрыший волжских селений гроб»).
МИЛЛИОННОПАЛЫЙ — В. Маяковский, «Ленин» («Партия — рука миллионнопалая»).
МИМОХОДЯЩИЙ — Н. Языков (в смысле: легкомысленный), «Ау» («печать мимоходящей новизны»).
МИМОХОДЫ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («мимоходы людей»).
МИНОНОСИНА — В. Маяковский, «Военно-морская любовь».
МИНОНОСИЦА — В. Маяковский, «Военно-морская любовь».
МИНОНОСОЧКА — В. Маяковский, «Военно-морская любовь».
МИРЁЛ — В. Хлебников (сравн. орёл).
МИРЯТНИК — В. Хлебников (сравн. с «курятник»).
МЛЕЧПУТЬ — В. Маяковский, «Во весь голос», два вступления в поэму («в ночи млечпуть серебряной Окою»).
МНОГОГОРБЫЙ — Б. Пастернак, «Вокзал» («метет по перронам глухой многогорбой пургой»).
МНОГОГРОМНЫЙ — Н. Языков («прямо-русская война многогромная скоплялась»).
МНОГОДОННЫЙ — О. Мандельштам, «Римских ночей полновесные слитки» («есть многодонная жизнь вне закона»).
МНОГОДОРОЖНЫЙ — А. Пушкин, «Стамбул гяуры нынче славят…» («многодорожный наш Арзрум»).
МНОГОЛОБЫЙ — В. Маяковский, «Революция» («бились об пол головой многолобой»).
МНОГОЖЕЙ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /Потолочная шутка»/ («до чего же щетка меня многоножей»).
МНОГОПЕННЫЙ — А. Блок («слышу, воет поток многопенный»).
МНОГОПУДЬЕ — В. Маяковский, «Во весь голос» («мне наплевать на бронзы многопудье»).
МНОГОТРУДНЫЙ — Ф. Тютчев, «Momento».
МНОГОХАМЫЙ — В. Маяковский, «Война и мир», ч. I («грохотали мордой многохамной»).
МНОГОХРАМНЫЙ — М. Волошин, «Стенькин суд».
МНОГОШУМНЫЙ — Н. Гнедич, «Илиада».
МНОГОЯКИЙ — А. Белый, «Первое свидание» («двоякий, многоякий, всякий»).
МОГУЧЕСТЬ — Н. Асеев, «Знаменосец революции» («он понимал ее меры могучесть»).
МОЗГЛЯЙСТВО — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1,2 («в мозгляйстве словесном»).
МОКРЕТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 17 («жалко мокрели дома»).
МОЛВНЯК — В. Хлебников (сравн. ивняк).
МОЛДАВАННО — А. Пушкин (письмо из Кишинева) («молдаванно и тошно».
МОЛИТВОСЛОВНЫЙ — С. Есенин, «Запели тесаные дроги» («звенят родные степи молитвословным ковылем»).
МОЛКНЬ — В. Маяковский, «Мой май» («молкнь винтовки вой»).
МОЛНИЕНОСЕЦ — Г. Петников, «Гроза над Петергофом» («и зябко отблистав в озерах, молниеносцев гонишь вновь»).
МОЛОДЁЖЕПЁРЫЙ — В. Хлебников, «Искушение грешника» («молодёжепёрый кур»).
МОЛОТКАСТЫЙ — В. Маяковский, «Стихи о советском паспорте».
МОЛЧАНИЕХВОСТЫЙ — В. Хлебников, «Искушение грешника» («молчаниехвостый вран»).
МОЛЬНО — И. Северянин («поле от луны в нем мольно») (м. б. вместо молитвенно?).
МОНТЕКАРЛИК — В. Маяковский, «Монте-Карло» («поганенькие монтекарлики»).
МОРДАСТОНОГИЙ — В. Хлебников («мордастоногие дива»).
МОРДКА — А. Пушкин, «Сказка о попе и работнике его Балде» («высунув язык, мордку поднявши»).
МОРЩАН — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 12 («стал морщаном от хохота»).
МОЦАРТИТЬ — В. Хлебников, «Усадьба ночью чингисхань» («а небо синее моцарть»).
МОЩЕХРАНИЛИЩЕ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 2, 10 («кресло казалося мощехранилищем»).
МРЕТЬ — Ф. Сологуб, «Только заболели поутру» («рожки мреют на комоде») /глагол/ и С. Есенин, «Мне осталась одна забота» («все сжигает житейская мреть») /существительное/.
МРУЩИЙ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («ревность метну в ложи мрущим взглядом быка»).
МУЖИКОВСТВУЮЩИЙ — В. Маяковский, «Юбилейное» («ну, Есенин, мужиковствующих свора»).
МУЖЧИНООБРАЗНЫЙ — Б. Пильняк, «Чертополох» («приходили мужчинообразные женщины»).
МУМЛИТЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1,2 («что-то мумлил»).
МУССОЛИНИТЬСЯ — В. Маяковский, «Нордерней» («фашистский… знак муссолинится»).
МУХОНОСНО — Н. Асеев («зажужжала мухоносно на бумажке папиросной»).
МЫСЛЕЁМКИЙ — А. Югов, «О народности писательского языка» («не лучше ли писать языком точным, мыслеёмким…?»).
МЫСЛЕОБРАЗ — Н. Рерих, см. газета, «Советская культура» от 29.VI.1972. Беседа с И. М. Богдановой-Рерих.
МЫСЛОКА — В. Хлебников (сравн. осока).
МЫШИТЬСЯ — В. Маяковский, «Мысли в призыв» («в норах мистики вели ему мышиться»).
МЭОНИЗМ — Н. Минский (термин изобретен автором для его нового религиозного учения о самообожествлении.
Н
НААФОНИТЬ — Ф. Достоевский.
НАБОЖКА — В. Маяковский, «Киев» (презрительное — набожная женщина).
НАВАКСИТЬ — В. Маяковский, «Хорошо» («Наваксь щиблетину»).
НАВСХЛИП — В. Боков, «Соловей распевал при мамонте» («В диких зарослях плакал навсхлип»).
НАГАММИТЬ — В. Маяковский («тысячу радуг в небе нагаммим»).
НАГЛОВЗОРЫЙ — М. Цветаева, «Стихи к Пушкину» («скалозубый, нагловзорый»).
НАГЛЯДЕНИЕ — К. Некрасова, «О художнике» («наглядения нет глазам»).
НАГУСТО — В. Маяковский («ночи августа звездой набиты нагусто»).
НАДБРОВИЦЫ — К. Некрасова, «Готика» («череп изнутри вздымал надбровицы»).
НАДВЬЮЖНЫЙ — А. Блок, «Двенадцать» («снежной поступью надвьюжной»).
НАДСМЕЙНЫЙ — В. Хлебников, «Заклятие смехом».
НАЗАДИ — Л. Толстой, «Война и мир», т. 3, ч. 3, гл. 2 («назади тысячи верст»).
НАКОСИТЬСЯ — Ф. Достоевский, «Чужая жена и муж» («накосился глазами на его боковой карман»).
НАЛАЧЕННЫЙ — С. Кирсанов, «Дорога в Венецию» («желтел налаченной сосной»).
НАЛЬДЕТЬ — Н. Асеев, «Маяковский начинается» («на стеклах вагонных нальдело»).
НАМОРОЗЬ — Г. Петников, «Письмо в Раменское» («наморозью огненной»).
НАПЛЕВИЗМ — В. Ленин.
НАРОДИНА — В. Маяковский, «Мистерия-буфф» («наш бродячий народина»).
НАСКАЛЬЗЫВАТЬ — С. Кирсанов, «Сто советских» («телом всем наскальзывая на лед»).
НАСКИПИДАРЕННЫЙ — В. Маяковский, Частушка («мчит Юденич с Петербурга, как наскипидаренный»).
НАСЛАЖДЕНЩИНА — И. Сельвинский, «О любви» («нет, любовь — не наслажденщина»).
НАСЛЕЗЕННЫЙ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («глаза наслезенные бочками выкачу»).
НАСМЕШИСТО — А. Солженицын, «Август четырнадцатого» («глаза были уставлены насмешисто»).
НАФОНЗОНИТЬ — Ф. Достоевский, «Братья Карамазовы».
НАЦИКАТЬ — В. Маяковский, «Юбилейное» («антр-ну, чтоб цензор не нацикал»).
НАЧЕРНЬ — Г. Петников, «Финские стихи» («и озер серебряная начернь»).
НАЧУДЕНО — В. Маяковский, «150 000 000» («чего-чего не начудено»).
НАЩЁЛК — Б. Пастернак, одно из вступлений к «Спекторскому» («и сердце длинным нащёлком как бич, все чаще огревает это стадо»).
НЕБЁНОК — В. Хлебников.
НЕБОЁМ — В. Хлебников.
НЕБОЗОБИЙ — В. Хлебников, «Простая повесть» («небозобый воркует голубь»).
НЕБОМЕХИЙ — В. Хлебников («небомехий зверь»).
НЕБОРОБ — В. Хлебников (сравн. землероб).
НЕБОХРАНИЛИЩЕ — О. Мандельштам, «Я скажу это начерно» («счастливое небохранилище»).
НЕБРЕЖНИЦА — О. Мандельштам («Свищет песенка, насмешница, небрежница»).
НЕБЯНКА — В. Хлебников.
НЕБЬЕ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («и небье лицо секунду кривилось»).
НЕВЛЮБЛЕНЬЕ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /В воскресенье/.
НЕВНЯТИЦА — А. Белый, «Котик Летаев», «Московский чудак», гл. 1, 1 и др.
НЕВПОДЫМ — А. Солженицын, «Август четырнадцатого» («моему-то поколению почти невподым»), газета, «Труд» от 7.IV.1972.
НЕВСТАВАЛЬНЫЙ — М. Исаковский, «В больнице» («Я больной невставальный»).
НЕВЫГОДНОСТИ — А. Солженицин, «Август четырнадцатого» («при любых невыгодностях»).
НЕВЫРЖАННЫЙ — Н. Клюев, цикл «Земля и железо» («у каряго много невыржанных дум»).
НЕГРИТЬЁ — В. Маяковский, «Сифилис» («третий класс, черный от негритья»).
НЕДОВЯЗОК — Н. Клюев, «Плач о Есенине» («с воза сноп-недовязок, в пустые борозды Ты упал, чтобы грудь испытать колесом»).
НЕДОЕД — Б. Пастернак, «Двор».
НЕДОРАЗВИТОК — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву), позже у О. Мандельштама, «Преодолев затверженность природы» («и тянется глухой недоразвиток»).
НЕДОРУКОДЕЛЬНИЧАТЬ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /В воскресенье/.
НЕДОТЫКОМКА — Ф. Сологуб, «Мелкий бес».
НЕДОЦВЕТШИЙ — М. Лермонтов, «Не смейся над моей пророческой тоскою» («с улыбкой очернит мой недоцветший гений»).
НЕДУМАНЬЕ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» (В воскресенье).
НЕЖНОБОКИЙ — В. Хлебников, «Искушение грешника» («радостоперые нежнобокие птицы»).
НЕЗАБУДИЩИ — В. Маяковский, «Венера Милосская и Вячеслав Полонский» («букет огромный из огромных незабудищей»).
НЕИЗМЕНА — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» («я пою твою неизмену»).
НЕИССЛЕДИМЫЙ — Б. Пастернак, «Спекторский» («в неисследимый смысл добра и зла»).
НЕИСЦВЕТШИЙ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («дай твоих губ неисцветшую прелесть»).
НЕКРУШИМЫЙ — Н. Щербина, «Два титана» («в некрушимые оковы»).
НЕМИТЬСЯ — В. Маяковский, «Германия» («наш голос судорогой немится»).
НЕМЛИВО — В. Хлебников, «Богу».
НЕМОГУЗНАЙКА — А. Суворов.
НЕМОЛИСТВЕННЫЙ — В. Хлебников («немолиственное деревце»).
НЕМОТСТВОВАТЬ — В. Хлебников, «Богу».
НЕПОРЫВИСТО — Н. Огарев, «Предисловие к «Колоколу» («и непорывисто смела»).
НЕОБХОДИМОВИЧ — Н. Асеев, «Маяковский начинается» («Владимир Необходимович»).
НЕОБЩИЙ — Е. Боратынский, «Муза» («ее лица необщим выраженьем».
НЕОБЫЧАИНИТЬСЯ — В. Маяковский, «Москва — Кенигсберг» («и пошли часы необычайниться»).
НЕПЕТЫЙ — А. К. Толстой, «Есть много звуков в сердца глубине» («неясных дум, непетых песен много»).
НЕОДЕНЬ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /Новое нео/.
НЕОДОМ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /Новое нео/.
НЕОЖИЗНЬ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /Новое нео/.
НЕОМИР — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /Новое нео/.
НЕОСВЕТ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /Новое нео/.
НЕОТХОДНЫЙ — Л. Мей, «Чуру» («мой неотходный пес»).
НЕПЕРВЫЙ — Е. Боратынский («Творец непервых сил») /посредственный литератор/.
НЕПЕРЕЛАЗНЫЙ — А. Н. Толстой, «Петр Первый», ч. 1, гл. 1 («неперелазный тын»).
НЕПРЕВЗОЙДИМО — В. Маяковский, «Про это» («Был закат непревзойдимо желт»).
НЕПРИНАДЛЕЖАНИЕ — Л. Толстой, «Война и мир», т. 4, ч. 2, гл. II (о собаке — «непринадлежание ее никому»).
НЕПРОХОДИМОЛЕСЫЙ — В. Маяковский, «Рабочим Курска» («и Урал орал непроходимолесый»).
НЕРАСКРЫТИЕ — К. Некрасова, «О художнике» («жизнь… вся нераскрытием полна»).
НЕСКАЗАЛЬ — Н. Асеев, «Маяковский начинается» («РАПП и АХРР и несказаль другая»).
НЕСПОКОЙ — Г. Петников, «Ранний апрель» («благодатный весны неспокой»).
НЕСРОЧНЫЙ — Е. Боратынский, «Запустение» («где я наследую несрочную весну»).
НЕСМЕТАЕМЫЙ — К. Фофанов («несметаемых листов»).
НЕТРОГАННЫЙ — В. Маяковский, «Тамара и демон» («разит красотою нетроганной»).
НЕУСЛЕДИМО — Б. Пастернак, «Высокая болезнь» («он прошмыгнул неуследимо»).
НЕУСЫПЛЕННЫЙ — О. Мандельштам, «Бежит волна-волной…» («неусыпленная столица волновая»).
НЕХОТЯП — В. Хлебников, «Зангези», плоск. XIII.
НЕЧУЕМЫЙ — О. Мандельштам, «О, как же я хочу…» («не чуемый никем»).
НЕЧУЖДЫЙ — А. Пушкин, «Клеветникам России» («среди нечуждых им гробов»; Е. Боратынский, «Приметы» («нечуждая жизнь в ней дышала»).
НЕЩАДНЫЙ — Герасим Смотрицкий («приидоша бо в мир волки нещадные»).
НИГИЛИСТ — И. Тургенев, «Отцы и дети», (от лат. nihil — ничто).
НИКОГОНЕВИДЕНЬЕ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /В воскресенье».
НИКУДАНЕБЕГАНЬЕ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» (В воскресенье).
НИЩЬ — В. Маяковский, «Взяточник» («чтоб советскую нищь на кабаки разбазаривать»).
НОВЕЛЛА — Н. Кукольник.
НОВОРОДИТЬ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («каждое слово душу новородит»).
НОВОМЫШЛЕННЫЙ — А. Сумароков («бряцает не употребляется никогда и есть слово новомышленное и подло»). НОСИЛЬЩИК — Н. Карамзин.
НОЧЕЕТ — И. Северянин («Бело ночеет поле»).
НОЧНЕЕ — В. Маяковский («чем дальше, тем ночнее»).
НЯНЬ — В. Маяковский, «Хорошо» («усатый нянь»).
НЫНЧЕСТЬ — В. Маяковский, «Про это».
НЬЮЙОРКИСТЫЙ — В. Маяковский, «Рабочим Курска» («всякого Нью-Йорка ньюйоркистей»).
О
ОБВЕЙНЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 2, 10 («сеял обвейными хлопьями»).
ОБВОРОЖАТЬ — Ф. Тютчев, «Как он любил родные ели» («его обворожали ум»).
ОБЕЗЛИСИТЬ — В. Хлебников («леса обезлисили»).
ОБЕЗЛОСИТЬ — В. Хлебников («леса обезлосили»).
ОБЕЗМЫШИТЬ — В. Жуковский, «Война мышей и лягушек» («край наш родимый надолго стал обезмышен»).
ОБЕЗНОЧИТЬ — В. Маяковский, «Человек» («обезночил загретый»).
ОБЕЗОПАШЕН — Н. Асеев, стихотв. «Чтоб новая, радостная» («от бурьяна и чертополоха обезопашена»).
ОБЖИРЕВШИИ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («земле обжиревшей, как любовница»).
ОБИНОСТРАНИЛИСЬ — Н. Гоголь.
ОБЛИСТАННЫЙ — Е. Растопчина, «Последний цветок» («последний цвет облистанных полей»).
ОБНАРОДОВАТЬ — В. Тредьяковский.
ОБНЕРЯШИТЬСЯ — Ф. Достоевский, «Двойник» («трудно было более опуститься и обнеряшиться»).
ОБОЕЛИКИИ — Б. Пастернак, «Повесть» («разрывали надвое эту обоеликую улыбку»).
ОБОЙМЛЕННЫЙ — С. Есенин, «Гаснут красные крылья заката» («обоймленные синью рога»).
ОБОСЕНЕННЫЙ — С. Есенин, «Листья падают» («в обосененную тишину»).
ОБРАВНОДУШИТЬ — Н. Гоголь.
ОБРАЗ — Н. Карамзин (впервые в применении к художественному творчеству, ранее существовала лишь в значении образ — икона).
ОБРАМИТЬ — А. К. Толстой, «Вонзил кинжал…» («я не успел еще его обрамить»).
ОБСТАТЬ — Е. Боратынский, «Что за звуки» («чернь тебя обстала злая»), позже А. Блок, «Как свершилось» («душу бедную обстала»).
ОБСТИГНУТЬ — Б. Пастернак, «Степь» («туман… нас обстиг»).
ОБУТНО — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («в Америке сытно, обутно…»).
ОДЕТНО — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («в Америке сытно, обутно, одетно»).
ОБШМЫГА — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву).
ОБЩЕПОЛЕЗНЫЙ — Н. Карамзин.
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ — Н. Карамзин.
ОБЫЧАЙНОСТЬ — Ф. Сологуб, «Мой прах истлеет» («доверюсь я иному чуду, как обычайности земной»).
ОБЩЕЛЯГУШЕЧИИ — Б. Пастернак, «Любимая, жуть!» («как общелягушечью эту икру»).
ОБЩЕПРИМЕРНЫЙ — Н. Асеев, «Знаменосец революции» («за вид ее общепримерный»).
ОБЪЕКТИВНЫЙ — Н. Кукольник.
ОБЪЯТНЫЙ — О. Мандельштам, «Пластинкой тоненькой жиллета» («быть хозяином объятной… простоты»).
ОВАЗИТЬСЯ — В. Маяковский, «России» («остров зноя и пальмы овазился»).
ОВЕСЕНЕННЫЙ — И. Северянин, «Berceuse осенний» («есть муж и трижды овесененный ребенок»).
ОВИХРИТЬ — В. Маяковский, «Последняя петербургская сказка» («стыдом овихрены шаги коня»).
ОВНОРОГИЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («фавн овнорогий»).
ОВЧАРКОВАТЫЙ — Б. Хлебников, т. V, с. 50 («овчарковатый и понурый»).
ОГИМНИТЬ — И. Северянин, «Мороженое из сирени» («огимнив эксцесс»).
ОГНЕГУБЫЙ — В. Маяковский, «Рабочим Курска» («огнегубые вздыхают топки домны»).
ОГНЕЗОБЫЙ — Н. Клюев, «Земля и железо» («орлом огнезобым взметнется мой конь»).
ОГНЕКРАСНЫЙ — А. Блок, «Разлетясь по всему небосклону» («огнекрасная туча идет» и «огнекрасные отсветы»).
ОГНЕЛИЦЫЙ — Н. Лесков, «Соборяне».
ОГНЕПЕРЫЙ — В. Маяковский, «Про это» («под его огнеперым крылом»).
ОГНЕТЬ — В. Маяковский, «Война и мир» («выстрел на выстреле огнел»).
ОГОЛИВАТЬ — Ф. Сологуб («друг, оголивай свою Ойлэ»).
ОГРАЯТЬ — Б. Пастернак, «Спекторский» («и галками ограян»).
ОГРОМИТЬ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («мир огромив мощью голоса»).
ОГРУЗИТЬ — А. Пушкин, «Сказка о рыбаке и рыбке» («жемчуги огрузили шею»).
ОДНАРОБРАЗНЫЙ — В. Маяковский, «Юбилейное» («какой однаробразный пейзаж» (от сокращения отдел народного образования).
ОДНОДОМЕЦ — А. Пушкин, «К Языкову» («их забытый однодомец»).
ОДНОЖЕННЫЙ — Б. Пильняк, «Чертополох» («одноженная мужская культура»).
ОДНОМОТИВНЫЙ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («азиатскую одномотивную песню»).
ОДНОЦЕНТРЕННОСТЬ — А. Фет, «Письмо к К. Р. от 7 апреля 1887 г. (Архив ИРЛИ) («сюжет лирических стихов не должен выходить за пределы одноцентренности»).
ОДУРЕННЫЙ — Б. Пастернак («грозой одуренная влага»).
ОЖУРЧАЕМЫЙ — Г. Державин (по Л. Тимофееву).
ОЗАКАТИТЬ — В. Маяковский, «Человек» («озакатили красным»).
ОЗВАТЬСЯ — А. К. Толстой, «Слепой» («и отрок озвался» — украинизм: от «озвавсь», откликнулся).
ОЗВЕРИТЬ — И. Северянин, «Berceuse осенний» («меня возьмет и девственно озверит»).
ОЗЕРЗАМОК — И. Северянин, «Поэзоконцерт» («в озерзамке беломраморном»).
ОЗМЕЕННЫЙ — Н. Асеев, «Знаменосец революции» («огнем озмеенными ротами»).
ОЗОРЛИВЫЙ — С. Есенин, «Мой путь» («чтоб озорливая душа»).
ОКАЛОШИТЬ — И. Северянин, «Каретка куртизанки» («чтоб ножки не промокли, их надо окалошить»).
ОКАПАТЬ — А. Белый, «Осинка» («хочет его молодая осинка слезами своими окапать»); позже у В. Маяковского, «Облако в штанах» («Сердце возьму, слезами окапав»).
ОККАЗИОНАЛИЗМ — Н. Фельдман, Литературный термин (журнал, «Вопросы языкознания, № 4, 1957).
ОКОГЧЕННЫЙ — Е. Боратынский, «Эпиграмма» («окогченная летунья»).
ОКОЁМ — М. Волошин, «Дом поэта» («благослови свой синий окоём») и позже М. Цветаева, «Поэма конца» («во весь окоем глазка»).
ОКОЛЕВАНЕЦ — А. Чехов («сижу и околеванца жду»).
ОКОЛЬЧУЖИТЬСЯ — Вяч. Иванов, «На кладбище» («и дух окольчужится сталью»).
ОКРАИНЕЦ — Ф. Достоевский.
ОКОШКОДОХЛИТЬСЯ — А. Чехов («она окошкодохлилась»).
ОКУКЛЕННЫЙ — И. Северянин («грумики, окукленные для эффекта»).
ОКУКЛИВШИЙСЯ — Б. Пастернак, «Бабочка — буря» («окуклившийся ураган»).
ОКУРЬЕРЕННЫЙ — Б. Пильняк, «Чертополох» («окурьеренный днями»).
ОЛАЗОРЕННЫЙ — И. Северянин, «К черте черта» («и олазорено лицо твое»).
ОЛЕЛЕЯТЬ — В. Маяковский, «Человек» («вытянется, самку в любви олелеяв»).
ОЛИСТВИТЬСЯ — Д. Мей («олиствятся леса»).
ОЛУНЕННЫЙ — И. Северянин, «Кэнзели» («по аллее олуненной»).
ОЛУНИТЬ — И. Северянин.
ОЛЯПАННЫЙ — В. Маяковский, «Письмо… Горькому» («раздушенными аплодисментами оляпан»).
ОЛЫБЬ — Н. Асеев («и десять солнц в небесной олыби»).
ОМАМАЕННЫЙ — В. Хлебников, «Усадьба ночью чингисхань» («пусть сосны бурей омамаены»).
ОМНОГОЛЮДИЛИ — Н. Гоголь.
ОМОЛНЕННЫЙ — И. Северянин, «Качалка грезэрки» («и в омолненном дыме»).
ОМОЛНИЙЛИ — В. Маяковский, «Про это» («стрелки омолнили телефон»).
ОМУТЬ — С. Есенин, «Я обманывать себя не стану» («прояснилась омуть в сердце»).
ОНАРОДОВЕТЬ — Н. Лесков, Письмо А. С. Суворину, 8.10.1883 г. о Л. Толстом: «он совсем онародовел».
ОНЕЛЕПЛЕННЫЙ — О. Мандельштам, «Рим» («голубой, онелепленный, пепельный»).
ОПИТЫЙ — В. Маяковский, «Хорошее отношение к лошадям» («ветром опита, льдом обута улица…»).
ОПРОБОРИТЬ — И. Северянин.
ОПРОЗАИЧЕННЫЙ — И. Северянин, «Эскиз вечерний» («к опрозаиченной земле»).
ОПРОЗРАЧИТЬ — Л. Мей, «Плясунья» («опрозрачила ткань паутинная твой призывно откинутый стан»).
ОПРОСТЕТЬ — С. Есенин, «Каждый труд благослови, удача!» («те, что в жизни сердцем опростели»).
ОРДЕНАСТЫЙ — С. Кирсанов, «Поэма о Роботе» («стоят орденастые представители»).
ОРОЗЕННЫЙ — И. Северянин, «Уайльд» («его уста — орозенная язва»).
ОРЛИЙ — В. Маяковский, «Левый марш» («глаз ли померкнет орлий»).
ОРЛО — В. Маяковский, «Киноповетрие» («мусьи, заткните ваш орло»).
ОРЛЯ — Г. Державин, «Водопад» («орлю дерзость»).
ОСАДИСТЫЙ — О. Мандельштам, «О, этот медленный… простор» («стремнин осадистых завистник»).
ОСВЕТОЗАРЕННЫЙ — И. Северянин, «К черте черта» («осветозарено лицо твое»).
ОСЕНЕБРИ — А. Вознесенский (название цикла стихотворений).
ОСЕННЕЙ — С. Кирсанов, «К вечеру» («листья все красней, осенней»).
ОСЕННЕЛИКИЙ — В. Хлебников («осеннеликий милень»).
ОСИЯНЬ — Г. Петников, «Такая осень» («наваждение необычайной осияни»).
ОСКЛЕПИТЬ — И. Северянин, «Пролог» («прах Мирры Лохвицкой осклепен»).
ОСКЛЕРОЖИВАТЬСЯ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («Англия замирает, осклероживается»).
ОСЛЕЗИТЬ — И. Северянин, «И ты шел с женщиной» («ей ты неумышленно взор ослезил»).
ОСНЕЖЕННЫЙ — С. Есенин («о, веселье оснеженных нив»).
ОСТОЛБЛЕННЫЙ — И. Северянин, «Фиолетовый транс» («безумным жестом остолбленный кленоход»).
ОСТРАННЕНИЕ — В. Шкловский (литературоведческий термин).
ОСТРОЛАСКОВЫЙ — О. Мандельштам, «Заблудился я в небе…» («не кладите остроласковый лавр на виски»).
ОСУПРУЖИТЬСЯ — И. Северянин, «Нелли» («он готов осупружиться, он решился на все»).
ОТДЫШАВШИЙ — Е. Боратынский, «На смерть Гете» («он здешней жизнью вполне отдышавший»).
ОТКАЧНУТЬСЯ — Ф. Сологуб («откачнись, тоска моя, чудовище»).
ОТМЁТЫВАТЬСЯ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («отмётывалась Россия от мира горящими поленьями»).
ОТНИКНУТЬ — Б. Пастернак, «Вокзал» («И крышка. Приник и отник»).
ОТРИНУВШИЙСЯ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («мне, отринувшемуся от бога»).
ОТРОНИТЬ — И. Северянин, «Самогимн» («меня отронит Марсельезия»).
ОТРОПИТЬ — И. Северянин, «Лесофея» («ей сердце мечты отропили»).
ОТСЛЮНИТЬ — А. К. Толстой, «Вонзил кинжал убийца…» («кредитными билетами отслюню»).
ОТСМЕРТЕЛЬСТВОВАТЬ — Б. Пильняк, «Заволочье» («Великая тайна отсмертельствовала»).
ОТСТРАДАННЫЙ — И. Северянин, «Октябрь» («и отстраданные обманы»).
ОТСТУПНИЧЕСКИЙ — Ф. Тютчев, «Encyclica» («в отступническом Риме»).
ОТТЕНОК — Н. Карамзин.
ОТЦАРАПЫВАТЬ — К. Некрасова, «Огни» («от стекол отцарапывать льдинок»).
ОТЦЕПЕПЕЛ — В. Хлебников («отцепеплом пылали бревна столиц»), т. V с. 100.
ОТШАРАХНУТЬСЯ — Л. Мей, «Огоньки» («отшарахнулись кони»).
ОФИАЛЧЕННЫЙ — И. Северянин, «Поэзоконцерт» («офиалчен и олилиен озерзамок»).
ОХЛЫНУТЬ — Н. Асеев, «Стальной соловей» («таким мы охлынем рокотом»).
ОХОТИТЬСЯ — М. Загоскин (впервые вместо «ездить на охоту»).
ОЦЕТНОСТЬ — Н. Лесков, «Запечатленный ангел» («забродила вдруг оцетность терпкого рития») (от славянского «оцет» — уксус).
ОЧЕВИДЕВШИЙ — В. Маяковский, «Как работает республика демократическая» («выслушать очевидевшего благоустройства заграничные»).
ОШАФРАНИТЬ — С. Есенин, «Золото холодное луны» («и тебя блаженством ошафранит»).
ОШМУРЫГИВАТЬ — Л. Толстой, «Война и мир», т. 3, ч. 2, гл. 36 («он… ошмурыгивал цветки полыни»).
П
ПАГРЯЗЦА — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («цвет белый с пагрязцею»).
ПАДЬ — С. Есенин, «Русь уходящая» («истлеют падью листопада»).
ПАЛЫЙ — Ф. Сологуб, «Я лесом шел» («да сучья палые желтели»).
ПАНМОНГОЛИЗМ — Вл. Соловьев (название стихотворения).
ПАСПОРТИНА — В. Маяковский, «Стихи о советском паспорте».
ПАСТЕРНАКИПЬ — И. Сельвинский, «Записки поэта» (точный неологизм от фамилии поэта Пастернак).
ПАЦИЕНТ — Н. Греч.
ПЕКЛОВЫЙ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («бог такую из пекловых глубин… вывел»).
ПАЦИЕНТКА — Н. Кукольник.
ПЕВ — Г. Петников, «Самая весенняя пионерская» («то ли певами с утра»).
ПЕНКОСНИМАТЕЛЬ — М. Салтыков-Щедрин.
ПЕНСНИШКИ — В. Маяковский, «Хорошо» («пенснишки тронув»).
ПЕНТРЫ — В. Маяковский, «Приказ № 2» (вместо «художники» от франц. peintrs, иронич. транскрибирование).
ПЕРВОВИДЕЦ — В. Хлебников, «Лев» т. V («земля первовидцев прислала свои извинения»).
ПЕРВООСЕНЬЕ — Г. Петников (название стихотворения).
ПЕРВОПРИЧИННИК — Б. Пастернак, «Повесть» («выдала… вероятного всему первопричинника»).
ПЕРВОСОНИЕ — А. Пушкин, «Капитанская дочка» («в неясных видениях первосония»).
ПЕРЕБОЙНО — Ф. Сологуб («Плещут волны перебойно»).
ПЕРЕВОРОТ — Н. Карамзин.
ПЕРЕГУСТЫ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 3, 4 («перегусты зноилися облаком»).
ПЕРЕЕХАННЫЙ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («перееханную поездом лапу»).
ПЕРЕЖУЙ — А. Белый, «Москва» («пережуй снегов»).
ПЕРЕИМКА — Л. Толстой, «Война и мир», т. IV, ч. 3, гл. 1 («переимка транспортов»).
ПЕРЕКАТНЫЙ — Л. Толстой, «Война и мир», т. Ill, ч. 2, гл. 31 («перекатная пальба пушек»).
ПЕРЕКИВНУТЬСЯ — Л. Толстой, «Война и мир», т. 3, ч. 1, гл. 31 («она перекивнулась с близко»).
ПЕРЕКОМКАТЬ — Н. Языков («я перекочкал трудный путь»).
ПЕРЕКРИВЫ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 2, 1 («с перекривами крыш»).
ПЕРЕЛЕСЕЦ — И. Северянин, «Октябрь» («скелетом черным перелесец»).
ПЕРЕОГРОМЛЕННЫЙ — О. Мандельштам, «Стансы» («но только что всего переогромлен»).
ПЕРЕПЕЛИЙ — С. Есенин, «Даль подернулась туманом» («перепельи звоны ветра»).
ПЕРЕПРИВЫЮРКНУТЬ — А. Белый, «Москва».
ПЕРЕПРЯЖКА — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («я те годы перепряжек истории»).
ПЕРЕПРЫГ — Н. Языков, «Конь» («он широким перепрыгом через них»). Позже А. Солженицын, «Август четырнадцатого»… («во всех перепрыгах германской части»).
ПЕРЕСВЕРКИВАТЬСЯ — Н. Асеев, «Марк Твен» («весь мир пересверкивался»).
ПЕРЕСЛЮНИТЬ — А. Блок, «Грешить бесстыдно, непробудно» («потом переслюнить купоны»).
ПЕРЕУВАЖЕННЫЙ — О. Мандельштам, «Чернозем» («Переуважена, перечерна, вся в холе»).
ПЕРЕХВАТ — Н. Языков (вместо наперехват).
ПЕРЕХЕРЯТЬ — Г. Державин, «Милорду» («подьячий, не может уж перехерять»).
ПЕРЕХИХИКИВАТЬСЯ — В. Маяковский, «Облако штанах» («перехихикиваться, что у меня…»).
ПЕРЕЧЁРНЫЙ — О. Мандельштам, «Чернозем» («переуважена, перечерна»).
ПЕРЕШВЫРИВАТЬСЯ — Е. Замятин, «Рассказ о самом главном» («неслышно перешвыриваются под улицей мыши»).
ПЕРИЙ — А. Блок, «Мэри» («и пухом светлых перий»), вместо перьев.
ПЕСТНЕВЕСТНЫЙ — Б. Каменский, «Соловей» («песневестный поэт»).
ПЕСНЕПЬЯНИЦЫ — В. Каменский, «Соловей» («Рыбаки. Чудаки. Песнепьяницы»).
ПЕЧАЛЬНООКИЙ — В. Хлебников, «Ручей, где я скакал» («печальнооких жен»).
ПИНДАРОНОСНЫЙ — А. Сумароков, «Дифирамб Пегасу» («конь пиндароносный»).
ПЛАЧИК — В. Маяковский, «Чудовищные похороны» («еще откуда-то плачики»).
ПЛАЧУЧИ — О. Мандельштам, «Как соловей, сиротствующий, славит» («и плачучи твержу»).
ПЛЕСКИНЯ — В. Хлебников («плескиня, дева водных дел»), с. 90 Н. X.
ПЛОСКОСТЬ — М. Ломоносов (по Л. Тимофееву).
ПЛОЩЕ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («грудь испешеходили, чахотки площе»).
ПОБЕЖДАНИЕ — Л. Толстой, Письмо 1903 г. («побеждание плоти духом»).
ПОБЛЕДНЕЛЫЙ — И. Северянин, «Четкая поэза» («лицом от муки страстной побледнелым»).
ПОВЫРАСТИ — Г. Петников, «Романтика детства» («как ты повыросла и изменилась»).
ПОДВЫЮРКНУТЬ — А. Белый, «Москва».
ПОДГРОМОК — Г. Петников, «Весенняя гроза» («подгромок сбился в синих пряслах»).
ПОДКОПЫТНЫЙ — О. Мандельштам, «Влез бесенок в мокрой шерстке» («подкопытные наперстки»).
ПОДЛЕЖАЩЕЕ — В. Тредьяковский (по Л. Тимофееву).
ПОДОКОННИЧИЙ — В. Маяковский, «Про это» («тяжесть подоконничьих камней»).
ПОДРОБНИЧАТЬ — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву).
ПОДСЛУШИВАТЕЛЬНЫЙ — М. Салтыков-Щедрин («подслушивательный интерес»).
ПОДСОСУЛИТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 13 («капель подсосулила улицу»).
ПОДЫМЧИВЫЙ — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву).
ПОЛИТЕИЗМ — А. Герцен.
ПОЛИТЕСС — Петр I.
ПОЛИЦЕБОЯЗНЕННЫЙ — В. Ленин.
ПОЛКУМИР — Г. Державин (вместо бюст).
ПОЛОСАТИТЬ — А. Асеев, «Синие гусары» («полоз остер, полосатит снег»).
ПОЛУДЕРЖАВНЫЙ — А. Пушкин, «Полтава» («полудержавный властелин»).
ПОЛУКУПЕЦ — А. Пушкин (эпиграмма на Воронцова).
ПОЛУЛИРИЗМ — Вяч. Иванов, «Посвящение Чуковскому» в «Чуккокале» («полуцинизм, полулиризм»).
ПОЛУМИЛОРД — А. Пушкин (эпиграмма на Воронцова).
ПОЛУНЕВЕЖДА — А. Пушкин (эпиграмма на Воронцова).
ПОЛУПОДЛЕЦ — А. Пушкин (эпиграмма на Воронцова).
ПОЛУПОХАБЩИНА — В. Маяковский, «Во весь голос» («с полупохабщины не разалеться, тронуту»).
ПОЛУСКЛОН — А. Архангельский, Посвящение в «Чукоккале» («ты и на полусклоне»).
ПОЛУУКРАИНСКИИ — О. Мандельштам, «Пластинкой тоненькой…» («полуукраинское лето»).
ПОЛУФАНАТИК — А. Пушкин, «Фотию» («полуфанатик, полуплут»).
ПОЛУХЛЕБ — О. Мандельштам, «Мастерица виноватых взоров» («полухлебом плоти накорми»).
ПОЛУЦИНИЗМ — Вяч. Иванов, Посвящение в «Чукоккале» («полуцинизм, полулиризм»).
ПОЛЬЗОВАТЬ — М. Загоскин (вместо «лечить»).
ПОМЕШКАТЬ — В. Маяковский, «Есенину» («взрезанной рукой помешкав»).
ПОНАНЕСТИ — В. Маяковский, «Сергею Есенину» («уже понанесли… воспоминаний дрянь»).
ПОПУЛЯРИТЬ — И. Северянин «Мороженое из сирени» («пора популярить изыски»).
ПОПУЛЯРНЫЙ — С. Шевырев.
ПОСАЛЬНЕТЬ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («кирпичи посальнели от заботливых рук»).
ПОСЛЕДНЕ — Е. Замятин, «Рассказ о самом главном» («Все голо, просто последне»).
ПОСЛЕПОГРОМНЫЙ — Б. Пастернак, «Лейтенант Шмидт» («послепогромной областью»).
ПОТНОЖИВОТЫЙ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («у меня на шее воловьей потноживотые женщины»).
ПОТРЕБНОСТЬ — Н. Карамзин.
ПОТЬМА — Л. Мей, «Зачем?» («легла потьма кромешная»).
ПОФАНФАРОНИТЬ — В. Маяковский, «Рабочим Курска» («нынче словом не пофанфароните»).
ПОЦЕКИСТЕЙ — В. Маяковский, «Верлен и Сезанн» («рисуются, кто поцекистей»).
ПОЦЕЛУИШКО — В. Маяковский, «Облако в штанах» («обугленный поцелуишко»).
ПОЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧАТЬ — М. Салтыков-Щедрин (о Фете: «напишет роман, потом почеловеконенавистничает…»).
ПОЮН — В. Хлебников, «Там, где жили свиристели» («где поюны крик пропели»).
ПОЮННЫЙ — В. Хлебников, «Там, где жили свиристели» («ты поюнна и вабна»).
ПОЭЗА — И. Северянин.
ПОЭМИЯ — В. Каменский.
ПОЯ — В. Маяковский, производивший эту глагольную форму не от «поить», а от «петь» («Приказ по армии» — «вперед, поя и свища»), а также «Про это» («где б ни умер, умру поя»).
ПРАВДОХВОСТЫЙ — В. Хлебников «Искушение грешника» («правдохвостый сом»).
ПРАЗЕЛЕНЬ — А. Блок («на небе празелень и месяца осколок»).
ПРЕДБИТВЕННЫЙ — В. Бенедиктов (о мече).
ПРЕДЗАКАТНЫЙ — А. Блок, «Болотный попик» («предзакатные звуки»).
ПРЕДЗОРЬЕ — Н. Асеев, «Весенняя песня» («пел петух весны предзорье»).
ПРЕДМЕТ — В. Тредьяковский.
ПРЕДРАССУЖДЕНИЕ — А. Пушкин, «Надеждой сладостной» («где нет предрассуждений»).
ПРЕДСОННЫЙ — Н. Щербина, «Айлуда» («трепет предсонных желаний»).
ПРЕДЧУВСТВЕННИЦА — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву).
ПРЕКРАСНОДУШНИЧАТЬ — В. Белинский, письмо к Боткину от 3.11.1840 («Панаев прекраснодушничает»).
ПРЕНЕБРЕГНУТЫЙ — Б. Пастернак, «Рослый стрелок, осторожный охотник» («О, пренебрегнутые мои»).
ПРЕПОХАБИЕ — В. Маяковский, «Вызов» («капитал — его препохабие»).
ПРЕСВОЛОЧНЕЙШИЙ — В. Маяковский («но поэзия — пресволочнейшая штуковина»).
ПРЕСЛЕДОВАТЬ — В. Тредьяковский.
ПРИВОРОЖНИК — А. Белый, «Московский чудак», гл. I, 3 («вошел таким приворожником»).
ПРИВОСТРИТЬСЯ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3–1 («привострился на ящик»).
ПРИГОРБЫШ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 1 («искосым пригорбышем к двери»).
ПРИГРОБНЫЙ — М. Ломоносов, «Риторика» («слова и мысли должен пригробный ритор употреблять плачевные»).
ПРИДУМАТЬСЯ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов», /Приметы/ («к нему придуматься, приблизиться»).
ПРИДЫМЛЕННЫЙ — О. Мандельштам («каштановых прядей придымленных горечь»).
ПРИЖАБЛЕННЫЙ — В. Маяковский, «150 000 000» («Чикаго внизу землею прижаблен»).
ПРИЖИВАЛКА — И. Панаев (Иванов-Разумник: «Панаев и его воспоминания»).
ПРИКОВАННО — Л. Толстой, «Война и мир», т. 3, ч. 3, гл. 32 («испуганно, но прикованно глядела»).
ПРИКУРСИВИТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 1 («прикурсивил ресницы»).
ПРИМАГНИТИТЬ — И. Северянин («мы примагничены к бессмертию»), позже Н. Асеев: («его к порогу примагнитит»).
ПРИМАНЕННЫЙ — Е. Боратынский, «Пиры» («здесь приманенная радость»).
ПРИРАЗИНУТЬ — А. Толстой, «Петр I» («приразинули припухшие рты»).
ПРИТВОРЧИВЫЙ — Вяч. Иванов, «Посвящение в Чукоккале» («очей притворчивых лукавость»).
ПРИТИН — О. Мандельштам, «Чуть мерцает призрачная сцена» («из блаженного певучего притина к нам летит бессмертная весна»).
ПРИХЛЫСТНУТЬ — Е. Боратынский, «К***» («Не горе, ежели прихлыстнут»).
ПРИШАГАТЬСЯ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов», /Приметы/ («прижаться к нему, придуматься, приблизиться, пришагаться»).
ПРИЩУРЬ — Н. Асеев, «Маяковский начинается» («где зоркая прищурь видна»).
ПРИЯТЦА — С. Есенин, «Собаке Качалова» («с такою милою, доверчивой приятцей»).
ПРОБУДНОСТЬ — А. Кусиков («от пробудности ласточек до пробудности сов»).
ПРОВАЛЬЕ — Г. Петников, «Что говорят провода» («над дремучим провальем»).
ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ — В. Маяковский (название стихотворения).
ПРОЗЕЛЕНЬ — Э. Багрицкий, «Весна» («лягушечья прозелень дачных вагонов»).
ПРОЗУБИТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 1 («прозубил Мандро»).
ПРОКРИК — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 7 («прокриком темно-малиновых ягод»).
ПРОЛЕСКИ — Г. Петников, «К цветам в дождь» («среди… смелых пролесков в долине»).
ПРОЛИВЕНЬ — О. Мандельштам, «Батюшков» («и гармонический проливень слез»).
ПРОМУРАВЛЕННЫЙ — О. Мандельштам, переводы из Фр. Петрарки, «Речка распухшая…» («тропинок промуравленных изгибы»).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — Н. Карамзин («Это слово сделалось ныне обыкновенным, автор употребил его первый», — писал Н. М. Карамзин).
ПРОПЯТИТЬСЯ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. I, 14 («пропятяся лапой»).
ПРОПЫЖЕННЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 1 («весь корпус пропыженный»).
ПРОРЕШЛИВЫЙ — Б. Пастернак, «Вечерело, повсюду ретиво» («под прорешливой сенью орехов»).
ПРОСЕДЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 4. («поп и проседый мужчина»).
ПРОСКВАЖИВАТЬ — Г. Петников, «Зеленый огонек» («проскваживай, проветривай»).
ПРОСКРОМНЕТЬ — А. Белый, «Московский чудак», гл, 1,4 («проскромнели две женщины»).
ПРОСТЕЦ — И. Посошков, «Книга о скудости и богатстве»).
ПРОСТОДУШНИЧАТЬ — Б. Пастернак, «Охранная грамота» («пускается в философию, простодушничает»).
ПРОТИВОЧУВСТВИЕ — А. Пушкин, «К бюсту завоевателя» («К противочувствиям привычен»).
ПРОТРЕЛИТЬ — И. Северянин («она… протрелит полонез»).
ПРОФЕССОРЕТЬ — В. Маяковский, «Поп» («профессореет вузовцев…»).
ПРОХИК — А. Белый, «Московский чудак», гл, 1, 7 («крысятился прохиком»).
ПРОЦЫГАНЕННЫЙ — В. Маяковский, «Про это» («расплывайся в процыганенном романсе»).
ПРОЧЕРНИ — Г. Петников, «Ранний апрель» («и по прочерням русских равнин»).
ПРОЧЕРНИЛЕННЫЙ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов», /Встреча с прозой/ («внутри, прочерниленная целлюлоза»).
ПРОШЛОЕКРЫЛЫЙ — В. Хлебников, «Искушение грешника» («прошлоекрылый селезень»).
ПРЯМОВИДНОСТЬ — Г. Державин (по Л. Тимофееву).
ПСАЛМОПЕНЬЕ — С. Есенин («псалмопенье ковыля»).
ПСИХОЛОЖЕСТВО — В. Маяковский. Листовка к постановке, «Бани» («слюнявым психоложеством театр не поганьте»).
ПСИХОЛОЖЦЫ — В. Маяковский, Листовка к постановке, «Бани» («запритесь, психоложцы, в квартиры-клетки»).
ПУЗЫРИТЬ — И. Сельвинский («сопка… свою пузырит грязь»).
ПУСТОБАИ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 2 («иванящие отсебятину и пускающие пустобаи»).
ПУСТОБУТЫЛЬНЫЙ — И. Северянин, «Поврага» («пустобутыльное стекло»).
ПУСТОШИТЬ — Н. Языков («война, кровопролитно пустошила»).
ПУХОВИТЫЙ — С. Есенин, «Ямщик» («пуховитые снега»).
ПУХОПЕРЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 4 («прошла пухоперая барыня»).
ПУШИСТОХВОСТЫЙ — А. Н. Толстой, «Петр I» ч. 1, гл. 1 («глядели пушистохвостые белки»).
ПЯТЕРНИЩА — В. Маяковский («впервые ее распухшую пятернищу»).
ПЯТНОСИНЬ — А. Кусиков («грустным тупозвоном в пятносинь…»).
ПЫЛЬНОЦВЕТНЫЙ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов», /Несовершенство/ («с ее пыльноцветного тела»).
ПЫРСНЬ — А. Белый, «Маски» («что осело, что пырснью развеялось»).
ПЫШНОСЕРЕБРИСТЫЙ — И. Сельвинский, «Снег, снег» («пышносеребристые сараи»).
Р
РАВЕНСТВОЗУБЫЙ — В. Хлебников, «Искушение грешника» («равенствозубая щука»).
РАДОСТЕПЁРЫЙ — В. Хлебников, «Искушение грешника» («радостепёрые… птицы»).
РАЗАЛЕТЬСЯ — В. Маяковский, «Во весь голос» («не разалеться тронуту»).
РАЗБАНДИТИТЬ — В. Маяковский, «Стих резкий о рулетке…» («разбандитят до ниточки»).
РАЗБЕЗАЛАБЕРНЫЙ — В. Маяковский, «100 %» («я, разбеза-лаберный до крайности»).
РАЗБРИЛЛИАНТЕННЫЙ — В. Маяковский, «Парижанка» («разбриллиантенной рукой»).
РАЗВАЛЕЦ — Б. Пастернак, «Мейерхольдам» («я люблю ваш нескладный развалец»).
РАЗВАЛЯЛЬНЯ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 3, 3 («Москва страшновата, гнилая она разваляльня»).
РАЗВЕРГНУТЬ — В. Маяковский, «Про это» («разверг телефон дребезжащую лаву»).
РАЗВЕТРИВАТЬ — Б. Пильняк, «Чертополох» («перс, разветривший уже восточные свои запахи»).
РАЗВИТИЕ — Н. Карамзин.
РАЗВОПЛОТИТЬСЯ — М. Волошин, «В эти дни великих шумов…» («душа больна одним искушением: развоплотиться»).
РАЗГЛАЗЕНЬКИЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1. 2 («дамочка… в разглазенькой кофточке»).
РАЗДИНАМИТЬ — Б. Маяковский, «Рабочим Курска» («раздинамливая электрический раскат»).
РАЗДРЯЗНУВШИЙ — А. Белый, «Москва».
РАЗДЫШАВШИЙСЯ, — Г. Петников, «Ранний апрель» («заглянуть в раздышавшийся клин»).
РАЗЖЕМЧУЖЕННЫЙ — В. Маяковский, «Парижанка» («парижских женщин с шеей разжемчуженной»).
РАЗЖЕЛУДИТЬСЯ — С. Есенин, «Несказанное, синее, нежное» («дуб молодой не разжелудясь»).
РАЗЗБРУЕННЫЙ — Г. Державин (по Л. Тимофееву).
РАЗЛАПИЦА — О. Мандельштам, «Полночь в Москве…» («широкую разлапицу бульваров»).
РАЗМЕРСИТЬСЯ — В. Маяковский, «Верлен и Сезан» («Сезан размерсился, тронутый»).
РАЗМОЗОЛЕТЬ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («долго ходят, размозолев от брожения»).
РАЗМУНДИРЕННЫЙ — В. Маяковский, «Польша» («этот бифштекс размундиренный»).
РАЗМОЛОЖЕННЫЙ — Н. Асеев, «Эстафета» («что же мы, что же мы, неужто ж размоложены?»).
РАЗМУЧЕННЫЙ — А. Пушкин, «Е. Ушаковой» («буду памятью размучен»).
РАЗНЕБЕСИТЬСЯ — В. Маяковский, «Мистерия буфф» («заря разнебесилась ало»).
РАЗНЕДОУМЕННЫЙ — Б. Маяковский, «Хорошо» («и вопросам разнедоуменным нет числа»).
РАЗНОБОЯРЩИНА — Н. Языков, «Элегия» («разнобоярщина из многих стран и мест») (в смысле: разный сброд).
РАЗНОГОЛОСЫЙ — О. Мандельштам, «Еще он помнит…» («как он разноголос»).
РАЗНОВЕЩАЮЩЙЙ — Е. Боратынский, «Две доли» («лишь по молве разновещающей»).
РАЗНОРЕЧИВЫЙ — О. Мандельштам. Переводы из Фр. Петрарки («вода разноречива»).
РАЗНОТСТВУЮЩИЙ — В. Хлебников, «Курган Святогора» («разнотствующие… листья»).
РАЗНОЦВЕТ — Г. Петников, «Лето» (в… разноцвете июльских полей»).
РАЗОПСЕТЬ — М. Салтыков-Щедрин, «Верный Трезор» («ежели каждый-то день пса кормить, так он… разопсеет»).
РАЗОТОЗВАТЬСЯ — В. Маяковский, «Про это» («приди, разотозвись на стих»).
РАЗУЗОРИТЬ — И. Северянин, «В кленах раскидистых» («мы разузорим уют», и, «Кэнзели» (дорожка «от листвы разузорена»).
РАЗУКОРИЗНИТЬСЯ — В. Маяковский, «Порядочный гражданин» («Бог на вас не разукоризнится»).
РАЗУМНОСТЬ — В. Тредьяковский (по Л. Тимофееву).
РАЗЫМЧИВЫЙ — Г. Петников, «Пути, которые мы избираем» («волн поймать разымчивый прибой»).
РАЗЫСТОМНЫЙ — Л. Мей, «Полежаевской фараонке» («Соловей на беду разыстомную»).
РАСКАЗЕНИТЬ — В. Маяковский, «Не юбилейте» («не расказеньте боевую революцию»).
РАСКАНАРЕИТЬ — В. Маяковский, «Разговор на одесском рейде…» («Перья-облака, закат расканарейте!»).
РАСКАТАЙНЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 2 («раскатайною растараторой пролеток»).
РАСКОВАННО — В. Маяковский, «Юбилейное» («свободно и раскованно).
РАСКОЛОКОЛИВАТЬ — В. Маяковский, «Хорошо» («расколоколивали птицы и солнце: жив!»).
РАСКРЕЖЕЩЕННЫЙ — В. Маяковский, «Парижанка» («стих раскрежещенный»).
РАСКРОИНА — А. Белый, «Московский чудак», гл. 2, 22 («на раскроину вечера»).
РАСКУРЯЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 2 («в злом раскуряе гнилых Табаков»).
РАСПЕСНИТЬ — В. Маяковский, «Германия» («за тебя твою распеснить боль»).
РАСПЕСНИТЬСЯ — В. Маяковский, «Флаг» («песне этой распесниться»).
РАСПЛЮЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 14 («в подзаборье рябило расплюями»).
РАСПОСТЕЛИТЬСЯ — В. Маяковский, «Тамара и демон» («чтоб скала распостелилась в пух»).
РАСПРАБАБКИНА — В. Маяковский («распрабабкина техника»).
РАСПРОСТИТУЧЬЕ — В. Маяковский, «Заграничная штучка» («время — что надо — распроститучье»).
РАССЕРЬЁЗНИЧАТЬСЯ — В. Маяковский, «Владимир Ильич Ленин» («стариками рассерьезничались дети»).
РАССЕЯННОСТЬ — Н. Карамзин.
РАССМЕЯЛЬНО — В. Хлебников, «Заклятие смехом» (О, иссмейся рассмеяльно«).
РАССМЕШИЩИ — В. Хлебников «Заклятие смехом» («О, рассмешищ надсмеяльных»).
РАССОХЛЫЙ — О. Мандельштам, «Чур, не просить» («разночинцы рассохлые топтали сапоги»).
РАССТОЯНИЕ — М. Ломоносов (по Л. Тимофееву).
РАСТАРАТОРА — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 2 («раскатайною растараторой пролеток»).
РАСТАРАЩИ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1, 11 и 13 («старик прибежал растаращею» и «запыхавшихся и растаращами друг перед другом стоящих»).
РАСФЕЕРИТЬ — В. Маяковский («деревья за стволом расфеерили ствол»).
РАСЧЕРЕСЧУРИТЬСЯ — В. Маяковский («грохотом расчересчурясь»).
РЕБЕРЧАТЫЙ — Б. Пастернак, «Спекторский» («в румяный дух реберчатого теса»).
РЕБЯЧЕГЛАЗЫЙ — Е. Замятин, «Рассказ о самом главном» («ребячеглазые лица»).
РЕВОЛИЦЫЙ — В. Маяковский, «Нордерней» («на закат, на моря револицие»).
РЕЗВОНОГИЙ — Н. Асеев, стихотв. из сборн. «Оксана» («князь светлоумный, резвоногий»).
РЕЗУЧИЙ — Б. Пастернак, «Ветер» («о косы косцов, об осоку, резучую гущу излук»).
РЕЧАР — В. Хлебников.
РЖАВЬ — С. Есенин, «Исповедь хулигана» («грусти, ивовая ржавь»).
РИПЯЩИЙ — И. Сельвинский, «Баллада о тигре» («рипящие басы»).
РИТМОЛОГИЯ — Симеон Полоцкий.
РОЗГОБЛУДИЕ — Н. Огарев, «Эпиграмма».
РОКОВО — А. Солженицын, «Август четырнадцатого» («роково сложилось»).
РОМАННЕЕ — В. Маяковский («любовь к тебе расцветает романнее и романнее»),
РООПСИТЬ — В. Хлебников, «Усадьба ночью чингисхань» («ты ночью, облако, роопсь!») (неологизм от имени бельгийского художника Фелисьена Роопса).
РОПОТЕНЬ — А. Белый, «Маски».
РОСНО — И. Северянин, «Невыразимая поэза» («росно зачем в деревьях»).
РОСЧЕРНИ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 2,22 («фабрика бросила росчерни»).
РУГАННЫЙ — В. Маяковский, «Письмо писателя… Горькому» («руганное и пропетое, пробитое пулями знамя!»).
РУДНИК — М. Ломоносов.
РУСЕТЬ — О. Мандельштам, «Возможна ль женщине мертвой хвала?» («смеясь, итальянясь, русея»).
РУХ— В. Хлебников («Бог Руси — бог руха»).
РУЧЕЙНО — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («когда ветрено, ручейно, солнечно»).
РЫДАЛИСТЫЙ — С. Есенин, «Гори, звезда моя, не падай» («такой рыдалистою дрожью»).
РЫНДА — Г. Державин (в смысле палица или дубина; Державин ошибочно считал, что это название вооружения, ставшее впоследствии названием рынд — стражей им вооруженных. На самом деле, рында — страж, а вооружены рынды были секирами. На эту ошибку Державина указывал еще Грот).
РЫХЛЬ — В. Маяковский, «Это значит вот что!» («небо пропеллерами рыхль!»).
РЫХОТЕЛЬЕ — В. Маяковский, «150 000 000» («рыхотелье подушками выхоля»).
РЬЯНОСТЬ — Б. Пастернак, «1905 год» («в белой рьяности волн»).
С
САПОГООКИЙ — В. Хлебников, «Зангези», плоек. XIII («сапогоокие девы»).
САРАЙНО — А. Чехов («внутри все сарайно»).
СВАЛЕНЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 1 («свалень событий»).
СВАЛЯШИНА — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 5. («блеклой сваляшиной… волос»).
СВЕЖЕЗАНЕВОЛЕННЫЙ — Н. Асеев, «Курские края» («свежезаневоленный скворец»).
СВЕРКУЧИЙ — Н. Асеев, «Взморье» («туча синя, сурова и сверкуча»).
СВЁРТ — А. Белый, «Маски».
СВЕРХЖИЗНЕННЫЙ — О. Мандельштам, «Может быть, это точка безумия» («так соборы кристаллов сверхжизненных»).
СВЕРЮКИТЕИСКИЙ — И. Сельвинский, «Письмо».
СВЕРХОБЫЧНО — О. Мандельштам, из переводов Фр. Петрарки, «Когда уснет земля…» («и воскресаю так же сверхобычно»).
СВЕТАНЬЕ — Г. Петников, «Воспоминанье» («свидетели первых светаний»).
СВЕТИЗНА — И. Сельвинский («озеро в тающей светизне»).
СВЕТИНКА — К. Некрасова, «Платье» («несли… светинку радости моей»).
СВЕТЛОУМНЫЙ — Н. Асеев, сборн., «Оксана» («князь светлоумный»).
СВЕТОГОВОРИЛЬНЯ — О. Мандельштам, «Там, где купальни…» («на реке Москве есть светоговорильня»).
СВЕТОПЫЛЬНЫЙ — О. Мандельштам, «Стихи о неизвестном солдате» («весть летит светопыльной обновою»).
СВИН — В. Маяковский, «Что такое хорошо» («вырастет из сына свин»).
СВИНЦЫ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («там, далеко, свинцы воды»).
СВИРЕЦ — Н. Лесков, «Воительница» («свирец на свирели играет»).
СВИСТИК — И. Сельвинский, «С чего начинается весна» («трепещет свистик на весу»).
СВОБОДОЛЕГКОМЫСЛИЕ — Л. Толстой, «Воскресение», ч. II.
СВОБОДОЯЗЫЧИЕ — Екатерина II.
СВОЕНАРОДНОСТЬ — Н. Языков (вместо «самобытность»), «Ау» («ищите своенародных вдохновений»).
СЕВЕРООТЧИЗНА — Д. Бурлюк («сугробы североотчизны»).
СЕЕВО — В. Маяковский, «Владимир Ильич Ленин» («кропило сласти мушиное сеево»), и позже Н. Асеев, «Семен Проскаков» («сеевом тысяч бесчисленных ран»).
СЕЙЧАШНИЙ — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву).
СЕМИПАЛАТНЫЙ — О. Мандельштам, «Пластинкой тоненькой, жиллета» («быть хозяином… семипалатной простоты»).
СЕМИСТРУНИТЬ — В. Горянский («семиструнить на гитаре пошлый романс»).
СЕМНАДЦАТИГОДОВЫЙ — В. Маяковский, «Владимир Ильич Ленин» («сказал Ильич семнадцатигодовый»).
СЕРДИТОГЛАЗЫЙ — К. Некрасова, «Под Москвой» («сердитоглазые официантки»).
СЕРДОБОЛЕНКА — А. Белый, «Московский чудак», гл. 7, 12 («глядела такой сердоболенкой»).
СЕРДЦЕВИТЫЙ — О. Мандельштам, «Когда щегол…» («вдруг затрясется сердцевит»).
СЕРДЦЕЛЮДЫЙ — В. Маяковский, «Про это» («если Марс, и на нем хоть один сердцелюдый»).
СЕРДЦЕОКАМЕНЕЛОСТЬ — Ф. Булгарин., «Сев. пчела, 1848, № 46 («примеры такой бесчувственности и сердцеокаменелости»).
СЕРЕБРИМЫЙ — Г. Петников, «Романтика детства» («в серебримую входишь реку»).
СЕРПАСТЫЙ — В. Маяковский («Стихи о советском паспорте»).
СЕРПЯНЫЙ — Г. Державин, «Мой истукан» («серпяный твой диван») (по объяснению автора, диван, обтянутый серпянкой, т. е. Сарпинкой — вид материи).
СЖАЛИТЬ — В. Маяковский, «Наш марш» («Нас ли сжалит пули оса?»).
СИЗЕТЬ — С. Кирсанов, «Русский музей» («на полотнах Ге видения сизеют»).
СИНЕВЕРХИЙ — Г. Петников, «Осенний офорт» («разметав синеверхую сеть», и, «Рассказать тебе о море?» («синеверхими горами»).
СИНЕЗАДЫЙ — В. Маяковский, «150 000 000» (из вариантов: «небо сгинь, синезадо»).
СИНЕВОЛНЫЙ — В. Маяковский («за море синеволное»).
СИНЕМОЛНИЙНЫЙ — Н. Асеев, «Предгрозье» («о моей высокой, синемолнийной комнате…»).
СИНЕМОРДОЕ — В. Маяковский, «Юбилейное» («синемордое, в оранжевых усах»).
СИНЕНОГИЙ — Б. Пастернак, «1905 год» («синеногие молньи лягушками прыгают в лужи»).
СИНЕНЫЙ — В. Набоков, «Другие берега», 5, 7 («пук словно синеных васильков»).
СИНЕСОННЫЙ — С. Кирсанов, «Дорога в Венецию» («к лагуне синесонной»).
СИНЯВЫЙ — А. Белый, «Москва».
СКАЛОЗУБЫЙ — М. Цветаева, «Стихи к Пушкину» («скалозубый, нагловзорый»).
СКЛАБ — М. Цветаева («людоедица с Поволжья склабом о ребяческий костяк») (от «осклаб», «осклабиться»).
СКЛАДБИЩИТЬСЯ — В. Маяковский, «Париж» («в сплошной складбищась Лувр»).
СКЛАДЧАТОКОЖИЙ — С. Кирсанов, «Поэма поэтов» /«В небе»/.
СКОМЧИТЬСЯ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 1 («скомчилось кой-как одеяльце»).
СКОРЛУПЧАТЫЙ — О. Мандельштам, «Полюбил я лес…» («и скорлупчатая тьма»).
СКРИПОКАНТЫ — А. Белый, «Первое свидание» («все скрипоканты провизжали»).
СКУКОЖИТЬСЯ — В. Маяковский, «Люблю» («любовь поцветет, поцветет и скукожится»).
СКУЛЬНЯ — В. Маяковский, «Верлен и Сезан» («юркаю в кафе от скульну»).
СЛАБОСТОЙНЫЙ — Б. Пастернак, «Повесть» («в одном из серейших и самых слабостойных фасадов»).
СЛАВОБА — В. Хлебников, «Курган Святогора» («русская славоба»).
СЛАВЯНОФИЛ — К. Батюшков, «Видение на берегах Леты» (1809). см. КЛЭ, т. 1 с. 473.
СЛАДКОГЛАСЕЦ — Б. Пастернак, «Поэзия» («ты не осанка сладкогласца»).
СЛАДКОПЕВНЫЙ — Н. Языков, «Весенняя ночь» («мой ангел сладкопевный»).
СЛАДКОПОЮЩИЙ — Е. Боратынский, «Богдановичу» («сладкопоющих лир порою слышен глас»).
СЛАДКОСТРУННЫЙ — Г. Державин («сладкострунная лира»).
СЛАДОСТРАСТИЕ — К. Батюшков, позже (1820) — Е. Боратынский, «Коншину» («слепую жажду сладострастья»), и (в 1840) («Всегда и в пурпуре и в злате» («ты сладострастней, ты прелестней»).
СЛЕДОВИК — С. Н. Ильин (археол. термин, камень с изображенным на нем символом; история этого слова см. А. Голошевич, «Торопец и его окрестности»; «Искусство», 1972, с. 11 (серия «Дороги к прекрасному»).
СЛИЯННОТЕСНЫЙ — И. Северянин, «Октябрь» («слияннотесная чета»).
СЛЕЗОВЫЙ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («на каждой капле слезовой течи»).
СЛЕПОНДАС — Ф. Достоевский.
СЛОВЛЯ — В. Хлебников (сравн. «кровля»).
СЛОВОБОРЧЕСТВО — И. Северянин, «Самогимн» («пусть на турнирах словоборчества»).
СЛОВОПАД — В. Маяковский, «Рабочим Курска» («мы митинговали: словопадов струи»).
СЛОВОТВОРЧЕСТВО — В. Хлебников.
СЛУЩИТЬСЯ — С. Кирсанов, «Рыбка» (из Мицкевича) («и вдруг слущились с плеч чешуйки»).
СЛЮНОГОННЫЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 13 («слюногонные лужи»).
СМАСЛИТЬСЯ — В. Маяковский, «Война и мир» («смаслились глазки, щелясь»).
СМЕЛОЛИКИЕ — В. Хлебников, «Усадьба ночью, чингисхань» («и вас я вызвал, смелоликих»).
СМЕРКНУТЬ — Н. Асеев, «Реквием» («Если день смерк»).
СМЕРТИРИ — В. Хлебников («Смертирей беззыбких пляска»).
СМЕЯРЫШНЯ — В. Хлебников, «Я смеярышня хохочеств».
СМЕЙЕВО — В. Хлебников, «Заклятие смехом».
СМЕХАЧИ — В. Хлебников, «Заклятие смехом» («О, рассмейтесь, смехачи!»).
СМЕШИКИ — В. Хлебников, «Заклятие смехом» («Усмей, осмей, смешинки, смешинки»).
СМЕЮНЧИКИ — В. Хлебников, «Заклятие смехом».
СМЕЯЛЬНО — В. Хлебников, «Заклятие смехом».
СМЕЯНСТВОВАТЬ — В. Хлебников, «Заклятие смехом».
СМЕХОРУКИЙ — В. Хлебников («смехорукий юноша»).
СМИРЁННЫЙ — В. Маяковский, «Юбилейное» (от «усмиренный»: «тревожусь я о нем, в щенка смирённом львенке»).
СМОЛЫЙ — С. Есенин, «О, Русь, взмахни крылами» («А там, за взгорьем смолым…»).
СНЕГОВЕРШИННЫЙ — Н. Языков («в тени громад снеговершинных»).
СНЕГОПИСЬ — Г. Петников, «Зима» («снегопись чудес»).
СНЕГОПОДОБНЫЙ — Г. Державин, «К Н. А. Львову» («снегоподобною рукою»).
СНЕГОСКАЛЫЙ — И. Северянин («снегоскалый гипноз»).
СНЕГУРОЧКА — А. Островский.
СНЕЖЕТЬ — И. Северянин, «Письмо из усадьбы» («долины снежели»).
СНЕЖИК — Г. Петников, «Снежная песенка» («легкий снежик, первый снег»).
СНЕЖИМОЧКА — В. Хлебников (название пьесы).
СОБАЧЕВИНА — А. Белый, «Москва» (в смысле: история о собаке).
СОБСТВЕННИК — А. Радищев.
СОИМЕННИК — О. Мандельштам, «Нет, никогда, ничей…» («противен мне какой-то соименник»).
СОЛЦНЕЛЕЙ — В. Каменский, «Соловей» («соловей-солнцелей»).
СОЛНЦЕЛОВ — В. Хлебников, «Татлин, тайновидец лопастей» («из отряда солнцеловов», сравн. «зверолов» и «птицелов»).
СОМНЕНИЕКРЫЛЫЙ — В. Хлебников, «Искушение грешника» («сомнениекрылая ласточка»).
СОННИЦА — В. Маяковский, «Необычайное приключение» («тупая сонница»).
СООТЧИЧ — Е. Растопчина, позже В. Хлебников.
СОПРИРОДНЫЙ — О. Мандельштам («я изведал эти страхи, соприродные душе»).
СОПУТСТВИЕ — В. Жуковский.
СОПУТСТВОВАВШИЙ — Ф. Тютчев.
СОРВИГОЛОВЫЙ — В. Бенедиктов.
СОРОКОНОГ — В. Инбер, «Сороконожки» («сам сороконог») («дом сороконожий»).
СОСЕВЕРЯНИН — В. Хлебников, «Зверинец» («отказываюсь узнать сосеверянина»).
СОСРЕДОТОЧИТЬ — Н. Карамзин.
СОСТОЛЬНИК — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («собутыльник — состольник»).
СОСТУКНУТЬ — Н. Асеев, «Синие гусары» («пора нам состукнуть клинок о клинок»).
СОФНЫЙ — И. Северянин, «Поэзоконцерт» («возлежат на софном бархате») (от слова «софа»).
СОЦИАЛИЗМ — М. Петрашевский, «Карманный словарь иностранных слов».
СПАЛЕННЫЙ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («подкрасться к двери спаленной»).
СПАСИБОРОГИЙ — В. Хлебников («спасиборогий вол»).
СПАХА — А. Белый (от глагола, «спать», то же, что, «спунья»).
СПОРНИК — Г. Державин (по Л. Тимофееву).
СРАМЕЦ — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву).
СРЕДОТОЧИЕ — А. Кантемир.
ССОРНАЯ — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву).
СТАЛЬНОРУКИЙ — В. Маяковский, «Москва — Кенигсберг» («неодолимый стальнорукий класс»).
СТАРОМОЗГИЙ — В. Маяковский, «Юбилейное» («старомозгий Плюшкин»).
СТАРЯЩ — В. Маяковский, «Про это» («день, который горем старящ»).
СТАТУИТЬСЯ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 2 («статуился аляповато фронтоном»).
СТВОЛИСТЫЙ — А. Белый, «Первая симфония» («из стволистой дали»).
СТЕГАНЬЁ — В. Маяковский, «Флейта-позвоночник» («перекрестить стеганье одеялово»).
СТЕНИТЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 3, 3 («шляпа стенила нахмуренный лоб»).
СТИМУЛ — С. Шевырев.
СТИХОСЛОЖЕНИЕ — М. Ломоносов.
СТИХОТВОРЕНИЕ — Симеон Полоцкий (впервые употребил это слово в смысле термина, означающего стихосложение).
СТОЖАРОРОГИЙ — В. Хлебников.
СТОЗВОННЫЙ — С. Есенин («в зеленях твоих стозвонных»).
СТОЗВУЧНО — К. Бальмонт, «Грусть» («и в ответ ему стозвучно»).
СТОЗЕВНЫЙ — В. Тредьяковский, «Тилемахида» («чудище обло… стозевно»).
СТОЙЛЬЦЕ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («в других двух этажах стойльца девушек»).
СТОЛБЕНЕТЬ — И. Северянин, «Июльский полдень» («столбенел зловеще инок»).
СТОЛИЦЫЙ — В. Маяковский, «Война и мир» («улыбке столицей»).
СТООБРАЗНЫЙ — В. Брюсов («являй победней свою стообразную суть»).
СТОПОБЕДНЫЙ — В. Бенедиктов.
СТОТЫСЯЧЕСАБЕЛЬНАЯ — В. Маяковский (о коннице).
СТРАННОВЕТЬ — В. Маяковский, «Мексика — Нью-Йорк» («на боках поездных странновеют слова»).
СТРАСТЕНОГИЙ — В. Хлебников («страстеногие кобылицы»).
СТРАСТНООКАЯ — И. Панаев.
СТРАШНОГЛАЗЫЙ — А. Н. Толстой, «Петр I», ч. 1, гл. 1 («страшноглазые попы»).
СТРЕКАЛО — О. Мандельштам, «Вооруженный зреньем узких ос» («стрекало воздуха и летнее тепло»).
СТРОКОПЕРСТЫЙ — В. Маяковский, «Люблю» («подъемля торжественно стих строкоперстый»).
СТРОЧЕЧНЫЙ — Н. Асеев, «Свердловская буря» («Я лирик… по самой строчечной сути»).
СТУЖАЙЛО — А. Белый, «Московский чудак», гл. 2, 8 («стужайло пришел»).
СТУШЕВАТЬСЯ — Ф. Достоевский.
СТЫДЕСНЫЙ — В. Хлебников, «Весны пословицы» («записки стыдесной земли»).
СУБСКРИБЕНТЫ — Н. Карамзин (вместо «подписчики») (Письмо к И. И. Дмитриеву от 23.IV.1791).
СУБЪЕКТИВНЫЙ — С. Шевырев.
СУТКОНОГИЙ — В. Хлебников («сутконогих табун кобылиц»), Неизданный Хлебников, с. 119.
СУТОЛОЧНЫЙ — Б. Пастернак, «Повесть» («и в сутолочной липовой листве»).
СУХОМЯТНЫЙ — О. Мандельштам, «На вершок бы мне синего моря» («сухомятная русская сказка»).
СУХОПЛЯС — А. Белый, «Маски».
СУХОСПЛЕТЕННЫЙ — М. Лермонтов, «Се Маккавей-водопийца» («сухосплетенные мышцы»).
СУЩЕСТВО — В. Тредьяковский (по Л. Тимофееву).
СЧАСТЛИВИТЬ — Б. Пастернак, «Волны» («и я всей правдой их счастливлю»).
СШАТАТЬСЯ — В. Маяковский, «Ко всему» («Белый сшатался с пятого этажа»).
СЫЗДЕТСТВА — В. Набоков, «Другие берега», VI-1 («сыздетства утренний блеск в окне»).
СЫНОВЕТЬ — В. Хлебников («сыновеет ночей синева»).
СЫРЬ — С. Есенин, «Гаснут красные крылья заката» («как изъеденный сырью хомут»).
Т
ТАИНСТВЕННИК — Н. Языков («поэт-таинственник камен»).
ТАЛАНТЛИВЫЙ — С. Шевырев.
ТАЛЬ — А. Блок, «Кармен» («вербы — это весенняя таль»).
ТАРАКАНИТЬ — А. Чехов.
ТАРАТОР — Б. Пастернак, «Дрозды» («и целодневный таратор»).
ТАРЕЛИНЫ — В. Маяковский, «Хорошо» («топырили глаза-тарелины»).
ТВЕРДОПОДНЯТЫЙ — Л. Толстой, «Война и мир», т. 3, ч. 2, гл. 36 («собачонка с твердоподнятым хвостом»).
ТВОРЯНЕ — В. Хлебников, «Зангези» («это шествуют творяне, заменивши Д на Т»).
ТЕДЕСКА — Л. Мей, «Плясунья» («ты жила и погибла тедескою») (в смысле германкою — итальянизм).
ТЕЛЕСАТЫЙ — В. Хлебников, «Курган Святогора» («грусть, телесатая равниной»).
ТЕМНИНА — Г. Петников, «Осенний офорт» («по осенне сутулым темнинам»).
ТЕМНОВОДЬЕ — О. Мандельштам («эта область в темноводье») и («шла цепочкой в темноводье»).
ТЕМНОЛАЗУРНЫЙ — Ф. Тютчев, «Под дыханьем непогоды» («над волной темнолазурной»).
ТЕНЕТИТЬ — Г. Державин, «Философы — пьяный и трезвый» («законом правду тенетить»).
ТЕРМОМЕТР — М. Ломоносов.
ТЕРРОРИЗМ — И. Петрашевский («Карманный словарь иностранных слов»).
ТЕСНЕТЬ — Н. Асеев, «расставанье» («сердце теснеет от боли»).
ТИГРОЗЛОСТНЫЙ — А. Сумароков, «Дифирамб Пегасу» («конь… пиитам многим тигрозлостный»).
ТИЛИСНУТЬ — Ф. Достоевский (по Л. Тимофееву).
ТИНИТЬСЯ — В. Маяковский, «Облако в штанах» («а ночь по комнате тинится и тинится»).
ТИХНЬ — В. Маяковский, «Мой май» («тихнь, пулемета лай»!).
ТИХОГРОМ — Г. Державин (попытка калькировать на русский язык слова, «фортепиано»: пиано — тихо, форте — громко).
ТМИТЬСЯ — Н. Асеев, «Зелень, вода, солнце» («целый месяц тмится небо»).
ТОЛПОКРЫЛАТЫЙ — О. Мандельштам, «Фаворскому» («в толпокрылатом воздухе картин»).
ТОЛЩЬ — В. Маяковский, «Сволочи» («толщь непроходимых шей»).
ТОНКОРЕБРОСТЬ — Б. Пастернак, «Волны» («перегородок тонкоребрость»).
ТОНУЛЫЙ — Л. Мей, «Александр Невский» («тонулые в весну покойнички»).
ТОПОЛЯНА — Г. Петников, «Петухи распелись» («стоят… у голой тополяны»).
ТОПЫРИТЬ — В. Маяковский, «Юбилейное» («жабры рифм топырит учащенно») и «Хорошо» («топырили глаза»), а также Б. Пастернак, «Высокая болезнь» («он гнул свое, пиджак топыря»).
ТОРКНУТЬ — А. Твардовский, «Страна Муравия» («и торкнул землю посошком»).
ТРЕЗВОНИТЬСЯ — В. Маяковский, «Необычайное приключение…» («и снова день трезвонится»).
ТРЕХЪЯРЫЙ — О. Мандельштам, «Фаворскому» («трехъярой окисью облитых»).
ТРОГАТЕЛЬНО — Н. Карамзин.
ТРОГЛОДИТСКИЙ — В. Маяковский, «Про это» («времен троглодитских тогдашнее чудище»).
ТРУПЕРХЛЫЙ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 2, 11 («труперхлое дерево свесилось»).
ТРУПЕТЬ — В. Хлебников, «Морской берег» («трупеет серебряный час»).
ТРЯСЬ — С. Есенин, «Анна Снегина» («Когда прекратилась трясь»).
ТУГИЗНА — А. Югов, «Страшный суд».
ТУЖИЛЬ — С. Есенин, «Сорокоуст» («оттого-то вросла тужиль»).
ТУПОЗВОН — А. Кусиков («грустным тупозвоном в пятносинь потемок»).
ТУПОСЕРДИЕ — А. Герцен (Письмо в Париж из Лондона И. С. Тургеневу от 18 февраля 1857 г. — о Некрасове: («такие превосходные вещи, что не ценить их было бы тупосердием»).
ТУПСИТЬСЯ — В. Маяковский, «Севастополь — Ялта» («в туннель тормозами тупсясь»).
ТУСК — Г. Державин (по Л. Тимофееву).
ТУФЛЯСТЫЙ — В. Маяковский, «Киноповетрие» («дэнди туфлястый»).
ТУЧЕГОННЫЙ — К. Некрасова, «Анне Ахматовой» («серый тучегонный ветер»).
ТУЧЕЖИТЕЛЬ — В. Хлебников («я упал, как белый тучежитель»), т. V, с. 43.
ТЮРЬМОПОДОБНЫЙ — О. Мандельштам, «Феодосия» («везут собак в тюрьмоподобной фуре»).
ТЯЖЕЛИТЬ — А. Блок, «Когда по городской пустыне» («и тяжелит ресницы иней»).
ТЯЖЕЛОЗВОНКИЙ — А. Пушкин, «Медный всадник» («тяжелозвонкое скаканье»).
ТЫСЯЧЕЛИСТЫЙ — В. Маяковский, «Человек» («книгой времени тысячелистой» и «дней любви моей тысячелистое евангелие»).
ТЫСЯЧЕХОЛМИЕ — О. Мандельштам, «Чернозем» («тысячехолмия невспаханной молвы»).
ТЫЩЕПОЛЬЕ — В. Маяковский, «Рабочим Курска» («с аэропланов озирая тыщеполье»).
ТЬМОЧИСЛЕННЫЙ — Н. Языков.
ТЬМУТАРАКАНИТЬСЯ — В. Маяковский («в винницкой глуши тьмутараканясь»).
У
УБИГАНИТЬСЯ — В. Маяковский, «Красавица» («губки розой убиганятся»).
УГАСЛЫЙ — И. Северянин, «Эскиз вечерний» («и на лице ее угаслом»).
УГЛАНЫ — О. Мандельштам, «Куда мне деться…» («и выбегают из углов угланы»).
УДОВОЛЕН — А. К. Толстой, «Слепой» («пусть ловлею князь удоволен»).
УГРЮМСТВО — А. Блок, «О, я хочу безумно жить» («простим угрюмство»).
УЗДЦЫ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («идет… к уздцам рысака»).
УЗНАВАНЬЕ — В. Маяковский, «Про это» («застыл в узнаванье»).
УЗЫВНЫЙ — В. Хлебников, «Снегич узывный». Неизданный Хлебников, с. 111.
УКОЛУПИНЫ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 3, 16 («от слов оставались какие-то всё уколупины»).
УКРАДИСТО — Л. Толстой, «Война и мир», т. 3, ч. 3, гл. 20 («черные пчелы шныряют быстро и украдисто»).
УКРАДУЧИСЬ — Л. Толстой, «Война и мир», т. 4, ч. 3, гл. 17 («Ней… украдучись»).
УМИРАНКА — О. Мандельштам, «Восьмистишия» («жизненночка и умиранка»).
УЛИТЬЕ — В. Маяковский, «Владимир Ильич!» («долой улитье — подождем!»).
УЛЫБНО — И. Северянин, «Земля и солнце» («солнце улыбно уходит домой»).
УМНЕЧЕСТВО — В. Хлебников, «Курган Святогора» («русское умнечество»).
УМНОЧИИ — В. Хлебников, «Умночий и рабочий», Неизданный Хлебников, с. 104.
УМОВРЕДНЫЙ — Герасим Смотрицкий («еретиков полки умовредные»).
УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ — В. Тредьяковский (по Л. Тимофееву).
УМОНЕЛЕПСТВОВАТЬ — М. Салтыков-Щедрин.
УПЕЩРЯТЬ — Ф. Достоевский, «Чужая жена и муж..» («украшения, упещрявшие этот фрак»).
УПОЙ — Е. Боратынский, «Дядьке-итальянцу» («вздохи южные душистым их упоем»).
УСМЕЙНЫЙ — В. Хлебников, «Заклятие смехом» («смех усмейных смеячей»).
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ — Н. Карамзин.
УСТРЕЛЬНУТЬ — А. Белый, «Москва под ударом», гл. 2, 7 («паук водяной прочь устрельнул»).
УСЬКНУТЬ — А. Жемчужников, «Литераторы-гасильники» («чтоб уськнуть он не смел толпу»).
УТЕШНИЦА — Н. Гоголь, «Тарас Бульба» («будут у него плакальщицы и утешницы»).
УТРЕЕТ — А. Блок («Утреет. С Богом. По домом…»).
УТРЕЛ — И. Северянин, «Намеки жизни» («Утрела комната»).
УТРОБЛАСЫЙ — В. Хлебников, «Что было — в водах тонет» («и утровласая дева»).
УТРОЛИКАЯ — В. Хлебников («утроликая девушка»).
УЩЕЛЬНЫЙ — В. Маяковский («скулят, заливаясь ущельной длиной»).
Ф
ФАНТАСТИТЬ — В. Маяковский, «Париж» («авто фантастят танец»).
ФЕОДАЛИЗМ — А. Герцен.
ФИГОВИДЦЫ — М. Салтыков-Щедрин.
ФИОЛЬ — И. Северянин, «Фиалка» («любуйся моей фиолью»).
ФОКСОКОТ — Н. Агнивцев («и ровно, ровно через год у них родился фоксокот»).
ФОНАРИТЬ — К. Некрасова, «Отрывок» («а глаза зеленым фонарили»).
ФОНТАНИТЬСЯ — В. Маяковский, «Париж» («свистит вода, фонтанясь»).
ФОРТЕПИЯ — Петр I.
ФУРУНКУЛИРОВАТЬ — Б. Пильняк, «Чертополох» («Сухаревкой фурункулирует РСФСР»).
ФУРЬЕРИЗМ — М. Петрашевский, «Краткий словарь иностранных слов», 1845 г.
ФЫКАТЬ — Б. Пильняк, «Заволочье» («во дворе фыкало динамо маленькой фабрички»).
Х
ХВОСТИЗМ — В. Ленин.
ХИТРОУМНЫЙ — В. Жуковский, «Одиссея» («хитроумный Одиссей»).
ХИЩЬ — И. Сельвинский, «Пушторг», гл. 1 («взъерошаться… в хищь рыжие коты его усищ»), позже О. Мандельштам, «Чур, не просить» («не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи»).
ХЛЕСТАЛЬЯ — В. Хлебников («хлестапья грив ногами свирепеют»), т. V, с. 100.
ХЛЮПЬ — С. Есенин, «Черная, потом пропахшая выть» («глухо баюкают хлюпь камыши»).
ХЛЫЩ — И. Панаев (см. Иванов-Разумник, «Панаев и его воспоминания»).
ХМАРОСЕЙКА — С. Кирсанов, «Опыты. Сентябрьский пустяк» («осень-хмаросейка»).
ХНЫКАТЕЛЬНЫЙ — М. Салтыков-Щедрин («хныкательная эссенция»).
ХОЛОДНОМУТНЫЙ — Саша Черный («Корнеплодий Чубуковский» («впадая в деланный, в холодномутный транс»).
ХОРЕВОЖАТЫЙ — Вяч. Иванов, поэма, «Человек».
ХОХОЧЕСТВО — В. Хлебников («я — смеярышня хохочеств…»).
ХРАБРИТЬ — И. Северянин, «Октябрь» («он бродит, тьму храбря).
ХРИСТАРАДНИЧАТЬ — В. Маяковский, «Про это» («не христарадничать, моля»).
ХРУПОТ — И. Северянин, «Июльский полдень» («в хрупоте коляски»).
ХРУПТ — С. Есенин, «Голубень» («и с хруптом мысленно кусаю огурцы»).
ХРУПЬ — И. Северянин, «Фиалка» («над ручейками хрусталит хрупь»).
ХРУСТАЛИТЬ — И. Северянин, «Фиалка» («хрусталит хрупь»).
ХУДОРЁБРЫЙ — Б. Пильняк, «Мать-мачеха» («от неба до земли худоребрый ветер»).
Ц
ЦАРЕВЕНЧАНЬЕ — Н. Языков, «А. Пушкину» («на светлый день царевенчанья»).
ЦАРИЗМ — К. Леонтьев.
ЦВЕТНОКОЖИЕ — В. Маяковский, «Третий интернационал».
ЦВЕТОПОДОБНЫЙ — Е. Замятин, «Рассказ о самом главном» («еще новые цветоподобные человечьи цветы»).
ЦВЕТЬ — С. Есенин, «Низкий дом с голубыми ставнями» («только видели березь, да цветь»).
ЦЕЛОДНЕВНЫЙ — Б. Пастернак, «Дрозды» («и целодневный таратор»).
ЦЕНТРИТЬ — И. Северянин («где четверть века центрит Надсон»).
Ч
ЧАРЫЙ — А. Блок, «Как свершилось…» («приручил я чарой, лестью»).
ЧАРОДЕЙНЫЙ — Н. Щербина, «Ваятель и натурщица» («чародейных движений»), позже А. Блок, «За горами, лесами» («чародейную руку твою»).
ЧЕЛОВЕЧНИК — А. Белый, «Московский чудак», гл. 1, 2 («человечник мельтешил»).
ЧЕЛОВЕЧНЫЙ — Н. Карамзин.
ЧЕМБЕРЛЕНЬЕ — В. Маяковский.
ЧЕРЕСПЛЕЧНЫЙ — М. Цветаева, «Слезы — на лисе моей облезлой!..» («глыбой чересплечные ремни»).
ЧЕРНОВЕРХИЙ — О. Мандельштам, «День стоял…» («шла черноверхая масса»
ЧЕРНОГОЛОСЫЙ — О. Мандельштам, «Вооруженный зреньем узких ос» («и не вожу смычком черноголосым»).
ЧЕРНОГОЛУБЫЙ — О. Мандельштам, «Полюбил я лес…» («в иглах — еж-черноголуб»).
ЧЕРНОЗЕЛЕНЫЙ — О. Мандельштам, «Как светотени мученик» («отец чернозеленой теми»).
ЧЕРНОКРУЖЕВО — Г. Петников, «Такая осень» («в чернокружеве взлетающем»).
ЧЕРНОКУДРЯВЫЙ — А. Пушкин, «Давыдову» («ты, боец чернокудрявый»), позже, «чернокудрявая» встречалось у Панаева и других.
ЧЕРНОЛЮДЬЕ — О. Мандельштам, «Киев» («чернолюдьем велик»).
ЧЕРНОМОХИЙ — А. Белый, «Московский чудак», гл. 2, 23 («с пухлым лицом черномохим»).
ЧЕРНОМРАМОРНЫЙ — О. Мандельштам, «Стихи о неизвестном солдате» («глубоко в черномраморной устрице»).
ЧЕРНООГНЕННЫЙ — Г. Державин («черноогненный взор»).
ЧЕРНОПАХОТНЫЙ — О. Мандельштам, «Я живу на важных огородах» («чернопахотная ночь степных закраин»).
ЧЕРНОПЫЛЬНЫЙ — А. Белый, стихотв., «В полях» («чернопыльные комья»).
ЧЕРНОРЕЧИВЫЙ — О. Мандельштам («черноречивое молчание в работе»).
ЧЕРТЁЖ — М. Ломоносов.
ЧЕТВЕРОЛАПЫЙ — В. Маяковский, «Хорошо» («четверолапые зашагали»).
ЧИНГИСХАНИТЬ — В. Хлебников, «Усадьба ночью, чингисхань».
ЧИТЬМО — В. Хлебников (сравн. «письмо»).
ЧИТЯЗЬ — В. Хлебников (читатель, сравн. «витязь»).
ЧРЕВОБЕСИЕ — Ф. Тютчев, «Как даль родную на закланье» («чревобесие меча») — неправомерное применение церковно-славянского выражения, не соответствующего смысловому значению словоупотребления.
ЧТЕЧЕСКИЙ — В. Набоков, «Другие берега» («это была изумительная чтеческая машина»).
ЧУЖЕБЕСИК — Ю. Крижанич (пристрастие ко всему иностранному), см. В Ключевский, «Курс русской истории», т. 3, с. 248.
ЧУЖЕВЛАДСТВО — Ю. Крижанич (иноземное иго, тяготеющее над славянами), см. В. Ключевский, «Курс русской истории», т. 3, с. 248.
ЧУЖЕЛЮБЫЙ — О. Мандельштам, «Возможна ли женщине мертвой хвала?» («Ее чужелюбая страсть привела»).
ЧУЖЕРОДЬЕ — Б. Пастернак, «Из летних записок» («счастлив, кто целиком, без тени чужеродья»).
ЧУКОККАЛА — И. Репин (шуточный неологизм от фамилии Чуковский и географического названия дачной местности — Куоккала. Эта название было, по разъяснению Чуковского, дано его собранию пародий, эпиграмм, посвящений и шаржей, в котором принимали участие многие известные поэты, литераторы и художники).
Ш
ШАВКАТЬ — И. Репин, «Далекое близкое» («шавкали из подворотни»).
ШАГАНЬЕ — В. Маяковский, «Нордерней» («шаганья знакомая разноголосица».
ШАРЛАТАНИЗМ — В. Ленин.
ШАРОВАТЫЙ — О. Мандельштам, «Оттого все неудачи» («шароватых искр пиры»).
ШАРШАВИТЬ — Л. Толстой, «Война и мир», т. 3, ч. 2, гл. 36 («он ходил по лугу… шаршавя траву»).
ШЕЛЕСТИННЫЙ — В. Каменский, «Соловей» («в шелестинных грустинах»).
ШИРОКОВОДНЫЙ — Н. Языков, «Смерть барона Дельвига» («Нева… широководная шумит»).
ШИРОКОКРЫЛЫЙ — Ф. Тютчев («ширококрылых вдохновений»).
ШИРОКОЛИСТВЕННЫЙ — П. Радимов («Еще звучит в тебе, природа, широколиственное слово»).
ШИРОКОЛУННЫЙ — К. Некрасова, «Чеснок» («широколунные киргизята»).
ШИРОКОПАСМУРНЫЙ — О. Мандельштам, «Исаакий под фатой» («влачится по ступеням широкопасмурным»).
ШИРОКОШУМНЫЙ — А. Пушкин, «Поэт» («в широкошумные дубравы»).
ШИШКОПЕРЫЙ — С. Есенин, «Весна на радость не похожа» («на шишкоперой лебеде»).
ШЛЕПОХВОСТНИЦА — Ф. Достоевский.
ШОПОТОГОЛОСЫЙ — В. Маяковский, «Хорошо» («шопотоголосые кухарочьи хоры»).
ШПОРИСТЫЙ — В. Маяковский («Вильгельмов сапог Николаева шпористей»).
ШУМИЩЕ — В. Маяковский.
ШУСТРИТЬСЯ — И. Северянин, «На реке форелевой» («а форели шустрятся»).
Щ
ЩЕГЛОВИТЫЙ — О. Мандельштам, «Мой щегол, я голову закину…» («до чего ты щегловит?»).
ЩЕКАТЫЙ — Ф. Сологуб («Только забелели поутру» («хищной и щекатой твари»).
Э
ЭГОТВОРЧЕСТВО — И. Северянин, «Самогимн» («значенье эготворчества»).
ЭГОФУТУРИЗМ — И. Северянин.
ЭКСТАЗНЫЙ — И. Северянин.
ЭЛЕКТРОЛЕКТОР — В. Маяковский, «Рабочим Курска» («самый убедительный электролектор»).
ЭЛЬВИСТЫ. — В. Маяковский, «Рабочим Курска» (члены существовавшей в 20-х годах Лиги времени, сокращенно ЛВ).
ЭМПИРИЗМ — А. Герцен.
ЭПИЛЕПСИРОВАТЬ — Б. Пильняк, «Чертополох» («коими эпилепсировал поезд»).
ЭРА — Н. Греч.
ЭФФЕКТЁР — В. Белинский (любитель производить эффекты — о герое французского писателя Ежена Сю).
Ю
ЮНАЧ — С. Третьяков (вместо «юноша»).
ЮНЕЖЬ — В. Хлебников (вместо «молодежь»).
ЮНИТЬСЯ — И. Северянин, «В кленах раскидистых» («как упоенно юниться»).
ЮНОШЕСТВЕННЫЙ — Ф. Достоевский.
ЮНЯГА — В. Хлебников.
Я
ЯБЛОКОКРУПНЫЙ — Д. Бурлюк («яблококрупные рысаки»).
ЯДОСМЕХ — И. Северянин.
ЯВЛЕНИЕ — Н. Карамзин.
ЯЗЫКНУТЬ — И. Сельвинский, «Пушторг» («языкнул зубочистку за щеку»).
ЯЗЫКОТВОРЕЦ — В. Маяковский, «Сергею Есенину» («у народа, у языкотворца»).
ЯЗЫЧИЙ — В. Маяковский, «Ух и весело» («свечи кажут язычьи кончики»).
ЯНСТВО — Г. Державин (по Л. Тимофееву), вместо, «эгоизм».
ЯРКОГАЗОВЫЙ — А. Белый, «Вечный зов» («яркогазовым томит лучом»).
ЯРКООГНЕЕ — В. Маяковский («торжеством яркоогним сияет»).
ЯРОТСТВОВАТЬ — В. Хлебников, «Богу».
ЯСНИТЬСЯ — О. Мандельштам, «Стихи о неизвестном солдате» («понимающим куполом яснится»).
ЯСЬ — В. Маяковский, «150 000 000» («пошел к Ивану сквозь утреннюю ясь») и «Необычайное приключение…» («странная из солнца ясь струилась»).
ЯЧНОСТЬ — В. Бенедиктов.
ЯЩЕРИТЬСЯ — В. Маяковский, «Первомайское поздравление» («Товарищ солнце, не щерься и не ящерься!»).
ЯЧЕЙКА — В. Ленин, (в смысле, означающем низовую партийную организацию).
АВТОРЫ И НЕОЛОГИЗМЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СЛОВАРЬ
АГНИВЦЕВ Н.
фоксокот
АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.
полусклон
АСЕЕВ Н.
аппетитец
болоночий
выхвалка
желтобилетный
заалмаженный
закорчившийся
запунцоветь
зоревум
изобразист
испепелимо
котячий
мглиться
могучесть
мухоносно
нальдеть
необходимович
несказаль
обезопашенный
общепримерный
озмеенный
олыбь
охлынуть
пересверкиваться
полосатить
предзорье
прищурь
размоложенный
резвоногий
свежезаневоленный
сверкучий
светлоумный
синемолнийный
состукнуть
теснеть
тмиться
БАГРИЦКИЙ Э.
прозелень
БАЛЬМОНТ К.
безглагольность
желтоогромный
стозвучно
БОРАТЫНСКИЙ Е.
волнованье
восскорбеть
всеозаряющий
втесненный
душемутительный
необщий
непервый
несрочный
нечуждый
обстать
окогченный
отдышавший
приманенный
прихлыстнуть
разновещающий
сладкопоющий
упой
БАТЮШКОВ К.
славянофил
сладострастие
БАХТИН М.
карнавализация
БЕЛИНСКИЙ В.
ветрогон
грамматоеды
гуманность
доктрина
прекраснодушничать
БЕЛЫЙ А.
бамбанящий
безбочь
безобразия
безутолочь
бледнопалевый
бледнотелый
блеснь
бояриться
брильня
буерачащий
вертоветр
взбочь
визглый
визжавый
витоглавый
воздухолетный
волковой
волосочёс
выбрюшить
выерзывать
вывни
выжелтень
выжелчень
выприна
вытарчивать
галдан истый
глоссолалия
глупотелие
глупотелый
гоготень
дебристый
детва
дзененье
дневатель
дненощно
дюдерючить
домченки
домчоночки
дрежжать
дренцеватый
дубовооливковьл
дымносиний
евнуший
желвастый
желтород
жескнуть
жесточиться
жилявый
забелебенькать
забелогрудиться
забирюзовиться
забороздить
заварызганный
заведенеться
завонялый
загрозарело
задентиться
затвердевать
затентеренькать
замоклый
зафетюнить
звездоочитые
зеленоногого
златоколесый
змееногий
зноиться
испромозглость
клоповатый
костреватый
крупнодырый
крысятиться
кувердиться
кулакастый
курнявкать
ледовня
летнепикейный
лиловолистистый
лысастый
мараморохи
мартышничать
мимоходы
многоякий
мозгляйство
мокреть
морщан
мощехранилище
мумлить
невнятица
обвейный
овнорогий
окапать
пагрязца
перегусты
пережуи
перекривы
перепривыюркнуть
подвыюркнуть
подкарабкаться
подсосулить
приворожник
привостриться
пригорбыш
прикурсивить
прозубить
прокрик
пропятиться
пропыженный
проседый
проскромнеть
прохик
пустобаи
пухоперый
пырснь
разваляльня
раздрязнувший
разглазенький
раскатайный
раскроина
раскуряи
расплюи
растаратора
растаращи
ропотень
росчерни
свалень
сваляшина
свёрт
сердоболенка
синявый
скомчиться
скрипоканты
слюногонный
собство
собаченина
спаха
статуиться
сухопляс
стволистый
стенить
стужайло
томашиться
труперхлый
уколупины
устрельнуть
человечник
черномохий
чернопыльный
яркогазовый
БЕНЕДИКТОВ В.
безверец
вольнотечный
громоглагольный
залюбовный
льдяребрость
предбитвенный
сорвиголовый
стопобедный
ячность
БЛОК А.
беззакатный
маревный
многопенный
надвьюжный
огнекрасный
переслюнить
перий
празелень
предзакатный
таль
тяжелить
угрюмство
утреет
чарый
БОКОВ В.
навсхлип
БРЮСОВ В.
стообразный
БУЛГАРИН Ф.
сердцеокаменелость
БУРЛЮК Д.
влекущевластный
грязеосенний
дамаскосталь
североотчизна
яблококрупный
ВОЗНЕСЕНСКИЙ А.
бескризиснейший
осенебри
ВОЛОШИН М.
вызаренный
выславить
выцветить
окоём
развоплотиться
ГЕРЦЕН А.
магдалиниться
политеизм
тупосердие
феодализм
эмпиризм
ГНЕДИЧ Н.
многошумный
ГОГОЛЬ Н.
глухоответный
материйка
обиностраниться
обравнодушить
омноголюдить
утешница
ГОНЧАРОВ И.
извиняюсь
ГРЕЧ Н.
будуар
пациент
эра
ГРИБОЕДОВ А.
выем
ГОРЯНСКИЙ В.
бемольно
веносклерозный
мартокошачий
мелкомонетный
семиструнить
ДАВЫДОВ Д.
виноточивый
лаяка
ДЕРЖАВИН Г.
богоподобный
веселонравный
возведенец
го-гу
горорытство
донкишотствовать
желтосмуглый
жупел
каменотесец
люльки
ожурчаемый
орля
перехерить
полкумир
прямовидность
раззбруенный
рында
серпяный
сладкострунный
снегоподобный
тихогром
тенетить
туск
черноогненный
янство
ДОСТОЕВСКИЙ
безудержь
белоручничать
бесконечноэтажный
возобожать
всемство
вьюниться
гантированный
дарвалдаять
джентельменничать
инфернальность
картавка
куцавеешныи
лимонничать
наафонить
накоситься
нафонзонить
недоразвиток
обнеряшиться
обшмыга
окраинец
подробничать
подымчивый
предчувственница
сейчашный
слепондас
срамец
ссорная
стушеваться
тилиснуть
упещрять
шлепохвостница
юношественный
ЕКАТЕРИНА II
кубарить
ЕСЕНИН С.
безгладь
бель
вербенята
ведь
волноватый
всхлипень
выпеснить
вызнать
голосатый
звань
звень
звонистый
кипятковый
клененочек
легкодумный
ливисто
лошажий
молитвословный
мреть
обоймленный
обосененный
озорливый
омуть
опростеть
оснеженный
ошафранить
перепелий
приятца
псалмопенье
пуховитый
разжелудиться
ржавь
рыдалистый
смолый
стозвонный
трясь
тужиль
хлюпь
хрупт
шишкоперый
ЖЕМЧУЖНИКОВ А.
уськнуть
ЖУКОВСКИЙ В.
буреносец
обезмышить
сопутствие
хитроумный
ЗАГОСКИН М.
завиральный
охотиться
пользовать
ЗАМЯТИН Е.
перешвыриваться
ребячеглазый
цветоподобный
последне
ИВАНОВ Вяч.
волшба
гвоздиные
зоилиады
окольчужиться
полулиризм
полуцинизм
притворчивый
хоревожатый
ИЛЬИН С.
следовик
ИНБЕР В.
сороконог.
КАМЕНСКИЙ В.
встречальный
грустины
жарево
зазвучальный
песневестный
песнепьяницы
поэмия
солнцелей
шелестинный
КАНТЕМИР А.
средоточие
центр
КАРАМЗИН Н.
вздорословие
влияние
занимательно
носильщик
образ
общеполезный
общественность
оттенок
переворот
потребность
промышленность
развитие
рассеянность
сосредоточить
субскрибенты
трогательно
усовершенствовать
человечный
явление
КИРСАНОВ С.
белоголый
жижиться
зааукать
зеленограмма
идеишка
мамонтный
миллиардноразличный
многоножей
налаченный
наскальзывать
невлюбленье
недорукодельничать
недуманье
неизмена
неодень
неодом
неожизнь
неомир
неосвет
ничегоневиденье
никуданебеганье
орденастый
осенней
придуматься
пришагаться
прочерниленный
пыльноцветный
сизеть
синесонный
складчатокожий
слущиться
хмаросейка
КЛЮЕВ Н.
глыбкий
златоордный
невыржанный
недовязок
огнезобый
КОРОЛЕНКО В.
волгарить
КРИЖАНИЧ Ю.
чужебесие
чужевладство
КУКОЛЬНИК Н.
новелла
объективный
пациентка
КУСИКОВ А.
пробудность
пятносинь
тупозвон
ЛЕНИН В.
антанта
безголовец
глупизм
капиталопослушный
конфузионизм
наплевизм
полицебоязненный
хвостизм
шарлатанизм
ячейка
ЛЕОНТЬЕВ К.
царизм
ЛЕРМОНТОВ М.
недоцветший сухосплетенный
ЛЕСКОВ Н.
львояростный
огнелицый
онародоветь
оцетность
свирец
ЛИДИН В.
извивный
ЛОМОНОСОВ М.
атмосфера
водород
вязкость
кислород
кристаллизация
оптика
плоскость
пригробный
расстояние
рудник
стихосложение
термометр
чертеж
МАНДЕЛЬШТАМ О.
ездревесность
беззимний
безлиственный
беспамятствовать
большеветь
бушлатник
быстроживущий
вёрсткий
вполголосный
вполплеча
голуботвердый
двуискренний
десятичноозначенный
душемутитель
желчей
жизненночка
зазябливать
звуконосно
звуколюбец
звукопас
зерниться
изветливый
итальяниться
карличий
коршунница
красовитый
крутопоклонный
кусава
ложноволосая
людьё
льнянокудрая
мелкобисерный
многодонный
небохранилище
небрежница
неусыпленный
нечуемый
онелепленный
объятный
онелепленный
осадистый
остроласковый
переогромленный
переуваженный
перечерный
плачучи
подкопытный
полуукраинский
полухлеб
придымленный
притин
проливень
промуравленный
разлапица
разноголосый
разноречивый
рассохлый
русеть
сверхжизненный
сверхобычно
светоговорильня
светопыльный
семипалатный
сердцевитый
скорлупчатый
соименник
соприродный
стрекало
сухомятный
темноводье
толпокрылатый
трехярый
тюрьмоподобный
тысячехолмие
угланы
умиранка
хищь
черноверхий
черноголосый
черноголубый
чернозеленый
чернолюдье
черномраморный
чернопахотный
черноречивый
чужелюбый
шароватый
широкопасмурный
щегловитый
шустриться
ясниться
МАРТЫНОВ Л.
зимопись
МАЯКОВСКИЙ В.
адище
адки
америколицый
ангелица
бегня
бесконечночастый
бестелый
библеец
блюдище
божик
божище
бородье
бредь
брильня
буерачащий
быкомордый
валютца
верблюдокорабледраконий
верженный
версийка
взбуриться
вздошек
взмедведиться
взорлить
вкресленный
воднячий
волновий
вплесниться
вскипелый
вслизиться
вцеловать
вштопорить
выбряцать
выгрустить
выгрызть
выдивить
выесть
выжиреть
вызарить
вызлить
вызмеить
вызнакомить
выкаймить
выкалить
выкипячивать
выкрут
выкрутить
выласкивать
вылюбить
вымозжить
вымолодить
вымучить
вымчать
вымычать
выникнуть
выпутанный
выржать
высветить
высинить
вытаять
вытелить
вытомлен
выфрантить
выхващиваться
выхмуриться
вышибалий
выщемить
выщетиниться
гвоздимый
гололобый
гостьё
громадьё
громоголосие
гуллево
дамьё
двухметроворостый
декабрый
дождинка
домовий
дохромать
дребезга
дрыгоножество
дядьё
ёжь
жевотина
желтоглазина
живаться
жирноживотый
забензинить
загретый
загробь
залежанный
занеженный
зарифмоплесть
зарождестветь
зарусофильствовать
звездь
зверорыбий
звонконогий
земь
златолобо
златоустейший
золоторожденный
играние
извеселить
издинамитить
издыбленный
издымиться
изиздеваться
изоржать
изохаиный
израдиить
изросший
изыграть
икарин
имениннить
ископаемохвостатый
искрежещенный
скреститься
испавлиниться
исплененный
исперченный
испешеходить
иссверлить
исседевший
исслезенный
истемяить
исхлопано
исцеловать
исчоканный
исшелестить
иудить
июлить
калекши
комплиментщина
комсомальчик
краснофлагий
красношелкий
крикогубый
лаврий
лампиония
лбёнки
легендарь
легкомыслый
леева
лобоузкий
лошадьё
любеночек
людьё
любята
мандолинить
манжетщики
массомясый
машиньё
медноголосина
мелочинный
мертвость
миллионить
миллионноглавый
миллионнокрыший
миллионнопалый
миноносица
миноносочка
млечпуть
многолюбый
многохамый
молкнь
молоткастый
монтекарлик
мрущий
мужиковствующий
муссолиниться
мышиться
набожка
наваксить
нагаммить
нагусто
народина
наскипидаренный
наслезенный
нацикать
начуденный
небье
негритьё
незабудищи
неисцветший
немиться
необычайниться
непроходимолесый
непревзойдимо
нетроганный
нищь
новородить
ночнее
нянь
нынчесть
ньюйоркистый
обезночить
обжиревший
овазиться
овихрить
огнегубый
огнеперый
огнеть
огромить
однаробразный
озакатить
олелеять
оляпанный
омолниили
опитый
орлий
орло
орля
очевидевший
паспортина
пекловый
пенснишки
пентры
перееханный
перехихикиваться
плачик
площе
подоконничий
полупохабщина
помешкать
понанести
пятноживотый
пофанфаронить
поцекистей
поцелуишко
поя
препохабие
пресволочнейший
прижабленный
прозаседавшиеся
процыганенный
профессореть
психоложество
психоложцы
пятернища
разалеться
разбандитить
разбезалаберный
разбриллиантенный
развергнуть
раздинамитить
разжемчуженный
размерситься
размозолеть
размундиренный
разнебеситься
разнедоуменный
разукоризниться
разотозваться
расказенить
расканареить
раскованно
расколоколивать
раскрежещенный
распеснить
распесниться
распостелиться
распрабабкина
распроститучье
рассерьёзничаться
расфеерить
расцветоченный
расчересчуриться
револицый
романнее
руганный
рыхль
рыхотелье
евин
сглушить
сеево
семнадцатигодовый
сердцелюдый
серпастый
сжалить
синеволный
синезадый
синемордый
складбищиться
скульня
слезовый
словопад
смаслиться
смирённый
сонница
спаленный
старомозгий
старящ
стальнорукий
стеганьё
столицый
стотысячесабельный
странноветь
строкоперстый
строчечный
сшататься
тарелины
тиниться
тихнь
толщь
топырить
трезвониться
троглодитский
тупситься
туфлястый
тысячелистый
тыщеполье
тьмутараканиться
убиганиться
узнаванье
улитье
ущельный
фантастить
фонтаниться
христарадничать
цветнокожие
чемберленье
четверолапый
шаганье
шопотоголосый
шпористей
шумище
электролектор
эльвисты
языкотворец
язычий
яркоогний
ящериться
МЕЙ Л.
белотрепетный
бродливый
водополая
лепокудрый
неотходный
олиствиться
опрозрачить
отшарахнуться
потьма
разыстомный
тедеска
тонулый
МИНСКИЙ Н.
мэонизм
НАБОКОВ В.
крестословица
синеный
сыздетства
чтеческий
ОГАРЕВ Н.
бугорный
непорывисто
розгоблудие
ОСТРОВСКИЙ А.
снегурочка
ПАНАЕВ И.
женироваться
лев
приживалка
страстноокая
хлыщ
ПАСТЕРНАК Б.
бравура
бранчливый
виршеписец
витийственный
всколебленный
вьюжиться
глыбастый
династ
жаровень
заволосатить
залетейский
заянтаренный
знакомость
краснорукавыи
машучи
многогорбый
нащелк
недоед
недосып
недопой
неисследимый
неуследимо
обоеликий
обстигнуть
общелягушечий
ограять
одуренный
окуклившийся
отникнуть
первопричинник
послепогромный
пренебрегнутый
прорешливый
простодушничать
развалец
реберчатый
резучий
рьяность
синеногий
слабостойный
сладкогласец
сутолочный
счастливить
таратор
тонкоребрость
тягостность
целодневный
чужеродье
ПЕТРАШЕВСКИЙ М.
коммунизм
материализм
социализм
терроризм
фурьеризм
ПЕТНИКОВ Г.
былица
вгрузаться
весень
выкресать
дремлины
животрепещущие
загостевавшийся
заутренний
златоконный
молниеносец
наморозь
начернь
неспокой
осиянь
пев
первоосенье
повырасти
подгромок
провалье
пролески
проскваживать
прочерни
раздышавшийся
разноцвет
разымчивый
светанье
серебримый
синеверхий
снегопись
снежик
темнина
тополяна
чернокружево
ПЕТР I
ассамблея
баталия
виктория
политес
фортеция
ПИЛЬНЯК Б.
анкетированный
буроствольный
буйничать
волить
глышки
гостиноподобный
гуситствовать
древневековье
дубасы
задневывать
звенышки
известняковиться
канонный
лойольствовать
мужчинообразный
обутно
одетно
одиночествовать
одноженный
одномотивный
окурьеренный
осклероживаться
отметываться
отринувшийся
отсмертельствовать
перепряжки
пасальнеть
разветривать
ручейно
свинцы
состояьник
стояльце
уздцы
фурункулировать
фыкать
худорёбрый
эпилепсировать
ПОЛЕТАЕВ Н.
вперекор
ПОЛОЦКИЙ С.
метр
ритмология
стихотворение
ПОСОШКОВ И.
простец
ПУШКИН А.
безглагольный
благовещий
взгреметь
державец
исторженный
кюхельбекерно
легкоязычный
многодорожный
молдаванно
мордка
нечуждый
однодомец
огрузить
первосоние
полудержавный
полукупец
полумилорд
полуневежда
полуподлец
полуфанатик
предрассуждение
противочувствие
размученный
тужиль
тяжелозвонкий
чернокудрявый
широкошумный
РАДИМОВ П.
широколиственный
РАДИЩЕВ А.
собственник
РАСТОПЧИНА Е.
облистанный соотчич.
РЕПИН И.
закосолапить
чукоккала
шавкать
РЕРИХ Н.
мыслеобраз
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН М.
белибердоносцы
благоглупость
всенипочемство
головотяп
душедрянствовать
злопыхательство
иссобачиться
пенкосниматель
почеловеконенавистничать
умонелепствовать
фиговидцы
хныкательный
разопсеть
подслушивательный
Саша ЧЁРНЫЙ
холодномутный
СЕВЕРЯНИН И.
ажурь
аловстречный
алосизый
алоцветики
альпороза
аполлонец
безгрезье
бездарь
безлистный
безлучье
безнадежье
безразумный
безтинный
бескрылье
беспоклонно
беспопий
бичелучье
бледнота
бравурить
бриллиантиться
бутончатая
вздрожать
вопью
всепобедный
всечертно
грезэр
грезофарс
гутор
дамьи
диагнозить
диссона
драприть
женоклуб
загрезиться
закудриться
зальдиться
звездить
изыск
интуит
иронящий
кленоход
лесофея
лилиесердный
лиловоизнеженный
лимоннолистный
майно
мольно
ночеет
овесененный
огимнить
озверить
озерзамок
окалошить
окукленный
олазоренный
олуненный
олунить
омолненный
опроборить
прозаиченный
орозенный
осветозаренный
осклепить
ослезить
остолбленный
осупружиться
отронить
отропить
отстраданный
офиалченный
паучный
перелесец
побледнелый
популярить
порывность
поэза
примагнитить
протрелить
пустобутыльный
разузорить
росно
словоборчество
софный
снегоскалый
снежеть
столбенеть
страдальный
угаслый
угрюмец
улыбно
утреть
фиоль
храбрить
хрупот
хрупь
хрусталить
центрить
шустриться
эготворчество
эгофутуризм
экстазный
СЕЛЬВИНСКИЙ И.
безгрошие
беломедвежий
буйногривый
враспах
гвоздевый
грязногривый
крестастый
мандельштамп
мерзлик
наслажденщина
отплев
пастернакипь
пузырить
пышносеребристый
рипящий
сверхжитейский
светизна
свистик
языкнуть
СМОТРИЦКИЙ Г.
нещадный
умовредный
СОКОЛОВСКИЙ В.
дождить
СОЛЖЕНИЦЫН А.
выелозивать
долдонный
насмешисто
невподым
невыгодности
роково
СОЛОВЬЕВ Вл.
бледнокрылый
вседержительство
всерадостный
всесияющий
панмонголизм
СОЛОГУБ Ф.
безлепица
лобзальный
косненье
мреть
недотыкомка
обычайность
оголивать
откачнуться
палый
перебойно
щекатый
СУВОРОВ А.
немогузнайка
СУМАРОКОВ А.
новомышленный
пиндароносный
ТВАРДОВСКИЙ А.
впоперек
торкнуть
ТОЛСТОЙ А. К.
душегубный
забулдыкать
клобучье
ксантиппость
непетый
обрамить
отозваться
отслюнить
ТОЛСТОЙ А. Н.
белооблезлый
вытиснуться
неперелазный
приразинуть
пушистохвостый
страшноглазый
ТОЛСТОЙ Л. Н.
всачивание
всачиваться
домирающий
забеглый
назади
наканунный
непринадлежание
ошмурыгивать
переимка
перекатный
перекивнуться
побеждание
прикованно
твердоподнятый
украдисто
украдучись
шаршавить
ТРЕДЬЯКОВСКИЙ В.
великолепный
внимание
впечатление
деятельность
златошвейный
каплеросный
обнародовать
подлежащее
предмет
преследовать
разумность
стозевный
существо
умозрительный
ТРЕТЬЯКОВ С.
юнач
ТУРГЕНЕВ И.
билье-ду
нигилист
ТЮТЧЕВ Ф.
громокипящий
животрепетный
мерзить
мещет
многотрудный
обворожать
отступнический
сопутствовавший
темнолазурный
чревобесие
ширококрылый
УРИН В.
глубинеть
ФЕЛЬДМАН Н.
окказионализм
ФЕТ А.
завеянный
изрыдаться
одноцентренность
ФЛОРЕНСКИЙ П.
зеленизна
издетский
ФОФАНОВ К.
желтостволый
несметаемый
ХЛЕБНИКОВ В.
алератный
бегиня
бесолюбивый
божестварь
божич
будетляне
бывун
вабный
ваяльня
ведьминскосдобный
веерообразный
весногубый
вечеровый
времири
времяклювый
времыши
вселеннохвостый
вселенночка
вскатываться
глазасторогий
горинож
грустняк
доломерие
донынный
железавут
жемчуговеющий
животноокий
завысокий
зазовь
заратустрить
звучаль
золотописьмо
землепах
иссмейся
косматовласый
красивейшина
кричак
крылышковать
лебедиво
любавица
любец
любистель
любовня
люброва
любенок
любийца
любик
любянин
мирёл
мирятник
молвняк
молодежеперый
молчаниехвостый
мордастоногий
моцартить
мыслока
надсмейный
небёнок
небоем
небозобый
небомехий
небороб
небянка
нежнобокий
немливо
немолиственно
немотствовать
нехотяи
обезлисить
обезлосить
овчарковатый
омамаенный
осеннеликий
отцепенел
первовидцы
печальноокий
поюн
плескиня
поюнный
правдохвостый
прошлоекрылый
равенствозубый
радостеперый
разнотствующий
рассмеяльно
рассмешищи
речар
роопсить
рух
сапогоокий
славоба
словля
словотворчество
смелоликие
смертири
смеярышня
смейево
смехачи
смешики
смеюнчики
смеяльно
смеянствовать
смехорукий
снежимочка
солнцелов
сомнениекрылый
сосеверянин
спасиборогий
стожаророгий
страстеногий
сутконогий
сыноветь
стыдесный
творяне
телесатый
трупеть
тучежитель
узывный
умнечество
умночий
усмейный
утровласый
утроликая
хлестальня
хохочество
чингисханить
читьмо
читязь
юнежь
юняга
яротствовать
ЦВЕТАЕВА М.
заститься
нагловзорый
левогрудый
склаб
скалозубый
черезплечный
ЧЕХОВ А.
драконить
левитанистее
околеванец
окошкодохлиться
сарайно
тараканить
ЧУКОВСКИЙ К.
блекота
ШЕВЫРЕВ С.
адепт
амальгама
беллетристика
будуар
дебют
популярный
стимул
субъективный
талантливый
ШЕРШЕНЕВИЧ В.
внезапиться
завишнеться
исподтишечный
ШКЛОВСКИЙ В.
остраннение
ЩЕРБИНА Н.
всеотрицающий
крепкогрудый
некрушимый
предсонный
чародейный
ЮГОВ А.
тугизна
ЯЗЫКОВ Н.
беззвучить
браннолюбивый
бурноногий
водобег
голубоводная
звучнокопытный
истаевать
миговой
мимоходящий
многогромный
перекочкать
перепрыг
перехват
пустошить
разнобоярщина
своенародность
сладкопевный
снеговершинный
таинственник
тьмочисленный
царевенчалье
широководный
Приложения
Н. И. Толстая ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ С. Н. ТОЛСТОГО[798]
«Любовь, идея любви приняла Крест, воздвигнутый на Голгофе, и понесла его как символ человечества».
С. Н. Толстой, «О самом главном»«Фашизм лучше всего поняли либо те, кто пострадал от него, либо наделенные чем-то родственным фашизму».
Дж. Оруэлл, «Уэллс, Гитлер и всемирное господство»«… только в поисках Бога человек способен создать культуру и только творя культуру человек творит собственное бессмертие».
Графиня де Вог.Из всех произведений зарубежной прозы, переведенных С. Н. Толстым, включая и опубликованные в Т. IV, самым масштабным по объему, по уровню и степени художественности является «Капут» Курцио Малапарте. Три публикуемые в этом томе фрагментарных перевода — Марсель Пруст «В поисках утраченного времени» («Пленница») и Эдмон де Гонкур «Хокусай» дополняют и расширяют для читателя круг интересов переводчика, а последний — «Цитадель» Антуана де Сент Экзюпери — выступает в качестве смыслового завершения всего его творческого пути.
Сергей Николаевич никогда не подходил к переводческой деятельности формально, не делал это ради заработка, даже ради публикации, хотя, конечно, не возражал бы поделиться с более широким кругом читателей и слушателей радостью открытия писателя или его уникального произведения. Ему всегда хотелось прежде всего раскрыть главное для себя в художнике, увидеть то, что обусловило величие его таланта, истоки его, и, входя в его творческую ауру, постараться постичь философию его мышления. Как правило, эти личности характеризует ранний талант, неординарность, которая просматривается с детства, и обязательно — благородство натуры. Они уже в детстве становятся маленькими вундеркиндами (впрочем, как и он сам), маленькими художниками, каждый в своей области. Переводя какие-то из их произведений не целиком, он, возможно следовал творческой рекомендации знаменитого на весь мир японского художника Хокусая, прозаика, поэта и философа: «Не следует думать, что надо раболепно следовать предписанным правилам, и каждый должен идти в своей работе согласно своему вдохновению». И Толстой шёл; он переводил только тех писателей, кто, как ему казалось, этого заслуживал, и только то в их творчестве, что ему было близко.
Фрагментарный перевод с французского биографии Хокусая (1760–1849) сохранился в архиве С. Н. Толстого в рукописи. С японского на французский она целиком была переведена старшим из знаменитых французских романистов Эдмоном де Гонкуром (1822–1896), почитателем его таланта. Сергей Николаевич всегда очень интересовался и увлекался Хокусаем, в его доме на стенах висели репродукции с его картин, он написал небольшое эссе «Бессмертие», посвященное ему (см. т. Ill), написал скорее всего после того, как в 1947 году сделал этот перевод (подробнее в т. Ill, с. 529). Ранее биография Хокусая на русский язык не переводилась, но прочитав ее целиком, Толстой перевел только введение и главы 1–5, 19, 21, 26 и 51, которые прослеживают основные вехи биографии художника и останавливаются на главных принципах его жизни и искусства.
Эдмон де Гонкур переводил «Хокусая» в преклонном возрасте. Несмотря на сухой специфичный текст биографии, в его строках проступает любовь и уважением к этому самому почитаемому в мире японскому мастеру.
До этого перевода, вместе со своим младшим братом Жюлем (1830–1870), Эдмон создал ряд сочинений о культуре и искусстве XVIII века, провел исторические исследования. Они издавали периодический «Журнал», в котором находила отражение литературная жизнь Франции. Они создали особый артистический стиль и внесли во французскую литературу экзотичность, пропагандируя японское искусство, любовь к красивым предметам, к изысканному и редкому в искусстве. Блестящие представители натуралистического романа, собиратели документов, Гонкуры занимались в своем творчестве преимущественно психологией писателей, патологическими натурами, истеричной страстью и нервной организацией людей высшей культуры.
С 1902 года на средства, завещанные Эдмоном де Гонкуром, была учреждена престижная Гонкуровская премия.
Перевод текста «Хокусая» на первый взгляд кажется нетрудным, если не считать сразу бросающихся в глаза сложностей японских названий, без которых, конечно, было бы невозможно воссоздать и биографию художника, и тот сложный его образ, который неотделим от традиций его древней страны. Но если вчитаться в текст, понимаешь, как он непрост для переводчиков: при, казалось бы, обычной описательности, при которой порой чисто технически приходилось повторять одинаковые слова и никак нельзя было иначе, надо было так мастерски излагать этот текст, чтобы, читая, можно было воочию представлять себе в красках и объемах те уникальные картины, которые создавал Хокусай и о которых подробно рассказал его биограф, то есть фактически нарисовать их словесно, и потом также фактурно-словесно надо было живописать и тот материал, который использовал художник в своей работе, и его нетрадиционную манеру создания полотен; и еще суметь также словесно изобразить то феерическое жанровое разнообразие сцен японской жизни, которое Хокусай хочет подробно представить с одной стороны на своих фантастических, а с другой — на совершенно реальных картинах.
Пройдя через сложный лабиринт японских «сигнатур», С. Н. Толстой дает читателю возможность приблизиться к лучшему пониманию творчества этого художника, прославившегося на весь мир своим поэтическим осмыслением бытия, создав более тридцати тысяч рисунков и гравюр и более пятисот иллюстраций к книгам.
Не все переведенное С. Н. Толстым за его жизнь сохранилось, что-то на сегодня утрачено. Известно, например, что он переводил Честертона «Человек, который был четвергом» (1908), и не только это его произведение, а также Грэма Грина (в архиве на французском языке пять его книг), английских писателей его поколения. Толстой читал эти переводы в семье. Возможно, он отдавал их в те организации, с которыми сотрудничал: на радио, телевидение, в АПН (редакция Великобритании) и где-то они и теперь существуют.
Фрагментарный перевод первых четырех глав «Цитадели» сохранился в архиве С. Н. Толстого в отпечатанном на машинке виде, сделанный в 60-х годах (на русском языке перевод всей книги появился в 1994 году в издательстве «Согласие», Москва, переводчик Марина Кожевникова), и он логически завершает весь цикл его переводов (а это все-таки цикл), ставя логическую точку не только в них, но и на всем своем собственном творчестве. Этот перевод звучит как заключительной аккорд и к его прозе, и к его поэзии, и к его философским произведениям, а значит и к жизни; это тот итог, который был естественен после огромного багажа, полученного от его отца в детстве, о чем С. Н. Толстой поведал в своей автобиографической повести «Осужденный жить», главном произведении его жизни, таком же, как для Марселя Пруста был роман «В поисках утраченного времени», для Малапарта — «Капут», а для Экзюпери — «Цитадель».
«Истину выкапывают, как колодец. Взгляд человеческий, когда он рассеян, теряет видение Лика Божьего», — писал Антуан де Сент Экзюпери. И его «Цитадель», и «Капут» Малапарта, равно как и произведения Стейнбека и Оруэлла, переведенные С. Н. Толстым (т. IV), продолжают волнующую его всю жизнь религиозно-философскую тему видения мира, его устройства, борьбу в нем добра и зла. «Не убий», не унижай, не разрушай, не повергай мир в хаос, приближая к концу, — вот основная доктрина, на которой строится книга «Капут», в которой речь идет о войне, но и не только о ней.
«Мир не видел более чудовищного зла, чем фашизм», — писал Джордж Оруэлл, хотя, казалось бы, создав свою знаменитую антиутопию «1984», показал не менее чудовищное зло, которое назвал «олигархический коллективизм», хотя речь в нем очевидно шла об утрированном коммунизме. В рецензии на «Майн Кампф» он поставил рядом имена Гитлера и Сталина. Обе возглавляемые ими системы в своей основе попирают человеческое достоинство и они равноценны по своей сути, поэтому их абсолютно справедливо считают «чумой XX века». «Уважение к человеку, — писал Экзюпери, — вот пробный камень. Порядок ради порядка оскопляет человека, отнимает у него важнейший дар — преображать мир».
«Бог сотворил род человеческий от одной крови», — свидетельствовал Апостол Павел. Все люди братья — смысл этого высказывания. Но не только люди, вся природа, все живые существа на земле объединены в одно гармоническое целое, все находятся в одной лодке. Весь мир находится в одной лодке. И реально, и иносказательно такую лодку, как символ жизни и символ смерти, показал Оруэлл в своей антиутопии.
Смерть Христа, его распятие, его кровь, пролитая за людей, — это та внутренняя вселенская религия, которая заложена в существование всего человечества. Слово «капут», — писал Малапарте, — происходит от еврейского «капорот» — «жертвоприношение», буквально оно означает «раздавленный, конченный, искрошенный, потерянный». Зло всегда порождает зло, и на смену ему всегда приходит возмездие. Принцип бумеранга, работающий уже, по крайней мере, два тысячелетия, кровавой нитью проходит через повествование «Капут»: зло наказуемо, и оно рано или поздно возвращается туда, откуда оно пущено, это наказание неотвратимо и это проверено веками.
Тема Распятия возникает в книге постоянно, о чем бы в ней ни шла речь, чего бы ни касались бесконечные разговоры ее главных действующих лиц, одновременно являющихся реальными историческими персонажами, а война, как пишет автор в предисловии к книге, появляется в ней «как фатальность». Рассказ ведется от лица автора, пережившего кошмар Второй Мировой бойни, но пережившего и Первую Мировую войну.
«Курцио Малапарте, — переводил Сергей Николаевич в середине 60-х годов короткую биографическую справку о нем в книге, изданной в Париже на французском языке в 1962 году с итальянского издания Дж. Бертранда «Kaputt», Edition «Denoel», 1946), — родился в 1898 году в Прато, возле Флоренции. В возрасте шестнадцати лет, в 1914 году, когда Италия была еще нейтральной, он бежал из колледжа Чиконьини, где получал классическое образование, пересек пешком границу в Винтмилле и поступил волонтером во французскую армию. Он был ранен в Шампани и награжден Военным крестом с пальмовой ветвью. В 1931 году его книга «Техника военного переворота» («Бернар Грассе», Париж), первая книга против Гитлера, появившаяся в Европе (запрещенная в Италии и в Германии), имела своим следствием осуждение автора на пять лет депортации на остров Липари. В 1941 году он арестован немцами и присужден к четырем месяцам заключения за заметки, которые он посылал в Италию с русского фронта, где он находился в то время в качестве военного корреспондента. Они вышли недавно в одном томе под названием «Волга начинается в Европе» («Дома», Париж, 1948). В 1943 году, в Неаполе, вскоре после высадки союзных войск Объединенных наций, он публикует «Капут» (Изд. «Казелла»). С 1943 по 1945 г., до конца войны, он служит в Итальянском корпусе Освобождения в качестве офицера связи между Высшим командованием Объединенных наций и Дивизионом партизан «Поссента» в боях за освобождение Италии».
Настоящее имя писателя Курт Эрих Зуккерт, сын немца-протестанта и итальянки. В год своей смерти, в 1957 году, он вступил в Коммунистическую партию Италии, как в свое время, не разобравшись, — в Итальянскую фашистскую партию, из которой со скандалом вышел уже в 1931 году, написав книгу, разоблачающую партию Гитлера.
Судьба Зуккерта была не только неординарна, но и исключительно тяжела, виной чему было и время, в котором ему пришлось жить, и те события, которые в него укладывались. Он блестяще учился в колледже, но уйдя на войну еще в юношеском возрасте, познал все ее ужасы и был отравлен не только ее газами, но и самой войной, а Вторая мировая (и всё с теми же немцами) добивала его окончательно.
Псевдоним, который он себе взял, был достаточно оригинален, обусловленный игрой французских слов «bon» (хороший) и «mal» (плохой). Малапарте переводится, как «плохая доля, злосчастье, не судьба». Когда Муссолини спросил его, почему он выбрал себе такой псевдоним, он ответил: «Наполеона звали Бонапарт и он кончил плохо, а я Малапарте и я кончу хорошо».
Он объехал весь мир, и его жадный интерес к жизни никогда не иссякал. Он был писателем, журналистом, сценаристом, режиссером, был в Италии на дипломатической службе. Он долго жил во Франции, очень любил эту страну. Написал тридцать книг («Господин Хамелеон», «Круглый стол», «Женщина, как я» и др.), наиболее выдающимися из которых считаются «Капут» (1943) и «Шкура» (1949). Последняя — о фашистской Италии, о том, как итальянцы проиграли войну и в страну входят союзники-американцы. «Шкура» была запрещена Ватиканом за фразу: «Быть христианином значит быть предателем», хотя ростки этой мысли появились уже в «Капут»: «я раскаивался, что я христианин, я краснел из-за того, что я был христианином». Малапарте всегда интересовался вопросами социального устройства общества, написал две книги о В. И. Ленине. Им были опубликованы публицистические дневники. Самой последней его книгой была «Эти проклятые тосканцы» (1956 г.). За год до смерти он поехал в Китай, где ему была сделана очень сложная операция, спасшая ему жизнь, но не подарившая окончательного выздоровления. Он приехал на родину совершенно больным, лежал в лучших клиниках Рима, но даже находясь в таком плачевном физическом состоянии, он боролся не только за биологическую, но и за свою духовную жизнь, в итоге остановив свой выбор на принципах столь одиозной системы, как коммунистическая, вступив в эту партию, возможно, вкладывая в это понятие что-то другое, по сравнению с тем, что было так позорно безуспешно десятилетиями опробовано в других странах. И его «Капут» — свидетельство тех самых его духовных терзаний.
Эта книга — единственная в своем роде, подобных ей нет. Она необычна всем: оригинальным замыслом, исторической достоверностью, удивительной аллегоричностью, образной гармонизацией всего огромного мира (отсюда и названия ее частей по именам животных — «Лошади», «Крысы», «Собаки, «Северные олени», «Мухи»); необычна своей мистичностью и своей исключительной сложностью композиции. Это воспоминания в воспоминаниях, где техника авторских художественных приемов исключительно нетрадиционна, и достигается полный эффект присутствия читателя там, откуда этот спокойный внешне, но мятущийся внутренне итальянский военный корреспондент ведёт свои репортажи, будь это шведский королевский дворец, старинный польский замок, варшавское еврейское гетто, храм Черной Девы в Ченстохове с ее знаменитой чудотворной иконой, или дом, где появляется привидение.
Событий, имен, историй так много в книге, они так тесно переплетены, что автор, рассказывая, почти захлебывается в них, боясь что-то важное забыть, он распутывает их, словно клубок. Поначалу кажется, что повествование не захватывает, а как-то даже успокаивает, умиротворяет, несколько завораживает своей вялотекучестью, созерцательностью и удивительной поэтичностью прозаического текста, который кажется настраивает на долгое размышление о чем-то высоком. Но вдруг, неожиданно, вопрос: «Правда ли, что немцы совершают ужасные жестокости?» И с этого момента писатель держит своего читателя в таком напряжении, которое не кончается, пока всё то, что Малапарте видел своими глазами, в чём сам участвовал, что пережил за годы войны, всё то, что не давало ему покоя по прошествии времени, он не выложит своему очередному по книге собеседнику. Виденные им жестокости и ужасы не могут не поражать ни персонажей книги, ни ее читателей. И это не праздный эпатажный садизм автора, это жажда правды и справедливости, его абсолютная уверенность в том, что этого нельзя не знать, что это та правда, которая должна стать предостережением для многих поколений. Описывая все в малейших деталях, Малапарте вновь пропускает эти события через свою нервную систему, снова все анализирует, что даётся ему непросто и это чувствуется в повествовании, а иногда такая непреходящая, нестерпимая его боль становится для него совершенно невыносимой в этой сложной внутренней борьбе с самим собой.
Отличительная черта мемуаров вообще — поделиться тем, что наболело, но малапартовский «Капут» — это, наверное, самые трагические мемуары когда-либо написанные об этой войне. Жанр его книги можно определить как документальную философско-психологическую прозу. Возможно, что на сегодня, публикуемая через полстолетия после описываемых событий, книга несколько и запоздала в том смысле, что для молодого современного читателя те многочисленные исторические ее персонажи, которые в 30–40х годах прошлого века были у всего мира на слуху, теперь незнакомы и трудны ему в восприятии, а их достаточно много в книге. Но в смысле вечных вопросов книга уникальна, она всегда будет иметь непроходящую ценность, даже если она несколько и перегружена ушедшими в вечность именами тех людей, которые вершили судьбы мира и Европы в середине прошлого века. Вопросы, поднимаемые здесь, возникали и будут возникать в самые трудные для человечества моменты, а наиболее серьезными для него всегда являются годы войны — такого состояния мира, особенно в XX веке, такого антигуманного способа его переустройства, которое чревато наступлением Апокалипсиса, предсказанного Библией. «Не убий!» — гласит она. Об этом книга.
«Все современное человечество пытается убить Бога… В современном обществе жизнь Бога находится всегда в опасности», это является «составным элементом современной цивилизации… Современное государство питает иллюзию, что оно в состоянии защитить Бога простыми полицейскими методами…», — говорит Малапарте устами своих персонажей. Его произведение — об ответственности сильных мира сего, призванных удерживать мир от всяких катастроф; именно ум, образованность и порядочность верхушки общества должны обеспечивать самосохранение народа, чтобы этот народ не был распят на кресте, как Иисус Христос.
Автор явно сожалеет об ушедших далеких временах истории, когда люди разных сословий были ближе к друг другу, и с появлением опасности они были взаимозависимы, они объединялись перед бедой, они скакали на своих верных конях и вместе отражали удары врагов. У них была одна родина, и поэтому «руки шведского принца так похожи на руки простого татарина» из России, но в век машин эта «родина умирает», и автор «слышит мертвый запах Европы».
Ностальгия по довоенному прошлому культурной Европы, по ее монархическому прошлому — одна из важных тем книги, возникающая на фоне ненависти автора к оккупантам, разрушившим эту мирную ее жизнь, и как противовес — его преклонение перед ее историей, памятниками, ее людьми «того времени», ее искусством, музыкой, природой. Выросшего в прекрасной Италии, с ее античными красотами, Малапарта пронзает боль за осквернение всего этого, и причиной его резких смен настроений в книге служат не только эти разрушения, но и известный «ремарковский «синдром незаживающей душевной травмы, нанесенной неестественным для человека состоянием — войной, когда он не может воспринимать нормально окружающий мир, когда видит все под искореженным ею углом зрения. Малапарта преследуют ужасные ассоциации даже там, где нет и намека на то, что ему кажется. Как человек чувствительный и неравнодушный, он не может абстрагироваться от своих воспоминаний, а отсюда — и чудовищные контрасты в его книге. Его внутренний дискомфорт постоянно вступает в борьбу с окружающим его эстетически прекрасным миром, и он с одинаковым мастерством воспроизводит все эти красоты в параллель с окружающим негативом.
Проезжая в качестве итальянского военного корреспондента по дорогам оккупированных стран — Финляндии, Румынии, России, Молдавии, а также Швеции и Италии, Малапарте желает поделиться своими впечатлениями от красок этих стран, их людей, животных, птиц, этнических особенностей, оказывающих огромное влияние на духовную ауру этих составляющих частей большого мира в тяжелое для него время. Он провозит читателя по уникальным достопримечательностям культурной Европы, с ее древними традициями, и показывает её печальное настоящее: «Ничего отныне более не существовало, кроме мрачной, черной, жестокой, горделивой и безнадежной Германии».
Малапарте не хочет видеть униженного, оккупированного немцами своего любимого Парижа, в котором он долго жил, «прустовского Парижа», «далекого Парижа госпожи Германтской». Он постоянно в книге возвращается к Марселю Прусту (1871–1922), к этому выдающемуся французскому романисту и критику, талант которого имел огромное значение и влияние на писателей всего мира, прозаику, воссоздавшему в романе «В поисках утраченного времени» ушедшее время, тонкие перемены чувств и настроений, изображающему человека как «поток сознания».
И С. Н. Толстой, познакомившись с произведениями Пруста в очень молодом возрасте и задумывая свое большое художественное полотно, тоже основанное на воспоминаниях, мечтал создать его «по размаху адекватное Прусту» («Разговоры с Чертиком». Т. II).
Прустовские Германты (фамилия вымышленная) стали нарицательным именем в изображении аристократии. С юношеских лет в воображении Пруста имя Германтов отождествлялось с миром грез, мечтаний, с идеалом прошлого — гармонического, элегантного, изысканного, — того, что складывалось в многовековой истории и Франции, и Италии, и Германии. И если у Пруста его движение «к Германтам», «по направлению к Германтам», подлинным и реальным, превращается в движение к настоящему, а отсюда — к критическому изображению «света», где «царит пустое тщеславие и властвует мертвый ритуал», то у С. Н. Толстого в повести «Осужденный жить» поставлен памятник его аристократическим предкам, тот, который они действительно заслужили.
Из Пруста Сергей Николаевич перевел лишь небольшой фрагмент, написав на первой странице отпечатанного на машинке текста: «Марсель Пруст (отрывок из романа «Пленница», входящего в эпопею «В поисках утраченного времени», не переводившегося на русский язык»). Время перевода не указано, но известно, что отпечатан он был в 60-х годах.
Его любимый писатель Марсель Пруст родился во Франции, в 1871 году, в маленьком городке, близ Шартра, в семье мелкого буржуа. Его отец Адриен Пруст (1834–1903) был выходцем из старинной провинции Иль-де Франс, где его предки обосновались еще в XVI веке, он был известным врачом в Париже. Дед по матери — Барух Вейль — выходец из Германии, под Парижем он владел фарфоровой фабрикой. Его сыновья были видными финансистами. Среди их родственников был знаменитый Адольф Кремье (1796–1880), один из главарей международного еврейского движения, активный участник Французской революции (свидетелем которой был брат прадеда С. Н. Толстого Яков Николаевич Толстой, посылавший царю донесения об этих ужасных событиях в Париже (подробнее т. V, кн. 2). Семья матери играла в жизни Марселя более заметную роль, чем семья отца. Его счастливое детство проходило в окружении обоих любящих родителей. В основном они жили в Париже, на Елисейских полях, проводя в Иллье только праздники.
Марсель учился в привилегированном учебном заведении вместе с сыном композитора Бизе, сыновьями Альфонса Доде, с будущим поэтом Фернаном Грегом и дружил с ними. На выпускных экзаменах его сочинение было отмечено особо, он получил звание бакалавра. После службы в армии, посещения юридического факультета, школы политических наук он работал в библиотеке. Марсель много читал, посещал выставки, театры, модные литературные и художественные салоны, чему способствовали связи «еврейской части семьи». Это было время, когда аристократические круги перемешивались с буржуа, что в дальнейшем он изобразит в романе «В поисках утраченного времени». Он начинает публиковаться: новеллы, очерки, рецензии, хроникальные заметки. В то время его идеал был: «Жить среди своих близких, среди прекрасной природы, достаточного числа книг, нот и недалеко от театра» (1886 г.) Он выпускает журнал и занимается переводами, в 1896 г. выходит его первая книга с предисловием Анатоля Франса. Он проявляет и политическую активность — в связи с «делом Дрейфуса», присутствует на процессе Золя; много читает, увлекаясь то Жорж Санд и Мюссе, то Бодлером и Виньи, позже открывает для себя Бальзака, Диккенса и Достоевского, любимым драматургом для него становится Расин (которого часто упоминает и Малапарте в «Капут»).
Марсель обожал мать и неудивительно, что сначала смерть отца, а потом и ее (в 1905 г.) производит на него убийственное впечатление, он даже попадает в больницу и целый год проводит в санатории. С этого времени в его жизни все перевернулось, и целью стало создание своей главной книги «В поисках утраченного времени», где он, меняя фамилии и названия мест действий, описал свою семью, свое детство, юность и всю свою жизнь (что в большой степени оказало влияние на С. Н. Толстого, почувствовавшего в его депрессии параллель со своими эмоциями после потери родителей и такое же желание воскресить их и свое детство в автобиографической повести).
Пруст начинает писать свою книгу, опровергая метод влиятельнейшего французского критика Сент-Бёва (1804–1869), но сделав первые наброски, понимает, что она начинает превращаться в роман — со сценами разговоров с матерью, посещением дома Германтов, бесед там о Бальзаке и т. д. Он почти не выходит из дома, иногда идет на выставку, чтобы увиденные там картины его вдохновили, или едет в закрытом такси, наблюдая за окном яблони в цвету. Он редко принимает друзей, почти ничего не ест, работает ночами, в постели, а днем спит, но чтобы шум улицы его не беспокоил, обивает комнаты звукоизолирующим материалом.
К концу 1911 г. появляется первая версия под названием «Поиски», состоящая из трех частей: «Утраченное время», «Под сенью девушек в цвету» и «Обретенное время» (в 1913 она называлась «Перебои чувств»). Когда издатель потребовал сократить рукопись, роман вышел под названием «По направлению к Свану» (в сокращенном виде).
С началом Первой Мировой войны издательство закрылось, и Пруст, продолжая работу, превратил три части в пять: «По направлению к Свану», «Под сенью девушек в цвету», «У Германтов», «Содом и Гоморра», которая распалась на собственно «Содом и Гоморру» в двух частях, «Пленницу» и «Беглянку» и «Обретенное время».
В 1918 году Пруст был уверен, что закончил роман, но дополнял и дополнял его бесконечными вставками. И только одна часть осталась без изменений — «Под сенью девушек в цвету», за которую он в 1919 году получил Гонкуровскую премию.
Не выходя из дома, изматывая себя до предела, Пруст продолжал работу, но его здоровье от ненормального образа жизни все ухудшалось. Осенью 1922 года он простудился и заболел бронхитом, что для него было опасно, имея хроническую астму. Трудясь над новым вариантом «Беглянки», он не выполняет предписаний врачей, бронхит переходит в воспаление легких и 18 ноября он скончался.
В его объемной автобиографической работе «В поисках утраченного времени» дано подробное и точное описание жизни Франции конца XIX века. Он писал там («Обретенное время»): «Настоящий рай — это тот рай, который мы утратили» — фразу, сокровенную для С. Н. Толстого.
Как говорилось выше, имя и образ ушедшего времени, Германтов были использованы Малапартом в «Капут» (но у него было и самостоятельное произведение под названием «Страна Пруста»), первая глава так и называется «В сторону Германта», то есть, повторяя Пруста, — в сторону мирного прошлого Европы, на сегодня как бы нереального, прячущегося «в позолоченной и тепловатой тени этой стороны Германта», где и он, сам автор, и шведский принц Евгений тоже «будто укрывался, появляясь по другую сторону аквариума, похожий… на чудовище морское и священное…»
Ассоциативное мышление автора, присущее и его переводчику (которое ещё раз проявится при переводе фрагмента «Цитадели» Экзюпери), дает возможность С. Н. Толстому прочитать в чужом тексте свое, близкое. Так, когда Малапарте вспоминает старую Польшу 1918–1920 гг., «ощущая себя призраком, поблекшим призраком далеких лет», Сергей Николаевич наверняка, переводя эти строки, ощущает и себя таким же «призраком далеких лет» и слова его перевода: «перед пейзажем лет моей молодости… я был лишь тенью, тревожной и печальной» можно смело отнести к его собственным ощущениям, также как и фразу: «из глубины моей памяти возникали… прелестные тени этих далеких лет, далеких и чистых… я прислушивался к голосам, дорогим голосам, слегка стертым временем…»
В этих сокровенных строках звучат эмоции и мысли самого Толстого, он их так воспринимает и так переводит, ведь речь здесь идет о тех страшных для России годах, когда погибала его семья, когда он сам едва выживал, голодая и бедствуя. Это было время, когда в Польше было совершено покушение на Дзержинского, впоследствии — одной из одиозных фигур новой власти в России, но тогда, на его родине, это покушение воспринималось «никак», и Толстой прекрасно понимал почему, и его перевод это очень хорошо отражает. И сцена на вокзале, с польской дамой «старой закалки», не приспосабливающейся к оккупантам, но демонстрирующей, без всякого страха, свое отношение к немцам, — тоже очень понятна и эмоционально близка переводчику.
Это из той Польши 1919 года, танцевавшей фокстроты, вместе с ее, ставшим «железным» Феликсом, в Россию пришли эти фокстроты, но пришли позже, в 1937 году, когда их вдруг разрешили и даже приветствовали, но под их громкую музыку, несущуюся из окон, чекистам было легче арестовывать наивную молодежь, поверившую в это странное послабление режима. Сергей Николаевич хорошо помнил это время, ведь от этих «фокстротов» едва не пострадала семья Татариновых, с которой он был дружен с детства (подробнее об этом Т. V, кн. 2). И все малапартовские состояния депрессии, пессимизма, мысли о самоубийстве, которые кричат в книге, — всё это Толстой переживал, поэтому очень часто его перевод звучит как произведение собственного сочинения («Скажи мне, кого ты переводишь, — примерно так, кажется, говорила жена Стефана Цвейга Фредерика, — и я скажу тебе, кто ты»).
Все малапартовские воспоминания, все отступления от основного действия, хотя оно само по себе относительно, — это и есть основное действие. События переплетаются и накладываются друг на друга, усложняются и запутываются еще больше, а потом медленно, постепенно проясняются, терзая автора, как терзался Сергей Толстой после полученной в детстве психологической травмы, после которой, как и у Курта, возникало тысяча вопросов, и главный — почему же всё-таки так несправедливо устроен мир, что он приносит столько смертей, столько несчастий людям…
Повествование развивается на грани реального и нереального, книга становится живым существом, с тонким чувствительным обонянием, великолепным вкусом, с изысканным восприятием истинной красоты в старании автора пролить свет на таинственную божественную суть мира. «На вершине горы возвышается большой крест. С перекладины креста свисает распятая лошадь. Она поворачивает голову туда и сюда и потихоньку ржет. Толпа безмолвно рыдает. Жертвоприношение Христа-лошади, трагедия животной голгофы… не может ли она означать смерть всего, что есть в человеке чистого и благородного? Вам не кажется, что этот сон имеет отношение к войне? — Но ведь война — не более чем сон, — отвечает принц Евгений. — Все, что было в Европе тонкого, чистого умирает. Лошадь — это наша родина. Наша родина умирает, наша древняя родина…»
Война как состояние человека, времени, страны было очень понятно и близко переводчику «Капут» а, столкнувшемуся с ней не понаслышке, а пройдя от звонка до звонка в войсках противовоздушной обороны (призванному туда, а не в действующую армию из-за травмы ноги в детстве). Низменную сущность и войны, и фашизма Толстой отобразил в своей великолепной, можно даже сказать изысканной, военной поэзии (Т. II), а переведя книгу Малапарта, как бы восполнил тот прозаический пробел в творчестве, который, видимо, не давал ему покоя и в военные и в послевоенные годы (см. коммент. к т. II). Переводя «Капут», он еще раз убеждался в правильности своего неистово непримиримого отношения к фашистам, которое возникало, когда он шел по кровавому следу отступающего врага по его русской земле и видел зловещие, колеблемые ветром петли виселиц, сожженные дотла деревни, убитых детей и стоящие, как памятники этим жертвам, русские крестьянские печи. Его поэтический образ жестокого коварного, лицемерного, беспощадного фашиста подстать малапартовскому.
Нашел в этой книге переводчик и свою семейную неприязнь к немцам, такую же, как и у Малапарта, хотя автор сам был наполовину немец. Даже немецкие женщины, служащие фюреру, вызывали у Курта отвращение: «Она, вероятно, была красивая женщина, если не принимать в расчет вульгарность ее, чувствительную лишь для глаз, не принадлежащих немцу». На обрисовку мерзостного образа губернаторши оккупированной Варшавы автор не щадит ни таланта, ни страниц в своей книге; тщеславие и лицемерие, вульгарность и ненасытность, претензия и вседозволенность, самолюбование и глупость — вот те черты которые он в ней высвечивает. И в то же время другие женщины, которых достаточно много в его воспоминаниях, будь то принцесса Гогенцоллернов, внучка кайзера Вильгельма Луиза Прусская, или простая румынская девушка, или русские летчицы, погибшие в воздушном бою, или несчастные еврейские заложницы, отданные в немецкий бордель, — все они вызывают у автора уважение, симпатии, а порой и преклонение. Но не щадит он часто и своих соотечественниц, женщин высшего итальянского света времен Муссолини, погрязших в разврате и ничем уже не отличающихся от женщин легкого поведения.
Вопреки внутренней неприязни к немцам, Малапарте, смелый и рискованный человек, часто лично участвует в светских раутах высшего германского генералитета, нередко встречаясь на них со своими давнишними друзьями-дипломатами (с теми, кто тоже рисковал, помогая ему вывезти на родину рукопись «Капут» а) и поднимая в застольных разговорах весьма опасные для собственной жизни темы. Эти его встречи, проходящие в присутствии представителей королевских домов Европы, в великолепных дворцах и замках, за роскошными обедами и ужинами, с многочисленными переменами блюд в такое голодное для миллионов людей время, в описаниях Малапарта могут ассоциироваться с «пиром во время чумы», или с роскошным бокалом какого-нибудь «орефорского» или «богемского» хрусталя, сверкающего безумным блеском, с налитым в него таким же изысканным, как и сам бокал, вином, в котором — и это известно всем присутствующим — есть… маленькая капля яда. («Себя, словно каплю яда, тебе в зрачки перельют», — можно вспомнить строку из перевода С. Н. Толстого «Нищие» Рильке). И это изысканное, но чуть отравленное вино автор заставляет медленно пить всех присутствующих: и его друзей, часто женщин, которые иногда не догадываются о том, что происходит вне этих стен, и его врагов-фашистов, которые прекрасно обо всем уведомлены, именно они создали вокруг этот страшный мир, но считают происходящее правомерным, законным, нормальным явлением; Малапарте заставляет всех до дна испить эту чашу скорбных воспоминаний, стать вместе с ним свидетелем чудовищных преступлений нацистов.
От неминуемого ареста в таком явном вызове фашистам его спасает репутация бесстрашного человека, смело выступившего в антифашистской книге и отсидевшего за это в тюрьме, человека, отбывшего второе наказание за не менее откровенно-правдивые репортажи с Восточного фронта, не импонирующие ни немцам, ни Муссолини (частично они даны в «Капут»); его спасает и его настоящее: смелость, неподкупность, ум, обаяние, аристократизм и дипломатичность. Все эти компоненты складывались для него в охранительную грамоту на этих раутах, куда, несмотря ни на что, его приглашали с удовольствием как острого, интересного, оригинального собеседника, а он заставлял себя принимать их, проводя над собой и моральную и физическую экзекуцию, но только для того, чтобы, участвуя в этих опасных интеллектуальных состязаниях, получить шанс потом поминутно изложить в своей книге иезуитскую идеологию своих врагов, услышав их циничные рассуждения, что «погромы — это нецивилизованный метод, а гетто — цивилизованный», что немцы — «народ культурный и сентиментальный». Но эта «сентиментальность» не мешает им обивать кресла и переплетать книги, используя человеческую кожу; отлавливать, как на охоте, красивых еврейских девушек в Бессарабии и везти их в публичный дом, пропуская в день через каждую по пятьдесят солдат, а через две недели расстреливать «использованных» и привозить новых; не мешает организовать в Бельцах «сверхсекретный дом для педерастов, куда поставлять молодых русских солдат»; не мешает обучать новобранцев СС вырывать глаза у кошек, тренируясь таким образом, чтобы потом именно так убивать евреев, и т. д. и т. д.
С жутким реализмом воссоздавая атмосферу ужаса безвинного убийства, описывает Малапарте ночь еврейского погрома в Яссах, которое «сентиментальными» немцами возведено в норму. Он рассказывает о нечеловеческих условиях существования евреев в варшавском гетто, где он побывал сам, чтобы увидеть все собственными глазами и поведать, с каким мужеством и достоинством уходят оттуда люди на казнь, отдав свою, уже ненужную им одежду остающимся и идя по тридцатиградусному морозу абсолютно раздетыми.
Ему, как журналисту, писателю, гражданину, было необходимо всё видеть самому, чтобы потом говорить об этом в присутствии лицемерных нацистов, которые, всесильные и всемогущие тогда, не могут, не смеют поднять на него руку палача, привыкшего к жертвам; они соблюдают с ним джентльменские правила высшего света, к которому себя причисляют, и Малапарте остается на свободе. Переносит он эти поединки тяжело — и психологически и даже физически, но внешне он всегда спокоен и неуязвим: выдержан, корректен, в меру согласителен, если это не противоречит его принципам; он никогда не теряет своего лица, даже когда ситуация (как в рассказе о цыплятах) становится угрожающей. Его мягкий юмор, его смех, его мгновенная и всегда необычная реакция на высказывания оппонентов позволяют ему балансировать на острие и не оказаться в застенках Гестапо.
Его жизнь и его «Капут» — это подвиг уникального человека, сыгравшего определенную и немалую роль в мировой истории, снискавшему уважение очень многих людей в Европе — от простого крестьянина до представителей монархической элиты. Его опасная «игра в крокет» восхищала даже его врагов, которые вынуждены были считаться с ним даже в условиях режима оккупации, когда человеческая жизнь каждый день висела на волоске и ничего не стоила. Его манера поведения в стане врага давала ему возможность всегда сохранять присутствие духа, выходя из любых сложных ситуаций, фактически вести себя, как опытный разведчик в логове противника — улыбаясь, остря, но слушая и запоминая, чтобы потом рассказать в своей книге.
О подобном своем состоянии писал и С. Н. Толстой: «Я стану смиренным: с улыбкою ясной сумею войти я в жилье палача, Я знаю, как стать мне наивным и страстным, когда соглашаться, когда промолчать» («Поэма без названия»), живя в сталинском, таком же тоталитарном, как и фашистский, режиме, скрывающий свои мысли, свои чувства, свое творчество много десятков лет, постоянно существуя с маской на лице. Он рисковал, когда писал свои произведения не меньше, чем Малапарте свои, и прятал их от режима, как и его итальянский соратник по перу, с той только разницей, что фашистский режим был с помощью русской армии свергнут, и Малапарте в Италии смог опубликовать свою книгу, переведенную на много языков, а С. Н. Толстой, прожив еще тридцать лет после войны, не смог опубликовать ни своих произведений, ни переводов, в том числе и этот (впервые на русском языке «Капут» появился в 90-х годах., в петербургском журнале, в частичном переводе Шапошниковой. Отрывки из книги неоднократно читались на радио «Свобода», возможно в том же переводе).
Малапарте писал: «Я знаю, и это общеизвестно, как трудно в Италии и в значительной части Европы живется людям и как опасна участь писателя» и «только свобода и уважение к культуре могут спасти Италию и Европу». Его фотография на книге «Капут» парижского издания, с которой переводил С. Н. Толстой, очень удачно передает натуру этого человека: именно таким он и должен быть: с одной стороны, неприметной внешности, но с другой — совсем не простой, с умным озабоченным выражением лица, и с этой трубкой, символизирующей все то, о чем он передумал и когда сидел в тюрьме за первую антифашистскую книгу, и когда беседовал с фашистским зверьем, и когда писал «Капут», свою в высшей степени раритетную философскую работу.
В ней он отмечает, что чем дольше продолжается война, тем больше ее инициаторы, привыкшие к убийствам, черствеют, переходя запретную черту. Циничное возведение в норму убийства и унижения людей он развенчивает, рисуя фигуру нового генерал-губернатора Польши Ганса Франка, такого утонченного и рассудительного, музыкального и образованного, такого лояльного и уверенного в своих «гуманных, разумных» действиях по уничтожению населения; такого рафинированного в застольных беседах, но садиста в душе, мгновенно забывающего обо всех своих «добродетелях», когда, войдя в азарт охотника за добычей, он, как в крысу, стреляет в маленького еврейского ребенка.
Фашизм — это унижение, возведенное в норму; не важно кого унижают — человека или животные, или ребенка, который беззащитен, — любое живое существо. Всей своей книгой Малапарте протестует против этого унижения, как протестовал Оруэлл в своем «1984» против такого же унижения личности.
«Капут» изобилует трогательными сценами, в которых фигурируют животные, созданные в мире одним Божеством и вынужденные вместе с миром человека претерпевать все тяготы жизни и военного времени. Автор акцентирует внимание на этой тесной взаимосвязи. Сюжет, когда раненый лось приходит к людям, но к хорошим людям, которые спасают его, трогателен и символичен: «привлеченный запахом жилья, теплым запахом человека, он дотащился до набережной порта, и сейчас лежал на снегу, запыхавшийся, и смотрел на нас своим влажным и глубоким взором». У этих, хороших, людей нет вопроса, что необходимо помочь животному, в отличие от тех, подкованных другими жизненными принципами, для которых нет вопроса, что надо выстрелить во все, что шевелится.
«Не знаю отчего, — писал Малапарте, — но я подумал, что<гусь>, наверное, не был зарезан ножом, согласно старому и доброму обычаю, а расстрелян у стены взводом эсэсовцев. Мне казалось, что я слышу сухую команду «Фейер!» и внезапный треск залпа. Гусь, вероятно, падал, высоко держа голову, глядя прямо в лицо жестоким угнетателям»
Об этой гордой птице Сергей Николаевич писал в эпизоде повести «Осужденный жить», и невольная ассоциация с «его» гусем вызвала повторение той же образной лексической конструкции: «Сколько превосходства и законной гордости мерцало в его темных глазах… Поглядывая на меня, он всякий раз улыбался самодовольной и жестокой улыбкой» (т. 1, с. 431).
А переводя главу «Сумасшедшее ружье», С. Н. Толстой не мог не вспомнить великолепную сцену охоты из «Войны и мира» Л. Н. Толстого, которую ему в детстве много раз читал отец, охоту, на которой отдельные ружейные выстрелы входили в «древний и традиционный порядок вещей, установленный природой», в отличие от тех, от которых сотрясается воздух, лопаются стекла, рушатся дома, от которых умная, «благородной и чистой породы» собака не может понять, что же происходит, и воспринимает их как «анормальные, совершенно бесчеловечные и противные природе»; выстрелы, от которых дети не могут спать ночами, а их родители должны придумывать немыслимые истории о «добрых» летчиках, которые сбрасывают им «игрушки», а совсем не бомбы, и раскидывать купленные заранее игрушки по саду, чтобы после ночных налетов маленькие и наивные дети утром собирали их и уже не боялись следующую ночь, а радовались страшному грохоту ночных бомбардировок.
Страшен рассказ Малапарта о маленьком русском защитнике родины, который, не побоясь стоящего перед ним фашиста, глядя ему смело в глаза, на его вопрос, «какой глаз у него стеклянный», ответил: тот, в котором «есть человеческое выражение», и сцену с «провинившимся» русским десятилетним мальчиком, который напомнил фашисту его собственного сына, оставленного в Германии, автор даже не может закончить, настолько очевиден её ужасный конец. Он изобличает двойной стандарт фашистов даже по отношению к детям: немецкие дети — с одной стороны, все остальные — с другой. Малапарте не боится, находясь на Восточном фронте, бросить фашисту фразу: «Когда вы их всех убьете, когда в России не останется больше собак, тогда русские дети начнут бросаться под ваши танки» («Красные собаки»). Вообще в «Капут» очевидна симпатия Малапарта к русским, он всегда говорит о них с большим сочувствием (в отличие от его беспощадного презрения к немцам, что было недопустимо для союзника из Италии). Он с удовольствием рассказывает о русских сибиряках, отважившихся «в светлую пятницу» рубить елку на Рождество, находясь под прицелом немецких автоматов и уповая на то, что Бог сохранит их; они не потеряли свою генетическую веру в чудо Господне даже после двух десятков лет атеистического режима; и — в противовес — автор дает образец психологии фашиста, переступающего через всякую святость и как всегда стреляющего во все, что движется. Но Бог спасает русских.
С сочувственной гордостью пишет Малапарте и о советских пленных, вынужденных, не посягая на жизнь живых, от голода питаться трупами своих товарищей, и о тихом пленном татарине, с которым ощущает и себя в генетическом родстве: «оба мы были живыми братьями в древнем запахе мертвой кобылы». Ощущает это природное родство с ним и переводчик, и не только потому, что в каждом втором русском, как и в нем самом, течет татарская кровь, но ощущает потому, что все люди выходят из своего прошлого, и лошадь — это естество, как и природа, составная часть мира, одинаково близкая как для тихого татарина, так и для С. Н. Толстого, выросшего в Новинках рядом с лошадьми и другими животными. Но, как и Малапарте, он понимает, что это уходит, и наступает век машин, «война машин», и простые советские люди, выросшие в буме первых пятилеток, создавали эти машины в новом колоссальном промышленном подъеме, и теперь «запах разлагающейся машины» символизирует начало этой «войны машин». И втянутые в войну, ничего не понимающие румынские «бедные крестьяне не знают, что СССР — это машина, что они ведут войну с машинами, с тысячью машин, с миллионами машин». Но это не только искореженная техника, которую Сергей Толстой тоже видел после боев в Подмосковье на дорогах войны, это и мертвые водители этих машин, это те миллионы, которые воевали за свою страну и гибли миллионами, но победили, «А отчего русские, — писал Оруэлл, — с такой яростью сопротивляются немецкому вторжению? Отчасти, видимо, их воодушевляет еще не до конца забытый идеал социалистической утопии, но прежде всего — необходимость защитить Святую Русь, священную землю Отечества». Да, конечно, он прав: и то, и другое, — всё соединяется в едином порыве в защите своей земли от врага; отбрасываются колебания, сомнения, за какую власть воюешь, когда «мечтаньям крылья обрубает меч» и «надо встретить смерть под этою звездой» «и бьется у виска: «Не запятнай души!» («Поэма без названия»).
Тема коммунизма в «Капуте» Малапарта не превалирует, но имеет своё место, она объективна, нередко звучит как аксиома, что «каждый порядочный человек должен пойти на борьбу против Сталина», но всё же на фоне мужества и патриотизма русского солдата и русского народа коммунистическая тема звучит достаточно бледно, если не считать ужасающую историю о русском парашютисте, сидевшем в тюрьме и также интересовавшимся подобными вопросами на теоретическом уровне, но неожиданно жестоко убившем лютеранского пастора только за то, что в беседах с ним тот силой своих аргументов переубедил своего собеседника и тем самым нарушил его устойчивое атеистическое мировоззрение коммуниста, за что и поплатился.
Малапарте, как и С. Н. Толстой своему народу, явно сочувствует людям страны победившего социализма, рядовым труженикам, принявшим этот строй. Автор сочувствует России вообще, побеждавшей сильного внешнего врага всегда, и, он уверен, она победит и в этой войне: «Я думал о солдатах «Войны и мира», русских дорогах, усеянных трупами русских и французов и павшими лошадьми». Те же мысли посещали и С. Н. Толстого, идущего по дорогам воюющей России, где «сто тридцать лет назад… шли к Москве… гвардейцы старые Наполеона», мысли, которые рождали строки:
И враг здесь не один среди чужой зимы Улегся навсегда в промерзлый грунт песчаный, Все в те же старые могильные холмы, Сменив железный крест на русский, деревянный… («Можайское шоссе»)И автор «Капут» а, и его переводчик понимали, что все, что происходит в России, происходит не по вине народа, простых тружеников, которые теперь, получив среднее образование, могут себе позволить между сенокосами почитать «Евгения Онегина». Они наивны, эти люди, их легко можно обмануть, как их обманули в революцию. Об этой их наивности Малапарте рассказывает в сцене, когда немцы, «сортируя пленных», заставляют их читать газетный текст, и расстреливают в итоге тех, кто читал лучше, «логически» рассуждая, что кто образованнее, тот коммунист. А те, не привыкшие к коварству, стараются показать свою образованность, как когда-то в 1905-ом крестьяне пришлым агитаторам свою лояльность, а они заставляли их жечь помещичьи дома, чтобы в итоге, позднее, уничтожив и их хозяев, получить тот строй, от которого эти же крестьяне в первые месяцы войны попадали к немцам в плен тысячами, порой отрекаясь от ненавистного режима. И только инстинкт самосохранения помог русским быстро оправиться от шока, быстро разобраться в сущности фашизма, несмотря на немецкую пропаганду, и броситься защищать свою страну и тот строй, который в ней тогда господствовал.
Мудрый Малапарте, созвучно Оруэллу с его «пролами», писал в «Капут»: «И в других странах Европы, которые вами оккупированы, вы точно так же можете разрушить родину аристократов, родину буржуа, но только не родину рабочего. Мне думается, что в этом весь, или почти весь смысл настоящей войны». Когда приходит беда, то вся нация, независимо от сословий, собирается под свои знамена, и Оруэлл говорит об этом тоже: «Наступает час, когда тебе всё равно, правая твоя страна или левая — неважно. Я понял, что весь мой пацифизм — ерунда, что я не могу быть объективным наблюдателем, что я буду воевать до последней капли крови». И это такая же естественная, генетическая реакция для человека — защита Родины, как естественна защита матерью своего ребенка, как животным — его детеныша, «до последней капли крови», и это естественно. А вот сама война — нет.
Картину войны книга Малапарта дает в совершенно необычном ракурсе. Это взгляд автора как бы изнутри, это психология войны, не войны вообще, а войны именно с немцами. Автор видел «страх» немецкой жестокости, тема этого страха явилась предметом его наблюдений и на первый взгляд парадоксального заключения, что больше всего они боятся «безоружных, беззащитных людей — стариков, женщин, детей». Даже собак на Украине они старались уничтожить всех поголовно, хотя обученных взрывать немецкие танки было не так уж и много. Малапарте видел, как этот страх растет по мере поражения немцев, как «меняется понятие победоносная война на проигранная война» и как меняется их ожесточение по отношению к пленным — лояльное в начале войны и беспощадно жестокое в ее конце.
Этот его вывод был самым страшным приговором заносчивой немецкой нации, держащей в страхе пол-Европы. Автор обнажает не только их моральное убожество, но и физическое, и образ непобедимого немца тает на глазах при ближайшем на него взгляде. Малапарте наблюдал их в сауне, в Финляндии, когда они, сняв свою роскошную, устрашающую, психологически действующую форму, — не только рядовые немецкие офицеры, но и такая грозная фигура, как Гиммлер, — теряют свою магическую силу превосходства над другими людьми. Эти «голые герои», не имея уже без прикрытия такого непобедимого вида, производят впечатление жалкое и омерзительное.
В этих сценах автор становится особенно беспощадным, демонстрируя, что эти нелюди даже не отдают отчет себе в гнусности своих поступков, уверенные, что им все позволено и что они уже хозяева мира. Играя не по правилам и переходя черту, они всегда проигрывают в этой своей жестокой игре без правил, проигрывают не только людям, но и животным, которые, вопреки логике силы, оказываются их «смелыми и благородными противниками», желающими в честной борьбе отстаивать свое право на жизнь, или даже на смерть. Борьба немецкого генерала с лососем — драматическая и одновременно комическая сцена в книге. Над злобствующим генералом смеются финны, смеется природа, смеется рыба, которую он не может победить в честном поединке, и в гневе приказывает выстрелить ей в голову из пистолета, но все равно психологически проигрывает.
И миграция лососей не в ближайшую Норвегию, тоже оккупированную Гитлером, а к Архангельску, к Мурманску, то есть в Россию, как бы символизирует ее победу над Германией. Москва, вставшая на семи холмах, принявшая эстафету после Рима от Константинополя, стала «Третьим Римом», оплотом православия. Именно Москва, Россия выиграла Вторую мировую войну (как выигрывала и Первую, если бы ей не помешали коммунисты во главе с Лениным, заключившим позорный Брестский договор). Именно Россия освободила всю Европу от коричневой чумы и «Первый Рим» — тоже, хотя формально в Италию и входили союзники-американцы.
России помогали Силы Небесные. Ее другом и молитвенником тогда был избран митрополит гор Ливанских — Илия, который молился Божьей Матери три дня и три ночи, без пищи, воды и сна. Она явилась ему в огненном столпе и сказала, что для спасения России должны быть открыты все храмы, монастыри, духовные семинарии и академии, закрытые после революции, что из тюрем и с фронтов должны быть возвращены все священники. Сталин, которому всё это передали через Русскую Православную Церковь, исполнил все предписания, и чудотворная Казанская икона Божьей Матери начала свое шествие по России, и была спасена Москва (которую облетели с иконой на самолете), и немцы на подступах к ней вдруг развернулись и не вошли в город с севера, хотя дорога была практически свободна; когда, обнесенный этой иконой, измученный, но выстоял Ленинград; когда немцев разбили под Сталинградом; а при освобождении Кенигсберга Божия Мать сама появилась в небе, и у немцев стало отказывать оружие. Они падали на колени, понимая, Кто помогает русским…
Все ассоциации Малапарта в «Капуте», как и окружающих его по книге людей, всегда так или иначе касаются судьбы Спасителя, и именно под этим углом зрения он рассказывает обо всех событиях современной истории. Его позиция Божественной основы жизни, Божьей на все воли звучит и в сцене «голгофы оленей»: «Олень — это Христос лапландцев. Осенью стада оленей, побуждаемые и ведомые инстинктом, тайным призывом, преодолевают огромные расстояния, чтобы достичь этих диких голгоф… Послушные и ласковые, олени подставляют шейную вену смертельному лезвию… Они умирают без крика, с патетической безнадежной покорностью… Это было похоже на «Пасху лапландцев», напоминающей жертвоприношение Агнца…»
Немцы и даже их союзники, ассоциируются у автора с животными, он видит по мере приближения конца войны «взгляд животного, таинственный взгляд животного… униженный, безнадежный взгляд оленя». Сравнивает он немца и с волком, «пресытившимся и отдыхающим»… «От позора и кровожадности этой войны даже немецкая жестокость угасала на их лицах. Все они имели на лицах и в глазах прекрасную чудесную снисходительность диких животных. У всех было сосредоточенное и меланхолическое безумие животных. Это ужасное христианское милосердие, которым обладают животные. «Животные — это Христос», — подумал я, и мои губы дрожали, мои руки дрожали»
Свою позицию, что суть мира в его взаимосвязи со всем окружающим и в его Божественном начале и что все подчинено единым законам, Малапарте подтверждает и в своей последней главе — «Мухи», в которой он описывает свое возвращение на родину, в униженную Италию: «Ежегодно новый бич обрушивается на Рим: в один год — это нашествие крыс, в другой — пауков, в третий — тараканов, а с начала войны — это мухи… Если война продлится еще немного, мы все будем съедены мухами… это именно тот конец, которого мы заслуживаем». Автор не скрывает своей горечи и боли, видя свою страну в таком ужасном состоянии, уставший сам от войны, «с запахом человека в поту, человека раненого, человека изголодавшегося, человека мертвого запаха, отравлявшего воздух несчастной Европы»; боль его, которая особенно горько пролилась на последних страницах книги, проходила через всё повествование, когда он много раз задавал себе вопрос, находясь в Европе: «А жива ли еще Италия?» Но то, что он здесь увидел, повергло его в шок: «разбитая, нищая, голодная, обезвоженная страна, с трупами, над которыми роятся тысячи мух», предстала перед его глазами на фоне его прекрасного родного «неаполитанского синего моря».
Мистическое видение происходящего пронизывает книгу: «Может быть, это смешно, но я боюсь мух», — говорит одна из персонажей, — мухи приносят несчастье». «И крыло мухи имеет вес», — говорил когда-то старец отец Аристоклий (который в двадцатых годах благословлял Сергея Толстого и его сестру Веру на их сложную дальнейшую жизнь).
«Час мух», о которых пишет Малапарте, — это тот самый момент истины (el momento la verdad), когда «человек, со шпагой в руке, один, выходит против быка, и в этот момент обнаруживается правда о человеке, стоящем против него; в эти мгновения гордость человеческая и животная теряет цену», они равны, у них равные шансы перед Богом и природой. Побеждает сильный, мужественный, мудрый, добрый, уверенный в победе, главное — нельзя бездействовать, как тогда бездействовала Италия и не бездействовала Россия.
Образность, стоящая в книге Малапарта на грани мистичности, давала ему широкую возможность с одинаковым мастерством описывать не только свою горечь, но и свой восторг в описаниях животных, природы, женщин. Его удивительный замысел, его индивидуальный художественный прием, вызывает у читателя трансформацию его прозы в жанр поэзии, в ощущение музыки его текста, мелодии — то грустной, то веселой. Эту его манеру можно сравнить и с кистью художника, рисующего любые самые сложные картины одинаково талантливо, которые воспринимаются с тем же интересом, будь это мирные, спокойные, прекрасные картины природы, или это картины с апокалиптическим сюжетом, но они нисколько не уступают первым в своем мастерстве изображения.
В его книге — «пейзаж звуков, красок и запахов»: «голос реки» — «сильный, полный, певучий», «расстояние придает голосам эластичную звонкость, слабую и бархатистую»; его небо «перерезано розовым шрамом горизонта», у подсолнечников — «большие черные глаза» и «золотые ресницы», а деревья имею «шевелюру». Трудно сказать, что было написано у автора, что — во французском тексте, и что в итоге появилось у Сергея Николаевича, но результат превысил все ожидания: в многоплановом философском произведении, наряду с серьезнейшими религиозными проблемами, с реальными историческими событиями нарисована удивительно прекрасная картина Божьего мира, во всей полноте и звуков, и красок, и запахов. В ней — все мистически живое, все дышит, как на самом деле и есть в мире. Все повествование проходит, скорее, не через восприятие человека, а — животного, и поэтому оно такое острое, чувствительное, будто в него вмешивается космос.
Бросаются в глаза и свойственные С. Н. Толстому лексические конструкции, использованные им и в собственных произведениях: «медальный профиль лица Бернадотов» — «где в сумрак врезал болью медальный профиль четкий Фальконет» («Перепутья»); «ощущение жизни и ясности до прозрачности»… «до прозрачности ясных шведок» — «Холодной ясности, прозрачности стекла» («О войне»); «холодный снег стучал своими белыми пальцами в переплетах окон» — «Вера, усталым пальнем стукающая по машинке» (из Дневника 12-летнего Сережи Толстого), «стучит костлявым пальцем» («Бессмертие»); «луна, поглощенная провалом черных грозовых туч» — «Под ним блестит луна, И небо черное, без дна, Таким отчаяньем провала, что даже звезды растеряло» («Сон спящей царевны»).
Есть пересечения и с другими его переводами: «худощавое лицо, обтянутое кожей» (Оруэлл «1984», см. коммент. к Т. 4); необычное употребление слова «специальность» славян в значении «присущая», как в Оруэлле «специальность кафе»; «у них нет времени заниматься птицами, у них едва хватает его на то, чтобы заниматься людьми» — «у меня нет времени размышлять о чувствах отдельного человека, у меня хватает забот с толпами людей» (Стейнбек); «с глазами, полузакрытыми под светлыми веками» — такая же фраза — в Стейнбеке, как и «Внезапно воцарилась тишина»: «Внезапно воцарилось большое спокойствие, такая тишина, что Джим (Стейнбек); «поднимали свои бородатые лица… из-под полузакрытых век» (там же), «обшаривающие глубину орбит» — (Оруэлл). Есть пересечения и в поэтических переводах: «Сюртук, уснув, поник полами — /Ночная тишь/ Его пустыми рукавами/ Проходит мышь» (Моргенштерн т. III). («Судорожной пляски с взмахиванием полами и пустыми рукавами» /»Черный монах»/).
И, конечно, присутствует типичная для С. Н. Толстого, иногда архаичная лексика: «винтовку с примкнутым штыком», «изукрашены» (и в «Хокусае») «влечется говорить на эти темы» (слово «панталоны», которое он использовал и в Стейнбеке, и в Оруэлле, и здесь), «совлекать», «восьмериком» а также часто употребляемые им слова и выражения: «шкап», «мало-помалу», «банда», «при помощи», «внезапно», «мебель массивная», «мускулистый торс», «в белесоватом рассвете», «белесоватое брюхо лягушки», «в кисловатом утреннем воздухе», «звуки взлетали в теплом воздухе», «с волосами, сверкающими белизной», «щетка жестких волос», «глаза влажны от слез», а также удивительные художественные образные композиции, из которых практически состоит вся книга: «вяло-голубоватое небо», «следили за своими пленниками блестящими глазами автоматных дул», «затрепетал с ног до головы в горячем алькове своей драгоценной шубы» и т. д. и т. д.
В прозаическом тексте, как в поэзии, отчетливо проявляются все закономерности и правила, присутствующие и в ней и в музыке, с постоянными повторами — рефренами, усиливающими этот поэтический эффект; всё в этом тексте узаконено, всё стоит на своем месте. Некоторые фразы, как эхо, повторяются через много страниц после того, как уже были употреблены, как припев в песне, как мысль, которая была уже однажды высказана, но она продолжает тревожить и снова появляется уже совсем в другом месте книги.
Но даже такой непростой текст, который было под силу переводить очень образованному и культурному человеку, Сергей Николаевич переводил прямо на машинку, и здесь он дается практически в том виде, какой был, не считая изменения пунктуации на современную и очень небольшой технической редактуры.
Последняя глава «Мухи» осталась в архиве С. Н. Толстого в рукописи. Он не отпечатал ее, так как был несколько разочарован концом книги, ожидая большего, по той философской заявке, которая была явно сделана ее началом. Он вообще допереводил ее лишь потому, что речь заходила о публикации и его об этом попросили (как в начале 90-х годов, когда редакторами издательства «Мысль» была прочитана почти вся книга, они были в восторге и им очень хотелось узнать, чем она кончится, нас тоже попросили допечатать главу «Мухи». Но и тогда до публикации дело так и не дошло).
Некоторая слабость финала и неравноценность последней главы всему остальному, видимо, была обусловлена тем, что для самого Малапарта более важным все-таки оказалось изложение фактического материала (хотя и в нем очевидны временные нестыковки), чем выстраивание законченной философской концепции произведения. Когда он писал «Мухи», в Италии начались перемены, в нее входили союзники, и новые события, интересные для него в большой степени еще и потому, что речь шла о его родине, возможно, захлестнули его и родили идею новой книги «Шкура», которую он и осуществил. В главе «Мухи» есть прямое на это указание: «Это был момент, чтобы дорого продать свою шкуру. Теперь ваша шкура ничего не стоит». Сергей Николаевич читал «Шкуру» (она есть в его архиве), но не переводил ее — видимо, она останавливала внимание не на том, что его интересовало. А тот нужный ему финал, в продолжении начатой сложной темы, волновавший его более всего и самый достойный в его понимании, он нашел в переводе нескольких первых глав предсмертной книги Экзюпери «Цитадель».
В последней главе «Мухи» Малапарте говорит о разложившейся верхушке своей страны — «бьюти» дворца Колонна и «дэнди» дворца Чиги, «двора элегантного и безнравственного», утратившего понятия чести, долга и своей ответственности за народ, который они кинули на дно выживания. Он разочарован, но одновременно и счастлив, что, наконец, возвратился на свою истерзанную родину, забыв и жестокую Германию, «страну высшей цивилизации», которая «презирает варварские методы», и Испанию, «симпатизирующую, но не воюющую», и Финляндию, «воюющую, но не симпатизирующую», — всё отошло для него на второй план, когда он, наконец, достиг конца своего долгого путешествия, и слово «кровь» как святое слово, стало ему «портом назначения», «родины». И «чувство надежды, покоя, мира» возникло в нем «при звуке этого слова».
Неожиданно попав в гущу народной массы (оруэлловских «пролов» и стейнбековских безработных) сначала в поезде, потом очутившись с нищими в пещерах, он увидел ту и стейнбековскую, и оруэлловскую, и толстовскую их крепкую внутреннюю основу, и единственно у кого — грязного, уродливого, больного народа — сохранилось утерянное чувство Бога: «в униженной Европе это был единственный город, где кровь человека еще была священной», единственный народ, «для которого слово Кровь еще было словом надежды и спасения», народ «добрый и сочувствующий, который испытывал еще к человеческой крови уважение, стыдливость, любовь и почитание». В этих нищих, которых Малапарте наблюдал в Неаполе, осталось все: и инстинкт самосохранения и продолжения рода (сцена, напоминающая стейнбековскую), и соборность, и иерархия.
Переводя первые главы «Цитадели», Сергей Николаевич как бы естественно продолжил начатую Малапартом тему нищих: «В моей молодости было время, когда я испытывая жалость к нищим, их язвам…». Толстой обращается к этой теме дважды и в своих поэтических переводах: Артюр Рэмбо «Смятенные» и «Нищие» Рильке (т. Ill), но в фрагментарном переводе Экзюпери он продолжил не только ее. Он поставил нужную ему, не поставленную автором «Капута», логическую точку.
«Рубище нищих», — как переводит он Гонкура в «Хокусае», — это государство в государстве, особый мир, со своими законами, иными, возможно тоже уродливыми на исходном уродливом фоне, но законами, которым подчиняются все эти люди, с их повелителями, «царями», такими же уродливыми, как и они сами, а может быть даже более уродливыми, но это их общий выбор. «Гордые и беспощадные, — писал Экзюпери, — они размахивали своими культями, чтобы удерживать свое место в мире».
Но даже в этом неестественном, как кажется, мире всё существует в своеобразной гармонии, существуют правила, как в любой ячейке общества, такие же, как есть у животных и у диких племен. У них всегда есть вожак — самый мудрый или самый сильный, которому все подчиняются. Так устроено Богом. Не только человек, но и животные — существа общественные, которые живут или семьей, или сообществом (ведь известно, что после голода самым страшным для человека является одиночество, хотя, конечно, бывают и исключения). Каждый, рожденный в этот мир, имеет право на существование в нем, чисто биологическое, на продолжение рода, и никто не может диктовать, кто должен жить, а кто должен умереть. Любые дикие племена, аборигены, живущие в пустынях и тропиках, имеют право на ту жизнь, которую вели всегда, и цивилизация, в нашем понимании, конечно, может приходить к ним, но не насилием, не уничтожением, а так, как она приходила на окраины России, которая оставляла эти народности жить в их естественном этносе. Все имеют право, разбросанные по всей планете, на свою жизнь, на свой порядок жизни, но не смерти.
И встретившись с ними на их законной территории проживания, только светлые, смелые люди способны установить с ними дружеский контакт, несмотря на разницу в развитии интеллекта. А они, как дети природы, как животные, интуитивно могут оценить своего пришельца, прилетевшего к ним иногда и с неба, на непонятном железном предмете, как однажды, спасая летчиков из плена, прилетал к ним Антуан де Сент Экзюпери. Его мужество, смелость, очаровательная доброжелательная улыбка подкупала и вызывала уважение даже у вожака племени. По первоначальному замыслу, его «Цитадель» должна была называться «Каид», по имени тунисских и марокканских кочевых племен.
В отличие от Малапарта, он не назвал свою книгу «песня песней». Начав ее в 1936 году и так и не закончив, погибнув в последнем полете, он говорил, что пишет «предсмертную книгу». Он был профессиональным летчиком и в таком качестве участвовал во Второй Мировой войне. И до нее он много раз, летая, спасал людей, совершал подвиги и всегда стремился ввысь, и в прямом и в переносном смысле этого слова. И чем дольше он жил, тем больше ощущал присутствие Бога, и хотел рассказать в своей сокровенной книге о том, к чему пришел в своей необыкновенной жизни.
На его веку, как и у Малапарта и у С. Н. Толстого, присутствовали две войны, и последняя, в которой он участвовал, повлияла на него самым пагубным образом: «Я изменился со времени войны. Я дошел до полного отвращения ко всему, что интересует собственно «меня». Я странным образом заболел почти абсолютно хроническим равнодушием. Я хочу кончить Каида. Вот и все. Это то, на что я обмениваю самого себя. Мне кажется, что теперь это держит меня, как якорь судно. Меня спросят на том свете: что ты сделал со своими талантами, что ты дал людям? Раз меня не убили на войне, я обмениваю себя на что-то другое. Эта вещь появится после моей смерти, потому что я никогда ее не закончу».
Так когда-то в молодости говорил о своей книге «Велимир Хлебников» и Сергей Толстой, что жизни его не хватит на то, чтобы понять до конца творчество этого гениального поэта. Боялся не окончить свой уникальный роман «В поисках утраченного времени» и Марсель Пруст, изматывая себя работой до предела, вопреки здоровью, практически умирая. А когда он скончался, его служанка, выйдя из дома по делам, связанным с его кончиной, была потрясена, остановившись перед витриной книжного магазина и увидев то, что Пруст рассказывал о смерти своего героя и написал об этом в своей книге: «Всю ночь после погребения, ночь с освещенными витринами, его книги, разложенные по три в ряд, будут бодрствовать, как ангелы с распростертыми крыльями и служить для того, кого уже нет в живых, символом воскресения».
Настоящая слава пришла и к Прусту, и к Оруэллу, и приходит к С. Н. Толстому, лишь после их смерти. Оруэлл жил еще полгода после опубликования «1984» и немного застал от успеха книги, но не мог и предположить, что в честь него ЮНЕСКО объявит 1984-й год Годом Оруэлла, как, скорее всего, не догадывался он, написав свою антиутопию, что его фантастические предположения обретут реальность, и на его лондонском доме, рядом с мемориальной доской установят «телескрин» (видеокамеру — но исключительно в положительных! целях), а о его феномене писателя будут говорить и говорить во всем мире и в XXI веке.
Будут говорить и о биографиях этих писателей, которые с удовольствием переводил Сергей Николаевич и которые всегда будут интересны как часть их феномена: как биография художника Хокусая, как книги Экзюпери, как «Капут», который по сути дела тоже биография Малапарта, во всяком случае важная ее часть; также интересна, раскрывая суть автора, и биография самого С. Н. Толстого — «Осужденный жить», его «песня песней».
Все эти произведения и биографии писателей объединены одним космическим временем, которое более продолжительно, и век XVIII, век XIX и век XX соединены в одно целое оставленным ими огромным творческим наследием.
Поэтому даже если С. Н. Толстой переводил очень небольшой отрывок из какого-то произведения писателя, на его биографии всегда следует останавливаться подробно, чтобы понять и самого писателя, и его творчество, и то, почему Сергей Николаевич остановился именно на этом, а не другом фрагменте его произведения.
Так, отрывок из «Пленницы» Марселя Пруста Сергей Николаевич перевел, обнаружив в нем очень верную с философской точки зрения оценку эпизода романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», который выдающийся французский романист посчитал по значимости «первым эпизодом, таинственным, великим и величественным». А тайна эта вновь в посыле «зло порождает зло» или «зло наказуемо», та тайна, которую Сергей Толстой постиг еще в раннем детстве, когда его отец Николай Алексеевич Толстой, переведя «Гамлета», увидел именно в этом посыле главный смысл трагедии Шекспира. «Нищенка у Достоевского», писал Пруст, «слушаясь бессознательного своего материнского инстинкта, со смесью, может быть, злопамятства», явилась «неведомо для себя исполнительницей в руках отмщающей судьбы», как и принц Датский, который по воле потусторонней силы, явившейся к нему в образе тени короля-отца, тоже начал мстить, подчиняясь генетическому родовому инстинкту, и в итоге сам стал жертвой, и это запущенное зло вылилось, как и в романе Достоевского, в многократно увеличенное число трагических исходов.
Пусть отомщения мысль… Я мыслил лишь об этом, — Да не коснется матери твоей! То Гамлет слышит тень? Иль я перед портретом Ловлю в словах отца запрет: «Не смей!» —писал Сергей Николаевич в «Поэме без названия» спустя более двадцати лет после гибели отца (и здесь, в прустовском отрывке, фигурирует фраза «более чем двадцать лет спустя», когда в семье Карамазовых продолжилась серия жертв первоначального зла). «Окружающее, кажется, растет в Смердяковых», — писал он в «Разговорах с Чертиком» в начале 30-х годов.
Но не только Пруст, — Антуан де Сент Экзюпери в своей предсмертной «Цитадели», (как и Стейнбек, как Оруэлл, как Бук и Малапарте), хочет «спасти чудо, сотворенное солнцем, которое неустанно трудилось миллионы лет»: «Все мы люди! Все мы живые! Я им сродни… У меня свои обычаи, у другого — свои, но мы исповедуем одну и ту же веру, веру в Христа, и разве эта, совсем особенная радость — не самый драгоценный плод нашей культуры…»
Он родился в 1900 году, в аристократической семье графа де Сент-Экзюпери; его предки были рыцарями. Отец, страховой агент, умер, когда Антуану было четыре года, и на руках у матери осталось пятеро детей, которые росли в старинном французском замке, на природе, в тесном общении с животными, которых он очень любил. Он обретал здесь незабываемый детский мир покоя, доброты, тишины, тот домашний очаг и незыблемые традиционные устои, о которых, как и С. И. Толстой, он не забудет всю жизнь и напишет об этом в «Цитадели».
Антуан был импульсивным, своенравным, но очень нежным ребенком, страстно привязанным к матери, которая была верующей женщиной, что стало важной основой его воспитания. Она отдала его и брата в иезуитский колледж сначала во Франции, а когда началась война — в Швейцарии, где его воспитывали монахи, которые говорили ему, что «сознание — это голос Бога в человеке», что и формировало его мировоззрение.
Смерть от ревмокардита в 1917 году его любимого брата, с которым он никогда не расставался, как и ранняя смерть отца, оказали на его творчество свое влияние. Наверное, не мог Сергей Николаевич, знакомясь с его биографией, не заметить роковых параллелей со своей судьбой, и даже богоборчество Антуана, спровоцированное смертью брата, напоминало ему его душевное состояние конца 1918 года. И по времени это были почти те же годы. Смерть брата Антуан опишет в «Военном летчике», а в «Цитадели» будет размышлять о смерти ребенка.
Его литературные способности тоже проявлялись рано, но он не осознавал, в отличие от С. Н. Толстого, с детства решившего стать писателем, насколько это было серьезно. Он стремился к военной карьере, пытаясь поступить в военно-морское училище, но не набрав баллов, учился на архитектурном отделении школы искусств, где проходило его дальнейшее духовное созревание, — на Достоевском, Платоне, Ницше. Но страсть к авиации перебивала все. Соорудив в двенадцатилетнем возрасте что-то, подобное дельтаплану (велосипед, ивовые прутья и простыни), и взлетев однажды, он не мог забыть ощущение своего первого полета. Он стал летчиком, и вся его жизнь, с 1922 года, мертвой петлей завязывается на авиации, которая дает ему и литературный стимул: если он не летает, он и не пишет. Совершая многочисленные подвиги в этих полетах, он попадает в аварии, смотрит «в лицо смерти», оказавшись под водой в упавшем самолете, как в воздушном колоколе, снова летает, опять разбивается, лечится и снова летает, описывая произошедшее в книгах: «Южный портовый» (1929), «Ночной полет» (1931), «Военный летчик», «Планета людей» (1939). Первый свой рассказ он написал в 1926 году.
Желая побить рекорд другого летчика, он терпит аварию в Ливийской пустыне и к нему приходит Дева Мария: «Когда я лежал на земле в мои последние часы умирания от жажды в Египте, — пишет он в неизданном письме, — она пришла и села рядом со мной, эта большая спокойная дева. Она утолила мою жажду и вместе с млечным звездным напитком она пролила в меня покой. Я был преисполнен непостижимого счастья и ему не было предела — я не рассчитывал дожить до рассвета… В последние часы она накрыла меня своим огромным бархатным плащом». Он был подобран проходящим мимо караваном. После этого случая Антуан сделал первые наброски «Цитадели».
Через полгода, в 1936 году, он летит в Испанию, где идет гражданская война и гибнут люди. Он пишет серию репортажей, смысл которых: «Я не хочу, чтобы калечили человека». Через год побывав в Германии, он понимает, что война неизбежна и близка, а в 1939-м, снова вернувшись из Германии, в ужасе говорит, что «в мире, где воцарился Гитлер, для меня нет места».
Ему присуждают очередную награду — офицерский крест Почетного легиона, и в мае 1939 — Большую премию Французской академии за роман «Планета людей». Он получает четыре патента за изобретения и предсказывает в скором будущем развитие реактивной авиации.
Когда немцы, в 1940 году, входят в Париж, он эмигрирует в США, где его «Военный летчик» выходит на английском языке, но из-за политической грызни вокруг книги ее запрещают и во Франции и в Германии. В феврале 1943 года выходит его знаменитое «Письмо к заложнику», посвященное его другу Леону Верту, оставшемуся в оккупированной Франции (и ему же посвящен «Маленький принц»), «Главное, — пишет он в этом письме, — чтобы где-то сохранялось все, чем ты жил прежде. И обычаи, и семейные праздники, и дом, полный воспоминаний. Главное жить для того, чтобы возвратиться», но если это потеряно, как случилось в жизни С. Н. Толстого, то налицо человеческая трагедия.
В апреле того же года он снова едет в Северную Африку, чтобы присоединиться к французской армии. «Еду на войну… Это мой долг… Я знаю только один способ быть в ладу с собственной совестью… — не уклоняться от страдания… Я не хочу быть убитым, но с готовностью приму именно такой конец», — писал он жене Консуэло.
И снова, как и в 1938 году, авария при посадке в Алжире, увольнение в запас, потом роковое случайное падение на темной лестнице, перелом позвоночника и подавленное состояние от мучившей травмы. «Я понял благодаря войне, — писал он, — что в один прекрасный день умру. И это понимание не было для меня тем сентиментальным образом, той абстракцией поэта, которую он призывает в печали. Я имею в виду не смерть, которую воображает «усталый жить» шестнадцатилетний мальчик, — я говорю о смерти мужчины. О смерти всерьез. О свершившейся жизни».
В 1943 году, когда капитулирует Италия, он снова продолжает добиваться своего возвращения в авиацию. Он едет в Неаполь, к американскому генералу Икеру, командующему военно-воздушными силами на Средиземноморском фронте, и тот разрешает ему пять полетов. Экзюпери летит и шесть, и восемь. Боясь за него, офицеры-летчики договариваются с командиром эскадрильи, что посвятят его в план высадки союзных войск на юге Франции и лишат таким образом необходимости летать. Раскрытие этого секрета было назначено на 31 июля. Утром в этот день Экзюпери поднимается в воздух для разведки, в область Гренобля и Аннеси, недалеко от тех мест, где прошло его детство, и… не возвращается из полета. В течение пятидесяти лет загадка его гибели оставалась неразгаданной. И только в 2002 году были обнаружены остатки его самолета. «Дай мне приобщиться Твоей славы, — писал он в «Цитадели», когда я усну среди песков пустыни, где я хорошо потрудился»
Жизнь его была мистической и смерть, можно сказать, тоже была мистической. За несколько дней до последнего полета он пишет графине де Вог: «если я вернусь живым, передо мной встанет только одна задача: что сказать людям».
«Сент-Экзюпери не вернулся живым из разведки, — пишет она, — выполнения которой он настойчиво добивался. И своей жертвой он дал самый высокий ответ, который был поставлен перед ним любовью. Призывая людей всегда всем существом отдаваться выполняемому долгу, он в последний раз дал пример жертвенности и веры, пример неразрывного единства духа и тела. Сорока четырех лет исчезнув в глубинах моря, Сент-Экзюпери обрел молчание — гавань кораблей. Молчание Бога — гавань всех кораблей».
«Я буду казаться мертвым, — писал Экзюпери в «Маленьком принце», — но это будет неправда», — и эта фраза стала эпиграфом к его биографии, написанной графиней де Вог под псевдонимом Пьер Шеврие.
Они познакомились с ней в салоне его сестры. Она была замужней женщиной — красивой, высокой, изящной, он тоже был уже женат на южноамериканке, не менее красивой, с черными выразительными глазами, легкой, веселой, остроумной, с морем фантазии, богемным характером, абсолютно неприспособленной к традиционным качествам жены и матери. «У нее день смешивался с ночью, не было никаких правил, устоев, она была утомительна, я больше не могла, — писала о ней дочь А. И. Куприна, — мне нужно было найти землю, воздух, чтобы деревья стояли на месте, а не вниз головой». Но Антуан в разгар их любви был так весел и счастлив, что окончательно решил посвятить себя литературной деятельности. Познакомившись с де Вог, он жалел Консуэло, поддерживал ее материально, но очень скоро они стали жить врозь. Свое духовное наследие он завещал графине де Вог, которая стала его интеллектуальным другом и последней любовью. Она сыграла в его жизни неоценимую роль. Во время войны она в мужской одежде переходила границу в нейтральную Швейцарию и звонила ему в Америку. Она хлопотала, чтобы ему позволили летать и добилась этого. Она приезжала к нему в Алжир, где он читал ей «Цитадель». А после его смерти она написала о нем великолепную книгу, откуда черпают информацию многочисленные исследователи его творчества.
«Его не коснулись страсти, — писала она, — которые губят людей, — тщеславие, любовь к деньгам и собственничество, он сохранял детскую непосредственность и ненасытную любознательность, безумную потребность в ласке, веру в чудо и способности к безграничному страданию. Самый верный портрет Сент-Экса, который он нам оставил, — это малыш, которого он называл Маленьким принцем. В старом пилоте и прославленном писателе жил этот ребенок с немного печальной улыбкой… Никакой другой текст не сможет лучше передать его душевную тонкость, его манеру подходить к другому человеку и даже его шутки… Во всей книжке невидимо присутствует душа Сент-Экса, обволакивающая нас своей грустной лаской»
«Еще совсем юным, — писал о нем Леон Поль, — он уже был истинным аристократом во всех сферах, где это означает гордую осанку, независимость, глубину, мужество и талант. Он был совершенным человеком. Таких мало, но он был таким и со всей естественностью, не стремясь к этому — просто по природному дару. Его лицо было совершенным: в нем сочеталась детская улыбка с серьезностью ученого, простота героизма и безудержная фантазия, красота взгляда и выразительность тела; он был своим в технике, в спорте, в поэзии, в политике, в морали; он был настоящим товарищем и обладал истинным душевным благородством. Пожать ему руку было всегда событием. Вы видели его, вы подходили к нему — и вас переполняли новые мысли и чувства, вы были счастливы… Он всегда был причастен к глубинам, из которых сотворен и продолжает твориться мир. Для тех же, кто читает его книжки в кругу семьи или в студенческой келье, или на фронте, или в одиночестве, — от него на белой странице всегда остается след ангельских крыл, на белой странице наших хрупких жизней, еще недописанных, но уже содрогающихся от возможности познать смерть менее чистую, чем его.
…Он провел с нами на этой планете, исполненной муки и ненависти, от которых он так страдал, короткий отпуск случайно залетевшего к нам гения».
Как Малапарте, как Стейнбек, как Оруэлл, как С. Н. Толстой, Экзюпери чувствовал свою большую ответственность за людей, он грустил в своем «Маленьком принце», преддверии «Цитадели», «из-за планеты, на которой жил», он испытывал «нежность к тем, кого любил, и еще больше — ко всем людям». В «Маленьком принце» он «любит свою розу, свою избранницу, которую приручил и за которую в ответе, — пишет графиня де Вог, — и он хочет вернуться к ней, но чтобы осуществить это странствие, он избирает смерть»: «Ты понимаешь, это очень далеко. Я не могу взять с собой это тело. Оно слишком тяжело…» «Чтобы раствориться в Боге, я должен снять с себя самого себя», — писал он (как и Хокусай в своей последней поэтической фразе, оставленной им в предсмертный час: «О свобода, прекрасная свобода, наступающая, когда мы уходим в поля, согретые летним солнцем, расставаясь с нашим телом!»).
«Он казался мне всегда обнаженным в жизни, как настоящий монах. Он действительно достиг такой внутренней чистоты (я имею в виду не аскетизм), — писал об Экзюпери в статье Пьер Даллоз, — такой степени отрешенности, которые устраняют какие бы то ни было промежуточные преграды между человеком и внешним миром. «Когда познаешь любовь, — не задаешь уже никаких вопросов», — сказал он. Подобная высота чувств, когда не ждешь никакого ответного дара, — подразумевает воспитание сердца и умение молиться. Молитва не требует ответа, потому что она исключает уродства торгашеского обмена».
«Из этого долгого усилия вознесения к недостижимому человек поднимается к наивысшему состоянию: мистического единения своей души с совершенством, к которому он стремится и которое требует одновременно и смирения, и непрекращающейся борьбы, на какие, — пишет графиня де Вог, — способны только героические души, никогда не отказывающиеся от раз поставленной цели, хоть у них и нет надежды на какую-либо иную награду, кроме как в собственно душевном свете. И к этому свету и приходит вождь «Цитадели». В своем высоком одиночестве он ищет Бога, увенчания любви, чтобы в ней черпать силы. И по примеру своего Бога он отдает себя без остатка.
Подобно Ронсару, Сент-Экзюпери ставит знак равенства между любовью и смертью. «Господи, — говорит вождь царства, — сделай мой плащ таким широким, чтобы я мог укрыть им всех». Это тот же образ, которым пользуется Сент-Экзюпери, чтобы выразить собственные чувства перед полнотой любви и созерцанием смерти. Каждым своим словом он стремился раскрыть сознанию человека тот грандиозный размах, которого может достигнуть природа человека, переставшего жить для самого себя. Дожив до зрелых лет, он понял, что не мог ждать от всех людей очистительного героизма своей собственной молодости. И все же он пытался отвратить человека от повседневных мелочей, уча верности пути и радости созидания в бескорыстном спокойствии; он учил человека видеть смысл в самом смиренном труде». Его женщина из «Цитадели», наказанная за нарушение тысячелетнего порядка, страдает, отбывая наказание, но в этом страдании она чувствует Бога и принимает свое просветление, как дар: «Она умоляла, чтобы ей вернули те ее обязанности, которые одни лишь дают возможность существования: тот моток шерсти, чтобы она его расчесала, ту миску, чтобы ее помыть — только ту, этого ребенка, чтобы его убаюкать, именно этого — не другого. Так она кричала, обращаясь к вечности…» «Она уже прошла через это — страдание и страх… эти болезни животных, созданных для смиренного стада. Она постигает истину», — писал он в «Цитадели», вторя Малапарту.
«Я, слуга моего Бога, испытываю стремление к вечности, я презираю все, что изменяется… ибо никогда не смогу украсить храм мой, если ежеминутно буду заново начинать строительство», — перекликается Антуан с С. Н. Толстым в позиции его отца в «Осужденном жить», которой он должен был следовать в жизни и следовал, понимая, что это постулаты, созданные веками: «Жилище человеческое!.. кто разрушил жилище, не владеет больше ничем, кроме кучи камня, кирпича и черепицы… Недостает им того замысла, который их превосходит»
И не звучат ли сегодня, во время перестройки в России, пророческими, поднятыми из небытия слова Экзюпери: «и вот они уже видят в смутном сне, как они восстанавливают дворец… И сами того не зная… — переводит Сергей Толстой, — они оплакивают дворец отца моего, в котором каждый шаг был исполнен смысла». И сегодня, возможно, уже не покажется таким непримиримо-жестким характер его отца Н. А. Толстого, слишком твердыми его монархические и религиозные суждения, после десятков лет гонений, глупостей и преступлений, слишком неоправданными его эмоции. И слова из «Цитадели»: «Меня не трогает, если лягушки квакают о несправедливости», — не кажутся ли они произнесенными им в своем имении Новинки в начале XX века? «Он, который не правил, но давил и оставлял на всем след своей личности, — переводил С. Н. Толстой Экзюпери, — он был таким же весомым, как первая плита закладываемого храма… Это он разъяснил мне смерть и научил, когда я был молод, смело смотреть ей в глаза, ибо сам он никогда не опускал глаз. Мой отец по крови был орлом».
А сцена защиты семьей Толстых ее Новинок в 1905 году, — не подпадает ли под слова: «О, цитадель, жилище мое, я спасу тебя от замысла, построенного на песке, и окружу рожками, чтобы бить тревогу при нашествии варваров!» (и о том же писал Стейнбек). И это не чувство превосходства «руководителя людей», это долг, ответственность и смирение: «Я заточил народ мой в любви моей…» (как Н. А. Толстой «предпочел запереть своих детей до семнадцати лет» в имении, где сам учил и воспитывал их, когда говорил им: «Никогда не перестану быть тем, что я есть, никогда ни за какую похлебку иудейскую не отдам своего первородства, потому что в моем первородстве вижу мою цель и право считать себя в числе сынов моего Бога, сынов, созданных им по своему образу и подобию» («Осужденный жить»); «руководитель — не тот, кто спасает остальных, но тот, кто просит самого его спасти»
Перевод С. Н. Толстым первых четырех глав «Цитадели» — это снова памятник отцу в утверждении всего того, в чём тот был абсолютно уверен, как и Экзюпери, и ничто не могло поколебать его в этой уверенности. Облекая свой низкий ему поклон в стихи, сценарии, повести и даже переводы, С. Н. Толстой до последнего своего дня вспоминал все его принципы и устои, которые должны были держать государство, без которых оно расшатывалось и разрушалось. Так «поступают те, кто думает охватить мыслью имение мое, разделяя его на составные части… И я подумал: как схожи они с тем, кто расчленяет труп… Тогда как мое имение… это родина любви моей. И все обычаи во времени есть то же, что жилище в вечности».
«Я открыл великую истину, — переводит С. Н. Толстой слова Экзюпери в «Цитадели». — Я узнал, что люди живут в домах своих и что смысл вещей для них изменяется соответственно смыслу дома. И что дорога, ячменное поле и откосы холмов различно воспринимаются человеком в зависимости от того, составляют они все вместе поместье или же нет. Ибо вдруг… все эти не связанные между собой предметы, объединяются в нечто единое и овладевают сердцем. А оно обитает в той же Вселенной, в которой осуществляется или нет царство Божие».
Поэтому все ценности, провозглашенные и коммунистами, и социалистами, и фашистами, и демократами — мнимые, они не выдерживают только одной проверки — на Божьи заповеди. «И как ошибаются неверные, которые смеются над нами и полагают своей целью богатства осязаемые, каких не существует в мире. Ибо если они жаждут владеть этим стадом, то из одной лишь гордыни. А радости гордыни сами по себе неосязаемы».
«Если баобаб не распознать вовремя, — писал Экзюпери в «Маленьком принце», — потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями, и если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее в клочки». Книги Оруэлла, Малапарта и Экзюпери — это предостережение, напоминание, что «светильники надо беречь: порыв ветра может погасить их», но «с каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной» и не допускать, чтобы кто-то «погасил их», как собирались персонажи Оруэлла, или чтобы кто-то, додумавшись первым, что они «ничьи», не смог бы «положить их в банк» («Маленький принц»). Застрельщики любых переворотов, — писал Экзюпери в «Письме к заложнику», — какой бы партии они не принадлежали, преследуют не людей (человек сам по себе в их глазах ровно ничего не стоит), — они несут симптомы», — будто отвечает он Джону Стейнбеку на его роман «В сомнительной борьбе», и, тонко чувствуя мир, говорит: «я ненавижу иронию, которая свойственна не человеку, а крабу. Ибо краб говорит нам: «Ваши жертвы в другом месте были иными. Почему же не изменить их впредь?… И его жертвы, которые не умеют более познавать истину, начинают разрушать ее основания… предавая свои традиции, празднуя в честь врага своего…»
Переводя Экзюпери, С. Н. Толстой не мог не поражаться тому, насколько написанное людьми разных стран и разных национальностей (правда, близкой ему социальной группы) близко ему по духу, насколько все то, что они пишут, подходит и к его стране, и к его народу, и даже ему лично. Но с другой стороны, он и не удивлялся этому, поскольку, как и эти писатели, был убежден в том, что «смысл мира» — в его Божественном происхождении, и поэтому весь он должен быть построен по единым непреложным высоким законам, а все остальное — бред, вымысел, издевательство, если не осознанное разрушение. И эти четыре главы «Цитадели» воспринимаются как диалог в вечности, как вечный спор добра со злом, диалог, который С. Н. Толстой всегда вел всем своим творчеством:
«Надо было разрушить эти бесконечные стены, тогда человеку было бы свободнее. И я отвечаю: но дворец может благоприятствовать созданию поэм… Вот отчего я благословляю того, кто от своего певца унаследовал неведомо кем созданную песнь. И… повторяя ее и ошибаясь, добавляет к ней свой сок, свой аромат, свою интонацию…»
«Человек подобен цитадели. Он опрокидывает стены, чтобы обеспечить себе свободу, но сам он не более, чем крепость, обрушенная и отверстая звездам».
Н. И. Толстая СЛОВАРЬ НЕОЛОГИЗМОВ С. Н. ТОЛСТОГО
Словарь составлялся С. Н. Толстым в 60–70-е годы. Судя по авторскому предисловию и по тому, что в Словаре нет неологизмов самого Толстого (хотя они у него несомненно есть, (с. 599), он очевидно хотел предложить Словарь к публикации, для чего перепечатал его и «снабдил индексом новых слов, упорядоченных по авторам». Видимо, публикация не состоялась: то ли автор передумал, то ли Словарь не приняли к изданию — неизвестно. Но после этой перепечатки Сергей Николаевич от руки вписывал в него новые слова, которые в то время попадались ему во время работы, и благодаря этому можно увидеть, что он читал и перечитывал в последние годы жизни: Есенин, Маяковский, конечно Хлебников, Пушкин, Ф. Сологуб, Белый, Замятин, Асеев и даже Ленин (видимо, в связи с работой по Л. Н. Толстому ему попадались бесконечные цитаты из его трудов). В одной из вставок Словаря есть ссылка на журнал с точной датой — 1972 год, что говорит о том, что Словарь был составлен и отпечатан до этого года, а вставки могли быть сделаны в последние пять лет жизни.
Интерес С. Н. Толстого к неологизмам, скорее всего, появился в связи с изучением творчества В. Хлебникова, у которого их особенно много и они неожиданны, исключительно ёмки и закончены, это, как правило, отдельные слова. Со временем Сергей Николаевич так втянулся в эту кропотливую работу, что она показалась ему очень увлекательной и любопытной, и теперь, беря в руки любой текст — поэтический, прозаический, включая политическую публицистику, — он автоматически отмечал в нем авторские неологизмы и выписывал их. В итоге получился уникальный, объемом в 1400 слов, Словарь. Можно заметить в нем довольно много ссылок на литературоведа Л. И. Тимофеева, члена-корреспондента Академии наук, специалиста по теории и истории русского стиха и теории литературы, с которым, как уже говорилось выше, Сергей Николаевич был знаком и наверняка обсуждал многие проблемы Словаря.
О своем подходе к его составлению С. Н. Толстой довольно подробно говорит в предисловии и дает там определение слову «неологизм». В энциклопедическом словаре это определение более развернуто: «1. Это новые слова и выражения, созданные для новых предметов или для выражения новых понятий. К неологизмам относятся заимствования. 2. Это новые слова и выражения, необычность которых ясно ощущается носителями языка». Подход С. Н. Толстого к неологизмам менее формален и более художественен, поэтому к его Словарю нельзя подходить строго научно, хотя наверное именно со строго научной точки зрения этот Словарь — выдающийся труд, который, по выражению чл. — корр. РАН Валентина Павловича Вомперского (ныне покойного), «тянет как минимум на кандидатскую диссертацию». Сергей Николаевич сам говорит в предисловии, что Словарь нельзя мерить общей меркой. В данном случае это авторская работа, его личное, индивидуальное восприятие русского языка, которое дорогого стоит, так как оно высвечивает то необычное сочетание слов, которое и «делает все выражение неологичным». Это словарь, как пишет С. Н. Толстой, «авторских поэтических удач и находок»; «образное значение, — считает он, — по сути своей неологично, хотя нет ни одного неологизма». Главное в этом Словаре, кроме, естественно, довольно внушительного расширения словаря русского языка, отражение в нем мировосприятия самого составителя в видении им этих поэтических удач, при том что требования к этим поэтическим озарениям другого поэта у С. Толстого профессионально завышенные, и поэтому они особенно ценны, а он сам говорит нам о том, как искренне радуется «вместе с автором чудесной поэтической находке».
Словарь С. Н. Толстого, вместе с блестяще написанным предисловием, таким понятным, простым, как всегда доверительным по отношению к своему читателю и исключительно уважительным к нему и в то же время настолько высокохудожественным, что отдельные его фразы можно цитировать, — является широкой иллюстрацией богатства родного и близкого автору русского языка, и вместе с этим в нем звучит его гордость, удивление и восхищение его безграничными возможностями. Словарь показывает и его сложность, и его красоту, и его гармонию, его корни, истоки, берущие начало от древнерусского, церковно-славянского. Автор болеет за то, чтобы удержать всё это и в литературе и в разговорном языке, «не размыть, не задавить словесными «амебами», не затоптать вульгаризмами и неоправданными латинизмами» (эта проблема волновала его давно, о ней он писал еще в 1946 году в главе «Сундучки-рундучки» книги «Велимир Хлебников»), но в тоже время, судя по Словарю, автор совсем не возражает против заимствований слов-терминов, вливающихся в русский язык естественным путем, плавно, не мешая ему дальше развиваться, но оставаясь при этом национальным богатством и национальной принадлежностью.
Автор в словаре цитирует строку поэта П. А. Радимова: «Еще звучит в тебе, природа, широколиственное слово», выделяя слово «широколиственный» как неологизм, но в этом сочетании двух слов кроется такой глубокий смысл, в нем столько граней и оттенков, в нем такое яркое отражение красоты русского, языка, которую с детства так высоко чтил и ценил С. Н. Толстой, что эту поэтическую строку можно поставить эпиграфом ко всему Словарю. И в этом авторском тонком акцентировании внимания, в его выявлении невыявленного и есть то высокое предназначение художника, в данном случае самого С. Н. Толстого, о котором он так много писал в своих работах. И если подходить ненаучно к этому словарю, то это «мир глазами художника», поэзия и литература глазами писателя, его чудный, удивительный мир! И здесь не только его открытия для читателей, которые, читая, если и видели, то не заметили того, что отметил он и в этом словаре пожелал поделиться радостью своего открытия, — в нем и расширение перечня поэтических имен, кому-то неизвестных, и мимоходная характеристика, но характеристика поэта, и философа, и литературоведа, которую он, например, адресует «скромному, и потому мало известному, но настоящему поэту Григорию Петникову». И это мнение настолько авторитетно, что иной любопытный читатель нетерпеливо побежит в библиотеку и, безоговорочно доверяя вкусу такого! критика, спросит там сборник его стихов.
Словарь неологизмов С. В. Толстого — это драгоценная часть его литературного наследия. А что касается научно-формального подхода к этой работе, предъявляемого рецензентом, то, конечно, в нем есть технические недоработки: не везде есть указание источника, есть несколько десятков слов, которые при проверке по двум четырехтомным словарям — Даля и Фасмера пришлось изъять, а к некоторым дать комментарии, но в тексте некоторых источников кое-где остались непонятные слова, ссылки и даже авторские вопросы. Есть названия стихотворений, которых нет в современных изданиях, и т. д. Словарь побывал на рецензии в Институте русского языка (1995–96 гг.), когда мог стоять вопрос о его публикации. К. ф. н. А. В. Андреевская пишет: «Автор словаря поставил перед собой непростую и очень интересную задачу — составить перечень авторских неологизмов, вошедших в русский язык с XVIII по XX век. Авторские неологизмы и ранее попадали в поле зрения исследователей, но эта работа имеет более обширный словник» (подч. сост.). И замечания: «В предисловии оговорены некоторые частные проблемы, связанные с отбором материала для словаря, но принципиальные установки остаются неопределенными. В частности, невозможно работать с неологизмами, не определив такой существенный момент, как соотношение между неологизмом и окказионализмом. Эта проблема — предмет постоянных дискуссий. Принятая автором точка зрения — одна из наиболее популярных, но далеко не единственная, поэтому требует либо более подробной аргументации, либо ссылки на авторитеты…» И еще: «в словнике встречаются слова из словаря Петрашевского, и если они есть, то формально их должно было быть больше или их вовсе не надо было давать». Совершенно верно отмечается, по-видимому, рецензентом, что «одни и те же неологизмы встречаются у разных авторов», но Сергей Николаевич их намеренно дает, вкладывая в это свой, художественный в большой степени, смысл, но рецензент отвечает сухим научным языком: «это образованное по продуктивнейшей словообразовательной модели слово было этими писателями лишь выловлено из живого, языка». И последнее: «Странным представляется и отнесение понятия «неологизма» в сферу литературоведения…»
Со своей сугубо лингвистической точки зрения, наверное, рецензент и права, но если бы она прочитала этот Словарь уже после всего того, что написал Сергей Николаевич в этих пяти томах Собрания его сочинений, этой последней, во всяком случае, фразы она бы не написала — ей все было бы гораздо яснее, да и первое замечание было бы снято — ведь наш автор не лингвист в чисто научном понимании этого слова и тем более не мог участвовать в дискуссиях, которые разворачивались в Институте русского языка по этим проблемам, хотя, как оказывается, он придерживался «одной из наиболее популярных точек зрения» по данному вопросу. А то, что автор относит неологизмы в сферу литературоведения и прямо пишет об этом, — тоже естественно, и сам Словарь неоспоримо доказывает, что неологизмы-выражения — это прерогатива литературы, которая, в свою очередь, неразрывно связана с русским языком (а к нему у автора генетически заложенная любовь), и что это одно неразделимое целое.
Словарь неологизмов — это еще одна интересная для рядового читателя, а для специалистов в особой степени, разновидность сферы деятельности Сергея Николаевича Толстого в филологии. Эта работа воспринимается как последний, заключительный аккорд в его большом обзоре русской литературы XVIII–XX вв., который является гимном русской поэзии, русскому слову, прозвучавшим в его собственном творчестве.
В Словаре приводится масса неологизмов, дающих русскому языку удивительную образность, эти неологизмы-выражения отмечают и показывают настроение автора, его индивидуальность, несочетаемые слова в соединении друг с другом дают глубокий смысл, и С. Н. Толстой демонстрирует, как эти «слова-цитаты характеризуют авторский творческий процесс, психологию, принципы работы над словом». Иногда автору Словаря кажется интересным оригинальное авторское противопоставление — «приник и отник» (слово «отникнуть»), часто его неологизм состоит из нескольких, иногда даже из четырех слов, и именно во всех них четырех заключена та изюминка, которую он увидел и которая открывается именно в таком словесном наборе: «на небе прозелень и месяца осколок» (слово «прозелень»), или в таком: «прижиться к нему, придуматься, приблизиться, пришагаться» (речь идет о слове «пришагаться») и именно оно, последнее, является тем необходимым, завершающим и объединяющем первые три. «Свидетели первых светаний» — слово «светание» было у Даля, но все три слова, по мнению С. Н. Толстого, — поэтическая удача автора. Слово «реберчатый» тоже есть у Даля — оно не неологизм, но «румяный дух реберчатого теса» — это уже ярчайший живой образ, авторский неологизм, тот самый образец богатства великого живого русского языка.
Словарь С. Н. Толстого дает нам возможность посмотреть на поэзию его глазами, воспользоваться его раритетным восприятием, в которое он вкладывал «то высокое уважение к слову как к таковому, которое завещано нам не только Карамзиным и Достоевским, но и всей литературой нашей».
По аналогии со словарем В. И. Даля, перед нами такой же Словарь живого великорусского языка в неологизмах русских поэтов и писателей XVII) — XX вв., и хотя Сергей Николаевич не пытался претендовать на столь высокое звание, как «будущий Даль», но хочет он этого или не хочет, во многом эта его работа есть продолжение далевского словаря. Он создавал его потому, что как поэт понимал, насколько «слово, употребленное один раз, было для поэта необходимо», а появление этого слова на необъятном просторе возможностей русского языка могло быть «подобно ослепительной вспышке», которая озаряет в нашем сознании тонкие и изящные языковые образы, нередко закрытые для нашего восприятия, ускользающие, запрятанные автором в словесную «дебрь», продемонстрировав снова и снова безграничные возможности нашего «могучего», при всей его изящности, русского языка. Поэтому мы смело можем поставить запятую в расхожей фразе, о которой С. Н. Толстой упоминает в своем предисловии, но уже по отношению к нашему талантливому составителю уникального Словаря, таким образом: «Казнить нельзя, помиловать» и думаю, что будем правы…
Д. — сокр. от Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, изд. 1881 г. (второе, дополненное), в 4-х томах.
Ф. — сокр. от Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Перевод с нем. О. Н. Трубачева, под ред. Б. А. Ларина, М., Прогресс, изд. второе, 1986 г.
Адепт — лат. вновь принятый в братство
Амальгама — спуск, соединение, сплав других металлов с ртутью
Антанта — из фр. entente «согласие, соглашение». Союз западных держав и России в I Мировой войне
Баталия — битва. Фасмер с 1704 (через польск., фр. и итал.). Будуар (Даль) — от фр. дамский кабинет, хозяйская светелка, горенка
Влияние — (Фасмер) — калька на польск, франц, восходит к немецк. Influence и лат. influentio
Водород, — калька с лат. hydrogenium
Волить — у Даля волитель, воля как глагол м. б. впервые и в таком сочетании
Впечатление — калька (Фасмер с нем. eindruck, то же, что в свою очередь повторяет фр. Impression
Выелозывать — Ф. (выелозить, калька изъелозить)
Вымчать — Д. — кого-то силою быстро вытащить, увлечь, ухватить, помчать
Выникнуть — Д. — возникать, всплывать, вынырнув показаться
Выфрантить — Д. — выфрантиться, разодеться щеголем
Выхващиваться — Д. выстегать, выхлестать, выглядеть хвощем
Гвоздевый — Д. гвоздевой
Гутор — Д. беседа, болтовня
Дненощно — у Д. — дненошно, дненочно
Дребезга — Д. — дребезги — мн. черепки, осколки
Жарево — Д. — арх зарево, отблеск дальнего пожара
Желвастый — Д. об узловатых, шишковатых растениях
Жесточиться — Д. — жесточить кого, ожесточать, делать жестоким
Земь — Д. — в значении дол. низ, пол
Зерниться — Д. обращать в зерно, зернить
Индевь — Д. — индеветь, иней
Индивидуум — Ф. — от лат individuum (неделимое)
Искреститься — Д— искрестить, накрест, вымарать
Кристаллизация — Ф. — из нем. cristale, франц. cristal, от лат. crystallus
Кричак — Д. — кричанки, ауканье
Кувердиться — у Д. — кувериться — хныкать, пищать
Курнявкать — Д. — курна — черногрудый крупный хорь южной Сибири с кошку, зовут его и дикой кошкой
Материализм — (матерьялизм); Д. — сначала «торговец пряностями и колониальными товарами»; в эпоху Петра I. С филос. знач. взято из франц. matérialiste отрицание всякой духовной силы.
Метаморфоза — Д. — греч. превращение
Мумлить — Д. — чавкать, жевать, как беззубый.
Наморозь — Д. — намороз
Нигилист — Д. — нигилизм — лат. безобразное и безнравственное учение, отвергающее все, что нельзя пощупать Обнеряшиться — и у Д.
Обшмыга — Д. — обшмыгивать, ошмыга, обтертый, бывалый
Ограять — Д. — охулить, осмеять
Окоем — Д. — от окаймлять
Пагрязца — Д. небольшой остаток грязи, мокрая земля
Пациент — у Д.
Перепряжка — Д. — перегон, упряжка, расстояние, перезжаемое в одну упряжку
Потребность — Д. — нужда, надобность, потреба
Притин — Д — грень место к чему-то приурочено, привязано. Притин солнца (арх.), полуденное стояние, высшая точка. У Мандельштама — блаженство
Прогресс — Ф. начиная с Петра, через польск progres или нем. Progress, от лат. progressus (успех).
Прозелень — Д. — бледная зелень, смесь зеленого цвета с другим
Процыганенный — Д. — процыганить, — променять, продать
Развалец — Д. — качка, колыханье, движение из стороны в сторону
Развергнуть — Д. — о куче — раскидывать, разбрасывать, разверзать
Развитие — ф. — калька с нем. Entwicklung — то же, кот. в свою очередь калькирует лат. evolutio или франц. developpememt то же
Распостелиться — Д. — распостелить постель; свадебн. — убрать и постлать постель молодых
Рассеянность — (рассеянный Ф.). — калькирует нем restreut — то же, кот. объединяет аналогичн. образом из франц. distrait
Склаб — Д. — склабиться, ухмыляться
Собственность — Ф. — собственность — производное от др. — русск. собьство
Сопутствие — есть и у Д.
Состольник — Д. — собутыльник, а здесь оба слова в сочетании
Стрекало — Д. — острие, жало
Субъективный — и у Д.
Существо — Ф. — заимств. из церковно-слав. от слова суть (др. — русск.).
Талантливый — и у Даля
Тенетить — у Д. — тенетить зайцев, ловить в тенета
Тиниться — от слова «тина»
Трогательно — ф. — по-видимому калька с франц. touchaut
Феодальный — Ф. — из франц. féodal то же от ср. лат. feodalis
Центр — Ф. — в 17 в. через франц. Centre
АГНИВЦЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1888–1932) — поэт, драматург, детский писатель; из дворян. Сб. стихотв. «Блистательный Петербург» — ироничная ностальгия по «вечно-звонкому» Петербургу. В 1921 г. уехал за границу. Выпустил сб. «Мои песенки», «Пьесы». В 1923 г. вернулся в Сов. Россию, сотрудничал в сатирич. журналах, писал для эстрады и цирка, издал более 20 детских книг.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (1854–1926) — историк литературы, сын священника. Оконч. Пензенскую духовную семинарию, затем ист. — филологич. фак. Казанского университета. Известность в научном мире принес фундаментальный труд «К изучению древнерусской литературы. Творения отцов церкви в др. — русск. письменности». СПб. 1888 г. 1889 — председатель Казанского общества любителей отеч. словесности. Сотрудник журналов «Пантеон литературы» (1888–1895), «Русский филологич. вестник» (1879–1917). Педагог. Разработал курс истории рус. лит-ры от древности до серед. 18 в., Занимался творч. В. А. Жуковского, Пушкина, Аксакова, Короленко и др.
БАХТИН МИХАИЛ МИХАИЛОВИЧ (1895–1975) — сов. литературовед, теоретик искусства. Исследовал полифоническую форму романа «Проблемы поэтики Достоевского», 4 изд. 1979, и народную «смеховую» культуру средневековья («Творчество Франсуа Рабле», 1965, серия статей «Вопросы литературы и эстетики» (1975 г.).
БЕЛИНСКИЙ ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ (1811–1848) — рус. лит. критик, публицист, рев. демократ, философ.
БЕНЕДИКТОВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1807–1883) — русский поэт, член Петерб. АН (1855). Лирич. стихи в романтич. духе. Сб. «Стихотворения», 1835 г.
БОКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, 1914 г. р. — русский, сов. поэт. В творчестве разрабатывает фольклорные традиции.
БУЛГАРИН ФАДДЕЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ (1789–1859) — рус. журналист, писатель. Издавал газету «Северная пчела» (1825–1859, совместно с Н. И. Гречем с 1831 г.), журнал «Сын отечества» — то же, автор псевдоисторич. романов.
ГНЕДИЧ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (1784–1833) русск. Поэт, чл. Петерб. АН (1826). Переводил Ф. Шиллера, Вольтера, Шекспира. В 1829 г. опубликовал перевод «Илиады» Гомера. Сб. «Стихотворения», 1832 г.
ГОРЯНСКИЙ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ (наст. фам. Иванов, 1888–1949 Париж — поэт-сатирик, крестник писателя И. Л. Леонтьева. В творч. ориентация на городской и деревенский фольклор, стилизация игровых, хороводных, любовных песен. Приветствовал свержение самодержания, в 1918 печатался в «Красной газете», в 1920 эмигрировал в Турцию, жил в Югославии, потом Париже. Тосковал по родине, чувствовал себя чужим в эмиграции.
ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ (1784–1839) — поэт, прозаик, военный.
ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1801–1872). — русский писатель, лексикограф, этнограф, ч-к. Петерб. АН (1838). Очерки (30–40 гг.), «Пословицы русского народа» (1861–1862) Словарь 1863–1866 гг. Т. 1–4.
ДМИТРИЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1760–1837) — русский поэт. Представитель сентиментализма. Элегии, сатиры, песни в подражании народным, басни, баллады. Записки «Взгляд на мою жизнь» (опубл. в 1866 г.).
ЖЕМЧУЖНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1821–1908) — поэт, публицист. Брат Александра М. и В. М. Жемчужниковых, двоюродный брат А. К. Толстого, племянник А. Погорельского, почетный академик ПАН.
ЗАГОСКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1789–1852) — ист. романист, прозаик, комедиограф. Самый известный роман «Юрий Милославский или Русские в 1612 году».
ЗАМЯТИН ЕВГЕНИИ ИВАНОВИЧ (1884–1937) — русский писатель. Гротескно-сатирич. изображение провинц. мещанства, буржуазной цивилизации (повесть «Уездное», 1913, «Островитяне», 1918 г.). «На куличках» (1914) — повесть о попрании человеч. достоинства в армии. Роман-антиутопия «Мы» (опубликован за рубежом в 1924 г., на родине — только в 1988, в годы перестройки) — гротескное изображение тоталитарного режима. Сказки-притчи. С 1932 года жил за границей.
ИНБЕР ВЕРА МИХАЙЛОВНА (1890–1972) — рус. сов. поэтесса. Стихи, поэмы, произв. для детей.
ИСАКОВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1900–1973) — рус. сов. поэт. На его стихи написаны песни «Катюша» «Огонек» и др. Автобиография. книга. Гос. премия 1943, 1949 г.
КАНТЕМИР АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ (1708–1744) — князь, русский поэт, дипломат. Просветитель-рационалист, один из основоположников русского классицизма в жанре стихотв. сатиры.
КИРСАНОВ СЕМЕН ИСААКОВИЧ (1906–1972) — рус. сов. поэт. Поэмы публицистич., лирич., социально-философского характера. Гос. премия СССР, 1951 г. Лирика.
КЛЮЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1887–1937) — русский поэт. Поэзия крестьянской патриархальности, религ. мотивы, пристрастие к архаике, мистич. символика, фольклоризм. Сб. «Сосен перезвон», 1912 г., «Песнослов» (кн. 1–2, 1919 г.), «Изба и поле» (1928), поэма «Погорельщина» (опубликован только в 1987 г.). Необоснованно репрессирован. Расстрелян. Реабилитирован.
КУКОЛЬНИК НЕСТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1809–1868) — русский писатель. Повести, рассказы, история, драма и др.
ЛЕОНТЬЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1831–1931) — русский писатель, публицист, лит. критик, поздний славянофил. Проповедовал монархизм, церковность, сословную иерархию — «византизм» и союз России со странами востока как охранительное средство от рев. потрясений. Повести, лит-критич. этюды о Л. Толстом, И. С. Тургеневе, Ф. М. Достоевском.
ЛИДИН ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ (1894–1979) — русский сов. писатель. Роман «Великий или Тихий», 1933 г. (о строительстве соц. на Дальнем Востоке), «Две жизни» (1950 г.). Сб. лирич. рассказов «Норд», 1925 г. «Отражение звезд» (1978), Воспоминания.
МЕЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1822–1862) — русский поэт и драматург, история, драма «Царская невеста», 1849, «Псковитянка» (1849–1859), на основе которых были созданы оперы Н. А. Римского-Корсакова. Лирич. стихи, переводы.
НАБОКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1899–1977) — русский писатель, эмигрант. Сын одного из лидеров кадетской партии В. Д. Набокова. В 1919 году уехал из России, с 1940 г. — в США. Писал на русском и английском языках. Новеллы, лирика, мемуары, переводы, эссеистика.
ОГАРЕВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ (1813–1877) — русский революционер, поэт, публицист. С 1856 г. — эмигрант, соредактор «Колокола». Романтич. лирика, поэмы.
ПАНАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1812–1862) — русский писатель и журналист. Повести, сатирич. очерки, лит. воспоминания. Работал с Н. А. Некрасовым в журнале «Современник».
ПЕТРАШЕВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1821–1866) — (Буташевич-Петрашевский) — публицист, социалист-утопист, отличался радикальными взглядами. В 1845 году заменил Вл. Н. Майкова в редактировании и составлении «Карманного словаря иностранных слов», вошедших в состав русского языка и был почти полностью им написан. Организовал в 1845 году кружок, в кот. изучались и пропагандировались социалистические учения, куда входили известные писатели Салтыков-Щедрин, Майков, Достоевский, Данилевский и др. (в разное время). Эти идеи оказали на них серьезное воздействие.
ПИЛЬНЯК (НАСТ. ФАМ. ВОГАУ) БОРИС АНДРЕЕВИЧ (1894–1941) — рус. сов. писатель. Изображение, подчас натуралистическое, быта рев. эпохи «Повесть непогашенной луны», «Голый год», сб. рассказов, роман. Репрессирован. Посмертно реабилитирован.
ПОЛЕТАЕВ НИКОЛАЙ ГУРЬЕВИЧ (1872–1930) — депутат III Гос. Думы, участник трех революций.
ПОЛОЦКИЙ СИМЕОН (в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович (1629–1680) — белорусский и русский обществ, и церковн. деятель, писатель, проповедник, поэт. Полемизировал с деятелями раскола. Наставник царских детей. Организовал в Кремле типографию. Один из зачинателей русской силлабич. поэзии (сб. «Вертоград многоцветный», 1678 г., «Рифмологион», (1678–80) и драматургии.
ПОСОШКОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ (1652–1726) — русский экономист и публицист. Сторонник преобразований Петра I, выступал за развитие промышленности и торговли, предлагал усилить исследование месторождений полезных ископаемых. Основной труд — «Книга о скудости и богатстве». (1724 г»), изд. 1842 г.
РАДИМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1887–1967) — русский сов. поэт, художник-пейзажист. Член товарищества передвижников с 1914 г. Поэзия русской природы, сельского быта (сб. Земное», 1927 г., Столбовая дорога. (1959).
РАСТОПЧИНА графиня, урожд. Евдокия Петровна Сушкова (1811–1858) одна из первых русских поэтесс; прозаик, драматург.
РЕРИХ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1874–1947) — рус. живописец и театральный художник, археолог, писатель. С 1920 г. жил в Индии.
СЕЛЬВИНСКИЙ ИЛЬЯ (КАРЛ) ЛЬВОВИЧ (1899–1968) — русский, сов. поэт. Поэмы, стихи, роман в стихах, ист. трагедии в стихах, «Студия стиха», 1962 г.
СМОТРИЦКИЙ МЕЛЕТИЙ ГЕРАСИМОВИЧ (ок. 1578–1633) — ученый-филолог. Обществ, деятель Юго-Зап. Руси. Был полоцким архиепископом. В 1618 г. издал грамматику церковно-славянского языка («Грамматики словенския правильное синтагма…» с краткими сведениями по риторике и пиитике, в которой впервые осветил многие факты книжного церковно-славянского языка и установил грамматическую терминологию.
СОЛЖЕНИЦЫН АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ, р. 1918 г. — выдающийся русский писатель. Повести, исторические романы: «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «Архипелаг Гулаг» и др. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 г. В 1974 г. был выслан из СССР, жил в США, в годы перестройки вернулся на родину. Публицистика: «Красное колесо», «Двести лет вместе» и др. Словарь неологизмов.
СОЛЛОГУБ ФЕДОР КУЗЬМИЧ (1863–1927) — русский писатель, поэт, переводчик.
СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1730–1800 гг.) — выдающийся русский полководец, граф Рымникский (1789), князь Италийский (1799), генералиссимус. Не проиграл ни одного сражения. Автор военно-теоретич. работ «Полковое учреждение», «Наука побеждать». Создал оригинальную и передовую для своего времени систему взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания и обучения войск.
СУМАРОКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1717–1777) — русский писатель, один из видных представителей классицизма. В трагедиях «Хорев», 1747, «Синав и Трувор», 1750 г. ставил проблемы гражданского долга. Комедии, басни, лирич. песни.
ТРЕТЬЯКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1892–1939) — рус. сов. писатель. Агитац. стихи, очерки на сов. и заруб, темы, пьесы. Один из теоретиков ЛЕФа. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.
ФОФАНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ (1862–1911) — русский поэт. В поэзии уход от мрачной социальной действительности в иллюзорный мир, характерный для декаданса, сочетался с реалистич. мотивами. Поэмы «Волки», 1889, «Весенняя поэма». 1892.
ЩЕРБИНА НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1821–1869) — русский поэт, стихи на античные темы — культ радости, красоты (сб. «Греческие стихотворения», 1850). Сатирические стихи.
ЮГОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ (1902–1979) — русский, сов. писатель. Роман из жизни Руси 13 в. «Ратоборцы», кн. 1–2, 1949. Историч. — рев. роман-дилогия «Страшный суд» (Шатровы), 1971; перевод «Слова о полку Игореве», 1943. Работы о русском языке.
ПЕТНИКОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1894–1971) — поэт, переводчик, издатель. Отец — дворянин, поручик, служил в Уланском полку, мать — полька, дочь полкового врача. Учился в харьковской гимназии, в последних классах писал стихи, переводил с немецкого и французского. Поступил на слав. — рус. отд. филол. фак Москв. ун-та. С 5-го класса школы был другом Б. П. Гордеева (псевд. Божидар). Окончил юридический фак. Харьковского университета. Сблизился с Хлебниковым и стал его издателем (1916.) и одним из первых членов утопического правительства «Председателей Земного Шара». С 1918 г. работал в Совете искусств Наркомпроса. Пошел добровольцем в Красную Армию, был инструктором политотдела. 1925–31 гг. жил в Ленинграде, работал в издательстве «Akademia», печатал стихи, переводы. С 1934 г. — перелом: в своих произведениях стремится к ясности, простоте, традиционным формам стиха. В 1935 г. — кн. «Запад и восток» с переводами произведений европейских, африканских, китайских, японских, корейских поэтов, сказок братьев Гримм (1937, полное 1949), «Мифы Эллады» (1941). В 1937–1958 жил в Малоярославце. В годы войны работал на Сев. Кавказе, выступал на радио, занимался лит-ред. работой. В 1958 переехал в Старый Крым. Сб. «заветная книга» (1961), «Открытые страницы» (1963), «Утренний свет» (1967), «Лирика» (1969), «Пусть трудятся стихи» (посмертно в 1972 г.).
НЕОЛОГИЗМЫ С. Н. ТОЛСТОГО (составитель Н. И. Толстая)
АВТОМОБИЛЬИ — «от пыли фыркают автомобильи морды…» («Сонет»).
АКАЦИЙНАЯ аллея («Осужденный жить»).
БАРИТОНАЛЬНО-УСПОКОИТЕЛЬНОЕ («Осужденный жить»).
БЕЗГУБЫЙ — «мертвой книги безгубый рот…» («Запад»).
БЕЛОПЛАМЕННЫЙ — «как белопламенная звездная река…» («От глаз укрыты ночью, шепчут травы…»).
БЕЗРОПОТНО-КРОТКОЕ создание («Осужденный жить»).
БУЛЬБОЧКИ с краком замыкают его на место («Осужденный жить»).
БУРОВАТО-ЖЕЛТЫЙ дымок.
БЕЗНАДЕЖНО-БЕЗДЫХАННЫЙ («Черный монах»).
БЛУДОСЛОВИЕ («Осужденный жить»).
ВЗЛЯГИВАТЬ — «на веревке… надувались ветром и непристойно взлягивали чьи-то кальсоны…» («Начало повести»).
ВЗМЫСЛИТЬ — «все нутро густо взмыслено…» («Черный монах»).
ВЕЛИКОСВЕТСКИ-КАЗАРМЕННЫЙ жаргон («Осужденный жить»).
ВЕЧЕРЕЮЩИЙ — «в вечереющих косых лучах…» («Осужденный жить»).
ВЬЯВЬ — «нестерпимый вьявь восточный миф…» («Я студент из Ляо-Чжая…»).
ГЛАДКОПИСЬ Левика («О поэтическом переводе»).
ГЛЯНЦЕВОПЕРЫЙ — «раскормленный глянцевопёрый… мутноглазый тевтонский орел» («абвгд абвгд»).
ГОЛУБОВАТО-СИЗЫЕ возвышенности («Осужденный жить»).
ГРУСТНО-МЯГКИЙ взгляд писателя (о Чехове) («Черный монах»).
ГРЯЗНОВАТО-БЛЕКЛЫЕ тона («Осужденный жить»).
ГРЯЗНОВАТО-СЕРЕБРИСТЫЕ по цвету волосы («Осужденный жить»).
ДВУХТЫСЯЧЕВЕРСТНЫЙ — «двухтысячеверстным фронтом на нас оскалился Гитлер…» («О войне»).
ДЕЛАННО-ДОБРОДУШНАЯ ирония («Осужденный жить»).
ДОБРОПОРЯДНОЕ зло («Жили-были старик со старухой…»).
ДОБРОСОВЕСТНО-КРИТИЧЕСКИЙ подход («Золотое руно»).
ДЫМЧАТО-МОРОЗНЫЙ — «у дымчато-морозных тополей…»(«О войне»).
ДЫМЧАТО-СТЕКЛЯНИСТЫЙ — «дымчато-стеклянистого цвета…» («Пломбируйте Ваши зубы»).
ЕЛОВОБОРОДЫЙ — «еловобородый мороз все злее…» («Маленькая симфония»).
ЖЕЛТОЗУБОЕ пламя («Запад»).
ЖЕЛТОВАТО-ЛУННЫЙ — «где в желтовато-лунных струйках света…» («При луне»).
ЖЕЛТОВАТО-ПЕПЕЛЬНАЯ кожа («Бессмертие»).
ЖЕМЧУЖНО-ПЕРЛАМУТРОВЫЕ крылья («Осужденный жить»).
ЖИДКОВОЛОСЫЙ («Гордая душа»).
ЗАГАДОЧНО-СУМБУРНЫЙ («Велимир Хлебников»).
ЗАПЕРЕСТРАХОВАВШИЙСЯ литературовед («Велимир Хлебников»).
ЗАПУЗЫРИВЩАЯСЯ земля («Осужденный жить»).
ЗАТЫРКАННЫЙ — «морально затырканный» («Осужденный жить»).
ЗАФЛАЖЕННЫЙ — «как волк зафлаженный ползет к своей берлоге…» («Овраг»).
ЗЕЛЕНО-АКВАМАРИНОВАЯ волна («Осужденный жить»).
ЗОЛОТОЩЕКИЙ — «в лицах золотощеких амуров».
ИЗГОРБИВШИЙСЯ — «Москва изгорбившимися мостами» («Разговоры с Чертиком»).
ИЗЖЕЛТА-ЗЕЛЕНОВАТОЕ поле («Осужденный жить»).
ИЗУЗОРЕННЫЙ — «изузорены морозными пальцами» («Осужденный жить»).
ИРОНИЧЕСКИ-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ тон («Осужденный жить»).
КЛАЦАТЬ — «клацают дружные взмахи клинков» («О войне»).
КАРТОФЕЛЕОБРАЗНЫЙ — «с красным картофелеобразным носом» («Осужденный жить»).
КРАК — «бульбочки с краком замыкают его на место» («Осужденный жить»).
КУСТОДИЕВСКО-МАСЛЕНИЧНАЯ — «на этой кустодиевско-масляничной глазунье» («Золотое руно»).
ЛАСКОВО-МЯГКИЙ Ваня («Осужденный жить»).
ЛИСТВЕННО-ДРЕВЕСНОЕ окаймление (осужденный жить»).
ЛОПАТКООБРАЗНЫЙ клюв («Осужденный жить»).
ЛУЧЕОБРАЗНО-МОРЩИНИСТЫЙ — «горячим какао с коричневой лучеобразно-морщинистой пеночкой…» («Осужденный жить»).
МАЛОУДАВШИЙСЯ («Бессмертие»).
МАЛОУДАЧНЫЙ («Велимир Хлебников»).
МОЛЧАЛИВО-НЕОДОБРИТЕЛЬНОЕ отношение («Осужденный жить»).
МУТНО-СТЕКЛЯНИСТЫЙ — «в зеленоватой мутно-стеклянистой воде» («Осужденный жить»).
МУЧНО-МОЛОЧНЫЙ соус («Осужденный жить»).
МЫСЛЕСМЕШЕНИЕ («Осужденный жить»).
НАУЧНООБРАЗНЫЙ — «научнообразная точность» («О самом главном»).
НАХОЗЯЕВАТЬ («Осужденный жить»).
НЕИСПЛАКАННЫМ горем («Оголенные сучья…»).
НЕОДЕТОСТЬ — «не терплю неодетость взрослых…» («Осужденный жить»).
НЕОПЕРТОСТЬ на устои («О Достоевском»).
НЕОСЯЗАЕМО-НЕУБЕДИТЕЛЬНО («Осужденный жить»).
НЕОТРАЗИМО-ЗАГАДОЧНЫЙ («Осужденный жить»).
НЕПРЕДСТАВИМО-УЖАСНОЕ («Осужденный жить»).
НЕТВЕРЕЗЫЙ ветер («Маленькая симфония»).
НЕУДОБОПРОИЗНОСИМОСТЬ («О поэтическом переводе»)..
НИКЧЕМУШНЫЙ — «всплывает никчемушной деталью» («Осужденный жить»).
НОНШАЛАНТНЫЙ — ноншалантная манера (от франц. nonchalamment — небрежность).
ОБМОЗОЛЕННЫЙ — «обмозоленные сухие пальцы» («Осужденный жить»).
ОДЕРНОВЫВАТЬ сверху («Осужденный жить»).
ОДЕЯЛЬНЫЙ — «в одеяльной густой темноте» («Осужденный жить»).
ОЖИДАННЫЙ — «этот запах, такой ожиданный и, вместе, внезапный…» («Осужденный жить»).
ОЛОВОГЛАЗЫЙ — «оловоглазый рыжешерстный сброд под свист толпы охрана гонит строем…» («Немцы в Москве»).
ОНЕМЕНИТЬСЯ (сделаться немцем) — «Эссе — воспоминания».
ОТГРАНИЧИВАТЬСЯ («Осужденный жить»).
ОТЪЕДИНИТЬ — «чтоб голову ту навсегда от тулова отъединить…» («Осужденный жить»).
ОТЪЯВЛЕННО-ПРЕСТУПНЫЙ голос («Осужденный жить»).
ПЕВУЧЕ-ЯДОВИТЫЙ — «певуче-ядовитая интонация» («Осужденный жить»).
ПЕРЕСВЕРКНУТЬ — волчьих иллюминаций пересверкнули огни» («Маленькая симфония»).
ПЕРЕСЛЮНИВАТЬ — машинально переслюнивая» («Осужденный жить»).
ПЕРЛАМУТРОВО-СИЗЫЕ голуби («Осужденный жить»).
ПЕШКОДЕРОМ погнал он нас в город («Осужденный жить»).
ПОЛДНЕВАТЬ — «полдневало деревенское стадо…» («Осужденный жить»).
ПОЛУДОМАШНИЙ — надев что-то полудомашнее («Осужденный жить»).
ПОЛУПАРОДИЙНЫЙ («О Достоевском»).
ПОЛУСОЖЖЕННЫХ солнцем («Осужденный жить»).
ПОЛУПРИЗНАНИЯ — «смолк шелест полупризнаний…» («О Блоке»).
ПОДРОСТКОВО-ГИМНАЗИЧЕСКИЙ — «неизжитый подростковогимназический бред…» («О Достоевском»).
ПОЛУСКЕЛЕТ — «клич полускелетов» («Черный монах»).
ПОСЯГНОВЕНИЯ на жилплощадь («Второе рождение Остапа»).
ПОТОМСТВЕННО-БАЛЕТНАЯ родня («Осужденный жить»).
ПОТРЕБИЛОВКА («Осужденный жить»).
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-ПОРОЧНЫЙ («Осужденный жить»).
ПРИЗАКАЧЕННЫЙ — «белки его призакаченных глаз» (о теленке, «Осужденный жить»).
ПРИКОНОПАЧИВАТЬ — «приконопачивать сверху войлоком» («Осужденный жить»).
ПРИТОПОТАВШИЙ — «притопотавшая кровать» («Осужденный жить»).
ПРОБУРЛИВАТЬ «ручейки пробурливали себе пути к реке» («Осужденный жить»).
ПРОДАВЛИНКИ «найдут щелочки, продавлинки» (о комарах) («Осужденный жить»).
ПРОТИВОСОБЫТИЯ — «листы испещренные деталями событий и противособытий» («Велимир Хлебников»).
РАЗГРАБЛИВАНИЕ дорожек («Осужденный жить»).
РАЗДЕЛЬНО-ВЕСКИЕ, как будто капли ртути…» («Овраг»).
РОЗОВАТО-МОЛОЧНЫЙ — «розовато-молочное пятно» («Осужденный жить»).
РЫЖЕ-КРАСНОВАТЫЕ брови («Осужденный жить»).
СЗЕЖЕВЫКОШЕННЫЙ луг («Осужденный жить).
СВЕЖЕВЫСТИРАННОЕ белье («Осужденный жить»).
СВЕЖЕЗАБИТЫЙ гвоздик («Осужденный жить»).
СЕЛЬСКО-СЕЛЬВИНСКИЙ — «этаким сельско-сельвинским стилем…» («Соловей на Театральной площади»).
СВИНЦОВО-ДЫМНЫЙ — «они стоят в свинцово-дымной дали…» («Они стоят»).
СЕРЕБРИСТО-ПЛЮШЕВОЕ одеяло («Осужденный жить»).
СЕНТИМЕНТАЛЬНО-НАПЫЩЕННЫЙ («Злосчастный монах»).
СЕРЕБРЯНО-БЕЛЫЕ брови («Осужденный жить»).
СКАЗОЧНО-СЛАВЯНСКИЕ персонажи («Велимир Хлебников»).
СКОТИК — «лохматенький рыжий скотик» («Осужденный жить»).
СЛОИСТО-ИЗОГНУТЫХ линий («Осужденный жить»).
СМЕРЧЕОБРАЗНЫЙ («Осужденный жить»).
СНИСХОДИТЕЛЬНО-ПРЕЗРИТЕЛЬНАЯ улыбка («Осужденный жить»).
СОКРУШАЮЩЕ-ЛОГИЧНЫЙ — «подобные реплики… казались сокрушающе-логичными» («Осужденный жить»).
СОСТУКНУТЬ — «легонько состукнул их лбами» («Осужденный жить»).
СРЕПЕТИРОВАННЫЙ — «заранее срепетированные советы» («Злосчастный монах»).
ТЕМНО-ВИННЫЙ — «в одежде темно-винной» («Эль Греко»).
ТЕМНОПЕСЧАНЫЙ — «темнопесчаная краска» («Осужденный жить»).
ТОПОЛЁВЫЙ — «как пух тополевый нас налегке…» («Оранг»).
ТОПОРЯЩИЙСЯ — с редкими, топорящимися во все стороны иглами…» («Осужденный жить»).
ТРЕВОЖНО-АЗАРТНЫЙ «что-то в этом тревожно-азартное…» («Осужденный жить»).
ТРЕЩИНОВАТАЯ земля («Осужденный жить»).
ТЯЖЕЛОСТУП — «серый в яблоках тяжелоступ» («Осужденный жить»).
ФИЛОСОФСКО-ИРОНИЧЕСКИЕ сентенции («Осужденный жить»).
ХОЛОДНО-ПЛАМЕННЫЙ — «холодно-пламенный великий инквизитор» («Эль Греко»).
ХУДОЖЕСТВЕННО-БОГЕМНЫЙ быт («Велимир Хлебников»).
ЧУВСТВОСМЕШЕНИЕ («Осужденный жить»).
ЧУДОВИЩНО ГРЯЗНЫЙ («Осужденный жить»).
ЮЖНОГЛАЗЫЙ — «он слушает хор южноглазых детей» («Московский особняк»).
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ, или ПОЭТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ С. Н. ТОЛСТОГО
АБСТРАКТНЫЙ — «трудно было ожидать от такого абстрактного человека», «абстрактная тетка» («Осужденный жить»), «абстрактный фельдфебель» (перевод «Капут»).
АККОРДЫ — «к людским нестройным, сбивчивым аккордам разлук и встреч…» («Сонет»).
АМОРТИЗИРОВАТЬ — «Я амортизировал бы Тихий океан…» («Пародийное»).
АМПИРНЫЕ домики («Осужденный жить»).
АРИТМИЯ — «дождя о стекла аритмию…» («Дождь»).
АРОМАТНЫЙ — «эти маленькие ароматные чуда» («Осужденный жить»).
АСФАЛЬТОВЫЙ — «асфальтовых улиц тугое литье» («Я возвращаюсь под утро…, город…»).
БАГРОВЕТЬ — «и нос багровеет от синевы…» («Необычайный случай»), «багровый чад чум и войн («Узлом нетвратимого склероза»).
БАРХАТНЫЙ «бас угодника» («Осужденный жить»).
БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ — «две безапелляционные самостоятельности» («Осужденный жить»).
БЕЗВОЗДУШИЕ — «прорвавший пустоту внемерных безвоздуший…» («Я говорю с тобой, как будто, ты жива»).
БЕЗВЫЕЗДНО — «Но в час, когда Москва безвыездно сера…» («Перепутья»).
БЕЗВЫХОДНЫЙ — «в безвыходной бесконечности» («Осужденный жить»).
БЕЗГЛАЗЫЙ — «смиряйся с неволей во мраке безглазом…» («Меж готики гор…»), «Безглазая, упорно вокруг нас шарит смерть…» («Овраг»).
БЕЗДУМНЫЙ — «бездумные мальчики с пустыми глазами…» («Оранг»).
БЕЗДУШНЫЙ — «бездушная беспечность» («Осужденный жить»), «бездушен и сух немецкой подошвы за окнами стук…» («Гордая душа»).
БЕЗЖАЛОСТНЫЙ — «безжалостный ветер…» («Поэма без названия»).
БЕЗЛИКИЕ стены («Осужденный жить»).
БЕЗЛЮДЬЕ —» в сизом безлюдье холодной пустой залы…» («Осужденный жить»).
БЕЗМЕРНОСТЬ собственной гнусности («Осужденный жить»).
БЕЗМОЛВИЕ — «спокойное безмолвие радости» («Осужденный жить»).
БЕЗОБЛАЧНЫЙ — «смотреть безоблачным взором» («Осужденный жить»).
БЕЗУДЕРЖНЫЙ — «и с безудержным палачеством…» («Перепутья»), «безудержный шалун» («Осужденный жить»).
БЕЛЕСЫЙ — «белесый и горький песок солонцовый…» («Поэма без названия»), «в белесом тумане…» («Гордая душа»), «белесая голова» («Капут»).
БЕЛОПЛЕЧИЙ — «годы мчатся белоплечим дыма призраком седым…» («Вагоны»).
БЕРЕЖЛИВЫЙ — «туфлей тряпичною ступая бережливо…» («Мураново»).
БЕСКОСТНЫЙ — «бескостной кисти взлет…» («Из дневника»).
БЕСКРЫЛЫЙ — бескрылая мысль» («Золотое руно»).
БЕСПРИСТРАСТНЫЙ — «в посторонних беспристрастных глазах» («Эссе-воспоминания»).
БЕССЕМЕЙНЫЙ — «бессемейное одиночество» («Осужденный жить»).
БЕССОННЫЙ — бессонный кошмар — («Из дневника»).
БЕССТЫДСТВО — «запас щекочущих бесстыдств» («Черный монах»).
БЕСТОЛОЧЬ — «ночную бестолочь бессильны истолочь…» («В такую ночь, когда нам звезды ближе…»).
БИСЕР записей («Осужденный жить»), «бисер влаги» (перевод «1984»).
БЛАГОРОДНАЯ палитра («О поэтическом переводе»).
БЛЕДНОСТЬ — «умышленная бледность», «бледность рифм» («Золотое руно»).
БЛЕСТЕТЬ — «моноклями блестели…» («Немцы в Москве»).
БЛИСТАЮЩАЯ лысина («Осужденный жить»).
БОЖЕСТВЕННЫЙ ветер.
БОЛТОВНЯ — «семантической пустопорожней болтовни» («О самом главном»).
БОРОДА — «тряся бородою деревьев…» («Оранг»).
БРОНЗОВЫЙ — «И Минин бронзовый…» («Разгром»).
БРЫЗЖУЩИЙ — «брызжущие снопами алмазной пыли фонтаны» («Цветное стекло»).
БУЛЬВАРНЫЙ палисад («Перепутья»).
БЫТИЕ — «московского седого бытия…» («О войне»).
ВВИНЧИВАТЬ — «в небо ввинчивается дымок…» («Я возвращаюсь под утро, город…»).
ВДУМЧИВЫЙ — «серьезные интонации вдумчивого коровьего мычания» («Осужденный жить»).
ВЕЕР — рыжеватым веером аккуратно подстриженной бороды («Осужденный жить»).
ВЕЛИКОПОСТНЫЙ — «отгрохотал великопостный звон…» («Маленькая симфония»).
ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ бандит («Осужденный жить»), «великосветское хамство» («Осужденный жить»).
ВЕНЫ рек.
ВЕРБЛЮЖИЙ — «сквозь верблюжьи пустыни…» («Вагоны»).
ВЕРЕНИЦА — «плывет вереница ночей» («Сон спящей царевны»).
ВЕРТЛЯВЫЙ — «на вертлявой тропинке» («Осужденный жить»).
ВЕТВИСТЫЙ — «ветвистые тени» («Московский особняк»), «покровитель ветвистого рода…» («Поэма без названия»).
ВЕТОЧКА — «каждой веточкой любого нерва…» («Поэма без названия»).
ВЕТХИЙ — «качается ветхая память…» («Сон спящей царевны»).
ВЗБЕСИВШИЙСЯ — «быка-светофора взбесившийся глаз…».
ВЗБРОСИТЬ — «Колокольня взбросила вверх свои многопудовые колокола…» («Разговоры с Чертиком»).
ВЗВИЗГНУТЬ — «взвизгивало колесо колодца» («Осужденный жить»), «взвизгнули смычками рестораны…» («Сонет»).
ВЗДУВАТЬ — «метельные меха вздувают мятежи…» («Маленькая симфония»), «вздувались города» («Узлом неотвратимого склероза»).
ВЗДЫБЛЕННЫЙ — «и вздыбленных полей…» («Над обрывом»), вздыбленные чувства…» («Тучки небесные…»), «оттого, что в сметенном и вздыбленном мире…» («Бескрайнее небо. Тяжелые воды»).
ВЗЛЕТАТЬ — «взлетает месяц…» («Сонет»), «хлопотливо взлетать» («Осужденный жить»).
ВЗМЕТНУВШИЙ «над взметнувшей в ответ рукой…» («Запад»), «бурьян взметнул готические пики» («В зоне пустыни I»).
ВЗМЫВАТЬ — «взмывает трехэтажная ругань» («Осужденный жить»).
ВЗРЫВ великодушия («Осужденный жить»).
ВИЗЖАТЬ —;и кадмий с индиго визжат, как сто собак…» («Ван Гог»).
ВИТИЕВАТЫЙ — «витиеватые намеки» («Осужденный жить»).
ВИТОЙ — «витые сизые дымки» («Осужденный жить»).
ВИХРАСТЫЕ — «с копен срывались вихрастые цапли…» («Вагоны»).
ВЛАЖНЫЕ — «безлунный влажный мрак…» («Поэма без названия»), «с влажными поцелуями второпях», «сквозь влажные глаза» («Осужденный жить»).
ВНЕЗАПНЫЙ запах («Осужденный жить»).
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ — «косят внимательными белками» («Осужденный жить»).
ВОДОПАД — «метафорический водопад» («Велимир Хлебников»).
ВОЗДВИГАЕМЫЕ рифы («Осужденный жить»).
ВОЛНИСТЫЙ — «гуси начинают галдеть, вытягивая свои волнистые шеи» («Осужденный жить»).
ВОЛОСЫ — «обмотан русалочьими волосами шнура…» («Оранг»).
ВОПЛЬ — «вопль гудков облаивает местность…» («Поэма без названия»), «вопль сирен» («Маяковский»).
ВОСПОМИНАНИЯ — «толпы воспоминаний сплошным потоком пронеслись…» («Осужденный жить»).
ВОССТАВАТЬ — «пейзаж восставал из ночных и рассветных теней за окном» («Осужденный жить»).
ВОСХИЩАТЬСЯ — «стандартно восхищаться» («О Пушкине»), («Осужденный жить»).
ВОСХИЩЕННОЕ любопытство («Осужденный жить»).
ВПАЯТЬ — «в прозрачное голубое небо… впаяны темно-синие купола…» («Осужденный жить»).
ВРАЗУМИТЕЛЬНО — «тонкий мизинец грозит вразумительно» («Осужденный жить»).
ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ туча («Осужденный жить»).
ВСЕОПРЕДЕПЯЩИЙ — «на фоне всеопределяющего скерцо» («Осужденный жить»).
ВСКИПЕВШАЯСЯ — «двух глаз вскипевшуюся боль…» («В зоне пустыни, III»).
ВСКРИКИВАТЬ — «мелодично и гулко вскрикивали перелетающие иволги…» («Осужденный жить»).
ВСТРЕВОЖЕННОЕ — «встревоженное детство» («Л-ву»), «встревоженных сирен…» («Поэма без названия»).
ВСХЛИПЫ — «всхлипы стонущих половиц» («Осужденный жить»).
ВЫВЕРЕННЫЙ — «если бы… не было… выверенной среди всех испытаний любви» («Осужденный жить»).
ВЫЛОЩЕННЫЙ — «где гнездилось вылощенное великосветское хамство…» («Осужденный жить»).
ВЫПУКЛЫЙ — «…ее взглядом выпуклым…» («Московский особняк»), «выпуклый и грубый крик» («Ван Гог»).
ВЫСКОБЛИТЬ — «выскоблил ветер» («Поэма без названия»).
ВЫСОКОЛОБЫЙ — «и Боратынского высоколобый бюст…» («Мураново»).
ВЫЦВЕТШИЙ — «с прозрачными, светлыми, так и не выцветшими с годами глазами» («Осужденный жить»).
ГАРМОНИЯ соответствий («Осужденный жить»).
ГЕНЕАЛОГИЯ литературного образа («Велимир Хлебников»), «генеалогия причин» («О самом главном»).
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ прямота навечно установленных для себя рамок («Осужденный жить»).
ГИБЕЛЬНЫЙ — «уже охвачено гибельным пламенем» («Осужденный жить»).
ГЛАЗНИЦЫ — «мертвы окон глазницы…» («Маленькая симфония»).
ГЛИССАДЫ — «там клавиши глиссадами звучат…» («Из дневника»).
ГЛУБОКИЙ — «в старинной глубокой полировке» («Осужденный жить»), «глубокий фон соловьиных рощ» («Эссе-воспоминания»).
ГЛУМЛИВЫЙ — «глумливое пятнышко… старчески сморщенное» («Осужденный жить»).
ГЛЫБЫ — «времен первозданные глыбы» («Маленькая симфония»).
ГНИЛЬ — «кто не был раз навсегда заклеймен петербургской гнилью» («Осужденный жить»).
ГНУСНЕЙШЕЕ лакейство («Осужденный жить»).
ГОЛОВАСТЫЙ — «головастые пионы» («Осужденный жить»).
ГОЛОВЫ — «где скрутило разрывом змеиные головы рельс…» («Третий день артиллерия…»), «головы… пионов» («Осужденный жить»).
ГОЛУБЕТЬ — «на промороженных стеклах голубели морозные джунгли» («Осужденный жить»).
ГОЛУБОВАТАЯ ботва… овощей («Осужденный жить»), «на чуть пушистых щеках возникали голубоватые ямочки» («Осужденный жить»).
ГОРБАТЫЙ — «баррикадой горбатой…» («Московский особняк»).
ГОРБОНОСЫЙ профиль («Осужденный жить»).
ГОРЕТЬ сизо-голубыми лапками («Осужденный жить»).
ГОТИКА — «черной готикой букв перекресток уставился тупо» («Третий день артиллерия бьёт…»), готика гор — («Меж готики гор…»).
ГОТИЧЕСКИЙ — «взметнул готические пики» («В зоне пустыни I»).
ГРЕМЕТЬ — «желтой листвой гремят тополя…» («Моск. особняк»).
ГРЕМЯЩИЙ — «пройдя сквозь гремящие годы…» («Московский особняк»), «недаром гремящих салютов жар-птица…» («Об этой весне…»).
ГРОМАДА отцовского авторитета («Осужденный жить»).
ГРОМОЗДИТЬ — «начинает громоздить обиняки друг на друга» («Осужденный жить»), «громоздимые подводные камни» («Осужденный жить»).
ГУБЫ границ («Запад»).
ДЕБРИ схем («Осужденный жить»).
ДЕКОРАТИВНАЯ романтичность («Велимир Хлебников»).
ДИАГОНАЛЕВЫЕ БРЮКИ («Осужденный жить»).
ДИКТАТУРА — диктатура условий» («Зима. И снег как в детстве был…»).
ДИСТАНЦИЯ — «дистанция времен…» («Перекопские казармы»).
ДНО — «на самом дне обиды» («Осужденный жить»).
ДОБРЕЙШИЙ — «с лучами добрейших морщинок» («Осужденный жить»).
ДОБРОСОВЕСТНО скучно («Осужденный жить»), «добросовестная картина жизни…» («О Достоевском»), «добросовестным образом» («Осужденный жить»).
ДОБЫЧА — «становясь добычей воспоминаний» («Осужденный жить»).
ДОВЕРЕННЫЙ — «и синее, прожекторам доверенное небо…» («Л-ву»).
ДОЛГОЖДАННЫЙ — «этот долгожданный отец» («Через столетия»).
ДОСЫЛАТЬ — «зима досылала последние морозы» («Осужденный жить»).
ДРЕМАТЬ — «здесь дремлют перекрестки…» («Дистрофия»).
ДРЕМУЧИЙ — «в дремучей глубине старинной полировки…» («Смерть поэта»).
ДРОЖЬ — «переполняются дрожью восторга» («Осужденный жить»).
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ — «дружелюбно раствориться» («Осужденный жить»).
ДЫБИТЬСЯ — «дыбится плакат угрозой затаенной…» («Над обрывом»).
ДЫМЯЩИЙСЯ образ («Московский особняк»).
ДЫХАНЬЕ — «как города дыханье молодое…» («Разгром»).
ЕРУНДА — «ерунда от ковров» («Осужденный жить»).
ЖАДНЫЕ глаза («Бессмертие»), жадные губы («Осужденный жить»).
ЖАЛО — «фугасных бомб стремительное жало…» («Англичане над Берлином»).
ЖАР-ПТИЦА салютов («Об этой весне рассказала бы ода…»).
ЖЕЛОБЧАТЫЕ полоски лиственной ткани («Осужденный жить»).
ЖЕЛЧНАЯ настороженность и подозрительность, желчные сентенции («Осужденный жить»).
ЖЕЛУДЬ — «тетка жмет электрический желудь звонка» («Осужденный жить»).
ЖЕРЛО «черное жерло коридора» («Осужденный жить»).
ЖЕСТОКИЙ — «жестокая складка сжимает красивые жадные губы» («Осужденный жить»).
ЖИДКИЙ — «жиденький колокольный звон» («Эссе-воспоминания»), «две полосы жидкого синеватого предвечернего света» («Осужденный жить»).
ЖИЗНЕЛЮБИЕ — «сочное жизнелюбие масляной живописи» («Осужденный жить»).
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ — «лишь сонм заблудившихся снов» («Сон спящей царевны»).
ЗАБЫТЬСЯ — «забыться у пера» («О войне»).
ЗАВЕРНУТЬСЯ — «но в час, когда Москва, безвыездно сера, спит, завернувшись в темь…» («Перепутья»).
ЗАВЕРТЕНЬ — «бульварных палисадов завертень…» («Перепутья»).
ЗАВИСТЛИВЫЙ — «завистливых сплетен…» («Соловей на Театральной площади»).
ЗАГАДОЧНАЯ значительность происшедшего («Велимир Хлебников»).
ЗАДОРНЫЙ — блестят задорные черные зрачки…» («Бессмертие»).
ЗАДУМЧИВЫЙ — «книжных корешков задумчивая кожа…» («Мураново»).
ЗАКАТНЫЙ — «в закатной пыли золотилась листва…» («Гордая душа»).
ЗАКИПАВШИЙ — «стоял в закипавших слезах» («Осужденный жить»).
ЗАЛЕПЛЕННЫЙ — «сквозь залепленные сном глаза» («Осужденный жить»).
ЗАЛЕТНЫЙ — «залетный прохожий…» («Маленькая симфония»).
ЗАЛИЗАННЫЙ — «сквозь тысячи верст, метелью зализанных» («Вагоны»), «мне раны, мертвому, заботливо залижет» («В подмосковном лесу»).
ЗАМЕТАТЬСЯ иглой («в служебной канве»), («Чудесно»).
ЗАМОРГАТЬ — «глаза удивленно заморгали…» («Злосчастный монах»).
ЗАМШЕВЫЙ — «кони замшевыми губами осторожно берут хлеб…» («Осужденный жить»).
ЗАНОЗА — «желтая заноза лучей» («Узлом неотвратимого склероза…»
ЗАНУМЕРОВАННЫЙ — «дни, занумерованные числами месяцев» («Эссе-воспоминания»).
ЗАПЛАКАННЫЙ — «окно заплаканное» («Маленькая симфония»).
ЗАПЛЕТАТЬСЯ — «обрывки мыслей начинают заплетаться друг за друга…» («Осужденный жить»).
ЗАПЛЯСАВШИЙ — «хлестнув заплясавшую лошадь» («Осужденный жить»).
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ брови («Осужденный жить»).
ЗАПУТАННЫЕ подходы к вопросу («Осужденный жить»), «древних лет запутанная вязь…» («Галки, галки…»).
ЗАРЕВО — зарево фронтовое…» («Наступление»).
ЗАРЕТУШИРОВАННЫЙ — «заретушированные мешки под глазами» («Осужденный жить»).
ЗАРНИЦА — «за рекой зарницы молний…» («Вагоны»).
ЗАТУХАТЬ — «обманчиво затухая» («Осужденный жить»).
ЗАТЫРКАННЫЙ — «морально затырканном» («Осужденный жить»).
ЗАТЯНУТЫЕ лепной чешуей («Осужденный жить»).
ЗАХЛЕБНУВШИЙСЯ — «в весенней воде захлебнувшихся валенках…» («Слабость»), «прокуковала и захлебнулась кукушка…», («Осужденный жить»).
ЗАЦЕЛОВАННЫЙ — «огнем зацелован, зализан…» («Запад»).
ЗВЕЗДНЫЙ — «звездный неон» («Московский особняк»), «звездным круговоротом»; «ширь этих звездных одежд, облекающих мир» («Осужденный жить»), «звездный саван ночи…» («Зима. И снег как в детстве был…»).
ЗВЕНЕТЬ — «ветвями мерзлыми звеня…» («На улицы ложится тьма…»).
ЗВЕНЯЩИЙ — «русский ветер, звенящий навзрыд…» («Наступление»).
ЗВУЧАТЬ — «их золотая листва ослепительно звучит на фоне голубого неба» («Осужденный жить»), «звучавший медью…» («Московский особняк»).
ЗЕЛЕНЫЙ — «был вешний день, зеленый, пьяный…» («Мой народ»), «зеленый ветер» («Капут«).
ЗЕНИТНЫМ — «стакан зенитный, сплющенный немного…» («В подмосковном лесу»).
ЗЕРКАЛА — «мимолетное отражение в зеркалах чужих глаз» («Велимир Хлебников»).
ЗИГЗАГИ молний («Осужденный жить»).
ЗЛОБНАЯ радость («Осужденный жить»).
ЗЛОЙ — «злой бурьян» («В зоне пустыни»).
ЗНОЙНЫЙ — «приходила знойная засуха» («Осужденный жить»).
ЗУД — «слухов зуд» («Поэма без названия»).
ИДЕАЛ рабочей пчелы («Велимир Хлебников»).
ИЗВИВЫ — «лент извивы, скрученных упрямо…» («Поэма без названия»).
ИЗВИЛИСТЫЙ — «зелено-аквамариновая волна извилисто уходила к самому горизонту» («Осужденный жить»).
ИЗГЛОДАННЫЙ паркет («Осужденный жить»).
ИЗДЕВАТЕЛЬСКИЙ экспромт («Велимир Хлебников»).
ИЗЛОМ — «изломами пульса тифознобольиого…» («Вагоны»).
ИЗМЯТЫЙ — «измятый, перебитый позвоночник…» («Маленькая симфония»).
ИЗНАНКА листьев («Осужденный жить»).
ИЗРУБЛЕННЫЙ — «изрубленная танками дорога…» («В подмосковном лесу»).
ИЗЪЕДЕННЫЙ — «изъеденное рефлексией и скепсисом современное сознание» («О самом главном»).
ИМПОТЕНТНЫЙ — «психически импотентный вечный старик…» («О Достоевском»).
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ рахит («Черный монах»).
ИНТОНАЦИЯ — «подростковая инфантильность интонации», «по-некрасовски интонируется» («Велимир Хлебников»).
ИНТРИГУЮЩИЙ — «интригующая самостоятельность» («Осужденный жить»).
ИРОНИЯ — «ирония бурлит и пенится…» («О Достоевском»), «нарочито открытая ирония», «…довольно прозрачная и делано добродушная, едва заметная и прячущая свое жало» «ирония переливалась всевозможными оттенками», «иронические углы рта» («Осужденный жить»).
ИСКАЖЕННЫЙ — «искаженная пространством бесконечность» («Сон спящей царевны»).
ИСКРЫ — «голубые искры ласки и скорби» («Осужденный жить»).
ИСПЕПЕЛЕННЫЙ — «испепеленный мир» («Пикассо»), (у Даля — испепелить), «наш род испепелит» («Над обрывом»).
ИСПЫТАННЫЙ — «испытанных примет» («Мой народ»).
ИССУШЕННЫЙ рационализм («Черный монах»).
ИСТЕРЗАННЫЙ — «истерзанной родины образ дымящийся…» («Московский особняк»).
ИСТЛЕВШИЙ — «истлевший в пепле…» («Ты просишь признаний и песен в любви…»).
ИСТОЛОЧЬ бестолочь («В такую ночь, когда нам звезды ближе…»).
ИСТОМА — «плащом укутана смертельная истома…» («За купами зеленых, вековых…»).
ИСТОПТАННЫЙ — «лишь прах истоптанный напрасными следами…» («Эль Греко»).
ИСТОЧНИК — «источники души иссякли постепенно…» («Над обрывом»). КАЗЕННЫЙ — «завитушки казенных писарей…».
КАМЕННЫЙ — «каменное кружево чудесной средневековой готики», «земля, освободившаяся от каменной одежды» («Осужденный жить»), «каменный шифр разбирая…» («Сон спящей царевны»).
КАНИТЕЛЬ — «канителью звездной прошита…» («Маленькая симфония»), «осенних дождей канитель…».
КАНТОВАННЫЙ — «… закат в зеленые кантованный полоски…» («О войне»).
КАНТОВСКИЙ тупик («О самом главном»).
КАПИЩЕ заводов и фабрик («О самом главном»).
КАРАБКАТЬСЯ — «карабкаться по служебным этапам…» («Соловей на Театральной площади»).
КАРЕТНЫЙ — «из каретных глубин» («Осужденный жить»).
КАРК — «не совпал его карк зловещий…» («О войне»).
КАЧАТЬСЯ — «качается память…» («Сон спящей царевны»).
КИБИТКА — «платочек кибиточкой» («Осужденный жить»).
КИРПИЧ — «непостижимый кирпич мироздания» («О самом главном»).
КИЧЛИВЫЙ — «свет кичливо полыхает в небе» («Осужденный жить»).
КЛОКОЧУЩИЙ — «обрывами клокочущих рулад» («Маленькая симфония»).
КЛОХТАНЬЕ — «клохтанье теток» («Перепутья»).
КЛОЧЬЯ пены («Осужденный жить»).
КЛЮЧ — «ключи философских настроений» («О самом главном»).
КНИГОЕД — уединенный книгоед («Осужденный жить»).
КОВЕР — «где на ковре эстрады…» («Из дневника»).
КОЖАНЫЙ — «взвигзнули и застонали кожаные груди гармошек» («Осужденный жить»).
КОЗЛОНОГИЕ «младенцы с порочными гнусными лицами…» («Велимир Хлебников»).
КОЛЧЕНОГИЙ — «ветер колченогий…» («Поэма без названия»).
КОЛЮЧИЙ — «с колючими вихорками… волос», «остренькие колючие глазки» («Осужденный жить»).
КОНТУР — «все контуры их тел певучи и чисты…» («Гоген»).
КОРОНОВАННЫЙ неудачник («Велимир Хлебников»).
КОСМАТЫЕ лошаденки («Осужденный жить»), «преступник первый там укрыт плащом косматым…» («Англичане над Берлином»), «шумят косматыми вершинами» («Осужденный жить»), «косматый год» («Седьмая жена Синей Бороды»).
КОСОЙ разрез глаз («Осужденный жить»).
КОСТЛЯВЫЙ — «стучит костлявым пальцем…» («Бессмертие»).
КОСТОЧКИ — «черные и белые косточки октав» («Осужденный жить»).
КОСЯЩИЙ назад… конский глаз, «косить белками» («Осужденный жить»).
КОФЕЙНЫЙ — «молоко подозрительно кофейного оттенка» («Осужденный жить»).
КРЕМНИСТАЯ тропа крестного страдания («Осужденный жить»).
КРИВИТЬСЯ — «губы кривятся смехом» («Осужденный жить»), «кривиться мученически» («Осужденный жить»).
КРИКЛИВЫЙ — «стаями крикливыми кружась…» («Галки, галки, как при Годунове…»).
КРОВАВЫЕ разливы (на небе) («Осужденный жить»), «иль ключ твой изгрызла кровавая ржа…» («Поэма без названия»), «к победе над врагом кровавым…» («Мой народ»), «уличный камень кровавый…» («Сон спящей царевны»).
КРОВОТОЧАЩИЕ сердца («Осужденный жить»).
КРЫЛАТЫЙ — «в бурке крылатой промчался Доватор…» («О войне»).
КУПА возвышенностей («Осужденный жить»).
КУЦЫЙ рассвет («Запад»).
ЛАВА — «лавы стали»
ЛАПКИ — «птичьи лапки укропа» («Осужденный жить»).
ЛЕЗВИЕ — «под куполом скрестились узкие лезвия солнечных лучей» («Осужденный жить»).
ЛЕТЕТЬ — «летит неисплаканным горем…» («Оголенные сучья природы умершей…»).
ЛИВНИ — ливни свинца.
ЛИК — «лик заката» («На улицы ложится тьма…»).
ЛИЛОВЕЮЩИЙ — «он трясет лиловеющим гребнем…» («Осужденный жить»).
ЛИЛОВО-ГОЛУБОЙ — «лилово-голубые холмистые и прозрачные дали» («Осужденный жить»).
ЛИТЬЕ — «улиц… литье» («Я возвращаюсь под утро, город…»).
ЛИХОРАДКА — «лихорадкою черных, свастик обметало губы границ» («Запад»), «лихорадка природы» («Осужденный жить»).
ЛОМКИЙ — «на этих ломких худеньких ножках» (о девочке) («Осужденный жить»).
ЛОХМАТЫЙ — «лохматый мир» («Узлом неотвратимого склероза»).
ЛУННЫЙ — «по небу с лунною заплатою…» («Метеопсихоз»).
ЛУЧ памяти («Осужденный жить»).
ЛЬДИСТЫЙ — «льдистыми полюсами…» («Маленький особняк»).
МАСКИРОВКА — «иронические маскировки содержания» («Велимир Хлебников»).
МАСЛЯНИСТАЯ ботва («Осужденный жить»), маслянистая влага («Осужденный жить»), «маслянистые смешинки» («Осужденный жить»).
МАХОВОЙ — «маховые перья крыла…» («абвгд абвгд»).
МЕДАЛЬНЫЙ — «медальный профиль четкий Фальконет…» («Перепутья»).
МЕЛЬТЕШИТЬ — «осенний дождик мельтешит…» («Маленькая симфония»).
МЕЛЬЧАЛИ имения («Осужденный жить»).
МЕРТВЕЧИНА — «серая мертвечина» («Черный монах»).
МЕРТВЫЙ — «чем свет последний променять на тьму да мертвую кровать» («Сон спящей царевны»), «мертвая книга» («Запад»).
МЕТАЛЛ — где слов неразменный металл, найти?» («Я возвращаюсь под утро, город…»), «дрожит мелкой металлической дрожью…» («Бессмертие»).
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ — «метафизическая благонадежность» («О самом главном»).
МЕТЕЛЬНЫЙ — «метельные меха…» («Маленькая симфония»).
МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ — «мечтательных убийц заветная затея…» («Немцы в Москве»).
МИГ — «предстает окаменевшим мигом» («Эссе-воспоминания»).
МИГАТЬ — «бессилен мигнуть ресницей по своему желанию…» («О самом главном»).
МИГРАЦИЯ «образов, сюжетов, ассоциаций…» («Велимир Хлебников»).
МИРОСОЗЕРЦАНИЕ — «порошки научно-рационального миросозерцания» («Черный монах»).
МНИМОСТЬ — «эфемерная геометрическая мнимость» («О самом главном»).
МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ афоризмы («Велимир Хлебников»).
МНОГОСЕМЕЙНЫЙ петух («Осужденный жить»).
МНОГОЭТАЖНЫЙ — «окружающий мир оказывается многоэтажным…» («Осужденный жить»).
МОЗАИЧНЫЙ — «укладывается в мозаичное целое…» («Осужденный жить»).
МОЛОДОЙ — «завитками молодыми…» («Гордая душа»), «молодые глаза» («Осужденный жить»).
МОЛЧАЛИВАЯ снисходительность («Осужденный жить»), «молчаливое подозрение» («Осужденный жить»).
МОРОЗНЫЙ — «морозными пальмами» («Осужденный жить»).
МОТОР — «рокочущий мотор возмездия крылатый…» («Англичане над Берлином»).
МРАЧНОВАТЫЙ сумрак («Осужденный жить»).
МСТИТЕЛЬНЫЙ — «за ним следили ненавидящие мстительные глаза» («Монах Макинф»).
МУТНОВАТОЕ наслаждение («Осужденный жить»).
МУТНОГЛАЗЫЙ — «мутноглазый тевтонский орел…» («абвгд абвгд»).
МУЧИТЕЛЬНО — «как все это мучительно живо», «мучительное наслаждение» («Осужденный жить»).
МЯГКИЙ — «ласковые мягкие глаза» («Осужденный жить»), «в мягкой тишине…» («Мураново»).
МЯСИСТЫЙ — «розовые мясистые стебли бегоний» («Осужденный жить»).
НАБРЮШНИЧКИ — «в теплых набрюшничках» («Осужденный жить»).
НАГЛОВАТЫЙ — «ходил, нагловато хихикая» («Осужденный жить»).
НАГЛОСТЬ — «прочная наглость» («О Достоевском»).
НАГОТА — «здесь торжество беспечной наготы…» («Гоген»).
НАДОРВАНЫ — «дни мои вперед надорваны в одиночество полярное…» («Перепутья»).
НАКАЛИТЬ — «в пепле остывает слово, что было так накалено…» («Шуршит листва»).
НАКРАХМАЛИТЬ — «Ноги — точно туго накрахмалены…» («Разговоры с Чертиком»).
НАЛИВ — «тяжелым алым наливом клубники» («Осужденный жить»).
НАМОКШИЙ — «на фоне намокшего серого неба…» («Перепутья»).
НАПИТОК — «напитка звездного отведав…» («Я говорю с тобой…»).
НАПОЛЗАТЬ — «туман наползал…» («Гордая душа»), «где наползают… нездоровые туманы» («Осужденный жить»).
НАПРАСНЫЙ — «напрасными следами» («Эль Греко»).
НАСЛЕДСТВЕННОЕ подражание («Осужденный жить»).
НАТЮРМОРТ — «омытый дождями натюрморт…» («Московский особняк»).
НАУСЬКИВАНИЕ — «полицейское науськивание» («Эссе-воспоминания»).
НЕБЕЗУПРЕЧНЫЕ слеугы своего происхождения («Осужденный жить»).
НЕВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ — «обернулись невразумительной биографией» («Осужденный жить»).
НЕВЫВЕТРИВШЕЕСЯ чувство легкой обиды («Осужденный жить»).
НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ силуэт («Осужденный жить»).
НЕГОДОВАТЬ — «в оркестре внизу негодует медь…» («Оранг»).
НЕГОДУЮЩИЙ — «негодующе клянется» («Осужденный жить»).
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ презрение («О Достоевском»).
НЕДОВЕРЧИВЫЙ — «кося недоверчивым выпуклым взглядом, мчался холеный рысак» («Злосчастный монах»).
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ — «внутренняя недостаточность» («Черный монах»).
НЕЖНЕЙШИЙ — «как будто тон ища к нежнейшей акварели…» («Можайское шоссе»).
НЕЖНЫЙ — «в нежном бреде курских соловьев…» («Гордая душа»).
НЕЗАДАЧЛИВЫЙ — «в незадачливом Временном правительстве» («Осужденный жить»).
НЕЗАМУТНЕННЫЙ — «пейзажей, столь же незамутненных декадансом поэтической культуры…» («Велимир Хлебников»).
НЕЗАТУХАЮЩИЙ — «незатухающее солнце моего детства» («Осужденный жить»).
НЕЗДОРОВЫЕ туманы («Осужденный жить»).
НЕИЗБЫВНЫЙ — «небо неизбывной синевы…» («В подмосковном лесу»).
НЕИЗГЛАДИМЫЙ — «и память будет сообщать неизгладимую печать…» («Л-ву»).
НЕИЗРЕЧЕННЫЙ — «неизреченная щедрость Господня к гимназистам» («Злосчастный монах»).
НЕИССЯКАЕМАЯ зелень («Осужденный жить»), «неиссякаемая эрудиция» («Осужденный жить»).
НЕИСХОДНЫЙ — «капать каплей неисходной…» («Перепутья»).
НЕЙТРОНЫ — «предательства и лжи сшибаются нейтроны» («Над обрывом»).
НЕЛЕПЫЙ рев ослицы («Осужденный жить»), неловкий — «и раненых привез, тяжелый и неловкий, автобус голубой…» («Все ближе»).
НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ облаком текла («Осужденный жить»).
НЕМНОГОРЕЧИВЫЙ — «немногоречиво благодарил» («Злосчастный монах»).
НЕМЫСЛИМЫЙ — всей радугой немыслимых палитр…» («Эль Греко»).
НЕНАВИДЕТЬ — «втихомолку ненавидело его» («Монах Иакинф»).
НЕОБЫЧНОСТЬ — «необычности подстерегают…» («Осужденный жить»).
НЕОЖИДАННЫЙ уют («Осужденный жить»).
НЕОСТОРОЖНАЯ нога («Осужденный жить»).
НЕОТМЕНИМОСТИ все новых и новых искушений («Осужденный жить»).
НЕПЕРЕВАРЕННЫЕ построения модных… мыслителей… («Велимир Хлебников»).
НЕПОСИЛЬНЫЙ — «непосильная арифметическая ловушка» («О поэтическом переводе»).
НЕПРЕДВИДЕННЫЙ — «непредвиденные пустоты» («Золотое руно»).
НЕПРЕКЛОННЫЙ — «на непреклонном лице запрещающие брови» («Осужденный жить»).
НЕПРИКАЯННЫЙ — «надо мной довлеет опыт неприкаянного дня…» («Седьмая жена Синей Бороды»).
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ — «нарушил всю их девственную неприкосновенность» («Осужденный жить»).
НЕПРИМИРИМОЕ — «непримиримое неодобрение» («Осужденный жить»).
НЕПРИСТОЙНОСТЬ — «запас волнующих непристойностей» («Черный монах»).
НЕПРИЮТНАЯ действительность («Осужденный жить»).
НЕПРОГЛОЧЕННЫЙ — «к самому горлу подступают непроглоченными комками тяжелые воспоминания» («Осужденный жить»).
НЕРАСПЛЕСКАННОЙ полноты и обилия («Осужденный жить»), «резкие удары молотка эхом нерасплесканным гудели…» («Поэма без названия»).
НЕРУКОТВОРНЫЙ — «нерукотворный лик заката» («На улицы ложится тьма»).
НЕТЕРПИМОСТЬ ограниченная и узкая («Осужденный жить»).
НЕТОРОПЛИВЫЕ дни («Осужденный жить»).
НЕУМЕЛЫЙ — «пытаясь реветь неумелыми еще голосами…» («Осужденный жить»).
НЕЧЕСТНЫЙ — «мне снилась нечестная осень…» («Седьмая жена Синей Бороды»).
НИЗВЕРГАТЬСЯ — «дождь низвергался» («Осужденный жить»).
ОБВОЛАКИВАТЬ — «время шло, обволакивало новыми наслоениями» («Осужденный жить»).
ОБЕЗУМЕВШИЙ — «разгул обезумевших красок» («Осужденный жить»).
ОБЕСКРОВЛИВАТЬ психику («Осужденный жить»).
ОБЕССИЛЕТЬ — «и все затем, чтоб, небо обессилев…» («Узлом неотвратимого склероза»).
ОБЕТОВАННЫЙ — «обетованное взаимопонимание» («О самом главном»).
ОБИЖЕННЫЙ — «обиженное мяуканье» (о человеческой речи) («Осужденный жить»).
ОБИХОД — «обиход политической и общественной жизни» («О самом главном»).
ОБЛОМКИ — «на обломках прошлого» («Осужденный жить»).
ОБЛУПЛЕННЫЙ — «декорации старой облупленный фон…» («Оранг»).
ОБОЖАНИЕ — «провинциальное обожание» («Черный монах).
ОБОЛГАННЫЙ — оболганный иволгой натюрморт…» («Московский особняк»).
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ — «обольстительным маревом встает относительность земных понятий и мерок» («Осужденный жить»).
ОБОНЯТЕЛЬНАЯ неприятность («Осужденный жить»).
ОБОЧИНА — «ты шел обочиной поверий…» («Мой народ»).
ОБРЫЗГАННЫЙ — «мир, щедро обрызганный… солнцем» («Осужденный жить»).
ОВОЩНОЙ — «стал посмеиваться каким-то овощным смехом» («Осужденный жить»).
ОГЛЯНУТЬСЯ — «оглянуться большим круглым глазом на причину…» («Осужденный жить»).
ОГНЕВОЙ — «взгляд ока огневого…» («Над обрывом»).
ОГНЕННЫЙ — «огненные окошечки самовара» («Осужденный жить»), «огненные штаны» («Осужденный жить»).
ОДИЧАНИЕ одиночества (отсутствие личной жизни) («Осужденный жить»).
ОЖИВЛЯЕМЫЙ — «папки, оживляемые прикосновением отца» («Осужденный жить»).
ОЗЯБШИЕ души («Осужденный жить»).
ОКАМЕНЕЛЫЙ — «смыкаются ряды окаменелых лет…» («За купами зеленых, вековых…»).
ОКОСЕВШИЙ — «дождя окосевшего» («Вагоны»).
ОМЕРТВЕЛЫЙ — «над омертвелым, онемевшим ликом» («Над обрывом»).
ОМРАЧЕННЫЙ — «омрачены томительной тоской…».
ОНЕМЕНИТЬСЯ (сделаться немцем) («Эссе-воспоминания»).
ОПАДЬ — «желтая опадь бульваров…» («Перепутья»).
ОПАЛЕННЫЙ — «над твоим опаленным рейхстагом…» («Гни, Берлин…»).
ОПЕРЕНЬЕ — «отыграл зимний солнцеворот опереньем фантастических зорь» («Осужденный жить»).
ОПЛАКАТЬ — «мелким дождем оплакан…» («Осенние крики птичьи»).
ОПРОКИНУТЫЙ — «в опрокинутый ветром Сокольничий парк…» («Оголенные сучья природы умершей…»).
ОСВЕЖЕННЫЙ — «мир освеженный и невоспетый…» («Запад»).
ОСЕДЛАННЫЙ пенсне («Осужденный жить»).
ОСКАЛИТЬСЯ — «оскалился Гитлер» («О войне»), «где желтый стронциан, оскалясь, ржет с полотен…» («Ван Гог»).
ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ — «оскорбительное воспоминание» («Злосчастный монах»), «и каждый шорох оскорбленной ветки…» («Овраг»).
ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ уверенность («Осужденный жить»).
ОСТРЕНЬКИЙ — «остренькие колючие глазки» («Осужденный жить»).
ОСУЖДЕННЫЙ — «и осужденный жить, идти путем своим…» «Еще я помню рынки те…».
ОТБУЯНИВШИЙ — «так рано отбуянивший Есенин…» («О войне»).
ОТГРАНИЧИВАТЬСЯ («Осужденный жить»).
ОТГРОХОТАТЬ — «отгрохотал великопостный звон» («Маленькая симфония»).
ОТЁЧНЫЙ — «и смотрит сверху вниз отечная луна…» («При луне»).
ОТЖАТЫЙ — «отжатая досуха клетка грудная…» («Маленькая симфония»).
ОТКАТИТЬСЯ «видишь, зарево фронтовое откатилось на том берегу…» («Наступление»).
ОТМЫЧКИ — «отмычки логики» («О самом главном»).
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ встает («Осужденный жить»).
ОТУПЕЛЫЙ — «состояние внутренней отупелой безнадежности» («Осужденный жить»).
ОТЧАЯНИЕ — «небо черное в отчаянье провала…» («Сон спящей царевны»).
ОХОРАШИВАЮЩИЙСЯ — «охорашивающаяся перед незнакомцем истасканная дамочка» («Черный монах»).
ОЦЕПЕНЕТЬ — «оцепенеет мир, лишась своих цепей…» («Над обрывом»).
ОШАРАШЕННЫЙ — «синкопой глуша ошарашенный слух…» («Оранг»).
ПАЛЬМОВЫЕ — «пальмовые панорамы» («Вагоны»).
ПАНОПТИКУМ — «она являла паноптикум жути…» («Я возвращаюсь под утро, город…»).
ПАРУС — «крылатый парус рук…» («Из дневника»).
ПЕВУЧИЙ — «в этом потоке певучего бульканья» (о речи) («Осужденный жить»).
ПЕРВОЗДАННЫЙ — «времен первозданные глыбы…» («Маленькая симфония»).
ПЕРВОПЕЧАТНЫЙ — «первопечатный курсив» («Галки…»).
ПЕРВОРОЖДЕННЫЙ — «тому, кто был отцом перворожденной лжи…» («Над обрывом»).
ПЕРВОСБОРНЫЙ — «отложить в улей мозга пыльцу первосборного опыта» («Осужденный жить»).
ПЕРЕЖЕВЫВАТЬ — «пережевывали главу об иглокожих» («Муська»).
ПЕРЕЖИТЬ — «что, думалось вчера, готово и звезды пережить оно…» («Шуршит листва…»).
ПЕРЕКАТЫВАЩИЙСЯ наглый хохот («Осужденный жить»).
ПЕРЕКРЕСТОК «перекресток уставился тупо…» («Третий день артиллерия бьет по переднему краю»).
ПЕРЕСТУПАНИЕ — «удовлетворенное переступание копыт» (у Д. переступанье) («Осужденный жить»).
ПЕРЕСЫПАТЬ — «цитатами обильно пересыпаны полемические статьи» («О самом главном»).
ПЕРЕУЛОЧНЫЙ — «переулочная жуть ночей» («Нет»).
ПЛАКАТЬ дождем («Узлом неотвратимого склероза»).
ПЛАНЕТНЫЙ — «в обгонку с планетным лучом…» («Через столетия»).
ПЛАСТ — «прорвав столетий слежавшийся пласт…» («Московский особняк»).
ПЛЫВУЩИЙ рев («Галки, галки…»).
ПЛЮШЕВЫЙ — «от плюшевой шкурки медвежьей» («Осужденный жить»).
ПОБАГРОВЕВШАЯ висюлька (об индюке) («Осужденный жить»).
ПОДВЕДОМСТВЕННОЕ — «движение души, подведомственное только совести…» («Осужденный жить»).
ПОДЛЕДНЫЙ — «подледный ход последних слов…» («Зима и снег когда-то был…»).
ПОДМИГИВАТЬ — «электричество… подмигивало» («Осужденный жить»).
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ — «подозрительное радушие» («Злосчастный монах»).
ПОДОРВАННЫЙ — «гитарной струны подорванный стон…» («Оранг»).
ПОДРУБЛЕННЫЙ — «как подрубленный, отец пошел…» («Поэма без названия»).
ПОДСЛЕПОВАТЫЙ — «подслеповатых окон…» («Перепутья»).
ПОЗНАВАТЬ — чтоб она, содрогаясь, познала бы каждою порой…» («Гни, Берлин, поясницу в поклоне…»).
ПОКОСИТЬСЯ — «встревоженно покосившись» («Осужденный жить»).
ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ презрительность старших («Осужденный жить»).
ПОЛДНЕВАТЬ — «полдневало деревенское стадо» («Осужденный жить»).
ПОЛНОВЕСНЫЙ — «их груди сочные так полновесно зрелы…» («Гоген»).
ПОЛОГИЙ — «более пологими стали солнечные лучи» («Осужденный жить»).
ПОЛОТНО — «с усилием приотворяет широкое полотно ворот» («Разговоры с Чертиком»).
ПОЛУКРУЖЬЕ — «Над нами туч сомкнулось полукружье…» («Узлом неотвратимого склероза…»).
ПОЛЯРНОЕ — «одиночество полярное» («Перепутья»).
ПОМЕТ — «листовок вражеских раздавленный помет…» («В подмосковном лесу»).
ПОМЯТЫЙ — «с помятым обручальным кольцом» («Осужденный жить»).
ПОСЕДЕЛЫЙ — «от снега поседелый…» («О войне»).
ПОСТУПЬ — «все смято поступью зловещей…» («В зоне пустыни, III»).
ПОТНЫЙ — «…зажавших в потной горстке фигуры постовых…» («Дистрофия»).
ПОТОК — «шумит поток непрерывно льющихся ассоциаций» («Велимир Хлебников»).
ПОЧЕРК — «и ракет стремительный почерк…» («9 мая»).
ПОЭЗИЯ — «сверкающая и обжигающая сердце поэзия» («Велимир Хлебников»).
ПРЕДВИДЕННАЯ — «и молнией сверкнет предвиденная весть…» («За купами зеленых, вековых…»).
ПРЕЗРИТЕЛЬНЫЙ — «презрительное снисхождение» («Осужденный жить»).
ПРЕСТУПЛЕНИЕ обычаев («Осужденный жить»).
ПРИБОЙ — «прибой аплодисментов сотрясает стены…» («Из дневника»).
ПРИВЫЧНЫЙ — «дни текут привычным омутом…» («Перепутья»), «пройдут в последний раз привычной чередой» («Над обрывом»).
ПРИГНУВШИЙСЯ — «пригнувшийся ветер поземку взметнет…» («Московский особняк»).
ПРИГОРШЕНЬ — «пригоршни крупных дождевых капель» («Осужденный жить»).
ПРИЖИЗНЕННОЕ забвение («Велимир Хлебников»).
ПРИЗЕМЛЕННЫЙ — «в этой приземленной тесноте» («Осужденный жить»).
ПРИЗРАК — «дыма призраком седым» («Вагоны»).
ПРИЛЕТЕВШИЙ — «еще не занятых прилетевшими грубиянами мест» (о птицах) («Осужденный жить»).
ПРИМИРЕННАЯ — «располагал к примиренной задумчивости…» («Осужденный жить»), «примеренное созерцание» («Осужденный жить»).
ПРИПЛЮСНУТЫЙ — «наш решительный шар, приплюснутый полюсами…» («Московский особняк»), (У Даля — приплюскивать).
ПРИХОТЛИВЫЙ — «в прихотливых завитках винограда…» («Золотое руно»), «множество клумб, перерезанных прихотливыми дорожками» («Осужденный жить»).
ПРИЩУРЕННЫЙ — «чуть освещенные прищуренною фарой…» («Из дневника»).
ПРОБНИЧЕСКИЙ — «гибнет пробнической гибелью» («Черный монах»).
ПРОГРЕТЫЙ — «укрываться в насквозь прогретую тень» («Осужденный жить»).
ПРОДЕРЕТСЯ луч («Осужденный жить»).
ПРОЖЕВАННЫЙ — «им вечер, как жвачка, прожеван…» («Московский особняк»).
ПРОКИСШИЙ — «прокисший воздух, пахнущий лизолом…» («Поэма без названия»).
ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ — «в них есть для меня такая пронзительность» («Осужденный жить»), «пронзительный свист» (пер. Стейнбека) и др.
ПРОПИСНОЙ — «прописная мораль» («Осужденный жить»).
ПРОПОВЕДНИК — «семантические проповедники» («О самом главном»).
ПРОСВЕЧИВАТЬ — «просвечивала ирония» («Осужденный жить»).
ПРОСКВОЗИВШЕЙ — «любовью, разлитой в таком изобилии, просквозившей все», «просквозили глубокие разрезы пальмовых листьев» («Осужденный жить»).
ПРОСТОДУШИЕ — «молился он в простодушии веры…» («Бескрайнее небо. Тяжелые воды..»).
ПРОШАРКАННЫЙ — «паркет прошаркан…» («Московский особняк»).
ПРЫЩЕВАТЫЙ блондин («Осужденный жить»).
ПУХ — «пожарищ серый пух…» («В зоне пустыни, II»).
ПУХЛЫЙ — «утопали в пухлых сугробах» («Осужденный жить»).
ПЫЛАНЬЕ — «алое пыланье осинок» («Осужденный жить»).
ПЯТНА — «кровавые пятна воспоминаний» («Осужденный жить»).
ПЯТНИТЬСЯ — «пятнится кровью снег…» («О войне»).
РАВНОДУШНЫЙ — «долетает ответ равнодушного баса» («Осужденный жить»).
РАДОСТНЫЙ золотистый паркет («Осужденный жить»).
РАДУГА палитр («Эль Греко»).
РАЗБЕЖАТЬСЯ — «разбежались зрачки…» («Гордая душа»).
РАЗБОЙНИЧИЙ — «посвист крыльев его разбойничьих…» («абвгд абвгд»).
РАЗВАЛИНЫ — «по ту сторону развалин материализма» («О самом главном»).
РАЗВЕНЧИВАТЬ — «развенчивать мелкую человеческую слякоть» («О Достоевском»).
РАЗВЕРТЫВАТЬСЯ — «в развертывании событий» «развертывалась история предков…» («Осужденный жить»).
РАЗВИНТИТЬСЯ — «ты совсем развинтился» («Осужденный жить»).
РАЗВЯЗНОСТЬ — «подпрыгивающая развязность» («О Достоевском»).
РАЗГУЛ красок.
РАЗДОСАДОВАННЫЙ мопс («Злосчастный монах»).
РАЗМЕСТИТЬ — «кругом разместились ветвистые тени…» («Московский особняк»).
РАЗМЕТАТЬ — «размечи горячею золою…» («Ты права, не нужно о любви…»).
РАЗНОСНО-ДОНОСИТЕЛЬНАЯ статья («Велимир Хлебников»).
РАЗНОШЕРСТНАЯ одежда («Осужденный жить»).
РАЗНУЗДАННАЯ арцибашевщина («Велимир Хлебников»), «разнузданное казнокрадство» («О самом главном»).
РАЗОРВАННЫЙ — «картины, разорванные сознанием» («Осужденный жить»), «плачем разорванный рот…» («Перепутья»).
РАЗРАЗИТЬСЯ — «разразился крах грандиозного электрического предприятия» («Осужденный жить»).
РАСЛЮЩЕННЫЙ — «расплющенных вершин…» («Над обрывом»).
РАСПЛАВЛЯТЬ — «расплавится поток событий, чувств и дней…» («Над обрывом»).
РАСПЛЕСКАТЬ — «речи ручьев расплескала весна…»
РАСПЛОДИТЬСЯ — «салфеточки расплодились во всем доме» («Осужденный жить»).
РАСПЛЮЩИВАТЬ — «фонари расплющивают грязь…» («Перепутья»).
РАСЧЕТЛИВЫЙ «отводил заслоны расчетливый Барклай» («Можайское шоссе»).
РАССЫПАТЬ — «закат рассыпал розовые пятна…».
РАСТЕРЯННЫЙ — «растерянная курица» («Осужденный жить»).
РАСТОПТАННЫЙ улыбкой радостных красок («Осужденный жить»).
РАСТОЧЕННЫЙ — «из камня расточенной веры…» («Седьмая жена Синей Бороды»).
РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ — «питалось всей расточительностью разнообразия» («Осужденный жить»).
РАСЦВЕТИТЬ — «расцвечено звездами небо…» («Гордая душа»).
РАСЧЕСАТЬ — «за конским хвостом, расчесанным ветром…» («Осужденный жить»).
РАСЧЕС — «с генеральским расчесом серебряных крыльев» («Осужденный жить»).
РАСЩЕПЛЕННЫЙ — расщепленный противоречиями рассудок» («О самом главном»).
РЕАКЦИОННЫЙ — «представителей реакционного отребья» («Эссе-воспоминания»).
РЕПЛИКА — «мгновенно блеснувшая молния этой реплики» («Велимир Хлебников»).
РЕСНИЦЫ — «плотно сжав ресницы страниц…» («Запад»).
РЕЧИ ручьев («Гни, Берлин, поясницу в поклоне…»).
РЕШИТЕЛЬНЫЙ — «решительный шар» («Московский особняк»).
РЖАВЫЙ — «мелькнувшим в речке ржавой…» («От глаз укрыты ночью…»).
РЖАТЬ — «желтый стронциан, оскалясь ржет с полотен» («Ван Гог»).
РИТМ — «лихо приплясывающем судорожном ритме» («Золотое руно»).
РОДОСЛОВНЫЕ разговоры («Осужденный жить»).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ запах («Осужденный жить»).
РУБИНОВЫЕ — «мышь с красными рубиновыми глазками…» («Муська»).
РУКОПИСЬ — «рукопись славы» («Сон спящей царевны»).
РЫЧАТЬ — «рычал орудий грохот непонятный…» («Овраг»).
САМОДОВЛЕЮЩИЙ — «самодовлеющая эмоция» («О самом главном»).
САМООБОЛЬЩЕНИЕ — «в теплой ванне самообольщений» («Черный монах»).
САМОЦВЕТЫ подлинно народного духа («Велимир Хлебников»).
САТАНИНСКАЯ гордость («Осужденный жить»).
СБИВАТЬСЯ — «ночь сбивается со счета…» («Шуршит листва»).
СВАСТИКА — «Враг вцепился свастиками рук…» («Они стоят»), «когти свастики» («Гордая душа»).
СВЕРКАЩИЕ строки или образы («Велимир Хлебников»), «сверкающая свежесть» («О Пушкине»), («Осужденный жить»).
СВЕРЛИТЬ — «сверлили тучи…» («Узлом неотвратимого склероза»).
СВЕТИТЬСЯ — «светиться изнутри бесчисленными творческими находками» («Осужденный жить»).
СВЕТЛЫЙ ужас прошлого («Осужденный жить»).
СВЕТЛЯЧКИ окошек («Осужденный жить»).
СВИНЦОВЫЙ — «все высушил выскоблил, выжег свинцовый безжалостный ветер…».
СВОЕВРЕМЕННЫЙ — «прошли своевременные дожди» («Осужденный жить»).
СГУСТИТЬСЯ — «Сгустился вечер. Вспыхнули огни…» («Сонет»).
СГУСТОК — «чтоб сгустки наших дней забились у пера…» («О войне»).
СДОБРЕННЫЙ — «словами, сдобренными мягким ласковым голосом…» («Злосчастный монах»).
СЕДОЙ — «в дыму седых легенд…» («Перед салютом»), «трава, как Библия седая…» («Летит крутящаяся пыль…»).
СЕРЕБРИСТОЕ сопрано («Осужденный жить»), «серебристый песок» («Осужденный жить»).
СЕРЕБРЯНЫЙ блеск посуды хрустальной («Осужденный жить»).
СИЗО-ГОЛУБОЙ — «горели сизо-голубыми лапками колючие американские елочки» («Осужденный жить»).
СИЗОЕ — «сизое от жары небо» («Осужденный жить»).
СИЛЛОГИЗМ — «на пути запуганных и изощренных силлогизмов…» («О самом главном»).
СИМФОНИЯ — «симфония уничтожения» («О самом главном»).
СКАБРЕЗНЕНЬКИЙ анекдотец («Осужденный жить»).
СКАЗАНЬЕ — «сказанье древних стен…» («Англичане над Берлином»).
СКАРЛАТИНА — «свила гнездо скарлатина» («Осужденный жить»).
СКВОЗНОЙ — месяц бледный и сквозной…» («Сонет»).
СКЕЛЕТ — «скелет души раскрошен и разъят…» («Над обрывом»).
СКИПЕВШИЙСЯ — «в скипевшейся памяти злобу храня…» («Поэма без названия»).
СКЛОНИТЬСЯ — «заботливо склонен…» («Перекопские казармы»).
СКОЛЬЗИТЬ — «напрасно сравнивать. Сравнения скользят…» («О войне»), «скользкие холодные капли пробираются за шиворот» («Осужденный жить»).
СКОПЧЕСКОЕ выражение безбородого личика («Осужденный жить»).
СКОРОБЛЕННЫЙ — «летят наискосок скоробленные желтые листья» («Осужденный жить»).
СКОРЧИТЬСЯ — «в термометре ртуть, скорчась и съежась…» («Поэма без названия»).
СКРАДЫВАТЬ — «люблю скрадывать на ходу с губ прохожих случайные фразы…» («Соловей на Театральной площади»),
СКРЕЖЕТ — «скрежет шин» («На улицы ложится тьма…»).
СКРИПЕТЬ — «торопливо скрипят сапоги» («Осужденный жить»).
СКУЛЬПТУРНЫЙ — «висят тяжкие скульптурные грозди зеленого и черного винограда» («Осужденный жить»).
СЛАВЯНСКИМ — «на губы ложится славянская соль» («Вагоны»).
СЛАДОСТНЫЙ — «в бездействии сладостном» («О Достоевском»).
СЛЕЗИТЬ — «эта осень, как баба простая, слезила в подол…» («Перепутья»).
СЛЕЗЛИВЫЙ романтизм Карамзина («Велимир Хлебников»).
СЛИТНЫЙ — «слитный вой встревоженных сирен…» («Поэма без названия»), «слитный рев, плывущий сквозь снега…» («Галки…»).
СЛОВЕСНЫЙ — «сюжет повисал в невоплощенном в условия быта словесном тумане» («Осужденный жить»).
СЛОИСТЫЙ — «крутится папиросный дым слоистый, облачный…» («О войне»).
СЛУЖЕБНЫЙ — «по служебным этапам», «в служебной канве заметавшись иглой…» («Чудесно»).
СЛУЧАЙНЫЙ — «задрапированный случайными складками своей фиолетовой мантии» («Осужденный жить»).
СЛЯКОТИТЬ — «безудержно слякотит осень…» («Перепутья»).
СЛЯКОТЬ — «мелкую человеческую слякоть…» («О Достоевском»).
СМЕРДЯЩИЙ — «на жизнь в наступленье смердящих смертей…» («Через столетья»).
СМЕСТИ — «рядами коек парты сметены…» («Хозяин»).
СМУТНЫЙ — «смутные фигуры копошатся…» («Осужденный жить»), «смутный бред» («Метеопсихоз»).
СНОП — «цветной сноп света» («Цветное стекло»), «в снопах многоцветных» («Друзьям; москвичам»).
СОГБЕННЫЙ — «среди согбенных прихожан» («Осужденный жить»), «этот серый согбенный человек» («Велимир Хлебников»).
СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ — «часы созерцательного бездействия» («Осужденный жить»).
СОЗНАНИЕ — «безнадежные тупики сознания» («О Достоевском»).
СОЛНЕЧНЫЙ — «пляшут светотени солнечный гавот…» («Пародийное»), «солнечный оранжевый ананас» («Осужденный жить»).
СОЛОНОВАТЫЙ — «солоноватая волна…» («Маленькая симфония»).
СОЛОНЦОВЫЙ песок («Поэма без названия»).
СООТВЕТСТВИЯ — «цветовые соответствия» («Велимир Хлебников»).
СОРВАННЫЙ — «сутки сорваны, точно листик календарный…» («Перепутья»).
СОЧНЫЕ груди («Гоген»).
СПИРИТУАЛИСТИЧЕСКАЯ ребусность («Велимир Хлебников»).
СПЛЮЩЕННЫЙ стакан («зенитный») («В подмосковном лесу»).
СПОТЫКАТЬСЯ — «и спотыкаются дома…» («На улицы ложится тьма…»).
СРЕПЕТИРОВАННЫЙ — «заранее срепетированные советы» («Злосчастный монах»).
СТАЛЬНОЙ — «вихрем стальной завывавшей метели…» («Гордая душа»).
СТАРОСВЕТСКИЙ — «старосветские сверчки» («Из дневника»).
СТВОЛИК — «окурок сигары и изогнутым стволиком серого пепла» («Осужденный жить»).
СТЕКАТЬ — «стекало солнце желтым воском…» («Мой народ»).
СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ — «короткая стеснительная пауза» («Осужденный жить»).
СТОЛПИТЬСЯ — «солнца лучи столпились в окне…» («Чудесно»).
СТОНУЩИЙ — «и к стонущей гармошке на селе…» («Я говорю с тобой…»), «хорал стонущих сирен» («Л-ву»), «стон струны» («Оранг»).
СТОРОЖА — «сторожею бродит луна».
СТРЕЛЬЧАТЫЙ — «взлетами стрельчатых линий», «готическими стрельчатыми арками» («Осужденный жить»), «Стрельчатый гавот» («Пародийное»), «стрельчатой прорези в стене…» («1984»).
СТРЕМИТЕЛЬНОЕ жало («Англичане над Берлином»), «стремительно туда указывал рукой…» («Можайское шоссе»).
СТРОГИМИ — «кони косят внимательными строгими белками» («Осужденный жить»).
СТРУЙКИ — «где в желтовато-лунных струйках света…» («При луне»).
СТРУЧКИ — «трамваев переполненных стручки…» («Из дневника»).
СТРУЯЩИЙСЯ — «в шелках струящихся знамен…» («Маленькая симфония»).
СТУПАТЬ — «туфлей тряпичною… ступая» («Мураново»).
СТЯНУТЬ — «рельсами кровлю стянуло жгутом…» («Гордая душа»).
СУДОРОЖНЫЙ — «судорожная пляска» («Черный монах»).
СУКАСТЫЙ — «сукастые рябины» («О войне»).
СУКРОВИЦА — «пивною сукровицей сочась…» («Я возвращаюсь под утро, город…»).
СУМЕРЕЧНЫЙ — «сумеречные глубины сознания» («О самом главном»), «сумеречные синие кристаллы» (сверкали на окнах) («Осужденный жить»).
СУМЕРКИ — «в сумерках бреда больного Ван-Гога…» («Я возвращаюсь под утро, город…»).
СУРОВЫЙ «словно дышит суровым покоем…» («Наступление»).
СУХОЙ — «сквозь разлуки сухое горе…» («Запад»).
СХЛЕСТЫВАТЬ — «ростокинский ветер схлестывал плечи…» («Друзьям-москвичам»).
СШИБАТЬСЯ — «сшибаются нейтроны…» («Над обрывом»), (у Даля сшибательный).
СЪЁЖИТЬСЯ — «в термометре ртуть, скорчась и съежась…» («Поэма без названия»).
СЫРОЙ — «сырой закат над головой…» («Л-ву»).
ТАЙНИКИ директорского мозга («Осужденный жить»).
ТЕМНЕТЬ — «часть дома, темневшую устьем русской печи» («Осужденный жить»).
ТЕРПКИЙ — «слухов терпкий зуд» («Поэма без названия»).
ТОЛЩА — «толща мрака» («Параллель»).
ТОПОРЩИТСЯ… неясной массой («Осужденный жить»).
ТОПОТАНЬЕ копыт («Осужденный жить»).
ТОРЖЕСТВЕННАЯ мрачность великопостных служб («Осужденный жить»), «торжественный контур».
ТОРОПЛИВЫЙ — «написать торопливой рукой» («Эссе-воспоминания»).
ТОЩИЙ — «холоп на тощем одре» («Осужденный жить»).
ТРАГИЧЕСКИЙ — «трагически смешна…» («Поэма без названия»).
ТРАНЗИТ — проносящихся мыслей осенний транзит…» («Оголенные сучья природы умершей…»).
ТРАЧЕННЫЙ — «и памятники те, чуть траченные молью…» «Перепутья»).
ТРЕПЕТНЫЙ — «умеет исполнить ужасом трепетным сердце» («Осужденный жить»), «колеблется трепетный огонек у иконы», «трепетный свет лампад» («Осужденный жить»), «трепетный отклик сердец» («О поэтическом переводе»), «трепетный свет лампад» («Осужденный жить»).
ТРЕПЕЩУЩИЙ — «все это было теплой, живой, трепещущей жизнью» («Осужденный жить»), «трепещущий расплаты…» («Англичане над Берлином»).
ТРЕХМЕРНЫЙ — «трехмерной клеткою пресытиться душа…».
ТРОНУТЬ — «кусты, не тронутые увяданием осени» («Осужденный жить»).
ТРОПА — «тропой испытанных примет…» («Мой народ»).
ТУГОЙ — «зеленые тугие корки только что съеденной дыни» («Осужденный жить»), «улиц тугое литье» («Я возвращаюсь под утро, город…»), «тугой силок Сталинграда…» («абвгд абвгд»), «ноги — точно туго накрахмалены» («Разговоры с Чертиком»), «туго набитый трамвай» («Вечер на Таганке»).
ТУГОПЛАВКИЙ — «и пламенеет тугоплавкий закат…» («На улицы ложится тьма…»).
ТУМАН — «сквозь туман полусна продерется луч памяти» («Осужденный жить»).
ТУМАННЫЙ — «повинуясь туманным законам» («Осужденный жить»).
ТУПОЕ любопытство («Осужденный жить»).
ТУСКЛЫЙ — «и вдруг разбежались зрачки его тусклые…» («Гордая душа»).
ТЩЕДУШНОЕ тельце («Осужденный жить»).
ТЯГОСТНЫЙ — «в тягостном безразличии…» («Осужденный жить»).
ТЯЖКИЙ — «тяжкие грозди», «тяжкий засов» («Осужденный жить»).
УБИЙСТВЕННАЯ сладость воспоминаний («Осужденный жить»).
УБИТЫЙ — «убитая шагами прожелтевшая тропинка» («Осужденный жить»).
УВЕСИСТЫЙ шлепок («Осужденный жить»).
УГЛОВАТЫЙ — «городских угловатых обугленных стен…» («Московский особняк»).
УДЛИНЕННЫЙ — «удлиненные, беспокойные тени, мечущиеся по потолку» («Осужденный жить»).
УЗЛОВАТЫЙ — «опалили ступни узловатые ключнице» («Осужденный жить»).
УЗОРЧАТЫЙ фонтанчик («Осужденный жить»).
УКРЫТЫЙ — «далей, укрытых сверху серым осенним небом» («Осужденный жить»).
УЛЕЙ мозга («Осужденный жить»).
УЛЫБАТЬСЯ — «полотно улыбнулось» («Осужденный жить»).
УЛЬТРАМАРИН — «вечер кроет ультрамарином…» («Соловей на Театральной площади»).
УНЫЛЫЙ — «унылой статичностью» («Осужденный жить»).
УПЁРШИЙСЯ — «мы всей бессонницей, упершейся в виски…» («Поэма без названия»).
УПРУГИЙ — «упругая мякоть… с хрустом откусывали…» («Осужденный жить»).
УСТУП — «с твердого уступа подбородка» («Осужденный жить»).
УТОМИТЕЛЬНАЯ монотонность («Осужденный жить»).
УТРОБНЫЙ бас прорычит «многолетие» октавой ниже (Злосчастный монах»).
ФАЛЬЦЕТ — «фальцетом копыт об асфальт…» («Запад»).
ФАНТАСМАГОРИЯ — «фантасмагория бессонного кошмара…» («Из дневника»).
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ — «фантастические фигуры подсолнечников» («Осужденный жить»).
«ФАРФОРОВЫЙ — «капризное фарфоровое личико» («Осужденный жить»).
ФИОРИТУРА — «прорваться ливнем фиоритур…» («Соловей на Театральной площади»).
ФРАГМЕНТАРНОСТЬ целого («Велимир Хлебников»).
ФУГАСНЫЙ — «ночью фугасные ведьмы выли…» («Об этой весне рассказала бы ода…»).
ХАОТИЧНОСТЬ и неорганизованность хлебниковского таланта («Велимир Хлебников»).
ХИТРОУМНАЯ изворотливость («Осужденный жить»).
ХОЛМИСТЫЙ — «лилово-голубые холмистые и прозрачные дали» («Осужденный жить»).
ХОРАЛ — «хоралом стонущих сирен» («Л-ву»).
ХРИПЕТЬ — «захрипели старинные часы» («Осужденный жить»), «кран хрипит туберкулезником…» («Перепутья»).
ХУДОСОЧНЫЙ — «Брезжил рассвет худосочный и куцый…» («Запад»), «худосочный рассвет» («Гордая душа»).
ЦВЕТОВЫЕ аккорды («Осужденный жить»).
ЦЕЛЬНОСТЬ — «отмеченный… цельностью суровой прямоты» («Осужденный жить»).
ЦЕМЕНТ — «путем замазывания цементом материализма… зияющих трещин…» («О самом главном»).
ЦЕПЛЯТЬСЯ — «день уплывает в прошлое, цепляясь вылетающим из труб седым дымом» («Осужденный жить»), «стол… цепляется углом, устав от чаевых…» («Дождь чертит по стеклу, как грифель графомана…»).
ЦИНИЧНАЯ торопливость («Осужденный жить»).
ЧАХОТОЧНЫЙ — «чахоточной осени желтизну воспели не раз Левитан и Чехов…» (Московский особняк»).
ЧВАНСТВО — «самоуверенное чванство» («Осужденный жить»).
ЧЕКАНИТЬ — «сентябрь чеканит желтизну…» («От глаз укрыты ночью, шепчут травы…»).
ЧЕКАННЫЙ — «чеканный контур их торжественен и прост…» («Перед салютом»).
ЧЕРНЕТЬ — «сад чернел незнакомыми черными купами» («Осужденный жить»), «чернеть баррикадой горбатой…!» («Московский особняк»).
ЧЕСАТЬ — «частым гребнем чешут клевера…» («Гордая душа»).
ЧЕТКИЙ Фальконет («Перепутья»).
ЧИНОВНИЧЬИ — «маленькие чиновничьи мысли» («Осужденный жить»).
ЧУДОВИЩНЫЙ — «чудовищная гнусность» («О самом главном»).
ШАМАНИТЬ — «шаманит, завораживает бубен…» («Из дневника»).
ШАСТАТЬ — «когти шастают, шарят…» («Гордая душа»).
ШАТКОСТЬ — «моральная и человеческая шаткость» («О Достоевском»).
ШЕЛКОВИСТЫЙ — «черную шелковистую тушку» («Осужденный жить»).
ШЕЛУХА — «прощаний шелуха сухая…» («Зачем, тускнея понемногу…»).
ШЕРШАВЫЙ — «плыли шершавые тучи» («Осужденный жить»).
ШИРОКОЛИСТВЕННЫЙ — «широколиственная гостеприимность» («О самом главном»).
ШИРОКОПЛЕЧИЙ — «стремленье узнавал широкоплечих крыл…» («Маяковский»).
ШИРОКОРОТЫЙ — «с широкоротыми птенцами» («Осужденный жить»).
ШЛЕЙФ — «из углов шлейфами свисает паутина» («Осужденный жить»).
ШУРШАТЬ — «книжные полки шуршали авторитетами отечественными и переводными» («Велимир Хлебников»).
ШУШЕНСКИЙ окрик («Осужденный жить»).
ЩЕЛЕВИДНЫЙ — «прикрыв загадочные щелевидные зрачки» (о козочке) («Осужденный жить»).
БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу выразить благодарность за участие и помощь в работе A. Л. Зезюлиной, Е. П. Хилтунен, А. М. Хилтунен, З. М. Шаляпиной, А. Костыркину (Ин-т востоковедения РАН), Н. М. Филатовой (Ин-т славяноведения РАН), К. В. Ковальджи, О. Шадчиной, Л. А. Заворотной, О. М. Никитюк, А. Петухову, Т. Е. Егоровой (Музей изобразительного искусства имени А. С. Пушкина), Т. А. Мозжухиной (музей «Кусково»), Е. В. Долгих (Музей декоративного и прикладного искусства) и особую благодарность Ирине Михайловне Гореловой.
Примечания
1
Вторая Мировая война 1939–1945 развязана Германией вместе с Италией и Японией. 1 сентября 1939 г. Германия вторглась в Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну, но не оказали Польше военной поддержки. В апреле — мае 1940 г. Германия оккупировала Данию и Норвегию, 10 мая вторглась в Бельгию, которая капитулировала 28 мая. Нидерланды капитулировали 14 мая, Люксембург, а затем через их территорию Гитлер вошел во Францию, которая капитулировала 22 июня 1940 г. 10 июня 1940 г. в войну на стороне Германии выступила Италия. В апреле 1941 г. Германия захватила территории Греции и Югославии.
22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз. Вместе с ней выступили Венгрия, Румыния, Финляндия, Италия. С этого момента советско-германский фронт являлся главным фронтом войны (около 70 % немецкий дивизий). В декабре 1941 г. Япония напала на Перл-Харбор (США).
В июле 1943 г. англо-американские войска высадились на о. Сицилия. 3 сентября 1943 г. Италия подписала капитуляцию.
В 1944 году Армия России освободила почти всю территорию Советского Союза. Только 6 июня 1944 г. союзники высадились во Франции, открыв второй фронт в Европе. Русская Красная Армия освобождала Польшу, Венгрию, Югославию, Чехословакию. Пражская операция закончилась 11 мая 1945 года.
2 мая 1945 г. Русской Армией был взят Берлин и 8 мая подписан акт о безоговорочной капитуляции.
6 августа 1945 г. США сбросили атомные бомбы на Японию (Хиросима) и 9-го — на Нагасаки. В соответствии со взятыми обязательствами, СССР начал военные действия против Японии (9 августа). Против Японии выступил Китай, и 2 сентября 1945 г. Япония подписала акт о капитуляции. (Примеч. сост.).
(обратно)2
Ворошилов Клим Ефремович (1881–1969) — советский государственный, партийный и военный деятель. Участник революций. В 1918 г. командовал армией, в 1925 — нарком по военным и морским делам, 1934 — нарком обороны, 1921–1961 — член политбюро.(Примеч. сост.).
(обратно)3
Бенедетто Кроче (1866–1952) — итальянский философ-идеалист, историк, литературовед, политический деятель. Представитель итальянского неогегельянства и буржуазного либерализма. Противник фашистского режима. Его взгляды критиковались итальянскими марксистами.(Примеч. сост.).
(обратно)4
Пьемонт — область на северо-западе Италии. Впервые упоминается в XIII веке. В XV в. вошел в Савойское герцогство. В 1720 г. — основная часть Сардинского королевства. В экономическом отношении наиболее развитая часть Италии.
(обратно)5
Геродот — (между 490 и 480 — около 425 до н. э.) — древнегреческий историк, прозванный «отцом истории». Автор сочинений, посвященных описанию греко-персидских войн с изложением истории государства Ахеменидов, Египта и др.; дал первое систематическое описание жизни и быта скифов.
(обратно)6
Петсамо — незамерзающий порт на Ледовитом океане. До 1920 г. — Финляндия. В 1920–1944 гг. название поселка Печенга. Петсамо-киркенесская операция в октябре 1944 г. Войска Карельского фронта генерала Мерецкова К. А. во взаимодействии с Северным флотом (адмирал А. Г. Головко) прорвали оборону 20-й армии Германии Л. Рендулича, освободили Петсамо (15 октября) и северные районы Норвегии (в том числе Киркенес). После войны порт отошел к России. (Примеч. сост.).
(обратно)7
Капри — остров в Тирренском море в составе Италии. Климатический курорт. (Примеч. сост.).
(обратно)8
Муссолини Бенио (1883–1945) — диктатор Италии 1922–1943. Политическую карьеру начал в социалистической партии, из которой был исключен в 1914 году. В 1919 основал фашистскую партию. В 1922 при содействии монополий, монархии и Ватикана захватил власть и установил фашистскую диктатуру. Вместе с Гитлером развязал Вторую Мировую войну. В 1945 году был захвачен итальянскими партизанами и казнен по приговору трибунала. (Примеч. сост.).
(обратно)9
Липари — Липарские острова (17 вулканических островов в Тирренском море на территории Италии, на двух островах есть действующие вулканы). (Примеч. сост.).
(обратно)10
Монтескье Шарль Луи (1689–1755) — французский просветитель, правовед, философ. Выступал против абсолютизма. Основное сочинение «Персидские письма» (1721), «О духе законов» (1748). (Примеч. сост.).
(обратно)11
Скутер — одноместный спортивный глиссер с подвесным двигателем. (Примеч. сост.).
(обратно)12
Каноэ — спортивная лодка. (Примеч. сост.).
(обратно)13
Густав V — король Швеции. Вступил на престол 8 декабря 1907 г. (Примеч. сост.).
(обратно)14
Страндвеген — набережная в Стокгольме («стран» — берег, «веген» — улица). (Примеч. сост.).
(обратно)15
Стокгольм — столица Швеции, порт на Балтийском море, Основан в 1252 году. С конца 13 века — резиденция короля. Окончательной столицей независимого шведского государства стал с расторжением Кальмарской унии (1523). Университет. Королевская шведская Академия Наук. Этнографический парк-музей Скансен. Романо-готические церкви Сторчюрка и Риддархольмсчюрка XIII в. Королевский дворец Дроттинхольм (барокко, конец XVII–XVIII вв.), ратуша (1921–1923). (Примеч. сост.).
(обратно)16
Бернадоты — шведская королевская династия с 1818 г. Родоначальник Жан Батист Бернадот (1763–1844) — маршал Франции (1804 г.). Участник революционных и наполеоновских войн. В 1810 уволен Наполеоном и избран наследником шведского престола. В 1813 г. командовал шведскими войсками в войне против Франции. В 1818–1844 — шведский король Карл XIV Юхан, основатель династии Бернадотов. (Примеч. сост.).
(обратно)17
Тессин Никодемус Младший (1654–1728) — шведский архитектор. Пышную отделку интерьеров в духе барокко сочетал со строго прямоугольной планировкой (Королевский дворец в Стокгольме, 1697–1760).(Примеч. сост.).
(обратно)18
Монмартр — район Парижа (с 1860), бывший пригород. С конца XIX в. приобрел известность как место обитания артистической богемы. (Примеч. сост.).
(обратно)19
Роден Огюст (1840–1917) — выдающийся французский скульптор. «Мыслитель» — его работа для «Врат ада» — монументальная композиция из бронзы (Музей Родена, Париж). Начал работу с 1880 года, осталась незавершенной из-за смерти художника; «Поцелуй» (1886) (Лувр, Париж), «Граждане Кале» (1884–1886), статуя «Бронзовый век», 1877 (Музей Родена, Париж), скульптуры Бальзака, В. Гюго. (Примеч. сост.).
(обратно)20
Стиль конца XIX века. (Примеч. сост.).
(обратно)21
Вилла Вальдемарсудден — вероятно, от имени короля шведского Вальдемара (1250–1288), сына ярла Биргера. Был низложен во время междоусобий и умер в плену в 1302 году. (Примеч. сост.).
(обратно)22
Пюви де Шаванн Пьер Сесиль (1824–1898) — французский живописец-символист. Писал в основном огромные декоративные панно в бледных тонах на мифологические темы с использованием аллегорических образов, для общественных зданий, таких, как Пантеон в Париже. (Примеч. сост.).
(обратно)23
Боннар Пьер (1867–1947) — французский живописец и график. Испытал влияние Гогена и японской гравюры, специализировался на бытовых сценах и пейзажах. Написал серию «ню». (Примеч. сост.).
(обратно)24
Пейзажи Иль де Франса — название французской старинной провинции. Исторический центр под Парижем, откуда был родом отец Марселя Пруста Адриен Пруст. (Примеч. сост.).
(обратно)25
Цорн Андерс (1860–1920) — шведский живописец и график. Виртуозно владея техникой живописи и офорта, передавал эффект освещения в сценах сельской, городской жизни и портретах («Танец в Иванову ночь», 1897). (Примеч. сост.).
(обратно)26
Маринбергский фарфор — завод фаянсовых и фарфоровых изделий под Стокгольмом (Швеция), существующий со второй половины XVIII в. (Примеч. сост.).
(обратно)27
Рёстрандский фарфор — фарфоровая фабрика в Мюнхене (Германия). С первой половины XVIII в. выпускал керамику, со второй — фарфор. Конец XIX — начало XX — эпоха модерна. (Примеч. сост.).
(обратно)28
Грюневальд Исаак — на самом деле его имя Нитхард Матис (между 1470 и 1475–1528) — немецкий живописец эпохи Возрождения, которого с XVII века ошибочно называли Грюневальдом. Его творчество связано с идеологией народных низов и антифеодальными ересями, исполнено драматической силы, напряжения и динамизма. (Примеч. сост.).
(обратно)29
Орефорский хрусталь — от названия местечка Орефорс в Швеции. Производство основано в 1898 г. Выпускался граненый хрусталь, а также гравировка по стеклу. Особенно прославился в 1925 г., представленный на знаменитой торговой выставке в Париже. (Примеч. сост.).
(обратно)30
Прованс — историческая область и современный экономический район на юго-востоке Франции. Во 2-й половине IX века — королевство, в 1015 — графство в составе «Священной Римской империи», в 1481 Прованс был присоединен к Франции и до 1790 г. имел статус провинции. (Примеч. сост.).
(обратно)31
Авиньон — город на юге Франции на р. Рона. Комплекс папского дворца (XIV в.) с фресками (XIV–XV вв.). Место прибывание римских пап в 1309–1377 г., в 1348–1791 (официально с 1797) — папское владение. (Примеч. сост.).
(обратно)32
Ним — город во Франции. Римские постройки: арка Августа (XVI в. до н. э.), храм «Мезон Карре» (конец XVIII до н. э. — нач. I в. н. э.) (Примеч. сост.).
(обратно)33
Арль — город во Франции, в Провансе, на реке Рона, каналом связан со Средиземным морем. Древнеримские архитектурные памятники, романская церковь Сен-Трофим (основное строительство X–XI вв.). (Примеч. сост.).
(обратно)34
Мунте Аксель (1859–1949) — возм. врач, завоевал международное признание после выхода его автобиографического романа «История Сан-Микеле» в 1929 году. (Примеч. сост.).
(обратно)35
Башня Материта — на Капри (Италия). (Примеч. сост.).
(обратно)36
Луи XV (Филипп) 1773–1850 — французский король в 1830–1848. Из младшей, Орлеанской ветви династии Бурбонов. Возведен на престол после Июльской революции 1830 г. Свергнут Февральской революцией 1848 г. (Примеч. сост.).
(обратно)37
Рулада — быстрый и виртуозный пассаж в пении (преимущественно в партиях колоратурного сопрано). (Примеч. сост.).
(обратно)38
Kranken-Volk (нем.) правильно «фолк».
(обратно)39
Слава была (англ.), величие было.
(обратно)40
Humble Garden (англ.) — скромный сад.
(обратно)41
В Фестлиг-Сцене — возможно, от нем. Festlich — праздничный, торжественный. (Примеч. сост.).
(обратно)42
Стрём — возможно, от фин. слова «поток», «река». (Примеч. сост.).
(обратно)43
Архипелаг Меларен близ Дроттинхольма — Меларен — большое озеро в Швеции близ Стокгольма. (Примеч. сост.).
(обратно)44
Saltsjösbaden.
(обратно)45
Валхаллавеген — название улицы (от фин. «веген» — улица). (Примеч. сост.).
(обратно)46
Неоклассицизм — общее название художественных течений второй половины XIX и XX вв., основывавшихся на классических тенденциях искусства античности, Возрождения и классицизма. (Примеч. сост.).
(обратно)47
Стринберг Юхан Август (1849–1912) — шведский писатель. Исторические драмы, рассказы, психологические, натуралистические, лирические и философские драмы, психологические романы, автобиографические романы, публицистика. (Примеч. сост.).
(обратно)48
Haben sie ihnen geschmeckt? (нем.).
(обратно)49
Неккар — река на юго-западе Германии, правый приток Рейна. Штуттгарт — город на реке Неккар. (Примеч. сост.).
(обратно)50
Гёльдерлин Фридрих (1770–1843) — немецкий поэт-романтик. В одах, лирике, философской трагедии «Смерть Эмпедокла», романе «Гиперион» выражены стремления к революционным идеалам, слиянию человека с природой, «космосом», культ античности, переживание разлада с обществом и с самим собой. (Примеч. сост.).
(обратно)51
Не правда ли? (нем.).
(обратно)52
Ах, так (нем.).
(обратно)53
Ах, очень забавно (нем.).
(обратно)54
Екатерининский фарфор — фарфоровый завод в Санкт-Петербурге, основан в 1744 г. при Екатерине II. Около 1747 г. Д. И. Виноградовым открыт способ производства твердого фарфора из отечественного сырья. В конце XVIII в. выпускали чайные, кофейные, столовые сервизы, вазы, бюсты в стиле раннего классицизма, с начала XIX в. — в стиле ампир (в росписи — сюжеты войны 1812 г.) После 1917 г. завод стал именоваться «им. Ломоносова». (Примеч. сост.).
(обратно)55
Фаберже Петер Карл (1846–1920) — русский ювелир. После революции умер в эмиграции в Швейцарии. Большинство предметов из его огромной коллекции после 1917 года пошло за границей «с молотка». (Примеч. сост.).
(обратно)56
Упсала — город в Швеции. Первый в стране университет (1477). Поселение с XII века, с 1273 — резиденция архиепископа, место коронации шведских королей (до 1719). Дом-музей К. Линнея. В 5 км к северу от Упсалы находилась т. н. Старая Упсала (упоминается в IX веке), религиозный и политический центр древней Швеции (в 1245 г. сгорела). (Примеч. сост.).
(обратно)57
Линней Карл (1707–1778) — шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира, первый президент шведской Академии Наук (1739), иностранный почетный член Петербургской Академии Наук (1754). Классификация растений (около 1500 видов) и животных. Автор «Системы природы» (1735) и «Философии ботаники» в (1751 г.) (Примеч. сост.).
(обратно)58
Горации — древнеримский патрицианский род. Его легендарными представителями считались три юноши-близнеца Горации, победившие в VII веке до н. э. в единоборстве трех близнецов Куриациев. (Примеч. сост.).
(обратно)59
Аппиева дорога — первая римская мощеная дорога, проложена при цензоре Аппии Клавдии в 312 году до н. э. между Римом и Капуей (350 км); в 224 г. до н. э. доведена до Брундизия. Сохранилась почти вся. (Примеч. сост.).
(обратно)60
Дега Эдгар (1834–1917) — французский живописец импрессионист и скульптор. Изображал на полотнах танцовщиц, лошадей, молодых женщин за работой. Писал пастелью. После 1890 гг. больше внимания уделял скульптуре, делал фигурки из воска. Ученик Энгра. Работал в Италии в 1850-х гг., писал картины на классические сюжеты. В 1861 г. встретил Мане и регулярно участвовал в выставках импрессионистов. На его творчество оказала влияние японская гравюра и фотография, что выразилось в необычных ракурсах и изобретательных композициях. (Примеч. сост.).
(обратно)61
Молотов (настоящая фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986) — советский государственный и партийный деятель. В 1939–1949 и в 1953–1956 гг. — нарком министерства Иностранных дел. (Примеч. сост.).
(обратно)62
Гамильтон — древний шотландский род. (Примеч. сост.).
(обратно)63
Гота — город в Германии. (Примеч. сост.).
(обратно)64
Графиня Эдда Чиано — дочь Муссолини, жена Голеаццо Чиано министра иностранных дел фашистской Италии в 1936–1943. (Примеч. сост.).
(обратно)65
Мона Вильямс — возможно имеет отношение к (Вильямсу Альберту Рису) (1883–1962) — американский журналист, интернационалист. В 1917–1918 был в России; в 1943 — книга «Русские. Страна, народ и за что он сражается». (Примеч. сост.).
(обратно)66
Бисмарк Эдди — внук князя Бисмарка Отто фон Шенхаузена (1815–1898), первого рейхсканцлера Германской империи в 1871–1890 гг., осуществившего объединение Германии на прусско-милитаристской основе. (Примеч. сост.).
(обратно)67
Лазурный берег — (Французская Ривьера), побережье Средиземного моря, на юго-востоке Франции у южных подножий Альп. Курорты: Ницца, Канны, Ментона и др. (Примеч. сост.).
(обратно)68
Девушек (англ.).
(обратно)69
Штормовая погода (англ.). — Stormy weather.
(обратно)70
Песня дождя (англ.). — Singing in the rain.
(обратно)71
Турин — город в северной Италии, административный центр провинции Турин и области Пьемонт. При императоре Августе — римская колония. В 1563–1720 — столица Савойского герцогства, в 1720–1861 (с перерывами) — Сардинского королевства. Собор XV–XVIII вв., барочные церкви и дворцы. Университет. (Примеч. сост.).
(обратно)72
Сафо (Сапфо) — VII–VI вв. до н. э. — древнегреческая поэтесса. (Примеч. сост.).
(обратно)73
Платон (428 или 427 до н. э. — 348 или 347) — древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа. Учение Платона — первая классическая форма объективного идеализма. (Примеч. сост.).
(обратно)74
Афродита — в греческой мифологии богиня любви и красоты, возникшая из морской пены. Ей соответствует римская Венера. Знаменитая статуя Афродиты (древнегреческая) — «Афродита Книдская» (ок. 350 до н. э., Пракситель, известна в римской копии) и «Афродита Милосская»(III в. до н. э., оригинал в Лувре, Париж). (Примеч. сост.).
(обратно)75
Монтеверди Клаудио (1567–1643) — итальянский композитор, один из родоначальников жанра оперы, определивший пути ее развития. Опера «Орфей» (1607), «Ариадна» (1608), «Коронация Поппеи» (1642); мадригалы и др. (Примеч. сост.).
(обратно)76
Площадь Этуапь — Париж, площадь Звезды, на которой находится Триумфальная арка. (Примеч. сост.).
(обратно)77
Манэ Эдуард (1832–1883) — французский живописец. (Примеч. сост.).
(обратно)78
Ренуар Пьер-Огюст (1841–1919) — французский живописец и скульптор, импрессионист. (Примеч. сост.).
(обратно)79
Кермесса — сцена празднества в фламандской живописи. (Примеч. сост.).
(обратно)80
Верлен Поль (1844–1896) — французский поэт-символист. Ввел в лирическую поэзию сложный мир чувств и переживаний, придал стиху тонкую музыкальность (сб. «Галантные празднества»), 1869, «Романсы без слов» 1874, «Мудрость» 1881. (Примеч. сост.).
(обратно)81
Париж госпожи Мариенваль… госпожи Сент-Эверт… герцогиня Люксембургская, маркиз Босержан — персонажи Пруста. Г-жа Босержан — придуманная Прустом писательница-мемуаристка. Ее прототипом была г-жа де Буань (1781–1866), автор интересных мемуаров.(Примеч. сост.).
(обратно)82
Мериме Проспер (1803–1870) — французский писатель. Мастер новеллы. Исторические драмы. Переводил русских классиков XIX в. Статьи, труды по русской истории. Переписка. (Примеч. сост.).
(обратно)83
Мейлак (Мельяк) Анри (1831–1897) — французский либреттист, написал более ста произведений в разных театральных жанрах. Его обработка сюжетов из античной мифологии и истории (вроде оперетты «Прекрасная Елена») трактует исходный сюжет в пародийном духе. (Примеч. сост.).
(обратно)84
Расин Жан (1639–1699) — французский драматург, поэт, представитель классицизма. «Федра» (изд. 1677) — масштабное политическое изображение трагической любви, противоборства страстей в человеческой душе, утверждение необходимости следовать требованиям нравственного долга. Возможно, здесь «пре» — превосходная степень от «Расин», имея в виду, что Расин, как говорил Мандельштам, — «открылся на Федре». (Примеч. сост.).
(обратно)85
Первые кафе Монпарнаса — бульвар Монпарнас в Париже, где собирались художники начала XX в. (Примеч. сост.).
(обратно)86
Клозери де Лила — название кафе на бульваре Монпарнас. (Примеч. сост.).
(обратно)87
Тулуз-Лотрек Анри (1864–1901) — французский график и живописец. (Примеч. сост.).
(обратно)88
Ла Гулю — танцовщица, модель Тулуз-Лотрека. (Примеч. сост.).
(обратно)89
Диана — в римской мифологии — богиня Луны, растительности, покровительница рожениц, с V в. до н. э. отождествлялась с греческой Артемидой. (Примеч. сост.).
(обратно)90
Храм Гамль Стад — церковь в Стокгольме, в старом городе (в переводе со шведского «старогородская» церковь). (Примеч. сост.).
(обратно)91
Площадь Дофина (Париж), Стрела Сент Шапель — достопримечательность Парижа. (Примеч. сост.).
(обратно)92
Лувр — в Париже, первоначально королевский дворец, возведен на месте старого замка в XVI–XIX вв.; с 1791 — художественный музей, богатейшее собрание древнеегипетского, античного и западноевропейского искусства. (Примеч. сост.).
(обратно)93
Эльстир — собирательный образ художника в романе М. Пруста «В поисках утраченного времени», сконцентрировавший отдельные черты творческой манеры Моро, Тернера, Моне и других художников; Альбертина, Одетта, Сен-Лу — персонажи романа «В поисках утраченного времени» М. Пруста («Под сенью девушек в цвету» и «По направлению к Германтам»); Сван, де Шарлю — персонажи Пруста. (Примеч. сост.).
(обратно)94
Аполлинер Гийом — (наст, имя Вильгельм Аполлинарий Костровицкий) 1880–1918 — французский поэт. Выражал анархический протест против бесчеловечности буржуазного мира, тоску по гуманизму. (Примеч. сост.).
(обратно)95
Матисс Анри (1869–1954) — французский живописец, график, мастер декоративного искусства. (Примеч. сост.).
(обратно)96
Пикассо Пабло (1881–1973) — французский живописец. Испанец по происхождению. Основоположник кубизма (1907), с середины 1910-X гг. создавал произведения в духе классицизма, в ряде работ близок к сюрреализму. (Примеч. сост.).
(обратно)97
Хемингуэй Эрнест Миллер (1899–1961) — американский писатель. В романах «Фиеста», 1926, «Прощай, оружие!», 1929 — умонастроения потерянного поколения. В романе «По ком звонит колокол» (1940) — о гражданской войне в Испании 1936–1939 гг. Повесть-притча «Старик и море» (1952) посвящена заветной авторской идее — «трагическому стоицизму» перед лицом целенаправленной жестокости мира; человек, даже проигрывая, обязан сохранять мужество и достоинство. Обогатил жанр новеллы. Нобелевский лауреат 1954 г. (Примеч. сост.).
(обратно)98
Элюар Поль (наст, имя Эжен Грендель.) 1885–1952 — французский поэт. В 20–30 гг. примыкал к сюрреализму, в поэмах 30-х годов выступил против фашизма в Испании. (Примеч. сост.).
(обратно)99
Элиас Мартин (1739–1818) — шведский живописец, рисовальщик, пейзажист, гравер, основатель шведской граверной живописи. (Примеч. сост.).
(обратно)100
Немиров — город в Винницкой области (Украина) от Немировского городища, остатки большого скифского поселения VII–VI вв. до н. э. Землянки, зольник, вал и ров, скифская и греческая керамика. (Примеч. сост.).
(обратно)101
Балта — город с 1797 г. в Одесской области, близ железнодорожной станции Балта. (Примеч. сост.).
(обратно)102
Кэруце (рум.) — повозка (Примеч. сост.).
(обратно)103
Слушай! (рум.). — Ascultă!
(обратно)104
«Мессершмидт» — название немецкого самолета, используемого ВВС Германии в 1935–1945 гг.; по фамилии авиаконструктора Вилли Мессершмидта (1898–1978). Создавал вертолеты и планеры. Промышленник. Основал фирму в 1923 году. (Примеч. сост.).
(обратно)105
Запрещено (нем.). — Verboten.
(обратно)106
Назад (нем.). — Zurük.
(обратно)107
Multumesc (рум.) — спасибо.
(обратно)108
Чьорба (рум.) — национальное румынское блюдо (ciorbă). (Примеч. сост.).
(обратно)109
Aiurea.
(обратно)110
Закон Братиану — Братиану — крупный румынский политический деятель. (Примеч. сост.).
(обратно)111
Маршал Антонеску Йон (1882–1946) — военно-фашистский диктатор Румынии в 1940–1944, маршал (1941). Участник подавления крестьянского восстания 1907 г., интервенции против Венгерской советской республики 1919 г. Правительство Антонеску ввергло Румынию (в 1941 г.) в войну против СССР. В 1946 году казнен по приговору народного трибунала. (Примеч. сост.).
(обратно)112
La revedere (рум.).
(обратно)113
Спокойной ночи (рум.). — Noapte bună.
(обратно)114
Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) — австрийский композитор, представитель венской классической школы. (Примеч. сост.).
(обратно)115
Страдивариус (Страдивари) Антонио (1644–1682) — итальянский мастер смычковых инструментов. (Примеч. сост.).
(обратно)116
Зауэрбрух Фердинанд (1875–1951) — немецкий хирург, один из основоположников грудной хирургии. Научные труды по хирургическому лечению многих заболеваний. (Примеч. сост.).
(обратно)117
Корсу (фин.) — землянка. (Примеч. сост.).
(обратно)118
Райккола (Карелия) — по названию местности на Карельском перешейке. (Примеч. сост.).
(обратно)119
Женская добровольческая организация в Финляндии, названная по имени Лотты Сверд, занимающаяся помощью в тылу армии, помогающая раненым на поле боя (помещение — лоттала). (Примеч. сост.).
(обратно)120
Финляндия — (швед. Finland, фин. Suomi, Suomenmaa т. е. страна озер и болот). В 1939 советско-финляндская война, закончившаяся поражением Финляндии. Условием договора 1940 г. было неучастие Финляндии во враждебной СССР коалиции. Но с началом войны 1941 г. Финляндия воевала на стороне Германии. Соглашение о перемирии в октябре 1944 г. В 1927–1939 гг. сооружалась система укреплений на Карельском перешейке вдоль границ СССР под руководством барона Карла Густава Маннергейма (1867–1951), выходца из России, впоследствии главнокомандующего финской армией в войнах против СССР в 1939–40 гг. и 1941–1944 гг., после войны — президент Финляндии. (Примеч. сост.).
(обратно)121
Калевала — карело-финский эпос о подвигах и приключениях героев сказочной страны Калева. Составлен из народных песен (рун) Э. Ленротом, опубликован в 1835 и 1849 гг. (Примеч. сост.).
(обратно)122
Галлен — Каллела Аксели (1865–1931) — финский живописец и график. Суровый реализм картин финской народной жизни, героика образов эпоса «Калевала» сочетал с символикой и стилизацией в духе стиля «модерн». (Примеч. сост.).
(обратно)123
Бабуши (тур.) — туфли, калоши без задников, верхняя обувь. (Примеч. сост.).
(обратно)124
Большой бедой (фр.).
(обратно)125
Сиссит — финские партизаны, солдаты разведывательно-диверсионных отрядов. (Примеч. сост.).
(обратно)126
Босх Иеронимус (Иероним) 1450–1516 — живописец, представитель раннего нидерландского возрождения. Его картины полны причудливых образов, дьявольских созданий («Сад наслаждений»), поражают изощренностью воображения. Картины на религиозные сюжеты изображают не святых, а простых людей, их действие как бы перенесено в современные художнику Нидерланды, в них в карикатурном виде выставлены людские пороки. Был католической веры. (Примеч. сост.).
(обратно)127
Силланпээ (фин.) — возможно Frans Emil Sillanpää — финский писатель. (Примеч. сост.).
(обратно)128
Лаули (фин.) — песня.
«Неппурии лаулу» — «Песня бродяги с мешком за плечами» (песня конца XIX начала XX вв.)
Распевал я пастушьи песни В Карельском родном краю. Моя мама мне рассказала О былом: как — «ку-ку, ку-ку» — Золотая кукушка кукует В Карельском моем краю…(Перевод составителя, приблизительный, карельский диалект; подстрочник был неполный.) (Примеч. сост.).
(обратно)129
Вартиосса (фин.) — дословно «в дозоре». (Примеч. сост.).
(обратно)130
Перевод в комментариях.
(обратно)131
Да.
(обратно)132
Прелестный.
(обратно)133
Бедный ребенок.
(обратно)134
Естественно.
(обратно)135
Любовь.
(обратно)136
Очень много.
(обратно)137
Боже, побрей короля (англ.).
(обратно)138
Si siad ein (нем.) — Вы (есть)…
(обратно)139
Польша — государство в Европе, в бассейне Вислы и Одры. 1 сентября 1939 г. фашистская Германия захватила Польшу. Западная Украина и Западная Белоруссия по договору Молотова-Риббентропа, отошла к России. 22 июля 1944 г. Польша частично была освобождена советскими войсками, а в 1945 полностью — при поддержке частей Войска Польского. (Примеч. сост.).
(обратно)140
Бог в рейхе Франка (англ.).
(обратно)141
Schade (нем.) — жаль.
(обратно)142
Вы плохо воспитанный ребенок (нем.).
(обратно)143
Замечательно — Wunderbar (нем.).
(обратно)144
Не правда ли?
(обратно)145
Да, да, действительно (нем.) — Ja, ja, natürlich.
(обратно)146
Сверхчеловек, не правда ли? — Übermensh (нем.).
(обратно)147
Die Mutter (нем.).
(обратно)148
Трон Ягеллонов в Польше — польская королевская династия 1386–1572, основанная Владиславом Ягелло (Ягайло) (1348–1434) — великий князь Литовский и король Польский, сын Ольгерда и тверской княжны Юлианы, внук Гедимина. Перешел из православия в католичество под именем Владислав. Единолично правил с 1381 г. Ввиду общего врага — немецкого ордена — Польша и Литва объединились. При династии Ягеллонов Польская сословная монархия обращается в униальную шляхетскую Речь Посполитую (республику). Владения Ягеллонов включают Литву с присоединенными к ней русскими территориями. (Примеч. сост.).
(обратно)149
Собесские — Собесский (Sobieski) Ян (1629–1696) — король по имени Ян III Речи Посполитой с 1674 г., полководец. В 1683 году разгромил турецкую армию, осаждавшую Вену. Заключил «Вечный мир» 1686 г. с Россией. (Примеч. сост.).
(обратно)150
Но вы являетесь другом поляков, не правда ли? (нем.) — Aber Sie sind ein Freund der Polen?
(обратно)151
О! Нет (нем.).
(обратно)152
Подойди (нем.) — Du komm her.
(обратно)153
Ты еврей? — Du bist Jude?
(обратно)154
Я никакой не еврей (нем.) — Nein, ich nein Jude.
(обратно)155
Фуртвенглер (Густав Эрнст Мартин) Вильгельм (1886–1954) — немецкий дирижер. Его интерпретации Вагнера, Брукнера, Бетховена явились выражением величия немецкого духа. (Примеч. сост.).
(обратно)156
Караян Герберт фон (1908–1989) — гениальный австрийский дирижер. С 1937 года признан лучшим дирижером европейской музыкальной классики. Руководитель оркестра Берлинской филармонии (1955–1989), был художественным руководителем Венской государственной оперы. Репертуар — от Баха до Шенберга. (Примеч. сост.).
(обратно)157
Татры — горный массив в Польше и Чехословакии, наиболее высокий в Карпатах. (Примеч. сост.).
(обратно)158
Закопане — город в Польше, горноклиматический курорт, центр туризма и зимних видов спорта, у подножия Татр. (Примеч. сост.).
(обратно)159
Радом — город в Польше, административный центр Радомского воеводства. Радомская конституция 1505 г. (Примеч. сост.).
(обратно)160
Ченстохов — город в Польше, административный центр Ченстоховского воеводства. Монастырь паулинов. (XVI) — XVIII вв., в костеле — икона «Ченстоховская Богоматерь», XIV в.). (Примеч. сост.).
(обратно)161
Внимание! (нем.) — Achtung!
(обратно)162
Фичино Марсилио (1433–1499) — итальянский философ-неоплатоник, глава флорентийской Академии платоновской. Перевел на латинский язык сочинения Платона, Плотина, Ямвлиха, Прокла, Порфирия, Михаила Пселла, часть «Ареопагитик», сделав их достоянием европейской философии XV–XVI вв. (Примеч. сост.).
(обратно)163
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий писатель, основоположник немецкой литературы нового времени, мыслитель и естествоиспытатель, иностранный почетный член Петербургской АН (1826). (Примеч. сост.).
(обратно)164
Грегоровиус Фердинанд — немецкий историк (1821–1891), русские переводы. (Примеч. сост.).
(обратно)165
Сиена — город в Центральной Италии в области Тоскана. Университет. Основан римлянами в I в. до н. э. В XIII–XIV вв. — один из крупнейших в Европе банковско-ростовщических ремесленных центров. Сохранил средневековый облик. Готический собор (XIII–XIV вв.), Палаццо Публико (конец XIII — начало XIV вв.), фрески А. Лоренцетти, С. Мартини, церкви и дворцы XIII–XV вв. (Примеч. сост.).
(обратно)166
Перуджа — город центральной Италии, близ Тразименского озера. Университет (с XIII в.). Академия изящных искусств. Национальная галерея Умбрии, художественный музей. Город основан в V веке до н. э. этрусками как крепость. Остатки этрусско-римских укреплений. Архитектурные памятники древнеримской эпохи, а также V–VI вв., XIII–XVI вв. Здесь работал итальянский живописец Перуджио Пьетро Вануччи (ок. 1446–1523), учитель Рафаэля. (Примеч. сост.).
(обратно)167
Лукка — город в центральной Италии. Основан римлянами в 180 г. до н. э. Руины древнеримских сооружений. Архитектурные памятники XI–XVIII вв. Музеи. Бальнеологический климатический курорт Баньи-ди-Лукка. (Примеч. сост.).
(обратно)168
Феррара — город в северной Италии. Университет с XIV в. Археологический национальный музей. Национальная пинакотека и музей лапидарий Каса-Ромен. Впервые упоминается в VIII в. Многочисленные архитектурные памятники XII–XV вв. Феррарская школа живописи эпохи Возрождения (К. Тура, Ф. дель Косса, Э. Роберти). (Примеч. сост.).
(обратно)169
Мантуя — город в Италии, в области Ломбардии. В древности — поселение этрусков. В 1328 г. — 1408 г. в Мантуе правил род Гонзага. Церковь Сан-Лоренци (XI в.), романский собор (перестроен в XVI в.), Палаццо-Дукале (ныне музей), XIII–XVIII в., замок Сан-Джорджо (XIV — нач. XV в.), фрески А. Мантеньи. (Примеч. сост.).
(обратно)170
Шуман Роберт (1810–1856) — немецкий композитор и музыкальный критик. (Примеч. сост.).
(обратно)171
Шопен Фредерик (1810–1849) — выдающийся польский композитор и пианист. (Примеч. сост.).
(обратно)172
Брамс Иоганнес (1833–1897) — немецкий композитор, выступал как пианист и дирижер. (Примеч. сост.).
(обратно)173
Донателло (настоящее имя Донато де Никколо ди Белто Барди, около 1386–1466) — итальянский скульптор, представитель флорентийской школы раннего Возрождения. Развивал демократические традиции культуры во Флоренции. (Примеч. сост.).
(обратно)174
Полициано (настоящее фамилия Амброджини) Анджело (1454–1494) — итальянский поэт, гуманист. Стихи на итальянском, латинском, греческом языках, филологические сочинения. Драма в стихах. (Примеч. сост.).
(обратно)175
Ботичелли Сандро (наст, имя и фамилия Алессандро Филипепи, 1445–1510) — итальянский живописец, представитель раннего Возрождения. Был близок ко двору Медичи и гуманистическим кругам Флоренции. (Примеч. сост.).
(обратно)176
Аньоло Бассио (1460–1543) — итальянский архитектор и скульптор. Работы во Флорентийском соборе в стиле позднего Возрождения. (Примеч. сост.).
(обратно)177
Эсте — древний и знатный итальянский княжеский род. Герцог Альфонсо д’Эсте, коллекционер, был другом и меценатом Тициана, который написал для него «Сикстинскую мадонну». Титул Эсте в XX в. принадлежал эрцгерцогу австрийскому Францу Фердинанду (р. 1863). (Примеч. сост.).
(обратно)178
Дольфус Энгельберт (1892–1934) — федеральный канцлер Австрии и министр иностранных дел с 1932 г., один из лидеров христианско-демократической партии. В марте 1934 г. подписал так называемые Римские протоколы, поставившие политику Австрии в зависимость от Италии. Убит сторонниками аншлюса (насильственного присоединения). (Примеч. сост.).
(обратно)179
Куртуазный — изысканно-вежливый, любезный; куртуазная литература — европейские средневековые рыцарские романы и поэзия; по мере укрепления королевской власти куртуазная литература выродилась в изысканное придворное стихоплетство. (Примеч. сост.).
(обратно)180
Кастильоне Бальтассарро, граф, 1478–1528 — итальянский писатель, дипломат. Родился в Мантуе, служил при герцоге Миланском, в 1506 г. герцог Альбино включил его в состав посольства к Генриху VII в Англию. В Испании в 1524 году был назначен епископом Авилы. Лирические стихи, поэмы, элегии, эпиграммы на латинском языке. В трактате «Придворный» (кн. 1–4), 1582, имитируя беседы реальных лиц, воссоздает картины придворной жизни как искусства, выявляющего разнообразные грани человеческой личности. (Примеч. сост.).
(обратно)181
Краков — Польша, город и крепость в западной Галиции на р. Висле. Вавель — название холма в Кракове к югу от Старого города. Ротонда Девы Марии (2-я пол. X в.), Королевский замок (III–VII вв.) — ныне польский национальный музей; готический собор XIV в., усыпальница польских королей и деятелей национальной истории. В 1320–1609 Краков был резиденцией польских королей, в 1795 перешел к Австрии, в 1809–1815 — входил в состав герцогства Варшавского, в 1815–1846 Краков образовал небольшую республику, с 1849 г. входил в состав Галиции. В Кракове Университет, Академия наук, Обсерватория, Архиепископский дворец, сад. В замке Вавель впоследствии были казармы и госпиталь. (Примеч. сост.).
(обратно)182
Лодзь — город в Польше, административный центр Лодзинского воеводства. Университет. Промышленный город, Вооруженное восстание рабочих в ходе Революции в России 1905–1907 гг. (Примеч. сост.).
(обратно)183
Люблин — город в Польше на р. Быстшица, административный центр Люблинского воеводства. Университет. Люблинский музей. Известен с X в. Замок (ныне музей XIII–XIX вв.), ратуша (XIV–XVIII вв.), дома и костелы XIV–XVIII вв. (Примеч. сост.).
(обратно)184
Deutsche Haus (нем.) — немецкий дом.
(обратно)185
Грос Георг (1893–1959) — немецкий живописец — импрессионист и график, мастер сатирических рисунков, высмеивающих правительство и высшие военные круги. После непрекращающихся преследований вынужден был покинуть Берлин в 1932 г. и уехать в США, где получил гражданство в 1938 г. (Примеч. сост.).
(обратно)186
Радзивиллы — княжеский род Великого княжества Литовского (с XIV в.), затем Речи Посполитой. В XVIII–XX вв. — России и Пруссии. Занимали высшие административные и военные должности. (Примеч. сост.).
(обратно)187
Огонь! (нем.) — Feuer!
(обратно)188
Мейсенские тарелки — Мейсен (Майсен) — город в Германии, к северо-западу от Дрездена на р. Эльба, прославившийся производством фарфоровых изделий. (В городе — собор XIII–XV вв., замок Альбрехтсбург (XV в.). Впервые в Европе здесь был разработан процесс получения твердого фарфора (1710). Его изобрел Бётгер (1682–1719) и Э. Чирнгауз (1651–1708), и вскоре (Саксония) возникло производство мейсенского фарфора, с высоким качеством и прекрасным декором в стиле рококо. (Примеч. сост.).
(обратно)189
Радзивилов — город в Ровенской области, после 1939 г. — Червоноармейск. (Примеч. сост.).
(обратно)190
Донауешинген в Вюртемберге — Донау (Donau) — река Дунай, Вюртемберг — немецкое графство (с сер. XIII в.), с 1495 — герцогство, в 1805–1918 — королевство (столица Штуттгарт), затем земля Германии; с конца 1951 часть земли Баден-Вюртенберг. (Примеч. сост.).
(обратно)191
Князья Фюрстенберг — австрийские аристократы (в Германии, в провинции Франкфурта на р. Шпрее, есть город Фюрстенвальде; возможно, его название связано с фамилией этого древнего рода). (Примеч. сост.).
(обратно)192
Гольбейн (Хольбейн) Ханс Младший (1497, 1498–1543) — немецкий живописец и график. Представитель Возрождения. Портреты, картины на религиозные темы, гравюры. (Примеч. сост.).
(обратно)193
Кондотьеры — в Италии XIV–XVI вв. — предводители наемных военных отрядов, находившихся на службе у отдельных государей и римских пап. Вербовались сначала преимущественно из иноземных рыцарей, с конца XIV в. — из числа итальянских. Нередко кондотьеры захватывали власть в городах, основывая синьории. (Примеч. сост.).
(обратно)194
Гиммлер Генрих (1900–1945) — ближайший соратник Гитлера. С 1929 — рейхсфюрер СС, с 1936 — шеф гестапо, с 1939 возглавлял имперское управление безопасности, с 1943 — имперское министерство иностранных дел, в 1944–1945 командовал армией на советско-германском фронте. Главный организатор массового террора на оккупированной территории системы концлагерей, массовых истреблений людей. Покончил жизнь самоубийством. (Примеч. сост.).
(обратно)195
Апулей (ок. 125 — около 180 н. э.) — древнеримский писатель, автор авантюрно-аллегорического романа «Метаморфозы» в XI книгах. Эротические мотивы, бытовая сатира и религиозная мистика. (Примеч. сост.).
(обратно)196
Schön, nicht wahr? (нем.) — Прекрасно, не правда ли?
(обратно)197
Гитлер (наст, фамилия Шикльгрубер) Адольф (1889–1945) — фюрер, главарь немецко-фашистской национал-соцалистической партии с 1921 г. С 1933 — глава германского государства (рейхсканцлер, в 1934 объединил этот пост с постом президента). С 1938 года главнокомандующий вооруженными силами Германии. Покончил жизнь самоубийством со вступлением советских войск в Берлин. (Примеч. сост.).
(обратно)198
Геринг Герман (1893–1946) — один из сподвижников Гитлера, рейхсмаршал (1940). В Первой мировой войне участвовал как летчик, с 1922 года — член национал-социалистической (фашистской) партии, руководитель СА (штурмовых отрядов), организатор поджога рейхстага (1933 г.), послужившего поводом к началу Второй Мировой войны, инициатор создания гестапо и концлагерей. На Нюрнбергском процессе приговорен к смертной казни. Покончил жизнь самоубийством. (Примеч. сост.).
(обратно)199
Геббельс Йозеф (1897–1945) — один из главарей фашистской Германии, сподвижник Гитлера, идеолог расизма и насилия, захватнических войн. С 1933 — пропагандистского аппарата фашистской Германии. Покончил жизнь самоубийством. (Примеч. сост.).
(обратно)200
Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ, один из основоположников «философии жизни». Романтический идеал «человека будущего». Реакционные тенденции его учения развивало ницшеанство, их использовали идеологи фашизма. Влияние А. Шопенгауэра и Р. Вагнера. Профессор классической филологии Базельского университета (1869–1879). Миф о «сверхчеловеке». Сочинения в жанре философской художественной прозы. (Примеч. сост.).
(обратно)201
Хорст Вессель Лид (Horst — Wessel Lied) — немец, который был представлен мучеником, жертвой коммунистического произвола, о котором сложен марш. (Примеч. сост.).
(обратно)202
Период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы, в Италии — IX–XI вв., в других странах — XV–XVI вв., переходит от средневековой культуры к культуре нового времени. Обращение к культурному наследию античности, его возрождению (отсюда название). Пико делла, Мирандола. В архитектуре — Брунелески, Альберти, Браманте, Палладио. (Примеч. сост.).
(обратно)203
Бург — в Западной Европе в средние века замок, укрепленный пункт. Бурграф — должностное лицо, назначавшееся королем (или епископом-сеньором города) в германских средневековых городах (первоначально в бургах; бурграфы обладали административной, судебной и военной властью. (Примеч. сост.).
(обратно)204
Пилсудский Юзеф (1867–1935) — фактический диктатор Польши после организации им в мае 1926 года военного переворота, маршал. Деятель правого крыла Польской социалистической партии, с 1906 — руководитель Польской социалистической партии, ее революционной фракции, с 1919–1922 — беспощадно расправлялся с революционным движением. В 1920 руководил военными действиями против Советской России, в 1926–28 гг, 1930 — премьер-министр. (Примеч. сост.).
(обратно)205
Ленин (наст, имя Ульянов Владимир Ильич), 1870–1924 — вождь советского государства с октября 1917 по январь 1924 г. Профессиональный революционер. Организатор революции в России в 1905–07 гг. С 1907 г. жил за границей. Последователь учения Карла Маркса. Многотомные труды. Организатор большевистского террора в России и установления диктатуры пролетариата. Получил от Германии, воевавшей с Россией, деньги на разложение армии и революцию. Результатом его и соратников деятельности стало свержение монархии, заключение позорного мира с Германией, расстрел царской семьи, создание института заложников, массовый террор, гражданская война, голод, уничтожение элиты, церкви, многочисленная эмиграция. (Примеч. сост.).
(обратно)206
Ich Liebe dich, und du schläfst (нем.). (Примеч. сост.).
(обратно)207
Да, это так интересно (нем.).
(обратно)208
Боже, побрей короля! (англ.).
(обратно)209
Ах так! Ах так! Замечательно (нем.).
(обратно)210
Немецкой королевы Польши (нем.).
(обратно)211
Штюк (нем.) — кусок (Примеч. сост.).
(обратно)212
База — часть античной классической колонны. (Примеч. сост.).
(обратно)213
Капитель — в архитектуре камень, венчающий колонну, столб или пилястр, верхняя поверхность его обычно шире диаметра, поддерживающего столпа. Капитель состоит из трех частей: верхней (абак), средней (эхин) и нижней (ейка или страгал). (Примеч. сост.).
(обратно)214
Каннелюры — желобки на стволе колонны или пилястры. (Примеч. сост.).
(обратно)215
Пилястра — плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба. Имеет те же части — ствол, капитель, база — и пропорции, что и колонна; служит для членения плоскости стены. (Примеч. сост.).
(обратно)216
Дорическая колонна — один из ордеров в античной классической архитектуре. Дорический (без базы — самый древний (до V в. до н. э.). (Примеч. сост.).
(обратно)217
Потоцкие — также польский графский род, известен с XVIII в. Великие коронные гетманы Николай, Станислав; Павел — историк; Станислав Костка — генерал, 1815 — министр просвещения Царства Польского; Станислав Феликс, маршалок; Ян (1761–1815) — при Александре I служил в русском министерстве иностранных дел, историк, археолог, лингвист и т. д. Много писал по славяноведению; Альфред — австр. гос. деятель, (1870–1871) — министр-президент. (Примеч. сост.).
(обратно)218
Лютер Мартин (1483–1546) — деятель Реформации в Германии, начало которой положило его выступление (1517 г.) в Виттенберге с 95 тезисами против индульгенций, отвергавшими основные догматы католицизма. Идеолог консервативной части бюргерства. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив нормы общенемецкого литературного языка. (Примеч. сост.).
(обратно)219
Я тут стою и я не могу действовать иначе! (нем.).
(обратно)220
«Но я все же буду поступать иначе. Да поможет мне Бог!» (нем.).
(обратно)221
Приятного аппетита (нем.).
(обратно)222
Медуза — в греческой мифологии смертная женщина, превращенная в чудовище — Горгону, была обезглавлена Персеем; крылатый конь Пегас, по преданию, вылетел в этот миг из ее тела. Однако взгляда на ее голову, даже мертвую, было достаточно, чтобы превратить человека в камень. (Примеч. сост.).
(обратно)223
Куафер (от франц. coiffeur) — парикмахер. (Примеч. сост.).
(обратно)224
Да (нем.).
(обратно)225
Диана-охотница — Диана в римской мифологии богиня целомудрия, охоты и луны, дочь Юпитера, сестра-близнец Феба. Ее греческий эквивалент Артемида. (Примеч. сост.).
(обратно)226
Вергилий — (70–19 до н. э.) — римский поэт, автор сборника Буколики. 37 до н. э. (пастушеские песни), дидактические поэмы Георгики и эпический шедевр «Энеида» (30–19 до н. э.). Ему покровительствовал меценат от лица Октавиана (поэзия императора Августа). (Примеч. сост.).
(обратно)227
Мой дорогой (нем.) — Mein Lieber.
(обратно)228
Шагал Марк Захарович (1887–1985) — выходец из России, живописец и график. С 1922 года жил преимущественно во Франции. Витражи, мозаики, театральные декорации, иллюстрации к книгам. (Примеч. сост.).
(обратно)229
Скарабеи — род жуков навозников (длина 2–4 см). Обитают на юге Европы, в передней Азии и северной Африке. В Древнем Египте — священный скарабей почитался как одна из форм солнечного божества. Его изображения служили амулетами и украшениями. (Примеч. сост.).
(обратно)230
Ермолка — маленькая круглая шапочка из мягкой ткани без околыша. (Примеч. сост.).
(обратно)231
Звезда Давида — шестиконечная звезда, символ Израиля. Давид — царь Израильско-иудейского государства в конце II в. — около 950 до н. э., провозглашенный царем Иудеи после гибели Саула. Давид присоединил к ней территории израильских племен и создал государство. По библейской легенде, юноша-пастух Давид победил в единоборстве великана — филистимлянина Голиафа и отсек ему голову. (Примеч. сост.).
(обратно)232
Иерихон — город 7–2-го тыс. до н. э. в Палестине (на территории современной Иордании, к северо-востоку от Иерусалима). Открыты остатки укрепленных поселений эпохи неолита и бронзы, руины города с мощными стенами 18–16 вв. до н. э., гробницы и др. В конце 2-го тыс. до н. э. разрушен еврейскими племенами. По библейскому преданию, стены Иерихона рухнули от звуков труб завоевателей («иерихонские трубы»). (Примеч. сост.).
(обратно)233
Содом — город у устья реки Иордан или на западном побережье Мертвого моря, жители которого (как и города Гоморра) погрязли в распутстве и за это были испепелены огнем, посланным с неба. Из пламени Бог вывел только Лотта с семьей. (Примеч. сост.).
(обратно)234
Иерусалим — город в Палестине, религиозный священный центр христиан, иудеев и мусульман. Первое упоминание — в середине 2-го тыс. до н. э. Позднее — в составе различных государств Иудейского царства, Древнего Рима, Византии, Арабского Халифата и др. С начала XVI в. — под властью Османской империи. В декабре 1917 г. занят английскими войсками. В 1920–1947 — административный центр английской подмандатной территории Палестины. После арабо-израильской войны 1948–1949 гг. был разделен на 2 части: восточная отошла к Иордании, западная — к государству Израиль. В июне 1967 г. Израиль захватил восточную часть и провозгласил Иерусалим столицей Израиля. В восточной части — остатки архитектурных памятников эллинистического и римского времени, раннехристианские (в том числе Храм «Гроба Господня», памятники арабской архитектуры). (Примеч. сост.).
(обратно)235
Иаков (Израиль) — в библейской истории младший из двух сыновей-близнецов Исаака и Ревекки. Откупил у брата Исава право первородства за чечевичную похлебку и хитростью получил благословение Исаака как первородный сын (двенадцать сыновей Иакова считались родоначальниками двенадцати израильских иудейских племен). Бог одобрил Иакова в Маханаиме — его встретили ангелы Божьи. Но по мере приближения к отечеству он ощущал в душе страх. Близ потока Навок во время ночи он выдержал таинственную борьбу с Богом, получил новое имя Израиль (Богоборец), (из Библии Бытие. Гл. XXXII. «и боролся Некто с ним до появления зари»). (Примеч. сост.).
(обратно)236
Ангелы — династия византийских императоров в 1185–1204, основатель Исаак II; в 1204–1318 династия правителей Эпирского государства. (Примеч. сост.).
(обратно)237
Ах, дети (нем.) — Ach die Kinder!
(обратно)238
Я этому верю (нем.) — Ich glaube es.
(обратно)239
Вольни — марка напитка, видимо, по имени Вольни Мартина Эвальда (1846–1901) — немецкого агронома и почвоведа, одного из создателей агрофизики. (Примеч. сост.).
(обратно)240
Turkischblut (нем,).
(обратно)241
Богемский бокал — из богемского стекла, от слова Богемия — первоначальное название территории, на которой образовалось государство Чехия в составе Габсбурской империи, где находилась стекольная фабрика. (Примеч. сост.).
(обратно)242
Ваше здоровье.
(обратно)243
Яссы — город на северо-востоке Румынии, до 1859 г. — столица молдавского княжества. Университет; церкви и монастыри XV–XVII вв. («Трех святителей», XVII в.). (Примеч. сост.).
(обратно)244
La dracu (рум.).
(обратно)245
Свет! (рум.) — Lumina!
(обратно)246
Румыния — Государство на юге Европы, в бассейне нижнего Дуная. Население — румыны, венгры. Язык румынский. Вера в основном православная. В сентябре 1940 г. в Румынии была установлена фашистская диктатура. Румыния присоединилась к Берлинскому пакту 1940 года фашистских держав, и в 1941 году вступила в войну против СССР. В 1944 г. выступила против фашистской Германии. В 1947 г. в Румынии была ликвидирована монархия и провозглашена Республика. Дипломатические отношения с СССР с 1934 г. (с перерывом в 1941–1945), с 1949 — участница Варшавского договора. (Примеч. сост.).
(обратно)247
Башня Елены (англ.).
(обратно)248
Дядюшка Гарольда Никольсона — лорд Дюфферин (Дюфферен) Фредерик — английский дипломат, р. 1826 г.; 1860 — комиссар в Сирии, 1872–1878 — генерал-губернатор Канады; 1879 — посол в Санкт-Петербурге, 1881 — в Константинополе; 1884–1888 — вице-король в Индии; 1891–1897 — посол в Париже. (Примеч. сост.).
(обратно)249
Возможно, название ткани от названия города в Великобритании, на р. Темзе. (Примеч. сост.).
(обратно)250
Возможно, стиль шляпы дипломата, от фамилии Локкарт («заговор Локкарта» 1918 г. — заговор «трех послов», организованный в постреволюционном Петрограде дипломатическими представителями в России: Р. Локкартом (Великобритания), Ж. Нулансом (Франция) и Д. Фрэнсисом (США), вместе с русскими контрреволюционерами, с целью свержения советской власти. Был раскрыт ВЧК). (Примеч. сост.).
(обратно)251
Шарль де Голль (1890–1970) — президент Франции в 1959–1969 гг. В 1940 г. основал в Лондоне освободительное движение «Свободная Франция». С 1942 — «Сражающаяся Франция», примкнувшая к антигитлеровской коалиции. В 1941 году стал руководителем французского национального комитета, в 1943 — Французского комитета национального освобождения. (Примеч. сост.).
(обратно)252
Здравствуй, Чайльд Гарольд — использовано имя героя поэмы Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». (Примеч. сост.).
(обратно)253
Иностранного учреждения (англ.).
(обратно)254
Типичным продуктом английской всеобщей школьной системы и армии.
(обратно)255
Мосли Освальд (род. в 1896 г.) — лидер английских фашистов. Начинал политическую карьеру как один из авторов праволейбористской программы. В 1929 г. — министр без портфеля в правительстве Макдональда. В 1930 г. создал левацко-популистскую Новую партию, в 1931 поддерживал немецких фашистов. Инициатор штурмовых отрядов (1932) и казарм чернорубашечников (1933). В 1934 г. британские фашисты устроили ряд погромов, 17 июня кровавое избиение «врагов фюрера Мосли», которые хотели повторить в Гайд-парке, но были сметены грандиозной антифашистской демонстрацией. С этого момента английский фашизм сходит с исторической сцены. В начала войны Англии с Гитлером Мосли был интернирован, но в ноябре 1943 был выпущен на свободу по инициативе министра-лейбориста Г. Моррисона, что вызвало массовое возмущение. (Примеч. сост.).
(обратно)256
Мистрис — хозяйка дома; мастерица; замужняя женщина; любовница; госпожа. (Примеч. сост.).
(обратно)257
Талейран Шарль Морис (1754–1838) — один из самых выдающихся французских дипломатов, мастер тонкой дипломатической интриги; беспринципный политик. (Примеч. сост.).
(обратно)258
Чувства юмора (англ.).
(обратно)259
Антигитлеровская книга Малапарте. (Примеч. перевод.).
(обратно)260
Дифирамбическое посвящение — преувеличенная похвала, от слова «дифирамб» — восхваление. (Примеч. сост.).
(обратно)261
Хороших манер (англ.).
(обратно)262
Десять тысяч избранных (англ.).
(обратно)263
Конечно (англ.).
(обратно)264
Трафальгарская площадь, центральная в Лондоне. (Примеч. сост.).
(обратно)265
Сент-Джемский парк — окружающий Сент-Джемский дворец в Лондоне, бывшая (с 450 г.) королевская резиденция английского двора и правительства (Сент-Джемский кабинет). (Примеч. сост.).
(обратно)266
Майской ярмарки.
(обратно)267
О, извините, сэр (англ.).
(обратно)268
Defácere de vinury (рум.) — винная лавка.
(обратно)269
Парикмахерская (рум.).
(обратно)270
Ceasorniăria (рум.) — часовая мастерская.
(обратно)271
Braila — город в Румынии. (Примеч. сост.).
(обратно)272
Улица (рум.).
(обратно)273
Улица Bratianu. (Примеч. сост.).
(обратно)274
Прут — левый приток Дуная. (Примеч. сост.).
(обратно)275
Ландо — город в Баварии (Германия), где в XVII в. изготовлялись экипажи под названием «ландо» — четырехместная карета с открывающимся верхом. Теперь — название легкового автомобиля с верхом, открывающимся только над задним сиденьем. (Примеч. сост.).
(обратно)276
Госпожа (рум.).
(обратно)277
Как дела со здоровьем? (рум.) — Cum merge cu sănătatea?
(обратно)278
Хорошо, очень хорошо (рум.) — Bine, foarte bine.
(обратно)279
Князь Куза Вода — Александр Иоанн I Куза — князь румынский (1820–1873), избран князем Молдавии, потом Валахии, соединенных через два года в Румынию. Был смещён в 1866 г. (Примеч. сост.).
(обратно)280
Скулени (рум.) — город в Румынии. (Примеч. сост.).
(обратно)281
Копу — местность в Румынии. (Примеч. сост.).
(обратно)282
Мамалыга — национальная румынская еда, вроде кукурузной каши. (Примеч. сост.).
(обратно)283
Паскен Жюль — художник, представитель Парижской школы (XX век), мрачные депрессивные настроения. Наибольшую известность получил в 20–30-х гг. XX в. (Примеч. сост.).
(обратно)284
Страда Кароль (рум.) — улица Короля. (Примеч. сост.).
(обратно)285
Нотр-Дам де Пари — главный католический собор Парижа (собор Парижской Богоматери) — архитектурный памятник ранней французской готики на острове Сите в Париже. (Примеч. сост.).
(обратно)286
Трокадеро — один из культурных центров Парижа, в котором расположено несколько музеев. (Примеч. сост.).
(обратно)287
Broderie anglaise (фр.) — английская вышивка.
(обратно)288
«Органди» от франц. organdie — кисея, «бродери англэз» broderie anglaise (франц.) — английская вышивка, т. е. тонкими батистовыми платками, вышитыми английскими дворянскими коронами. (Примеч. сост.).
(обратно)289
Добрый вечер (рум.).
(обратно)290
Fără copii (рум.) — без детей.
(обратно)291
Эминеску Михаил (Михай) (наст, фамилия — Эминович), 1850–1889 — румынский поэт-классик, представитель романтизма: лирические, нередко окрашенные пессимизмом стихи, философско-символическая поэма «Лучафэр» (1883). (Примеч. сост.).
(обратно)292
Мы — народ героев (итал.).
(обратно)293
Статуя Объединения — установлена в честь объединения румынских княжеств. (Примеч. сост.).
(обратно)294
Voi, voi, mândrelor, voi (рум.) — Вы, вы, красавицы…
(обратно)295
Редингот — длинный сюртук для верховой езды. (Примеч. сост.).
(обратно)296
Поль де Кок — французский романист (1794–1871) или Анри (его сын, р. 1819), романист и драматург. (Примеч. сост.).
(обратно)297
Домье Оноре (1808–1879) — французский график, живописец и скульптор. Представитель критического реализма, тесно связан с демократическим движением, мастер сатирического рисунка и литографии. Острогротескные карикатуры на правящую буржуазную верхушку и мещанство. В живописи и скульптуре сочетал драматизм и сатиру, героику и гротеск. (Примеч. сост.).
(обратно)298
Каран д’Аша — от фамилии русского комика XX в. (наст. имя и фамилия Михаил Николаевич Румянцев (1901–1983), Народный артист СССР (1969). (Примеч. сост.).
(обратно)299
Атене Палас — гостиница в Бухаресте. (Примеч. сост.).
(обратно)300
Павильон Эрменон-вилль — в Бухаресте. (Примеч. сост.).
(обратно)301
Церковь Трех Эрари — церковь Трех иерархов в Яссах. (Примеч. сост.).
(обратно)302
Гика — княжеский род, давший несколько молдавских и валахских господарей, начиная с XVII в. (Примеч. сост.).
(обратно)303
Да, это бескультурие (нем.).
(обратно)304
Очень мило с вашей стороны (англ.).
(обратно)305
Название шампанского от фамилии Мумм. (Примеч. сост.).
(обратно)306
Старо Място — Старое место. (Примеч. сост.).
(обратно)307
Маркиза Вельепольская, графиня Адам Ржевусская, княгиня Чарторыйская — представительницы старинных польских родов аристократического происхождения. Отец известного польского и российского государственного деятеля Адама Ежи Чарторийского (1770–1861) был сыном генерал-фельдмаршала австрийских войск Адама Казимежа, претендовавшего на польский трон, но отказавшийся в пользу своего двоюродного брата Е. А. Понятовского; Адам Адамович служил в России при Александре I, восстанавливал Польшу; Генрих Ржевусский (1791–1866), писатель, публиковавшийся под псевдонимом Яроша Бейлы. (Примеч. сост.).
(обратно)308
Уяздовская аллея (Польша) — в парке Уяздовского замка в окрестностях Варшавы, в летней королевской резиденции. (Примеч. сост.).
(обратно)309
Рефлексы — от лат. reflexus — повернутый назад, отраженный; здесь — отражение. (Примеч. сост.).
(обратно)310
Трианон — Большой Трианонский дворец Версаля (Франция), резиденция французских королей (1682–1789). Версаль — город во Франции, пригород Парижа. Крупнейший дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма XVII–XVIII вв., регулярный парк с бассейнами, фонтанами и скульптурами. (Примеч. сост.).
(обратно)311
Шенбрунна — императорский замок в окрестностях Вены, построен в 1750 г. Марией-Терезией. Большой ботанический сад, зверинец. В 1805 г. здесь заключен Наполеоном договор с Пруссией о нейтралитете; в 1809 г. — мир с Францией. Здесь провел свои последние дни и умер сын Наполеона герцог Рейхштадский. (Примеч. сост.).
(обратно)312
Потоцкий Николай (умер в 1651 г.) — великий коронный гетман боролся с казаками; в 1648 — дважды разбитый Хмельницким, был в татарском плену. В 1651 принудил казаков к миру. Станислав Потоцкий (1579–1667), великий коронный гетман, отличался в борьбе с Хмельницким, затем в борьбе с русскими. (Примеч. сост.).
(обратно)313
Понятовский Станислав Август (1735–1798) — последний польский король (1764–1795), в политике ориентировался на Россию. (Примеч. сост.).
(обратно)314
Хмельницкий Тимофей Богданович (1632–1653) — деятель освободительной войны 1648–1654 гг. украинского народа. Сын Богдана Хмельницкого, участник походов в Галичину, под Зборов, в Молдавию. Погиб при обороне Сучавы от польско-венгерских войск. (Примеч. сост.).
(обратно)315
Токай — название вина от вулканического массива на северо-востоке Венгрии Токай с виноградниками и производством вина этой и других марок. (Примеч. сост.).
(обратно)316
Граф Замойский Ян (1542–1605) — польский великий коронный канцлер с 1578 г., коронный гетман с 1581 г., предводитель шляхты, советник Стефана Батория, противник Габсбургов, организатор военных походов против Русского государства, основатель (1594) научного общества — Академии Замойской. (Примеч. сост.).
(обратно)317
Тарновский Ян (1488–1561) — польский полководец и государственный деятель-аристократ, возведен в графское достоинство императором Карлом V. (Примеч. сост.).
(обратно)318
Нунций — постоянный дипломатический представитель Ватикана в иностранных государствах, приравниваемый по рангу к послу.
(обратно)319
Уланы, уланы — писаные дети, Не одна девица побежит, вас заметя. Не одна девица, не одна вдова, За вами, уланы, полететь готова.(польск., перевод сост.)
(обратно)320
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) — поляк по происхождению, 1905–1907 г. — один из руководителей революции (Варшава), с 1917 председатель ВЧК в России, с 1922 г. — ГПУ (ОГПУ). (Примеч. сост.).
(обратно)321
Сломанная кукла (англ.).
(обратно)322
Руперт Брук (Чонер) 1887–1915 — английский поэт, символ «потерянного поколения» Первой Мировой войны. Пять его военных сонетов, из которых наиболее известен «Патриот», были опубликованы после его смерти. Другие значительные произведения «Грантчестер» и «Великий любовник». Родился в Рагби. После нервного заболевания (1911 г.) путешествовал за границей. В 1913 г. ему была присуждена стипендия Королевского колледжа в Кембридже; позже — турне по Америке («Письма из Америки», 1916 г.), Новой Зеландии и морям южного полушария. 1914 г. — поступил офицером на флот, участвовал в военных действиях близ Антверпена, а затем, по пути в Дарданеллы, скончался от заражения крови и был похоронен на греческом острове Скирос. (Примеч. сост.).
(обратно)323
Замечательно неподготовлен к долгой незначительности жизни (англ.).
(обратно)324
Нельсон Горас (Горацио) — английский адмирал (1758–1805); в 1794 г. при осаде Кальви (на Корсике) потерял глаз; в 1798 уничтожил французский флот при Абукире, за что пожалован титулом барона. Под давлением леди Эмми Гамильтон, его любовницы, поддерживал реакционную политику в Неаполе. В 1798 г. захватил там французский гарнизон, произвел кровавую расправу; в 1807 г. бомбардировал Копенгаген, в 1805 г. уничтожил при Трафальгарском мысе французский флот, но сам был смертельно ранен. (Примеч. сост.).
(обратно)325
Литера (от лат. буква) — прямоугольный брусок из типографского сплава, дерева или пластмассы с рельефным (выпуклым) изображением (очком) буквы, цифры, знака в торце. При печатании очко покрывается краской и дает оттиск на бумаге. (Примеч. сост.).
(обратно)326
Падеревский Игнацы Ян (1860–1941) — польский пианист и композитор, исполнитель произведений Шопена; фортепианные пьесы, опера, симфонии и др. (Примеч. сост.).
(обратно)327
Крокет — спортивная игра, в которой шар ударами деревянного молотка проводится через расположенные в определенном порядке (на земляной или травяной площадке произвольного размера) проволочные ворота. Возник во Франции в XVII в., к XIX в. распространился во многих странах. Входил в программу Олимпийских игр в 1900 г. (Примеч. сост.).
(обратно)328
Ленотр Андре (1613–1700) — французский архитектор, мастер садово-паркового искусства. Представитель классицизма. Создатель регулярного («французского») типа парка с геометрической сетью аллей, правильными очертаниями газонов, бассейнов, боскетов (Воле-Виконт, Версаль, 1660 гг.). (Примеч. сост.).
(обратно)329
Court d’honneur, (франц.) — место приема гостей. Курдонёр (франц. букв «почетный двор») — парадный двор дворца, усадебного дома, особняка, образуемый основным корпусом и боковыми флигелями.(Примеч. сост.).
(обратно)330
Лазенки — садово-парковый ансамбль XVIII в. (Польша). (Примеч. сост.).
(обратно)331
Люлли Жан Батист (1632–1678) — французский композитор, по национальности итальянец; основоположник французской оперной школы. (Примеч. сост.).
(обратно)332
Рамо Жан Филипп (1683–1764) — французский композитор и музыкальный теоретик. Используя достижения французской и итальянской музыкальной культуры, значительно видоизменил стиль классической оперы, подготовил оперную реформу К. В. Глюка. (Примеч. сост.).
(обратно)333
Гарда — дужка сабельной рукояти, предохраняющая руку от сабельных ударов противника. (Примеч. сост.).
(обратно)334
Ятаган — рубяще-колющее оружие (среднее между саблей и кинжалом) у народов Ближнего и Среднего Востока (известен с XVI в.). Имел лезвие на вогнутой стороне клинка. (Примеч. сост.).
(обратно)335
Минерва — в римской мифологии богиня, покровительница ремесел и искусства. Вместе с Юпитером и Юноной Минерва составляла Капитолийскую триаду. С конца III в. до н. э. Минерва отождествлялась с греческой Афиной, почиталась также как богиня войны и государственной мудрости. (Примеч. сост.).
(обратно)336
Дельфт (Делфт) — город на западе Нидерландов, на канале Рейн-Схи. Старинный центр производства керамических изделий (так называемый делфтский фарфор). Многочисленные архитектурные памятники. (Примеч. сост.).
(обратно)337
Марина (морской) — пейзажи, изображающие море. (Примеч. сост.).
(обратно)338
Пагода — буддийские мемориальные сооружения и хранилища реликвий; имеют вид павильона или башни (часто многоярусной), возникли в начале н. э. в Китае, известны в Корее, Японии, Вьетнаме. (Примеч. сост.).
(обратно)339
Polnishe wirtshaft (нем.) — польское ведение хозяйства.
(обратно)340
Sehr amusant, nicht wahr? (нем.) — Очень занятно, не правда ли?
(обратно)341
Ja, sehr amusant (нем.) — Да, очень забавно.
(обратно)342
Павликианцы — христианская секта гностико-манихейского направления, возникшая в Армении в VII в. и просуществовавшая до XII в. Основатель — Константин, родом из села близ Самосаты; он заимствовал из посланий апостола Павла ряд положений, связал их и дополнил их собственными домыслами. Павликианцы отвергали учения церкви о Богородице, Ветхий Завет, таинства, крестные знамения, церковную иерархию. Павликианцы придерживались дуалического учения манихеян.(Примеч. сост.).
(обратно)343
Приор — настоятель небольшого католического монастыря, должностное лицо в духовно-рыцарских орденах ступенью ниже великого магистра. (Примеч. сост.).
(обратно)344
Палестрина (Джованни Пьерлуиджи да Палестрина) — около 1525–1564, итальянский композитор, глава римской полифонической школы. Его мессы, мадригалы и др. — вершина хоровой полифонии строгого стиля. (Примеч. сост.).
(обратно)345
Барокко — один из главных стилевых направлений в изобразительном искусстве, архитектуре и музыке Европы 1600–1750, которому присущи выразительность, пышность, динамика. Для архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, В. В. Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм; в музыке — Корелли, Вивальди, Бах, Гендель; в живописи — Караваджо, Рубенс, Ван Дейк, Виласкес, Рембрант, Вермер, Франс Халс и др. (Примеч. сост.).
(обратно)346
Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873), французский император в 1852–1870, племянник Наполеона I. (Примеч. сост.).
(обратно)347
Падуанский университет — основан в 1222 г. в городе Падуе, главном городе итальянской провинции Падуя на реке Бакильоне в Северной Италии. Падуанская школа в философии (XIV–XVI вв.). (Примеч. сост.).
(обратно)348
«Земную жизнь пройдя наполовину…» (итал.).
(обратно)349
Ja, es ist ein Volk ohne Kultur (нем.) — Да, этот народ без культуры.
(обратно)350
Мой дорогой Малапарте (нем.).
(обратно)351
Sense of humour (англ.) — чувство юмора.
(обратно)352
Achtung! (нем.) — Внимание!
(обратно)353
Спаниель — группа пород собак, используемых для спортивной охоты на водоплавающую, боровую и болотную дичь. Выведена в XV–XVI вв. в Испании. Породы: коккер, спринтер, Суссекс, клумбор и др. (Примеч. сост.).
(обратно)354
Эспланада (фр. esplanade) — площадь; иногда — бульвар. Здесь — бульвар в Хельсинки (Финляндия). (Примеч. сост.).
(обратно)355
Карл X (1757–1836) — французский король в 1824–1830 гг., из династии Бурбонов. В его правление были изданы июльские ордонансы 1830, ограничившие демократические свободы. В 1830 г. начата экспансия в Алжир. Свергнут июльской революцией 1830 г. (Примеч. сост.).
(обратно)356
Башня Штокмана — здание крупнейшего универмага в Хельсинки (сегодня). Штокманы — фамилия владельца фирмы, имеют издательство в Хельсинки. На здании есть небольшая башенка, которая, видимо, в 40-х годах прошлого века казалась башней. (Примеч. сост.).
(обратно)357
Небоскреб Торни — 11-ти этажная гостиница в Хельсинки (где после войны происходили заседания с участием А. А. Жданова). (Примеч. сост.).
(обратно)358
Колоннада Парламента — здание Парламента в Хельсинки, на фасаде которого множество колонн. (Примеч. сост.).
(обратно)359
Брунспаркен (шведское название) — парк в южной части Хельсинки. (Примеч. сост.).
(обратно)360
Парфенон — храм Афины Парфенос на Акрополе в Афинах, памятник древнегреческой высокой классики. (Примеч. сост.).
(обратно)361
Виипури — старое название сегодняшнего города Выборга, порта на побережье Финского залива, Ленинградская область. С 1293 г. — шведская крепость. С 1710 г. — в России, с 1918–1940 — в Финляндии. В городе замок XIII века, краеведческий музей.(Примеч. сост.).
(обратно)362
Пластрон — разновидность шейного платка или галстука. (Примеч. сост.).
(обратно)363
Вечнозеленый лес, выращенный человеком (лат.).
(обратно)364
Кто-то погружается в сон или вино (лат.).
(обратно)365
Териоки — старое название местности на берегу Финского залива, в 50 км к северо-западу от Санкт-Петербурга, с 1948 г. — Зеленогорск. Курортная местность. (Примеч. сост.).
(обратно)366
В поселке Репино (до 1948 г. Куоккала) на побережье Финского залива, в 40 км от СПб, находится музей-усадьба русского художника-передвижника, Ильи Ефимовича Репина (1844–1930), под названием «Пенаты». Сюда приезжали Горький, Маяковский, Шаляпин, Есенин, Велимир Хлебников, Вас. Каменский, И. Бунин, Куприн, Иероним Ясинский, К. И. Жуковский, Ал. Алтаева (урожд. Рокотова, тетка С. Н. Толстого). После революции по декрету о независимости Финляндии Куоккала отошла от Советской России. Когда во время Второй Мировой войны Карельский перешеек стал ареной военных действий, экспозиция музея была вывезена в Ленинград в Академию художеств. Летом 1944 г., после освобождения Куоккала, от дома остался только фундамент и остовы печей, парк был в запустении. В 1962 году состоялось открытие музея. (Примеч. сост.).
(обратно)367
Суоменлинна — город в Финляндии, бывш. Свеаборг, крепость, основанная во 2-ой половине XVIII в. шведами. В 1809–1917 — в составе Российской империи, одна из баз русского Балтийского флота. (Примеч. сост.).
(обратно)368
Ламартин Адольф (1790–1869) — французский поэт-романтик, политический деятель. В период революции 1848 г. — член Временного правительства. Сборник медитативной лирики. Подверг критике якобинцев. (Примеч. сост.).
(обратно)369
Андалусия — автономная область на юге Испании. Административный центр — Севилья. (Примеч. сост.).
(обратно)370
Кастилия — королевство XI–XV вв. в центральной части Пиренейского полуострова. Образовалось в 1035 г. В 1037–1065, 1072–1157, с 1230 Кастилия была объединена с Леоном (королевство Кастилия или Кастилия и Леон). Династическая уния Кастилии и Арагона в 1479 г. положила начало единому государству — Испании. (Примеч. сост.).
(обратно)371
Шекспир Уильям (1564–1616) — английский драматург и поэт; «Антоний и Клеопатра» — пьеса 1607–1608 гг. (Примеч. сост.).
(обратно)372
Змея (исп.).
(обратно)373
Змея (англ.).
(обратно)374
Моя змея древнее Нила.
(обратно)375
Брак Жорж (1882–1963) — французский живописец, основоположник кубизма (вместе с Пикассо). Картины находятся в Парижском музее Современного искусства. (Примеч. сост.).
(обратно)376
Dessous (фр.) — внизу, под (здесь: нижнее белье).
(обратно)377
Мозельское вино — белые вина с виноградников р. Мозеля и боковых долин между городами Гриром и Кобленцом (Мозель — река во Франции, Люксембурге, Германии, левый приток Рейна). (Примеч. сост.).
(обратно)378
Бургундское вино — от Бургундия — историческая область во. Франции, в бассейне р. Сены. (Примеч. сост.).
(обратно)379
От nuit (фр.) — ночь.
(обратно)380
Ваше здоровье (шв.).
(обратно)381
Влюбленные (англ.).
(обратно)382
Монастырь Сакра Кёр (сердце Христово) — одно из культовых понятий католической церкви, иногда женское закрытое учебное заведение, посвященное Сердцу Христову. (Примеч. сост.).
(обратно)383
Pets-de-nonne (фр.).
(обратно)384
Фалангист — от греч. «фаланга» — тесно сомкнутое линейное построение тяжелой пехоты в Древней Греции, Македонии и Древнем Риме. (Примеч. сост.).
(обратно)385
Ау то да-фе (аутодафе лат.) (букв. — акт веры) — торжественное оглашение приговора инквизиции в Испании, Португалии, а также само исполнение приговора (главным образом публичное сожжение). Первое аутодафе относится к. XIII в., последнее состоялось в 1826 г. в Валенсии. (Примеч. сост.).
(обратно)386
Гражданская война в Испании (июль 1936 — март 1939), принявшая характер национально-революционной войны против фашистских мятежников и итало-германских интервентов, завершилась установлением фашистской диктатуры генерала Франко. (Примеч. сост.).
(обратно)387
«Ежи» — в обиходной речи — металлические заграждения против прохождения танков. Устанавливались в городах во время войны. (Примеч. сост.).
(обратно)388
Примитивные (лат.).
(обратно)389
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160, Карфаген — после 220, там же) — христианский богослов и писатель. Выступал в Риме как судебный оратор; приняв христианство около 195 г. вернулся в Карфаген. Позднее сблизился с монтанистами, вступив в конфликт с церковью; по-видимому, в конце жизни основал особую секту «тертуллианистов». (Примеч. сост.).
(обратно)390
Дон Жуан — созданный средневековой легендой образ рыцаря-повесы, дерзкого нарушителя моральных и религиозных норм, искателя чувственного наслаждения. Легенда послужила источником для многих произведений искусства и литературы (Тирсо де Молина, Мольер, Гофман, Байрон, Пушкин). (Примеч. сост.).
(обратно)391
Лопе де Вега (Вега Карпьо Лопе Феликс де (1562–1635) — испанский драматург, автор двух тысяч пьес, представитель Возрождения. (Примеч. сост.).
(обратно)392
Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616) — испанский писатель. Главный роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — одно из выдающихся сочинений эпохи Возрождения; пасторальные романы, патриотические трагедии, новеллы, комедии, любовно-приключенческий роман. (Примеч. сост.).
(обратно)393
Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1681) — крупнейший испанский драматург. Комедии интриги, драмы, религиозно-философские драмы. Унаследовал традиции ренессансной литературы. (Примеч. сост.).
(обратно)394
Гойя Франсиско Хосе де (1746–1826) — испанский живописец, гравер. Портреты, картоны для королевской шпалерной мастерской, росписи в церкви, графика. (Примеч. сост.).
(обратно)395
Лорка Фредерико Гарсия (1898–1936) — испанский поэт и драматург. Стихи, героические драмы, трагедии, пьеса. Основные темы — любовь, смерть, ненависть к деспотизму. Убит фашистами. (Примеч. сост.).
(обратно)396
Принцесса Клевская — психологический роман (1678) французской писательницы госпожи де Лафайет (1634–1692). (Анна Клевская — английская королева). (Примеч. сост.).
(обратно)397
Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, физик, религиозный философ и писатель. Вел полумонашеский образ жизни. Полемика с иезуитами отразилась в «Письмах к провинциалу» (1656–57) — шедевр французской сатирической прозы. В «Мыслях» (опубл. 1669) — развивает представления о трагичности и хрупкости человека, находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством. Путь постижения тайн бытия и спасения человека от отчаяния видел в христианстве. Оказал большое влияние на иррационально-мистическую традицию в философии. Сыграл значительную роль в формировании французской классической прозы. (Примеч. сост.).
(обратно)398
«Опасные связи» — произведение французского писателя Шарля Пьера Лакло де (1741–1803), автор единственного романа (1782 г.), прославившийся на весь мир. Написан в эпистолярном жанре. (Примеч. сост.).
(обратно)399
Ламенне Фелисите Робер де (1882, Сен-Мало — 1954 Париж) — французский публицист и философ, аббат, один из родоначальников христианского социализма. Преодолев первоначальное увлечение идеями Руссо, стал убежденным монархистом и правоверным католиком. В ранних трудах (1810–20-е гг.) выступил с критикой идей Великой французской революции и материалистической философии XVIII в. Политическим идеалом в это время была христианская монархия. Но в конце 20-х гг. переходит на позиции либерализма. К концу жизни выступил с собственной философской системой «Эскиз философии», в которой опирался на идеи неоплатонизма и Лейбница. (Примеч. сост.).
(обратно)400
Людовик IX Святой (1215–1270) — идеал средневекового короля (в атрибутике герба — лилии — символ королевской власти). Оставшись после смерти отца 12 летним ребенком рос под надзором регентши матери Бланки Кастильской. Его святость не имела в себе ничего монашеского. Это был святой мирянин, предпочитавший всему проповедь, чтение священных книг, религиозные беседы. При этом был доблестным и храбрым воином. Главным в правлении считал сдерживать распространение греха и ересей. Король в его глазах был первосвященником. Весь Запад видел в короле Франции охранителя международного права, всеобщего миротворца. Предпринял 7-й крестовый поход (1248–1254) в Египет, был пленен. В 1270 г. вторично отправился в Африку, где был убит под стенами Туниса. Причислен к лику святых. Его эпоха была прогрессивной в области политики, права, в жизни церкви и школы, литературы и искусства. (Примеч. сост.).
(обратно)401
Возможно, Дон-Игнацио-Лопес-де-Рекальдо, основатель иезуитского ордена 1491–1556 гг.; был офицером на испанской военной службе. В 1521 тяжело ранен при Пампелуне, предался религиозному созерцанию и подвижничеству, 1523 — совершил странствие в Иерусалим, хотел посвятить себя обращению мусульман, изучал в Саламанке и Париже богословие, 1534 — начертал с Лайнером, Бовадильей и др. план ордена иезуитов; 1541 — стал первым его генералом. Умер 31 июля 1556 г. В 1622 г. канонизирован. (Примеч. сост.).
(обратно)402
Табачные фирмы, названия сигарет. (Примеч. сост.).
(обратно)403
Кровь (англ.).
(обратно)404
Bloody (англ.) — кровавый; Александрина Виктория, королева Великобритании и Ирландии с 1837 г., последняя из Ганноверской династии (1819–1901), дочь герцога Кентского и принцессы Луизы — Виктории Саксен-Кобургской. (Примеч. сост.).
(обратно)405
Гильдебрандт — в XI веке монах Клюнийского монастыря в Бургундии, инициатор реформ в церкви. Был избран Папой под именем Григорий VII в XI в. (Примеч. сост.).
(обратно)406
Varum nicht (нем.) — Почему нет?
(обратно)407
Sehr interessant (нем.) — очень интересно.
(обратно)408
Feltfebel (нем.).
(обратно)409
Sonderführer (нем.) — лейтенант.
(обратно)410
Volksdeutshe (нем.) — немцев по происхождению.
(обратно)411
Jawohle (нем.) — Да.
(обратно)412
Ein, zwei, drei (нем.) — один, два, три.
(обратно)413
Alles in Ordnung (нем.) — Все в порядке!
(обратно)414
Feuer! (нем.) — Огонь!
(обратно)415
So (нем.) — Так.
(обратно)416
Natürlich (нем.) — конечно.
(обратно)417
Nicht wahr? (нем.) — Не так ли?
(обратно)418
Die üdischen Hunde! (нем.).
(обратно)419
Ein Liter (нем.) — Один литр.
(обратно)420
Berlin raucht Juno (нем.) — Берлин курит Жюно.
(обратно)421
Untergründen (нем.) — подземка, метро.
(обратно)422
Herrenvolk (нем.) — народ, господин.
(обратно)423
Aus dem kraftkeil milch (нем.) — из крафткельского молока.
(обратно)424
Inainte, bâiety, inainte (рум.) — Вперед, ребята, вперед!
(обратно)425
Мюрат Иоахим (1771–1815) — французский маршал и король неаполитанский, 1796 — адъютант Бонапарта. В 1805 г. в битве при Аустерлице и в 1808 г. в Испании командовал кавалерией (как и Буденный С. М.), в 1812–1813 в России и Германии также командовал кавалерией. (Примеч. сост.).
(обратно)426
Арьергард (от фр. задний, тыловой) — часть (подразделение), высылаемое от общевойскового соединения (части) для прикрытия отхода главных сил. (Примеч. сост.).
(обратно)427
Panzer (нем.) — танк, pferd — лошадь.
(обратно)428
Ямполь — город в Винницкой области на реке Днестр, в 51 км от ж. д. станции Могилев-Подольский. Известен с XVI в.(Примеч. сост.).
(обратно)429
Буг (Западный Буг) — река в России и Польше, правый приток р. Нарев. Соединена каналами с Днепром (Днепровско-Бугским) и Неманом. На Буге — город Брест и героическая Брестская крепость. (Примеч. сост.).
(обратно)430
Panzerchützer (нем.).
(обратно)431
Панцердивизион — танковая дивизия, панцершютцеры — танкисты (Panzerschützer). (Примеч. сост.).
(обратно)432
Ксенофонт (ок. 430–355 (354) до н. э.) — древнегреческий писатель и историк. Основное историческое сочинение «Греческая история» в 7 книгах (третья — 362 до н. э.) с проспартанских и антидемократических позиций. (Примеч. сост.).
(обратно)433
Дюрер Альберт (1471–1428) — родился в Нюрнберге, художник, ведущая фигура Северного Возрождения. Мастер рисунка, тщательно изучивший натуру, достиг совершенства в технике ксилографии и гравюре на металле. Серия гравюр на дереве «Апокалипсис» (1498) и гравюры на меди «Рыцарь, смерть и дьявол» (1513) и «Меланхолия». Автор расписных алтарей и портретов, в том числе автопортретов. (Примеч. сост.).
(обратно)434
Аллегория (иносказание) — изображение отвлеченной идеи посредством образа. (Примеч. сост.).
(обратно)435
Бельцы — город в Бессарабии. (Примеч. сост.).
(обратно)436
Бессарабия — историческая область между реками Днестр и Прут (ныне осн. часть территории Молдавии, Приднестровья и южн. часть Одесской области (Украина). В X–XI вв. в Киевской Руси, затем в Галицко-Волынском княжестве. С XIV в. в Молдавском княжестве, с начала XVI в. под властью Турции, с 1812 г. — в Российской империи. В 1918–1940 незаконно оккупирована Румынией. (Примеч. сост.).
(обратно)437
Я люблю русских собак (англ.).
(обратно)438
Они должны были быть отцами смелых русских мальчиков (англ.).
(обратно)439
Карл Пятый — V Мудрый (1338–1380) — французский король (с 1364 г.) из династии Валуа. В 1356–1360 и начале 1364 — регент Франции. Упорядочил налоговую систему, организовал армию. В 1369 году возобновил военные действия против англичан.(Примеч. сост.).
(обратно)440
Country-party (англ.) — загородные рауты.
(обратно)441
Ja, ja, ja (нем.) — да, да, да.
(обратно)442
Ренуар Огюст (1841–1910) — французский живописец, график и скульптор. Пейзажи, портреты. Представитель импрессионизма. (Примеч. сост.).
(обратно)443
Week end (англ.) — конец недели.
(обратно)444
Le chateau (фр.).
(обратно)445
Белоостров — поселок городского типа в Ленинградской области на Карельском перешейке. (Примеч. сост.).
(обратно)446
Арсенал — учреждение для хранения, ремонта и сборки вооружения и боеприпасов. До XIX в. занимались в основном производством вооружения и боеприпасов. (Примеч. сост.).
(обратно)447
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — памятник позднего русского классицизма. Построен во имя Исаакия Далматского (преподобного игумена обители Далматской, умер в 383 г., память которого чествуется в день рождения Петра Великого). Постройка начата в 1768 г., и в 1858 собор достроен. Построен в 1818–1858 гг. по проекту Л. А. Монферрана (дополненному другими русскими архитекторами — В. П. Стасов и др. Украшен скульптурой работы Витали и др., мозаикой, живописью К. П. Брюллова. Высота собора 101,52 м. Одна из важнейших строительных доминант Санкт-Петербурга. (Примеч. сост.).
(обратно)448
Кронштадт (до 1723 Кроншлот) — город и порт в пригороде Петербурга на о. Котлин, в Финском заливе, в 29 км к западу от Санкт-Петербурга. Основан в 1703 г. Петром I как крепость для защиты города с моря. С 20-х гг. XVIII в. — база Балтийского флота. Морской собор (1903–1913). Памятник Петру I, адмиралу С. О. Макарову и др. (Примеч. сост.).
(обратно)449
Пуукко — нож, финка (фин.). (Примеч. сост.).
(обратно)450
На этом кладбище находятся старые захоронения после эпидемий. (Примеч. сост.).
(обратно)451
Ле Корбюзье (наст, фамилия Жаннере) Шарль Эдуард (1887–1965) — французский архитектор и теоретик архитектуры. Рационализм, функционализм. (Примеч. сост.).
(обратно)452
Дали Сальвадор (1904–1989) — испанский живописец, ведущий представитель сюрреализма. (Примеч. сост.).
(обратно)453
Хиндемитт Пауль (1895–1963) — немецкий композитор, альтист, дирижер, музыкальный теоретик, ведущий представитель немецкого неоклассицизма. Оперы, балеты, симфонии, камерные произведения, оратории. (Примеч. сост.).
(обратно)454
Онеггер Артюр (1892–1955) — швейцарский композитор, один из «Шестерки» композиторов (Жорж Орик, Луи Дюрей, Дариюс Мийо, Фрэнсис Пуленк, Жермена Тайфер), образованной в 1917 г. Стремились писать музыку, свободную от иностранного виляния и созвучную современным веяниям. Раскол между ними произошел в 1920 г. А. Онеггер писал оперу, балет, ораторию, симфонию и др. Говорил: «Без сомнения, первое требование к композитору — чтобы он был мертвым». (Примеч. сост.).
(обратно)455
Stream-line (англ.) — обтекаемых.
(обратно)456
Эмпайр Стейтс Билдинг (США) — самое высокое здание в Нью-Йорке, деловой центр США. (Примеч. сост.).
(обратно)457
Рокфеллеровский центр — Рокфеллер — финансовая группа в США. Сложилась в XIX в. Основатель Дж. Д. Рокфеллер старший (1839–1937), промышленное ядро нефтяной компании. (Примеч. сост.).
(обратно)458
Кранах Лукас Старший (1472–1553) — немецкий живописец, гравер, ведущая фигура в немецком Возрождении. Писал в полный рост обнаженную натуру и детализированные портреты. Родился в Кранахе (Бавария), поселился в Виттенберге, где работал у курфюста Саксонского. Был близок с А. Дюрером, А. Альтдорфером, дружил с Мартином Лютером (написал несколько его портретов). Религиозные, сюжеты на фоне великолепного пейзажа. Иногда его картины имели общий мертвенно-зеленый цвет («Мадонна с младенцем»). (Примеч. сост.).
(обратно)459
Король Румынии Михай — Михай I; был королем в 1929–1933 и в 1940–1947. (Примеч. сост.).
(обратно)460
Маннергейм Карл Густав (1867–1951) — барон, финский маршал (1933 г.) — главнокомандующий финской армией в войнах против СССР (выходец из России). 1939–40, 1941–1944. В августе 1944–марте 1946 — президент. Вышел в отставку под давлением демократических сил. (Примеч. сост.).
(обратно)461
Человек войны (англ.).
(обратно)462
Гомер — древнегреческий поэт, которому со времен античности приписывается авторство «Илиады» и «Одиссеи». (Примеч. сост.).
(обратно)463
Турку — город на юго-западе Финляндии. Порт у впадения реки Аура-йоки в Ботнический залив. Собор и замок (XIII–XIV в.), Университет, музеи — В. Аалтонене и Я. Сибелиуса. Первые упоминания — в XII в. С XIII в. — центр шведской администрации.(Примеч. сост.).
(обратно)464
Стаханов Александр Григорьевич (1905/06–1977) — зачинатель массового движения новаторов производства. В 1935 г. установил рекорд по добыче угля. С 1935 г. стахановское движение в советской России. (Примеч. сост.).
(обратно)465
Карл Маркс (1818–1883) — немецкий основоположник научного коммунизма. Основное произведение «Капитал». (Примеч. сост.).
(обратно)466
Blue book (англ.) — голубая книга.
(обратно)467
Итон — город в Великобритании к западу от Лондона на реке Темзе. Основан в 1440 г. Известен старинным средним заведением для обучения детей аристократов. (Примеч. сост.).
(обратно)468
Не беспокойтесь.
(обратно)469
Англичане никогда не будут рабами (англ.).
(обратно)470
Воспетая лордом А. Теннисоном, англ. поэтом, жена графа Ковентри, освободившая народ от тяжелой подати, согласившись взамен, по требованию мужа, выехать из замка в город на лошади, прикрытой лишь прядями своих волос, т. е. нагой; однако она ехала по пустому городу — ни один житель не открыл ставни. Ковентри — город в центральной части Великобритании к востоку от Бирмингема. (Примеч. сост.).
(обратно)471
Гадес — то же, что Плутон, владыка преисподней (в греч. мифологии), от греч. Hades (ад). (Примеч. сост.).
(обратно)472
Суоменлинн — возм. от Суоменселькя — возвышенность в средней части Финляндии. Озера, болота, таежные леса. (Примеч. сост.).
(обратно)473
Кьянти — итальянское красное сухое вино. (Примеч. сост.).
(обратно)474
Главный город на острове Реюньон (владение Франции). (Примеч. сост.).
(обратно)475
Ломбардия — область в верхней Италии, к северу от реки По. (Примеч. сост.).
(обратно)476
Афродизийные пирожные — от афродизиак — возбуждающее средства (от имени Афродиты — богини любви). (Примеч. сост.).
(обратно)477
Суссекс — графство в южной Англии. (Примеч. сост.).
(обратно)478
Сава — река на севере Югославии, правый, наиболее многоводный приток Дуная. В долине Савы — Любляна, Загреб, в устье — г. Белград. (Примеч. сост.).
(обратно)479
Монастир — город на востоке Туниса, порт на южном берегу залива Хаммамет. Возник в VIII–XIX вв. Архитектурные памятники VIII–XIII в., Музей исламского искусства. (Примеч. сост.).
(обратно)480
От Савойя — бывшее герцогство, расположенное между Францией, Швейцарией и Италией (Пьемонтом) в Альпах. Савойя первоначально была занята аллоброгами, позже принадлежала бургундцам и франкам, в 1032 г. подчинилась Германской империи. Основателем Савойской династии, к которой принадлежал итальянский королевский дом, был граф Гумберт (умер в 1048 г.). Савойский Умберто — Савойская династия — династия правителей Савойи (графов с XI века до 1416 г., герцогов с 1416–1720, королей Сардинского королевства (в 1720–1861), королей объединенного королевства Италии (в 1861–1946). Савойя — историческая область во Франции в Альпах. Главный город Шамбери Савойское герцогство — феодальное государство в 1416–1720 (с XI в. — 1416 г. имело статус графства) со столицей в Шамбери (на территории современной Франции), с 1565 — в Турине (на территории современной Италии). (Примеч. сост.).
(обратно)481
Хорватов (от Кроация — Хорватия). (Примеч. сост.).
(обратно)482
Нови-Сад — город в Югославии, порт на Дунае. Университет, музеи и художественные галереи. Архитектурные памятники XIV–XVIII вв. Исторический центр сербской национальности и культуры. (Примеч. сост.).
(обратно)483
Сын ружья (букв.; англ.).
(обратно)484
Тамтам — разновидность гонга, применяемая в симфоническом оркестре. 2 — барабан с деревянными щетками вместо кожи, распространенный в Африке. (Примеч. сост.).
(обратно)485
Король Петр II — Негош Петр Петрович (Петр II Петрович Негош) — 1813–1851 — правитель Черногории с 1830 г., поэт и просветитель из династии Негошей. Негоши — династия правителей в Черногории в 1697–1918. (С 1852 — княжеская, с 1910 — королевская). Название от племени негушей, из которых происходил основатель династии Данило Петрович Негуш. (Примеч. сост.).
(обратно)486
Тимишоара — город на западе Румынии. Административный центр, важный транспортный узел у границ Югославии и Венгрии. Университет, Музей Баната (художник, археолог, этнограф). Известен с XIII в. Замок Яноша Хуньярди (XIV–XV в., постройка XVIII в. в стиле барокко). (Примеч. сост.).
(обратно)487
Ты же смелый пес, не правда ли? (англ.).
(обратно)488
Потифар (принадлежащий солнцу) — царедворец Египетского царя Фараона, начальник царских телохранителей, который особо отличал Иосифа своим доверием и вверил ему управление всем своим домом, но по клевете жены своей заключил Иосифа в темницу. (Примеч. сост.).
(обратно)489
Св. Иосиф — в библейской мифологии любимый сын Иакова и Рахили; был продан братьями в рабство, после долгих злоключений стал править в Египте. Когда гонимые голодом братья Иосифа прибыли в Египет, он посетил их в этой стране. В Египте Иосиф был продан начальнику телохранителя Фараона Потифару «и вот его красота и молодость прельстила сладострастную жену Потифара… Не успев склонить Иосифа на преступление, она оклеветала его в покушении на её честь». (Примеч. сост.).
(обратно)490
Она так печальна, бедное дитя, будьте милы с ней (англ.).
(обратно)491
Потсдам — город в Германии на р. Хафель и озерах на юго-западе от Берлина. Впервые упоминается с X в. С конца XVIII в. — вторая резиденция прусских королей. Дворцы и церкви XVIII–XIX вв., в том числе дворец и парк Сан-Суси (1745–1762). Литцензее здесь же. Место проведения международных конференций (1805 г.) между Россией и Пруссией, 1911 г. — между Россией и Германией, 1945 — СССР, США и Великобританией (Берлинская конференция). (Примеч. сост.).
(обратно)492
Прато — город в итальянской провинции Флоренция на реке Бизенцио. Собор XII–XV в. (Примеч. сост.).
(обратно)493
Hoschule (нем.) — высшее общество.
(обратно)494
Верне — семья французских живописцев XVIII–XIX вв. I. Клод Жозеф (1714–1789), автор морских пейзажей; 2. Карл (1758–1836) — карикатурист и баталист; З. Opac (1789–1863) парадный историк живописец. (Примеч. сост.).
(обратно)495
Адам — возможно английский архитектор-декоратор, создатель интерьеров в XVIII в., английский классицизм. (Примеч. сост.).
(обратно)496
Гогенцоллерны — династия браденбургских курфюрстов в 1415–1701, прусских королей 8 1705–1718, германских императоров в 1871–1918. Основные представители: Фридрих Вильгельм, Фридрих II, Вильгельм I, Вильгельм II. (Примеч. сост.).
(обратно)497
Рюлебен — город в Германии. (Примеч. сост.).
(обратно)498
Панков — район Берлина. (Примеч. сост.).
(обратно)499
Шпандау — район Берлина. (Примеч. сост.).
(обратно)500
Arme Leute (нем.) — бедные люди (букв.).
(обратно)501
Дебаркадер — устаревшее название станционной железнодорожной платформы с навесом. (Примеч. сост.).
(обратно)502
Пестум — город (VI в. до н. э. — IX в н. э.) — на юго-западе Италии, на побережье, близ устья р. Селе. Остатки храмов V–VI вв. до н. э., оборонительных стен, театра, форума и др. (Примеч. сост.).
(обратно)503
Помпеи — город в южной Италии у подножия вулкана Везувия, близ руин античного города Помпеи, засыпанного при извержении вулкана в 79 году н. э. Раскопками (с 1748 г.) открыта часть античного города с остатками городских стен (V–IV вв. до н. э.), форумов (VI и II вв. до н. э.), храмов, палестр, театров, рынков, жилых домов и вилл (III в. до н. э. — I в. н. э.) с мозаиками и фресками. (Примеч. сост.).
(обратно)504
Сорренто — город в Южной Италии, в области Кампании, у Неаполитанского залива. Приморский климатический курорт. (Примеч. сост.).
(обратно)505
Саннадзаро Якопо (1455,56–1530) — итальянский писатель. Прозометрическая пастораль «Аркадия» (1504) оказала влияние на развитие пасторального жанра в европейской литературе. (Примеч. сост.).
(обратно)506
Латук — род трав, реже полукустарников, семья сложноцветных. Свыше 100 видов. Растет в Евразии, Африке, Америке, России. Некоторые — сорняки, другие — овощные растения. Некоторые виды — в Красной книге. (Примеч. сост.).
(обратно)507
Какая прелесть! (англ.).
(обратно)508
Зигфрид — герой древнегерманских и древнескандинавских легенд. История его жизни, в которой, очевидно, содержатся элементы реальности, составляет сюжет германского эпоса «Песня о нибелунгах» и скандинавского — «Старшая Эдда», а также прозаического произведения «Сага о Вёльсунгах». Зигфрид — герой последних двух опер из цикла Вагнера «Кольцо нибелунга». Этим именем была названа система пограничных укреплений фашистской Германии в 1936–40 гг. на ее западных границах. (Примеч. сост.).
(обратно)509
Гаген-Гиммлер — возможно, Гаген — от фамилии Гагенбека Карла (1844–1913), основателя крупнейшей в мире немецкой фирмы по торговле дикими животными. Создавал зоопарки и зооцирки. Занимался дрессировкой. (Примеч. сост.).
(обратно)510
Хаксли Олдос (Лернард) — 1894–1963 — британский писатель, автор романов, эссе, стихов. «Контрапункт» (1826) — интеллектуальный роман, близкий умонастроению «потерянного поколения», разоблачает духовную несостоятельность буржуазной интеллигенции. Также романы «Желтый Кром», «Шутовской хоровод», сатирическая антиутопия «Прекрасный новый мир», «Гений и богиня», «Остров». (Примеч. сост.).
(обратно)511
Букингемский дворец — резиденция английских королей, по названию английского графства. (Примеч. сост.).
(обратно)512
О, какая прелестная история! (англ.).
(обратно)513
Полтава — город на реке Ворскла, известен с 1174 г. в русских летописях как Лтава (название до 1430 г.), с 1569 — в Польше, с 1667 — в России. Полтавская область (Украина). (Примеч. сост.).
(обратно)514
Хмельницкий Богдан (Зиновий) — (ок. 1595–1637) — гетман Украины; руководитель освободительной борьбы украинского народа против польско-шляхетского гнета. В 1654 г. провозгласил воссоединение Украины с Россией. (Примеч. сост.).
(обратно)515
Пугачев Емельян Иванович (1742–1775) — предводитель крестьянского бунта 1773–1775 гг., донской казак, участник Семилетней 1765–1763 и русско-турецкой 1768–1774 войн, хорунжий. Под именем императора Петра III поднял восстание яицких казаков в августе 1773 г., в результате которого уничтожил тысячи людей в основном дворянского сословия, грабил и жег имения, обворовывал церкви. В сентябре 1774 заговорщиками был выдан властям. Казнен в Москве на Болотной площади. (Примеч. сост.).
(обратно)516
Стенька Разин — Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), организатор восстания 1670–1671, донской казак. В 1662–1663 — донской атаман. Воевал с крымскими татарами и турками. В 1667 с отрядами казацкой голытьбы совершил походы на Волгу и Яик. В 1668–1669 — по Каспийскому морю в Персию. Во время восстания был выдан старшиной царскому правительству. Казнен в Москве. (Примеч. сост.).
(обратно)517
Лука — изгиб (чего-то) — реки, морского берега и т. п. (Примеч. сост.).
(обратно)518
Убирайтесь, убирайтесь, люди! (нем.).
(обратно)519
Fleck Typhus — сыпной тиф.
(обратно)520
Jawohl (нем.) — Да, конечно; совершенно верно.
(обратно)521
Один ребенок (нем.).
(обратно)522
Мой Бог! (нем.).
(обратно)523
Гейнсборо Томас (1727–1788) — английский живописец, пейзажист, портретист. (Примеч. сост.).
(обратно)524
Серия гравюр «Капричос» (1790–1800) с изображением церковного притча. (Примеч. сост.).
(обратно)525
Я собираюсь завести ребенка, да здравствует Гитлер! (англ.).
(обратно)526
Не будь такой потсдамкой, Луиза!
(обратно)527
Павелич Анте (1889–1959) — с 1929 года — глава хорватской фашистской организации усташей, военный преступник. С 1941–1945 — глава марионеточного «Независимого государства Хорватия». В 1945 бежал из страны; был заочно приговорен югославским судом к смертной казни. (Примеч. сост.).
(обратно)528
Усташи — в 1929–1945 гг. фашистские организации хорватских националистов. Основана за границей (центры в Италии, Венгрии, Бельгии и других странах) А. Павеличем. В 1934 г. усташи убили югославского короля Александра и французского министра иностранных дел Л. Барту. После оккупации Югославии в 1941 г. фашистскими войсками создали под эгидой оккупантов марионеточное «независимое государство Хорватия», были организаторами массовых убийств сотен тысяч жителей Югославии. (Примеч. сост.).
(обратно)529
Драва — правый приток Дуная, река, главным образом, в Югославии. На Драве — города Филлах (Австрия) и Марибор (Югославия). (Примеч. сост.).
(обратно)530
Илок — город. (Примеч. сост.).
(обратно)531
Гонвед (букв, защитник отечества) — название венгерской армии в середине XVIII — первой половине XX в. (Примеч. сост.).
(обратно)532
От лат. protector — прикрывающий, защищающий.
(обратно)533
Дариюс Мийо (1882–1974) — французский композитор, дирижер, музыкальный критик. (Примеч. сост.).
(обратно)534
Сати Эрик (1866–1925) — французский композитор. Один из создателей «Шестерки». С начала XX в. вокруг Сати группировались молодые французские музыканты («Аркейская школа»). Симфоническая драма с пением «Сократ» (1918); балет «Парад» (1917), оркестровые фортепианные пьесы. (Примеч. сост.).
(обратно)535
Модильяни Амедео (1884–1920) — итальянский живописец. (Примеч. сост.).
(обратно)536
Барту Луи (1862–1934) — премьер-министр Франции в 1913 г., с 1894 — неоднократно министр, в 1934 — министр иностранных дел. Убит в Марселе (вместе с королем Югославии Александром I Карагеоргиевичем) усташами. (Примеч. сост.).
(обратно)537
Карловац — город в Югославии, в Хорватии, р. Купа. (Примеч. сост.).
(обратно)538
Мештрович Иван (1883–1962) — хорватский скульптор. С 1947 г. жил в США. В произведениях, часто отмеченных демократизмом и героическим пафосом национального самоутверждения («Мать», 1908, памятник Неизвестному солдату на горе Авала, близ Белграда, 1934–1938), неоклассическая монументальность сочетается с декоративной стилизацией. Галерея Мештровича — в г. Сплит. (Примеч. сост.).
(обратно)539
Загреб — столица Хорватии, город на реке Сава. С середины XVI в. главный город Хорватии. Упоминается с 1094 г. В 1526–1918 — под властью Габсбургов. С 1918 г. входит в состав югославского государства. Остатки укреплений XIII–XVIII вв., готические церкви, дворцы в стилях барокко и классицизма. Театр (XIX в. эклектика), биржа (1920-е — неоклассика). (Примеч. сост.).
(обратно)540
Любляна — город в Югославии. Как поселение известен с 1144 г. Со 2-й пол. XIII в. (нем. Лайбах) административный центр Крайны. В 1335–1918 (с перерывом 1809–1813 гг. была административным центром Иллирийских провинций под властью Габсбургов. С образованием в 1918 г. Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Югославия) Любляна — столица Словении. Замок Град (IX–XVII вв.) — церкви и дворцы в стиле барокко. (Примеч. сост.).
(обратно)541
Studio — студия, возм. здесь «приемная».
(обратно)542
Мюссе (примеч. перев.).
(обратно)543
Enfant terrible (фр. — избалованного ребенка.
(обратно)544
Эрцгерцог Фердинанд — Фердинанд I Кобургский (1861–1948) — с 1887 г. князь, в 1908–1918 — царь Болгарии, из немецкого княжеского рода. Основатель династии Кобургов. Усилили германское влияние в Болгарии. Вовлек Болгарию в I Мировую войну. Из-за революционных настроений в стране был вынужден отречься от престола. (Примеч. сост.).
(обратно)545
Alt Wien (нем.).
(обратно)546
Austria felix (нем.) — Австрия счастья.
(обратно)547
Радецки марш — победный марш, мелодия от фамилии Радецкий Иозеф (1766–1858), граф, австрийский фельдмаршал (1836), в 1809–1813 — начальник штаба австрийской армии. В 1813–1814 — начальник штаба главнокомандующего союзными войсками в войне против Франции, в 1831–1857 — главнокомандующий австрийской армией в Северной Италии и генерал-губернатор австрийских владений в Северной Италии. Подавлял революцию 1848–1849 гг. в Италии, разбил итальянские войска при Кустоце и Новаре. (Примеч. сост.).
(обратно)548
Пикадилли — одна из центральных улиц Лондона. (Примеч. сост.).
(обратно)549
Конец фразы из 54-го сонета Шекспира (перев. Маршака): «а у душистых роз иной конец».
(обратно)550
Я чувствую себя чистой, невинной и девственной, как Богоматерь (англ.).
(обратно)551
Реполов — то же, что и коноплянка. (Примеч. сост.).
(обратно)552
Скансен (Швеция) — район Стокгольма. (Примеч. сост.).
(обратно)553
Как мило (англ.).
(обратно)554
«А у душистых роз иной конец: / Их душу перельют в благоуханье».
(обратно)555
Нимфенбург один из самых известных фарфоровых заводов Германии. (Примеч. сост.).
(обратно)556
…из Бурано (кружево)… — Венеция. (Примеч. сост.).
(обратно)557
Ватто Антуан (1684–1721) — французский живописец и рисовальщик. (Примеч. сост.).
(обратно)558
Остров в Венецианской лагуне (Италия). Производство художественного стекла (венецианское стекло). (Примеч. сост.).
(обратно)559
Für Gott und Vaterland! Ich! Ich! Ich! — За Бога и Отечество! Я! Я! Я! (нем.).
(обратно)560
Армия райха (рейха) — наименование режима фашистской Германии. Третий рейх (Drittes Reich) — буквально «третья империя, третье царство». Термин был заимствован из средневековых мистических учений о трех царствах. Миф о «третьем» или «тысячелетнем» рейхе (историческим воплощением первых двух объявлялись средние века. «Священная Римская империя» и Германия 1871–1918 гг.) являлся идеологическим обоснованием фашизма на мировое господство, «завершающей», «высшей» стадией социального развития. (Примеч. сост.).
(обратно)561
Bousekeeper (англ.) — bouse — водка, попойка, пьянствовать; keep — хранитель, сторож.
(обратно)562
Lager (фр.) — лагерь.
(обратно)563
Гарсоньерка — от «гарсон» (фр.) — мальчик, официант в ресторане или кафе. (Примеч. сост.).
(обратно)564
От фр. Le mot — словцо, меткое остроумное высказывание.
(обратно)565
Beauty (англ.) — красавица.
(обратно)566
Эклога — (от греч. Ekloge отбор) — в античной и затем в европейской поэзии — одна из форм буколики (поэтический жанр античной поэзии; описывает прелести скромной и естественной жизни на лоне природы вне связи с социальными противоречиями (идиллия, пастораль, эклога). (Примеч. сост.).
(обратно)567
Ваннзее — местность и озеро в Германии близ Берлина. (Примеч. сост.).
(обратно)568
Жиголо — повеса. (Примеч. сост.).
(обратно)569
«Мадам Бовари» — роман французского писателя Гюстава Флобера (1821–1880) «Госпожа Бовари» (1857). (Примеч. сост.).
(обратно)570
Адрианополь — греческое название г. Эдирне на северо-западе Турции. (Примеч. сост.).
(обратно)571
Ставрогин Николай Всеволодович — главный персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы». (Примеч. сост.).
(обратно)572
Картезинский монастырь — от «картезианство» — направление в философии и естествознании XVII–XVIII вв., теоретическим источником которой были идеи Р. Декарта (латинизированное имя Cartesius — Картезий, отсюда название). Основа картезианства — последовательный дуализм, т. е. разделение мира на две самостоятельные и независимые субстанции — протяженную и мыслящую; исходные принципы картезианской гносеологии — самодостоверность сознания (декартовское «мыслю следовательно существую» и теория врожденных идей. (Примеч. сост.).
(обратно)573
Эдип — в греческой мифологии сын царя Фив Лая. Эдип по приказанию отца, которому была предсказана гибель от руки сына, был брошен младенцем в горах. Спасенный пастухом, он, сам того не подозревая, убил отца и женился на своей матери, став царем Фив. Узнав, что сбылось предсказание оракула, полученное им в юности, Эдип ослепил себя (в литературе трагедия Софокла «Царь Эдип»). (Примеч. сост.).
(обратно)574
Метелл — римский плебейский род Цецилиев. Первый в роде Луций Цецилий Метелл родился в 250 г. до Рождества Христова. Разбил карфагенян при Панорме. Шестой — Квант Метелл Кретик (68–60 — подчинил Крит). Его дочери Цецилии Метелла принадлежит знаменитая гробница у Аппиевой дороги. (Примеч. сост.).
(обратно)575
Будь здоров (лат.) (обычно в конце письма). Здесь: «Не потеряй здоровье».
(обратно)576
Farfalla (итал.) — бабочка.
(обратно)577
Der Schmetterling (нем.) — бабочка.
(обратно)578
Der Krieg (нем.) — война.
(обратно)579
Der Tod (нем.) — смерть.
(обратно)580
Die Sonne (нем.) — солнце.
(обратно)581
Der Mond (нем.) — луна.
(обратно)582
Verdunkelung (нем.) — затемнение.
(обратно)583
Она действительно сумасшедшая (англ.).
(обратно)584
Умбрия — область в центральной Италии. Включает провинции Перуджа и Терни. Административный центр — Перуджа. (Примеч. сост.).
(обратно)585
Тироль — графство, коронная область Цислейтании — самая высокая горная область Австрии на реке Илл (приток Рейна), Лех, Изар, Инн и Драва (приток Дуная) и др. В древности Тироль был населен ретийскими племенами, при императоре Августе завоеван римлянами. (Примеч. сост.).
(обратно)586
Сороки — город с 1835 года. Крепость-замок (1543 г.) Пристань на Днестре (север Молдавии). Историко-краеведческий музей. (Примеч. сост.).
(обратно)587
Gute Nacht (нем.) — Спокойной ночи.
(обратно)588
Warum? (нем.) — Почему?
(обратно)589
Спокойной ночи (рум.).
(обратно)590
Долина Кеми — Кеми — город на юго-западе Лапландии. (Примеч. сост.).
(обратно)591
Остенботния (Östenbotten) — губерния в Финляндии, на берегу Ботнического залива (букв, «восточное дно» — боттен — дно, остен — восток). (Примеч. сост.).
(обратно)592
Лапландия — часть Финляндии, губерния, почти половина территории. (Примеч. сост.).
(обратно)593
Оулу — город в глубине залива, в устье реки Оулу. (Примеч. сост.).
(обратно)594
Рованиеми — главный город Лапландии на ее севере. (Примеч. сост.).
(обратно)595
Стравинский Игорь Федорович (1882–1971) — русский композитор и дирижер, сын Федора Игоревича Стравинского (1843–1902) — русского певца (бас). С 1910 года жил за рубежом. В 1939 — в США. «Петрушка» (1911), «Весна священная», (1913) — ранние балеты, связанные с русским фольклором, обрядовостью. (Примеч. сост.).
(обратно)596
Кирико Джорджо де (1888–1978) — итальянский живописец, родом из Греции, предвосхитивший сюрреализм изображением загадочных персонажей и сюжетов, напоминающих сон («Ностальгия по бесконечности» (1911). В 1917 г. совместно с Карло Карра основал направление метафизической живописи, стремящейся передать чувство загадочности и галлюцинаторского видения. Это достигалось искажением перспективы, драматическим эффектом освещения и изображения статуй и манекенов вместо живых людей. В 1930 г. отошел от современных течений, начав работать в традициях старых мастеров живописи. (Примеч. сост.).
(обратно)597
Петсамо — город-порт в Финляндии на реке Печора (с 1920–1945 назывался так, а до этого г. Печоры). Краеведческий музей. (Примеч. сост.).
(обратно)598
Соданкюля — место в Финляндии как муниципальное образование, может быть поселок городского типа, село «коммуна»; (Хельсинки — тоже «коммуна»). (Примеч. сост.).
(обратно)599
Valgame Dios (исп.) — Помоги Боже!
(обратно)600
Arriba Espana (исп.) — Поднимайся, Испания!
(обратно)601
Нарвик — город и порт в Норвегии у Уфут-фьорда. (Примеч. сост.).
(обратно)602
Nuha (фин.) — насморк (букв.). Здесь: будь здоров!
(обратно)603
Мазаччо (наст, имя Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассан (1401–1428) — итальянский живописец. Представитель флорентийской школы, один из основоположников реалистического искусства Возрождения. (Примеч. сост.).
(обратно)604
Лица до Алакуртти (Финляндия) — Лапландия, леса Инари. Лица — река. (Примеч. сост.).
(обратно)605
Салла — местность в Лапландии. (Примеч. сост.).
(обратно)606
Лепра (проказа) — хроническое инфекционное заболевание. Больных лепрой изолируют и лечат в лепрозории. (Примеч. сост.).
(обратно)607
Hyvoäpäivăä (фин.) — здравствуйте.
(обратно)608
Yuutuanjoku — река на севере Финляндии.
(обратно)609
Traurig (нем.) — грустно.
(обратно)610
Грустный, печальный (исп.).
(обратно)611
Feldgrau (нем.) — букв. «серое поле».
(обратно)612
Саше — род матерчатой сумки, конверта, украшенного вышивкой, лентами, для хранения носовых платков, расчесок и т. п. (Примеч. сост.).
(обратно)613
Шербет — сладкое кушанье — густая масса, приготовленная из фруктов, кофе, шоколада и сахара (часто с орехами). (Примеч. сост.).
(обратно)614
Скульптура «писающего мальчика». (Примеч. сост.).
(обратно)615
Нет, нет, не Испания! (нем.).
(обратно)616
Нет, не Испания (нем.).
(обратно)617
Утейоки — река в Финляндии. (Примеч. сост.).
(обратно)618
Инари — большое озеро на севере Финляндии. (Примеч. сост.).
(обратно)619
Тунтура — лысая гора в Лапландии, Ивало — город, коммуна. (Примеч. сост.).
(обратно)620
Герилья — (от исп. guerrilla, от guerra — война) — название партизанской войны в Испании и Латинской Америке. (Примеч. сост.).
(обратно)621
Sekatavara kàuppa (фин.) — магазин разных продуктов, кроме мяса.
(обратно)622
Ивалойки — река Ивало в Финляндии. (Примеч. сост.).
(обратно)623
Честная игра (англ.).
(обратно)624
Королевство Норвегия. — В 1940-м была оккупирована (правительство, не признававшее оккупацию, переехало в Лондон). В самой Норвегии в 1942 году фашисты создали коллаборационистское правительство. Движение сопротивления. 1944 год — была освобождена русскими войсками Северная Норвегия. В мае 1945 года германские войска в Норвегии капитулировали. (Примеч. сост.).
(обратно)625
Kitoksia paljon (фин.) — спасибо большое.
(обратно)626
Hyvoapäivăä — Будьте здоровы!
(обратно)627
Войдите! (нем.).
(обратно)628
Тироль у Атлантического океана (нем.).
(обратно)629
Кастаньеты — ударный музыкальный инструмент; деревянные (или костяные) пластинки в форме раковин, укрепляемые на пальцах. Распространены в Испании, Италии, странах Латинской Америки и др. Различают народные и оркестровые кастаньеты. (Примеч. сост.).
(обратно)630
Рейтары — вид тяжелой кавалерии в европейских армиях XVI–XVII вв. (в России — с XVII в.), преимущественно из наемников-немцев. (Примеч. сост.).
(обратно)631
Дефиле — узкий проход между горами, водными преградами (воен.). (Примеч. сост.).
(обратно)632
Гипербореи — одна из пяти древних допотопных цивилизаций. В греческой мифологии, легендарный народ, живущий по ту сторону северного ветра (Борея), на Крайнем севере, народ, пребывающий в вечном блаженстве. По последним данным, это далекие предки русичей. Материк гиперборейцев существовал на месте нынешнего Северного Ледовитого океана, отсюда их название — гипер, богоподобный народ (в смысле языческих богов). Согласно греческим поверьям, Аполлон Дельфийский на зиму останавливался у них, и гипербореи приносили жертвенные дары в Делосе в его святилище. Вместе с эфиопами, феаками и лотофагами гипербореи относятся к числу народов, близких к богам и любимых им. Блаженная жизнь сопровождается у гипербореев песнями, танцами, музыкой и пирами. О Гиперборее писал греческий историк Геродот. Мудрецы и служители Аполлона Абарис и Аристей, обучавшие греков, считаются выходцами из Гипербореи. Они владеют древними символами бога и наделяют людей новыми культурными ценностями (музыкой, философией, искусством создания поэм, гимнов, строительством Дельфийского храма). Они имели тесные связи с прагреческими и арийскими племенами. В 24–12 вв. до Рождества Христова эти племена поселились в район Трои, а после Троянской войны праславяне бежали в Этрурию, отсюда и легенда о родственной связи этрусков и русских. Затем некоторые из этих племен двинулись на север, к Прибалтике («Янтарный путь») и на левобережье Дуная, где и были описаны тогдашними греко-римскими историками уже как славяне. Древние славяне считали себя происходящими от Бога (природы), внуками Дажьбога. (Примеч. сост.).
(обратно)633
Ахейцы — одно из основных древнегреческих племен, обитавшие в Фессалии с начала 2-го тысячелетия до н. э. и на Пелопоннесе. Государства ахейцев: Микены, Пилос и др. участвовали в Троянской войне. В XII в. до н. э. вытеснены дорейцами в Малую Азию, на Кипр и другие острова на севере Пелопоннеса (область получила название Ахайя). (Примеч. сост.).
(обратно)634
Шляпы (фин.).
(обратно)635
Да (нем.).
(обратно)636
Честная игра (англ.).
(обратно)637
Что? Что вы говорите, простите? (нем.).
(обратно)638
Чувство юмора (англ.).
(обратно)639
Ваше здоровье (исп.).
(обратно)640
За Бога и за Родину (нем.).
(обратно)641
Хватит! Застрелите его!
(обратно)642
Да!
(обратно)643
Гольф гандикап (от франц. handicap) — 1. гандикап (спорт) 2. препятствие; уравнивать шансы участников состязания на скачках; в переносном смысле — поставить кого-либо в невыгодное положение. (Примеч. сост.).
(обратно)644
О нет, слава Богу! (англ.).
(обратно)645
Перт — графство в центре Шотландии. На горе Десинан — замок Макбет. Главный город Перт, на реке Тей, бывшая до 1437 года столица Шотландии. (Примеч. сост.).
(обратно)646
Квиринал — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. (Примеч. сост.).
(обратно)647
Акведук — сооружение в виде моста (или эстакады) с водоводом (трубой, лотком, канавой); строят в местах пересечения водовода с оврагом, ущельем, рекой, дорогой и др. (Примеч. сост.).
(обратно)648
Родная флотилия (англ.).
(обратно)649
Вы тоже считаете, что Англия всегда права? (англ.).
(обратно)650
О, нет, слава Богу!
(обратно)651
Родная флотилия (англ.).
(обратно)652
Какая прелестная история!
(обратно)653
Британия может властвовать на море, но не может отменять правила (англ.).
(обратно)654
Не правда ли (англ.).
(обратно)655
Управлять волнами, нарушать правила.
(обратно)656
Шутка.
(обратно)657
Журналист, ведущий светскую хронику.
(обратно)658
Чувство юмора (англ.).
(обратно)659
А как насчет вас, мои дорогие? (англ.).
(обратно)660
Политический центр Венеции дворец Дожей, выдающийся памятник итальянской готической архитектуры (IV–XV в.). (Примеч. сост.).
(обратно)661
О нет, благодарю Бога!
(обратно)662
Чувство юмора.
(обратно)663
Честную игру.
(обратно)664
Как вы поживаете?
(обратно)665
Я хочу знать, как идут ваши дела.
(обратно)666
Я не хочу знать, как у вас идут дела.
(обратно)667
Белот — карточная игра. (Примеч. сост.).
(обратно)668
Я хочу.
(обратно)669
Мне хотелось бы.
(обратно)670
Я не хочу.
(обратно)671
Мы не хотели бы.
(обратно)672
Я думаю.
(обратно)673
Я полагаю… могу я посоветовать… могу я предложить… могу я верить…
(обратно)674
Беспрекословно.
(обратно)675
Скорее, может быть, возможно, достаточно вероятно.
(обратно)676
Мое мнение.
(обратно)677
Общественное мнение.
(обратно)678
Фашистская революция.
(обратно)679
Италия.
(обратно)680
Король.
(обратно)681
Его Королевское Высочество.
(обратно)682
Я.
(обратно)683
Британская Империя.
(обратно)684
Иден Антони лорд Эйвон (1897–1977) — премьер-министр Великобритании в 1955–1957 гг., консерватор. В 1935–1938, 1940–1945, 1951–1955 — министр иностранных дел, в 1939–1940 г. — министр по делам колоний. (Примеч. сост.).
(обратно)685
Quai d’Orsay — бульвар Парижа вдоль Сены, на котором находятся гос. уч рождения и дипломатические миссии.
(обратно)686
Ке д’Орсе — род Орсини? — римский феод. род, 5 римских пап и кардиналов, кондотьеры. Находился в длительной вражде с родом Колонна. (Примеч. сост.).
(обратно)687
Этрусский саркофаг — этруски — средне-итальянский оседлый народ, населявший главным образом Этрурию. Этрусским и греческим мастерам — иммигрантам принадлежат многие произведения изобразительного и прикладного искусства и архитектуры IX–I вв. до н. э. Было освоено искусство рельефа в камне — саркофаги, металле (бронза, серебро, золото), терракоте (саркофаги, пластинки фронтона). (Примеч. сост.).
(обратно)688
Гораций (полное имя Квинт Гораций Флакк) — римский поэт-лирик (65 д. н. э. — 8 д. н. э.) В сатирах, лирических одах, посланиях философские рассуждения наставления житейско-философского характера в духе эпикуреизма и стоицизма. Трактат «Наука поэзии» стал теоретической основой классицизма. «Памятник» породил множество подражаний. (Примеч. сост.).
(обратно)689
Он замечательный молодой Аполлон (англ.).
(обратно)690
Скиапарелли Эльза (1896–1973) — итальянская законодательница мод и модельер трикотажа. Имела большое влияние в 30-х годах XX века, ее взгляды во многом совпадали со взглядами сюрреалистов. Некоторых из них она привлекала для создания рисунка ткани и ювелирных изделий. Плодотворно сотрудничала с Сальвадором Дали. (Примеч. сост.).
(обратно)691
Слава, известность (фр.) — название журнала.
(обратно)692
Колонна — римский феодальный род. В XIV–XVI вв. играл важную роль в политической жизни Рима. Соперничал с родом Орсини. Из рода Колонны — папа Мартин V и многие кардиналы. (Примеч. сост.).
(обратно)693
Геральдических знаков Сурсоков — знаки принадлежности данному роду, герб. (Примеч. сост.).
(обратно)694
Castello (итал.) — замок.
(обратно)695
Остия — город в Италии. (Примеч. сост.).
(обратно)696
Эдуард VII (1841–1910) — король Англии с 1901 г. (титул английского престолонаследия — принц Уэлльский) из Саксен-Готской династии, сын королевы Виктории, вступивший на престол после ее смерти. Содействовал созданию Антанты.(Примеч. сост.).
(обратно)697
Абдул-Гамид (1842–1918) — турецкий султан (1876–1909), возведен на престол дворцовым переворотом. Вел неудачную войну с Россией (1877–1878). Почти окончательно потерял Египет (1882), одержал верх над Грецией (1897). Частые избиения армян; беспрерывные волнения в Македонии вызвали европейское дипломатическое вмешательство. В 1905 г. — восстание в Аравии и на его жизнь было совершено покушение. Был низложен. (Примеч. сост.).
(обратно)698
Здесь поле для игры в гольф (англ.).
(обратно)699
Paseo — от фр. Passe — проход, фарватер.
(обратно)700
Сильный и низкий удар в теннисе и крикете (спорт.).
(обратно)701
Аппиева дорога (Королева дорог) была начата Аппием Клавдием в 312 году до н. э. По обеим сторонам дороги на многие мили тянулись кладбища двадцати поколений и памятники по умершим. Право захоронения вдоль дороги имели только семьи патрициев. Здесь были семейные склепы Сципионов, Фуриев, Манилиев и др. (Примеч. сост.).
(обратно)702
Santi Apostoli (итал.) — Святого Апостола.
(обратно)703
Парвеню — выскочка, человек незнатного происхождения, пробившийся в аристократическое общество и подражающий аристократам. (Примеч. сост.).
(обратно)704
Конкордат — соглашение, договор между римским Папой как главой католической церкви и каким-либо государством, регулирующий правовое положение католической церкви в данном государстве и его отношения с папским престолом. (Примеч. сост.).
(обратно)705
Тавромахия (tauromachie — франц.) — бой быков. (Примеч. сост.).
(обратно)706
Момент истины (лат.).
(обратно)707
Жертвенника Родины.
(обратно)708
Gratin (фр.) — иронически цвет, сливки общества.
(обратно)709
Умберто (1904–1983) — принц Пьемонтский, герцог, наследник престола, командующий группой армий «Овеет» в 1940 г., наместник королевства в 1941–1946 гг. С мая по июнь 1946 г. — король Италии Умберто II. Умер в Женеве в 1948 г.(Примеч. сост.).
(обратно)710
Левантийская страна Запада (от фр. «левант» — восток) — общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливия, Египет, Турция, Греция и др.; в более узком смысле — Сирия и Ливан). (Примеч. сост.).
(обратно)711
Материализовался опус супераббата (лат.).
(обратно)712
Андромеда — в греческой мифологии дочь царя Эфиопии, отданная им в жертву Мор, чудовищу, опустошавшему страну, и спасенная Персеем. Согласно мифу, после смерти превратилась в созвездие (отсюда название созвездия). (Примеч. сост.).
(обратно)713
Персей — в греческой мифологии герой, сын Зевса и Данаи. Убил горгону Медузу, освободил от Мор, чудовища, Андромеду и др. (Примеч. сост.).
(обратно)714
Флора Макдональд — возможно, родственница Макдональда Джеймса Рамсея (1866–1937), премьер-министр Великобритании в 1924, и 1929–31 гг., в 1931–1935 гг. глава т. н. коалиционного правительства. (Примеч. сост.).
(обратно)715
Букв.: утро после предыдущей ночи (англ.).
(обратно)716
Mayfair (англ.) — расцвета красивой жизни.
(обратно)717
Кальян (перс.) — прибор для курения табака в странах Азии и Африки. Состоит из трубки с табаком, нижний конец которой опущен в сосуд с водой, и шланга или трубки, введенной в сосуд выше уровня воды; вдыхаемый дым проходит через воду и очищается. (Примеч. сост.).
(обратно)718
Восточный колорит. (Примеч. сост.).
(обратно)719
Роммель Эрвин (1891–1944) — немецкий генерал-фельдмаршал (1942). Во II Мировую войну командовал войсками в Северной Африке, в 1943–1944 — группой армий в Италии и Франции; участник заговора против Гитлера (1944), покончил жизнь самоубийством. (Примеч. сост.).
(обратно)720
Эль-Аламейн — населенный пункт в Египте, западнее Александрии. В октябре 1942 г. в районе Эль-Аламейни 8-я английская армия генерала Б. Монтгомери нанесла поражение итало-немецким войскам, переломный момент в ходе Северо-Африканской кампании. (Примеч. сост.).
(обратно)721
Итало Бальбо (1896–1940) — итальянский маршал. Занимал ряд высоких военных и государственных постов. (Примеч. сост.).
(обратно)722
Риббентроп Иоахим (1893–1946) — из ближайшего окружения Гитлера. Посол Германии в Великобритании в 1936–1938 гг.; 1938–1945 — министр иностранных дел фашистской Германии. Казнен по приговору трибунала в Нюрнберге. (Примеч. сост.).
(обратно)723
Бреннер — перевал в Альпах, у границы Австрии и Италии. (Примеч. сост.).
(обратно)724
Здесь устаревшее — записки, дневник. (Примеч. сост.).
(обратно)725
Франко Баамонде Франсиско (1892–1975) — глава испанского государства (Каудильо). В 1936 возглавил военно-фашистский мятеж против Испанской республики. (Примеч. сост.).
(обратно)726
Хорти Миклош (1868–1975) — фашистский диктатор Венгрии в 1920–1944 гг., контрадмирал (1918). Участник подавления Которского восстания 1918 г. Венгерской советской республики 1919. В 1941 вверг страну в войну против СССР на стороне фашистской Германии. В октябре 1944 передал власть Ф. Салаши и выехал за границу. (Примеч. сост.).
(обратно)727
Петен Анд Филипп (1836–1951) — французский маршал (1918), в Первую Мировую войну командовал французскими армиями, с 1917 — главком; в 1940–1944, во время оккупации Франции немецко-фашистскими войсками — глава капитулянтского правительства, затем коллаборационистского режима «Виши». В 1945 приговорен к смертной казни (заменена пожизненным заключением). (Примеч. сост.).
(обратно)728
Кортина-Д’Ампеццо — город в Италии, в области Венеция, в межгорной долине Доломитовых Альп (на высоте 1200 м) на р. Бойте. Известный центр зимних и летних видов спорта, туризма и климатический курорт. (Примеч. сост.).
(обратно)729
Пуссен Никола (1594–1665) — французский живописец. Представитель классицизма. Картины на исторические, мифологические, религиозные темы. (Примеч. сост.).
(обратно)730
Бари — город в южной Италии, порт, административный центр провинции Бари. Университет. Собор св. Николая, в котором хранятся его мощи, центр паломничества. (Примеч. сост.).
(обратно)731
Мяча сейчас не было у его ноги (англ.).
(обратно)732
Мерано — город в Северной Италии, климато-бальнеологический курорт в Восточных Альпах, центр туризма. (Примеч. сост.).
(обратно)733
Народная поговорка (нем.).
(обратно)734
Что имеет степь общего с кухней?
(обратно)735
Шоберт Риттер фон — генерал-полковник 11-ой немецкой армии, воевавшей вместе с румынскими соединениями. (Примеч. сост.).
(обратно)736
Кончено! (нем.).
(обратно)737
Ах, так (нем.).
(обратно)738
Отто фон Бисмарк (1897–1975) — старший из внуков «железного канцлера». Начал карьеру как правый депутат рейхстага (в котором его младший брат Готфрид впоследствии представлял фашистскую партию). В дальнейшем перешел на дипломатическую службу и занимал должности в Стокгольме и Лондоне. Занимал высокий пост министра-советника германского посольства в Риме. (Примеч. сост.).
(обратно)739
Алкивиад (ок. 450 — ок. 404 до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец, выросший в доме своего дяди Перикла. Его воспитанием одно время занимался Сократ, но он был самонадеян и властолюбив. Бурная жизнь Алкивиада часто служила темой литературных произведений, в том числе драмы Шекспира «Тимон Афинский». (Примеч. сост.).
(обратно)740
Фориарина (итал. булочница) — имя предполагаемой возлюбленной Рафаэля, с которой он писал своих Мадонн. (Примеч. сост.).
(обратно)741
Фьяметта — героиня психологической повести Дж. Боккаччо с аналогичным названием (1343 г.). Прообраз его покровительницы, принцессы Марии. (Примеч. сост.).
(обратно)742
Беатриче Портинари — реальная женщина, которую знаменитый итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321) дважды встречал в жизни (в 9 и 18 лет) и ее идеальный образ владел его душой, его творчеством и стремлениями в течение всей его жизни. «Обновленная жизнь» — история любви к Беатриче в канцонах, сонетах, перемежающихся короткими биографическими данными. (Примеч. сост.).
(обратно)743
Лаура — персонаж знаменитых сонетов и канцон итальянского поэта Франческо Петрарки (1304–1374). (Примеч. сост.).
(обратно)744
Фарватер (англ.).
(обратно)745
Д’Аннунциевского поколения — Д’Аннунцио Габриэль — знаменитый итальянский поэт романист, драматург, политический деятель (1863–1938). В 15 лет издал сборники лирических стихотворений. Быстро достиг славы. Романы в духе реализма Флобера (влияние Л. Толстого), изображение трагической силы страстей (влияние Достоевского), 4 драмы (переведены на русский язык). (Примеч. сост.).
(обратно)746
Могу ли я взять карандаш?
(обратно)747
Да, конечно (англ.).
(обратно)748
Тише на поворотах (англ.).
(обратно)749
Дино Альфиери (1886–1966) — видный ветеран итальянской фашистской партии, занимавший пост министра культуры в правительстве Муссолини. Посол Италии в Германии (1940). На пленуме правящего совета фашистской партии в июле 1943 г. проголосовал против «Дуче», что вызвало падение фашистского режима в Италии и ее последовавший за этим переход на сторону союзников. Укрывшийся в Швейцарии, он был заочно приговорен к смертной казни, но вернувшись после войны на родину, был полностью реабилитирован. (Примеч. сост.).
(обратно)750
Лакки Страйк (англ.) — марка сигарет. (Примеч. сост.).
(обратно)751
Гольд Флэкк — торговая марка чего-то, возможно, кукурузных хлопьев. (Примеч. сост.).
(обратно)752
Огромное количество сигарет «Кэмел» (англ.).
(обратно)753
Harper (англ.) — толковать об одном и том же.
(обратно)754
Филиппе Анфузо (1910 г. р.) — профессиональный дипломат. С 1937 г. по 1941 г. возглавлял канцелярию министра иностранных дел Чиано, затем был назначен послан ником в Венгрию, а после перехода Италии в стан союзников в сентябре 1943 г. стал послом муссолиниевской «Республики Сало» в Германии. В конце войны был в плену у французов, обвинявших его в соучастии в убийстве в 1934 году югославского короля Александра и французского министра иностранных дел де Луи Барту. Позже обвинения были сняты, и он вернулся в Италию, где снова занялся политикой и стал неофашистским депутатом итальянского парламента. Женился на венгерке Нелли Ташнади. (Примеч. сост.).
(обратно)755
Граф Галеаццо Чиано (1903–1944), женатый на дочери Муссолини Эдде, всегда противился вступлению Италии в войну. Хотя он ушел с поста министра иностранных дел еще в начале 1943 г., он остался членом Великого фашистского совета и в этом качестве голосовал против Муссолини 25 июля 1943 г. Обвиненный правительством Бадольо в коррупции, он бежал на север, где немцы выдали его неофашистскому правительству в Сало. 2 января 1944 года он и еще одиннадцать высших фашистских сановников, которые в июле 1943 года также голосовали против Муссолини, были осуждены не смертную казнь и расстреляны — с неохотного согласия самого «Дуче». (Примеч. сост.).
(обратно)756
Сыпной тиф (англ.).
(обратно)757
Да здравствует Дуче! (итал.).
(обратно)758
Лемуры — семейство полуобезьян отряда приматов, живут на Мадагаскаре. (Примеч. сост.).
(обратно)759
Монстр — чудовище, урод. (Примеч. сост.).
(обратно)760
Боккаччо Джованни (1313–1375) — итальянский поэт, новеллист и гуманист, сын флорентийского купца, долго жил в Неаполе при дворе короля Роберта, под покровительством принцессы Марии (воспетая им Фьяметта) и королевы Иоанны. (Примеч. сост.).
(обратно)761
Плутон — в греческой мифологии бог подземного мира. (Примеч. сост.).
(обратно)762
Пьедигротта — от итал. piedi — пешком, grotto — грот. (Примеч. сост.).
(обратно)763
От potato(es) (англ.) — картофель.
(обратно)764
Две лиры! Две лиры это мне стоило, две лиры!
(обратно)765
Мадонна Кармеля — кармелиты (Орден братии Пресвятой Девы), монашеский орден, основан Бертольдом Калабрийским на горе Кармеле в 1156 г. В 1224 утвержден папой, 1240 — перевезен в Европу и был преобразован генералом ордена Симоном Сток в нищенствующий орден (Кармель — гора в Палестине, у Средиземного моря, в которой находились пещеры, где были обнаружены остатки ископаемых людей неандертальского типа, обладавших многими чертами сходства с современным человеком. Древность 45–40 тыс. лет). (Примеч. сост.).
(обратно)766
Святой Януарий — священномученик, епископ беневетский, умер при Диоклитиане, мощи находятся в соборе Неаполя. (Примеч. сост.).
(обратно)767
Беспризорные.
(обратно)768
Да здравствует Дуче! (итал.).
(обратно)769
Кровь (итал.).
(обратно)770
Кровь (нем.).
(обратно)771
Мария Египетская — святая Преподобная VI в. После грешной жизни в молодости 47 лет подвизалась в пустыне Заиорданской, память 1 апреля. (Примеч. сост.).
(обратно)772
Тереза Испанская — Святая Терезия, испанская писательница, монахиня, считается покровительницей Испании (1515–1582). При жизни преследовалась инквизицией, канонизирована 16 февраля. (Примеч. сост.).
(обратно)773
Тога — верхняя одежда в Древнем Риме, длинный плащ, обычно из белой шерсти. (Примеч. сост.).
(обратно)774
Мистраль — сильный и холодный местный северо-западный ветер. Имеет сходство с борой. (Примеч. сост.).
(обратно)775
Иеддо (Эдо) — старинное название Токио до 1869 г. (Примеч. сост.).
(обратно)776
Токугава — династия сёгунов в феодальной Японии 1603–1867. Власть Токугава была уничтожена в результате незавершенной буржуазной революции (1867–68). Токугава Иэясу (1542–1616) — японский феодал, основатель династии Токугава. Завершил объединение страны, начатое Ода и Тоетоми. Токугава или Эдо эпоха (1615–1867). Из жанровой живописи XVI–XVII вв., изображавшей актеров театра кабуки и участниц чайной церемонии развился стиль гравюры «укийе-э». Это была гравюра на дереве, после 1740 г. ставшая цветной. Постепенно тематика ее ширилась. Самые известные мастера гравюры Китагава Утамаро и Хокусай Кацусико (1760–1849) — в 20-х гг. его знаменитая серия пейзажей, серия «36 видов Фудзи». В 1823–1830 — серия «Водопады», «Мосты» и др. В 1834–36 издает «100 видов Фудзи» и «100 поэтов». (Примеч. сост.).
(обратно)777
Нагоя — город и порт в Японии на о. Хонсю. Синтоистское святилище, храм VIII в, замок XVII в… Университет. Музеи. (Примеч. сост.).
(обратно)778
Киото — одна из древних столиц Японии. Построен в 792–794 гг. на о. Хонсю. Два университета, национальный музей. (Примеч. сост.).
(обратно)779
Осака — старинный город Японии на о. Хонсю, второй после Токио по величине. Храмы VI, X вв. Замок XVI в. Два университета. (Примеч. сост.).
(обратно)780
Хокусай утверждал этим, что хорошее выполнение рисунка не зависит от инструментов исполнителя и превосходства его кистей, но всецело скрыто в мастерстве художника.
(обратно)781
Гравюра — вид графики, в котором изображение является печатным оттиском рельефного рисунка. (Примеч. сост.).
(обратно)782
Сёгун — повелитель. (Примеч. сост.).
(обратно)783
Хаяси, возмущенный переводом этого абзаца, прислал мне следующее пояснение: «После возвращения с соколиной охоты сёгун в пути захотел видеть, как рисуют два великих мастера того времени: Тани Бунсё и Хокусай. Бунсё начал, а Хокусай за ним последовал. Сперва он изобразил цветы, птиц, пейзаж, затем, желая позабавить сёгуна, он закрыл низ большой лентой бумаги, окрашенной в тот же индиго, приказал своим ученикам принести петухов, ноги которых он окунул в пурпурную краску, и пустил петухов бегать по синему фону, и тогда изумленный принц получил иллюзию вида реки Тацута, с ее стремнинами, мчащими листья «момидзи». Этот анекдот Бунсё рассказал Танэхико.
(обратно)784
Я даю более точный перевод, сделанный Хайяши с этого предсмертного стихотворения в главе о смерти Хокусая.
(обратно)785
Вот расшифровка пяти слов Укиё-э-Руйко: уки — текущий, находящийся в движении, ё — мир, э — рисунок, руй — тот же род, ко — исследование, поиск. Руйко, выраженное одним словом, означает: «изучение собранных воедино всевозможных вещей».
(обратно)786
Японское искусство Гонза. Paris Quantin, 1883 г.
(обратно)787
Хокусай имеет предшественником Матахэи в XVII веке.
(обратно)788
См. статьи Бюрти и Дюреля.
(обратно)789
Я следую принятому переводу, но «Укиё-э» правильнее было бы перевести как «текущая жизнь», «жизнь неприкрашенная», такая, какой предстает она взору художника.
(обратно)790
Японцы проглатывают «у» в его имени и произносят Хок’сай. Теперь, кроме того, японцы сильным выдыханием акцентируют «х» начинающее имя художника, и следовало бы, может быть, чтобы сохранить эту особенность, удвоить «х», но это слишком заметно изменило бы орфографию, уже ставшую привычной для французской публики.
(обратно)791
Сигнатура — от лат. signature, signare — обозначать, указывать. (Примеч. сост.)
(обратно)792
Далее японские названия произведений будут опущены. (Примеч. сост.)
(обратно)793
Биография Хокусая — «Кацусика Хокусаи — дэн», составленная Индзима-Хандзюро.
(обратно)794
Шинтоизм, шинто — то же, что синтоизм, синто — средневековая религия японцев, впоследствии принявшая форму культа (обожествления) императорской династии. С 1868 по 1946 г. — государственная религия Японии. (Примеч. сост.)
(обратно)795
Антраша — в классическом балете — прыжок, во время которого вытянутые ноги танцовщика скрещиваются в воздухе несколько раз. (Примеч. сост.)
(обратно)796
Престидижитатор — (от фр. preste быстрый, digitus — палец) — фокусник, проделывающий номера, основанные на быстроте и ловкости движений рук (особенно пальцев и запястий), манипулятор. (Примеч. сост.)
(обратно)797
Дхарма — (санскр.) — 1. Одно из центральных понятий инд. философии и религии индуизма, имеющее несколько значений: вечный моральный закон (аналог абсолюта): нравственно-социальное установление для «правильной жизни» (долг) — в этом смысле каждый человек имеет свою дхарму. 2. В буддизме — первичные элементы бытия и психофизические элементы жизнедеятельности личности. (Примеч. сост.)
(обратно)798
Окончание. Начало в т. IV.
(обратно)


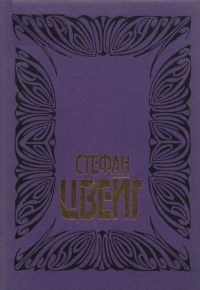

Комментарии к книге «Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах) Т. 5. (кн. 1) Переводы зарубежной прозы», Курцио Малапарте
Всего 0 комментариев