Башевис Зингер Исаак Раскаявшийся
В 1969 году мне впервые представился случай воочию увидеть знаменитую Стену плача. Оказалось, что она вовсе не похожа на рисунок, украшавший деревянный переплет моего молитвенника: там ее окружали высокие кипарисы, а тут я не углядел ни единого деревца. Дорогу к Стене охранял израильский солдат. Я пришел сюда в самый разгар дня и увидел огромную толпу. Кого тут только не было: ашкеназы и сефарды, юноши с пейсами до плеч, в коротких брюках, черных шляпах и ботинках, переговаривались на венгерском идише, а раввин-сефард в белом, окруженный толпой любопытных, вещал на иврите о приходе Мессии. Кто-то читал поминальные молитвы, кто-то произносил Восемнадцать благословений; одни переплетали руки ремешками филактерий, другие раскачивались над Книгой Псалмов. Все, даже те, кто не носил бороды, были в кипах. Нищие тянули руки за подаянием и временами выражали возмущение, если, на их взгляд, им дали недостаточно. Двадцать четыре часа в сутки Всемогущий творил здесь Свои дела.
Я смотрел на Стену и соседние улицы, населенные арабами. Дома там нависали один над другим и, казалось, расталкивали друг друга, чтобы лучше рассмотреть каменную стену, стоявшую напоминанием о Священном Храме. Нещадно пекло солнце, и все вокруг наводило на мысли о пустыне, древних руинах и вечности еврейской истории.
Внезапно ко мне подошел невысокий человек в лапсердаке и бархатной шляпе. Кисти предписанной ритуалом бахромчатой нижней рубашки свисали чуть ли не до колен. Несмотря на проседь в бороде, его черные и блестящие, словно вишни, глаза говорили, что мужчина совсем не стар.
— Я знал, что вы придете сюда, — сказал он.
— Знали? — удивился я.
— Если приходить сюда каждый день, то рано или поздно можно встретить кого угодно. Стена — это магнит, притягивающий души евреев. Мир вам.
И он мягко, как раввин, пожал мне руку.
— Простите, но, боюсь, я не знаю, кто вы, — смутился я.
— Да и откуда вам знать? Когда братья продали Иосифа в рабство, и следа бороды не было на его юном лице, а потому вполне естественно, что, встретившись через много лет, они его не узнали. Вот и я во время нашей последней встречи еще не носил бороды. Это теперь я, слава Богу, стал таким, каким и должен быть еврей.
— Вы раскаявшийся? — Я использовал выражение из иврита: баал тшува.
— Баал тшува — это вернувшийся. Я вернулся домой. Пока евреи были настоящими евреями, лишь их тела находились в изгнании, но не души. С тех же пор как они отказались от своей духовной ноши, тела их освободились, а души отправились в изгнание. И это изгнание много хуже прежнего.
— И все-таки как вас зовут?
— Иосиф. Иосиф Шапиро.
— Хорошее еврейское имя. Где мы встречались?
— Проще сказать, где не встречались. Я слушал все ваши лекции в Нью-Йорке. Я был прилежным учеником. Вы-то меня, конечно, не помнили, мне всегда приходилось представляться заново. Но я вас помню. Читал все ваши книги. Здесь я перестал читать всю эту светскую ерунду, но иногда все же заглядываю в газеты на идише и встречаю там ваше имя. Я стал ешиботником, можете себе такое представить? Это в мои-то годы. Мы изучаем Гемару, Тосафот, другие комментарии. Только теперь, узнав Тору, я понял, на какие глупости растратил половину жизни. Что ж, благодарение Господу, мы встретились. Как долго предполагаете пробыть в Иерусалиме? Где вы остановились? Вы как-то написали, что любите слушать всякие истории, так у меня для вас кое-что есть, кое-что необычное.
Мы договорились встретиться на следующий день у меня в гостинице. Я было пригласил его позавтракать, но Иосиф Шапиро отказался, сославшись на то, что не уверен, достаточно ли строго соблюдают в гостиничном ресторане кошер.
Ровно в три часа в дверь моего номера постучали. Я заранее приготовил фрукты и печенье. Гость сел на диван, а я устроился рядом на стуле. Вот что рассказал мне Иосиф Шапиро.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
1
С чего же начать? Пожалуй, сперва лучше всего рассказать немного о себе. Вам следует знать, что происхожу я из очень религиозной семьи, среди моих предков были настоящие святые. Со стороны матери наш род восходит к Шабтаю Коэну, а, как вам прекрасно известно, потомки Шабтая Коэна в то же время и потомки рабби Моше Иссерлеса, Раши и самого царя Давида. Так, по крайней мере, утверждают специалисты по генеалогии. Но какое это имеет значение? Я был в Польше в 1939 году, когда нацисты, да сотрутся их имена из памяти, бомбили Варшаву. Бежал вместе с другими евреями через Пражский мост и ушел в Белосток. Хотя борода моя и седа, я на несколько лет моложе вас. Не стану подробно рассказывать историю всей своей жизни, это заняло бы слишком много времени. Скажу только, что скитался по России, голодал, спал в пустых депо, прошел все возможные испытания. Наконец, в 1945 году, я бежал от Сталина и оказался в Люблине. Там встретился со своей бывшей невестой. Эта встреча была настоящим чудом, но когда ни во что не веришь, то и чудес не замечаешь. У нас на все был готов один ответ: случайность. Мир был случайностью, человек — случайностью, и все, что происходило с человеком, происходило тоже случайно. В Варшаве я вступил в организацию «Молодежь Сиона». Мой отец, да покоится прах его в мире, открыл галантерейную лавку на улице Генься, и я помогал ему, а свободное время посвящал партийным делам и чтению.
Моя подруга, Циля, была убежденной коммунисткой. Мы часто с ней спорили. Когда я перечил ей, она говорила то, что в подобных случаях говорят все коммунисты: как только свершится революция, она-де лично повесит меня на первом же фонарном столбе. Но это не мешало нам ходить в оперу или слушать лекции в Еврейском клубе писателей. Вы тогда еще не выступали, но уже публиковались в «Литературных листках». Мы с Цилей часто читали этот журнал, хотя мне и не нравились его левые взгляды, а ей, напротив, они казались недостаточно левыми. Мы любили идишскую литературу, культуру и все прочее. Часто ходили в Еврейский театр. Циля ведь тоже происходила из семьи хасидов. Ее отец был последователем гурского ребе, а братья носили длинные пейсы. Все они погибли.
Когда мы вновь встретились в Люблине, это напоминало воскрешение из мертвых. Я был уверен, что она мертва, а она считала покойником меня. Циля уже начала разочаровываться в коммунизме. Никто из живших в то время в Польше не мог сохранять иллюзии на этот счет. Впрочем, наши взгляды оставались, как говорят, прогрессивными. Я не отказался от сионизма, а она все еще верила, что социализм — это лекарство, способное избавить мир от всех невзгод. Дескать, конечно, Сталин — то плохо, но вот если б Троцкий или Каменев сумели удержаться у власти или если бы большевики объединились с меньшевиками, тогда нынешняя Россия была бы настоящим раем. Вы и сами прекрасно знаете это заблуждение: «Если бы да кабы во рту росли бобы, был бы не рот, а целый огород». Первое время после нашей чудесной встречи мы, как и подобает интеллигентам, еще спорили о том, как сделать мир лучше. Но вскоре собрали свои вещи и отправились в Германию. Легальный путь для нас был заказан — ни паспортов, ни каких-либо других бумаг у нас не сохранилось. Законы этого мира таковы, что приходится выбирать: или ты соучаствуешь в преступлении, или сам становишься его жертвой. Теперь у нас, слава Богу, есть своя страна, но наши лидеры многому научились у гоев. Не стой здесь, не сиди там. Все запрещено. Они высмеивают Шулхан-Арух, но их собственные законы, уж простите мне это сравнение, запрещают в тысячи раз больше, чем наши. Впрочем, об этом чуть позже.
Конечно, мы оба давно уже не были девственниками. Что могло нас остановить? Мы шли и шли, тащили на себе свои пожитки, и в любой момент нас могли убить. Мы во всем признались друг другу. В то время, когда мы умирали в России от голода и, уж простите, давили на себе вшей, у меня было несколько любовниц: еврейки, молодые шиксы, да и русские женщины постарше. Циля тоже завела пару интрижек. Однако я никогда не забывал про нее. Хоть и не верил, что у нас есть какое-то будущее, но часто в мыслях обращался к ее душе и просил прощения за свою жизнь. Циля говорила, что думала обо мне точно так же. Так что толку было тянуть? Мы попали в лагерь для беженцев под Мюнхеном и там поженились. Я надеялся получить визу в Эрец-Исраэль, но так случилось, что в 1947 году нам вдруг позволили выехать в Америку. Все беженцы нам завидовали: еще бы, такая удача — попасть в Золотую страну!
Мы приплыли в Галифакс, а оттуда на поезде добрались до Штатов. Еще в России Циля выучилась на портниху и освоила с полдюжины других профессий. Я же дошел до самого Ташкента, но так ничему и не научился. Правда, отец мой занимался торговлей, а когда ты рождаешься в семье делового человека, то некоторые навыки просто у тебя в крови. Я начал работать в галантерейном магазине в Нью-Йорке. Вскоре один эмигрант предложил мне стать его партнером: он собирался строить бунгало. Это и стало началом моего бизнеса. Одно бунгало превратилось в десять, десять — в пятьдесят. Появились деньги. Циля захотела продолжить учебу и поступила в Хантер-колледж Нью-Йоркского университета. В Варшаве она успела закончить гимназию и сумела сохранить диплом, несмотря на все испытания. Еще она училась во Вшехнице, открытом университете, где не было строгой программы. Через несколько лет она с отличием закончила колледж, а я тем временем превратился в настоящего богача. Мы сняли большую квартиру на Вест-Энд-авеню и летний домик в Коннектикуте. Детей у нас, правда, не было. Циля перенесла операцию и не могла забеременеть.
Теперь, когда я стал таким, каким вы меня видите, все это кажется мне ерундой. Ну зачем человеку столько денег? И что толку в Цилиной учебе? Она занималась литературоведением, но весь курс обучения заключался в том, чтобы взять какого-нибудь посредственного писателя и приписать ему мысли, которых у него и в помине не было. Да и так называемые «хорошие» писатели — чем они хороши? Неужто Элиот или Джойс думали о чем-то серьезном, когда писали свои пустые фразы? Они хотели что-то сказать? Да одна страница «Пути праведника» содержит больше мудрости и психологизма, чем все их писания. Они так скучны именно потому, что им и сказать-то нечего. Циля часто читала мне свои эссе. Она отлично овладела английским. Но тем не менее мы продолжали читать газеты на идише и не пропускали ни единого вашего слова. Все, что вы хотите сказать, вы излагаете ясно. Вы, несомненно, прекрасно знаете все недостатки современного человека, но не желаете копаться в них. Стоит вам сделать еще один шаг — и сможете стать истинным евреем.
— Недостаточно просто знать о пороках, — перебил я его.
— Но вы ведь знаете и все хорошие стороны настоящего еврея.
— Этого тоже недостаточно, надо еще верить, что все написанное в священных книгах было дано Моисею на горе Синай. А вот в это я, к сожалению, не верю.
— Почему вы сказали — к сожалению?
— Потому что завидую тем, кто верит.
— Мы еще вернемся к этому. Вера не приходит сама собой. За нее надо бороться.
И он продолжил свой рассказ.
Когда у человека много денег и мало веры, он одержим только одной мыслью: как бы вырвать у жизни побольше удовольствий. Часто я задавался вопросами: «Что мне делать со всеми этими деньгами? Из чего состоит мой мир?» Чтобы не умереть с голода, не нужно быть богачом. Люди, с которыми я общался, деловые партнеры или просто приятели, постоянно хвастались своими победами над женщинами. Ох уж эти победы! Одни проводили время с девушками по вызову, обычными шлюхами, которых мадам присылала к ним в мотели. У других были постоянные любовницы. Адюльтер в этом кругу считался высшей добродетелью, истинной сутью жизни. Литература была всего лишь учебником разврата. Театр постоянно показывал измены. Кино и телевидение не отставали. Все эти победы перестали быть победами с тех самых пор, как современные женщины в своем поведении уподобились современным мужчинам. Они читают те же книги, смотрят те же пьесы, а свободного времени у них даже больше, чем у мужчин.
Циля вполне меня удовлетворяла, и я не хотел искать никого на стороне, но она часто удивлялась тому, что я до сих пор не завел себе любовницу. Когда мы ходили в театр, там часто показывали пьесы, в которых жена обманывает мужа, и Циля весело смеялась и аплодировала всем этим ловким трюкам и непристойностям. Мужа, содержащего семью, всегда изображали идиотом, а любовника, из-за того, что он умел добиться своего, чуть ли не мудрецом. Мне всегда казалось, что это неправильно.
Я знал, что большевизм, нацизм и все прочие беды рода человеческого происходят из-за нарушения Десяти заповедей. Но как это у вас сказано? «Когда у тебя нет веры, на что ты можешь опереться?» Иногда я в шутку спрашивал Цилю: «Ты так полюбила современную культуру, современный театр, так неужели же у тебя до сих пор нет любовника?» И она всегда отвечала: «О чем ты? Я слишком занята для этого». Мы вели себя, как и положено современной паре: супруги, даже сохраняя верность, постоянно дразнят друг друга разговорами об измене.
Через некоторое время приятелям удалось уговорить меня, и мы отправились к проституткам, но, когда уже надо было переходить к делу, я вдруг почувствовал такое отвращение, что буквально не сумел сдержать рвоты. Никакого желания я не испытывал. Половые органы, для которых умники придумали столько омерзительных названий, выражают душу мужчины. Они по природе своей нравственны, духовны, они предназначены для любви, преданности и продолжения рода. Каббала называет их знаками священного завета. Они символизируют договор Бога с человеком, Божьим образом и подобием. Не мне вам это говорить, вы и так все прекрасно знаете.
Что ж, путь к проституткам был для меня заказан, и поэтому я нашел себе так называемую «порядочную» женщину. Расхожее нынче выражение — порядочная женщина. Да тех, кого современные мужчины называют порядочными, наши деды назвали бы шлюхами. Эти женщины одеваются как шлюхи, говорят как шлюхи, читают непристойные книжонки и думают лишь о том, как бы закрутить новую интрижку. Вся их порядочность сводится только к тому, что они не ходят по улицам, высматривая клиентов. Да еще стоят дороже. Такую женщину я и нашел себе. Ее звали Лиза. Когда-то у нее был муж, но они уже давно развелись. Дочка училась в колледже, примкнула там к хиппи, хотя тогда их еще так не называли, но какая разница? Суть не в названии. Лиза предположительно где-то работала, но вечно жаловалась, что денег ей не хватает. Она стала моей любовницей и принялась тянуть деньги из меня. Я платил за ее квартиру, водил в рестораны и театры, покупал одежду, украшения и прочее. Но ей всегда было мало. Те, кто только берут и ничего не дают взамен, всегда хотят брать еще и еще. Так же как она обирала меня, дочка обирала ее. Она писала из колледжа тревожные письма, и Лиза читала их мне вслух. Несколько раз эта девица приезжала в Нью-Йорк. Зная, что я даю деньги ее матери, она была со мной очень мила: целовала, обнимала и говорила, что любит как родного отца. Лиза даже как-то намекнула, что, если я буду добр к ее дочери, та, в свою очередь, будет добра ко мне. Я прекрасно понимал, о чем идет речь.
Уже тогда, даже в моменты страсти, я чувствовал вульгарность всего происходящего. Я покупал любовь точно так же, как и мои приятели. Когда мужчина женится, он берет на себя обязательства по содержанию своей семьи. Разве я не давал Циле всего, что только было ей нужно? Разве мой отец не содержал мою мать? Она родила ему полдюжины детей и тем не менее занималась хозяйством и работала даже больше него. Но то были другие времена, другие отношения. Лиза часто бывала очень страстной и даже пыталась уговорить меня развестись с Цилей и жениться на ней. Она рассказала мне историю своей жизни, поведала обо всех бедах и горестях. Послушать ее, так она была невинной жертвой мужской грубости. Все, чего она хотела, — это быть верной женой и хорошей матерью, но ее муж оказался обманщиком, и так далее и тому подобное. Они развелись, и этот негодяй уехал в другой штат, чтобы не платить положенные по закону алименты. Не получив от бывшего супруга ни гроша, Лиза была вынуждена трудиться не покладая рук, чтобы вырастить дочь.
Я иногда слышал, как Лиза пыталась наставлять свою дочь. Пустые хлопоты — девчонка просто перебивала ее на полуслове и не желала ничего слушать. Она была еще более жадной, чем мать. Однажды ее с несколькими приятелями арестовали за курение марихуаны, и мне пришлось вносить залог, чтобы вызволить ее. Она изучала социологию, так называемую науку о том, как сделать мир лучше. Правильно, они портят мир и в то же самое время становятся специалистами по его спасению. Я никогда не был настолько слеп или глуп, чтобы не видеть всей этой грязи и постоянных обманов, но тем не менее продолжал жить по-старому, потому что такая жизнь казалась мне удобной, а еще потому, что мне просто некуда было идти, или, возможно, я убеждал себя, что мне некуда идти. Что я мог сделать? Отрастить бороду и пейсы и стать набожным евреем? Таким же, какими были мой отец и дед? Как вы сами уже сказали, для этого нужно верить, а я не верил, что Моисей дал народу Тору, которую получил прямиком с небес. Я читал критиков Библии, которые утверждали, что каждое слово в наших священных книгах — ложь. Разве не превращает Мишна один закон Пятикнижия в восемнадцать, а Гемара — восемнадцать законов Мишны в семьдесят? Разве не добавляет каждое поколение раввинов все новые и новые ограничения к уже существующим?
Иногда набожные евреи, с бородами, пейсами и в шляпах, такие, каким сейчас стал и я сам, приходили в мой кабинет просить пожертвования на иешивы. Я нехотя давал им несколько долларов. Меня раздражал такой паразитизм. Я спрашивал у них: «Кому нужно столько иешив? И как эти иешивы помогли вам, когда Гитлер пришел к власти? Где был Бог, когда нацисты сжигали Его Тору и заставляли тех, кто изучал ее, рыть себе могилы?» У евреев не было ответов на эти вопросы, или, может, это мне так казалось. На самом-то деле, каждый раз, когда они что-то пытались мне объяснить, я перебивал их и говорил, что у меня нет времени. Я заранее был убежден, что они не смогут внятно ответить на мои вопросы. Пожертвования я делал с абсолютной уверенностью, что выбрасываю деньги на ветер.
Нет нужды говорить вам, что деньги из меня тянули со всех сторон. Я часто давал их на дела, которые не представляли для меня ни малейшего интереса, и людям, к которым не испытывал ни малейшего доверия. Религиозные евреи требовали, чтобы я поддерживал Тору, а светские просили на свою культуру. Культура здесь, культура там. Очень часто хотелось спросить у них: «Что же такое эта ваша культура? Чему она учит? Что за люди на ней вырастут?» В иешивах, думал я, растят мечтателей и паразитов. А кого растит современная культура? Это было мне известно даже тогда: циников и проституток. Но я не решался говорить об этом в открытую, ведь и сам содержал проститутку. Я валялся в грязи, точно зная, что уже никогда из нее не выберусь. Если от иешив не было проку, возможно, театр творил добро? Ну а если и то и другое никуда не годилось, то что же тогда имело смысл?..
Циля заметила, что у меня появились новые дела — ведь я стал возвращаться домой позже обычного. Хотя я строго запретил Лизе звонить мне домой, она иногда нарушала запрет. Жена начала подозревать, что я завел себе любовницу. Я все отрицал, боясь, что она в ответ устроит скандал или заведет себе кого-то на стороне. Приходилось придумывать все новые и новые оправдания. Даже клясться. Аппетиты Лизы росли. Она бросила работу. С тех пор как дочка поселилась с ней, им понадобилась новая квартира. Сколько бы я ни давал, она требовала еще и еще. К тому же и дочка приехала не одна. Она привезла с собой любовника. Рыжеволосого верзилу с лицом убийцы. Он говорил мне то же самое, что и Циля в годы нашей юности: что скоро разразится революция и меня непременно убьют. Массы, утверждал он, теряют терпение. Я спрашивал: «Разве есть моя вина в том, что я родился в стране с капиталистической системой? Как человек может выбирать себе систему?» Но он не слушал: «Когда, устав влачить бремя тяжкого труда, массы поднимаются на борьбу, то они и слушать не желают, кто виновен, а кто невиновен. Они убивают, жгут и делают все, что им только заблагорассудится. Такова революция».
«Да, такова революция», — соглашалась с ним дочка Лизы, изучавшая социологию.
Я пытался объяснить, что у них нет никаких гарантий, что та же самая толпа не прикончит и их самих. Говорил, что многие евреи-коммунисты, которые грозили расправой таким, как я, сами потом погибли в советских тюрьмах или были замучены в сталинских лагерях. Но для них все это были сказки. Здесь, в Америке, все пойдет по-другому. Здесь массы точно знают, кто друг, а кто враг. Даже если они и совершат несколько ошибок, не беда. Ошибки бывают во всех революциях…
Дочь Лизы жила с этим бандитом прямо на глазах у матери. Они постоянно обнимались и целовались. Прямо-таки с трепетом говорили о всевозможных террористах. Мать пыталась спорить с ними, особенно когда я был рядом, но они просто отмахивались от нее. Что она может понимать в таких вещах? Они вечно таскали с собою разные книги, брошюры, воззвания, листовки. Постоянно звонил телефон. У Лизы была теперь отдельная квартира, которую она называла «моей», то есть квартирой Иосифа Шапиро. Она уводила меня туда, когда продолжать спор с дочерью и «зятем», как я его называл, становилось совершенно невозможным. Там она рассказывала мне, как подскочили цены и как ей тяжело сводить концы с концами. Я содержал теперь не только Лизу, но еще и ее дочь, и человека, который предрекал мне скорую гибель от руки восставшего народа, однако не мог ничего сказать Лизе о ее драгоценном ребеночке. Стоило мне только открыть рот, как она тут же впадала в истерику. Чего я хочу от Микки (так она ласково называла дочь)? Она же еще ребенок. Бедняжка росла без отца. Конечно, Лиза предпочла бы, чтобы Микки стала женой какого-нибудь еврейского парня — врача, адвоката или даже дантиста, а не путалась с этим болваном из Техаса, но разве нынешним детям можно хоть что-нибудь объяснить? Мир изменился, пришли новые времена.
Да, мир изменился, и пришли новые времена, но я по-прежнему барахтался в трясине и продолжал служить дьяволу.
А теперь я расскажу вам об эпизоде, который изменил всю мою жизнь.
2
Был холодный зимний день. С самого утра мы с партнерами торчали на Лонг-Айленде, там у нас шла стройка. Я позвонил домой и сказал Циле, что не приду сегодня ночевать. Она спросила, в каком мотеле можно будет меня найти, и я ответил, что еще не знаю. Наш телефонный разговор, впрочем, как и все прочие разговоры в последнее время, был кратким. На самом деле я договорился с Лизой, что этим вечером мы вместе поужинаем и я останусь у нее на ночь. Лиза всегда гордилась своими кулинарными способностями и часто повторяла, что самый короткий путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Не то чтобы я был большим гурманом, но ее стряпня напоминала мне о доме, и я часто хвалил ее блюда.
Я постарался побыстрее закончить дела и уже в шесть часов стучал в дверь ее квартиры. Мои худшие опасения не оправдались, дочь с любовником уехали в город. Квартира Лизы этим вечером казалась привлекательнее и уютнее, чем обычно. Снаружи задувал холодный ветер, а тут было тепло и славно. Времени у Лизы хватало, так что она вытерла пыль, пропылесосила ковры, натерла серебро. Все вокруг сверкало и блестело. Из кухни доносился запах моих любимых блюд. Мы выпили по коктейлю и сели за стол. В перерывах между едой Лиза оплакивала свою судьбу. Она было так одинока! Дочь причиняла одни беспокойства. Теперь ей требовались деньги на аборт, любовник, видите ли, забыл об осторожности. Хороший доктор стоит не меньше семисот долларов. У любовника не было за душой ни гроша, и Микки требовала эти деньги у матери. От таких слов у меня кусок встал в горле. Оказывается, я теперь должен был оплачивать распутство этого наглеца с глазами и лицом убийцы! Я сказал, что если Микки уже достаточно взрослая для того, чтобы путаться с мужчинами, то у нее должно хватать и благоразумия, чтобы соблюдать осторожность. Лиза тут же ударилась в слезы. Что она может поделать? Такова теперь молодежь. Если она пытается быть с Микки строгой, девочка начинает угрожать, что покончит с собой, обратится в христианство или сделает еще что-нибудь столь же ужасное.
Лиза лила слезы до тех пор, пока я не сдался и не пообещал дать ей эти семьсот долларов. Они присоединились к тем деньгам, которые она уже выманила у меня под разными предлогами.
Это испортило не только наш ужин, но и все последующее. Когда мужчина зол, унижен и чувствует, что его используют, он теряет свою силу. Я пытался восстановить потенцию, выпив виски, но это не помогло. Я просто лежал рядом с Лизой и чувствовал, что старость уже не за горами. Она пыталась расшевелить меня: лестью, ласковыми словами, грубостями, даже непристойностями, но ничего не действовало. Наконец она начала обвинять меня в том, что я ее не люблю. Мне хотелось спросить: «А должен? За что мне тебя любить? Любовь приходит вместе с уважением, а как я могу уважать женщину, которая тянет из меня деньги не только для себя, но еще и для двух наглых и глупых юнцов, даже не пытающихся найти себе работу?» Я думал о своих родителях, о дедушках и бабушках и чувствовал, что предаю не только их, но и всю еврейскую историю. Я вспомнил все, что читал и слышал о наших мучениках в Польше, о том, как они надевали талес и филактерии и шли на смерть. Я сам был потомком таких евреев, я изучал их Тору, и на что я променял их образ жизни?
Я попытался заснуть, но вместо того, чтобы принести успокоение, сон только усилил мою боль. Мне снилось, что я вместе с родителями и другими евреями прячусь от нацистов в каком-то погребе. Стреляли, снаружи доносились ужасные крики. Внезапно кто-то зажег спичку, и я увидел, что одет в коричневую нацистскую форму со свастикой на рукаве. Меня охватил ужас. Как такое могло случиться? И что скажут эти евреи, если увидят, кто находится среди них? Во сне я знал, что этот нацистский мундир — результат той жизни, что я веду. Страшнее всего было думать о позоре, который я навлеку на головы родителей. Вырвался я из этого кошмара совершенно измученным.
Внезапно раздался настойчивый звонок в дверь. Лиза проснулась и обеспокоенно спросила: «Кто бы это мог быть? Может, лучше не открывать?» Но звонки не прекращались, и Лизе пришлось набросить халат и выйти в коридор. Лежа в постели, я слышал раздраженный шепот и приглушенные голоса. Я догадался, что это пришла Микки. Мать и дочь начали ругаться, так что вскоре шепот перешел в настоящий крик. Затем послышались звуки ударов. Микки била свою мать! Выйдя из комнаты, я увидел, как она схватила Лизу за волосы и хлещет по щекам со всей силы.
— Дрянь! Сука! Проститутка! — кричала Лиза.
— А сама? — отвечала ей Микки. — Я знаю все твои штучки! Ты меняешь мужчин, как перчатки. Это ты сделала меня такой. У тебя и сейчас двое любовников! — Микки так разъярилась, что я стал всерьез опасаться за жизнь Лизы.
— Лгунья! Воровка! Шлюха! Вон из моего дома! — надрывалась Лиза.
— Да, у тебя два любовника и у обоих ты выманиваешь деньги!
Микки рассказала обо всем в подробностях. Даже назвала имена. Лиза упала на пол и забилась в конвульсиях.
В это самое время ее дочь кричала:
— Старая проститутка! Больше не желаю тебя видеть!
Я начал быстро одеваться. Меня тошнило. Я боялся, что драка между матерью и дочерью окончится убийством. Почему-то вдруг в голову пришли слова, слышанные еще в детстве: «Нарушая одну из Десяти заповедей, ты нарушаешь все десять». Мне не терпелось поскорее уйти из этой квартиры.
Лиза лежала на полу, как куча тряпья. Внезапно она вскочила и запричитала:
— Она все врет! Врет! Не уходи! Куда ты? О-о-о, сейчас я убью ее!..
Она выбежала на кухню и вернулась с длинным ножом. В глазах ее горело безумие, лицо осунулось, а губы перекосило. Дочь попыталась отнять у нее нож. Я распахнул входную дверь и бросился вниз по лестнице. Ждать лифта просто не оставалось сил. Я бежал так долго, что в какой-то момент мне показалось: в этом доме сто этажей. Дверь в холл оказалась закрытой. Кружилась голова, сердце колотилось. Я спустился в подвал, где находились газовые счетчики. Какой-то пьяница принялся грозить мне кулаком и выкрикивать оскорбления. Я с трудом унял дрожь и дал ему доллар. Он вывел меня в холл, откуда я наконец-то выбрался на улицу и принялся высматривать такси. Мороз щипал лицо, а ветер норовил сдуть шляпу. Я уже начал замерзать, а такси все не было. Внезапно появилась машина, и я вскинул руку. Духовные мучения превращались в физические, отвращение волной поднималось из желудка и подступало к горлу. В такси мне пришлось сделать над собой сверхчеловеческое усилие, чтобы не испачкать салон рвотой. Как всегда, в минуты тяжелых испытаний я забывал о своих ересях и просил Господа избавить меня от этого унижения. Можно было попросить таксиста остановить машину и выйти на свежий воздух, так как дурнота становилась просто непереносимой, но я не стал рисковать. Водитель показался мне очень сердитым, он ничего не говорил, а лишь бормотал себе под нос что-то невнятное. Он походил на человека, которого разбудили посреди ночи. Все же мне как-то удалось сдержаться. Когда мы подъехали к моему дому, я сунул ему десятидолларовую бумажку и поспешил выскочить из машины. Он начал было отсчитывать сдачу, но я уже не мог ждать. Все время поездки мне казалось, что он обязательно попытается ограбить меня или, возможно, даже убить. Он показался мне чуть ли не бандитом.
Как только машина отъехала, я склонился над сугробом и выблевал весь ужин, приготовленный Лизой. Рвота запачкала пальто. Все мое существо в тот момент представляло собою тугой клубок боли, раздражения и стыда за собственное ничтожество. В вестибюле дома должен был дежурить привратник, но я прекрасно знал, где он сейчас — сидит в подвале и режется в карты с полицейским, которому, в свою очередь, надлежало быть сейчас на улице и охранять прохожих. И ведь против этого ничего нельзя сделать, потому что, несмотря на все красивые разговоры о демократии, законе и свободе, в мире правит только одно — сила. Теперь и евреи переняли у гоев это правило. Даже тогда в Нью-Йорке каждый день кого-нибудь убивали, и полиция никогда не находила преступников. А если и находила, то адвокаты так ловко все устраивали, что подсудимых освобождали «за недостатком улик». А в заключении находились свидетели — таков был единственный способ защитить их от преступников. В Америке, как в Содоме, злоумышленники свободно разгуливали по улицам, а ни в чем не повинные люди сидели в тюрьмах. Все это называлось либерализмом. Законы защищают бандитов, передавая на их милость реальных или потенциальных жертв. Все это знают, но попробуй только поднять голос против, и тебя смешают с грязью. Мне самому постоянно приходилось давать взятки полицейским, инспекторам, разным чиновникам. Мэр прекрасно об этом знал. Это было, как говорится, секретом Полишинеля. Сегодняшние евреи не лучше гоев. Они часто используют сложившуюся ситуацию в собственных интересах. Многие адвокаты учат преступников, как обойти закон, и я сам был частью этой системы.
3
Немного успокоившись, я поднялся на свой этаж. Я решил порвать с Лизой навсегда и думал: «Столько мужчин счастливы в браке, неужели же у меня это не получится?» В отличие от Лизы, Циля казалась просто безупречной. Она училась и пыталась получить профессию. Я уже начал придумывать оправдание тому, что явился посреди ночи. Мужчина, у которого есть несколько женщин, быстро становится докой по этой части. Я был настолько глуп, что полагал, будто бы Циля на самом деле верит моим выдумкам. Так всегда и бывает: обманщики первыми оказываются в дураках. Каждый лжец думает, что сможет обмануть целый мир, но на самом деле его-то самого обмануть легче всего.
Я попытался открыть дверь, но она оказалась запертой изнутри. Тогда я позвонил, но Циля почему-то не открывала. Я звонил снова и снова, все настойчивее. Очевидно, Циля очень крепко спит и просто не слышит звонков. Это было странно, ведь обычно она просыпалась довольно быстро. Я начал опасаться, уж не случилось ли с ней чего-нибудь. В квартире было два входа: главный и черный. Ключи у меня были от обоих. Черный выходил в маленький коридорчик, между пассажирским лифтом и грузовым, на котором вывозили мусор. Свернув туда, я увидел, как двери квартиры открылись и из них показался какой-то мужчина. Это был один из Цилиных профессоров, он руководил ее работой над диссертацией. За его спиной стояла моя жена, в одной ночной рубашке. Дорогой мой, в моем собственном доме происходило нечто напоминающее мелодраму или какой-то дешевый фильм: муж внезапно возвращается домой и видит, как жена провожает любовника. Мне стало безумно стыдно, и я тихонько вернулся назад. Маймонид говорит, что ад — это позор. В ту минуту я испытал позор, который действительно оказался адом.
В мелодрамах муж обычно набрасывается на любовника, и они дерутся не на жизнь, а на смерть, но мне совсем не хотелось драться с этим старым распутником. Когда на лестнице стихли его шаги, Циля открыла мне дверь и, не сказав ни единого слова, тут же заперлась в ванной.
Той ночью я, как говорится, до дна испил кубок горестей. Я знал, что мне следует делать: необходимо положить конец такой жизни, раз и навсегда порвать с ней. Удар, полученный сегодня, игнорировать было уже нельзя. И без него я давно знал, что моя жизнь, полная позора и бесчестия, это лишь охота за деньгами, интрижки с женщинами, служение насквозь прогнившему обществу, чье правосудие давно уже поощряло преступность. Циля все еще сидела в ванной, поэтому я не мог забрать оттуда самое необходимое. К счастью, я нашел паспорт, срок действия которого истекал лишь через несколько лет. Еще я взял с собою чековую книжку и несколько важных документов, хранившихся дома. Из ванной доносились приглушенные рыдания. Время от времени слышалось журчание воды, как будто кто-то решил принять душ. Все сборы заняли три четверти часа. Я боялся, что Циля выйдет из ванной и примется оправдываться, но она молчала. Очевидно, догадывалась, что я собираю вещи, и решила не выходить, пока я не уйду.
Я взял два чемодана и ушел: спустился по лестнице и вновь оказался на холодной улице. Я знал, что не просто покидаю свой дом, я начинал новую жизнь. На улице оставаться было нельзя. Мороз усиливался, дул ледяной ветер. Подъехало такси, и я попросил водителя отвезти меня в ближайший отель, где назвался первым попавшимся именем. Я оставил жену, любовницу, бизнес, потому что не мог оставаться не только в Нью-Йорке, но и в Америке, однако чувства горечи из-за этих утрат не появлялось. Стоило мне прикоснуться к кровати, как я тут же забылся глубочайшим сном.
Когда я проснулся, уже светило солнце. Я решил превратить в наличные все, что только мог, а то, что не удастся ликвидировать, просто оставить. Чтобы описать мои тогдашние чувства, мало сказать, что я родился заново, — скорее это было похоже на ощущение умершего, чья душа переселилась в новое тело.
Первым моим побуждением было принять душ или ванную, а затем спуститься в ресторан или кафе, чтобы позавтракать. Я даже уже решил, что закажу: яичницу с беконом. Но тут же вспомнил, что прошлой ночью, в такси, решил стать настоящим евреем, а евреи не едят свинину. Конечно, я прекрасно понимал все трудности, связанные с таким решением. Быть настоящим евреем — значит соблюдать законы Шулхан-Аруха и, как вы уже сами сказали, верить, что Тора, и Гемара, и все, что впоследствии написали раввины, уже было дано Моисеем на горе Синай. А в это-то я как раз и не верил. Я много читал об этом, сначала в Польше, потом в России и в Америке, и никак не мог убедить себя, что Моисей получил от Бога не только Десять заповедей, но и все комментарии к ним и все ограничения раввинов последующих поколений. Я ненавидел современный мир во всех его проявлениях — ненавидел варварство, распущенность, продажное правосудие, войны, Гитлеров, Сталиных, все, — но я не видел никаких доказательств того, что Тору даровал нам Бог, или того, что этот самый Бог вообще существует. Конечно, должна была существовать какая-то сила, которая создала Вселенную, говорил я себе. Я никогда не был материалистом и не верил, что Вселенная возникла в результате взрыва и что все развивалось само по себе. Когда я читал книги по истории философии, то видел, хотя и не был философом, как глупы, слабы и неубедительны подобные теории. На самом деле все современные мыслители говорят одно и то же: мы ничего не знаем и знать не можем. Наш утлый разум не способен понять вечность, бесконечность или даже суть тех вещей, которые мы видим и осязаем. К чему это приводит? Для них этика не стоит и ломаного гроша. А значит, человек может делать все, что захочет. Можно разбираться в такой философии и быть нацистом или агентом КГБ. В тот день я освободился не только физически, но и духовно.
В таком настроении я спустился к завтраку и, едва открыв утреннюю газету, обнаружил там все то, от чего решил бежать: рассказы о войнах, убийствах и изнасилованиях, панегирики революциям, циничное вранье политиков, статьи, полные лжи, дифирамбы плохим книгам, пьесам и фильмам. Газета упивалась этим почти языческим поклонением идолам и плевала на истинную веру. Согласно передовой статье, если только избиратели поверят в предлагаемого им кандидата на пост президента и какие-то его реформы, мир будет в полном порядке. Даже страница с некрологами выглядела как-то оптимистично. Там были опубликованы сведения обо всех достижениях умерших и напечатаны их фотографии. Умер один театральный продюсер, и в статье перечислялись все те дрянные пьески, которые он финансировал, вся та грязь, которую он выгреб на сцену. Тот факт, что он умер относительно молодым, отходил на задний план по сравнению с тем, что после него осталось огромное состояние, доставшееся его то ли четвертой, то ли пятой жене.
Арестовали какого-то убийцу, которого уже арестовывали несколько раз, но все время отпускали под залог или на поруки. Тут же была напечатана и его фотография, рядом с фамилией адвоката, в чьи функции входило учить преступников, что следует делать, чтобы продолжать убивать ни в чем не повинных людей и не оказаться за решеткой.
Да, мне было от чего бежать, что отринуть. Но куда? В газете, кстати, были и религиозные новости. Говорилось о двух христианских организациях, которые объединились, как две фирмы с Уолл-стрит, и о получившем медаль раввине. Он стоял в окружении женщин, улыбавшихся прямо в камеру, в то время как сам виновник торжества смотрел куда-то в сторону и демонстрировал свою награду. Раввин этот выглядел на редкость вульгарно и, хотя считался евреем, носил нееврейское имя, которое мог принять только ассимилированный.
Но что было моей религией? Во что мог поверить я?..
Подошла официантка, и я заказал завтрак. За соседним столиком кто-то ел яичницу с ветчиной. Давно я уже убедился, что отношение человека к другим созданиям Божьим — это просто насмешка над всеми идеалами гуманизма. Для того чтобы он мог наслаждаться этим куском ветчины, живое существо вырастили, зарезали, расчленили и ошпарили кипятком. Человеку даже в голову не приходит, что свинья была таким же живым существом, как и он сам, и что она заплатила муками и смертью за то, чтобы он мог попробовать ее мясо. Мне часто приходило в голову, что в отношениях с животными все люди — нацисты, но ни к каким последствиям мысли эти не приводили. Я сам недавно купил Лизе шубу, сшитую из шкурок десятков некогда живых существ. С каким восторгом и радостью она надевала свой новый наряд! Какие похвалы расточала шкурам, содранным с тел других!
Да, такие мысли начали появляться у меня уже давно, но только в то утро они проявились во всей своей силе. В то утро я впервые понял, каким же лицемером я был все это время.
4
Первое решение, которое я принял, напрямую не касалось религии, но во многом казалось мне символичным. Я решил никогда больше не есть ни мяса, ни рыбы — ничего, что было некогда живым, а потом предано смерти ради еды. Даже когда я был деловым человеком и хотел разбогатеть, даже когда я обманывал себя и других, я все равно знал, что живу против собственных убеждений, что такая жизнь полна лжи и порока. Я был лжецом, но ненавидел ложь и криводушие. Я был распутником, но питал отвращение к продажным женщинам и разврату. Я ел мясо, но меня бросало в дрожь при одной лишь мысли о том, как это мясо попало ко мне на тарелку. Я не слишком хорошо знал Тору, но мне было известно, что она считает употребление мяса в пищу «неизбежным злом». Она с презрением говорит о тех, кто испытывают особое пристрастие к «горшку с мясом». Я всегда чувствовал глубочайшую симпатию к тем группам из Индии, для которых вегетарианство было частью их веры. Все, что имело отношение к забою животных, освежеванию туш, охоте, вызывало у меня отвращение и такое чувство вины, которое просто нельзя описать словами. Я часто думал, что, даже если голос с небес объявит, что убийство животных есть благо, я отвечу на это словами, которые сказал один из авторов Мишны: «Что нам до гласа Небесного?» Как вы уже заметили, я все-таки вернулся к иудаизму, но даже здесь, среди всех этих набожных евреев, я продолжаю оставаться чужаком. Они часто говорят мне: «Не следует становиться праведнее праведника. Нельзя испытывать жалость к тварям земным больше, чем Всемогущий». Некоторые укоряют меня за то, что я не ем мяса и рыбы даже в субботу. Но я всегда отвечаю им: «Если я попаду в ад за то, что не ем мяса, я приму это наказание с радостью. Однако я абсолютно уверен, что до тех пор, пока люди не перестанут проливать кровь живых существ, мир на земле не настанет. Проливший сегодня кровь животного завтра может пролить кровь человека». По мне, заповедь «не убий» распространяется и на животных. Я сумел убедить в этом и свою новую жену. Теперь мы оба вегетарианцы.
Слишком долго пришлось бы описывать все мысли, что пронеслись в моей голове с того самого дня, когда я оставил жену, любовницу, бизнес. Секунду назад я был связан тысячью нитей, или цепей, со светским обществом Нью-Йорка и вот враз оборвал их все. Первым же делом я обратил в дорожные чеки все, что только смог. Служащие в банке удивлялись тому, сколько денег я беру с собой, и спрашивали, что я собираюсь с ними делать. В ответ я говорил, что еду в кругосветное путешествие и планирую посетить множество стран. Они все дружно отвечали, что очень мне завидуют. Одна девушка даже спросила, едет ли со мною моя жена, и я сказал, что жены у меня нет. Я вдовец. В каком-то смысле это было правдой. Я чувствовал, что весь мой прежний мир умер.
Я постоянно повторял себе, что у меня остался только один путь: вернуться к иудаизму, и не к какому-нибудь реформированному его течению, а к религии моих предков. Но тут-то и вставал самый главный вопрос: а была ли у меня их вера? Ответ на него был откровенен и прост: нет. «В таком случае, какой же смысл возвращаться к иудаизму предков? — спрашивал мой внутренний голос. — Ты не станешь настоящим евреем, ты просто будешь играть в еврейство. Ты будешь походить на актеров, что на сцене надевают молитвенные покрывала и изображают праведников и раввинов, а лотом идут домой и вновь возвращаются к своим грязным делишкам». Голос продолжал: «Не выставляй себя дураком и не порти понапрасну жизнь. Ты такой же, как и другие неверующие, и должен жить их жизнью. Если жена изменяет тебе, найди другую которая окажется тебе верна, или заведи любовницу, которая будет удовлетворять все твои прихоти. Бросаться в иудаизм, не веря что каждое слово Шулхан-Аруха священно, это все равно что, как говорит еврейская поговорка, класть здоровую голову на больную подушку. Нельзя сидеть сразу на двух стульях — это лицемерие».
Но другой голос восклицал: «Все пути, кроме строжайшего иудаизма, в итоге приводят ко лжи и разврату, которые ты презираешь. Если ты не веришь в Шулхан-Арух, значит, веришь во зло и всевозможные пустые теории, которые ведут в пропасть. Когда утопающий видит спасательный круг, он не спрашивает, кто его бросил или как долго на нем можно продержаться. Утопающий хватается даже за соломинку. Ты собственными глазами видел, к чему приводит распущенность: КГБ, гестапо. Если ты не хочешь быть нацистом, то должен стать его противоположностью. Не случайно Гитлер и теоретики нацизма вели такую ожесточенную борьбу против Talmud Jude, евреев Талмуда. Эти негодяи не раз заявляли, что их злейшие враги — Талмуд и евреи, его почитающие. Евреи, утратившие Бога, легко могут поверить, что Ленин, Троцкий или Сталин ведут их к освобождению. Евреи, утратившие Бога, могут и Карла Маркса считать Мессией. Они готовы ухватиться не просто за соломинку — даже за гнилую соломинку. Каждые несколько месяцев они находят себе нового идола, новые иллюзии, очередное безумие или увлечение. Они преклоняются перед убийцами, шлюхами, лжепророками и шутами. Они без ума от жалких писак, бездарных дешевых актеров, проституток. Даже если Тора и Талмуд всего лишь творение рук человеческих, они все же могут защитить тебя от этой скверны. Еврей, изучающий Талмуд, не убивает. Он не принимает участия в диких оргиях. Нет нужды бояться его, встретив в лесу или на пустынной дороге. Он не носит оружия. Когда ты уходишь, не надо бояться, что он войдет в твой дом и соблазнит твою жену. Он не жаждет обесчестить твою дочь. Хотя он и не христианин, но уже две тысячи лет подставляет под удары „вторую щеку“, в то время как сами христиане вырывают у него бороду, часто вместе с куском той самой щеки. Этот еврей не пытается подчинить себе никакую расу, никакую группу, никакой класс. Все, чего он хочет, это зарабатывать себе на жизнь и растить детей и внуков по законам Торы и Шулхан-Аруха. Он не желает, чтобы дочери его выросли шлюхами. Ему не нужны современные литература, театр, все это вульгарное искусство. Он не меняет своих убеждений по два раза на дню.
Да, не все такие евреи святые. Они тоже бывают разные. Есть среди них и те, кто поступает непорядочно, гоняется за почестями и в итоге запутывается в хасидских сворах и склоках. Но даже худшие среди них не убивают, не насилуют, не защищают убийц, не вынашивают планов уничтожения целых рас и классов и не превращают семейную жизнь в фарс. К тому же почему бы и не взять в качестве примера лучших? Грязь есть везде. На самом деле, если человек — подлец и жулик, он больше не еврей».
Так говорил мне этот голос, и по его силе я понял, что больше он не замолчит никогда. В какой-то момент он вскричал: «Если одна вера требует крови и лжи, а другая — смирения и чистоты, выбери вторую!»
Я вспоминал тех евреев-коммунистов, евсеков, которые называли Хмельницкого освободителем угнетенных масс. Тех евреев-революционеров второй половины девятнадцатого века, которые оправдывали погромы в России, называя их выражением народной ненависти к царю. А что говорить о тех, кто уже в наше время расточал похвалы Сталину, зная, что он убил и замучил миллионы ни в чем не повинных людей, и среди них сотни тысяч евреев, и все это во имя святой революции, которая стала для многих современных евреев Ваалом и Молохом. Для таких евреев ничто, даже вера в так называемый прогресс, которому и были принесены все эти жертвы, не может служить оправданием.
«Что именно мне делать?» — спросил я, и голос ответил: «Иди в молитвенный дом и молись». — «Без веры?» — удивился я, а голос ответил: «У тебя больше веры, чем ты думаешь». Я не знал поблизости никаких молитвенных домов или синагог. У меня не было ни талеса, ни филактерий. Сама идея пойти молиться казалась мне дикой, но голос не унимался. Он говорил: «Возьми такси и езжай в Восточный Бродвей. Там ты найдешь то, что тебе нужно. Если хочешь стать настоящим евреем, следует начинать прямо сейчас».
Я поймал такси и велел водителю ехать в Нижний Ист-Сайд. Все случившееся испугало меня, я почувствовал стыд. А новый голос не унимался: «Значит, ты решил стать набожным евреем из-за того, что парочка женщин наставила тебе рога? Твое благочестие — ложь и самообман. Этого Бога, которому ты идешь молиться, не существует. Где Он был, когда в Польше евреев заставляли рыть себе могилы? Где Он был, когда нацисты пинали черепа еврейских детей? Если Он существует, но молчал все это время, значит, Он еще больший убийца, чем сам Гитлер».
С такими мыслями я вышел из машины. Несколько минут я бродил по улицам в поисках молитвенного дома и наконец нашел маленькую синагогу, но ее двери были уже закрыты, служба там закончилась. Я уже почти решил начать жизнь праведного еврея с завтрашнего дня. Ведь Всемогущий ждал так долго, говорил во мне глумливый голос, неужели Он не может подождать еще один день, как вдруг произошло нечто такое, что уже тогда показалось мне чудом. Седобородый еврей подошел ко мне и спросил: «Не могли бы вы помочь нам составить миньян? Нам как раз не хватает одного человека». И мужчина назвал имя раввина, у которого уже собралось девять евреев.
Я застыл на месте.
— Я как раз искал молитвенный дом! — сказал я.
— Тогда идемте со мною.
— Но у меня нет ни талеса, ни филактерий.
— Мы дадим вам талес и филактерии.
Я поверил тогда и продолжаю верить сейчас: это не было случайностью. Сила, наблюдающая за всеми живыми существами, вплоть до мельчайших червяков и насекомых, прямиком направила меня на тот путь, который был предназначен мне судьбою и который я отыскал все же после многих лет испытаний. Я последовал за мужчиной. Мы вошли в старое здание и поднялись в квартиру, где меня уже ждали.
5
Дом, в котором жил раввин, явно предназначался на снос. Коридор был узким и темным. Одна дверь открылась, и мы вошли в хасидский дом учения, типичный для Америки. Здесь был ковчег для свитков Торы, стояли шкафы со старыми книгами, пюпитр и скамьи. На какое-то мгновение мне показалось, что я вернулся в Варшаву своей молодости, но, внимательно приглядевшись, увидел, что мужчины, расхаживающие по комнате, носили не матерчатые кипы, обычные для польских евреев, а мятые, в пятнах, фетровые шляпы. Да и сами они казались какими-то старыми, морщинистыми, неухоженными. На лицах этих людей не было и следа того пыла, который отличал варшавских хасидов, штибл.
Они смотрели на меня с некоторым смущением. Очевидно, я не слишком походил на человека, который позволяет среди бела дня затащить себя в дом, чтобы помочь составить миньян.
Наконец один из них произнес:
— Я схожу за ребе.
Он вышел и вскоре вернулся в сопровождении седобородого старика. Из-под выцветшего лапсердака раввина выглядывала ритуальная одежда с кистями до самых лодыжек. Голову венчала ермолка. Ростом рабби был с шестилетнего ребенка. Живот выпирал нездоровой опухолью, а лицо отдавало желтизной. Я не врач, но с первого же взгляда на этого человека становилось понятно: он смертельно болен. Раввин с трудом передвигал ноги. Глаза его лучились такой нежностью, о которой здесь, в Америке, я и думать забыл. Это был человек, не способный обидеть даже муху. Я поздоровался с ним, и голос его оказался таким же ласковым, как и взгляд.
Он протянул мне руку, удивительно мягкую, и спросил:
— Откуда вы родом?
— Из Польши, но уже несколько лет живу в Америке.
— Где вы были во время Катастрофы?
Я рассказал ему свою историю и узнал, что сам он побывал в Майданеке. Он оказался первым встреченным мною религиозным евреем, который спасся от рук нацистских палачей. Я спросил, из какого он хасидского двора, но его ответ ничего мне не сказал.
Вскоре мы приступили к молитве. Я привык к той скорости, с которой в Америке делаются все дела, но здесь царила неспешность. Прошло добрых полчаса, пока раввин надел молитвенную шаль и филактерии. Я смотрел на его изношенный талес и думал, что скоро и эта шаль, и тело, которое она сейчас покрывает, упокоятся в могиле. Кто-то успел мне сказать, что раввин страдает от больных почек и водянки. Я внимательно наблюдал за тем, как он, что-то тихо бормоча себе под нос, обматывает ремешками руку, и думал: как такое тело могло уцелеть после Майданека?
Я видел перед собою мученика, одного из тех праведников, что несут на своих плечах бремя всего мира. С каким пылом он читал благословения! Ему приходилось напрягаться, чтобы надеть филактерии, даже коснуться губами бахромы стоило раввину труда. Каждое движение причиняло ему сильнейшую боль. Душа уже почти оставила это святое тело. Я просто не мог поверить, что мне выпало счастье собственными глазами лицезреть еще живого представителя настоящего старого еврейства. Один из молящихся предложил ребе прочесть Восемнадцать благословений сидя, но тот даже не услышал его.
Я видел, как он медленно поднял вверх дрожащую руку и ударил себя в грудь со словами: «Мы грешили» и «Мы нарушали заповеди». Он, этот праведник, каялся в своих несуществующих грехах, в то время как миллионы преступников гордились своими злодеяниями, а десятки тысяч адвокатов — и среди них евреи — помогали этим ворам, грабителям, мошенникам и насильникам оставаться на свободе. Мне самому стало нестерпимо стыдно. В Нью-Йорке жил настоящий святой, а я проводил время с обманщиками, развратниками и шлюхами. Теперь у меня были филактерии и талес, но я забыл, как надо переплетать ремешки на руке, чтобы составить букву шин — первую букву слова «Шадай», то есть Бог.
Я молился и к собственному изумлению понимал, что это вовсе не обман, не комедия. Я благодарил Творца за то, что Он направил меня в эту комнату, к этим набожным евреям, которые все еще пытаются составить миньян, в то время как мир вокруг тонет в потоках грязи и ложных теориях. Здесь не презирали старость. Здесь не бравировали своими сексуальными успехами или количеством выпитого накануне. К старшим тут обращались с уважением и смирением. Тут никто не красил волос, пытаясь походить на восьмидесятилетнего юнца, и не совершал других подобных пошлостей, столь распространенных среди нынешних стариков.
До того дня я усердно читал газеты, журналы и книги. Нередко я чувствовал, что все это смертельный яд. Они вызывали горечь, страх и чувство беспомощности. Все, что я читал, доказывало один тезис — миром правили и править будут грубая сила и коварный обман. Вся современная литература на разные лады повторяла одно и то же: «Мы живем одновременно на бойне и в борделе, так было и так будет всегда». И вдруг я услышал слова, исполненные света и оптимизма. Вместо того чтобы начать день с рассказов об убийствах и ограблениях, обманах и изнасилованиях, я начал его со слов о справедливости, святости и Боге, даровавшем человеку разум, способном оживить мертвых и наградить благочестие. Оказалось, что впервые за долгие годы я не принял с утра очередную порцию яда.
Возможно, то, что я сделал после молитвы, покажется вам несколько мелодраматичным, но уверяю вас: я человек, далекий от литературы, и ни о чем таком не думал. Я просто встал и сказал: «У меня есть деньги, и, если кому-то из вас требуется помощь, вы можете обратиться ко мне». Я ожидал, что все они бросятся вперед, будут тянуть руки и кричать: «Дай мне! Дай мне!», как сделали бы почти все современные люди, которые, сколько им ни давай, все равно хотят еще. Но эти евреи только удивленно посмотрели на меня и улыбнулись, как если бы услышали шутку. Ко мне обратились только двое. Я достал бумажник и дал столько, сколько они просили. Они выглядели смущенными, робкими и пытались объяснить, зачем им эти деньги. Другие заявили, что им ничего не нужно, но все сходились во мнении, что если кто тут и нуждается в помощи, так это ребе.
Когда же я спросил у него, чем я могу ему помочь, он улыбнулся, приоткрыв почти беззубый рот, и сказал:
— У меня есть все, что мне нужно, слава Богу.
— Вы следите за своим здоровьем?
— Доктора говорят, что мне надо ложиться в больницу, но я не хочу.
Причины этого были вполне понятны: ребе сомневался, что в больнице поддерживается строгий кошер.
Он сказал:
— Я проживу столько, сколько мне предназначено. Не больше.
— Ребе, я могу устроить вам отдельную палату и хороших докторов. Они помогут вам и…
Единственным ответом на это было: «И-и-и», означавшее: Не уверен… Обойдусь и без этого… Это не для меня… и много других выражений религиозного скептицизма по отношению к мирским обещаниям и посулам помощи.
Это «И-и-и» означало также и то, что все эти хлопоты совершенно ни к чему.
Вошла ребецн, женщина одних с ребе лет, в большом чепце, согбенная и морщинистая, как старушки моего детства.
Я сказал, что хочу сделать для ее мужа, и она ответила: «В больнице они начнут с анализов и тестов, и эти тесты окончательно убьют его».
Она знала, о чем говорила. Я уже слышал и от других больных, что некоторые доктора используют своих пациентов вместо морских свинок. Они берут у них кровь, причиняют им страдания. Часто эти тесты приносят больше вреда, чем сама болезнь. Ребецн была второй женой ребе, первая, вместе с детьми, погибла в Европе.
Ребе начал рассказывать мне о тех испытаниях, которые ему пришлось пережить при нацистах. Ему сбрили бороду. Заставляли копать могилы и делать другую тяжелую работу. К тому же его избивали. Он исповедовался каждый день, ожидая смерти, но душа его каким-то чудом продолжала держаться в теле. Я спросил, поддерживает ли он связи с какими-нибудь ортодоксальными еврейскими организациями в Америке, и в ответ вновь услышал уже знакомое: «И-и-и».
Нет, он не был современным ортодоксальным американским раввином, который мог участвовать в конференциях, фотографироваться и выступать на банкетах с призывами жертвовать деньги. Он был старомодным евреем, которому для жизни необходимы были кружка чая, тарелка овсянки, несколько старых книг и миньян. Он не пытался наставлять на путь истинный весь мир или даже сынов Израиля. Он не читал газет и не знал того идиша, который современные ортодоксы переняли у неверующих. Говорил он на том же языке, что и мой дед или ваш дед. Те несколько евреев, что собрались здесь, в этом были похожи на него. Иудаизм был для них чем-то личным — чем-то, что касалось только их и Бога.
Я пообещал ребе, что вечером приду снова. Он кивнул и поблагодарил. Собрать миньян в последнее время стало настоящей проблемой.
Ребецн я дал несколько долларов, и она приняла их нерешительно, горячо благодаря. Вся Америка, все организации евреев и неевреев кричали одно: «Дай! Дай!» Они строили здания, нанимали все больше и больше служащих, стучали на пишущих машинках, стремились к известности и популярности. У них всех была одна и та же цель: добиться успеха, не важно, строили ли они театр или иешиву, университет или центр изучения Торы, летний лагерь или ритуальные бани. Но этот наследник старого еврейства знал, что деньги не помогут найти или укрепить веру. Праведники из старых иешив входили в жилища единоверцев лишь для того, чтобы найти себе кусок хлеба. Великолепные здания, деловитые секретари, вечно звонящие телефоны и настырные мастера по поиску источников денег могли породить только то, что сами и представляли: шум и мелкую суету.
6
После того как я оставил квартиру ребе и спустился на улицу, мне пришло в голову, что неплохо было бы остановиться где-нибудь поблизости, снять комнату или квартирку. Я мог бы три раза в день молиться с этим миньяном. Рядом, на Делэнси-стрит, был вегетарианский ресторан. Я подошел к магазину, где продавались молитвенники, талесы, филактерии, ритуальные одежды и мезузы. Поскольку так называемый новый иудаизм фактически перестал быть религией и пропитался ложью, алчностью и суетностью, я должен был вернуться к старому еврейству, новее которого ничего не было. Я вошел в магазин и купил две первые попавшиеся на глаза книги: «Путь праведника» Моше-Хаима Луцатто и «Голос Элиягу, комментарии к Притчам Соломоновым» Виленского Гаона. Потом я зашел в ресторан на Делэнси-стрит и заказал вегетарианский обед. Довольно убивать невинных существ, довольно пожирать их плоть и кровь! Официант принес мне булочки и тарелку овсянки, бобы и грибы, все просто восхитительное на вкус. Зачем есть мясо, когда есть такие замечательные кушанья?
Поев, я просмотрел книги. Какую страницу ни открой, каждая светилась мудростью — и не «мудростью» психоаналитиков, с их дикими, беспочвенными теориями и искусственными заключениями. В конечном итоге все их выводы сводились к одному: виноват кто-то другой. Отец — своей строгостью или мать — деспотичностью. В снах и фантазиях они искали объяснения всех проблем пациентов. Каждая написанная ими страница пестрела не только противоречиями, но и глупостями. Священные же книги, напротив, хранили древнее знание природы человека. В них каждое слово стояло на своем месте. Когда я слышу, что последователи Фрейда — великие мудрецы и открыватели нового, а священные книги устарели, я не могу удержаться от смеха. Как извращен современный человек! Когда он в очередной раз хочет переломить свою природу, а та сопротивляется, он бежит за помощью к психиатру.
Ладно, но что мне делать дальше? Куда идти? — спрашивал я себя.
До этой минуты дьявол во мне молчал, но сейчас и он подал голос. «Иди домой! — приказывал он. — Там твоя квартира, твои вещи. Если ты хочешь развестись с Цилей, найми адвоката. Никто не может заставить мужа жить с женой, которую он презирает. В худшем случае пару лет будешь платить ей алименты, вот и все. Зайди к своим партнерам. С чего это вдруг ты должен оставлять им свою долю в бизнесе и превращаться в нищего бродягу? Хочешь быть набожным евреем? Будь им, но у себя дома! Не уезжай из Америки. Здесь полно синагог, священных книг и раввинов. Тот, у которого ты был, скоро умрет, и больше таких не останется. Возможно, Моше-Хаим Луцатто и Виленский Гаон хороши и умны, но, когда Гитлер или Сталин приходят к власти, они стирают евреев в порошок, и ничто не может помешать им. Не будь твой бумажник набит деньгами, ты бы сейчас стоял на холоде и просил подаяния».
Дух зла, или зверь внутри меня, продолжал: «Не осталось больше ни верных жен, ни верных мужей. Ты должен смириться с тем, что и секс можно разделить с другими. Такого понятия, как частная собственность на секс, просто не существует. И это к лучшему. Верность заставляет супругов ненавидеть друг друга. Это то же самое, что изо дня в день есть одно и то же блюдо на обед. Пришло время, когда каждый мужчина может иметь сразу десятки женщин, а каждая женщина — десятки мужчин. Каждая сторона, таким образом, становится в чем-то опытнее, и встречи между супругами приобретают пикантность и новизну. Ревность не дается нам от рождения, мы сами воспитываем ее в себе. Ты можешь освободиться от нее, и это откроет перед тобой новые перспективы, даст новые ощущения, новые наслаждения».
Дьявол доказывал: «Наверняка Циля уже ищет тебя, обрывает телефоны, раскаивается в содеянном. Да, она спала с этим стариком профессором, но ведь это же была только минутная прихоть, или, возможно, месть за твои измены, или результат постоянной скуки. Для тебя сегодняшней ночью она будет еще интереснее, чем обычно. По-новому обнимет, откроет новые тропы любви… Что до Лизы, тебе не следовало быть с ней таким грубым. Она одинока и всегда очень радуется твоим визитам. Она страстная женщина. Людям нужна новая обувь, новая одежда, новые пьесы, книги, почему же они не имеют права на новые ощущения в самых важных областях жизни — в любви и сексе? Иосиф Шапиро, тебе не переделать мир. Если все таково, каково оно есть, значит, таков ход истории человеческой, таков Божий промысел».
Так говорил дьявол, и его слова показались мне столь убедительными, что я решил поймать такси и поехать домой. Я скучал по своей квартире, постели, телефону, по комфорту, в конце концов. Не терпелось просмотреть утреннюю почту. Возможно, пришли новые чеки или важные телеграммы.
Мне некуда было идти и нечем заняться. Я мало спал и очень устал. Тоскуя по своей кровати, я слышал приказы дьявола: «Иди домой! Домой! Ляг, выспись как следует и наберись сил. Не превращайся в живой труп. О таких вещах легко читать в книгах, на них интересно смотреть в театре, но если ты захочешь совершить нечто подобное в реальной жизни, то станешь нищим, пропащим человеком. С чего это вдруг тебе искупать грехи других?»
Я был в таком состоянии, что уже начал высматривать свободное такси. Одно как раз проезжало мимо, я остановил его и сел.
— Куда? — спросил водитель.
Я хотел назвать ему свой адрес, но вместо этого вдруг сказал:
— В аэропорт Кеннеди.
Прислонившись к стенке, я закрыл глаза. В тот момент мне стало понятно, что оставаться в Нью-Йорке — значило бы уступить дьяволу. Если уж я решил порвать с сатаной и его силами, следовало уехать из города.
Я нанес силам зла удар и наслаждался вкусом победы. Нет, мне не нужны ни извинения Цили и Лизы, ни их объятия. Во мне проснулся истинный еврей. Поколения евреев взывали ко мне: «Откажись от этого разврата! Беги от культуры Сталина и Гитлера. Спрячься от цивилизации боен и борделей. Освободись от женщин, которые живут как шлюхи и нуждаются лишь в сексе и поклонении. Держись как можно дальше от всей этой гнусности».
И пока машина проносилась по нью-йоркским улицам, я слышал, как все эти евреи упрекали меня: «Что с тобой? Посмотри, в какой грязи ты оказался. Ты живешь как нацист. Именно такую жизнь они и проповедовали. Это их жены и невесты продавались американским солдатам за плитку шоколада, пачку сигарет или пару долларов».
Подъехав к аэропорту, водитель спросил, какая именно линия мне нужна, и я назвал первую, что пришла на ум. Расплатившись, взяв свой маленький чемоданчик и две книги, я вошел в терминал. Я подошел к служащему, который был свободен, и на его вопрос, куда я лечу, ответил:
— В Израиль!
— У вас есть билет?
— Нет, я хотел бы купить его сейчас.
— Можно взглянуть ваш паспорт?
Я показал ему паспорт, и он спросил, где мой багаж.
— Вот, в руках, — ответил я.
В этот момент мне показалось, что о происходящем со мной я читаю в какой-то книге. Моя жизнь вдруг превратилась в выдуманную историю.
Он протянул мне билет, и я расплатился дорожным чеком. Прямых рейсов в Израиль в то время не было, и я взял билет до Рима, где мне предстояло сделать пересадку. Все оказалось так просто.
Поколения евреев бежали от инквизиторов, палачей, виселиц, костров. И попадали в лапы других врагов, других инквизиторов — на те же виселицы, те же костры. Слава Богу, я дожил до того времени, когда евреи все же обрели собственный дом. Никто меня не преследовал, а на оставшиеся деньги я вполне мог скромно прожить там несколько лет. Я знал, что небо не оставит меня. Возможно, тысячи таких, как я, лелеяли те же мечты, но им пришлось довольствоваться мечтами.
Я хотел сесть в самолет как можно быстрее. Мне было необходимо физически порвать со своей прежней жизнью. В зале ожидания я провел примерно полчаса. Все это время меня не покидали мысли о так странно изменившейся жизни. Я рассматривал других пассажиров. Что их подтолкнуло к путешествию? Что они хотели найти в Риме? Там были итальянцы, были и блондины, явные представители нордической расы. Несколько человек походили на евреев. У всех собравшихся в этом зале оказались свои причины для полета, но я был уверен, что никто из них не испытал моих переживаний. Мой случай казался мне совершенно уникальным. Евреи и прежде уезжали в Израиль, но это были другие евреи, в других обстоятельствах. Я сидел в зале ожидания, пораженный тем, что со мной происходило, недоумевая, откуда же у меня взялись силы, чтобы совершить такой поступок. Конечно, я прошел через множество испытаний, пережил немало опасностей во время войны, но тогда я действовал по необходимости, гонимый голодом и страхом, теперь же я руководствовался только своей свободной волей. Еврей во мне внезапно взял верх над язычником.
Вскоре объявили рейс до Рима. Мое место оказалось у прохода. Я сел, и рядом со мною, у окна, села молодая женщина. Ага! Дьявол продолжал искушать меня. Такова природа вещей. Сатана никогда не отступит, никогда не признает своего поражения. В одной из священных книг утверждается, что даже когда человек умирает, сатана приходит к его смертному ложу и пытается обратить его в атеиста, толкнуть на богохульство. И в этом утверждении куда больше знания о человеке, чем в увесистых томах последователей Фрейда, Юнга или Адлера.
7
Я никак не мог понять, еврейка ли женщина, сидящая рядом со мною, или нет. Я твердо решил не заговаривать с ней, у меня ведь были с собой две замечательные книги, и я раскрыл одну из них. Но все же иногда я тайком бросал взгляд-другой в сторону соседки. Она была смугла, с темными волосами и карими глазами — вполне могла оказаться еврейкой или итальянкой, а то и француженкой. Как это называется — да, «средиземноморский тип». Платье с короткими рукавами и довольно глубоким вырезом. На коленях она держала сумочку из крокодиловой кожи. На пальце у нее я заметил кольцо с довольно крупным бриллиантом. С собою у нее были также журнал мод и какое-то университетское издание. Не нужно быть особенно изощренным физиономистом, чтобы узнать так называемую «интеллектуалку». Она читала книгу, и я разглядел, что это был Сартр — известный французский философ, писатель и теоретик экзистенциализма, чьи работы столь путаны и противоречивы, что понять их просто не представляется возможным. «Ты, значит, тоже ищешь ответы на вечные вопросы, — подумал я. — Или, возможно, это нужно тебе для диссертации».
Я вновь опустил глаза в «Путь праведника», но даже когда часть мозга воспринимала его мудрость и святость, другая все равно была сосредоточена на соседке. Если даже умирающий может заблуждаться в своих ересях, почему недавно раскаявшийся не имеет права на мысли о женщине? Дьявол говорил мне: «Если бы на твоем месте сидел сам Моше-Хаим Луцатто, то и он не смог бы отказаться от подобных мыслей. Он умер совсем молодым, и, кстати, ты помнишь, кто его преследовал? Так называемые набожные евреи, „казаки Господа Бога“». От девушки пахло духами, шоколадом и другими соблазнительными ароматами. Я читал о воздержании и праведности, а в части моего мозга в это же время гнездилась мысль о том, как бы познакомиться с девушкой и в Риме вместе отправиться в какую-нибудь гостиницу. В голову вдруг пришло выражение: «Сосуд стыда и бесчестия». Да, именно этим и было мое тело: сосудом греховности. Я вспомнил, как отец, когда-то давным-давно, привел слова одного раввина. Этот раввин — уж не помню, как его звали, — сказал: «Наглость дьявола беспредельна — он может попытаться и почтенного раввина в белых одеждах заставить совершить прелюбодеяние с замужней женщиной».
Я торжественно поклялся, что не буду заговаривать со своей соседкой, не буду даже смотреть на нее. Скоро самолет поднимется в воздух, и существовала вероятность того, что через какие-то десять минут мы оба окажемся в мире ином. Катастрофы происходили довольно часто, люди разбивались и погибали в считанные секунды. Страсть к удовольствиям у современного человека столь велика, что он постоянно рискует своей жизнью. Он готов отдать ее за малейшую возможность попробовать что-нибудь новенькое. Пассажиры, однако, об этом не думали. Они болтали, заказывали напитки, дремали. Кто-то просматривал газеты, изучал новости с биржи. Улыбались стюардессы, чьи наряды приковывали взгляды мужчин, открывая все, что только могли открыть, и обещая удовольствия, которые вовсе не были удовольствиями.
Внезапно соседка взглянула на мою книгу и спросила:
— Она на иврите?
— Да, — ответил я. — На иврите.
— Это что-то старое?
— Скорее религиозное.
— Вы раввин? — спросила она.
— Нет.
— Я тоже еврейка, — сказала она. — Но иврита не знаю. Родители водили меня в воскресную школу, но я уже давно все забыла. Даже алфавит. Можно посмотреть?
Она взяла «Путь праведника», и я заметил, что ее острые, словно птичьи коготки, ногти были покрыты лаком кроваво-красного цвета. Что-то подсказывало мне, что не стоило давать ей эту книгу.
Она долго смотрела на буквы и наконец спросила:
— Это алеф?
— Да, алеф.
— А это?
— Мем.
— Точно, мем. Я лечу в Израиль и там буду изучать иврит. Говорят, это очень сложный язык.
— Да, он не так уж и прост, но его можно выучить.
— Все европейские языки — очень легкие, — сказала она. — Я была в Испании всего несколько недель и быстро научилась говорить. Но иврит для меня — нечто чужое, он мне совершенно не знаком.
— Нередко чужое вдруг становится знакомым, — заметил я, прекрасно понимая, что мои слова можно истолковать как: «Сегодня мы еще незнакомы, а завтра можем оказаться в одной постели».
Она взглянула на меня с любопытством, как если бы поняла намек. Ее алые губы прошептали: «Я все поняла».
Мы разговорились. Я уже забыл и о «Пути праведника», и о «Голосе Элиягу». Только что я бежал от всего мирского и вот снова забыл о своей религиозности. Самолет помчался по взлетной полосе, и в иллюминаторе я увидел убегающие назад огни. Через несколько секунд мы узнаем, будем ли жить, или разобьемся. Жизни наши полностью находились во власти машины, всех ее болтиков, винтиков и гаечек. Слава Богу, самолет благополучно взлетел. Сквозь туман я увидел крыши домов. Но никто из пассажиров и не подумал благодарить Всемогущего. Все они вели себя так, будто ничего не произошло.
Девушка рассказала мне, что ее жених заключил годовой контракт с Иерусалимским университетом на преподавание курса электроники. Она считала его настоящим гением. Он стал профессором, еще не защитив диссертацию. За ним гонялся Вашингтон, ему предлагали высокооплачиваемую работу в одной очень известной фирме. Она упомянула и название этой фирмы, но я его тут же забыл. Суть всего сказанного сводилась к тому, что ее Билл в свои тридцать с небольшим был одним из величайших физиков Америки и бесспорным кандидатом на Нобелевскую премию. Он сделал уже несколько важных открытий. То ли в Гарварде, то ли в Принстоне ему предлагали заведовать кафедрой, но он поддался уговорам одного израильского дипломата и уехал в Иерусалим, где получает в три раза меньше денег, чем мог бы получать в Штатах. Сейчас он изучает иврит в ульпане, полагая, что какой-то минимум знаний языка ему необходим. Он далек от сионизма, сказала она, но идея преподавать и заниматься исследованиями в Израиле его увлекла. Возможно, это молодость, возможно, какие-то другие причины, а возможно — просто идеализм. Он родился в состоятельной семье. Его отец — известный врач, один из самых уважаемых в Америке; у него есть шикарная яхта, квартира на Пятой авеню и дома в Олд-Гринвиче и на Палм-Бич. Да, ее жених еврей, но до недавнего времени — только по крови. К иудаизму он не проявлял никакого интереса. Он никогда не ходил в религиозную школу, но почему-то идея еврейской родины будоражит его воображение. Тот израильский дипломат, кстати, тоже очень способный молодой человек, ученый, его наверняка ожидает блестящая карьера.
Она отложила свою книгу. Я знал, что она будет говорить всю ночь, вернее, несколько оставшихся до утра часов, так как при полете в Европу значительную часть ночи теряешь. Я давно заметил, что болтливость у женщин еще сильнее похоти. Подошла стюардесса, и моя соседка заказала виски. Поразмыслив немного, я решил присоединиться. И величайшие раввины позволяли себе иногда глоток алкоголя. Я просто хотел показать девушке, что на самом деле я тоже современный человек.
Мы выпили, моя порция была разбавлена содовой, а у нее — чистое виски. Она даже не поморщилась. После этого она продолжила свой рассказ. Ее отец был адвокатом. Он развелся с ее матерью. Он тоже был не бедняк, но ни в какое сравнение с отцом Билла не шел. Мать снова вышла замуж, и отчим оказался миллионером. Как ее имя? Присцилла. Чем она занимается? Интересуется психологией, литературой, социологией. Как она познакомилась с Биллом? Через того дипломата. Он был другом ее тогдашнего приятеля. Они встретились на вечеринке. Она говорила мягким голосом человека, с детства привыкшего к роскоши, атмосфере флирта, недолгих связей, хороших манер и уверенности в завтрашнем дне. Она не была богата, но ей повезло с отчимом. У него не было детей, и он все состояние оставит матери Присциллы, а та, в свою очередь, все оставит своей единственной дочери. На самом деле мать была против этой поездки в Иерусалим, особенно после того, как узнала, что Билл пока не готов к женитьбе. Но Присцилла и сама еще не была готова к такому шагу. Зачем торопиться? Заводить детей она не очень хотела, особенно в свете проблемы перенаселения.
Она улыбнулась, продемонстрировав зубы в пятнах помады. Заказала еще виски и принялась расспрашивать о моей жизни. Кто я? Чем занимаюсь? Зачем лечу в Израиль?
— Просто хочу увидеть страну предков, — сказал я.
— Весомая причина, — заметила она.
Я рассказал, каким чудом спасся от Гитлера, как скитался по России. Она выслушала меня и воскликнула: «Боже, через что может пройти человек!»
На вопрос, есть ли у меня жена, я ответил коротко: «Была».
После этого я убрал свои книги, словно не хотел, чтобы они становились свидетелями того, что я еще сегодня скажу или сделаю.
8
После ужина, который от завтрака отделяло всего три часа, в салоне притушили свет. Пассажиры принялись вытаскивать подушечки, укрываться одеялами и готовиться проспать остаток ночи. Моя соседка сделала то же самое. Сложно было понять, спит ли она или просто о чем-то очень сильно задумалась. По крайней мере, она замолчала. Но продолжалось это не более минуты, вскоре она вновь оживилась. Однако говорила теперь другим, более интимным тоном.
— Никогда бы не поверила, что полечу в Израиль. Скорее уж в Афганистан. Я в жизни не чувствовала себя еврейкой. Ни мать, ни отец абсолютно не интересовались иудаизмом. Я, конечно, ходила в религиозную школу, но это было скорее данью моде. На самом-то деле я с самого детства стыдилась своего еврейства. И вот теперь вдруг лечу в Иерусалим и собираюсь учить там иврит. Самое смешное, что Билл — убежденный атеист.
— Израиль — страна не более религиозная, чем Америка или Франция, — заметил я.
— Да, но все же это страна евреев. И этот иврит! Мне кажется, я никогда с ним не справлюсь.
— Даже некоторые арабы говорят на иврите.
— Ну, арабы, в конце концов, наполовину евреи.
Затем разговор перешел на личную тему, и Присцилла начала доказывать мне, что институт семьи устарел. Как можно обещать любить одного человека до конца жизни? Что такого особенного в благословениях раввинов и священников? Мир не стоит на месте, и люди должны определять свои поступки научными знаниями, а не древними традициями. Бог никому не открывался до конца, и мы не можем быть уверены, что знаем, чего Он хочет, да и существует ли вообще.
Я спросил у нее:
— Допустим, все так, но как в таком случае быть с детьми? Им же нужны родители. Отец должен быть уверен, что ребенок его, а не соседа.
— Ну, — ответила Присцилла, — когда пара хочет ребенка, то женщина, если она, конечно, не чудовище какое-нибудь или не сумасшедшая, сделает так, что это будет ребенок именно этого ее партнера. Но из этого не следует, что вы должны сохранять кому-то верность всю жизнь. — Помолчав, она добавила: — Взять хотя бы нас с Биллом. Мы прекрасно ладим друг с другом и когда-нибудь станем мужем и женой, и у нас будет ребенок или, возможно, даже двое. Но пока мы свободны и ничем не связаны. Он встречается с другими женщинами, а я — с другими мужчинами.
— Вы уверены, что он не спит с ними?
— Вовсе нет.
— И он точно так же не уверен в вас?
— Конечно. Но эта уверенность ему совершенно не нужна. Я ведь не его собственность. Мы оба — свободные партнеры, поэтому и наш брак тоже будет свободным, безо всяких фальшивых уз.
Я прекрасно понимал, что это вновь дьявол говорит со мною. С чего бы вдруг незнакомой девушке вести себя так откровенно со случайным попутчиком? Вы сами видите — я не из тех, в кого женщины влюбляются с первого взгляда. Возможно, для вас дух зла — всего лишь фигура речи, но для меня и дух зла, и дух добра — реальность, самая суть реальности. Не важно, называть ли их духами или как-то иначе. Я верю, что они существуют и влияют на человеческие жизни от колыбели до могилы. Особенно дух зла, что сильнее железа. Плоть, кровь, нервы, эмоции — все на его стороне. В этом мире, где дом строится годами, а рушится за несколько минут, хозяин — дух зла. Он командует всем, что несет разрушение. Если дьяволу было нужно, чтобы Присцилла выполняла его волю, он мог легко ее заставить.
Да, я понимал все это, но в то же самое время дьявол шептал мне: «Это твой шанс. Не будь идиотом. Намекни ей, девчонка согласна. Другого случая просто не будет!»
Я сидел оглушенный тем драматическим поворотом, который сделала моя жизнь, раздираемый на части собственной нерешительностью. Я уничтожил все, что связывало меня с ложью, но сейчас ложь снова была во мне, и кто знает, какие радости она мне обещала. Нескольких случайно брошенных на колени девушки взглядов хватило, чтобы понять, какие удовольствия может доставить то, что покоится между ними. Но хватит ли мне времени? И грех не совершается в одну секунду. Пока мы говорили, уже пришло время завтрака. После Рима мы, возможно, уже не будем сидеть рядом. И она вряд ли захочет продолжать встречаться со мною в Израиле, где ее ждет жених-профессор. Внезапно я почувствовал себя героем и одновременно зрителем какого-то фильма или пьесы. Я сидел и не мог ничего предпринять. Мной завладел фатализм, ничего общего с верой не имевший. Отстраненный, но с проснувшимся любопытством, я наблюдал за тем, как режиссер этой драмы сводит, сообразно своему замыслу, все нити воедино.
Какое-то время Присцилла ничего не говорила, а потом спросила: «Почему вы не возьмете одеяло? Здесь холодно».
В тот же самый момент подошел стюард и спросил, не нужно ли мне одеяло. Я согласился, и через несколько секунд мои ноги уже были укрыты. Не помню, где — не в одном ли из ваших рассказов? — я прочел о человеке, который играл в шахматы со своей судьбою. Он делал ход, судьба отвечала ему другим, и так далее, до тех самых пор, пока человек не получил мат и фигуры не раскатились во все стороны. Разве это не ваш рассказ?
Представьте себе только. Я сижу там и спрашиваю себя: а что теперь? Какой делать ход? По натуре я не агрессивен. Другой на моем месте не стал бы долго думать, он просто взял бы ее за руку, а дальше все пошло бы своим ходом. Но такие вещи, слава Богу, не для меня. Меня останавливало чувство стыда, которое для любого настоящего еврея — моральная сила. Я не мог набраться наглости. Благодаря этому мне удалось избежать многих ловушек, но тогда мне казалось, что из-за своей скромности я теряю великолепный шанс.
Внезапно я почувствовал, как она запускает руку мне под одеяло. Наши пальцы сплелись, и началась старинная игра поглаживаний и ласк. После того как она сделала первый шаг, я осмелел. Моя ладонь скользнула по ее коленям, тем самым, что секундой раньше обещали все радости мира. Нет смысла говорить, что она не сопротивлялась. И в то же самое время я знал, что этой ночью на моем месте мог быть любой. Эта девушка исповедовала теорию, сообразно которой не следовало упускать никаких возможностей, или, по еврейской поговорке, «если на пользу, то хоть от казака».
Я уничтожил и растоптал не только свое мнимое раскаяние, не только новый образ жизни и все важнейшие решения, но и свою мужскую гордость. Я ласкал женщину, которая предлагала себя первому встречному. Когда я мял ее одежду, то с насмешливой жалостью думал о Билле, который ждал в Иерусалиме свою «партнершу» и планировал создать с ней семью. Тора предупреждает евреев, что, где бы они ни жили, Бог отыщет их и вернет в страну предков. Да, Бог сдержал свое обещание, но кого он возвращал? Он изгнал одних грешников, а возвращал других, еще больших.
Таков был ход моих мыслей, но делал я нечто совсем иное. Скажу вам честно: согрешить в самолете очень сложно. Мимо постоянно проходят другие пассажиры, не спят стюардессы, свет хотя и слабый, но все же горит. Я чувствовал не только желание, но и отвращение. Современная женщина, как это ни странно, хотя и готова к любым приключениям, но при этом одевается таким образом, что приходится прикладывать огромные усилия, чтобы добраться до заветного места. Желание казаться изящной сильнее тяги ко греху. Мы долго возились подобным образом, и в то же время мы оба боялись, что кто-нибудь заметит, чем мы занимаемся, и устроит скандал. Дух зла, или сатана, по-видимому, решил доказать Небесам, что мои покаяния и обещания были ложью, вот только удовлетворение моих желаний в его планы не входило. Так бывает всегда со всеми страстями. Самое важное в них — предвкушение. И в сексе, и в ограблении, и в убийстве, и в жажде мести, и в стремлении к славе — всюду одно и то же. Результаты всегда разочаровывают. Но вам ли этого не знать.
Уже поздно, и, пожалуй, я не успею рассказать вам всю историю сегодня, но кое-что еще скажу.
После того как мы поняли, что ничего у нас не получится, мы сидели, как две наказанные собаки, стесняясь взглянуть друг на друга. По крайней мере, так чувствовал себя я. В самолете началось какое-то движение. Наступал день. Солнце поднималось из-за моря, сияющее и умытое. На фоне его величия я чувствовал собственную незначительность. Оно озаряло планеты, побуждало злаки расти, давало жизнь бесчисленным тварям, делая это с чистотой и божественным спокойствием, в то время как я пытался получить сомнительное удовольствие и потерпел в этом крах. Мое путешествие утратило всякий смысл, как и все, к чему я прикасался.
В Риме я решил купить обратный билет до Нью-Йорка. Раз я не смог стать евреем, значит, должен превратиться в язычника. Раз не мог жить в чистоте, значит, должен еще глубже погрузиться в грязь. Внезапно мимо прошел какой-то мужчина. У него были окладистая борода, пейсы, на голове широкополая шляпа, под пальто традиционная одежда с кистями. Моя соседка взглянула на него и усмехнулась. В ее взгляде сквозило недоумение и презрение. Именно тогда я понял, что без пейсов и традиционной одежды нельзя стать настоящим евреем. Солдат, служащий императору, носит мундир — то же относится к солдату, который служит Всемогущему. Если бы я носил такую одежду сегодняшней ночью, то не поддался бы искушению. То, как человек одевается, выражает его образ мыслей, его обязательства перед Небесами. Такова уж природа человека, что он скорее испытает стыд перед приятелем, чем перед Богом. Если он ясно не покажет всему миру, кто он и во что верит, то окажется открытым для греха, сопротивляться которому просто не сможет.
9
В Риме нам предстояло почти три часа ждать самолета в Израиль. Моя новая подруга не пожелала сидеть в аэропорту и исчезла. Я видел, как какой-то молодой человек предложил ей прокатиться по городу. Он обещал вовремя привезти ее обратно. Подобные люди быстро заводят знакомства. Я же устроился в зале ожидания. Я давно не ел — во-первых, пища в самолете была трефной, а во-вторых, у них не было ничего для вегетарианцев, — но голода все равно не чувствовал. Я рассматривал толпу, читал объявления на английском и итальянском. Вокруг все время ходили люди, одни летели в Нью-Йорк, другие в Париж, третьи в Лондон или Афины. У всех во взгляде было одно и то же: растерянность, покорность перед лицом неизбежного, все те же вопросы: зачем я это делаю? Чего хочу? Что меня ждет?
Рядом со мною стоял человек, чей багаж потеряли во время перелета, он громко возмущался. Служащие его даже не слушали и просто отсылали от одного к другому. Проблемы и неудачи отторгались этой системой, созданной для того, чтобы действовать с четкостью часового механизма.
Какой-то голос во мне твердил: «Куда ты бежишь после того, как сам же все и испортил, нарушил все свои обещания? Что тебе делать в Израиле?» Но, несмотря на эти слова, я не отступился, я ждал свой рейс. Мне не к кому и незачем было возвращаться. Я пошел в ресторан и заказал чай с тостами. Я ел, пил и думал о самоубийстве. Жить так и дальше было просто невозможно. Мне следовало умереть. Но я не был готов к смерти. В ресторане я провел все остававшееся до отлета время. Когда объявили посадку на израильский самолет, внезапно, в зале ожидания, я увидел того самого мужчину с пейсами и в широкополой шляпе. Он стоял в окружении нескольких ешиботников. Молодые люди были одеты так же, как он, а пейсы их были еще длиннее. Окружающие бросали на них насмешливые взгляды, но этим юношам было безразлично, что думают о них другие.
Я прислушался к их разговору. Они говорили о каком-то раввине и обсуждали некий изучаемый ими предмет. Их идиш был похож на тот, что я слышал в доме старого нью-йоркского рабби.
Как они стали такими? Как эти юноши решились на то, на что я в свои годы, после стольких испытаний и разочарований, все еще решиться не могу? Неужели они неподвластны соблазнам? Они родились праведниками? Я хотел было заговорить с кем-нибудь из них, но все они внимательно слушали мужчину, который, очевидно, был главой иешивы. Он держал в руках какую-то книгу и постоянно заглядывал в нее, словно каждое мгновение, проведенное вдали от написанного там, было ему неприятно. Без сомнения, и Тора, и добрые дела стали для этого человека и для его учеников не просто долгом или суровой обязанностью — их служение было радостным, восторженным. Какая-то общая страсть жила в их глазах: жажда черпать из Торы, желание служить Всемогущему, выполнять все Его заповеди и принимать на себя еще больше ограничений, чтобы не оставлять дьяволу никаких шансов до них добраться.
Да, ограничения служат своеобразным барьером. Если у кого-то есть сокровище и этот кто-то не хочет потерять его, он спрячет его туда, где до него не доберутся грабители. Если он решит, что одного замка недостаточно, он повесит два. Если вдруг заподозрит, что кто-то хочет сделать подкоп под стены его дома, то выставит стражу. Думая об ограничениях, я вспоминаю всех тех, кто интересуется современной литературой, театром, музыкой, модой, женщинами и прочими мирскими страстями. Я где-то читал, что Флобер никогда не использовал дважды одно и то же слово в одной главе. Есть такие богатые и элегантные женщины, которые не надевают два раза одно платье. Да, светский мир тоже полон ограничений (возможно, мне следует извиниться за такое сравнение). Все эти люди тратят тысячи долларов и приносят себя в жертву собственному педантизму. Но стоит им встретить религиозного еврея, как они тут же начинают спрашивать: «Где в Торе сказано, что ты не должен брить бороду? А где говорится, что надо носить лапсердак?» Они забывают или заставляют себя забыть, что начать брить бороду или носить современное платье — значит пойти на компромисс со светским миром и начать подражать гоям. Тора говорит: «По делам земли Египетской не поступайте… и по установлениям их не ходите». Согласно Гемаре, нельзя даже шнурки для ботинок завязывать так, как это делают идолопоклонники. Если вы не соблюдаете эти ограничения, то открываете двери злу. Как язычники непостоянны в своих причудах, так и истинный еврей должен неустанно принимать на себя новые ограничения.
Светские евреи часто спрашивают: «Откуда вы знаете, что Иаков или Моисей носили в субботу шелковый лапсердак?» И я всегда отвечаю на это: «Моисей никогда не подражал язычникам своего времени, и мы должны поступать точно так же». Если вдруг случится, что идолопоклонники начнут носить шелковые лапсердаки, набожные евреи тут же должны переодеться в обычные пиджаки!
Чтобы понять это, мне пришлось потратить очень много времени, но началось все тем утром, в римском аэропорту.
Я поднялся на борт самолета. Мне удалось сесть на новое место, рядом с какой-то пожилой дамой, летевшей в Грецию. Когда мне понадобилось выйти в туалет, я заметил Присциллу. Она была увлечена беседой с тем молодым человеком, что увивался вокруг нее в аэропорту. Она была так занята разговором, что даже не заметила меня. Очевидно, девушка уже забыла о моем существовании и была всецело поглощена новым знакомым. Если бы в салоне было темно и если бы они накрылись одеялами, Присцилла попыталась бы добиться от него того, чего ей не удалось добиться от меня. Такова суть современных женщин. Не все готовы зайти столь далеко, но философия у них одинаковая: бери от жизни все, пока есть возможность.
Не могу сказать, чтобы мое прибытие в Израиль произвело на меня такое же действие, как на рабби Нахмана из Брацлава или еще какого-нибудь пусть и не столь знаменитого гостя. В аэропорту Израиля нет ничего собственно еврейского. Правда, надписи были на иврите, и объявления по радио читали тоже на этом языке, но современный иврит почти полностью утратил свой еврейский аромат, уникальность, презрение к мирским иллюзиям. Современный иврит на сто процентов светский. Это все еще иврит — но это уже не священный язык. Язык для строительства кораблей и самолетов, для производства пушек и снарядов не может быть священным. Современный иврит просто проглотил древний священный язык.
Я стоял в очереди и ждал, пока в мой паспорт поставят нужный штамп. Конечно, этот служащий был еврей, а не гой. В его взгляде явно читался след нашего прошлого, но это был только след. Стремление современных евреев походить на гоев уничтожает самою сущность еврейства, которая заключается именно в сохранении отличий от гоев. Я разговаривал со многими здешними евреями, почти все они говорят одно и то же: рассеяние потерпело неудачу, рассеяние было затянувшейся ошибкой, и тому подобное. Но что сталось бы с евреями, если бы они не испытали жизни в рассеянии? Они растворились бы среди других народов. Мы бы не только были рассеяны физически, но и навсегда уничтожены. Некоторые нацисты происходили из еврейских семей, которые обратились в христианство во времена Мендельсона и позже. От ассимиляции до обращения — один шаг, а обращение от нацизма иногда разделяет всего одно или два поколения.
Я знаю, что вы хотите сказать: «Рассказывайте свою историю, а не проповедуйте». Но я не проповедую. Я не пытаюсь изменить ваши взгляды. Я просто не могу рассказывать все это и не объяснять, что тогда чувствовал.
Я подошел к окошечку, служащий проштамповал мой паспорт, и я пошел дальше. Подъехало такси, и я велел водителю отвезти меня в Тель-Авив. Когда он спросил, в какую именно гостиницу я хочу попасть, я ответил: «В ближайшую». За окном машины проносилась страна Торы и наших предков. Было значительно теплее, чем в Нью-Йорке. День выдался тихий, небо голубое, почти без облаков. Ни страна, ни климат меня не разочаровали, но я все равно еще не почувствовал духа Израиля. Люди походили на тех, которых я пятнадцать часов назад оставил в Америке. Они одевались, как гои, и выглядели, как гои. На их лицах были те же желания, та же алчность, то же нетерпение. Другое такси попыталось обогнать нас, и просто чудо, что машины не столкнулись. Мой водитель прокричал какое-то ругательство на иврите и даже погрозил в окно кулаком. Мы въехали в Тель-Авив. Миновали кинотеатр, украшенный афишами, на которых были изображены полногрудые женщины и мужчины со зверскими лицами и пистолетами в руках. Здесь показывали ту же дрянь, что и в Нью-Йорке. Когда за окном промелькнул книжный магазин, в витрине мне удалось разглядеть обложки несколько низкопробных романов, которые я уже видел в Америке. Такси подъехало к гостинице «Дан». С тем же успехом я мог поселиться и где-нибудь на Бродвее.
Я никого не порицал тогда, не порицаю и сейчас. В наши дни нельзя создать царство праведников. Мы не смогли создать его и в дни Иисуса, сына Навина.
Те, кто говорят, что Исход потерпел неудачу, не понимают, что, с точки зрения Моисея, сама Страна Израиля также была неудачей. С самого начала люди стали смешиваться с идолопоклонниками. Сразу же возникли идолы, появились продажные женщины. Почти обо всех царях Писание говорит: «И делали неугодное в очах Господних». Евреи до такой степени забыли Тору во времена Иосии, что ее пришлось открывать заново.
Уже поздно, и мне пора заканчивать, но перед тем, как проститься, позвольте сказать вам еще одну вещь. Евреи достигли высочайших ступеней духовного развития именно во времена рассеяния. Писание стало грандиозным началом, мощнейшим фундаментом, но евреи Писания, простите меня за эти слова, были еще наполовину язычниками. Мишна явила огромный шаг вперед, Гемара пошла еще дальше. Но потребовалось еще много поколений, чтобы появились Исаак Лурия, Баал-Шем-Тов, Виленский Гаон, Кожницкий Проповедник, Люблинский Провидец и, в более позднее время, Хофец Хаим. Те, кто предлагает евреям вернуться назад, к Писанию, хотят уничтожить само здание иудаизма и жить на одном фундаменте. Глава иешивы и его ученики, которых я встретил в римском аэропорту, — вот величайшее достижение еврейской истории. Они ограждают себя от всего мирского так, как этого до них никто не делал. Они такие, как требовал Моисей, святые люди, охраняемые соблюдением запретов, народ, который «живет отдельно, и между народами не числится». Конечно, они составляют лишь незначительное меньшинство, но великие идеи никогда не охватывают сразу многих.
Иосиф Шапиро посмотрел на часы:
— Ох, уже так поздно! Мне пора идти. Если хотите услышать мою историю до конца, мы могли бы встретиться завтра.
— Конечно. Буду ждать вас завтра.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
10
Мне казалось, что те, кого я оставил в Нью-Йорке, обязательно бросятся на мои поиски. У меня не было фальшивого паспорта, и полиция легко могла выйти на мой след. Но очевидно, Циля смирилась с мыслью, что между нами все кончено. Я боялся, что она потребует огромные алименты и кто знает, что еще. Таковы уж законы гоев, да и еврейские ничуть не лучше — они всегда защищают преступников. Судьи, бандиты и адвокаты — винтики одного механизма. Они легко могут меняться местами. Они читают одни и те же книги, ходят в одни и те же ночные клубы, даже встречаются с одними и теми же женщинами. Только немногие еще верят в силу закона или высшую справедливость. Впрочем, пока они до меня еще не добрались, и я мог спокойно гулять по Тель-Авиву.
В первые дни я не искал знакомств ни с кем. Мне хотелось побыть одному и, возможно впервые, основательно задуматься о своей прошлой жизни. Я прогуливался по улице Бен Иехуды, заходил в кафе на бульваре Дизенгофа, рассматривал других зевак, пьющих кофе, читающих газеты, курящих или просто изучающих прохожих. Стоило мимо пройти привлекательной женщине, как глаза мужчин тут же загорались, словно они не знали близости с женщиной Бог весть сколько. Их голодные взгляды будто вопрошали: «Есть ли тут шанс? Не о ней ли я мечтал? Случай свел нас, и кто знает, уж не начало ли это той великой любви, о которой так часто пишут в книгах?..» Все внезапные надежды рушились, как только женщина доходила до угла и поворачивала на улицу Фришмана или улицу Гордона, а потенциальный Дон-Жуан возвращался к своей недочитанной газете или недокуренной сигарете. Женщины, сидевшие за столиками, тоже наблюдали за проходившими мимо дамами и обменивались ехидными замечаниями: у этой толстые ноги, у той слишком широкие бедра, третья безвкусно одета… Витрины магазинов пестрели платьями, жакетами, нижним бельем самых модных фасонов. Комитет по языку уже нашел в иврите названия для всех этих тряпок. Уж в чем, в чем, а в словах у современного человека не бывает недостатка. Я сидел рядом с книжным магазином и время от времени поглядывал на его витрины. Низкопробные романы со всего мира уже были переведены на святой язык. Киоски пестрели плакатами, рекламирующими дешевые пьесы. Если бы не подписи на иврите, это мог бы быть Париж, Мадрид, Лиссабон или Рим. Да, Просвещение достигло своих целей. Мы стали похожи на другие народы. Мы питаем свои души той же грязью, что и они. Растим дочерей для разврата. Публикуем журналы, в которых на иврите расписываем подробности романов голливудских шлюх и сводников.
В Тель-Авиве было одно кафе, где собирались разные писатели и актеры. Я как-то случайно забрел туда. В молодости статьи о литературе и писателях меня занимали. Я читал книги, восхищался умением авторов словами выражать мысли и чувства своих героев, потаенные движения их сердец. Но когда я увидел их в этом кафе, на их лицах читалось то же, что и на лицах других: алчность, тщеславие, мелочность. Они так же возбуждались при виде проходящих женщин. Их жены с ярко накрашенными губами тянули через трубочки лимонад или оранжад и отпускали все те же пошлые реплики. Не нужно отличаться особенным умом, чтобы понять: интеллектуалки строят те же иллюзии, мечтают о той же неосуществимой любви, недостижимом счастье, что и самые обычные женщины. В перерывах между фантазиями они почитывают трогательные истории о преследуемой миллионерами красавице или об актрисе, которая за одно лишь выступление в Лас-Вегасе получила десять тысяч долларов. Время от времени они поглядывали на себя в зеркало. Не виден ли возраст? Нет ли следа морщин? Помог ли на самом деле крем Хелены Рубинштейн остановить разрушительное воздействие времени?
После нескольких дней затворничества я начал встречаться со своими варшавскими знакомыми — друзьями, приятелями, теми, с кем познакомился в Вильно, Москве и Ташкенте. Мне не нужно было их искать: я встретился с кем-то одним и он сообщил о моем появлении прочим. Некоторых я увидел прямо там, в кафе на бульваре Дизенгофа. Начались объятия, трогательные слова, расспросы и воспоминания. Многие из моих знакомых погибли при Гитлере, или умерли с голоду, или сгинули в сталинских лагерях. Другие были убиты на войне — в Красной Армии или в польском Сопротивлении. Третьих в могилу свели инфаркт или рак. Почти все уцелевшие оказались здесь. Со всех сторон неслось: убит, умер, погиб, расстрелян. Весь Тель-Авив был одним огромным лагерем уцелевших. Вдовцы находили себе здесь новых жен, вдовы — новых мужей. Те из женщин, кто был еще молод, снова обзаводились детьми.
Приглашения сыпались на меня со всех сторон. Я постоянно покупал цветы и конфеты и вечно куда-то ехал на такси. Некоторые говорили, что уже похоронили меня. Я словно бы восстал из мертвых. По моей одежде и тем подаркам, что я приносил, они, очевидно, догадались, что в Нью-Йорке я явно не бедствовал. Некоторые начали намекать или даже открыто просить, чтобы я помог им перебраться в Америку. Конечно, Израиль — это наша страна и наша надежда, но переварить святой язык и иудаизм в таких количествах не так-то просто. К тому же, шептали мне на ухо, здесь ничего невозможно добиться, если у тебя нет могущественных покровителей наверху. Нужно быть членом правильной партии или иметь хорошие связи. Здесь, как и везде, прав был сильный. А как иначе? Евреи ведь тоже люди. Как-то я заговорил с одной женщиной о вещах достаточно щекотливых. Она сказала, что здешний климат охлаждает мужскую страстность и прямо противоположным образом действует на женщин, которые становятся очень пылкими.
— И что же вы с этим делаете? — спросил я.
— Ну, справляемся кое-как, — ответила она и хитро улыбнулась.
Почему бы и нет? Я был туристом, американцем, и никак не мог повредить ее репутации. Жил в хорошем отеле, скупостью не отличался, в деньгах не нуждался. Она собрала обо мне всю информацию, какую только могла. Знала все о моих знакомых, их делах, их семейной жизни, даже об их тайных желаниях и часто повторяла, что здесь, на Святой Земле, люди ведут себя ничуть не более осмотрительно, чем в Париже или Нью-Йорке. Я понимал, что не все из услышанного мною правда, но многое подтверждали и другие. Нет, буквы иврита и еврейские лидеры все же не стали надежным барьером от зла и беззакония.
В перерывах между встречами и приглашениями я ходил в синагоги. Да, многие евреи в Тель-Авиве молились. Многие жили честно и набожно. В школах преподавали Писание, еврейскую историю, Мишну и даже кое-что из Гемары. Многие соблюдали кошер и субботу. Но чем больше я встречался с такими евреями, чем лучше узнавал их, тем яснее понимал, что им не хватает сил защитить своих детей от влияния мирского, правящего страной. Их образ жизни чаще всего не был порождением пламенной веры, он вырастал из повседневности, а иногда и из необходимости быть членом какой-либо партии. Это был холодный, вялый иудаизм. Я заговаривал с людьми в синагогах. Никто из них не обладал верой, достаточной для того, чтобы побороть искушение сил зла. Молитвы заканчивались, и сторож закрывал двери синагоги. Я не нашел тут ни одного дома учения, где бы мальчики сидели над Талмудом с тем же усердием, что в Варшаве или Люблине. Сыновья в крохотных кипах на затылках, отцы с аккуратно подстриженными бородами или чисто выбритыми подбородками, матери без париков, все они были славными людьми, но отнюдь не борцами с дьяволом. Они принадлежали к религиозной партии, их сыновья и дочери служили в армии. Они читали те же книги и смотрели те же фильмы, что и неверующие. День ото дня они все больше и больше отходили от веры и погружались в суету светской жизни. Многие из них молились только в субботу и по праздникам. Я уверен: сменится несколько поколений, и они утратят религиозную традицию.
Впрочем, я ведь рассказываю вам не о них, а о себе. Я бежал от Цили и Лизы, но здесь меня опять окружили бесчисленные цили и лизы. Я понимал, что из-за всех эти встреч с женщинами моя новая жизнь ничем не будет отличаться от старой. У меня уже была возможность завести пару интрижек с замужними дамами. Вера, что помогла мне пройти через тяжелейший жизненный кризис, вновь начала остывать и гаснуть. Я по-прежнему молился в синагоге, но слова молитвы больше не утешали меня, не давали успокоения. Я повторял Восемнадцать благословений, и каждое из них звучало, как ложь. Не было ни малейших доказательств того, что Бог действительно воскрешает мертвых, исцеляет больных, наказывает грешников и вознаграждает праведников. Шесть миллионов евреев было замучено, уничтожено, сожжено. Десятки миллионов врагов окружали Израиль, готовясь завершить дело, начатое Гитлером. Бывшие нацисты в Германии тянули пиво и в открытую обсуждали необходимость новых убийств. В России и Америке росло поколение, забывшее о вере и исповедующее атеизм. Множество евреев во всем мире поклонялось левым кумирам и верило в ложные учения. Они становились в большей степени язычниками, чем сами язычники, уходили от религии дальше гоев. Даже если и на самом деле существовал Бог, который мог бы прислать Мессию, то к кому его было присылать?..
С такими мыслями я молился. С ними ложился спать и с ними же просыпался.
11
Я уже было собрался завести себе в Тель-Авиве любовницу, а то и двух, но какая-то сила удерживала меня от этого шага, напоминая о причинах, по которым я здесь оказался, и о том образе жизни, который вел в Америке. Огонь иудаизма или голос с горы Хорев не позволяли мне поддаться искушениям материального мира. Этот голос однажды спросил у меня: «Для того ли ты выбрался из скверны, чтобы снова в нее погрузиться? Если ты, Иосиф Шапиро, — говорил он, — наследник ученых и праведников, готов нарушить Десять заповедей, чего же тогда ожидать от сынов и дочерей многих поколений злодеев и идолопоклонников?» Мужчины, чьих жен я мог бы соблазнить, были жертвами Гитлера. Они потеряли свои семьи в Польше и приехали в Израиль с надеждой начать новую жизнь. Действительно ли я хотел украсть их жен, купить их любовь деньгами и подношениями? Я просто не смог бы жить в мире с собою, если бы совершил такое преступление. Я бы сам превратился в нациста!
Я много слышал о кибуцах и как-то раз решил поехать в один из них, к своему дальнему родственнику. Это был левацкий кибуц. Родственнику я привез разные подарки, так что он был рад видеть меня и повел на экскурсию: мы увидели школу, коровник, сараи, пруд, где разводили карпов. Там даже было красивое здание, называвшееся Домом культуры. Я планировал уехать только на следующее утро, и мой хозяин, живший там уже достаточно долго, уступил мне на ночь свою комнату. Тем вечером в кибуце проходили выборы, и все члены организации должны были собраться вместе после обеда. Увидев, что свет горит только в Доме культуры, я зашел внутрь. Оказалось, что там есть библиотека с израильскими и иностранными газетами. Несмотря на свет, в помещении было пусто, на стенах я увидел портреты Ленина и Сталина. Кто такой Сталин, сколько евреев он уничтожил и с какой враждебностью относился к Государству Израиль, было прекрасно известно, тем не менее его портрет висел на стене. Преданные левым идеям евреи до сих пор не могли расстаться с этим творцом «прогресса», пророком «светлого будущего» и «счастливой жизни». Мне хотелось сорвать со стены картину и разодрать ее в мелкие клочья. Среди газет, лежащих на столе, попадались не только советские, тут были коммунистические издания чуть ли не со всего мира и на всех языках, включая идиш.
Когда я сидел там и просматривал газеты, в помещение вошла девушка, очевидно одна из членов кибуца. На меня она посмотрела с нескрываемым удивлением. Вступать в беседу не хотелось, и я предпочел углубиться в статью, доказывавшую, что единственным спасением мира по-прежнему является коммунизм. Девушка тоже начала листать какой-то социалистический журнал на иврите. Очевидно, она кого-то ждала, потому что время от времени поглядывала на дверь.
Действительно, вскоре в библиотеку вошел молодой парень. У него были курчавые темные волосы и блестящие карие глаза. Решив, что я американец и не понимаю иврита, парочка начала говорить. Сначала они обсуждать меня. Парень спросил, кто я такой, а девушка ответила: «Черт его знает, какой-то американский турист».
После этого они перешли на вопросы более личные, и хотя из-за их сефардского произношения я понимал далеко не все, но общий смысл разговора был вполне ясен. Девушка была замужем, ее муж уехал в Иерусалим, и она не знала, когда точно он вернется: то ли сегодня вечером, то ли завтра утром. Парень просил, чтобы эту ночь она провела с ним, но девушка отказывалась, говоря, что это слишком опасно. Да, и здесь, в этом Доме культуры, в этом кибуце, происходило все то же, что и в других подобных домах, и у евреев, и у гоев. Портрет Сталина на стене и разговор этой парочки раз и навсегда доказали мне, что светские евреи Израиля ничем не отличаются от светских евреев любой другой страны. Они впитали в себя всю ложь и все заблуждения, которые только есть в мире. То, что мы называем культурой, на самом деле ее отсутствие, закон джунглей. Конечно, в других кибуцах уже сняли портреты Сталина или, по крайней мере, перевесили их куда-нибудь подальше, но и там все надежды связывались с банальной социологией, фальшивой психологией, бессмысленной поэзией, учениями Маркса и Фрейда, теориями тех или иных профессоров. Они просто свергали старых кумиров и на их место ставили новых. Возлагали свои надежды на власть, чьи убеждения, образ действия и представления о законе менялись с малейшим дуновением ветра. Сегодня они были лучшими друзьями, а завтра — злейшими врагами. Сегодня хотели убить друг друга, а завтра устраивали вместе банкеты, поднимали тосты и обменивались орденами.
Хотя еврейские политики многому и в дипломатии, и в диалектике научились у гоев, это ничуть не способствовало уменьшению вековой ненависти к евреям. Как бы сильно евреи ни старались подражать гоям, их по-прежнему презирали, и они оставались в полном одиночестве. Им никак не могли простить верности наследию предков и «высокомерного» нежелания окончательно раствориться в среде тех, кто сжигал их священные книги и убивал их детей. В ненависти к евреям Сталин не отличался от Гитлера.
Ту ночь я провел в кибуце. Зайдя в главное здание, я услышал, как пожилой кибуцник порицает слушателей за равнодушие к социалистическим идеалам и уклон в сторону национализма. Он говорил с искренним воодушевлением, он проповедовал, он стучал кулаком по столу. Раввинов он называл реакционными клерикалами, черным вороньем и обвинял их в желании повернуть вспять реку истории. Я хотел спросить у него: «Откуда ты знаешь, в какую сторону течет эта река истории? И с чего ты взял, что воды ее снова не наполнятся кровью и телами убитых?» Но вместо этого пошел спать.
Той ночью я спал плохо. Мне снились евреи, рывшие себе могилы, и нацисты, избивавшие своих жертв и кричавшие: «Быстрее! Глубже!» Я видел, как они вели мужчин и женщин к печам. Видел пьяных немцев, мучающих евреев. Их фантазиям позавидовал бы сам маркиз де Сад, этот «выдающийся писатель», как называют его некоторые современные интеллектуалы. Все они неотъемлемые части культуры, отказавшейся от религии, все: Гитлер и Сталин, Наполеон и Бисмарк, все многочисленные шлюхи, сводники и порнографы, все, кто кидал бомбы, совершал набеги, отправлял целые народы в Сибирь или газовые камеры. Даже Аль Капоне и Джек-потрошитель были частями этой культуры. Нет ни одного негодяя, о котором университетские профессора не написали бы книг, стараясь понять его психологические мотивы и оправдать преступления…
Той ночью я окончательно решил не только порвать с этой культурой, которая порождает и узаконивает зло и фальшь, но и повернуться к ее противоположности. Я должен был стать так же далек от нее, как далеки от нее были наши деды. Я должен был стать таким же, как они: евреем Талмуда, евреем Гемары, Мидраша, Раши, Зогара, «Начала мудрости», «Двух скрижалей Завета». Только такой еврей не причастен ко злу. Малейший компромисс с языческой культурой нашего времени неизбежно затягивает тебя в мир зла, мир убийств, идолопоклонства и разврата.
Должен признаться, что, когда я принял это решение, вера моя не была еще такой уж сильной. У меня оставались сомнения и, можно сказать так, ереси. Вы можете предположить, что бежал я от зла не столько из-за любви к Мордехаю, сколько из-за ненависти к Аману. Меня наполняло глубокое отвращение к тому миру и той цивилизации, частью которых я был. Я бежал, как зверь бежит от лесного пожара, как человек — от своего злейшего врага.
Следующим же утром я сел на первый автобус в Иерусалим.
12
Я бродил по узким улочкам Иерусалима. Это было задолго до Шестидневной войны. Старый город все еще находился в руках арабов, и казалось, что нам никогда его не вернуть. Но Меа-Шеарим был уже нашим, и туда-то я и направлялся. Пока я шел, дьявол вновь принялся искушать меня: «Иосиф Шапиро, куда ты идешь? Эти евреи верят каждому слову Шулхан-Аруха, в то время как твоя голова забита тем, что писали материалисты и критики Библии. Скорее уже ты станешь турком, чем набожным евреем». Но я не обращал на эти слова никакого внимания. На пути мне попался молитвенный дом, где собирались цанзские хасиды.
Прежде чем продолжить, мне следует сказать вам, что за полторы недели, проведенные в Иерусалиме, я успел почувствовать определенный снобизм по отношению к себе и себе подобным. Те, кто родился в Израиле, так называемые сабры, считали нас — евреев диаспоры — чужаками, особенно если мы говорили на иврите с чуждым их уху произношением и не знали всех этих новомодных словечек. Левые презирали правых, хотя сами не составляли единой группы. Члены партии Мапам называли членов партии Мапай реакционерами. И те и другие обвиняли сионистов в буржуазных замашках. Для коммунистов все вокруг были фашистами, которых необходимо уничтожить. Я часто слышал обвинения леваков в адрес Америки и тамошних евреев. Их называли горсткой толстосумов, поклоняющихся золотому тельцу. Когда я напоминал, что именно американские евреи поддерживают все еврейские организации в Израиле и что без их помощи Государства Израиль вообще не существовало бы, мне отвечали, что все это делается для того, чтобы избежать уплаты налогов, а сам Израиль никого не интересует.
Здесь критиковали женщин из Хадассы, американских раввинов, вообще все на свете. Я часто думал: мы маленький народ, половину которого уже уничтожили. Почему же оставшиеся живут в вечных раздорах? Мне пришло в голову, что, не будь у израильтян необходимости обращаться к американским евреям за поддержкой, они бы плюнули им в лицо.
Я зашел в дом учения, уверенный, что здесь почувствую себя еще более неуютно, чем где бы то ни было. Одежда на мне была современной, ни бороды, ни пейсов я не носил. Набожным евреям я должен был казаться насмешкой над законами иудаизма. Но на самом деле случилось нечто прямо противоположное. Я вошел туда и словно бы перенесся на много лет назад, в годы моей юности. Меня приветствовали евреи, похожие на моего деда, — с седыми бородами, в кипах и традиционных одеждах с длинными кистями. Их взгляды, казалось, говорили: «Да, ты оставил нас, но ты все еще наш брат!» В них было что-то, напрочь отсутствующее у современных евреев: любовь к наследию предков, любовь к собрату-еврею, даже если он был грешником. Эта любовь не была притворной, она была настоящей. Такую любовь отличить от любви ложной совсем не трудно.
Мужчины за столиками изучали Гемару. Одни молчали, другие что-то тихо бормотали. Некоторые раскачивались. Здесь были даже дети лет двенадцати-тринадцати. Их лица лучились странным благородством. Тора не нужна была им для успешной карьеры, они не сдавали по ней экзамены. Они учили ее потому, что таково предназначение евреев. За это не причитались никакие награды, больше того — они вполне могли остаться бедняками на всю жизнь.
Я взял трактат «Бейца» и начал читать. Я знал, как мало в этом проку: узнавать о том, что следует делать с яйцом, снесенным курицей в праздник. Можно его есть или нет? Школа Шамая говорит «можно», школа Гилеля — «нельзя». Нет нужды говорить, что враги Талмуда используют этот трактат как пример того, сколь мало связан Талмуд с реальной жизнью, как мало в нем логики, как он отстал от времени и социальных проблем, и так далее и тому подобное. «Но, — спрашивал я себя, — почему я чувствую себя как дома здесь, а не среди современных евреев?»
Когда цанзские хасиды увидели, что я сел за книгу, они подошли ко мне, поприветствовали и спросили, откуда я. Я сказал, что из Америки, и мужчины начали расспрашивать о жизни американских евреев, причем говорили о них, как о братьях, а не как о «толстосумах», «реакционерах» и «почитателях золотого тельца».
Современных евреев интересовали только мои убеждения, эти же побеспокоились и о теле. Они спросили, где я остановился, а когда узнали, что в гостинице, порекомендовали несколько мест, где можно было бы переночевать. Я не мог поверить своим ушам: несколько мужчин пригласили меня к себе на обед. Я мог остаться у них и на ночь, говорили они. Они не считали неуместным спрашивать меня и о более личных вещах: чем я зарабатываю на жизнь, есть ли у меня жена, дети, как долго планирую пробыть в Израиле? Они говорили со мной как близкие родственники. Спросившему, состою ли я в браке, я в ответ солгал, сказав, что недавно развелся, и он тут же предложил мне найти хорошую невесту. Естественно, я решил, что за это он получил бы определенный процент от брачного маклера. Подошел юноша и попросил о пожертвовании, но все это без высокомерия, очень вежливо. Как только я взял в руки Гемару, я стал одним из них.
В тот день я выучил несколько страниц. Вечером мы вместе молились. В перерыве между молитвами вокруг меня собралось несколько юношей и стариков. В Америке молодежь смотрит на старших сверху вниз, как на брошенных собак. Там нет большего оскорбления, чем сказать о ком-то, что он стар. Когда к родителям приходят гости, дети уходят из дома. Они просто игнорируют родителей. Впрочем, должен признаться, что видел то же самое и у некоторых современных евреев в Израиле. Быть молодым для них — величайшее счастье.
У цанзских хасидов не было ничего подобного. Наоборот, юноши относились к старикам с неподдельным уважением. Современный человек — это тот, кто верит только в материальный мир. Человек пожилой уже использовал основную долю мирских благ, ему суждено меньше съесть, меньше испытать плотских радостей в оставшейся жизни. А у юноши, наоборот, впереди еще много всего, поэтому его следует уважать и превозносить. К тому же молодость тесно связана с самыми модными увлечениями, последними новостями, всем тем, что для современного человека является объектом поклонения.
Тот вечер я провел в доме главы иешивы, который пригласил меня на обед. Я опасался, что его жена, увидев незваного гостя, устроит скандал. Но очевидно, она уже привыкла к этому. Прежде чем приняться за еду, я надел кипу и омыл руки. Ванны в квартире не было, и полотенца казались не очень свежими. Лицо хозяйки дома испещряли морщины, но оказалось, что ей немногим больше пятидесяти. В Америке, да и в Израиле я видел женщин примерно ее возраста, которые, получая алименты от бывших мужей, жили в роскоши, постоянно меняли любовников и полностью погрязли в разврате. Эта же набожная женщина свой возраст рассматривала как условие великого счастья быть матерью взрослых детей, тещей, бабушкой. Глаза ее лучились добротой настоящих еврейских матерей, ничего общего не имеющих с теми карикатурными образами, которые высмеиваются в книгах и пьесах и на которых психоаналитики и еврейские писатели в Америке возлагают всю ответственность за нервные расстройства их детей.
Может, это и покажется вам глупостью, но я чувствовал, что во мне просыпается любовь к этой женщине. Я начал понимать, что даже с романтической и сексуальной точки зрения подобная женщина гораздо интереснее тех старых ведьм, что одеваются как шестнадцатилетние девчонки, пьют как сапожники, ругаются как извозчики и чья лживая любовь на самом деле — едва прикрытая ненависть. Неудивительно, что столько современных мужчин становится импотентами и гомосексуалистами. На самом деле жениться на подобной женщине и значит проявить нестандартные наклонности.
Хозяин, реб Хаим, спросил о причинах, которые привели меня в Израиль, и я все ему рассказал: о том, что не могу больше вести прежний образ жизни, что хочу стать евреем — настоящим евреем, а не националистом, или социалистом, или как там они еще себя называют.
Реб Хаим сказал:
— Давно я уже не слышал таких слов. Чем вы предполагаете заняться?
— Я скопил немного денег. Буду молиться, учиться, буду евреем.
— Почему вы зашли именно в наш дом учения?
— Просто проходил мимо. Это случайное совпадение.
— Совпадение? И-и-и…
Вновь я услышал то же выражение, что и в доме старого ребе в Нью-Йорке. Эти евреи не верили в совпадения.
— Совпадение — это случайность, — продолжал реб Хаим после паузы. — Так называемые просвещенные говорят, что весь мир — случайность, но верующий еврей знает, что все предопределено свыше. Совпадение — некошерное слово…
13
Как вы уже знаете, я отрицательно отношусь ко всей светской литературе, но слова Шекспира о том, что весь мир — театр, истинны, они связаны с верой в Провидение. В жизни, как и в театре, главный герой появляется уже в самой первой сцене. Вы приезжаете в незнакомую страну, в чужой город и встречаете там людей, которые сыграют огромную роль в вашей личной драме. Так случилось и со мной.
За обедом я спросил у хозяина, есть ли у него дети. Он вздохнул и ответил, что из тех детей, которыми их с женою наградил Всемогущий, в живых осталась лишь одна дочь, но и она не приносит ему успокоения. Оказалось, что один его сын в 1948 году пошел добровольцем на войну и был убит арабами. Двое других умерли в детстве. Дочь же вышла замуж за ешиботника, но он умер через полгода после свадьбы. Вот уже третий год, как она вдова. Я спросил, чем она занимается, и реб Хаим ответил, что она портниха и живет неподалеку.
В тот же самый момент дверь открылась и в квартиру вошла молодая женщина в платке. Казалось, ей не больше восемнадцати, хотя позже я узнал, что ей минуло двадцать четыре. Одного взгляда, брошенного на нее, было достаточно, чтобы многое понять. Во-первых, она была на редкость красива, такую красоту не получишь никакими ухищрениями, ее может дать только Бог. Во-вторых, она буквально излучала целомудрие. Фраза о том, что глаза — зеркало души, не просто фигура речи. По взгляду можно понять, высокомерен ли человек или скромен, честен или лжив, горд или покорен, богобоязнен или несдержан в желаниях. Ее взгляд выражал все добродетели, отмеченные в «Пути праведника». Увидев меня, незнакомца, девушка остановилась на пороге. Казалось, я испугал ее.
В-третьих, стоило мне только ее увидеть, как я сразу же понял: она та, кто предназначена мне Богом и я не успокоюсь до тех пор, пока она не станет моей женою. Реб Хаим не ошибся: совпадение — некошерное слово. Сам ход событий привел меня сюда, в этот город, в этот дом. Никогда прежде не чувствовал я так явственно руку Провидения.
Молодая женщина, очевидно, тоже почувствовала нечто подобное. Она выглядела еще более смущенной и испуганной.
Я услышал, как ее мать говорит: «Сореле, почему ты не поздороваешься с нашим гостем? Он приехал из Америки».
— Добрый вечер, — сказала Сара, и голос ее напоминал голос послушного ребенка.
— Добрый вечер, — ответил я.
— Сореле, ты уже ужинала? — спросила ее мать.
— Нет, я поем попозже.
— Поешь с нами.
Я надеялся, что она сядет вместе с нами, но женщины в этом доме не ели за одним столом с мужчинами, тем более незнакомыми. За столом сидели лишь я и реб Хаим, женщины ушли на кухню. Судьба вырвала меня из объятий Цили, Лизы и Присциллы и вернула к истинному еврейству, вспоившему нас источнику; судьба вновь поставила меня на путь Торы и чистых помыслов. За прошедшие годы я повидал столько распутниц и обманщиц, что просто забыл о существовании других женщин. Циля и Лиза часто обвиняли меня в отсутствии уважения к женщинам. Но какое уважение я мог испытывать к ним? Циля говорила, что Лоуренс, автор «Любовника леди Чаттерлей», — величайший писатель всех времен. У Лизы я нередко находил порнографические романы. Они обе любили фильмы про гангстеров. Когда бандиты убивали друг друга, они смеялись. Я же не мог смотреть эти сцены без дрожи. Ненависть и кровопролитие всегда вызывали у меня ужас. Циля и Лиза любили омаров. Я знал, что их готовят, живьем окуная в кипяток. Но этих деликатных и утонченных женщин совсем не волновало, что для удовлетворения их прихоти живое существо подвергнут страшной муке. Им нравились пьесы со множеством страшных убийств и прочих кошмаров. И все это называлось искусством, единственной темой которого были насилие и блуд.
Только теперь, рассказывая об этом вам, я понимаю, сколько страданий причинило мне это искусство. Для того чтобы им наслаждаться, нужно иметь сердце убийцы. Оно наполнено садизмом. Я часто видел, как Циля и Лиза смеются над сценами, которые у меня вызывали слезы. Главный герой мучился, а для них это было развлечением. Есть такое выражение — юмор висельника, — оно очень точно подходит для определения юмора современного человека. Он смеется над бедами других. Когда здоровая и молодая жена обманывает старого и больного мужа, это на редкость смешно. Все герои светской литературы — преступники или обманщики. Анна Каренина, мадам Бовари, Раскольников, Тарас Бульба — чем не примеры? «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гете, не говоря уж о дешевых поделках, рассчитанных на низменные вкусы неотесанных невежд обоих полов, — все они наполнены жестокостью и нетерпимостью. Все светское искусство есть не что иное, как зло и вырождение. Поколение за поколением писатели прославляют убийства и разврат, давая этому самые разные имена — романтизм, реализм, натурализм, «новая волна» и так далее.
Только недавно я понял, почему набожные евреи никогда не верили в необходимость подробного изучения всего Писания. Ужасные истории, там рассказанные, не соответствуют духу евреев диаспоры. Рабби Исаак Лурия и Баал-Шем-Тов для них ближе и понятнее, чем Иисус Навин или царь Давид. Их надо оправдывать, в то время как Исаак Лурия и Баал Шем-Тов не нуждаются ни в какой защите. По этим же причинам и «просвещенные» восхваляют только ту часть Писания, которую сами же называют «мирской». Чтение псалмов для них — пустая трата времени, а вот истории о войнах — то, что нужно. Наши отцы и деды связывали Песнь песней со Всемогущим, с Божественным присутствием, с Израилем, но для «просвещенных» она — банальная любовная баллада. Я не против Писания, Боже упаси. Оно священно. Но еврейство развивается, как и все в нашем мире. Становится более зрелым. Зеленое яблоко не имеет того сладкого вкуса, какой дается зрелостью. Подвал не так красив, как гостиная.
Я совершенно точно знал, как говорить с Цилей, Лизой или Присциллой, но вот как разговаривать с такой женщиной, как Сара? Об этом я успел забыть. Тем вечером я взглянул на нее только однажды, хотя квартирка и была маленькой. После ужина она ушла. Желая доброй ночи мне и отцу, она отвернула лицо.
Реб Хаим предложил мне заночевать у них, но я отказался. Здесь не было для меня комнаты. К тому же я с недоверием относился к матрасам, набитым перьями, и боялся, что в них могут водиться блохи или клопы. Я попрощался с хозяином и его женой, Бейлой-Брохой, и отправился в гостиницу. На следующее утро я пообещал вновь прийти в дом учения цанзских хасидов.
Реб Хаим посмотрел на меня с сомнением и сказал:
— Ради Бога, не забудьте.
— Ни за что, реб Хаим, — ответил я. — Я не смогу с вами расстаться.
Это был первый день, который я провел как настоящий еврей. Дьявол молчал, но я знал, что такое не продлится долго. И действительно, вскоре он снова заговорил: «Все это имело бы смысл, если бы ты верил по-настоящему, но ведь на самом-то деле ты просто обычный еретик, поддавшийся минутной ностальгии. Ты уже готов вернуться к своей прежней жизни, а тут ты сделаешь несчастной дочку набожного еврея. Ты не сможешь долго оставаться с нею. Она надоест тебе через месяц, в лучшем случае — через три!»
«Я женюсь на ней и останусь с нею до конца жизни, — ответил я лукавому. — Я стану евреем, хочешь ты этого или нет. Тот, кто презирает зло, должен верить в добро».
«Я повидал множество раскаявшихся, — не унимался сатана, — и уверяю тебя, все это не более чем минутная прихоть. Вы все возвращаетесь туда, откуда бежали».
«Если я не смогу стать евреем, то просто покончу с собой!» — вскричал мой внутренний голос.
«Вот слова настоящего современного человека!» — прошептал мне на ухо демон.
Я лег в постель, но заснуть не смог. Я чувствовал, что люблю Сару.
Сегодня она моя жена и мать моих детей.
14
Той ночью я решил не говорить о своих чувствах ни Саре, ни ее отцу до тех пор, пока не разведусь с Цилей. Но вдруг Циля не согласится? Я боялся писать ей. Если она узнает, где я, то сможет доставить множество неприятностей. Такова современная жизнь: несправедливость всегда сильна. Хуцпа, то есть наглость, — суть всех современных людей, в том числе и евреев. Мы так прилежно учимся у гоев, что уже превзошли их. Конечно, элементы хуцпы есть и в характере набожных евреев. Они так же упрямы и не склонны к подчинению. Что ж, такой вид хуцпы неизбежен. Но не будем сейчас об этом.
После того как я решился написать Циле, меня охватили уныние и отчаяние. Я хотел порвать с прошлым, забыть о нем и вот теперь сам же начинал все заново. Я плохо спал, мне снились кошмары, и просыпался я с чувством, что, как принято говорить, игра не стоит свеч. Какую дорогу ни выбери, на всех есть препятствия. Быть может, действительно лучше покончить с собой? Я старался не думать об этом, но мысли о самоубийстве преследовали меня с детства, еще с тех пор, когда я ходил в хедер. Уже тогдая чувствовал, что все мои начинания обречены на неудачу. От родителей я слышал, что самоубийство — страшный грех. Но сам с этим не соглашался. Почему человек не может по собственной воле расстаться со своим телом? Когда я читал историю Ханы, которая после смерти семерых своих детей покончила с собой и все же попала на небеса, это меня несколько успокаивало. Если самоубийца мог попасть в рай, значит, не такой уж страшный проступок он совершил. Сегодня я знаю, что это грех. Самоубийцы швыряют Богу его величайший дар: свободу выбора. Но ведь бывают и такие обстоятельства, в которых человек не может больше выбирать свободно. Даже страданию есть предел.
Да, я впал в меланхолию. Но, несмотря на это, умылся и пошел к цанзским хасидам. По дороге я зашел в магазин, где продавались религиозные принадлежности: талесы, филактерии. Продавец удивленно посмотрел на меня и спросил:
— Вы раскаявшийся?
На что я ответил:
— Очень хотел бы им стать.
В доме учения меня встретил реб Хаим. Увидев мой талес и филактерии, он сказал:
— Что ж, вы возвращаетесь домой.
Молился я с тяжелым чувством. Даже когда я завязывал ремешки филактерий и целовал пальцы, дьявол не успокаивался: «Ты разыгрываешь фарс. Тебе прекрасно известно, что филактерии — это просто лоскутки кожи, содранной с коровы. А то, что ты повторяешь — перворожденный осел должен быть выкуплен или обезглавлен, — просто последствия финикийского язычества. Корова не заслужила, чтобы с нее сдирали шкуру, а баран — чтобы его приносили в жертву, и перворожденный осел не заслужил, чтобы ему отсекли голову. Все это, как и Талмуд, и Библия, устарело и покрылось пылью веков. Даже то, что написано в филактериях — ты должен любить Бога всем сердцем, душою и телом, — не имеет оправдания и смысла. Что сделал Бог для евреев, которые так его любят? Он любит вас? Где была его любовь, когда нацисты мучили еврейских детей?»
Я уже много раз слышал эти аргументы, но никогда не знал, как на них ответить, и — зачем отрицать? — не знаю этого и сейчас. Тогда я сказал дьяволу: «Ты совершенно прав, но если у меня не хватает мужества умереть, то я должен стать евреем. Разве носить филактерии глупее, чем галстук или шляпу с пером? Если еврейство всего лишь игра, я предпочитаю играть в нее, а не в футбол, бейсбол или игры политиков. Даже если Всемогущий плох, лучше говорить с несправедливым творцом Вселенной, чем с негодяями из КГБ. Бог, по крайней мере, мудр. А нечестивцы ко всему еще и глупцы…»
Я рассказываю все это вам, чтобы показать, как сложно современному человеку вернуться к Богу, как глубоки в нас сомнение и разочарование. Я продолжал молиться, но сатана не оставлял меня ни на секунду. Когда я читал: «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его», сатана кричал: «Ложь, он милостив только к кучке богачей и влиятельных негодяев». Когда я читал: «Близок Господь ко всем призывающим Его», сатана замечал: «Разве набожные евреи не возносили Ему молитв из гетто? А что сделал Он для них во времена Хмельницкого? Ведь по твоей теории именно тогда евреи достигли высочайших ступеней духовности…»
Он ни на миг не переставал искушать меня. Он был со мною, когда я спал и когда бодрствовал. Я решил не отвечать ему, обращать внимание не больше, чем на тявкающую собачонку. Он кощунствовал, поносил всех и вся, а я продолжал молиться. Он засел у меня в голове, не оставлял, но он не мог запечатать мои губы. Я все же прочел Восемнадцать благословений, пусть и без особого пыла.
В тот же день я обо всем написал Циле. Написал, что хочу стать набожным евреем, таким, какими были мой отец и дед, и что прошу ее помощи, прошу согласиться на развод. Я был уверен, что она не ответит или натравит на меня адвокатов заодно с полицией. С тех пор как евреи начали подражать гоям, кто знает, на что способна еврейская полиция?
Все следующие дни я жил, как осужденный. Молился, изучал Гемару, ел в кошерном ресторане. Когда я сказал официанту, что не ем мяса, он посмотрел на меня очень странно, словно был готов затеять спор. У меня не было ни малейшего желания препираться по этому поводу, так что я просто сказал ему: «Я склонен признать вашу правоту, но, пожалуйста, принесите то, что я прошу».
— Желание клиента для нас закон, — ответил он, пожав плечами, и принес заказ.
Сложнее пришлось позже, когда реб Хаим, услышав, что я против убийства животных, сказал:
— Но это не приблизит вас к Богу.
— Реб Хаим, — ответил я, — тот, кто видел, как едят людей, никогда не сможет съесть животное.
— Не надо пытаться быть сострадательнее Всемогущего.
Тогда я понял, что отношение к вегетарианству навсегда останется барьером между мною и окружающими меня набожными евреями. Они считают отказ от мяса прихотью гоев и евреев, забывших веру отцов. Они воспринимали это как попытку стать слишком уж благочестивым. Один из цанзских хасидов даже сравнил меня с Исавом, который, как говорится в Талмуде, стараясь походить на истинно благочестивого человека, спросил у своего отца, как отделить десятину соломы. Когда реб Хаим впервые пригласил меня, его жена приготовила молочный суп, но он хотел, чтобы я пришел к ним в субботу, так что хранить свое вегетарианство в секрете было больше невозможно. Кажется, он даже немного испугался, узнав, что я даже в субботу не ем ни мясо, ни рыбу.
Однако я был твердо настроен жить такой жизнью, какой хотел и которую сам считал верной. Если бы в результате мне пришлось оказаться в полном одиночестве, я бы не счел это трагедией. Сильный духом может вынести и такое.
Как раз в это время пришло письмо от Цили. Это было большое письмо, своеобразная исповедь на тридцати страницах. Оно и сейчас где-то у меня хранится, и, поверьте, — это документ! Суть письма заключалась в следующем: во-первых, во всех бедах и ошибках Цили виноват я. Это я послужил для нее дурным примером. В этом она абсолютно права. Во-вторых, она завидовала моей решимости порвать со всем и вся. Бывали времена, писала она, когда и ей хотелось сделать то же самое, но, увы, у нее не хватило решимости и веры. Она писала, что продолжает встречаться со стариком профессором и он согласен развестись со своей женой и жениться на Циле. Она была готова дать мне развод, но просила о «небольших уступках». Несколько страниц касалось бизнеса. Я оставил все дела без присмотра, но мои партнеры вовсе не стремились лишить меня всего. Еще Циля наняла адвоката, чтобы позаботиться о нашем имуществе.
Я прочитал это письмо много раз. В нем явно видны были чувства женщины глубоко порочной, но все же не опустившейся до самого дна. Смысл письма можно было свести к одной фразе: «Да, мы потеряли наше наследие, потеряли навсегда, и ничто не сможет спасти его».
15
О чем я говорил? Ах да, о том, что развелся с Цилей: она дала мне развод в американском суде, а я все сделал по еврейским законам. «Небольшие уступки» на деле обернулись вполне весомыми. Циля и ее адвокат хапнули сколько смогли. Когда современный мужчина женится на современной женщине, он попадает в осиное гнездо. Такой брак — просто одна из разновидностей самоубийства. За фальшивые улыбки и женщину, с которой другие мужчины спят просто так, этот расплачивается не только своей свободой, но и здоровьем, а иногда и жизнью. Она требует, чтобы ее любили, и вечно обвиняет мужа в том, что его чувства недостаточно сильны. Поэтому она платит ему тем же. Народ, проливавший кровь за освобождение рабов, сегодня превратил в раба женатого мужчину. Распутные девки стали объектом поклонения не только в Америке, но и во всем мире. В прошлом идолы были из камня или золота, сегодняшние богини — хитроумные обманщицы.
Получив наконец развод, я почувствовал себя невольником, отпущенным на свободу. Впрочем, мой «добрый друг» дьявол не оставил меня и здесь: «Теперь ты свободен, не торопись, залезать в новую клетку. Перед тобою открыты все двери. Ты не так уж и стар, к тому же богат. Женщины в Тель-Авиве, Париже, Лондоне, да во всем мире, встретят тебя с распростертыми объятиями. Ты можешь заполучить их за простой билет в театр, за приглашение поехать за город, а то и за просто так. Пришло время жить, а не торчать безвылазно у цанзских хасидов. Хватить учить Гемару, написанную какими-то фанатиками две тысячи лет назад! Сколько можно молиться несуществующему Богу?»
Так убеждал меня великий мастер диалектики, сатана, чья единственная задача — искушать людей во все времена и во всех обстоятельствах. Но я не испытывал ни малейшего желания возвращаться к этим шлюхам в Париж или Тель-Авив. Мне были отвратительны и они сами, и их объятия. Я достиг той точки, когда все современные женщины с их уловками кажутся дешевыми актрисами. Даже их страсть выглядит фальшиво! Страсть рождается в душе человека, а холодная душа просто не в состоянии любить. Бесчисленные книги, пьесы и фильмы о сексе доказывали только одно: современный человек все больше и больше становится импотентом и ему постоянно необходимы все новые и новые стимуляторы. Я часто вспоминал жалобы Цили и Лизы на невозможность добиться оргазма. Те, кто двадцать четыре часа в сутки думают о сексе, читают о сексе, говорят о нем, изучают его, буквально живут им, в итоге просто не могут получить наслаждение, когда дело доходит до близости с мужчиной. Те, кто целыми днями говорит непристойности, привыкает к ним и теряет способность к сильным эмоциям, вызываемым грубым словом или выражением.
Когда дьявол попытался изменить свой метод и стал убеждать меня, что вообще все женщины распутны и лживы, я вспомнил свою мать и бабку. Все, что он говорил теперь, играя роль женоненавистника, никак не касалось этих женщин, воспитанных в старом духе. Они не подчиняли себе наших дедов, а помогали им зарабатывать на жизнь. Они были одновременно и женами, и добытчицами, и матерями. Отец мог уехать из дома на год и не бояться, что его место займет другой. Раньше женщины очень часто уже в молодые годы оставались соломенными вдовами, но почти никогда не грешили с другими мужчинами. Конечно, были и исключения, но очень редко. Наши матери и бабки несли на своих плечах тяжесть предписаний Торы, зарабатывали на жизнь и растили детей. Они были святыми, и им не приходилось думать об оргазме.
Такова и Сара, которую ее отец, реб Хаим, отдал мне в жены. Еще много истинных дщерей Израилевых живет в Иерусалиме, да и в Нью-Йорке. Они похожи на своих матерей, бабок и прабабок. Они несут на своих слабых плечах груз нашего наследия. Если вдруг, Боже упаси, они утратят эти достоинства, мы просто перестанем существовать как народ, как бы ни были сильны наши армия и наука, как бы ни процветала наша экономика.
Когда я решил, что Сара станет моей женой, первым побуждением было начать с ней заигрывать. Сделать все так, как это описывается в романах. Как мог я, Иосиф Шапиро, жениться без взаимной любви? Я начал искать встреч с ней, пытался завести разговор. Когда мы встречались в доме ее отца, я пристально на нее смотрел и даже говорил комплименты. Как и все современные мужчины, что старые, что молодые я считал себя экспертом по женской части. Но вскоре я понял, что старые уловки здесь не помогут. Когда я смотрел на Сару, она отворачивалась. Когда говорил комплименты, молчала. Казалось, эта женщина инстинктивно настроена против всех этих светских штучек и потому просто непроницаема для них. Я хотел добиться ее расположения, дать ей какой-нибудь совет, но она не нуждалась в моем участии и моих советах. Все ее разговоры с матерью были лишь о хозяйстве да о субботней трапезе.
Дьявол говорил мне: «Они все такие, эти набожные женщины, — бесчувственные, фригидные, вместо крови у них вода. Жениться на такой — все равно, что сочетаться браком с глыбой льда».
Но я отвечал: «Шлюхи — вот кто на самом деле холоден».
Внезапно у меня появилась та самая настырность, хуцпа, о которой я вам уже говорил.
Силы добра шептали: «Иосиф, такой женщине не нужны комплименты. Расскажи обо всем ее отцу или найди свата. Настоящие евреи должны именно так заключать браки!»
«Конечно, но как же быть с Иаковом и Рахилью? О чем говорит Песнь песней? Вспомни царя Давида и царя Соломона! — не унимался сатана. — А что с теми парнями и девушками, что плясали в винограднике в Стране Израиля? „Подними взгляд свой…“ — говорили девушки. Разве они — не настоящие евреи? Неужели все евреи должны быть похожими на ешиботников и застенчивых девиц? Да будь оно так, Государство Израиль не смогло бы уцелеть. Враги уничтожили бы его в одно мгновение. Один израильский солдат приносит народу больше пользы, чем тысяча набожных хасидов. Стране нужны солдаты, инженеры, летчики. Только они обеспечивают жизнь в Израиле. Это они спасали тех, кто пережил Холокост, в то время как верующие фанатики только и делали, что блеяли свои молитвы. Девушки, служащие в армии, в тысячу раз лучше, чем милая твоему сердцу Сара и ей подобные. Их ритуальные омовения и коротко стриженные головы никому не нужны. Пока еврейские мужчины и женщины проливали кровь за свою страну, такие, как реб Хаим и его дочь, сидели как мыши в уголке и ждали чуда, готовые безропотно принять смерть. Словно бараны на бойне. И ты считаешь их примерами для подражания? Ты абсолютно уверен, что именно этого хочет Всемогущий?»
Да, когда дьяволу это выгодно, он может казаться убежденным сионистом и пламенным патриотом.
А он между тем приводил свои доводы: «Только благодаря тому, что светские евреи создали государство, армию, все условия для образования и работы, эти паразиты из дома учения цанзских хасидов, вместе со своими детьми и женами, имеют возможность теперь соблюдать правила благочестия и жить за счет других. Ты еще молод и здоров, Иосиф Шапиро. Ты разбираешься в строительстве. К тому же у тебя есть деньги. Так помоги своей стране. Псалмопевцев и истово молящихся тут хватает и без тебя. Хочешь быть идеалистом? Иди в кибуц. Девушки там не похожи на Лизу или Цилю. Они выходят замуж по любви, и брак для них дело серьезное. Они не думают о деньгах или карьере. Если любовь закончится, всегда можно расстаться — это не трагедия. Ничто не длится вечно. Разводы ведь есть и у набожных евреев. Идея о том, что человеку не дано разорвать то, что соединил Бог, исходит из Нового Завета, она противоречит иудаизму и свободе выбора. И в Меа-Шеарим бывают разводы, это правда».
Как там говорится в Книге Притчей? «Иной пустослов уязвляет как мечом». Слова дьявола уязвляли меня снова и снова, ломали все мои планы, оставляли незащищенным. Проходили дни и недели, а я все продолжал их слышать. Они меня полностью разбили, почти парализовали волю. Меня, как грешника в аду, бросало то в жар, то в холод. То мне хотелось идти просить руки Сары, а уже через секунду я был готов все бросить и бежать в Тель-Авив или даже Нью-Йорк. По ночам я просыпался и представлял себе те удовольствия, которые получал от женщин и которые еще мог бы получить в будущем. Моя ненависть к ним внезапно исчезла, и я даже начал искать в них положительные качества: они элегантны и изысканны, они опытны в обращении с мужчинами и умеют разжечь в них желание. Даже распущенность и лживость не казались мне столь ужасными. Это просто части великой сексуальной игры, вечной игры, в которую вовлечены «он» и «она». Я и сам был удивлен, как быстро изменил свое мнение на противоположное.
Я стал плохо спать и поздно вставал. Желание молиться пропало. Надеть талес и филактерии стало настоящей проблемой. Когда я открывал Гемару и начинал учить законы субботы или правила принесения в жертву пасхального ягненка, у меня слипались глаза. «Это не для тебя! Не для тебя!» — кричал во мне какой-то голос.
Однажды утром я встал и забыл (а точнее, заставил себя забыть) помолиться. Я вышел из дома и отправился в новые районы Иерусалима. Вокруг кипела работа — строились дома, гостиницы. В витринах красовались те же товары, что в магазинах Нью-Йорка или Тель-Авива. Улицы были широкими и чистыми. Начиналась весна.
Внезапно я услышал, как кто-то зовет меня по имени. Обернувшись, я увидел Присциллу, девушку, с которой познакомился в самолете.
На мгновение мне захотелось ничего ей не отвечать и просто убежать. Но я подавил это желание, подошел к ней, и мы поздоровались. Она подставила мне для поцелуя щеку, и я ее поцеловал. Только что я был таким же евреем, как мой дед, и вот я уже вновь человек двадцатого столетия.
— Вы отращиваете бороду? — спросила Присцилла.
— Да.
— Вам идет. Почему вы не звонили? Ведь обещали же!
Я хотел сказать ей, что разврата мне хватало и в Нью-Йорке, но вместо этого соврал, сказав, что потерял номер ее телефона. По выражению ее лица я понял, что она рада нашей нечаянной встрече и что избавиться от нее будет нелегко. Мы проходили мимо кафе, и она предложила: «Зайдем, выпьем по чашечке кофе».
«Не ходи с нею!» — кричал мой внутренний голос. Но ноги явно его не слушались. И вот мы уже сидим за столиком, а официант принимает наш заказ. Присцилла взяла кофе с мороженым, а я чай.
— Как там ваш профессор? — поинтересовался я.
— Ох, Билл? Отлично. Он уже выучил иврит. Скоро заговорит как сабра. А для меня это по-прежнему китайская грамота. К счастью, тут все говорят по-английски. Так что никаких проблем, ни в университете, ни на улицах. С английским языком и американскими долларами можно жить где угодно.
И она улыбнулась, демонстрируя свою принадлежность к народу долларов и английского языка. Она рассказала, что снимает квартиру у профессора химии, который на год уехал в Германию.
— Как такое возможно, чтобы профессор Иерусалимского университета, еврей, поехал в страну, полную нацистских преступников? — удивился я.
Присцилла только отмахнулась:
— Сколько можно цепляться за это? Многие профессора из Израиля уезжают на стажировку в Германию.
Слова «цепляться за это» она подчеркнула особенно, словно бы «это» было маленьким недоразумением. Миллионы убитых и замученных евреев, отравленных газом, сожженных в печах, ставших жертвами чудовищных экспериментов, волновали ее не больше прошлогоднего снега. В Иерусалиме она чувствовала себя как дома, так же как профессор, у которого она снимала квартиру, чувствовал себя как дома в Бонне, Гамбурге или любом другом месте на земном шаре. Возможно, он уже нашел себе там фрейлейн, и она называла его «mein Schatz»[1].
Я спросил:
— А как тот смуглый молодой человек, рядом с которым вы сидели в самолете?
— Ого, да вы шпионили за мной! Вы куда-то подевались, и меня посадили с ним. Представляете: он тоже профессор или просто преподаватель, не знаю, в университете. Когда он услышал, к кому я лечу, то не отходил от меня ни на шаг.
По глазам ее я видел, что ей не терпится обо всем мне рассказать. Хвастовство — неотъемлемая часть адюльтера. И мужчина, и женщина должны хвастаться своими подвигами. Кстати, то же самое и с преступниками. Многие попались как раз потому, что слишком много говорили. Причина тут в том, что само преступление почти не доставляет удовольствия, даже физического. Чтобы усилить его, люди хвастаются. Если рассказ вызывает зависть, то рассказчик начинает ощущать, что совершил нечто стоящее. Я сидел, слушал и видел блеск в глазах Присциллы. Она говорила тихим, вкрадчивым голосом. Того юношу зовут Ганс. Еще ребенком он с родителями переехал в Израиль из Германии. Другие меняли имена, но он остался Гансом. Он учился в Израиле. Иврит, в некотором смысле, его родной язык. Но он так же свободно говорит и на немецком, английском и французском. Он изучал психологию, антропологию и что-то еще. Прилежный студент. У него была жена, но они развелись — совместная жизнь не сложилась. У них трехлетняя дочь. Ганс необычайно умен и остроумен. Его каламбуры бесподобны. Он хочет стать дипломатом.
— Вы с ним уже переспали? — спросил я.
Присцилла поднесла палец к губам.
— На самом деле я, наверное, сумасшедшая. По-другому объяснить это просто невозможно. Билл великолепен во всех отношениях, он добрый, нежный, преданный. К тому же и любовник просто чудесный. Но у него очень мало времени, а у меня наоборот — времени хоть отбавляй. И у Ганса тоже есть время. Он не так честолюбив, как Билл, к тому же прирожденный плейбой. У него своя квартира, он не прочь пропустить стаканчик. Да, мы встречаемся. Я познакомила их с Биллом, и Билл совсем не ревнует. Конечно, он ничего о нас не знает, они с Гансом стали друзьями. До тех пор пока я их не познакомила, они никогда не встречались. Представляете? Университет — это целый город. Профессора даже не знают друг друга в лицо!
— А стоит ли встречаться с двумя мужчинами? — спросил я.
— В этом нет необходимости, просто это так занятно. Билл меня полностью удовлетворяет, но днем, когда он работает, мне приятно встречаться с Гансом. Нам следует сохранять осторожность, но Иерусалим — большой город. У Ганса дома хороший бар, он любит коньяк, а Билл совсем не пьет. Мы вместе выпиваем и забываем обо всем на свете. Да не смотрите вы так сурово! Я же ведь никого не убила. Когда я была в Нью-Йорке, у Билла тоже была другая женщина. Он нас даже познакомил. Она замужем за одним профессором психологии. А вы как? Уже устроились на Святой Земле?
— Все хорошо.
— Уже обзавелись друзьями?
— Именно, друзьями.
— Расскажите. Обожаю слушать такие вещи. К тому же мы ведь какое-то время были вместе. И если ваш рассказ не займет слишком много времени, мы могли бы…
Она не закончила фразу, но в глазах ее горели смешинки. Мне захотелось проверить ее, и я сказал:
— Ты ведь еще должна со мной переспать.
— Должна? — улыбнулась Присцилла. — Я ничего никому не должна. Но я все еще помню те замечательные два часа, которые мы провели вместе. Самолет — не лучшее место, чтобы заниматься любовью. Там не очень удобно.
— Пойдем ко мне?
— А где вы остановились?
Я назвал ей свой адрес, и она ответила:
— К сожалению, у меня сейчас совсем нет времени. Двое мужчин — это более чем достаточно. А я еще хожу на курсы иврита. Но расстаться просто так мы тоже не можем. Каждый мужчина, меня поцеловавший, остается в моем сердце. Я никогда ничего не забываю. Совсем недавно я лежала в постели и думала о вас. Ну не замечательное ли создание человек?
— Более чем.
— Уверена, что вы меня осуждаете. Называете про себя шлюхой и другими подобными словами. Но поверьте, вы ошибаетесь. По-своему я верна и Биллу, и Гансу. Я не обманываю их. Каждому я отдаю всю себя. Но ведь человеческое «я» состоит из множества частичек. Когда я с Биллом, я с ним и телом и душою. Но и с Гансом то же самое. У каждого из них свои привычки, свой стиль. Знаете, это очень интересно — наблюдать, как человеческая индивидуальность проявляется, например, в сексе. Когда мы занимаемся этим с Биллом, он всегда молчит. И любит, чтобы свет в доме был погашен, хотя бы частично. Он все делает очень серьезно, и, если я что-то говорю или шучу, ему это мешает. А Ганс — совсем наоборот. Он иногда выдает такие глупости, что я хохочу до колик. Для него секс и юмор неразделимы. И мне это нравится. А еще меня возбуждает само место, святой город, Иерусалим. Я уверена: Бог ничего не имеет против того, чем мы здесь занимаемся. Для Него земля — горстка пыли, а люди — клубок червей. Кому интересно наблюдать за тем, как копошатся и совокупляются черви?
— Черви не обманывают своих партнеров.
— Я просто попыталась объяснить. На самом деле я не верю в то, что Бог существует. Скажу больше, я уверена, что его нет. Для евреев Иерусалим священный город, для арабов — еще и Мекка.
— Но если нет ни Бога, ни законов Его, то как можно осуждать Гитлера? Почему он не мог делать все, что ему заблагорассудится?
— Гитлер был чудовищем.
— Да, но если бы он выиграл войну, сегодня все превозносили бы его до небес. Ученые нашли бы миллионы оправданий его преступлениям. Они и так написали о нем целую гору книг.
— Естественно, ведь он же стал частью мировой истории. Ученые не могут вот так запросто взять и забыть о его существовании. Они просто обязаны изучать те условия, которые привели его к власти. Ганс говорит, что Гитлер был импотентом.
— Вот как? Очевидно, ему лучше знать.
— Да, у Гитлера была возлюбленная, Ева Браун, но не исключено, что отношения их были чисто платоническими.
— А ты смогла бы стать возлюбленной Гитлера? — спросил я.
В глазах Присциллы вновь зажглись искорки смеха.
— Вы говорите такие глупости.
— Разве тебе не было бы интересно провести с ним ночь?
— Ну, я никогда не думала об этом, — сказала она. — Он вообще не мой тип.
— И все же, скажем, вы летели бы с ним в самолете. В салоне темно. Ты ведь не упустила бы такой шанс: заняться любовью с подобным человеком.
— Вы сегодня полны сарказма. Нет, Гитлер определенно не мой тип. Скорее уж Муссолини. Говорят, у него были тысячи женщин. Специальные агенты разыскивали их для него по всей Италии. А он был совсем неразборчивым. — Присцилла отпила кофе, закурила и сказала: — С вами что-то случилось.
— Вовсе нет, — ответил я. — Что-то случилось с моим народом. Настоящая трагедия. Бог избрал именно нас и захотел оградить от всех мерзостей мира, но мы становимся такими же, как наши преследователи. Он наказывает нас, а мы продолжаем грешить. Злодеи убивают и сжигают нас, и в то же самое время некоторые из нас стараются во всем им подражать. На нашей памяти мы получили тяжелейший удар, который только довелось испытать народу, — и не извлекли из этого урока.
— Я сразу заметила, что с вами что-то не так, — повторила Присцилла. — Откуда вы взяли, что Бог избрал нас? Из Библии? Но ведь Библия — всего лишь книга, такая же, как множество других. Ее писали люди, а не Бог. Я не специалист в этой области, но прочтите хотя бы две страницы из Библии, и вы увидите: это слова человека, идеи человека. Для христиан Новый Завет — это часть Библии, а для четырехсот миллионов мусульман Библия — это Коран. Нет никаких доказательств, что случившееся с евреями — это гнев небес. Просто евреи были маленьким народом, поэтому-то их и завоевывали египтяне, персы, вавилоняне, греки и римляне. Другие маленькие народы ассимилировались и стали частью больших, но евреи ведь всегда были мазохистами. Им нравилось сносить удары. Я уверена, что этот сегодняшний эксперимент с Государством Израиль долго не продлится. Они же здесь окружены десятками миллионов врагов, а наш Бог будет молчать, точно так же, как Он молчал, когда в Польше ликвидировали гетто. Я просто боюсь, что это может случиться завтра или послезавтра. Стоит мне услышать шум самолетов, как я думаю, что началась война.
Сказав все это, Присцилла посмотрела на меня с нескрываемым осуждением. Взгляд ее, казалось, спрашивал: «Что ты можешь мне ответить на это? Почему то, что сказала я, не может оказаться горькой правдой?»
16
— Присцилла, — сказал я, — может быть, то, что ты говоришь, действительно правда. Горькая правда. Мы не были на небесах и не знаем, что там происходит. Моя вера еще не способна избавить меня от всех сомнений. Но даже знай я точно, что Бога нет или что Он есть, но на стороне Гитлера, я и тогда бы не смирился с теми, кто убивает, лжет, крадет. Если Бога нет или если Бог лишен морали, я буду поклоняться идолу, но идолу нравственному, исполненному любви к истине и сострадания к людям и животным. Благочестивые евреи служат ему уже четыре тысячи лет. За него они шли на костер.
— Стоит ли идти на костер ради идола? — спросила Присцилла.
— Стоит, — отвечал я. — Если миллионы немцев принесли себя в жертву идолу Гитлеру, если миллионы русских и евреев отдали свои жизни идолу Сталину, я готов пожертвовать собою — или, по крайней мере, претерпеть страдания — ради идола, от имени которого нам были дарованы Десять заповедей и вся Тора. Если уж человек обречен поклоняться идолам, я предпочту такого, который удовлетворяет моим требованиям, а не вызывает во мне отвращение двадцать четыре часа в сутки.
— Но зачем вообще кому-то служить или поклоняться? — спросила Присцилла. — Я не поклоняюсь никому!
— Это не так. Ты потратила годы на изучение языков. Такие, как ты, живут только для удовольствий, которые вовсе удовольствиями не являются. Вы отдаете себя во власть хирурга, чтобы укоротить нос. Ведете безнадежную войну с возрастом. Многие из вас отдали жизнь во имя коммунизма, нацизма или какого-нибудь другого «изма». Каждый пустой лозунг, каждая лживая теория требует жертв, и в добровольцах никогда не было недостатка. Тюрьмы и больницы переполнены людьми, которые пожертвовали собою ради нескольких долларов, женщины, азартных игр, скачек, наркотиков, мести и черт знает чего еще. Каждое новое изобретение требует бесчисленных новых жертв. Автомобиль уже убил миллионы. Самолеты — настоящие ангелы смерти. А сколько стали жертвами алкоголя? Тысячи женщин умерли из-за абортов. Несть числа страдающим от венерических болезней. Тот «идол», которому хочу служить я, — идол жизни и верности. Ему не нужны жертвы. Он не Молох. Он лишь требует, чтобы мы не строили свое счастье на горе других.
— Это не религия, это всего лишь нравственность.
— Нравственности без религии не существует. Если ты не хочешь служить одному идолу, приходится служить другому. Из всех обманов этого мира самый грандиозный — гуманизм. Гуманизм служит не одному идолу, а сразу всем. Все они были гуманистами: Муссолини, Гитлер, Сталин. А патриоты во всех странах? Сотни тысяч англичан погибли, чтобы Виктория несла свой титул императрицы. Наполеон посылал на верную гибель миллионы для того, чтобы возложить корону себе на голову. Набожные евреи, евреи Талмуда, никогда не служили королям или князьям. Они умирали, но не теряли свободы выбора.
— Вы хотите стать таким же благочестивым евреем, как те, что ходят здесь? С длинными пейсами и в лапсердаке?
— Да, именно таким.
— Что ж, желаю удачи. Но, по-моему, это просто блажь. Через несколько дней, в худшем случае недель это пройдет.
— Я никогда не вернусь к той жизни, которую ведут такие, как ты.
Мы попрощались и разошлись в разные стороны. Мне было стыдно за то, что я прочел Присцилле целую лекцию, но, с другой стороны, этот разговор многое прояснил и для меня самого. Да, я был готов стать настоящим евреем, даже если Тора — плод человеческого воображения, а Бога не существует.
Тем же вечером я обо всем рассказал отцу Сары и попросил руки его дочери.
Ну вот, в сущности, и вся история, которую я хотел вам поведать. Получив развод от Цили, я женился на Саре. Как видите, я ношу длинную бороду, пейсы и лапсердак и полностью порвал с современным еврейством.
Не подумайте, что все было так уж просто. Иногда мне хотелось бросить Сару и сбежать обратно, в этот ад. Иногда я не мог заснуть, и меня трясло как в лихорадке. Всем известно, что курение вызывает рак, но сотни миллионов по всему миру тем не менее продолжают курить. Все знают, что от переедания возникают проблемы с сердцем, но миллионы продолжают объедаться. Кто не знает, что коммунизм убивает своих последователей? Но сделай Россия хоть шаг в сторону современных евреев, и они как ни в чем не бывало бросятся ей на встречу. Да, они, возможно, уже сняли со стены портрет Сталина в том кибуце, но по-прежнему тоскуют по коммунистическим кумирам. Я это все говорю, ибо и сам долгие годы стремился к тому, что, как прекрасно мне было известно, являло собою смертельный яд. Теперь, как говорится, я сжег за собою все мосты.
Как я уже сказал, мы с Сарой поженились, и вскоре она понесла. Сейчас у нас уже трое детей, и скоро будет четвертый. Большую часть денег я потратил. У меня выпадают зубы, но новые я не вставляю. Зачем? Мне это не нужно, я ведь и не хочу, и не стремлюсь кого-то прельстить. У моей жены тоже не все зубы, но это не делает слабее мою любовь и не толкает меня на измену.
Одна из главных страстей современного человека — это чтение газет, стремление узнавать последние новости. Новости — яд, отравляющий жизнь, но современный человек просто жить не может без этого яда. Он должен знать обо всех убийствах и ограблениях, обо всех умопомешательствах и ложных теориях. Газет ему уже недостаточно. Он слушает новости по радио и включает телевизор. Журналы перепечатывают известия обо всем, что произошло за прошедшую неделю, и люди снова читают о том, какие преступления были совершены и что сказал тот или иной идиот. Безумие политики охватило даже так называемых ортодоксальных евреев. А алчность! Посмотрите ортодоксальную прессу: там же в каждой строчке одно и то же: «Дайте нам денег!» Им нужны миллионы на строительство иешив, для поддержки — как они это называют — еврейства. Вранье! Большие иешивы, просторные классы, хорошая еда, экзамены — все это одна видимость. Ортодоксальные колледжи и университеты в Америке учат молодых людей не столько Торе, сколько гоишкайту, то есть нееврейству. Студентов одновременно готовят и к религиозной, и к светской жизни. Но ведь такое невозможно: служа Богу, ты отвергаешь мирское. Эти дети, которые с пеленок лепечут на современном иврите с сефардским произношением, рано или поздно прочтут все те мерзкие книжонки, которые здесь уже перевели. Иврит должен оставаться священным языком, а не языком ночных клубов.
Я сказал тогда Присцилле, что Бог евреев был для меня «идолом». Возможно, тогда я так и думал. Обрести веру не так-то просто. Еще долго после того, как я отрастил бороду и пейсы, мне ее не хватало. Но вера непрерывно росла во мне. Сначала идут дела. Дитя испытывает голод задолго до того, как узнает, что у него есть желудок. Вы должны жить по еврейским законам задолго до того, как вера полностью овладеет вашим сердцем. Соблюдение еврейских традиций ведет к вере. Теперь я знаю, что Бог есть. Я верю в Его Провидение. Когда я испытываю тревогу или заболевает мой ребенок, я всегда молюсь Всемогущему.
Я не утверждаю, что моя вера абсолютна. Возможно, ее и вообще нет, этой абсолютной веры. Но сегодня я верю сильнее, чем вчера. Дарвин и Карл Маркс не открыли никаких секретов. Из всех теорий сотворения мира та, что изложена в Книге Бытия, самая мудрая. Все эти разговоры о первичном тумане и Большом взрыве — дикая чушь. Если кто-то находит на острове часы, он ведь не говорит, что они появились здесь сами собою или что это следствие эволюции. Скажи он такое, и его посчитают безумцем. Но, несмотря на это, современная наука утверждает, что Вселенная появилась сама по себе. А что, разве Вселенная устроена проще обыкновенных часов?
Я знаю, о чем вы хотите спросить меня, — интересуюсь ли я все еще сексом? Поверьте, честная, порядочная женщина может доставить мужчине больше физического наслаждения, чем все шлюхи мира, вместе взятые. Когда мужчина спит с современной женщиной, он одновременно спит и со всеми ее любовниками. Именно потому, что подобным образом мужчина «духовно» спит с бесчисленными другими мужчинами, сегодня так много гомосексуалистов. Кроме того, мужчина постоянно старается казаться в постели лучше других партнеров — ведь женщине есть с кем сравнивать. Отсюда рождается импотенция, которой страдают многие. Секс превратился в рынок, там полно конкурентов. Сегодняшнему мужчине обязательно нужно доказать себе, что он величайший в мире любовник, что Казанова по сравнению с ним мальчишка. Он пытается доказать то же и женщине, но ей-то виднее.
Да и сама она находится в точно таком же положении. Она знает, что у ее мужа было и будет множество любовниц, и вынуждена соревноваться с ними, быть умнее, красивее. Они все заражены этим стремлением к состязанию. Вся современная жизнь — сплошные испытания, цель которых определить самого высокого, сильного, умного, способного сделать что-то лучше других. Сегодняшняя женщина мечтает стать самым красивым земным созданием.
Среди тех евреев, которые меня теперь окружают, нет больших или маленьких людей. Один все время сидит за Торой, другой читает псалмы. Один может больше времени тратить на учебу, другой должен работать. Но никто ни с кем не соревнуется; никто не пытается быть лучше других. И еще: здесь не гоняются за наживой. Здесь свободны от самой пагубной из человеческих страстей — стремления к богатству.
Я бы солгал, сказав, что все так уж хорошо. Дурные люди встречаются везде. Дьявол не исчез. Даже когда я изучаю Гемару, в голову мне иногда приходят совершенно дикие мысли. Секунды не проходит без соблазна. Сатана атакует меня постоянно. Он никогда не сдается. Но сейчас я соединен с еврейством, с верой такими нитями, которые очень трудно разорвать. Эти нити — моя борода, пейсы, дети, а теперь еще и возраст.
Иногда дьявол говорит мне: «А вдруг, Иосиф Шапиро, ты умрешь, а там ничего нет? Ты останешься горсткой пыли, слепым и бессловесным камнем, комком грязи».
Я слушаю его и отвечаю: «Моя смертность вовсе не доказывает, что и Бог смертен, а Вселенная — всего лишь случайный результат физических или химических процессов. Я вижу сознательный план в бытии — в человеке, в животных, в неодушевленных предметах. Божественная милость часто скрыта, но мудрость Его видна во всем, какое бы имя Ему ни давать — природа, субстанция, абсолют, что угодно. Я верю в Бога, Его Провидение и свободу воли человека. Я принял для себя Тору и комментарии к ней, ибо уверен, что нет лучшего пути. И такая вера растет во мне день ото дня»[2].
ОТ АВТОРА
Этот роман впервые был опубликован выпусками в газете «Джуиш дейли форвард» в январе-марте 1973 года. Годом позже он вышел в Израиле в издательстве «Перец ферлаг». Как и другие авторы, я тешу себя надеждой, что где-то существует хотя бы один читатель, который следит за всеми моими публикациями, не пропуская даже интервью. Такой читатель, конечно же, не пропустил мою беседу с Ричардом Берджином из «Нью-Йорк таймс», которая состоялась после моего возвращения из Стокгольма в январе 1979 года. Насколько мне помнится, тогда я высказал идеи, по существу противоположные убеждениям главного героя «Раскаявшегося». Иосиф Шапиро с суровой критикой обрушивается на тех мужчин и женщин, что забыли Бога, Тору и Шулхан-Арух, ну а я в том интервью и сам весьма резко выступил против Творца и Его творения. Я сказал тогда, что хотя и верю в Бога и преклоняюсь перед Его божественной мудростью, но не вижу, а следовательно, и не могу прославлять Его милосердие. Я добавил, что, если бы мне представился удобный случай пикетировать престол Всемогущего, я держал бы плакат с надписью: «Жизнь несправедлива!» Там же я упоминаю и свое неопубликованное эссе «Бунт и молитва, или Истинный протестующий».
Мой воображаемый читатель мог бы спросить меня: «Теперь вы отрекаетесь от того, что сказали тогда? Вы смирились с несправедливостью жизни и жестокостью человеческой истории?» Ответ мой заключается в том, что Иосиф Шапиро, возможно, и смирился, а я нет. Я по-прежнему ошеломлен жестокостью и несправедливостью жизни, как и много лет назад, когда шестилетним ребенком слушал, как мать читает рассказы о войне из Книги Иисуса Навина и истории о разрушении Иерусалима, от которых кровь стыла в жилах. Я и сейчас говорю себе, что нет и быть не может оправдания для той боли, что испытывают и голодный волк, и терзаемая овца. Пока мы живем в нашем теле, уязвимые для столь многих страданий, мы не можем найти спасения от всех бедствий существования. Для меня вера в Бога и протест против несправедливостей жизни не содержат в себе никакого противоречия. Во всех религиях присутствует этот протест. Те, кто посвятил свои жизни служению Богу, часто осмеливаются подвергать сомнению Его справедливость и восставать против Его кажущегося невмешательства в борьбу добра и зла в каждом человеке. Поэтому я уверен, что между бунтом и молитвой нет глубоких, непреодолимых различий.
Хотя я и рос среди людей, совершенно несклонных к компромиссам, которые думали и чувствовали так же, как думает и чувствует этот суровый Иосиф Шапиро, я не могу согласиться с его идеей об окончательном уходе от человеческих проблем, о спасении на все времена. Силы, обрушивающиеся на нас часто способны преодолеть все наши ухищрения и способы защиты, и борьба эта длится с самого нежного возраста до смерти. Все наши приемы недолговечны, мы отбиваем только отдельные атаки, но не можем одержать полную победу в нравственной борьбе. Поэтому я полагаю, что сопротивление и смирение, вера и сомнение, отчаяние и надежда могут сосуществовать в нашей душе. Фактически отсутствие этого соседства, единственное решение, уничтожило бы величайший дар, полученный нами от Бога, — свободу выбора.
Эта книга, как и многие другие мои книги, на английский язык была переведена моим племянником Иосифом Зингером, сыном моего покойного брата и учителя И.-И. Зингера, и издана моим добрым другом Робертом Жиро при участии Линн Уоршоу.
Я часто говорил со своим братом о деградации современного человека и отсутствии у него чувства собственного достоинства, о его неуважении к институту семьи, неумеренном стремлении к роскоши и удобствам, даваемым техническим прогрессом, о презрении к старости и преклонении перед молодыми, о слепой вере в психиатрию и все возрастающей терпимости к преступлениям. Кризис, пережитый Иосифом Шапиро, его разочарование могут в определенной степени подтолкнуть к пересмотру взглядов как людей верующих, так и скептиков. Средства, которые он предлагает, конечно же, не помогут исцелить раны всех и каждого, но природа самой болезни будет, я надеюсь, выявлена.
И.Б.З.
Примечания
1
Мое сокровище (нем.).
(обратно)2
В книге не было закрывающей кавычки (примечание вычитывающего).
(обратно)

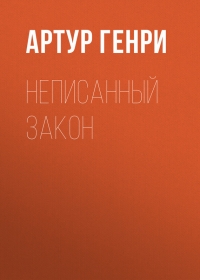
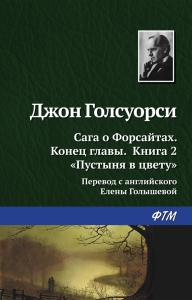
Комментарии к книге «Раскаявшийся», Исаак Башевис-Зингер
Всего 0 комментариев