Герман Мелвилл Рай для Холостяков и Ад для Девиц
Рай для Холостяков
Расположен он недалеко от Темпл-Бара.[1]
Направляясь туда обычным путем, словно спускаешься с перегретой равнины в прохладную глубокую лощину, приютившуюся между тенистых холмов.
Оглушенный грохотом и заляпанный грязью Флит-стрит, по которой спешат недавние холостяки со лбами, разлинованными морщинами, как счетные книги, и с мыслями о том, что хлеб вздорожал, а младенцев прибавляется, вы ловко сворачиваете за некий таинственный угол (на улицу!), скользите вниз по сумрачной монастырской дороге, обстроенной темными, степенными, торжественными зданиями, и скоро, оставив позади весь мир с его заботами, стоите, свободный, под тихими аркадами Рая для Холостяков.
Отрадны оазисы в Сахаре; восхитительны рощи, эти островки в августовских прериях; но еще отраднее, еще восхитительнее, поистине сладчайшее место – это дремотный Рай для Холостяков, что прячется в каменном сердце казенного Лондона.
В тихом раздумье броди под аркадами, наслаждайся, сколько влезет, бездельем в саду, ближе к воде; посиди в старинной библиотеке, помолись среди скульптур в церкви, но мало ты видел, и ничего ты не знаешь, даже не надкусил сладкого ядрышка, пока не пообедал в компании Холостяков и не посмотрел, как блестят за столом их глаза и стаканы. Пообедал не в людной трапезной, во время семестра, а спокойно, по личному приглашению, за личным столом, как друг какого-нибудь сугубо гостеприимного тамплиера.[2]
Тамплиера? Название романтическое. Давайте-ка вспомним. Бриан де Буагильбер[3] был, кажется, тамплиером. Вы хотите сказать, что эти знаменитые тамплиеры до сих пор живут в Лондоне наших дней? Что можно услышать звон их окованных пяток и грохот щитов, когда эти рыцари-монахи преклоняют колени перед святыми дарами? Забавное зрелище являл бы собой рыцарь-монах, пробирающийся по Стрэнду в блестящих латах и белой накидке, забрызганных грязью из-под колес омнибуса! И бородатый, как поведено правилами его ордена, с лицом мохнатым, как морда леопарда, как выглядел бы этот суровый призрак среди коротко стриженных, гладко выбритых граждан? Нам ведь известно – из невеселых исторических хроник, – что святое это братство в конце концов погибло от моральной заразы. Там, где вражеский меч не смог победить их в бою, там червь роскоши прополз под забрало, перегрыз рыцарские клятвы, монашеские обеты, и наконец монашеская воздержность уступила место пированиям, и рыцари-холостяки превратились в лицемеров и праздных гуляк.
И все же нас весьма удивило, что рыцари-тамплиеры (если они еще существуют) настолько отделились от Церкви, что уже не зарабатывают бессмертную славу, орудуя мечом ради Святой земли, но орудуют ножом и вилкой над бараньим окороком, председательствуя за обеденным столом. Может быть, эти отступники-тамплиеры решили, что слаще пасть на пиру, чем в бою? Но как вообще могло что-нибудь сохраниться от этого некогда знаменитого ордена? Тамплиеры в сегодняшнем Лондоне! Тамплиеры в мантиях с красным крестом курят сигары, заседая в Диване![4] Тамплиеры заполонили поезд железной дороги, и весь поезд, битком набитый стальными шлемами, копьями и щитами, кажется одним вытянутым в длину локомотивом!
Нет. Настоящих тамплиеров уже давно не существует. Сходите полюбоваться чудесными надгробиями в церкви Темпла, там увидите высокомерно застывшие тела, скрестившие руки на затихших сердцах, заснувшие навек и без сновидений. Как нет больше лет перед потопом, так нет и храбрых рыцарей-тамплиеров. Но название осталось, и до сих пор существует общество под этим названием, и древние угодья, и кое-что из древних зданий. Но железный башмак превратился в лакированный штиблет, длинный двуручный меч – в одноручное гусиное перо; монах, некогда даром дававший советы, ныне получает за свои советы гонорар; защитник саркофага (если он в ладах со своим оружием) вынужден выступать защитником не одного клиента, а нескольких одновременно; в сферу деятельности того, кто некогда открывал и расчищал пути к Гробу Господню, теперь входит засорять, закрывать, загромождать и перегораживать все дворы и закоулки Закона; тот рыцарь, что бил сарацин у Аккры,[5] теперь бьется за юридические пункты в Вестминстер-Холле.[6] Шлем превратился в парик. Время коснулось тамплиера волшебной палочкой, и нынешний тамплиер стал юристом.
Но подобно многим, кого судьба сбросила с высот гордыни – подобно тому яблоку, что жестко, пока на ветке, но тает во рту, когда успеет полежать на траве, – нынешний тамплиер только выиграл от своего падения.
Надо думать, что эти монахи-воины старых времен были народ грубоватый и сварливый; легко ли им было сердечно пожать вам руку, когда их-то руки были закованы мельхиоровыми доспехами? Надменные монашеские души захлопывались, как требники в деревянных окладах; лица и те, казалось, были прихлопнуты забралом; это ли были человеколюбцы? Зато нынешний тамплиер – это лучший собеседник, самый радушный хозяин. И остроумие, и вино у него за обедом – высшей марки.
Церковь и аркады, дворы и своды, переулки и тупички, обеденные залы, трапезные, библиотеки, террасы, сады, конторы и десертные комнаты, занимающие огромную территорию; – все близко одно от другого и в центре города, но прочно защищено от неумолчного гама старых улиц, притом что все здесь содержится в самом педантичном, истинно холостяцком порядке, – не найти для тихого человека более приятного убежища.
В самом деле, Темпл – это целый отдельный город. Город со всеми наилучшими его чертами, как явствует из вышеприведенного перечня. Город с парком, клумбами и речною набережной, ведь в одном месте Темза протекает мимо него такая же неогороженная, как некогда протекал мимо Эдемского сада тихий Евфрат.[7] Там, где теперь сад Темпла, крестоносцы в старину обучали своих коней и упражнялись с пиками; нынешние тамплиеры посиживают на скамьях под деревьями и, постегивая прутиками лакированные штиблеты, изощряются в остроумии.
По длинным рядам портретов в обеденных залах можно судить о том, какие видные люди – пэры Англии, судьи и лорд-канцлеры – были в свое время тамплиерами. Но не все тамплиеры широко известны; однако если заслуживают бессмертной славы горячее сердце и горячее участие, голова, полная мыслей, и погреб, полный вина, и готовность дать хороший совет и задать роскошный обед с редкостными развлечениями, порожденными воображением и смехом, то воспойте, о музы, имена Р. Ф. К. и его царственного брата![8]
Чтобы стать тамплиером в полном смысле, нужно быть юристом или изучать право и пройти официальный прием в это сообщество. Однако многие, отвечающие этим требованиям, не живут в Темпле, хотя конторы их находятся там. С другой стороны, многие обитатели ветхих тамошних жилищ не проходили церемонию приема. Если вы, скажем, джентльмен без определенных занятий либо тихий, неженатый литератор и, очарованные ласковой уединенностью этих мест, надумаете поставить свою тенистую палатку среди других в этом мирном стане, тогда вам следует подружиться с кем-нибудь из посвященных, и он вам снимет, на свое имя, но за ваш счет, любую пустующую квартиру, какая покажется вам подходящей.
Так, думаю я, поступил доктор Джонсон,[9] номинально – Бенедикт и вдовец, а на самом деле холостяк, когда поселился здесь на некоторое время. Так же поступил этот несомненный холостяк и золотое сердце Чарлз Лэм.[10] А сотни других, отличные люди, братья ордена безбрачия, время от времени обедают здесь, спят и выпивают. Да что там – весь Темпл как медовые соты – контора на конторе, жилье на жилье. Как сыр, он продырявлен во всех направлениях уютными кельями холостяков. Милые, восхитительные места! Как вспомнишь проведенные там чудесные часы и сердечное гостеприимство, оказанное мне под какой-нибудь вековою крышей – только поэзия может выразить мои чувства, и, вздохнув, я тихо напеваю: «Увези меня домой, в старую Виргинию!»
Итак, вот что такое, в коротких словах, Рай для Холостяков. Таким я и застал его однажды, порой веселой мая, когда, выйдя из своей гостиницы на Трафальгар-сквер, направился на обед, на который пригласил меня отменный адвокат, холостяк и старшина корпорации Р. Ф. К. (первое и второе – чистая правда, а третьим он должен быть, сим предлагаю его кандидатуру), чью карточку я крепко сжимал двумя облитыми перчаткой пальцами, время от времени поглядывая на приятный адрес, начертанный после имени: «Дом №… Вязовый двор, Темпл». По сути, это был прямодушный, беспечный, всем довольный и сугубо общительный англичанин. Если при первом знакомстве он казался замкнутым, прямо-таки ледяным – немножко терпения, это шампанское оттает. А если и нет – лучше замороженное шампанское, чем разбавленный уксус.
Обедало нас девять джентльменов, все холостые. Один проживал «Дом №… улица Королевской скамьи, Темпл»; второй, третий, четвертый и пятый в разных дворах или переулках с не менее звучными наименованиями. Это был, можно сказать, сенат холостяков, присланных на данный обед из отдаленных друг от друга округов, дабы представить безбрачие Темпла. Более того, здесь представлены были, как в Большом парламенте, лучшие холостяки большого Лондона. Кое-кто прибыл из отдаленных районов города, – видные юристы и просто неженатые мужчины из Линкольн-Инн, Фэрнивалз-Инн,[11] а один джентльмен, на которого я взирал не без благоговейного страха, прибыл из места, где некогда, холостяком, проживал лорд Верулам[12] – из Грэйз-Инна.
Квартира расположена была довольно далеко от земли, по дороге на небо. Не знаю, сколько истоптанных старых ступеней я пересчитал, пока до нее добрался. Но хороший обед, да еще в недюжинной компании, надо заработать. Я не сомневаюсь, что наш хозяин поместил свою столовую так высоко в расчете обеспечить достаточно предварительной гимнастики, необходимой для того, чтобы оценить и переварить его обед.
Обстановка была самая непритязательная, мебель старая и удобная. Ни нового, блестящего красного дерева, еще липкого от невысохшей политуры; ни роскошных оттоманок и соф, на которые и присесть-то боишься. Вот что каждому разумному американцу следовало бы перенять у каждого разумного англичанина: что блеск и мишура, безделки и побрякушки вовсе не обязательны для домашнего отдохновения. Американский Бенедикт на бегу хватает жесткую котлету в золоченом ресторанчике; английский холостяк, сидя за простым, неполированным столом, не спеша обедает дома своей несравненной южноанглийской бараниной.
Потолок в комнате был низкий. Кому интересно обедать под куполом собора святого Петра? Высокие потолки! Если они вам требуются, и чем выше, тем лучше, и если рост у вас достаточный, тогда поезжайте обедать с жирафами под открытым небом. Пришло время, девять джентльменов уселись перед девятью приборами, и работа закипела.
Если память мне не изменяет, все началось с супа из бычьих хвостов. Он был красивого красно-рыжего цвета, и приятный его аромат быстро заставил меня забыть, что для начала я при виде его вспомнил не то хлысты погонщиков, не то кнут школьного учителя. (Тут мы, чтобы передохнуть, выпили немножко кларета.) Следующим мы почтили Нептуна – был подан палтус, белоснежный, пышный, желатинистый в самую меру и елейный, но не слишком. (Тут мы выпили по рюмке хереса.) Когда были убраны эти легкие стрелковые цепи, появилась тяжелая артиллерия под командованием знаменитого английского полководца Ростбифа. Адъютантами у него были: седло барашка, жирная индейка, куриный паштет и прочие вкусности, а в авангарде высланы девять серебряных графинов шипучего эля. Когда и эта тяжелая артиллерия исчезла следом за стрелковой цепью, на столе появилась отборная бригада дичи, и пламя костра заменил красный отблеск бутылей.
Дальше следовали пироги, пудинги, всевозможные лакомства, затем сыр и печенье. (Исключительно для порядка, чтобы не пренебречь доброй старой традицией, мы здесь выпили по стакану доброго старого портвейна.)
После этого убрали скатерть и, подобно армии Блюхера,[13] появившейся на поле Ватерлоо в последнюю минуту, притопал новый отряд бутылок, запыленных после поспешного марша.
Руководил всеми этими маневрами удивительный старичок – фельдмаршал (язык не поворачивается назвать его так скучно – официант), с белоснежными волосами и салфеткой и с головой, как у Сократа. За столом то и дело смеялись, но он, занятый важной работой, даже не снизошел до улыбки. Истинно почтенный муж! Выше я попытался набросать хотя бы приблизительный план кампании. Но всем известно, что хороший дружеский обед – предприятие беспорядочное, и описать его во всех подробностях едва ли возможно. Так, я упомянул о стакане кларета, стакане хереса и кружке эля, о каждом в определенное время. Но то были, так сказать, всего лишь парадные вехи. А перемежались они бесчисленными возлияниями, потребность в которых возникала вне программы.
Девять холостяков были, казалось, не в шутку озабочены здоровьем друг друга. Все время они в самых серьезных выражениях высказывали надежду, что сосед справа и сосед слева будут здравствовать и чувствовать себя отменно как можно дольше. Я заметил, что когда одному из этих добрых холостяков приходила охота выпить еще вина (исключительно «ради желудка»,[14] как Тимофею), он не прикасался к бокалу, если не уговорит еще какого-нибудь холостяка присоединиться к нему. Казалось, если кто увидит, как он осушает одинокий, ни с кем не разделенный бокал, это будет истолковано как поступок нескромный, эгоистичный, небратский. А пока лилось вино, состояние духа у нашей компании все более приближалось к полной сердечности и раскованности. Все стали рассказывать разные интересные истории. Были извлечены на свет избранные эпизоды из личной жизни, как лучшие марки мозельского или рейнского, что приберегаются только для самых любимых гостей. Один рассказал нам, как сладко ему жилось студентом в Оксфорде, прибавив парочку соленых анекдотов о высокородных лордах, его закадычных приятелях. Другой, седовласый, с солнечным лицом, не упустивший, по собственному его признанию, ни одного случая посетить на досуге Нидерланды, чтобы осмотреть там прекрасную фламандскую архитектуру, – этот ученый, седовласый, солнечноликий старый холостяк мастерски описывал затейливую роскошь старинных гильдий, магистратов и ратуш, еще сохранившихся на родине древних фламандцев. Третий, прилежно посещавший Британский музей, был кладезем сведений о тамошних редкостях, восточных рукописях и бесценных книгах-уникумах. Четвертый недавно воротился из поездки в Старую Гранаду и, конечно же, делился сведениями о сарацинах и крестоносцах. Пятый рассказал о запутанном судебном деле. Шестой был знатоком по части вин. У седьмого был припасен любопытный анекдот из личной жизни Железного Герцога,[15] никогда не печатавшийся и доселе не рассказанный ни в людном собрании, ни в тесном кругу друзей. Восьмой, оказалось, в последнее время разнообразил свои вечера, переводя комическую поэму Пульчи,[16] и теперь прочел нам несколько особенно забавных кусков из нее.
Так протекал этот вечер, и о точном времени нас оповещали не водяные часы короля Альфреда,[17] а винный хронометр.
А стол между тем превратился в некое подобие Эпсомского ипподрома[18] – удлиненное кольцо, по которому мчались друг за другом графины. Опасаясь, что один какой-нибудь графин не успеет вовремя достигнуть финиша, вслед ему посылали другой, чтобы поторопить; а потом третий – поторопить второго, и четвертый, и пятый, и так далее. И с начала до конца не было ничего слишком громкого, ничего грубого или распущенного. Судя по безупречной серьезности и невозмутимости нашего фельдмаршала Сократа, я готов поклясться, что, если бы он усмотрел в обслуживаемых им войсках хоть малейшее нарушение приличий, он немедленно удалился бы, даже без предуведомления. Впоследствии я узнал, что, пока мы пировали, некий болящий холостяк в комнате за стеной выспался всласть впервые за три долгие томительные недели.
Здесь люди, ни разу не повысив голоса, полностью вкусили хорошей еды и питья, дружеских чувств и дружеской беседы. Мы все были братьями. Довольство – братское, родственное довольство, вот чем был отмечен этот обед. И между прочим было совершенно ясно, что у этих благодушных мужчин нет жен и детей, требующих забот и внимания. Почти все они были путешественниками, ведь только холостяки могут путешествовать свободно, не испытывая уколов совести за бегство от домашнего очага.
Холостяцкому их воображению нелепостью показалось бы душевное горе, жупел под названием беда. Могут ли люди с широким кругозором, с глубоким знанием жизни и пониманием ее проблем, как философских, так и житейских, – могут ли они допустить, чтобы их морочили такими монашескими баснями? Душевное горе! Беда!. Все равно что чудеса у католиков. Ничего этого нет. Передайте-ка херес, сэр! Полно, полно, не может этого быть. Портвейну, сэр? Пожалуйста. Ерунда, и не говорите. Из этого графина вам, кажется, последнему, сэр.
Так оно и шло.
Вскоре после того как была убрана скатерть, наш хозяин бросил выразительный взгляд на Сократа, и тот, невозмутимо дойдя до окна, воротился к столу с огромной изогнутой трубой, прямо-таки иерихонской трубой, отделанной серебром и всевозможными украшениями, в том числе двумя козлиными головами, а значит, и еще четырьмя рогами из литого серебра, торчащими справа и слева у мундштука главной трубы.
Я и не слышал, что наш хозяин умеет играть на горне, поэтому удивился, когда он взял горн со стола, словно готовясь победоносно протрубить в него. Но этого я не услышал, и правильно понял назначение этого горна, когда он вставил в мундштук большой и указательный пальцы, что породило легкий аромат, и ноздрей моих коснулся запах отменного нюхательного табака. Это был целый букет запахов. Горн пустили по кругу. Какая прекрасная мысль, подумал я, именно сейчас понюхать табаку. Надобно ввести этот добрый обычай дома среди моих соотечественников, решил я тут же.
Исключительная воспитанность этих девяти холостяков – воспитанность, на которую не влияли никакие количества выпитого вина, пренебречь которой не давала никакая веселость, – еще раз предстала мне во всей своей прелести, когда я заметил, что хоть понюшку они брали не жалея, но ни один из них не нарушил приличий, ни один не обидел болящего холостяка за стеной, позволив себе чихнуть. Все происходило в полной тишине, словно нюхали они безобидную пыльцу, смахивая ее с крыльев бабочки.
Но обеды холостяков, так же как их жизнь, не могут длиться вечно, сколь они ни прекрасны. Пришла пора расходиться. Один за другим холостяки взялись за шляпы и, пара за парой, под руку, продолжая беседовать, стали спускаться на вымощенный камнем двор. Иных ждали близко по соседству квартиры, где они, прежде нежели отойти ко сну, намерены были еще почитать «Декамерон».[19] Другие собирались выкурить сигару, прогуливаясь по саду в приречной прохладе; третьи направились к воротам, чтобы кликнуть кеб и отбыть со всеми удобствами в свои отдаленные жилища.
Я задержался последним.
– Ну как, – улыбаясь, спросил меня хозяин, – как вам понравился наш Темпл и жизнь, которую мы здесь ведем?
– Сэр, – отвечал я в порыве искреннего восхищения, – сэр, это прямо-таки Рай для Холостяков!
Ад для Девиц
Расположен он неподалеку от горы Вудолор в Новой Англии. Свернув на восток из местности, где вас окружали цветущие фермы и солнечные луга, кивающие душистыми травами начала июня, дорога ваша забирает вверх среди суровых холмов. Постепенно эти холмы все теснее обступают дорогу и образуют сумрачный проход, который получил название Мехи Безумной Девы, потому что между его скалистыми стенами непрестанно дует воздушный Гольфстрим, а также благодаря легенде, будто когда-то в этих местах стояла хижина какой-то помешанной.
По дну этого ущелья, бывшему руслу бурного потока, вьется узкая колесная дорога. Поднявшись по ней до ее высшей точки, останавливаешься, словно миновав ворота первого Дантова круга.[20] За крутизну стен, за их темный густо-серый цвет и за то, что здесь ущелье внезапно сужается, это место получило название Черный перевал. Дальше ущелье расширяется, и дорога постепенно спускается в огромную лиловую воронку, утонувшую среди лесисто-косматых гор. Воронку эту местные жители называют Чертовой Темницей. Со всех сторон слух улавливает шум воды. Наконец эти бурные ручьи сливаются в один мутный, кирпичного цвета поток, который, кипя, пробирается среди громадных камней. Поток этот, за его окраску, прозван Кровяною рекой. Достигнув темной пропасти, он резко сворачивает на запад и делает сумасшедший шестидесятифутовый скачок прямо в объятия чахлого леса из седовласых сосен, среди которых пробирается дальше, в невидимые отсюда низины.
По одну сторону дороги над самым водопадом, ясно видны венчающие каменный утес развалины старой лесопилки, построенной еще в те времена, когда вся эта местность изобиловала старыми соснами и лиственницами. Колоссальные, обросшие черным мхом, грубо обрубленные узловатые стволы, тут и там сваленные в кучи и давно брошенные и забытые, либо нависшие, как опасные козырьки, над мрачным краем водопада, придают этим грубым деревянным руинам сходство с каменоломней, однако напоминают и что-то феодальное – рейнское или Турмбергское – навеянное причудливой дикостью окружающего пейзажа.
В Чертовой Темнице, уже почти на дне ее, стоит большое оштукатуренное здание, выделяющееся, подобно гигантскому гробу повапленному, на угрюмом фоне горных елей и других непритязательных хвойных деревьев, террасами уходящих вверх на две тысячи футов.
Это здание – бумажная фабрика.
Когда я всерьез занялся торговлей семенами (проще сказать – когда мое имя стало так широко известно, что семена мои стали попадать во все восточные и северные штаты и даже в жирную почву Миссури и обеих Каролин), моя потребность в бумаге так возросла, что стоимость ее стала важной статьей моего бюджета. Стоит ли говорить, сколько бумаги у торговца семенами уходит на конверты. Изготовляются они обычно из желтоватой бумаги, загнутой с четырех углов; будучи наполнен, конверт получается почти плоский, а когда наклеена марка и надписано название растения, весьма похож на деловое письмо, приготовленное к отправке по почте. Эти небольшие конверты я употреблял в невероятных количествах – несколько сотен тысяч в год. Бумагу я одно время покупал оптом в одном из соседних городов. Теперь же, из соображений экономии, а отчасти из желания посмотреть новые места, я решил перебраться через горы (это миль шестьдесят) и в дальнейшем заказывать бумагу на фабрике в Чертовой Темнице.
Санный путь в конце января был отличный и обещал еще продержаться, поэтому я, несмотря на лютый холод, пустился в путь сереньким февральским утром в санях, заваленных буйволовыми и волчьими шкурами, и, проведя ночь в дороге, на следующий день к полудню уже завидел гору Вудолор. Далекая вершина ее дымилась от мороза, белый пар поднимался, как из трубы, с ее макушки, поросшей белым от снега лесом. Все вокруг было схвачено морозом и казалось одной сплошной окаменелостью. Стальные полозья моих саней скрипели и хрустели по сахарному снегу, как по битому стеклу. Леса, местами подходившие к самой дороге, тоже ощущали это леденящее воздействие, их затаенная сердцевина, пронизанная холодом, тоскливо стонала – не только в размахивающих ветвях, но и в стволах, когда неистовые порывы ветра безжалостно их хлестали. Огромные жесткие клены, ломкие от мороза, раскалывались пополам, как трубочные чубуки, и устилали бесчувственную землю.
Весь в хлопьях замерзшего пота, с каждым выдохом выпуская из ноздрей две закругленные струи, Вороной, мой добрый конь, всего шести лет от роду, вздрогнул и шарахнулся на повороте, где, прямо поперек дороги, лежала только что упавшая старая скрюченная лиственница, извиваясь темной тенью, словно анаконда.
На подъезде к Мехам неистовый ветер дул мне прямо в спину, словно вталкивал в гору мои сани с высокой спинкой. Он с визгом промчался вперед, будто нагружен был погибшими призраками, привязанными к нашему несчастному миру. Еще не достигнув вершины, Вороной, мой конь, словно выведенный из терпения пронзительным ветром, оттолкнулся сильными задними ногами, вздернул легкие сани прямо вверх и, грациозно проскочив узкий перевал, помчался как одержимый вниз мимо развалин лесопилки. В Чертову Темницу лошадь и водопад низринулись вместе.
Вскочив на ноги и забыв про шкуры, я подался назад, уперся одной ногой в крыло и, работая вожжами и мундштуком, остановил его на каком-то повороте, в последнюю минуту избежав столкновения с холодной мордой скалы, перегородившей дорогу подобно геральдическому «льву лежащему».
Я не сразу разглядел бумажную фабрику.
Вся воронка сверкала белым светом, лишь тут и там темнел кусок гранита, с которого снег смело ветром. Горы были укутаны в саваны – вереница альпийских мертвецов. Где же фабрика? Вдруг слуха моего коснулся ноющий, гудящий звук. Я оглянулся. Да вот она. Большая, оштукатуренная фабрика лежала передо мной, как застывшая на месте лавина. Ее раболепно окружало еще несколько зданий помельче, некоторые из них, судя по их небрежно-дешевому виду, вытянутой в длину форме, частым окнам и безутешному выражению, несомненно были бараки для рабочих. Белоснежный поселок среди снегов. Живописный беспорядок в расположении этих зданий привел к появлению каких-то случайных площадок и дворов – самый характер местности не позволял и думать о том, чтобы расположить их более гармонично. Несколько узких проулков, частично засыпанных снегом, упавшим с крыш, прорезали поселок во всех направлениях.
Когда я, свернув с наезженной дороги, звенящей бубенцами многочисленных фермеров – пользуясь хорошим санным путем, они везли дрова на рынок – и часто обгоняемый быстрыми санями, что посещали кабаки широко раскиданных деревень, – когда я, повторяю, свернул с оживленной дороги, и попал в Мехи Безумной Девы, и увидел впереди мрачный Черный перевал, – тогда что-то скрытое, однако явно присущее времени и месту, напомнило мне, как я впервые увидел темный, грязный Темпл-Бар. А когда мой Вороной проскочил перевал, едва не задев его скалистую стену, я вспомнил, как понесли лошади лондонского омнибуса и примерно таким же манером, хотя и не с такой быстротой, проскочили под старинную арку Рэна.[21] Две эти минуты отнюдь не повторяли одна другую, но это частичное несоответствие придало сходству не меньше яркости, чем путаница во сне. Поэтому, когда я остановил наконец лошадь у выступающей скалы и увидел причудливое нагромождение фабричных зданий, и, оставив позади наезженную дорогу и перевал, остался один, и стал бесшумно, словно украдкой, пробираться глубокими проездами в это укромное место, и увидел длинный с высокими фронтонами главный фабричный корпус с башней – для подъема тяжелых ящиков, – возвышающейся среди скученных вокруг служебных и жилых бараков, как церковь Темпла среди окружающих ее контор и квартир, и когда немыслимая уединенность этого таинственного горного уголка совсем меня околдовала, – тогда все, чего не додала память, добавило воображение, и я сказал себе: «Точная копия Рая для Холостяков, только засыпанная снегом и выбеленная морозом до замогильного цвета».
То и дело вылезая из саней и осторожно продвигаясь вниз по опасному склону – и лошадь, и человек время от времени скользили на обледенелых ухабах, – я наконец выехал – или ветер вынес меня – на самую большую площадь, сбоку от главного корпуса. Пронзительно и резко дуло из-за угла; как работа красных демонов, кипела в стороне Кровяная река. Пересекая площадь наискосок, стояла длинная поленница, сверкая ледяными доспехами. Вдоль стены фабрики тянулась коновязь, на каждый столб которой с северной стороны налипли лепешки снега. Мороз сковал и словно вымостил площадь каким-то звонким металлом.
И опять перевернутое сходство: спокойный, ласковый сад Темпла, и Темза омывает его зеленые лужайки, подумалось мне.
Но где веселые холостяки?
И тут, пока мы с моим конем стояли, дрожа на ветру, из ближайшего барака выбежала девушка и, накинув на непокрытую голову тонкий передник, двинулась к зданию напротив.
– Минутку, голубушка, нет ли тут какого-нибудь сарая, куда поставить сани?
Она остановилась и обратила ко мне лицо, бледное от усталости, синее от холода; глаза, неестественно расширенные давним горем.
– Нет, – смутился я. – Я ошибся. Беги, беги, мне ничего не нужно.
Я подвел коня к самой двери, из которой она вышла, и постучал. В двери появилась еще одна бледная синяя женщина, вцепившаяся в дверь, чтобы укрыться от сквозняка.
– Нет, я опять ошибся. Ради бога, затвори дверь… постой. А мужчин здесь никаких нет?
В эту минуту какой-то смуглый, тепло укутанный мужчина подходил к дверям фабрики, и девушка, завидев его, быстро прикрыла ту дверь, в которой только что появилась.
– Тут нет сарая для лошади, сэр?
– Вон туда, в дровяной, – отвечал он и исчез за дверью фабрики.
Не без труда мне удалось протолкнуть коня и сани между кучами дров, уже распиленных и наколотых. Потом я накрыл коня попоной, сверх попоны набросил буйволову шкуру и подоткнул ее края под шлею, чтобы ветер не оголил его, затем накрепко привязал и, спотыкаясь, побежал к дверям фабрики, одеревенев от мороза и путаясь в складках тяжелого пальто.
И вот я уже стою в просторном помещении, где невыносимо светло от длинного ряда окон, отбрасывающих внутрь здания снежный пейзаж на улице.
За рядами пустых конторок сидели девушки с пустыми глазами, держа в руках белые папки и складывая чистую бумагу.
В одном углу залы высилось огромное сооружение из железа, и что-то вертикально, как поршень, поднималось и падало на толстую деревянную доску. Перед ним, как послушный его слуга, стояла высокая девушка и кормила железного зверя полудестями розовой почтовой бумаги, которая при каждом поклоне машины получала в одном углу отпечаток в виде веночка из роз. Я перевел глаза с розовой бумаги на бледные щеки, но ничего не сказал.
Сидя перед каким-то длинным аппаратом, в котором, как в арфе, натянуты были длинные тонкие струны, другая девушка кормила его листами писчей бумаги, а чуть они уплывали от нее по струнам, их убирала с другого конца машины другая девушка. К первой эти листы попадали пустыми, к второй уходили разлинованными.
Я глянул на лоб первой из этих работниц и увидел, что лоб этот розов и свеж; глянул на лицо второй и увидел, что он разлинованный и увядший. И пока я смотрел на них, они, чтобы отдохнуть от однообразия, поменялись местами, и там, где только что был юный свежий лоб, теперь был виден разлинованный и увядший.
Высоко на узкой площадке, еще выше, на венчающей ее табуретке, сидела еще работница – она кормила какого-то другого железного зверя, а у подножия площадки сидела ее напарница, готовая ее сменить.
Ни слова здесь не звучало. Ничего не было слышно, кроме низкого, упорного, всевластного урчания железных зверей. Человеческий голос был изгнан отсюда. Машины – хваленые рабы человека – здесь обслуживались людьми, и люди служили им молча и подобострастно, как раб служит султану. Работницы казались даже не дополнительными колесами к машинам, но всего лишь винтиками в этих колесах.
Всю эту картину я воспринял с одного взгляда, еще до того как стал разматывать меховой шарф, защищавший мне горло; не успел я снять его, как смуглый мужчина, стоявший со мною рядом, вскрикнул и, схватив меня за руку выше локтя, вытащил на улицу, без лишних слов подобрал немного смерзшегося снега и стал тереть мне щеки.
– Два белых пятна, как глазные белки, – выговорил он. – Да вы, уважаемый, щеки себе отморозили.
– Вполне возможно, – пробормотал я. – В Чертовой Темнице мороз мог бы проникнуть и глубже. Трите, трите.
Скоро щеки мои стали оживать, и я почувствовал страшную, рвущую боль. Словно их жевали, одна справа, другая слева, две отощавшие гончие собаки. Словно я стал Актеоном.[22]
Когда с этим было покончено, я снова вошел в здание, изложил свое дело и честь по чести обо всем договорился, после чего попросил, чтобы мне показали фабрику.
– Это у нас работка для Купидона, – сказал смуглый мужчина. – Эй, Купидон! – И когда в ответ на это игривое прозвище к нам подошел краснощекий, в ямочках, смышленый и немного развязный на вид паренек, до этого нагловато, на мой взгляд, разгуливавший среди вялых работниц – как золотая рыбка в бесцветных волнах, – но ничем как будто не занятый, – мужчина велел ему поводить незнакомого джентльмена по всему зданию.
– Сначала пойдем смотреть водяное колесо, – сообщил мне сей жизнерадостный юноша, напустив на себя ребяческую важность.
Выйдя из отделения, где бумагу складывали, мы прошли по холодным влажным доскам и остановились под большим мокрым навесом, брызжущим пеной, как зеленый, облепленный полипами нос корабля Ост-Индской компании в бурю. Здесь оборот за оборотом крутилось огромное темное водяное колесо, с мрачной решимостью выполняя свое единственное непреложное назначение.
– Оно приводит в движение все наши машины, сэр, во всех концах наших зданий, и там, где девушки работают, тоже.
Я глянул и убедился, что мутные воды Кровяной реки не изменили своего оттенка, оказавшись в распоряжении человека.
– Вы тут делаете только чистую бумагу, так? Ничего не печатаете? Чистая бумага, и больше ничего. Так я понимаю?
Он посмотрел на меня, словно заподозрил, что у меня не все дома.
– Да, да, конечно, – сказал я, сильно смешавшись, – просто мне показалось странным, что красная вода дает такие бледные ще… то есть листы.
По мокрой и шаткой лестнице он привел меня в большую светлую комнату, где всю обстановку составляли грубые, похожие на кормушки вместилища, пристроенные к стенам, а у этих кормушек, как кобылки у коновязи, теснились девушки, и перед каждой стояла торчком длинная поблескивающая коса, нижним концом намертво прикрепленная к краю кормушки. Коса была чуть изогнута, рукоятки не было – ни дать ни взять сабля. И через острый ее край девушки без устали тянули длинные полосы тряпок, добела отмытых, – брали их из корзины, разрывали по швам и мелкие лоскуты расщипывали чуть ли не в корпию. В воздухе плавали тонкие ядовитые частицы, со всех сторон залетая в легкие, как пылинки из солнечного луча.
– Это – тряпочная, – прокашлял мальчик.
– Душновато здесь, – прокашлял я в ответ, – но девушки не кашляют.
– А они привыкли.
– Откуда же вы получаете столько тряпок? – И я зачерпнул из корзины полную горсть.
– Некоторые из здешних деревень, а некоторые из-за моря – Ливорно, Лондон.
– Тогда вполне возможно, – протянул я задумчиво, – что среди этих тряпок есть старые рубашки, подобранные в спальнях Рая для Холостяков. Только пуговиц не осталось. Скажи-ка, мальчик, тебе никогда не попадались пуговицы для холостяков?[23]
– А они тут не растут. Чертову Темницу цветы не любят.
– Ах, так ты говоришь про цветы с таким названием?
– А вы разве не про это спрашиваете? Или про золотые запонки нашего хозяина, старого Холостяка, его наши девушки все так шепотком называют.
– Значит, этот мужчина, которого я видел внизу, холостой?
– Да, он не женатый.
– Эти сабли, если я не ошибаюсь, смотрят лезвием вперед? Но их пальцы и тряпки так мелькают, что я мог ошибиться.
– Да, лезвием вперед.
Вот, подумал я, теперь ясно, лезвием вперед, и каждую саблю несут вот так, лезвием вперед впереди каждой девушки. Если я правильно запомнил, что читал, так бывало и в старину, когда осужденных государственных преступников вели из суда на казнь. Судебный пристав шел впереди и нес саблю лезвием вперед, это означало смертный приговор. И так же, сквозь чахоточную бледность своей пустой, рваной жизни, эти рано побелевшие девушки идут к смерти.
– На вид эти косы очень острые, – опять обратился я к мальчику.
– Да, им нельзя давать тупиться. Вон, глядите!
В. эту минуту две из работниц бросили тряпки и стали водить оселком каждая по лезвию своей сабли. От воплей стали непривычная моя кровь застыла в жилах. Сами себе палачи, подумал я, сами точат оружие, которое их убивает.
– Почему эти девушки все бледные как полотно, мальчик?
– Да я думаю… – он плутовато подмигнул, это было чистейшее недомыслие, а не взрослая бессердечность, – я думаю, они столько держат в руках полотняных лоскутов, поэтому и сами стали как полотно.
– Ну ладно, мальчик, пошли еще куда-нибудь.
Более трагичным и более загадочным, чем любая непонятная картина на этой фабрике, будь то люди или машины, была эта особая, порожденная неведением жестокость ко всему привычного юнца.
– А теперь, – продолжал он бодро, – вам небось интересно посмотреть нашу большую машину, мы за нее только прошлой осенью двенадцать тысяч долларов выложили. Она-то и делает бумагу. Сюда пожалуйте, сэр.
Следуя за ним, я пересек большое, чем-то забрызганное помещение, где стояли два огромных круглых чана, полные чего-то белого, мокрого, волокнистого, напоминающего белок сваренного всмятку яйца.
– Вот, – сказал Купидон, на ходу похлопывая чаны, – вот эта белая штука – самое начало бумаги. Вон как она плавает и пузырится под гребком. Отсюда, из обоих чанов, она поступает в один общий желоб и дальше не спеша движется в большую машину. Вот и нам туда.
Он ввел меня в комнату, где я едва не задохнулся от странного, кровавого, животного жара, словно здесь наконец вызревали недавно виденные нами заразные частицы.
Передо мной, раскатанная наподобие длинной восточной рукописи, простиралась одна сплошная металлическая пластина, на которой множество таинственных роликов, колес и цилиндров находились в неспешном и непрерывном движении.
– Сначала масса поступает сюда, – сказал Купидон, указывая на ближайший к нам конец машины. – Вон, видите, втекает и растекается по широкой наклонной доске; потом – смотрите – ускользает, вся жидкая и дрожащая, вот сюда, под первый ролик. Теперь пошли за ней и увидите, как она переходит из-под него в следующий цилиндр. Вон, видите – стала чуть погуще. Еще один шаг – и еще загустела. Еще один цилиндр – и стала такая прочная – хотя толщиной пока все еще со стрекозиное крылышко, – но уже получается воздушный мостик, как подвешенная паутинка между еще двумя отдельными роликами; перетекает через последний, потом опять вниз, на минутку пропадает из виду среди вон тех цилиндров, которых почти и не разглядеть, и опять появляется вот здесь, теперь наконец более похожая не на массу, а на бумагу, но все еще очень нежную и непрочную. Но… пожалуйста, сэр, продвиньтесь сюда… вот здесь, в этой точке уже на что-то похоже, как будто в конце концов можно будет и в руки взять. Но до этого еще далеко, сэр. Путь еще не близкий, еще сколько цилиндров по ней прокатится.
– Боже милостивый! – сказал я, потрясенный размером, бесконечными извивами и нарочитой медлительностью машины. – Сколько же времени нужно массе, чтобы пройти из конца в конец и превратиться в бумагу!
– Не так уж долго, – улыбнулся всезнающий младенец высокомерно и снисходительно. – Всего девять минут. Да вы сами проверьте. Кусочек бумаги у вас найдется? А-а, вот тут есть, на полу. Напишите на нем какое хотите слово, давайте я его сюда брошу и посмотрим, через сколько времени он вылезет на том конце.
– Давай, – сказал я, доставая карандаш. – Напишу на нем твое имя.
Купидон велел мне достать часы и ловко опустил надписанный клочок бумаги на незакрытый участок массы.
Я тут же заметил, где стояла секундная стрелка на моих часах.
И медленно двинулся вслед за клочком, дюйм за дюймом; иногда останавливался на целых полминуты, когда он скрывался под непонятным скоплением нижних цилиндров, но постепенно опять появлялся, и т. д., и т. д., дюйм за дюймом, то на виду скользил себе, как пятнышко на подрагивающем листе, а то опять пропадал и т. д., и т. д. – дюйм за дюймом, а масса тем временем все густела, и вдруг я увидел какой-то бумагопад – нечто и правда очень похожее на водопад; слух резнуло щелканье ножниц, словно кто резал веревку, и вниз полетел несложенный лист готовой писчей бумаги, еще влажный и теплый, на котором теперь еле виднелся мой выцветший «Купидон».
Путешествию моему пришел конец – я дошел до конца машины.
– Ну, сколько времени? – спросил Купидон.
– Девять минут, с точностью до секунды, – сказал я, поглядев на часы.
– Я ж вам говорил.
На секунду мной овладело странное чувство, нечто подобное можно, вероятно, испытать, когда на глазах у тебя сбывается некое загадочное пророчество. Но что за глупости, возразил я себе, перед тобою просто машина, и вся ее суть в точнейшем расчете движения.
Перед тем я был так поглощен колесами и цилиндрами, что только теперь заметил: возле машины стояла понурого вида женщина.
– Эта-то прямо пожилая. И тоже молчит. И по виду не скажешь, что привычная.
– Да, – прошептал Купидон, еле слышный за грохотом машины. – Она у нас только с прошлой недели. Раньше сиделкой работала. Но такой работы здесь мало, она и бросила. А вы посмотрите, какую бумагу она прибирает.
– Вижу, писчую. – И потрогал охапки влажных теплых листов, что текли и текли в готовые их принять руки женщины. – И ничего, кроме писчей, эта машина не делает?
– Иногда, только не часто, делаем и работу потоньше – кремовую с узором, называется верже, и еще самые большие листы, королевские. Но спрос больше всего на писчую, вот мы больше всего писчую и делаем.
Очень получилось любопытно. При виде того, как чистая бумага падает и падает из машины, я стал мысленно перебирать, на какие только надобности не пойдут эти тысячи листов. Чего только не напишут на этих ныне чистых страницах – проповеди, резюме судебных дел, рецепты врачей, любовные письма, свидетельства о браке и о разводе, записи о рождении и смертные приговоры и так без конца. А потом, вернувшись мыслью к тому, как они лежат здесь незаполненные, я невольно вспомнил знаменитое сравнение Джона Локка:[24] ведь он в подтверждение своей теории, что никаких врожденных мыслей у человека нет, сравнивал человеческую душу при рождении с листом чистой бумаги, на котором впоследствии что-то будет написано, но что именно – никто не знает.
Медленно прохаживаясь взад-вперед вдоль неумолкающей мудреной машины, я подивился также, уловив в каждом ее движении не только подчиненность общей задаче, но и полную неукоснительность.
– А вот эта паутина, – сказал я, указывая на квадрат, еще далекий от совершенства, – неужели никогда не рвется? Такая хрупкая, просто чудо, а машина, сквозь которую ее прогоняют, такая мощная.
– Не слышал, чтобы она хоть раз прорвала дырочку.
– И никогда не останавливается, не увязает?
– Нет, она должна двигаться. Машине задают урок: двигаться вот так, и с такой скоростью она движется. Масса не двигаться не может.
Глядя на несгибаемое железное животное, я ощутил нечто вроде благоговейного ужаса. Под влиянием настроений такие сложные, тяжеловесные машины порой вселяют в человеческое сердце безотчетный страх, словно ворочается перед глазами живой, пыхтящий библейский бегемот.[25] Но особенно страшным в том, что я видел, была железная необходимость, роковая обреченность, которой все подчинялось. Хотя местами я не мог разглядеть, как движется жидкий, полупрозрачный поток массы в самом своем потаенном и вовсе незримом продвижении, все равно было ясно, что в этих точках, где оно от меня ускользало, движение продолжалось, неизменно покорное самовластным прихотям машины. Я стоял как зачарованный. Душа рвалась вон из тела. Перед глазами у меня в медленном шествии по крутящимся цилиндрам будто следовали приклеенные к бледному зародышу бумаги еще более бледные лица всех бледных девушек, которых я перевидал за этот тягостный день. Медленно, скорбно, умоляюще, но послушно они чуть поблескивали, и страдание их неясно проступало на неготовой бумаге, как черты измученного лица на плате святой Вероники.
– Ну и ну! – вскричал Купидон, уставившись на меня, – не выдержали жары!
– Нет, уж если на то пошло, мне скорее холодно.
– Пошли отсюда, сэр, живо, живо. – И умненький не по летам ребенок, как заботливый отец, потащил меня вон из комнаты.
Спустя несколько минут, немного отдышавшись, я зашел в то отделение, где бумагу складывали, – первое, где я в тот день побывал, где стоял рабочий стол, окруженный пустыми конторками и девушками, непонятно чем за ними занятыми.
– Купидон сводил меня на интереснейшую экскурсию, – сказал я уже упоминавшемуся смуглому мужчине, о котором я теперь знал, что он не только старый холостяк, но и главный хозяин. – Фабрика ваша замечательная. А большая машина – чудо непостижимой сложности.
– Да, это все наши гости говорят. Гостей-то у нас, впрочем, бывает мало. Очень уж мы тут в стороне от всех дорог. И местных жителей негусто. Девушки наши по большей части из дальних деревень.
– Девушки, – отозвался я, оглянувшись на неподвижные фигуры. – Почему это, сэр, почти на всех фабриках работниц любого возраста называют девушки, а не женщины?
– А-а, вы об этом? Да потому, наверно, что, как правило, они незамужние. Я об этом как-то не задумывался. Вот и нам здесь замужние не нужны. Сегодня она здесь, а завтра, глядишь, уволилась. Нам работницы нужны только постоянные: двенадцать часов в день, и день за днем, все триста шестьдесят пять дней, кроме воскресений, Дня благодарения и постов. Это у нас такое правило. Ну вот, а раз замужних мы не держим, то тех, которых держим, и называем правильно – девушки.
– Значит, все это девицы, – сказал я и невольно поклонился, отдавая грустную дань их бледной девственности.
– Да, все девицы.
У меня опять появилось то странное ощущение.
– Щеки у вас еще бледноватые, сэр, – сказал он, внимательно ко мне приглядевшись. – На обратном пути берегите. Боль еще не прошла? А то это плохой знак.
– Я не сомневаюсь, – ответил я, – стоит мне выбраться из Чертовой Темницы, и я почувствую облегчение.
– Ну да, зимний воздух в долинах или в ущельях или в любой низине гораздо холоднее и злее, чем в других местах. Вы не поверите, а здесь сейчас холоднее, чем на вершине Вудолора.
– Вполне возможно, сэр. Однако время не ждет. Пора мне в дорогу.
С этими словами я снова укутался в пальто и меховой шарф, сунул руки в большущие котиковые рукавицы и вышел на колючий морозный воздух, где мой бедняга Вороной совсем застоялся и залубенел от холода.
И скоро, закутанный в меха и погруженный в раздумья, я поднялся из Чертовой Темницы.
На Черном перевале я остановился и еще раз вспомнил Темпл-Бар. А потом проскочил перевал, совсем один, наедине с непостижимой природой, и воскликнул: «Ох, Рай для Холостяков!» и «Ох, Ад для Девиц!»
1854
Примечания
1
Темпл-Бар – арка, воздвигнутая знаменитым английским архитектором Кристофером Рэном (1632–1723) в 1672 г.
(обратно)2
Тамплиеры (храмовники) – духовный рыцарский орден, был основан в 1119 г. для защиты пилигримов, отправлявшихся в Иерусалим к Гробу Господню. Во времена крестовых походов орден завладел огромными богатствами. В 1312 г. Папа Климент V обвинил орден в многочисленных ересях и уничтожил его. Здесь игра слов, так как в Лондоне этим же словом templer называют юристов и других чиновников, имеющих конторы или живущих в районе Лондона Темпле, расположенном между Флит-стрит и Темзой. Некогда здесь находилась резиденция рыцарей-тамплиеров.
(обратно)3
Бриан де Буагильбер – один из героев романа Вальтера Скотта (1771–1832) «Айвенго».
(обратно)4
Диван – государственный совет в Турции. Мелвилл имеет в виду государственные учреждения Великобритании.
(обратно)5
Аккра – крепость в Палестине, игравшая важную роль во времена крестовых походов.
(обратно)6
Вестминстер-Холл – огромный зал в Вестминстерском дворце, где заседали различные суды.
(обратно)7
Согласно Библии, из сада Эдемского вытекали четыре реки, одна из которых Евфрат (Быт., 2:14).
(обратно)8
…Р.Ф.К. и его царственного брата – имеются в виду Роберт Фрэнсис Кук и его брат Уильям Генри, которые ввели Мелвилла в общество лондонских юристов во время его пребывания в Лондоне в 1849 г.
(обратно)9
Доктор Джонсон Сэмюэл (1700–1784) – известный английский языковед, литератор и критик. За пропаганду строгих нравственных устоев Мелвилл сравнивает его со св. Бенедиктом (480–543), который основал монастырь со строгим уставом.
(обратно)10
Чарлз Лэм (1775–1834) – английский писатель-эссеист эпохи романтизма.
(обратно)11
Линкольн-Инн, Фэрнивалз-Инн, Грэйз-Инн – построенные в XV–XVI вв. доходные дома в Темпле, где снимали квартиры юристы.
(обратно)12
Лорд Верулам – титул Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), знаменитого английского философа, канцлера Генриха VIII.
(обратно)13
Блюхер Гебгарт Лебрехт (1742–1819) – прусский генерал-фельдмаршал; его армия опоздала к началу битвы союзных войск с армией Наполеона при бельгийской деревне Ватерлоо 18 июня 1815 г., но ее появление решило судьбу сражения и наполеоновской империи.
(обратно)14
«Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов». – Мелвилл цитирует Новый Завет (1 Тим., 5:23).
(обратно)15
Железный Герцог – прозвище английского полководца и государственного деятеля Артура Уэлсли, герцога Веллингтона (1769–1852).
(обратно)16
Пульчи Луиджи (1432–1484) – флорентийский поэт.
(обратно)17
Король англосаксонского королевства Уэссекс Альфред (ок. 849 – ок. 900, прав, с 871), прозванный Великим, сыграл большую роль в становлении государства, его культуры.
(обратно)18
Эпсомский ипподром – построен в 1829 г. в Эпсоме, графство Суррей, один из самых популярных ипподромов Англии, где с 1730 г. регулярно проводились скачки.
(обратно)19
«Декамерон» – знаменитое сочинение итальянского писателя эпохи Возрождения Джованни Боккаччо (1313–1375).
(обратно)20
В «Божественной комедии» великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) ад разделен на девять кругов, расположенных один ниже другого, но и первый круг находился на дне пропасти.
(обратно)21
См. прим. 1.
(обратно)22
Актеон – в древнегреческой мифологии охотник, превращенный Артемидой в оленя и растерзанный собственными собаками.
(обратно)23
Пуговицы для холостяков – игра слов: button – бутон и пуговица.
(обратно)24
Джон Локк (1632–1704) – знаменитый английский философ-сенсуалист; в своем трактате «Опыт о человеческом разуме» (1690) отрицал наличие врожденных идей, называя человеческий разум «чистой доской» (tabula rasa).
(обратно)25
Библейский бегемот – реминисценция из Библии (Иов, 40:10–27).
(обратно)


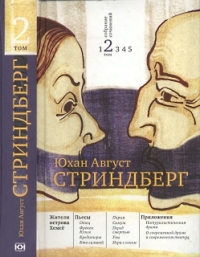
Комментарии к книге «Рай для Холостяков и Ад для Девиц», Герман Мелвилл
Всего 0 комментариев