Синклер Льюис Элмер Гентри
Перевод под ред. М.Кан.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
I
Элмер Гентри был пьян. Он был пьян воинственно и самозабвенно; он был словоохотлив во хмелю. Навалившись на стойку кабачка Оулд Хоум, самого пышного и элегантного питейного заведения в городе Кейто, штат Миссури, он уговаривал буфетчика спеть вместе с ним популярный вальс «Славные летние дни».
Буфетчик подышал на рюмку, протер ее и, взглянув на Элмера сквозь сверкающее стеклянное полушарие, ответил, что он, по правде говоря, не очень-то мастер по части пения. Впрочем, он сказал это с улыбкой, да и какой буфетчик не улыбнулся бы, глядя на Элмера, возбужденного, горячего, задорного, с такой победительной усмешкой на мясистом лице!
— Ну что ж, старик, — уступил Элмер. — Ладно. Тогда мы с приятелем покажем тебе класс. Познакомься с моим соседом по комнате. Джим Леффертс! Парень — первый сорт. А не то стал бы я с ним жить в одной комнате! Лучший полузащитник на Среднем Западе! Знакомьтесь.
И буфетчик с величайшей готовностью пожал руку мистера Леффертса. Затем Элмер и Джим Леффертс вернулись к своему столику и пьяными голосами затянули протяжную и звучную негритянскую мелодию. Пели они, надо сказать, превосходно. У Джима был звонкий тенорок, а что до Элмера Гентри, то в нем самое сильное впечатление производили не массивная фигура, не эта шапка густых черных волос и даже не эти дерзкие темные глаза, а голос: сочный, бархатный баритон. Этот человек был прирожденный сенатор. За всю свою жизнь он не сказал ничего умного и интересного, и все же каждое его слово казалось значительным. В его устах простое «здравствуйте» звучало глубокомысленно, как изречение Канта, празднично, как духовой оркестр, и торжественно, как орган в кафедральном соборе. Его голос пел, точно виолончель, и, очарованные им, вы не замечали вульгарных словечек Элмера Гентри, его бахвальства, его сальных острот и вопиющего насилия над грамматикой, которое он учинял в ту пору…
Подобно усталому путнику, что смакует каждый глоток холодного пива, слаженный дуэт голосов сладострастно выводил певучие фразы:
По тропинкам с подружкой гуляя в тени, Ты ей руку тихонько пожми. «Ты моя, а я твой, хорошо нам с тобой В эти славные летние дни!»Элмер даже прослезился от избытка чувств.
— Пошли отсюда, — всхлипнул он. — Подраться бы, что ли… Ты ж у меня забияка, Джим. Поддень кого-нибудь, пусть к тебе привяжется, а там подоспею я и башку ему снесу. Я им задам! — Он грозно возвысил голос и широко развел ручищи, готовый схватить воображаемого обидчика. Он клокотал от ярости при мысли о злодеянии, которое вот-вот должно совершиться. — Я ему всыплю, гаду! Ей-ей. Задевать моего приятеля? Да вы знаете, кто я такой? Я — Элмер Гентри, вот кто! Я т-тебе покажу!
Буфетчик, добродушно ухмыляясь, засеменил к их столику, навстречу верной погибели.
— Кончай, Сорви-Голова! — унимал его Джим. — Выпей лучше еще стаканчик! Я сейчас закажу. — И тут Элмер снова пустил слезу, оплакивая горестную судьбу неудачника, которого, как он смутно помнил, зовут Джим Леффертс.
Внезапно, будто по мановению волшебной палочки, перед ним возникли два стакана. Он пригубил один и озадаченно пробормотал:
— Извиняюсь!
В стакане оказалась вода. Ничего, его не проведешь! В том, пузатеньком, безусловно, будет виски. Так и есть. Он прав, как всегда. С самодовольной усмешкой он высосал стопку. Неразбавленное виски опалило ему горло, наполнив его ощущением силы и умиротворенности. Осталось еще только проучить того малого — правда, он не припомнит кого, — и уж тогда без остатка раствориться в ангельском благодушии.
Обстановка бара действовала на Элмера блаженно-успокоителыно. От кислого и бодрящего запаха пива он чувствовал себя особенно здоровым. А как ослепительно прекрасен буфет! Мерцание красного дерева, изысканная мраморная стойка, сверкающие бокалы, затейливой формы бутылки с неведомыми напитками, расставленные столь искусно, что смотреть на них — одно удовольствие. Неяркий, упоительно мягкий свет сочится сквозь причудливые окна — таких окон нигде и не встретишь, кроме как в церкви, пивной или ювелирной лавке, — словом, там, где можно укрыться от действительности. На коричневых оштукатуренных стенах красовались стройные нагие девицы.
Элмер отвернулся. Женщины не влекли его сейчас.
— Подлая девка, эта Джуанита! — буркнул он. — Только и думает, как бы из тебя вытянуть побольше — и все.
Но что это? Как интересно! Откуда-то, словно сам собою, выпорхнул обрывок газеты и скользнул на пол. Презабавная штука! Элмер разразился хохотом.
Затем в его сознание проник чей-то давным-давно знакомый голос. Голос возникал в далекой световой точке и летел к нему по гулким коридорам сна:
— Нас с тобой выставят отсюда, Сорви-Голова. Пошли лучше.
Элмер всплыл со стула. Прелестно! Ноги идут сами по себе, без всякого усилия. Постойте, что еще за номер — да ведь они заплетаются! Правая нога почему-то впереди левой, а ей вроде бы полагается быть позади! Элмер хихикнул и оперся на чью-то руку — руку помощи, не приделанную к корпусу, протянутую ему из небытия. Потом — миля за милей, неведомые, невидимые кварталы. Голова его постепенно прояснялась, и он торжественно объявил некоему Джиму Леффертсу, который почему-то внезапно очутился рядом с ним:
— Надо будет вздуть этого типа!
— Да уж ладно, давай! Вздуй кого-нибудь, отведи душу.
Элмер был поражен. Он загрустил. Его нижняя челюсть огорченно отвисла, изо рта показалась струйка слюны. Да, но ведь ему же разрешили отвести душу и подраться! Ура! И он нетвердыми шагами устремился навстречу желанной потасовке.
Великолепно! Вот это вечерок! Впервые за много недель он стряхнул с себя скуку Тервиллингер-колледжа.
II
В то время, осенью 1902 года, Элмер Гентри, известный у себя на курсе под кличкой «Сорви-Голова», был капитаном футбольной команды Тервиллингер-колледжа, лучшей футбольной команды за последние десять лет. Это она одержала победу в чемпионате на первенство Восточного Канзаса, хотя это место оспаривали команды десяти духовных колледжей, из коих у каждого были и свои собственные учебные корпуса, и ректор, и часовня, своя команда болельщиков, собственное знамя, и программа обучения, не уступающая программе лучших средних учебных заведений. Однако с того вечера, когда состоялось официальное закрытие футбольного сезона, на котором юные джентльмены устроили грандиозный фейерверк, предав сожжению девять бочек дегтя, вывеску еврея-портного и пеструю кошечку ректора, — с того самого вечера Элмер изнывал от скуки.
Баскетбол и пустячные упражнения гимнастов он считал занятием, недостойным героя футбольного поля. Поступая в колледж, он надеялся получить кое-какие практические познания, которые могут пригодиться юристу, врачу, страховому агенту. Он еще не решил тогда, кем будет. (Не решил он этого и по сей день, хотя был уже на последнем курсе колледжа и хотя в ноябре ему уже стукнуло двадцать два года.) Однако надежды его не оправдались. Зачем нужна тригонометрия в зале суда или даты царствования Карла Великого у операционного стола? (Кстати сказать, прошлой весной, на экзамене по истории Европы, он эти даты вроде бы знал.) Много ли заработаешь на дурацких цитатах этого старого олуха Вордсворта? Как это там у него?.. Ну, эта тарабарщина: «Подвластны миру суеты мы слишком…» и прочее.
Муть все это, чепуха. Лучше бросить колледж и пойти работать. Но раз уж его матери так хочется, чтобы ее сын получил диплом, нужно тянуть лямку. Во всяком случае, это куда легче, чем скирдовать сено или таскать мешки. Тем более, мать говорит, что в ее модной лавке дела идут отлично!
Несмотря на свой великолепный голос, Элмер воздерживался от участия в ученых дебатах, потому что терпеть не мог рыться в книгах. Ничуть не более привлекали его молебствия и душеспасительное красноречие Христианской Ассоциации Молодых Людей, ибо всеми силами своей бесхитростной и здоровой натуры он ненавидел благочестие и обожал пьянство и мирские радости.
Случалось, что, повторяя на занятиях ораторского искусства блистательные речи великих мыслителей Даниэля Уэбстера[1], Генри Уорда Бичера[2] или Чонси Депью[3], он ощущал сладость власти над аудиторией, когда ты держишь людей точно в кулаке и от одного звука твоего голоса их бросает в жар и холод. Члены студенческого дискуссионного клуба уговаривали его поступить к ним, но что это были за люди? Жалкие хлюпики, очкарики! И потом — торчать в затхлой библиотеке и вычитывать из пыльных захватанных книг статистические данные об имиграции или промышленности Сан-Доминго?! Да это же попросту непристойно!
На экзаменах он не проваливался только потому, что Джим Леффертс силой заставлял его сидеть над книгами.
Джима колледж тяготил меньше. У него был определенный вкус к учению. Он любил узнавать новое о людях, что жили тысячи лет назад; его увлекали чудеса химической лаборатории. Элмер только диву давался, как это Джим, такой мастер выпить, такой ловкий волокита, может находить что-то интересное в римских колесницах и незатейливых амурных делах душистого горошка. Что ж, и ему прикажете так? Ну нет! Очень надо! Ему бы только вырваться отсюда, окончить юридический, а там он в жизни не откроет больше ни одной книги: присяжных и так нетрудно водить за нос, а дела можно поручить какому-нибудь старому недотепе.
Его бы уж давно доконали нудные лекции наставников, если бы изредка ему не выпадали на долю невинные радости: прогулять очередное занятие вместе с Джимам, покурить тайком, поухаживать за своими однокурсницами или дочкой булочника, а то и напиться так, чтобы море по колено! Да только частые попойки были ему не по карману, а однокурсницы, по большей части, были страшны, как смертный грех, и ревностны к учению.
Обидно было видеть, как этот здоровенный детина, которому, казалось, сам бог велел сражаться на ринге, царить на рыбном базаре или орудовать на бирже, слоняется по сонным коридорам Тервиллингер-колледжа.
III
Тервиллингер-колледж, основанный ревностными баптистами и существующий на их средства, стоит на окраине городка Гритцмейкер-Спрингс, штат Канзас. (Источник, что дал название городишке[4], давным-давно высох, а Гритцмейкеры переселились в Лос-Анжелос и стали владельцами гастрономических магазинов или контор по продаже земельных участков.) Городок раскинулся в прерии, где зимою свирепствуют снежные бури, летом — пыль и жара, а хорошо бывает лишь зеленой весною и сонной осенью.
Тервиллингер-колледж никак не спутаешь с богадельней, ибо на его дворе красуется большой камень, испещренный надписями учащихся.
Большинство преподавателей колледжа — бывшие священники.
При колледже имеется мужское студенческое общежитие, но Элмер Гентри и Джим Леффертс жили в городе, в старинном особняке, некогда составлявшем фамильную гордость самих Гритцмейкеров: квадратной кирпичной громадине под белым куполом. В комнате, которую занимали друзья, все оставалось таким же добротным и солидным, как во времена ее бывшего хозяина Августа Гритцмейкера: широчайшая резная кровать черного ореха, тяжелые и вечно пыльные парчовые портьеры; черные ореховые стулья в чехлах с позолоченными бомбошками. Окна открывались туго. В этой комнате, точно в магазине подержанной мебели, царил дух старательной добропорядочности и несбывшихся надежд.
Музейная обстановка дома как-то особенно сильно оттеняла юношескую энергию и бодрость Джима Леффертса. По массивной фигуре Элмера уже угадывалось, что он может обрюзгнуть в будущем; но Джиму эта опасность не угрожала никогда. Худощавый и невысокий, на шесть дюймов ниже Элмера, он был тверд, как слоновая кость, гибок и упруг. Родом он был из деревушки, затерянной в прериях, но, несмотря на это, в нем чувствовались утонченность и врожденное изящество. Весь его гардероб — костюм «на каждый день», заметно потертый на локтях, и темно-коричневый «выходной» — был приобретен в магазине готового платья: пуговицы были пришиты кое-как, швы расползались, и все же на нем даже эти вещи выглядели элегантно. Видно было, что этот человек сумеет поставить себя в любом обществе, стоит ему только захотеть. В поднятом воротнике его пальто было что-то романтическое; залатанные брюки не казались свидетельством бедности — в них чувствовалась обдуманная небрежность и даже своеобразный шик; а его галстуки — в общем-то самые обыкновенные — наводили на мысль о принадлежности к фешенебельному клубу или блестящему студенческому землячеству.
Тонкое лицо его дышало решимостью. В первый момент бросалась в глаза только его юношеская свежесть, но постепенно сквозь нее проступало другое: характер, твердая воля. Его карие глаза светились насмешливо и дружелюбно.
Джим Леффертс был единственным другом Элмера; единственным настоящим другом за всю его жизнь.
В колледже Элмера Гентри, в сущности, не любили. Да, он был кумиром местных болельщиков, да, его затаенная чувственность и грубая красота заставляли учащенно биться сердца студенток, а его мужественный смех был полон того же обаяния, что и звучный голос, — все так. Его считали самым популярным студентом колледжа; всякий был уверен, что все другие в восторге от Элмера, и никто не хотел с ним дружить. Его чуточку побаивались, чуточку стеснялись и по-настоящему злились на него.
Происходило это не только потому, что он был так громогласен, так назойливо фамильярен, так подавлял своею массой и физической силой, не только потому, что с ним было как-то неуютно. Истинная причина заключалась в том, что, кроме своей матери-вдовы, перед которой он бессознательно преклонялся, и Джима Леффертса, он всегда и от всех чего-то требовал. Элмер был убежден, что, не считая этих двух, он — средоточение вселенной, а все остальное в мире имеет ценность лишь постольку, поскольку может служить для него источником помощи и удовольствий.
Он был ненасытен.
В первый же год пребывания в колледже его, единственного первокурсника, принятого в футбольную команду, выбрали старостой курса. Казалось, кому же еще и быть старостой, как не этому рослому и веселому парню, которому наверняка суждено стать общим любимцем! Однако на этом посту Элмер не снискал себе любви однокашников. На курсовых собраниях он то и дело обрывал выступающих, давал слово только хорошеньким студенткам и тем, кто заискивал перед ним, а в самый разгар серьезных прений орал: «Да будет жевать жвачку! Ближе к делу!» Собирая взносы в фонд курса, он требовал денег тоном, не допускающим возражений, — ни дать ни взять католический священник, взимающий со своих прихожан средства на постройку нового храма.
— Больше уж его на нашем курсе никогда и никуда не выберут, будьте покойны! — цедил некий Эдди Фислингер, тощий рыжий юнец с торчащими зубами и нервным смешком, который, впрочем, сумел завоевать авторитет на курсе своим благочестием, истовыми молитвами на собраниях ХАМЛ и умением всегда находиться в гуще событий.
По обычаям колледжа председателем спортивного общества мог быть избран лишь тот, кто не состоит членом спортивной команды. Однако Элмер все-таки добился того, что его выбрали председателем спортивного общества первокурсников: пригрозил, что иначе он выйдет из состава футбольной команды. Председателем комиссии по продаже билетов он назначил Джима Леффертса, и, слегка подделав финансовые ведомости, друзья выручили в свою пользу сорок долларов, каковые и были истрачены ими наиприятнейшим образом.
На старшем курсе Элмер объявил, что он опять не прочь сделаться старостой. Между тем правила колледжа гласили, что дважды выбирать одно и то же лицо категорически запрещается.
Благочестивый Эдди Фислингер, ныне председатель ХАМЛ, жаждущий посвятить свои недюжинные таланты служению баптистской церкви, устроил у себя в комнате внеочередное молитвенное собрание и, отведя душу в молитвах, заявил, что заставит Элмера снять свою кандидатуру.
— Слабо тебе! — заметил какой-то иуда, забыв, что минуту назад Эдди помогал ему беседовать с богом.
— Кому, мне? Вот увидишь! Да его же все ненавидят, борова проклятого! — взвизгнул Эдди.
Перебегая от дерева к дереву, Эдди подгадал так, чтобы вынырнуть на двор колледжа прямо под носом у Элмера, и заговорил о… футболе, количественном анализе и преподавательнице немецкого, старой деве из Арканзаса.
Элмер что-то буркнул в ответ.
И тут с отчаянием человека, задумавшего потрясти основы вселенной, Эдди решился. Голос его срывался и звенел.
— Слушай, Сорви-Голова, не надо бы тебе второй раз выставлять свою кандидатуру в старосты. Никто еще не бывал старостой два раза.
— Не бывал, так будет.
— Да нет, Элмер, серьезно — не стоит. Будь человеком. Конечно, ребята все помешаны на тебе, но все-таки… Второй раз в старосты не выбирают. Все будут голосовать против, вот увидишь.
— Хо-хо, пусть попробуют!
— А что ты можешь сделать? Честное слово, Элм… то есть Сорви-Голова… я ж о тебе стараюсь… Ведь голосование-то тайное… Мало ли что…
— Подумаешь! Зато кандидатов выставляют в открытую! Так что катись отсюда, Фисси, и передай всем этим шавкам: каждому, кто посмеет выставить вместо дядюшки Элмера другого кандидата, я сверну шею, как цыпленку. Ясно? И если мне потом станут говорить, что не знали этого, я намну бока тебе за то, что не сказал. Понятно? Либо старостой единогласно выбирают меня, либо тебе в этом году будет не до молебствий.
И Эдди вспомнил, как Элмер с Джимом поставили на место одного новичка: увели его за пять миль от города, раздели донага и бросили.
Старостой старшего курса был единогласно избран Элмер Гентри.
Сам он не догадывался о том, что его не любят. Он думал, что те, кто его сторонится, попросту боятся и завидуют, и эта мысль наполняла его сознанием собственного величия.
Вот так-то и получилось, что у него не было ни одного друга, кроме Джима Леффертса.
Только у Джима хватило силы воли подчинить себе Элмера и внушить ему почтительное восхищение. Элмер глотал идеи целиком, не разжевывая, он был начинен предрассудками; Джим подвергал каждую новую мысль самому тщательному анализу.
Джим был достаточно эгоистичен, но то был эгоизм человека мыслящего и трезвого, человека, который не боится довести свою мысль до логического конца. Этот малыш помыкал Элмером, как огромным глупым псом, а Элмер лизал ему ботинки и послушно шел по пятам.
Мало того: Элмер знал, что и душою футбольной команды на самом деле является не он, ее нападающий и капитан, а полузащитник Джим Леффертс.
Да, он был здоровенный детина, этот Элмер Гентри: плотный, большерукий, косая сажень в плечах, рост — шесть с лишним футов, и лицо большое, красивое, как породистая морда датского дога: густая копна черных, довольно длинных волос; ласковый взгляд, ласковая усмешка, да и вообще на редкость добродушный парень. Просто он был искренне удивлен, увидев, что кто-то не отдает себе отчета в том, какая он, Элмер, важная персона, и не бросается со всех ног исполнять каждую его прихоть. Это был баритон, облеченный мощною плотью, гладиатор, который потешается над забавной фигурой своего искалеченного противника.
Он не мог понять людей, которые не переносят вида крови, любят стихи и розы и не пытаются между делом совратить всякую более или менее соблазнительную девицу. В спорах с Джимом он своим зычным голосом возглашал, что все эти типы, которые день и ночь зубрят, хотят только показать, до чего они умные и ученые, «да пускать пыль в глаза болванам преподавателям, а у тех в жилах вообще не кровь, а фруктовая водичка».
IV
Главным украшением комнаты приятелей служил секретер, который был в свое время собственностью первого из Гритцмейкеров; тут помещалась вся их библиотечка. Элмеру принадлежали два томика Конан-Дойля, роман Эдварда Ро[5] и несравненный опус под названием «Всего лишь мальчик»; Джим приобрел себе энциклопедию, трактующую решительно все проблемы на свете (причем на каждую отводилось не более десяти строк), «Записки Пикквикского клуба» и полное собрание сочинений Суинберна[6], попавшее к нему в руки неведомо откуда и, как было доподлинно известно, еще ни разу им не раскрытое.
Однако гордостью его были: «Некоторые ошибки Моисея» Ингерсолла[7] и «Век разума» Пэйна[8], ибо Джим Леффертс был вольнодумец — единственный человек в Тервиллингер-колледже, который не очень-то верил, что жена Лота превратилась в соляной столб за то, что оглянулась на город, где ей так весело жилось в кругу женатой молодежи; единственный, кто сомневался в том, что патриарх Мафусаил действительно сумел дожить до девятисот шестидесяти девяти лет.
О Джиме Леффертсе шептались за его спиною во всех благочестивых аудиториях Тервиллингер-колледжа. Даже Элмера и то пугали взгляды друга; сам он после долгих минут, посвященных богословской премудрости, пришел к заключению, что «в этой святой тарабарщине что-то да есть, не зря же в нее верят все эти ученые умники. Так что когда-нибудь надо будет все-таки остепениться и покончить с разгульной жизнью».
По всей вероятности, святоши-педагоги давным-давно выкинули бы Джима из колледжа, но он обладал способностью задавать рискованнейшие вопросы с таким смиренным и почтительным видом, что после тщетных попыток дать бой его неверию сконфуженные наставники предпочитали оставлять его в покое.
И даже когда сам ректор, его преподобие доктор Уиллоби Кворлс, бывший пастор баптистской церкви города Молина, штат Иллинойс, человек, перу которого принадлежит наибольшее количество трудов о необходимости крестить путем погружения в воду, да и вообще личность во всех отношениях несомненно «наи», — так вот, когда этот доктор Кворлс, пытаясь убедить Джима, спросил его:
— Извлекаете ли вы пользу из учения, молодой человек? Верите ли, как верили мы, что не только дух библии, но и буква ее боговдохновенны, что она — единственное святое руководство веры и деяний наших?
Джим с величайшим смирением кротко ответил:
— Да, доктор, конечно. Меня только смущают кой-какие мелочи. Я обратился с ними к господу богу в своих молитвах, но он как-то не очень мне помог. Зато вы, я уверен, придете мне на помощь. Во-первых, зачем Иисусу Навину понадобилось останавливать солнце? Безусловно, так было — ведь это сказано в писании. Но все-таки зачем? Ведь господь и так всегда помогал иудеям, и Иисусу Навину достаточно было приказа своим людям кричать погромче и трубить в трубы, как рушились самые крепкие стены! И потом еще: если причина многих болезней — бесы и в старое время их приходилось изгонять, то почему в наши дни, когда врачи-баптисты ставят диагноз, они говорят: туберкулез или еще что-нибудь, а не говорят: «одержим бесами»? Что ж они на самом-то деле, вселяются в людей, бесы эти самые, или не вселяются?
— Молодой человек, я могу преподать вам лишь одно нерушимое правило: пути господни неисповедимы, никогда не подвергайте их сомнению.
— Ну, а все-таки? Почему нынешние врачи не говорят: «одержим бесами»?
— Мне некогда вести пустые споры. Это ни к чему не приведет. Если б вы поменьше думали о своих замечательных талантах, поменьше рассуждали и почаще обращались к господу со смиренной молитвой, вам уж давно открылся бы истинный духовный смысл того, что от вас сокрыто.
— И еще: откуда Каин добыл себе жену?
Джим произнес эти слова самым почтительным тоном, но доктор Кворлс (козлиная бородка, крахмальные воротнички) отвернулся и резко бросил:
— У меня больше нет времени с вами разговаривать, молодой человек! Я сказал, что вам делать! Всего хорошего.
— Уиллоби, голубчик, — всполошилась в тот вечер миссис Кворлс. — Ты, говорят, занялся все-таки этим, как его… со старшего курса… этим ужасным Леффертсом, который пытается сеять неверие? Ты его исключил, да?
— Что ты, — благодушно отозвался ректор. — Зачем же? Не вижу необходимости. Я просто указал ему путь духовного спасения и… Да, а что тот первокурсник, подстриг газон? Скажите, пожалуйста, пятнадцать центов в час! Еще чего захотел!
Джим висел на волоске над адской бездной, покачиваясь на ветру, и, судя по всему, получал от этого массу удовольствия, а Элмер Гентри, пугаясь греховности помыслов товарища, невольно восхищался им.
V
Стоял ноябрь 1902 года, — года, когда наши герои перешли на последний курс колледжа. Грязно-серое небо над Гритцмейкер-Спрингс, слякоть на деревянных тротуарах… В городе делать было нечего, а дома впервые после лета затопили печь, и комнату заполнил угарный запах дыма.
Джим, непринужденно откинувшись на спинку стула и положив ноги на откидную доску секретера, учил немецкий. Элмер валялся поперек кровати и, свесив голову вниз, проверял, приливает ли кровь к вискам. Приливает нормально, порядок.
— О господи! — простонал он. — Давай хоть сходим куда-нибудь, что-то придумаем…
— Да чего там придумаешь, — ответил Джим. — Лежи себе знай.
— Смотаемся в Кейто, проведаем девочек, выпьем.
В Канзасе действовал сухой закон, и ближайшее пристанище жаждущих находилось за семнадцать миль — в Кейто, штат Миссури.
Джим почесал затылок уголком книги и одобрительно заметил:
— Что ж, достойная мысль. Деньги есть?
— Это двадцать восьмого-то числа? Откуда? До первого — ничего.
— Величайшего ума ты парень, Сорви-Голова. Адвокат из тебя выйдет — сила! Ну и предложение! Правда, денег у нас с тобой ни гроша и у меня завтра контрольная по-немецкому, но вообще-то — гениальный проект.
— Ладно, отвяжись, — уныло, как больной котенок, вздохнул Элмер, возвращаясь к своим глубокомысленным экспериментам.
Вязкая скука одолевала друзей, и спасение от этой скуки нашел не Элмер, а опять-таки Джим. Он было снова взялся за книгу, затем аккуратно закрыл ее, бережно положил на стол и встал.
— Я бы не прочь повидаться с Нелли, — вздохнул он. — Да, брат, уж я бы ее позабавил сегодня! Такой чертенок! А наши девчонки из колледжа — пропади они пропадом! Если и попадается такая, к которой вообще можно подступиться, так потом только и бегает за тобой по всему колледжу, чтобы ты ей сделал предложение.
— Эх, а мне бы сейчас Джуаниту, — заныл Элмер. — Слушай, брось о них говорить, будь другом! У меня, только подумаю о Джуани, — сердцебиение.
— Постой, Сорви-Голова! Идея! Пойди, займи десятку у нового химика, а у меня еще есть доллар шестьдесят четыре цента. Хватит!
— Да я его совсем не знаю.
— Вот дурень! Потому-то я о нем и сказал! Разыграй комедию: перевод, дескать, опаздывает. Я еще часок позанимаюсь немецким, а ты пока свистни у него десятку.
— Не надо, — печально заметил Элмер. — Зачем ты так…
— Если я в тебе не ошибся и ты жулик первого класса, мы успеем в Кейто на поезде пять шестнадцать.
В пять шестнадцать друзья отбыли в Кейто,
В поезде было всего два вагона: пассажирский и багажный, совмещенный с вагоном для курящих, а тащил их старенький, потрепанный паровозик с тендером. Сгущались сумерки, составчик погромыхивал на расхлябанных рельсах. Его так бросало из стороны в сторону, что Элмер и Джим то и дело наезжали друг на друга, хватаясь за ручки у скамьи. Вагон раскачивало, точно грузовое суденышко в шторм. Долговязые, неуклюжие фермеры один за другим пробирались к бачку с водой, спотыкаясь о ноги сидящих приятелей, цепляясь за плечо Джима, чтобы не упасть.
Из всех уголков старого вагона, от закоптелых оконных рам, от ржавых металлических деталей, грязных кокосовых циновок исходил тошнотворно-горький запах дешевого табака: стоило только прикоснуться к красному плюшевому сиденью, как в воздух столбом взвивалась пыль, а на плюше оставался отпечаток ладони. Вагон был набит битком. Пассажиры присаживались на ручки скамей, перекрикиваясь с приятелями через проход.
Но Элмер и Джим не замечали грязи, не замечали вони и давки. Прерывисто дыша, оба застыли в нервном, напряженном молчании. Рты их были полуоткрыты, глаза затуманены: они думали о Джуаните и Нелли.
Джуанита Клаузел и Нелли Бентон отнюдь не были профессиональными жрицами любви. Джуанита работала кассиршей в закусочной, а Нелли — мастерицей в модном ателье. Обе были очень славные, хоть и легкомысленные девушки, и обе считали, что никогда не мешает иметь в кармане лишний доллар на новые красные туфельки или коробку шоколадных конфет с орехами.
— Джуанита — девчонка что надо… Прямо как в душу тебе глядит, — молвил Элмер, осторожно спускаясь по скользким ступеням заплеванного вокзала Кейто.
Когда, покинув среднюю школу и бильярдные городка под названием Париж(штат Канзас), Элмер Гентри прибыл в колледж и приступил к изучению любовной науки, он был просто горячим и неотесанным юнцом, который краснел и смущался в присутствии девиц легкого поведения, натыкался на столики, орал во весь голос и горел желанием показать всем и каждому, какой он бывалый и лихой кутила. Еще и теперь под влиянием винных паров он становился шумлив и горд, как петух, но три с лишним года жизни в колледже научили его обращению с женским полом. Теперь он держался в обществе дам уверенно, непринужденно, почти спокойно, умел смотреть им в глаза ласково и чуть насмешливо.
Джуанита и Нелли жили в трехкомнатной квартирке на углу, над бакалейной лавочкой у вдовой тетушки Нелли, дамы весьма нравственной, но умевшей вовремя исчезать с горизонта. Элмер и Джим затопали по шатким деревянным ступенькам наружной лестницы. Обе девушки только что вернулись с работы. Джуанита лениво растянулась на диване, в котором, несмотря на желто-красное покрывало в восточном стиле (бородатый паша, три танцующие девы в прозрачных шальварах, наргиле и мечеть, чуточку побольше, чем наргиле), легко угадывалось не что иное, как обыкновенная кровать. Свернувшись клубочком, рассеянно и нервно пощипывая рукою свою лодыжку, Джуанита читала роман, принадлежащий вдохновенному перу Лоры Джин Либби[9]. Блузка ее была расстегнута у ворота, на тонком чулке спустилась петля. Она нисколько не была похожа на испанку, эта бледная прелестная пепельная блондинка с затаенным огнем в голубых глазах.
Пухленькая, задорная Нелли, маленькая, смуглая, как еврейка, стояла в засаленном халатике, варила кофе и рассказывала о том, как обижает ее эта святоша портниха, ее хозяйка. Джуанита меж тем и не думала слушать.
Молодые люди проскользнули в комнату без стука.
— Ах вы, бессовестные! — взвизгнула Нелли. — Подкрались! Да мы не одеты…
Джим бочком подобрался к ней и, разжав пухлые пальчики, сжимавшие ручку эмалированного кофейника, хихикнул:
— Неужели вы не рады нас видеть?
— Рада, не рада — это еще неизвестно. И пусти-ка руку, ну! Веди себя прилично, слышишь?
Обычно Элмер был куда менее ловок с дамами, чем Джим, но сейчас он почувствовал свою власть над женщинами — женщинами определенного сорта. Молча, пожирая Джуаниту зовущим жарким взглядом, он опустился рядом на мнимовосточное ложе и кончиками сильных пальцев коснулся ее безжизненной руки.
— Бедная моя девочка, какой усталый вид!
— Я и вправду устала, и потом, напрасно вы сегодня приехали. Тетка Нелли настоящую истерику закатила, когда бы были здесь прошлый раз.
— Ай да тетушка! Ну, а ты рада, что я приехал?
Джуанита ничего не ответила,
— Неужели нет?
Под его дерзким взглядом она смущенно потупилась и на всякий случай перевела взгляд на спокойную поверхность стены.
— Рада?
Она по-прежнему молчала.
— Джуанита! А я стосковался до смерти; с того дня, как мы виделись, не могу! — Его пальцы коснулись ее шеи, очень осторожно. — Ну хоть чуточку рада?
Она повернулась, быстро взглянула на него, и в глазах ее он прочел невольное признание. Он схватил ее за руку.
— Нет… не надо! — отрывисто шепнула она, а сама придвинулась к нему поближе и прижалась к его плечу.
— Какой ты большой, сильный! — вздохнула она.
— И при всем том, если б ты знала, как ты мне нужна! Старикан Кворлс, наш ректор, — помнишь, я про него рассказывал? — придирается, жуть: недаром у него и фамилия такая[10], ха! Думает, это мы с Джимом напустили в церковь летучих мышей. И потом, до того меня воротит от этих занятий по закону божьему! Бубнят без конца про всех этих святых старичков! Как подумаешь о тебе: вот сидишь ты в моей комнате у огня, ножки в красных туфельках — на каминной решетке, а напротив — я… Эх, вот бы счастье! А ты, наверное, думаешь, что я просто дурак, да?
Тем временем Джим и Нелли, склонившись над кофейником, игриво подталкивали друг друга, повизгивая:
— Ладно, хватит тебе, ну!
— Слушайте, девочки, одевайтесь, и пошли! — провозгласил Джим. — Угостим вас обедом, а может, и потанцуем немножко!
— Нельзя, — отозвалась Нелли. — Тетя и так злится, что мы позавчера поздно вернулись с танцев. Придется сидеть дома. А вы, ребята, сматывайтесь, пока она не вернулась.
— Брось, пошли с нами!
— Да нельзя же, говорю!
— Значит, будете сидеть дома и заниматься рукоделием? Так я вам и поверил! Скажите лучше, что позвали кавалеров, а нас хотите сплавить — вот и все.
— Ничего подобного, мистер Джемс Леффертс! А если б и так, то все равно не ваше дело.
Пока продолжалась эта перебранка, Элмер обнял Джуаниту за плечо и медленно привлек к себе. Всем существом своим он чувствовал, что она прекрасна, ослепительна, что в ней средоточие жизни. Как упоительно мягок изгиб ее плеча, как шелковиста и нежна ее бледная кожа…
— Пойдем в ту комнату, — взмолился он.
— Нет… не сейчас… Он стиснул ее руку.
— Ну хорошо… Только не входи минутку, — пролепетала она. — Пойду поправлю прическу, — громко объявила она. — А то ужас, что за вид…
Она скрылась в соседней комнате. С лица Элмера, словно ветром, сдуло маску зрелого и уверенного в себе мужчины, он стал похож на большого, круглолицего, чуть испуганного мальчугана. С деланной развязностью он покрутился по комнате; смахнул огромным смятым носовым платком пыль с золоченой вазы и подошел к двери в соседнюю комнату…
Он покосился на своего друга. Джим и Нелли держались за руки, а из кофейника весело убегал кипящий кофе. У Элмера заколотилось сердце. Он проскользнул в дверь, притворил ее и со стоном, точно в смертельном ужасе, выдохнул:
— Ах, Джуанита…
VI
До того, как вернулась тетушка, Элмер и Джим успели уйти. Обед с дамами не состоялся, так что приятели зашли в закусочную Маджини и заказали себе свиные отбивные, кофе и яблочный пирог.
Вы уже знаете о том, как впоследствии, в пивной Оулд Хоум, Элмер ударился в философию и женоненавистничество и пришел к заключению, что Джуанита недостойна его милостивого внимания. Известно вам и то, что к этому времени он был пьян и настроен воинственно.
Итак, он, шатаясь, брел по осклизлому тротуару, опираясь на руку Джима. Винные пары постепенно рассеивались, зато нарастало бешенство против того проходимца, что, конечно, задумал обидеть его дорогого друга. Элмер расправил плечи и, сжав кулаки, стал озираться по сторонам, ища этого негодяя в вечерней толпе рабочих и шахтеров.
Они вышли на угол главной улицы. Немного дальше, у красной кирпичной стены отеля Конгресс какой-то оратор, взобравшись на ящик, разглагольствовал перед горсточкой зубоскалов.
— Чего это они там издеваются над человеком? — взыграл Элмер. — Пускай лучше отвяжутся, а не то… — И, оттолкнув руку Джима, который попытался было его удержать, он свернул на боковую улочку и устремился к толпе. Он испытывал сейчас блаженнейшее из ощущений, какое только способен испытать молодой силач, обращая свой неправедный гнев на защиту правого дела. Расталкивая зевак, он въехал на ходу локтем в живот какому-то хилому человечку и радостно заржал, услышав, как тот охнул от боли. И вдруг резко остановился, поникший, расстроенный.
Оратором, над которым издевалась толпа, оказался не кто иной, как Эдди Фислингер, тот самый ненавистный Эдди, председатель ХАМЛ колледжа, этот рыжий слюнтяй, у которого хватило наглости выступить против того, чтобы его, Элмера, выбрали старостой курса.
В сопровождении двух однокурсников, которые, как и он, готовились стать баптистскими священниками, Эдди прибыл в Кейто, дабы спасти парочку-другую заблудших душ или, если это не удастся (а до сих пор им еще не посчастливилось спасти ни одной души, хотя было проведено уже семнадцать уличных проповедей), то, на худой конец, приобрести некоторую практику, которая пригодится им в будущей работе.
Эдди был неважным оратором. Он говорил въедливо и нудно и если добивался каких-то результатов, то лишь благодаря умению уцепиться за одну тему и мусолить ее без конца. Смелости в нем не было ни на грош. Вот и сейчас он явно трепетал от страха перед своим главным оппонентом — рослым, молодым пекарем, белобрысым и вихрастым, который стоял прямо перед трибуной Эдди и атаковал его вопросами. Элмер замер, прислушиваясь.
— С чего это ты вообразил, будто тебе все известно про религию? — спросил пекарь.
— Я не утверждаю, что мне известно все, друг мой, но я знаю, какое могущественное влияние оказывает религия на человека и как способствует чистой и благочестивой жизни. Если б вы только согласились поступить справедливо, друг мой, и дали мне возможность поделиться с этими джентльменами моим собственным опытом, рассказать, как были услышаны мои молитвы…
— Да, опыт у тебя, надо думать, богатый при такой-то роже и фигуре!
— Позвольте, но, быть может, другие хотят послушать…
Хотя Элмера и мутило от идиотизма этого Эдди, и хотя он, наверное, был бы вовсе не прочь пропустить стаканчик в обществе озорного малого из пекарни, он понял, что если не выступить защитником религии, — настоящей, хорошей, крепкой драки ему не видать. Другого выбора нет. Плотная стена здоровых тел, толкотня, запах мокрого сукна, нестройный гул голосов — все это возбуждало его. Это было похоже на стадион перед началом футбольного матча.
— Эй ты! — рявкнул он пекарю. — Не мешай говорить! Рта не даешь раскрыть человеку! Выбери себе такую же колоду, как ты сам, и приставай!
Стоявший рядом Джим Леффертс взмолился:
— Уйдем подобру-поздорову, Сорви-Голова! Очень надо тебе выручать этого святошу!
Оттолкнув Джима и выпятив грудь, Элмер надвинулся на пекаря.
— Эге! — хохотнул тот. — Да ты, как я погляжу, тоже христов вояка!
— Жаль, что не достоин, а то бы — да! — В этот сладкий миг Элмер искренне верил в свои слова. — Это ребята с нашего курса, и им никто не смеет затыкать рот!
— Братцы, Элмер Гентри! — проблеял своим спутникам Эдди Фислингер. — Он обратился в истинную веру!
Даже это нежданное истолкование его побуждений не могло уже охладить праведный боевой пыл Элмера. Оттеснив с дороги какого-то пожилого мужчину, стоявшего между ним и пекарем, и нахлобучив ему при этом котелок на самые глаза, отчего тот втянул голову в плечи, точно черепаха, он шагнул вперед, поигрывая кулаками.
— Что ж, если сам напрашиваешься на неприятности… — начал пекарь, неуклюже потрясая огромными белесыми от муки кулачищами.
— Может, другой кто напрашивается, а не я, — ответствовал Элмер, нанося противнику точно рассчитанный удар в подбородок.
Пекарь зашатался, словно небоскреб во время землетрясения, и рухнул наземь.
— Бей их, ребята! Мы им… — заревел кто-то из его приятелей.
Элмер хватил его по левому уху. Ухо было очень холодное, а удар сокрушительный. Парень качнулся. Элмер удовлетворенно хмыкнул. Впрочем, на самом деле особой радости он не ощущал. Он был уже почти трезв и понимал, что на него того и гляди с остервенением кинутся человек шесть здоровых, молодых рабочих. Несмотря на всю свою самонадеянность, он был опытный футболист — да еще футболист, игравший с командами духовных колледжей, в которых были очень приняты такие истинно христианские приемы, как мордобой и подножки. Он прекрасно понимал, что в одиночку ему шестерых не одолеть.
Весьма сомнительно, что ему удалось бы завязать более близкое знакомство с господом богом и Эдди Фислингером, если б на помощь ему своими неисповедимыми путями не пришло провидение. Не успел тот из нападающих, что стоял ближе всех, замахнуться на Элмера, как кругом зашумели:
— Эй, берегись! Полиция!
Сквозь толпу протискивались трое мужчин, долговязых, усатых, с холодными глазами: полиция города Кейто в полном составе.
— По какому случаю шум? — спросил старший, обращаясь к Элмеру, который дюйма на три возвышался над толпою.
— Тут кое-кто пытался сорвать мирное религиозное собрание… Вон на его преподобие чуть руки не наложили, ну я и вмешался.
— Верно говорит, начальник. Форменное хулиганство, — ввернул Джим.
— Истинная правда, начальник! — пискнул со своего ящика Эдди Фислингер.
— Вы это кончайте, ребята. Какого черта! И не совестно вам задевать священника? Валяйте дальше, ваше преподобие!
Пекарь тем временем очнулся, и ему помогли встать на ноги. Судя по выражению его лица, он чувствовал себя несправедливо пострадавшим и был готов немедленно что-то предпринять, если бы только понял, что произошло. Глаза его блуждали, волосы сбились в грязный ком, твердая, измазанная мукою щека была рассечена. Он еще не совсем пришел в себя и не сообразил, что перед ним начальник полиции. В его затуманенном сознании упрямо маячила одна заветная цель — стереть религию с лица земли.
— Ага, так ты, стало быть, тоже из этих дохлых проповедников! — накинулся он на Элмера, и тут один из долговязых полисменов, протянув невероятной длины руку, схватил его за шиворот.
Польщенный вниманием толпы, Элмер ожил, он расправил крылья, охорашиваясь, как павлин.
— Может быть, я и не проповедник! Может, даже и не добрый христианин! — вскричал он. — Может быть, я совершил много такого, чего не следует! Но я скажу одно: я уважаю религию…
— Аминь! Слава богу, брат мой! — вставил Эдди Фислингер.
— …и никому не позволю над ней надругаться! Разве не она одна дает нам надежду…
— Слава тебе, господи! Да славится имя твое!
— …и возвращает на путь истинный? Прав я или нет? Скажите же мне! Что — не так?
Элмер обращался прямо к начальнику полиции, и тот поспешил согласиться:
— Да, наверное, так и есть. Так вот, стало быть, проповедь может продолжаться, а если кто-нибудь посмеет снова помешать… — Выразив этой сжатой фразой свои взгляды на религию, а также на порядок в общественных местах, начальник обвел окружающих грозным взглядом и проследовал сквозь толпу, чтобы вернуться в участок и засесть за прерванную игру в карты.
Эдди Фислингер в восторге разразился потоками красноречия.
— О братья мои, теперь вы сами воочию видели, как велика сила духа христова, как она пробуждает все, что есть в нас чистого и благородного. Вы слышали из уст брата нашего Гентри о том единственном, что наставляет нас на праведный путь! Когда вы вернетесь домой, пусть каждый из вас достанет свою библию и раскроет ее на «Песни Песней» Соломона и найдет то место, где сказано о любви спасителя к церкви его, — «Песнь Песней», глава четвертая, стих десятый, где говорится… где Христос говорит о церкви… вот что: «О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина!»
…О, какая невыразимая радость обрести благодать спасения души! Вы слышали, что сказал наш брат! Мы знаем его как сильного мужа, брата всех угнетенных, а вот теперь очи его прозрели и уши открылись для слова божьего, и увидел он, что настало время покаяться, смиренно склонившись перед престолом… О, это историческая минута в жизни Сорви… в жизни Элмера Гентри! О брат мой, не страшись! Взойди сюда, встань подле меня и поведай нам…
— Проклятье! — прошипел Джим. — Надо смываться, пока не поздно.
— Ох да! — простонал Элмер, и оба нырнули в толпу, а вдогонку им, точно ледяной, пронизывающий дождик, летели визгливые увещевания Эдди Фислингера:
— Не бойтесь же признать власть христову! Неужели вы так трусливы, что испугались насмешек нечестивцев?
Благополучно выбравшись из толпы, друзья с сосредоточенным видом быстро зашагали обратно в кабачок Оулд Хоум.
— Гнусную штуку выкинул этот Эдди! — заметил Джим.
— Гнуснее не придумаешь! Меня, видите ли, вздумал обратить на путь истинный! Да еще перед этим отребьем! Ну, пускай теперь только еще раз при мне заноет, я ему прошибу башку! Кающегося грешника из меня задумал сделать. Ишь, обнаглел! Держи карман! Да я его… Ну, живей, — прикрикнул брат всех угнетенных. — Наддай!
К тому времени, как они сели на последний обратный поезд, здравые речи буфетчика и благодатное действие виски помогли Элмеру и Джиму забыть Эдди Фислингера и ужасы публичной исповеди. Каково же было их изумление, когда, покачиваясь на своей скамье в вагоне для курящих, они вдруг увидели, что рядом с ними стоит не кто иной, как Эдди с библией в руке, а из-за его спины выглядывают сияющие физиономии двух его собратьев по духу.
Эдди улыбался во весь рот; водянистые глазки его блестели.
— Ах, друзья, вы и не знаете, до чего вы были изумительны сегодня! — запел Эдди. — Но послушайте, раз вы сделали первый шаг, зачем медлить? Почему вы колеблетесь? Зачем заставляете спасителя страдать? Ведь он ждет, он томится по вас! Вы нужны ему, ребята, ваша сила, таланты, ваш ум — все, чем мы так восхищаемся…
— Что-то здесь воздух стал слишком тяжелый, — заметил Джим Леффертс. — Какой-то специфический запах… да, явно разит рыбой! — Джим соскользнул с сиденья и направился в передний вагон.
Элмер потянулся было за ним, но Эдди плюхнулся на место Джима и продолжал безмятежно верещать, а его сподвижники склонились над ними с нежнейшими, елейными улыбками, от которых Элмера мутило не меньше, чем от вагонной качки.
Несмотря на все свои храбрые речи, Элмер отнюдь не разделял того глубокого презрения к церкви, которое питал Джим. Элмер Гентри боялся церкви. Она воскрешала перед ним детство… Мать, иссушенная ранним вдовством и тяжкой работой, — ее единственной отрадой были библия и церковные гимны. Когда ему случалось не выучить урок, заданный в воскресной школе, она плакала… Церковь… Поглядишь наверх — голова закружится! Целых тридцать футов до покрытых причудливой резьбою стропил… Величественные и громогласные священники, рисующие страшные картины возмездия, которое грозит маленьким мальчикам, если они воруют арбузы или занимаются биологическими экспериментами где-нибудь за сараем… Тягостные минуты «второго обращения»[11] в одиннадцать лет, когда, плача от смущения и обиды, что надо отказаться от стольких удовольствий в будущем, он подписал в кольце торжественных и волосатых взрослых лиц обещание навсегда отречься от таких мирских радостей, как сквернословие, вино, карты, танцы и театр.
Эти воспоминания, словно туча, вставали из-за его спины и нависали над ним, и развеять их он, несмотря на всю свою показную храбрость, был не в силах.
Эдди Фислингер как личность вызывал у него лишь презрение, представляясь ему чем-то вроде кузнечика, которого он не без удовольствия раздавил бы ногой. Другое дело Эдди Фислингер — проповедник, вооруженный библией в переплете тисненой кожи (шелковая закладка с бахромкой и самодовольный глянцевый блеск страниц), такою же точно библией, какой потрясали его наставники в воскресной школе, внушая ему, будто вездесущему господу ничего не стоит в любой момент застигнуть врасплох маленького мальчика и прочесть самые сокровенные его мысли, — этот Эдди был лицом, облеченным властью и силой, и Элмер тоскливо прислушивался к его словам, не ощущая особой уверенности, что сам в один прекрасный день не наденет чистенький сюртучок и не превратится в гнуснейшего праведника, живущего чистенькой и скучной жизнью.
— И помни, — ныл Эдди, — сколь опасно отдалять час покаяния! Ибо сказано: «…ты не знаешь ни дня, ни часа, когда господь твой призовет тебя к себе». А вдруг наш поезд потерпит крушение? Сегодня же!
Поезд, как нарочно, воспользовался моментом и накренился на повороте.
— Видишь? Какую же вечную жизнь ты себе готовишь, Сорви-Голова? Неужели ради попоек и кутежей стоит вечно гореть в геенне огненной?
— Ох, заткнись ты! Не слыхал я, что ли? На это сколько хочешь возражений… Вот постой, попрошу Джима, он тебе расскажет, что говорит насчет ада Боб Ингерсолл.
— Ну да, еще бы! А известно тебе, что на смертном одре Ингерсолл призвал сына, покаялся и умолял парня поскорее сжечь все его нечестивые писания и спасти свою душу?
— Ну ладно… Черт… Мне что-то сегодня неохота толковать о религии. Кончай, и все.
Но у Эдди как раз была большая охота потолковать о религии, и именно сегодня. Он вдохновенно размахивал библией, приводя одну за другой бесконечное множество цитат самого неприятного свойства. Элмер старался не слушать, но заткнуть Эдди рот у него не хватило энергии.
С каким облегчением он вздохнул, когда поезд дал последний толчок на станции Гритцмейкер-Спрингс! Здание вокзала, похожее на грязный деревянный ящик, на платформе под ногами чавкает слякоть, мигают керосиновые фонари, но здесь его ждет Джим — верное прибежище от каверзных богословских вопросов. И, бросив Эдди яростное «Пока!», Элмер, пошатываясь, зашагал прочь.
— Зачем же ты ему позволил трепать языком? — спросил Джим.
— Да кто ему позволял! Ты за кого меня принимаешь? Я ему велел заткнуться, ну он и умолк, а я всю дорогу храпел… Ох, голова раскалывается! Не беги ты так быстро!
ГЛАВА ВТОРАЯ
I
Уже не первый год греховный образ жизни Элмера Гентри и Джима Леффертса вселял смущение и ужас в благочестивые сердца Тервиллингер-колледжа. Ни одно молитвенное собрание не проходило без того, чтобы метнуть в нечестивцев парочку-другую ядовитых стрел, — правда, обычно в отсутствие самих нечестивцев.
Ни одно молебствие в ХАМЛ не обходилось без горячей молитвы о спасении их заблудших душ. Случалось, что на утренней службе в церкви, когда ректор, преподобный доктор Уиллоби Кворлс, бывал в особом ударе, Элмер еще мог поморщиться, как от зубной боли, но его угрызения совести быстро стихали. Джим твердой рукою вел его по скользкой тропе неверия.
И вот Эдди Фислингер, точно серафим местного производства, запорхал из одной аудитории в другую с потрясающей новостью: Элмер публично объявил себя верующим, а затем в поезде целых тридцать девять минут терпеливо выслушивал увещевания с глазу на глаз. В стане праведников немедленно возник священный заговор против бедного жертвенного агнца. По всему городку, в кабинетах духовных наставников, в студенческих общежитиях, в комнатушке для молитвенных собраний позади большого церковного дома, — повсюду праведные души, возликовав, сговаривались с богом о том, как положить конец беззаботным и язычески буйным прегрешениям Элмера. Повсюду сквозь снежный буран слышались причитания о кающихся грешниках, возвращенных в лоно церкви.
Даже те воспитанники колледжа, которые не пользовались особым расположением из-за недостаточного благочестия и тайной склонности к картам и табаку, — даже они пришли в волнение; впрочем, в их ликовании, быть может, крылась издевка.
Центральный нападающий футбольной команды — в прошлом друг и собутыльник Элмера и Джима, а ныне вернувшийся на путь истинный жених одной из воспитанниц колледжа, массивной и набожной шведки из Шанута — по собственной инициативе поднялся с места на собрании ХАМЛ и дал обет богу сражаться вместе с ним за спасение души Элмера.
Но ярче всего воспылал дух благочестия в комнате Эдди Фислингера, единогласно признанного грядущим пророком, которому рано или поздно наверняка суждено возглавить большую баптистскую церковь где-нибудь в Уичите, а может быть, даже и в самом Канзас-сити!
Эдди созвал молитвенное собрание, посвященное Элмеру и продолжавшееся целые сутки напролет. В нем приняли участие наиболее ревностные праведники, рискуя навлечь на себя резкие или насмешливые замечания преподавателей. На голом полу комнаты Эдди, которая помещалась над москательной лавочкой Кнута Хальворстеда, одновременно бухались на колени от трех до шестнадцати молодых людей. Даже в 1800 году ни одно молитвенное собрание[12] не одержало столь блистательной победы над затравленным сатаной. Мало того, один из молящихся, которого давно уже подозревали в симпатиях к секте трясунов[13], ухитрился довести себя до припадка, и хотя присутствовавшие сознавали, что зашли в своем усердии дальше, чем угодно господу богу и баптистской общине, это все же внесло приятное разнообразие в их ночные бдения, — впрочем, они и так все достаточно опьянели от кофе и собственного красноречия.
К утру они вполне уверились, что бог внял их молитвам и займется Элмером вплотную. Правда, сам Элмер проспал всю ночь богатырским сном, даже не подозревая о всенощном бдении и вмешательстве небесных сил в его судьбу, но этот факт лишь послужил еще одним доказательством долготерпения господа бога. И действительно, вскоре вслед за этим названные силы пришли в движение.
К великому огорчению Элмера и затаенной ярости Джима, уединенную обитель друзей начали осаждать полчища каких-то косматых субъектов с праведным огнем в глазах и библиями под мышкой. Элмеру не было от них спасения. Не успевал он, призвав на помощь остроумные и кощунственные доводы, которым терпеливо учил его Джим, расправиться с одним праведником, как тут же, словно из-под земли, вырастал и накидывался на него другой.
В пансионе мамаши Метцгер на Бич-стрит, где он столовался, какой-нибудь дервиш из ХАМЛ, передавая ему за обедом хлеб, непременно каркал:
— А ты задумывался когда-нибудь над пшеничным зерном? Ведь это же чудо из чудес! Неужели такая сложная и удивительная штука могла возникнуть сама собой? Нет, кто-то должен был создать ее. Кто? Бог! Всякий, кто отрицает существование бога в природе, кто не припадает к нему в раскаянии, — тупица, и больше ничего.
Преподаватели, которые прежде встречали появление Элмера в аудитории со злобной и нервной дрожью, теперь сладко улыбались ему и кротко выслушивали его признание, что он сегодня не совсем готов отвечать. Сам ректор, остановив Элмера на улице, назвал его «мой милый» и пожал ему руку с чувством, которого Элмер (как он робко оправдывался перед самим собою), безусловно, ничем не заслужил.
Он упорно уверял Джима, что ему ничто не грозит, но Джим был все-таки встревожен, да и сам Элмер тревожился все сильнее с каждым часом, с каждым новым обращенным к нему приветствием: «Ты нам нужен, старина, ты нужен миру!»
У Джима были все основания для тревоги: Элмер всегда был на грани того, чтобы отказаться от своих любимых развлечений — ну, может быть, не то чтоб отказаться, но, во всяком случае, изнывать в тоске и раскаянии, вкусив их сполна. Не будь рядом Джима с его язвительными замечаниями по адресу студенток, которые с удовольствием молились у всех на глазах и с остервенением убирали каждый волосок с яйцевидного лба, какая-нибудь из этих высоконравственных сирен уже неминуемо заманила бы легкомысленного женолюба Элмера в свои сети, хотя бы тем, что она здесь, под боком. Взять хотя бы эту кошмарную девицу из Мехико (штат Миссури), которая, постоянно надоедая Джиму просьбой рассказать ей «все эти смешные штуки, которые ты выдумал о религии», заливисто и манерно хохотала, задыхаясь и повизгивая: «До чего ж ты забавник! И главное, все нарочно! Рисуешься просто, и все!» Она умела строить глазки исподтишка, но все это был один сплошной обман — все равно до венца от такой ровным счетом ничего не добьешься. Если б не бдительность Джима, эта дева могла бы в два счета окрутить Элмера.
Церковь и воскресная школа родного Парижа (штат Канзас), местечка с населением в девятьсот человек — все протестанты, выходцы из Германии и Вермонта — внушили Элмеру страх перед религией, ее служителями и обрядами, страх, от которого он никак не мог избавиться и который удерживал его от таких разумных поступков, как, например, расправа с Эдди Фислингером. Крохотная беленая баптистская церковка была средоточием всех его переживаний, не считая тех, что были вызваны склонностью погулять, поесть, поспать и поухаживать за девушками. Впрочем, даже и эти радости он мог в известной степени испытывать во храме господнем: втыкать булавки в подушечки для коленопреклонения, лакомиться пирогами с курятиной и кексами на «миссионерских ужинах», слушать усыпляющие проповеди, сидя бок о бок с гибкими девочками в тонких муслиновых платьицах. Все же, что касалось искусства высоких чувств, было в представлении Элмера неразрывно связано с церковью.
Так, кроме циркового оркестра военных маршей на июльском параде и песен, что разучивались в школе («Колумбия, жемчужина океана» и «Колокольчики»), Элмер не слышал в детстве никакой музыки, за исключением церковной. Церковь же познакомила его с образцами ораторского искусства, ибо вне ее стен ему приходилось слышать лишь речи заезжих политиков, превозносящих во время предвыборной кампании достоинства Джефферсона[14], да диспуты о ценах на шпагат. Только в церкви видел он произведения живописи и ваяния, если не считать портретов Линкольна, Лонгфелло и Эмерсона[15] в школе, да двух розовых фарфоровых дамочек с позолоченными цветочными корзинками в руках, стоявших на комоде у матери. В церкви преподавались ему все философские истины, не считая изречений школьного учителя о том, что мальчиков, которые приносят в класс ужей, ждут розги в настоящем и виселица в будущем, и кроме бесконечных замечаний матери о том, что надо вешать пальто на место, вытирать ноги, есть жареную картошку вилкой, а не руками и не упоминать имя господне всуе.
Образчики литературного творчества он черпал не только из духовных источников (так, в хрестоматии Мак-Гаффи[16] он свел знакомство с мальчиком, стоявшим на палубе горящего корабля, и знал назубок все похождения Ника Картера[17], а также подвиги Кола Янгера и ребят из банды Джесси Джеймса[18]), но и в этой области направляла его главным образом церковь. Представление о литературе складывалось у него под влиянием библейских легенд, религиозных гимнов и притчей, рассказываемых разными проповедниками.
Рассказ о Хромоножке-Томе, мальчугане, пристыдившем злого богача (обладателя шикарной упряжки серых лошадей и шляпы-котелка) и обратившем его на путь благочестия… Морской капитан, который во время шторма обратился за советом к благочестивому сиротке, воспитаннику миссионеров из Зомбаллы… Верный пес, спасший жизнь своего хозяина во время страшного пожара (иногда это был не пожар, а снежная буря или нападение индейцев) и тем самым побудивший его бросить скачки, ром и игру на губной гармонике…
Как близки все они были душе Элмера, как волновали его! Это они открывали ему смысл и цель жизни, это им он был обязан в будущем своим обаянием и своим успехом.
Церковь, воскресная школа, молитвенные бдения, спевки церковного хора, сборы пожертвований, похороны, хихиканье и шушуканье в задних рядах или в соседнем помещении на свадьбах — все это входило в жизнь Элмера так же естественно и прочно, как католическая обрядовая церковная книга в жизнь неаполитанского уличного мальчишки.
Баптистская церковь канзасского Парижа… Тысячи смутных, но неизгладимых картин!
Церковные гимны! Голос Элмера был будто создан для этих гимнов. Он пел их раскатисто, как поют негры. Органная мощь «Никеи»!
Свят, свят, свят! Все святые тебя восхваляют И свои золотые венцы в безмятежное море бросают!А громоподобный гул славословий! А «Подай спасения руку». Мрак, разбитый корабль ни гребне волны — в глазах мальчишки из прерий морские валы вздымались ввысь футов на сто!.. А «Вперед, воинство христово», при звуках которого разрешалось отбивать такт ногою!
Воскресная школа! Пикники, лимонад, состязание в беге на четвереньках, катанье на возах с сеном под звуки песенки «Как я Нелли домой провожал»…
Воскресная школа! Карты с иллюстрациями к библии… Правда, ими по большей части пользовались как игральными картами, но Элмер обыкновенно выигрывал (он же первым из парижских мальчишек обзавелся парой настоящих свинчаток для игры в кости), так что у него набралась целая картинная галерея; это они, эти карточки, привили ему вкус к пышным одеяниям, мраморным колоннам, раззолоченным царским дворцам — потому-то впоследствии он так легко освоился с обстановкой наиболее дорогих и нарядных храмов порока. Три волхва с ларцами, усыпанными рубинами и сардониксами… Царь Зедекия[19] в золоте и пурпуре, преклонивший колена на сапфирово-голубом ковре, и его обагренные кровью воины со сверкающими окровавленными мечами в руках, принесшие весть о нашествии несметного войска под знаменами вавилонского властителя Навуходоносора.,. И всю свою жизнь, в минуты душевного подъема, во время исполнения ораторий в огромных храмах, при виде заката на море Элмер вспоминал фигуру чернобородого Давида на фоне дикой красной скалы — фигуру героическую, призывающую к славе, власти, могуществу.
Сочельник в воскресной школе! Какое счастье не ложиться спать до половины десятого — и никто тебя не бранит за это! Елка высотою до самого неба, воспламеняющаяся от каждой случайной искры, вспыхивающая серебряной канителью и серебряными звездами, осыпанная хлопьями ватного снега. Обе круглые печки раскалены докрасна. Огни, огни… Горы леденцов, и каждому школьнику — по подарку, чаще всего по книжке, очень нарядной, с цветными картинками: овечки, вулканы… И Санта-Клаус… Да неужели это маляр Лоренцо Никерсон? Откуда же у него взялась такая длинная борода, такие красные щеки? И как он остроумно шутит с детьми, гуськом подходящими к нему за подарком! Волшебные, чарующие звуки женского квартета, который поет о пастушках, что ночью стерегут свои стада, о темных и таинственных холмах под одинокой звездою…
И страшное утро, когда сам пастор, преподобный Вильсон Хинкли Скегс застал Элмера на церковном крыльце за игрой в орла и решку с ребятами из воскресной школы на мелочь, предназначенную для пожертвований, и, больно ухватив его за ухо двумя пальцами с очень острыми и не слишком чистыми ногтями, с позором провел через всю церковь и выставил на всеобщее осмеяние.
А потом — вереница других священников: брат Органди, который заставлял тебя пилить ему дрова; брат Блант, который рыскал по задворкам, чтобы поймать тебя в день всех святых; брат Ингл, молодой, душевный, хоть и очень ревностный священник, который вырезал тебе дудочки из ивовых прутьев.
И еще то утро, когда Элмер спрятал за органом будильник, который оглушительно зазвонил как раз в тот момент, когда церковный смотритель (доктор Праути, зубной врач) прочувствованно возгласил: «А теперь пусть будет совсем-совсем тихо, и сестра Холбрик начнет читать молитву, а мы последуем за нею».
И всегда — три кресла, поставленные за кафедрой, внушительные, твердые, с желтыми плюшевыми сиденьями и резными дубовыми спинками, ожидающие, как он был уверен, отца, сына и святого духа.
Да, по существу, церковь и воскресная школа дали ему все, кроме разве что стремления к порядочности, добру и разуму.
II
Но даже если бы Элмера Гентри не привела в церковь традиция, это сделала бы его собственная мать. За исключением Джима Леффертса, Элмер был по-настоящему привязан только к своей матушке, а она душою и телом принадлежала церкви.
Это была щупленькая женщина, энергичная, большая любительница поворчать — впрочем, беззлобно, отдававшаяся молитвам с тою же страстью, с которой в молодости отдавалась любовным ласкам.
Она была женщина не из робких. Покойный муж ее, Логан Гентри, мужчина рослый, веселый и отличавшийся склонностью к долгам и виски, торговал фуражом, мукой, строевым лесом и сельскохозяйственными орудиями. Рано овдовев, миссис Гентри стала зарабатывать на жизнь себе и Элмеру: шила, отделывала дамские шляпки, пекла хлеб, продавала молоко. Теперь у нее была собственная модная мастерская, тесная, полутемная, но зато красовавшаяся на главной улице. Теперь она имела возможность давать Элмеру триста долларов в год, и этих денег вместе с его летними заработками — обычно он работал в поле и на дровяном складе — ему хватало на жизнь. Правда, это был 1902 год, и это была жизнь воспитанника Тервиллингер-колледжа.
Мать всегда хотела, чтобы Элмер стал священником. Сама она была женщина бойкая и не гнушалась при случае обсчитать заказчицу, давая сдачу, но вид проповедника в долгополом сюртуке, стоящего на кафедре, наполнял ее благоговейным трепетом.
В шестнадцать лет Элмера самым добросовестным образом искупали в Кейуска-ривер, и он стал полноправным членом баптистской общины. Элмер был уже тогда здоровым парнем, но и священнослужитель, совершавший обряд крещения, был дюжий мужчина: он не просто окунул парнишку, но в святом усердии еще и продержал его довольно долго под водой, так что осененный благодатью Элмер вылез на берег весь в грязи, шумно фыркая и отплевываясь. Впоследствии его душу неоднократно приходилось спасать, а однажды, когда он болел пневмонией, пастор и навещавшие больного дамы пришли к единодушному заключению, что благочестие его растет прямо на глазах.
И тем не менее Элмер решительно противился желанию матери сделать из него проповедника: ведь тогда ему пришлось бы отказаться от множества весьма соблазнительных пороков, а он каждый год с восторгом и удивлением открывал все новые. Вдобавок к этому он всегда испытывал мучительную неловкость, когда ему случалось разыгрывать роль праведника перед хихикающей оравой парижских сорванцов — его сверстников.
Даже после поступления в колледж ему нелегко было бороться с матерью. Вдовушка доставала головою лишь до плеча сына, но в ней было столько кипучей энергии, а язычок у нее был такой острый и меткий, что он побаивался ее не меньше, чем язвительных насмешек Джима Леффертса. А какая она всегда была самоотверженная и заботливая мать!.. Он никогда не смел открыто признаться ей в своем неверии и только бурчал: «Да ну, ма, не знаю… Понимаешь, проповедями много не заработаешь. Спешить некуда. Еще успею!»
Теперь она уже знала, что сын скорее всего станет юристом. Что ж, и это неплохо. Когда-нибудь, может, попадет в конгресс и переделает всю Америку, чтобы везде было, как в милом ее сердцу Канзасе. А все же куда лучше бы ему причаститься великих таинств, витающих над церковным престолом!..
Она говорила о нем с Эдди Фислингером. Эдди был родом из городка, который находился всего в двенадцати милях от Парижа. До посвящения в духовный сан Эдди было еще далеко, но все же он получил от своего приходского совета разрешение выступать с проповедями, едва только перешел на второй курс Тервиллингер-колледжа. И как-то летом (пока Элмер работал в поле, купался в бочажке и воровал яблоки в чужих садах) Эдди Фислингер целый месяц ревностно исполнял обязанности проповедника баптистской церкви Парижа.
Когда миссис Гентри обратилась к нему за советом, Эдди принялся наставлять ее со всею важностью своих девятнадцати лет.
Да, конечно, брат Элмер — замечательный молодой человек, такой сильный… Все им восхищаются. Правда, он слишком уж поддается суетным соблазнам мира сего, но ведь на то он и молод. О да, когда-нибудь Элмер остепенится и станет добрым христианином, примерным супругом и отцом, преуспевающим адвокатом. Но священнослужителем — нет, никогда! Миссис Гентри не следует брать на себя слишком много. Все в воле божией. Чтобы посвятить себя служению церкви, нужно услышать Зов Божий: настоящий, таинственный, потрясающий душу… Тогда это и будет призвание. Эдди сам сподобился услышать этот Зов однажды вечером на капустном поле, и с каким святым восторгом! Нет, ей об этом и думать не стоит! Их первая задача — привести Элмера на стезю истинной добродетели, а это, по мнению Эдди, тоже немалый труд. Да, несомненно, пояснял Эдди, во время крещения дух благодати, разумеется, коснулся шестнадцатилетнего Элмера, и бремя грехов было снято с него. Но лично он, Эдди, сомневается, чтобы душа Элмера была в этот момент до конца спасена. Милость господня, по существу, до сих пор не снизошла на него. Пожалуй, можно даже сказать, что он просто не обращен еще в истинную веру.
О, Эдди поставил Элмеру исчерпывающий диагноз, со знанием дела пользуясь всеми соответствующими терминами. В области математики, философии, латыни Эдди действительно приходилось сталкиваться с трудностями, но во всем, что касалось всемогущего господа, его желаний, мотивов тех или иных его поступков на протяжении всей мировой истории, тут Эдди Фислингер с двенадцатилетнего возраста неизменно проявлял полнейшую осведомленность.
— Я решительно ничего не имею против спорта, — говорил Эдди. — Нам нужны сильные мускулы, дабы достойно нести бремя проповедования слова божьего в мире сем. Но вместе с тем мне кажется, что футбол несколько отвлекает от религии. Боюсь, что в настоящий момент Элмер еще далек от благодати. Но не будем отчаиваться и терзаться, сестра. Будем уповать на господа. Я сам пойду к Элмеру и попытаюсь что-нибудь сделать!
Разговор этот происходил во время летних каникул, когда они перешли на второй курс; и, вероятно, именно тогда Эдди отправился на ферму, где работал Элмер, поглядел на него, здоровенного, всклокоченного, похожего на простого деревенского парня, с закатанными до локтя рукавами рубахи, и, обронив несколько уместных замечаний о погоде, удалился с тем же, с чем и пожаловал…
Бывая дома, Элмер добросовестно старался не перечить матери: почти безропотно шел спать в половине десятого, белил курятник и сопровождал мать в церковь. И все-таки миссис Гентри догадывалась, что сын нет-нет да и пропустит кружечку пива и не очень-то верит истории об Ионе и ките[20], и Элмер с тяжелым сердцем слушал, как она плачет по вечерам, стоя на коленях у изголовья своей пышно взбитой, застланной белоснежным покрывалом, старомодной кровати…
III
С того дня, как, защищая Эдди в Кейто, Элмер неожиданно объявил себя поборником религии, встревоженный Джим Леффертс с жаром настоящего фанатика пытался удержать друга в стане неверующих.
Он был, пожалуй, еще более неутомим и утомителен, чем Эдди.
Джим убеждал его по вечерам, когда у Элмера слипались глаза, а утром, когда Элмеру полагалось бы готовиться к занятию по истории, Джим читал ему вслух Ингерсолла и Томаса Пэйна.
— Нет, как ты, например, объяснишь такую штуку, а? — приставал Джим. — Вот во Второзаконии сказано, что бог сорок лет подряд гонял еврейчиков по пустыне, а у них даже башмаки не износились. Так прямо и сказано в библии. И ты веришь? А что у Самсона вся сила пропала оттого только, что девка отрезала ему волосы, — в это ты тоже веришь? Да? Думаешь, что волосы могут как-то влиять на силу — так что ли?
Джим метался по душной комнате, отшвыривая стулья ногами, гневно потрясал указательным пальцем. Глаза его, обычно насмешливо-ласковые, лихорадочно горели. Элмер, согнувшись в три погибели, сидел на краю кровати, подперев голову руками, и явно извлекал немало удовольствия из всей этой борьбы за его душу.
В доказательство того, что он по-прежнему стойко держится на позициях вольнодумства, Элмер как-то вечером не без труда перенес вместе с Джимом к административному корпусу небольшую деревянную уборную и установил ее на крыльце у парадного входа.
А после столкновения Эдди с доктором Леффертсом он уж и совсем было успокоился.
Отец Джима, практикующий врач из соседней деревни, плотный, бородатый весельчак, был человеком весьма начитанным и очень гордился своим атеизмом. Это он привил Джиму вкус к неверию и спиртным напиткам и сам послал сына в баптистский колледж отчасти из-за того, что это дешево стоило, а отчасти и потому, что ему было забавно смотреть, как Джим баламутит мирное болото самодовольных и суетливых святош. В тот раз он явился проведать сына в ту минуту, когда Элмер и Джим возбужденно дожидались прихода Эдди.
— Тут этот Эдди грозился зайти, — пожаловался Элмер. — Опять возьмется доказывать, что я прямым сообщением качусь в ад! Ей-богу, доктор, просто не знаю, какая муха меня укусила. Может, посмотрите меня? Как дважды два, анемия или еще что-нибудь такое. Да раньше, если бы Эдди Фислингер только мне улыбнулся — как же, посмел бы он мне улыбнуться, скотина! — и сказал, что он, видите ли, зайдет ко мне, я бы знаете, что ему ответил? Я сказал бы ему: «Черта с два ты зайдешь». И дал бы ему под зад коленом.
Доктор Леффертс замурлыкал себе в бороду, озорно поблескивая глазами.
— Ну и задам я жару вашему другу Фислингеру! Только ты, Джим, ради всех несуществующих святых не делай удивленного лица, когда увидишь, что твой почтенный папенька стал добрым христианином!
Когда пожаловал Эдди и его познакомили с доктором Лсффертсом, это был уже совсем новый доктор Леффертс, изысканно-любезный, сладкий, который долго и больно пожимал руку Эдди, как водится у политических деятелей, приказчиков и праведников.
— Брат Фислингер, — сказал доктор, — мой сын и Элмер говорят, что вы хотите помочь им постичь библию и приобщиться к истинной вере.
— Да, пытаюсь.
— Душа радуется, когда слышишь такие слова, брат Фислингер. Вы не знаете, какое это горе для старого человека, который уже одной ногой стоит в могиле, у которого осталось одно утешение на свете: молитвы да библия… доктор Леффертс только три дня назад до четырех часов утра просидел со своими закадычными друзьями, мировым судьей и англичанином-скотоводом, за покером и беседой на биологические темы — …какое это для него горе, что его единственный сын, Джеймс Блейн Леффертс[21], неверующий!.. Быть может, вы добьетесь того, чего не смог я, брат Фислингер? Меня-то они считают выжившим из ума фанатиком… М-да… Скажите, ну а вы ведь по-настоящему верите в библию?
— О да! — Эдди бросил торжествующий взгляд на Джима — тог с каменным лицом стоял, прислонившись к столу и засунув руки в карманы. Элмер как-то странно скорчился в кресле, прикрывая рот рукой.
— Превосходно! — одобрительно кивнул доктор. — И вы, надеюсь, верите каждому слову библии, каждой букве?
— Да! Конечно. Я всегда говорю: «Лучше библия от слова до слова, чем слова без библии».
— Вот это сказано, брат Фислингер! Надо запомнить на случай, если встретится кто-нибудь из этих записных критиканов высокого полета. «Библия до последнего слова, а не слова без библии». Отличная мысль, и как удачно выражена! Сами придумали?
— Н-ну, не совсем…
— А-а… Ну да. Нет, это великолепно! Ну, и, конечно, вы верите во второе пришествие! Истинное, подлинное, неподдельное и неминуемое второе пришествие Иисуса Христа во плоти?
— Еще бы!
— И в непорочное зачатие?
— Уж будьте покойны!
— Молодчина! Да, а ведь есть такие врачи, которые заявляют, что непорочное зачатие не вполне подтверждается их акушерским опытом! А я таким всегда говорю вот что: «Послушайте, хотите знать, откуда мне известно, что это правда? Да ведь так сказано в библии! Если бы это была ложь, неужели, по-вашему, это было бы в библии?» Ну, тут им, конечно, и крыть нечем. Молчат, голубчики!
Теперь от доктора к Эдди и от Эдди к доктору щедрой и полноводной струею лились потоки взаимной симпатии. С глубокой жалостью поглядывали они на смущенные лица двух еретиков, прозябающих в холоде и мраке. Доктор Леффертс, пощипывая бороду, проворковал:
— И, разумеется, брат Фислингер, вы верите и в гибель души некрещеных младенцев?
— Нет, это же не баптистский догмат, — объяснил Эдди.
— Как — вы… — Добрейший доктор задохнулся, рванул воротничок своей рубашки и, тяжело дыша, возопил: — Не баптистский догмат? Вы не верите в это?
— Н-нет…
— Тогда да поможет господь баптистской церкви и баптистской вере! Да поможет он всем нам, кто живет в эти черные дни, когда все вокруг осквернено подобным неверием!
Эдди прошиб пот; доктор всплеснул своими пухлыми руками и умоляюще продолжал:
— Послушайте же, брат мой! Это ведь так просто! Не тем ли мы спасены, что мы омыты кровью агнца? Ведь только этим, правда? Не его ли благословенная жертва нас спасла?
— Д-да, так, но…
— Стало быть, одно из двух: либо мы омыты его кровью и спасены, либо не омыты и не спасены! Такова простая истина, и всякие уклонения, ложные толкования, топтание вокруг да около этой чистой и прекрасной истины идут от нечистого, брат мой! Скажите, в какой момент своей жизни человеческое существо во всей его неизбежной греховности принимает святое крещение и тем самым обретает спасение души? Двух месяцев от роду? В девять лет? В шестнадцать? Сорок семь? Девяносто девять? Нет! В тот момент, когда он рождается на свет! И значит, если младенец не крещен, следовательно, он обречен вечно гореть в геенне огненной! Как сказано на этот счет в библии, а? «Ибо нет иного имени, под небом, данного среди людей, которым мы должны быть спасены». Конечно, быть может, это немного жестоко со стороны господа бога — жечь славных малюток, но, с другой стороны, он ведь и прелестных женщин поджаривает в назидание праведникам! О брат мой! Теперь я понимаю, почему мой Джимми и бедняга Элмер впали в неверие! Да потому, что такие люди, как вы, именующие себя христианами, подсовывают им такую вот выхолощенную религию! Вы-то и подрываете основы истинной веры, расчищаете путь критиканству, сабеллианству[22], нимфомании и агностицизму, ереси, католицизму, адвентизму седьмого дня[23] и всем этим ужасным измышлениям немцев! Раз уж вы стали сомневаться — конечно, зло свершилось! Джим, и ты, Элмер, я советовал вам прислушиваться к словам вашего друга, но теперь, когда я вижу, что он сам фактически атеист…
Доктор в изнеможении опустился на стул. Эдди так и окаменел, разинув рот.
Первый раз в жизни его обвинили в том, что он некрепок и невзыскателен в вере. А он-то привык, что его обыкновенно упрекают за излишнюю взыскательность! Это льстило его самолюбию! Призывая громы небесные на головы пьяниц, он получал, пожалуй, не меньше удовольствия, чем иной студент от хорошей попойки. Частично с помощью своих наставников, а частью собственными усилиями он составил себе неисчерпаемый запас типичных возражений, чтобы отвечать на нападки однокашников, когда те утверждали, что он отстал от жизни, если зачисляет чуть ли не в разряд смертных грехов игру в домино, открытое причастие[24], любовь к легкой музыке, появление на церковной кафедре в рясе, воскресные прогулки, чтение романов, пресуществление[25] и это новое измышление дьявола, именуемое кинематографом. Он умел нагнать страху на любого маловерного, но теперь, когда его самого обвинили в ереси и маловерии, он не нашелся, что ответить. К такому неслыханному нападению он не был готов.
Он поглядел на страдающего доктора, поглядел на Джима и Элмера, явно скорбящих о его бесславном падении, и обратился в бегство, дабы обрести утешение в тайных молитвах.
Он поделился своим горем с ректором Кворлсом, и тот все разъяснил ему наилучшим образом.
— Но этот доктор ссылался на священное писание в доказательство своих слов, — проблеял Эдди.
— Не забывайте, брат Фислингер: «И черт может ссылаться на священное писание в своих целях»[26].
Превосходная мысль, подумалось Эдди, и очень недурно сказана. И хотя он был не вполне уверен, что эта фраза взята из библии, он все же решил запомнить ее: пригодится для проповеди. Однако не успел он окончательно опомниться после поражения и вновь пойти в наступление на Элмера, как начались рождественские каникулы.
Когда Эдди ушел, Элмер хохотал громче, чем даже Джим и его родитель. Правда, он не очень-то понимал, что произошло. Конечно, Эдди сказал верно: осуждение некрещеных младенцев на вечную гибель — это не баптистский догмат, это что-то пресвитерианское[27], а у пресвитерианцев, как всем известно, масса странных утверждений. Но как бы то ни было, а доктор загнал Эдди в тупик, и, почувствовав, что опасность временно миновала, Элмер впервые за много дней вздохнул с облегчением.
И так легко дышалось ему вплоть до самых рождественских каникул. А потом…
Некто — вероятнее всего Эдди — сообщил о новом и многообещающем повороте в духовной жизни Элмера Гентри его матушке, миссис Гентри. (Сам Элмер в своих еженедельных письмах домой старательно избегал каких бы то ни было намеков на компрометирующие его события последних дней.) Теперь, во время каникул, он непрестанно чувствовал, что мать подбирается к нему все ближе, так и ждет удобного момента, чтобы вцепиться в его грешную душу при первом же проявлении слабости. Парижский пастор, преподобный мистер Эйкер — в деревне его звали просто «преподобный Эйкер», — тряс ему руку у церковной двери с благожелательностью не менее зловещей, чем внезапное расположение со стороны менторов Тервиллингер-колледжа.
Лишившись поддержки Джима, прекрасно понимая, что из соседнего городка с минуты на минуту может нагрянуть Эдди, которого миссис Гентри примет как желанного союзника, Элмер провел каникулы весьма тревожно. Чтобы поддержать в себе боевой дух, он старался уделять побольше внимания бильярду и дочери соседа-фермера, и все же его не покидало страшное предчувствие, что эти дни — печальный закат привольного житья.
На обратном пути в колледж в том же поезде, что и он, очутился Эдди. Это был грозный симптом. Правда, Эдди ехал не один, а в обществе еще какого-то благочестивого чучела и не заговаривал с Элмером о муках ада. Но в том, как беспечно эта парочка шепталась и хихикала всю дорогу, было нечто в высшей степени пугающее.
И тщетно Джим Леффертс пытался прочесть на лице Элмера твердость и непреклонную решимость, которые так надеялся увидеть.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
I
В начале января в колледже состоялась ежегодная Неделя Молитвы, которую проводила среди учащихся ХАМЛ. Это было событие общегосударственного масштаба, но в Тервиллингер-колледже оно обещало быть в этом году особенно торжественным, ибо его удостоил трехдневным визитом не кто иной, как сам Джадсон Робертс, генеральный секретарь ХАМЛ, человек выдающийся не только тем, что занимал столь высокий пост, но и своими личными качествами.
Мистер Робертс был еще молод — всего тридцати четырех лет от роду, — но уже известен всей стране. Прославился он давно. В свое время он играл в знаменитой футбольной команде Чикагского университета, а также был членом университетской бейсбольной команды, председателем дискуссионного клуба и в то же время возглавил ХАМЛ. Его прозвали «Благочестивый Бэк». Он по-прежнему не бросал спорт — ходили слухи, что он занимается боксом с Джимом Джеффри, — но значительно больше внимания уделял молитвам. Это был славный лидер, простой, готовый помочь; сотни студентов по всему Канзасу называли его «Старина Джад».
В перерывах между молитвенными собраниями в Тервиллингер-колледже Джадсон Робертс сидел за длинным столом в кабинете библейской истории под ядовито-желтой картой Палестины и вел конфиденциальные разговоры со студентами. А студентов к нему приходило великое множество: трепеща, потупившись, бочком, пробирались они в комнату за советом по сугубо интимным вопросам, и Старина Джад, едва они открывали рот, с удивительной проницательностью угадывал, в чем их беда.
— Что ж, старик, — ладно, слушай, — бодрым и мужественным тоном начинал он. — Страшно неприятная штука, согласен, но мне уже не раз приходилось сталкиваться с такой напастью. Возьми себя в руки, вознеси молитву господу. Помни, что он может помочь в самой страшной беде. Прежде всего следует избавиться от… Боюсь, что у тебя где-нибудь да припрятаны скабрезные картинки, а может быть, и книжонка гаденькая. Так ведь, а, дружище?
И откуда он все знает, этот Джад? Ну и голова!
— Верно? Я так и знал. Дам тебе отличный совет, старина! Займись-ка историей миссионерского движения, задумайся о том, каким надо быть чистым, целомудренным, мужественным человеком, чтобы нести свет христианства всем этим несчастным, погрязшим в скверне буддизма и языческих верований. Неужели тебе не хотелось бы честно смотреть им прямо в глаза, дабы устыдить и этих неверных? Ну, и потом — спорт. Выходи на свежий воздух, бегай — да так, чтобы ветер в ушах! И принимай холодные ванны. Ледяные! Вот и все! — Тут он вставал и, обменявшись со студентом крепким, мужественным рукопожатием, напутствовал его со столь же мужественным, заразительным, здоровым смехом: — Ну, ступай. Да смотри, помни: бегать, чтоб ветер в ушах!
Джим с Элмером слушали проповедь Старины Джада в церкви. Он был великолепен. Сначала он рассказал им презабавный анекдот о том, как один парень поцеловал красотку и что из этого вышло. Затем он вознесся в заоблачные высоты красноречия, описывая блаженство истинной и беззаветной молитвы, во время которой человек уподобляется душою невинному дитяти. Он растрогал свою аудиторию до слез трогательной повестью о скитаниях младенца Христа, которого потеряли родители. А через минуту он вызвал у всех бурный восторг, когда, расправив свои могучие плечи, заявил, что свернет шею любому наглому, трусливому и лживому пропойце, если тот посмеет приставать к нему на молитвенном собрании со своими идиотскими, гнусными и безбожными сомнениями. Пусть только попробуют вставлять ему палки в колеса! (Так и сказал: «Сверну шею»! Этими самыми словами! Студенты просто влюбились в него. Вот это малый! Первый сорт, без дураков, свой в доску!)
У Джима разыгрывался грипп. Он был не в силах выдавить из себя даже мало-мальски приличной презрительной усмешки. Он сидел, согнувшись в три погибели, едва не упираясь подбородком в колени; так что Элмеру никто не мешал восхищаться героем дня. Ах ты черт, какая мускулатура! А он-то воображал, что сам не слабого десятка… Да этот Джадсон Робертс положит его на лопатки пять раз из семи! Вот это был, наверное, футболист! Ого!
Вернувшись домой, Элмер попробовал поделиться своим безудержным восторгом с Джимом, но тот пренебрежительно чихнул и завалился спать. Доморощенный бард остался без аудитории. Он положительно обрадовался, когда, осторожненько постучав, в комнату робко сунул голову Эдди Фислингер.
— Простите за беспокойство, ребятки, я просто обратил внимание, что вы сегодня были на проповеди Старины Джада. Знаете — вам надо и завтра вечером его послушать. Такое событие — гвоздь недели! Ну, Сорви-Голова, скажи по-честному: Джад — ведь парень что надо?
— Да, что и говорить, малый шикарный…
— Правда — шикарный! Я ж тебе говорю: мировой!
— Да-а, уж если выбирать из тех, кто свихнулся на религии, — этот самый мировой.
— Брось ты ругаться, Сорви-Голова, сознайся: сразу видно, что он футболист первого класса!
— Это — да, не спорю. Я бы не прочь с таким сыграть.
— А познакомиться поближе?
— Хм-м…
В эту грозную минуту Джим поднял с подушки свою пылающую голову, чтобы дать отпор противнику:
— Очковтиратель во Христе, вот он кто! От рождения здоров, как бык, а заливает, будто стал силачом от постов и молитв! Не стал бы я ручаться за судьбу беззащитной рюмочки виски, попадись она в лапы Старины Джада! Ха! Бьет себя в грудь, понимаешь ли: «Ах, почему эти хлюпики не хотят быть такими же крепкими и мужественными христианами, как я?»
Элмер и Эдди в один голос принялись защищать своего героя от подобной хулы, и тут Эдди признался, что уже рассказал Старине Джаду про Элмера, расхвалил его, и Джад очень им заинтересовался. И скорей всего — такая знаменитость, подумать только, и такой простой — он сегодня же самолично заглянет к Элмеру.
Не успел Элмер сообразить, радоваться ему или негодовать, и не успел измученный гриппом Джим собраться с силами, чтобы решить этот вопрос за него, как кто-то оглушительно и властно забарабанил в дверь, на пороге возник Джадсон Робертс, огромный, как медведь, веселый, как щенок, сияющий, как десять солнц, и с ходу, не теряя времени, принялся за Элмера. До шести часов ему предстояло обработать еще человек шесть скептиков и тайных любителей табака.
Джадсон Робертс был красивый молодой гигант, с волнистой шевелюрой, обворожительной улыбкой и голосом, зычным, как иерихонская труба, когда по стратегическим соображениям требовалось изобразить грубую мужскую силу, и ласковым, как лепет лесных фиалок под ароматным ветерком, когда нужно было увещевать заблудших сестер во Христе, за исключением разве что слишком уж заблудших.
— Здорово, Сорви-Голова! — загудел он. — Руку!
Элмер обычно из озорства пожимал руку так, что у человека трещали кости. Теперь же, впервые в жизни, его собственная лапа заныла от боли и бессильно повисла. С глуповатым видом он потер ее.
— Много слышал о тебе, Сорви-Голова! И о тебе тоже, Джим. Прихворнул, Джим, что ли? Хочешь, сбегаю за врачом? — Старина Джад непринужденно присел на край кровати Джима.
— Да нет, спасибо, — скривил губы Джим. Впрочем, в лучах ослепительной улыбки гостя даже Джиму Леффертсу с трудом удавалось сохранять кислую мину.
Робертс опять повернулся к Элмеру:
— Да, сынок, наслушался я о тебе! Какая классная игра была, наверное, в матче с Торвилсен-колледжем! Говорят, ты врезался в линию защиты, точно пушечное ядро! А когда перехватил мяч у того верзилы шведа, он рухнул, как подкошенный.
— Да… это самое… игра была ничего…
— Репортаж-то я, конечно, и сам читал…
— Ну да? Правда?
— …и, естественно, захотелось услышать подробности и с тобой познакомиться, Сорви-Голова. Стал расспрашивать о тебе здешних ребят, и, надо сказать, наговорили же они мне про тебя чудес! Эх, не было тебя со мной в университетской команде в Чикаго! Нам бы тогда такого нападающего!
Элмер сиял.
— Вот так, парень: ребята в один голос твердят, что ты малый что надо. Первоклассный спортсмен, настоящий товарищ. Если бы только, говорят, не один недостаток…
— Ну?
— Говорят, ты трус, братец.
— Что-о? Это кто ж такой говорит, что я трус?
Джадсон Робертс не спеша встал с кровати и положил Элмеру руку на плечо.
— Все говорят, Сорви-Голова! Понимаешь, чтобы дать Иисусу возможность сразиться за твою душу и признаться, что ты побежден в поединке с богом, требуется огромное мужество. Нужно обладать недюжинной смелостью, чтобы опуститься на колени и признать свое ничтожество, когда весь мир глумится над тобою. Вот этой-то смелости в тебе и нет, Элмер! Ты воображаешь, что если ты такой здоровенный детина…
Старина Джад с силой повернул его лицом к себе; стальная рука Старины Джада впилась ему в плечо.
— Ты считаешь, что ты слишком силен, слишком хорош, чего тебе водить компанию с какими-то сопливыми, жалкими церковными крысами, так ведь? Ты у любого из них одним щелчком вышибешь дух, правда? Ну, так вот, я тоже из этой братии. Хочешь меня одолеть? Попробуй!
Робертс быстрым движением сбросил пиджак и остался в полосатой шелковой рубашке, плотно облегавшей его могучий торс.
— А ну, давай, Сорви-Голова! Я не прочь сразиться с тобой во славу божию! Ты нужен богу! Нести радость бедным, слабым, больным, обездоленным, посвятить этому жизнь! Подумай сам — что может быть прекраснее для такого великана, как ты? Ты понимаешь, как они все пойдут за тобой, эти тщедушные бедняги, эти детишки, как будут превозносить тебя, преклоняться перед тобою? А, парень? Так, стало быть, я худосочный святоша? А ну, попробуй-ка, вздуй меня! Попробуй, дай мне!
— Да нет, что вы, мистер Робертс…
— Джадсон, старая ты калоша! Старина Джад!
— Нет, Джадсон, вы же сами меня разделаете под орех. У меня тоже кулаки ничего, но с вами мне тягаться не стоит.
— То-то, приятель. Ну так как же: все верующие — нытики?
— Нет…
— Слюнтяи? Тряпки?
— Нет.
— И лжецы?
— Да нет же!
— Вот и хорошо, старина. Могу я считать себя твоим другом при условии, что не стану совать нос в твои дела?
— Еще бы!
— Тогда сделай мне одно одолжение, только одно. Придешь завтра вечером к нам на торжественное собрание? От тебя ничего больше не потребуется. Пусть, по-твоему, мы шарлатаны, думай, что хочешь, твое дело. Все равно приходи и не решай заранее, что мы кругом неправы. Голова у тебя на плечах есть, да еще какая, посмотри, что мы за люди, разберись сам. Так как же, придешь?
— Приду, обязательно, конечно!
— Ну и отлично, сынок! Горжусь, что мне позволили так запросто ворваться сюда, хоть и незваным гостем. Помни: если действительно почувствуешь, что я прибегаю к недостойным способам воздействия на твоих приятелей, можешь не стесняться, выкладывай все напрямик: я буду только рад такому доверию и учту критику. Ну, всего, Элм! Пока, Джим! Да благословит вас бог!
— Счастливо, Джад!
И он умчался, как ураган, увлекая за собою и ничтожную былинку Эдди Фислингера.
И только тогда Джим Леффертс заговорил.
После того как отзвучала последняя реплика Джадсона Робертса «под занавес», Элмер несколько мгновений стоял, онемев от восторга, смакуя все, что услышал. Почувствовав на своей спине взгляд Джима, он с вызывающим видом обернулся к кровати. Друзья обменялись неприязненным взглядом. Элмер взорвался первым:
— Что ж ты не высказался, пока он был здесь?
— Какой смысл толковать с серым волком, когда он почуял запах мяса! А кроме того, он не дурак, этот тип.
— Ох, слушай, как здорово, что ты это сказал!.. Потому что это… Ну, в общем, я хочу тебе объяснить, что я сейчас переживаю…
— Нет уж, давай не надо, мой милый. Ты еще не достиг той стадии, когда начинают творить чудеса. Да, он не дурак. Во всяком случае, при мне никто еще так ловко не обводил вокруг пальца простофилю. Да, еще бы, он просто ждет не дождется, чтобы ты подошел к нему на собрании, дал в ухо и заявил, что не можешь осчастливить его своей санкцией…
— Своей чего?
— …на его театрализованное действо — и рекомендуешь ему бросить это занятие, сменить профессию и пойти в грузчики. Безусловно. И он, конечно, читал репортаж о твоих футбольных подвигах в матче с Торвилсен-колледжем. И еще послал нарочного в Нью-Йорк за «Ревью оф ревьюз»[28], чтобы узнать подробности. А Эдди Фислингер ему об этом и слова не обронил! Он еще, наверное, и в лондонской «Таймс» читал о твоей игре. Будь уверен! Он же сам сказал. Он ведь праведник — он врать не станет. А если б ты не стал его другом, так он бы прямо зачах с горя. А если он и кого другого из нашего брата-студента поймал на эту удочку, так ведь, наверное, никак не больше тысчонки-другой, всего только!.. Честное слово, начинаешь верить в этого старого бородатого еврейского бога! Кто, как не он, мог сотворить в этом мире столько идиотов?!
— Слушай, Джим, ты просто не понимаешь Джада…
— Да. Не понимаю. Человек мог стать приличным боксером, а он изо дня в день цацкается со всякой ползучей дрянью вроде Фислингера!
В подобном духе беседа тянулась до полуночи, несмотря на то, что у Джима был жестокий жар.
И все же на другой день Элмер оказался на собрании, которое проводил Джадсон Робертс, — один, без защиты Джима, который валялся дома в таком скверном настроении, что Элмер, вызвав к нему врача, улизнул из дому подобру-поздорову, не дожидаясь обеда.
II
Несомненно, не кто иной, как Эдди, письмом или телеграммой сообщил миссис Гентри, что ей следовало бы приехать на молитвенное собрание. (От Парижа до Гритцмейкер-Спрингс было всего сорок миль.)
Часов в шесть вечера Элмер тихонько открыл дверь своей комнаты, все еще надеясь, что Джим, может быть, разрешит ему пойти на собрание, все еще готовый уверять друга, что, если он пойдет туда, ему тем более не грозит опасность быть обращенным на стезю добродетели. Не одну милю вышагал он по грязи, терзаясь тревожными думами, и теперь был готов, если Джим заупрямится, отказаться и от собрания и даже от дружбы с Джадсоном…
Он нерешительно переступил порог и увидел, что у кровати Джима стоит не кто иной, как миссис Гентри собственной персоной.
— Ма? Вот это да! Ты что здесь делаешь? Случилось что-нибудь? — всполошился Элмер.
Уж если его матушка решилась пуститься в такой дальний путь, уж, наверное, произошло что-то из ряда вон выходящее: кто-нибудь скоропостижно скончался, не иначе.
Миссис Гентри и бровью не повела.
— А почему бы мне и не проведать моих мальчиков, если мне хочется, а, Элми? Ты, пожалуй, Джима в гроб вогнал бы своим табачищем, если бы не я. Хорошо, я догадалась проветрить как следует эту берлогу. А я-то думала, Элмер Гентри, что в Тервиллингер-колледже курить запрещено. Я думала, мой милый, ты здесь подчиняешься правилам! Ну, да видно, мало ли что я думаю…
Ах, черт! Джиму еще никогда не приходилось видеть, как он, Элмер, в присутствии матери становится послушным ребенком!
— Нет, серьезно, ма, — сконфуженно пробормотал он, — чего ради ты сюда заявилась?
— Просто я прочла в нашей газете, что у вас тут предстоит молитвенная неделя — и какая еще! Ну и решила: дай-ка и я послушаю проповедь настоящей знаменитости! Что ж я — тоже не могу себе устроить каникулы? Ты обо мне только, пожалуйста, не беспокойся. Как-нибудь за все эти годы научилась сама заботиться о себе! Когда в первый раз отправилась в путь с тобою, молодой человек, на свадьбу Эдилин, моей двоюродной сестры, то попросту сунула тебя под мышку — ну и орал же ты всю дорогу! Уже тогда любил слушать собственный голос не меньше, чем теперь! Да… а в другую подхватила свой старенький чемоданчик и укатила! Так что ты обо мне не волнуйся. Я только ночку здесь переночую, а завтра на семерке вернусь домой. А то у меня и распродажа остатков на носу. Чемодан я оставила в гостинице, что напротив вокзала. Вот только разве что одна просьба, Элми. Если тебя не затруднит. Ты ведь знаешь, я у вас в колледже только второй раз. Не очень удобно идти на такое торжественное собрание одной, знаешь, этакая деревенщина, а вокруг все эти ваши ученые преподаватели, гости… Хорошо бы ты пошел со мной, а?
— Конечно, он пойдет, миссис Гентри, — ответил Джим.
Но прежде чем Элмера увели, Джим, улучив момент, все же шепнул ему:
— Ради бога, осторожней! Помни, меня рядом не будет, вступиться за тебя некому. Смотри, как бы не обвели вокруг пальца. О чем ни попросят, не уступай, тогда еще, может быть, вывернешься.
Выходя, Элмер еще раз оглянулся на Джима. С трудом приподнявшись в кровати, друг смотрел ему вслед умоляющим взглядом.
III
Торжественное собрание — центральное событие Недели Молитвы — происходило не в помещении ХАМЛ, а в самой большой аудитории города — баптистской церкви. На нем должны были выступить ректор Кворлс, четыре священника и богатый попечитель колледжа, владелец фабрики перламутровых пуговиц, а гвоздем программы должно было стать выступление Джадсона Робертса. Кроме студентов, на собрании ожидались и сотни горожан.
Церковь представляла собою нагромождение бурого камня с мавританскими сводами и огромным стрельчатым окном, в которое еще не были вставлены цветные стекла.
Элмер рассчитывал прийти попозже и незаметно проскользнуть внутрь, но когда он с матерью подошел к портику в романском стиле, у входа, оживленно болтая, еще толпились студенты. Он был уверен, что они шепчут друг другу: «Смотрите, пожалуйста: Сорви-Голова! Неужели и вправду собрался покаяться в грехах? А вроде бы никто во всем колледже так не ругал церковь, как он!»
Как ни кротко сносил Элмер наставления Джима, угрозы Эдди и уговоры матери, смирение, вообще говоря, было не в его характере, и теперь он окинул своих критиков вызывающим взглядом: «Я им покажу! Думают, я норовлю пробраться в церковь потихоньку — так нет же!»
И гордо прошествовал чуть ли не в самые передние ряды, к радости матери (она опасалась, что ее сынок по обыкновению спрячется где-нибудь сзади, поближе к дверям, чтобы улизнуть, если проповедник начнет переходить на личности).
Церковь отличалась богатством украшений и была обязана этим богомольному выпускнику колледжа, разбогатевшему во время золотой лихорадки в Аляске на постройке меблированных комнат.
Капители египетских колонн были позолочены, плафон расписан золотыми звездами и пухлыми ватными облаками, стены весело окрашены в три цвета — зеленый, водянисто-голубой и хаки. Гулкая и обычно зияющая пустотою церковь постепенно заполнялась, и вскоре даже проходы были забиты людьми. Преподаватели с аккуратно подбритыми усиками и захватанными библиями; студенты в свитерах или спортивных рубашках; сосредоточенно-серьезные студентки в сшитых собственными руками муслиновых платьицах, украшенных скромными бантиками; местные старые девы, щедро расточающие сладкие улыбки; почтенные старцы со всей округи с длинными бородами, частично скрывающими отсутствие галстуков; старухи в платьях с буфами; раздражительные молодые пары с целыми выводками детишек, которые ползали под ногами, шлепались, ревели и изумленно таращили глаза на окружающих.
Приди Элмер пятью минутами позже, он уже не нашел бы свободного места в передних рядах. Теперь же все пути к спасению были отрезаны… Он сидел, зажатый между своей матерью и каким-то громко сопевшим толстяком, а в проходе рядом стеной стояли благочестивые портные и набожные школьные учителя.
Собравшиеся грянули хором «Когда нас призовут на суд господень», и последние надежды Элмера на побег — столь же несбыточные, сколь и пылкие — рассеялись окончательно. Рядом с ним, удобно устроившись, сидела счастливая миссис Гентри, гордо поглаживая его рукав; воинственный маршевый ритм гимна увлекал и волновал его:
Когда протрубит труба господня, когда настанет конец времен. Когда воссияет вечный рассвет, пресветлый и преславный…Все встали; зазвучал новый гимн: «Соберемся ли мы у реки», — и Элмер смутно почувствовал, что незримые нити связывают его с этим смиренным и набожным людом: с этим сухопарым плотником (славный малый, наверное, приветливый, добряк), с этой фермершей, матерью семейства, такой же отважной, как ее деды — первые поселенцы Америки; с этим парнем, его однокурсником, классным баскетболистом — а посмотрите, как отдается пению, как закрывает глаза, как откинул голову, послушайте, как звенит его голос! Все они — люди прерий, его родная семья. Все — свои. Так неужели он, Элмер Гентри, окажется изменником, пойдет один против течения, не разделит с ними эту общую веру, этот общий порыв?
О, да, соберемся мы все у реки. Со святыми придем мы на берег реки, У прекрасной и чистой мы встанем реки, Что течет у престола Господня!Неужели он будет не с ними, останется в холодном и пустынном мире холодного, рассудочного Джима Леффертса в тот день, когда они будут ликовать под теплым утренним солнцем у реки, что катит свои воды к нетленному престолу?
И его голос — во время первого гимна он только цедил слова сквозь зубы — зычно разнесся по всей церкви:
Скоро окончатся наши скитанья, Скоро сердца наши дрогнут от счастья, Музыкой мира наполнятся души…Мать все гладила его рукав. Он вспомнил, как она всегда твердила, что в жизни не слышала лучшего певца, чем он; что даже Джим Леффертс признался как-то: «Да, верно, у тебя эти гипнотические завывания получаются так, будто в них действительно есть какой-то смысл». Он заметил, что, когда его мощный голос, словно набатный колокол, перекрывает надтреснутые голоса поющих, те, кто сидит рядом с ним, победоносно поглядывают по сторонам.
Но все это была лишь вступительная часть, которой надлежало подготовить аудиторию к проповеди Джадсона Робертса. Старина Джад был в отличной форме. Он хохотал. Он рычал. Он становился на колени и рыдал настоящими слезами, он источал потоки любви, он спускался с кафедры и хлопал людей по плечам, и в эту минуту казался каждому из них ближе самого лучшего друга.
Для проповеди им был выбран стих: «Возрадуешься, как муж сильный, пустившийся в бег».
Робертс недаром был опытным спортсменом и вдобавок действительно умел рисовать слушателям яркие образы. Он так описывал матч между командами Чикаго и Мичигана, что Элмер, как будто слившись с ним воедино, переживал минуты, когда вокруг мяча образовалась свалка, вместе с ним вел мяч к воротам противника, а навстречу ему с трибун несся рев болельщиков.
Но вот Робертс понизил голос. Теперь он увещевал, теперь он обращался не к слабым духом, не к тем, которых нужно заманивать в царство небесное, но к людям сильным, добрым, твердым и стойким. Есть на земле иной вид спорта, иная игра, более волнующая, чем любой матч, и цель ее не два-три лишних очка на табло, но созидание нового мира, не слава газетных столбцов, но вечная слава. Это опасная игра, она рассчитана на сильных. Игра захватывающе увлекательная! А во главе команды — капитан: Христос! Не смиренный Христос, но отважный искатель приключений, тот Христос, который любит бывать с простым народом: с отчаянными рыбаками, с главарями и капитанами, Христос, который смело встретил солдат в саду Гефсиманском[29], не убоялся клевретов Рима, презрел самое смерть! Придите же к нему! А ну, у кого из вас крепкие нервы? Кто из вас смелый человек? Кто хочет жить интересно, рискованно? Идите к нему! Исповедайтесь в своих грехах, покайтесь, признайте свою слабость и лишь тогда возродитесь к новой жизни — жизни во Христе. Но помните: не затем вы должны покаяться, чтобы урвать себе кусочек вечного блаженства, но затем, чтобы закалить себя для грядущих битв под плещущими на ветру знаменами Великого Капитана. Кто готов? Кто идет за ним? Кто за великую цель, великие дерзания?
Он стоял среди них, этот Джадсон Робертс, простирая руки, и голос его гремел, как труба. Юноши рыдали и падали на колени, пронзительно вскрикнула какая-то женщина; люди расталкивали локтями тех, кто стоял в проходах, и протискивались вперед, чтобы в экстазе преклонить колена… И вдруг они принялись со всех сторон тормошить Элмера Гентри, растерянного Элмера Гентри, которому так заморочили голову все эти речи, что он забыл, кто он и где он, и готов был хоть сейчас идти на край света за Джадсоном Робертсом.
Мать цеплялась за его руку и молила:
— Неужели ты не пойдешь на зов? Неужели не хочешь осчастливить свою старую маму? Познай же это блаженство, преклонись перед Иисусом!
Она плакала, из сморщенных старческих глаз ее лились слезы, а в его памяти вереницей вставали воспоминания: зимние дни, когда она приносила ему по утрам овсянку в кровать, шлепая по холодному полу, поздние зимние вечера, когда он, просыпаясь, видел, как она все еще сидит над шитьем; и — из глубочайших недр его памяти — тот страшный и смутный час, когда она, не помня себя от горя, рыдала над гробом, в котором лежало что-то холодное и жуткое, что раньше было его отцом.
Баскетболист, похлопывая его по другой руке, уговаривал:
— Сорви-Голова, старик, ты ни разу не познал счастья! Ты был всегда одинок! Раздели же нашу радость. Ты меня знаешь — я ведь тоже не из слабого десятка! Вкуси вместе с нами блаженство спасения!
Худой, как мощи, старец, очень величественный, с загадочным взглядом, человек, повидавший на своем веку и битвы и горные долины, простирал к Элмеру руки, взывая с душераздирающим смирением:
— Приди же, о приди к нам! Не заставляй Христа умолять тебя так долго! Не отворачивайся от спасителя, отдавшего за нас жизнь, внемли ему наконец!
И вот уже откуда-то сквозь толпу вывернулся Джадсон Робертс и встал рядом с Элмером, почтив его своим вниманием — одного среди такого множества людей, взывая к нему во имя их дружбы, — сам великолепный Джадсон Робертс заклинал его:
— Неужели ты хочешь меня обидеть, Элмер? Неужели допустишь, дружище, чтобы я отошел от тебя, униженный и несчастный? Неужели предашь меня, как Иуда, — меня, который предлагает тебе в дар самое драгоценное сокровище, которым я обладаю, — моего Христа? Хочешь дать мне пощечину, плюнуть в душу, поразить меня горем?.. Иди к нам! Подумай, какая радость — избавиться от всех этих гнусных грешков, которых ты сам же стыдишься! Иди же ко мне, преклони со мною колени!
— Иди, Элмер! — взвизгнула мать. — К нему, ко мне! Неужели ты не доставишь нам это счастье? Побори свой страх, будь мужчиной! Смотри — мы все ждем, все молимся за тебя!
— Да! — подхватили незнакомые голоса.
— Да, да! — гудело со всех сторон.
— Помоги мне, брат; если ты пойдешь, то и я последую за тобой!
Голоса сплетались в сплошной гул, нежные, как голуби, мрачные, как траурный креп, пронзительные, как молнии, — реяли вкруг него, опутывали… Мольбы матери, лесть Джадсона Робертса…
На мгновение он увидел Джима Леффертса, услышал убежденный голос: «Ну да, конечно, они в это верят! Еще бы! Они же просто гипнотизируют самих себя. Ты смотри только, чтоб они и тебя не загипнотизировали».
Он увидел глаза Джима — зоркие, твердые, — глаза, которые лишь для него одного смягчались, грустнели, молили о дружбе. Он боролся, смятенный, сбитый с толку, как мальчишка, на которого напустились взрослые. Запуганный, подавленный, он хотел остаться честным, остаться верным Джиму, верным самому себе, милым его сердцу немудреным грехам и поплатиться за них честь по чести, как положено. А потом эти видения потонули в шуме голосов, голоса сомкнулись над ним, точно волны над головою измученного пловца. Безвольно, смутно подумав, что со стороны он, наверно, похож на плененного великана, он позволил увлечь себя вперед; мать повисла у него на одной руке, Джадсон тянул за другую, сзади напирала орущая толпа.
Растерянный… Несчастный… Изменивший Джиму…
Он оказался в первом ряду молящихся, опустившихся на колени перед своими скамьями, — и тут его осенило! Все в порядке, конечно! У него теперь будет и то и другое! Он останется с матерью и Джадсоном, но сохранит и уважение Джима. Для этого надо только Джима тоже обратить в христову веру, и тогда все будут счастливы и довольны.
Точно гора упала с плеч! Он преклонил колена. И вдруг — на всю церковь — раздался его голос, произносящий слова покаяния; рев толпы, возгласы Джадсона и матери разжигали его, теперь он уже любовался собою: он прав, да, разумеется, так и надо… И Элмер, уже не раздумывая, отдался религиозному экстазу.
В сущности, все совершалось как бы помимо него. Не собственная воля, а воля толпы руководила им, да и слова, что он выкрикивал, принадлежали не ему, а краснобаям-проповедникам и кликушам-молящимся, привычные слова, хорошо знакомые ему с раннего детства.
— Грешен я, господи, грешен! Тяжко бремя моих прегрешений! Я недостоин милости твоей! О Иисусе, заступник! Ты пролил кровь за меня, ты мой спаситель… Господи, воистину каюсь в грехах своих, жажду вечного мира, стремлюсь познать блаженство в лоне твоем!
— Восславим господа! — гремела толпа. — Да святится имя твое! Хвала тебе, хвала, хвала! Аллилуйя, брат, слава тебе, боже милостивый, слава!
О, никогда, никогда он не будет больше пьянствовать, бегать за распутными женщинами, богохульствовать; он познал блаженство покаяния, ну, а еще… сладость чувства, что ты — в центре внимания большой толпы.
Кто-то рядом бился лбом о каменные плиты, кто-то выл: «Помилуй нас, господи!» — а одна женщина — он ее знал, эту студентку, странную, замкнутую, с дикими глазами, она всегда держалась особняком от других — лежала, распростершись на полу, забыв об окружающей ее толпе, и, дергаясь всем телом, корчилась в судорогах, стиснув кулаки, шумно и мерно дыша.
Но не она, а Элмер был здесь главным — он, кто на голову выше всех новообращенных, кто одного роста с Джадсоном Робертсом, — так думают все студенты и большинство горожан; так думает он сам.
— Мальчик мой дорогой, это самая счастливая минута в моей жизни! — всхлипывала его мать. — Она все искупила!
Доставить ей такую радость — разве это мало?
Джадсон стиснул ему руку.
— Я горевал, что тебя не было в Чикагской команде! — кричал он. — Но зато мы теперь с тобой вместе в команде Христа, а это в тысячу раз лучше! Если б ты знал, как я горд!
Быть навеки связанным с Джадсоном — разве это не здорово?!
Замешательство Элмера все больше уступало место бурной и самодовольной радости.
А потом его окружили со всех сторон, жали ему руку, поздравляли: центральный нападающий из футбольной команды, преподаватель латыни, местный бакалейщик. Ректор Кворлс, тряся козлиной бородкой и дергая бритой верхней губой, твердил:
— Идите же, брат Элмер, поднимитесь на помост и скажите нам несколько слов — обязательно, нам всем это необходимо, мы так потрясены вашим прекрасным поступком!
Элмер и сам хорошенько не знал, каким образом, миновав толпу новообращенных, он очутился на помосте. Впоследствии он догадался, что Джадсон Робертс, как видно, неплохо и со знанием дела поработал локтями.
Он взглянул вниз, и на мгновение его вновь охватил панический страх. Но ведь все они просто захлебываются от любви к нему! А Элмер Гентри, тот самый, что всегда притворялся, будто ему наплевать на колледж, в действительности все эти годы жаждал популярности. И вот она пришла — популярность, почти что любовь, почти что преклонение. Он ощутил себя вождем, трибуном!
И оттого его исповедь зазвучала еще более пламенно:
— Сегодня я в первый раз обрел душевный мир во Христе! Все, что я делал доселе, было неправедно, ибо я уклонялся от стези добра и справедливости. Я считал себя добрым христианином, но разве я видел истинный свет? Я ни разу не пожелал пасть ниц и признаться, что я недостойный грешник. А вот теперь я преклоняю колени и — о, как сладостно блаженство смирения!
Строго говоря, он и не думал преклонять колени; наоборот: он стоял, вытянувшись во весь свой богатырский рост, и размахивал руками. Быть может, то, что он ощущал, и вправду походило на блаженство смирения, но речь его очень смахивала на воинственное заявление о том, что он берется вздуть любого завсегдатая какого хочешь кабака. Впрочем, слова его вызвали восторженное «аллилуйя», и он продолжал кричать до тех пор, пока не пришел в полный экстаз и совсем взмок от пота:
— Придите! Придите же к нему! Быть может, странно, что именно я, величайший из грешников, посмел призывать вас к нему! Но господь всемогущ, и сладчайшая истина его глаголет устами младенцев и недостойнейших из недостойных. И вот уже сильный посрамлен, а слабый вознесен пред очи его!
Весь этот пышный набор из лексикона солнцепоклонников был знаком слушателям так же хорошо, как «здравствуйте» и «как поживаете», но он, по-видимому, сумел вложить в эти слова новую силу, ибо никто не подумал смеяться над его скороспелыми восторгами — напротив, все смотрели на него очень серьезно. И вдруг свершилось чудо.
Через десять минут после своего собственного обращения Элмер обратил на путь истинный свою первую заблудшую овцу.
Прыщавый юнец, известный завсегдатай и зазывала игорного дома, вскочил и, воскликнув «Господи, помилуй меня!», рванулся вперед с искаженной лоснящейся физиономией, лихорадочно расталкивая толпу, пробился к скамье кающихся грешников и упал на нее, содрогаясь от конвульсий. На губах его выступила пена.
И тогда дружный хор «аллилуйя» заглушил страстные речи Элмера, и Джадсон Робертс встал рядом с Элмером, обняв его за плечи, а мать Элмера опустилась на колени с просветленным, блаженным лицом, и собрание завершилось исступленным ревом:
Так позволь же прильнуть мне, о Боже, К истекающей кровью груди…Элмер чувствовал себя победителем и воплощением благочестия.
Правда, в своем увлечении он не замечал никого, кроме самых набожных, тех, кто пришел заблаговременно и занял первые ряды. Студенты, которые теснились все время в задних рядах, теперь высыпали оживленными группками на церковное крыльцо, и когда мимо прошли Элмер и его матушка, их провожали глазами и даже посмеивались им вслед. Элмера вдруг словно окатили холодной водой…
С трудом заставлял он себя прислушиваться к радостным причитаниям матери по дороге в ее гостиницу.
— Ты только, смотри, не вздумай вставать завтра чуть свет и провожать меня на вокзал, — лепетала она. — Мне ведь и нужно-то всего перенести чемоданчик через дорогу. А ты должен как следует выспаться после сегодняшней встряски… Ах, как я гордилась тобой! Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь так страстно молился, как ты! Элми, ты будешь тверд? Ты так порадовал свою старуху мать! Всю жизнь я горевала, ждала, молилась — теперь мне больше не о чем горевать! Ты не отречешься, правда?
И он, с последней вспышкой прежнего воодушевления, звонко выкрикнул:
— Будь покойна, ма, конечно! — и поцеловал ее на прощание.
Ни следа не осталось в нем от былого подъема, когда он побрел один по улице под покровом морозной будничной ночи — и не вдоль светозарной колоннады, а просто мимо приземистых домишек, запорошенных тусклым снежком, неприветливо насупившихся под холодным и звездным небом.
План спасения Джима рухнул, образ Джима, поднявшего к небу умиленный и благоговейный взор, померк, сменившись образом совсем другого Джима: Джима с разгневанным взором и колючим, острым языком, — и по мере того, как бледнел придуманный им образ друга, гасло и воодушевление Элмера.
«А может, я просто свалял дурака? — размышлял он. — Ведь Джим предупреждал, что, если я потеряю голову, меня сцапают. Теперь, пожалуй, закуришь, так чего доброго, в ад угодишь.
А курить хотелось — и сию же минуту!»
Он закурил.
Однако и это помогло не слишком: тревога не унималась.
«Да, но ведь все же было без обмана! Я и вправду раскаивался во всех этих идиотских грехах. Даже вот папиросы — тоже брошу! Я на самом деле почувствовал эту, как ее… божью благодать.
…Только удержусь ли — вот загвоздка! Нет, это просто немыслимо, ей-богу! Ни тебе выпить, ни еще чего…»
«Интересно, а что, на меня, правда, снизошел святой дух? Но ведь факт, что я стал другим — я это ясно ощутил. Или это попросту мать с Джадсоном меня так накрутили и все эти праведники оглушили своими воплями?..
Джад Робертс — вот кто меня обработал. Наболтал, понимаешь — друг и брат, да еще силач… Ну, я уши и развесил. А сам наверняка пускает в ход этот приемчик повсюду, куда ни явится. Джим, пожалуй, скажет… А-а, к черту Джима! Что я, не имею права, что ли? Не его дело! Подумаешь — что, уж мне нельзя поступить прилично раз в жизни? А с каким почтением на меня все смотрели, когда я призывал ко Христу! Здорово это у меня получилось, и кстати паренек тот подвернулся, стал сразу каяться с места в карьер. Не всякому удается спасти заблудшую душу прямо тут же, как только он сам встал на праведный путь. Мало сказать — не всякому: никому! Я определенно побил все рекорды! Что ж, а, между прочим, может, они и правы… Может, бог и в самом деле имеет на меня какие-то особые виды, пусть я даже и не всегда вел себя как надо… в некотором смысле… Но я никогда не был подлецом или хулиганом… Так только — развлекался, и все…
Джим… а какое он имеет право меня учить, что надо, а что не надо? Его беда, что он возомнил, будто все знает лучше всех. А я лично думаю, эти лысые умники, что накатали столько книг про библию, надо полагать, побольше знают, чем какой-то там доморощенный агностик из Канзаса!
Да, вот так-то… Вся церковь — все до одного! Как меня слушали: точно я знаменитый на всю Америку проповедник!
Кстати, может, и не так уж плохо быть священником, особенно если большая церковь… Куда легче, чем копаться в делах да выступать в суде, и к тому же у противной стороны вполне может оказаться адвокат и поумней тебя.
Ну, а паства-то проглотит, что ни наплетешь ей с кафедры, и никаких тебе возражений или перекрестных допросов!»
Он фыркнул, но тотчас спохватился:
«Нехорошо так рассуждать! Если сам не поступаешь как надо, это еще не значит, что имеешь право издеваться над теми, кто живет по-хорошему, как вот священники, например… А Джим — он как раз этого не понимает.
Я-то, конечно, недостоин быть священником. Но только, если Джим Леффертс воображает, будто я побоюсь стать священником, оттого, что он там треплет языком… Я-то ведь знаю, какое это чувство, когда ты стоишь, а весь народ перед тобой гудит, ликует… И осенила меня благодать или нет — это тоже знаю один только я. Так что никакого Джима Леффертса мне для разъяснений не требуется».
И так он бродил целый час, не отдавая себе отчета, куда идет, то холодея от сомнений, словно от ледяного ветра, что гуляет по прерии, то вновь, как давеча, в церкви, загораясь — но ненадолго — и все время помня, что ему еще придется исповедаться перед неумолимым Джимом.
IV
Второй час ночи. Джим, конечно, уже заснул, ну а завтра, глядишь, и случится чудо. Утро — оно всегда сулит чудеса.
Затаив дыхание, он приоткрыл дверь. На умывальнике возле кровати Джима был виден свет. Ничего, это только керосиновый ночничок, да он еще и прикручен.
Элмер на цыпочках вошел в комнату, поскрипывая огромными башмачищами.
Внезапно Джим поднял голову с подушки, сел. Открутил фитиль на большой огонь. Нос и глаза у него были красные, в груди клокотал кашель. Он молча уставился на Элмера, и тот, застыв у стола, ответил ему таким же немигающим взглядом.
— Ну, не сукин ли сын! — резко произнес наконец Джим. — Добился-таки своего. Спасли! Дал себя околпачить! Заделался баптистским шаманом. Ну ладно, я умываю руки. Можешь катиться теперь… в рай!
— Нет, Джим, постой, послушай!
— Хватит, наслушался. Не о чем с тобой тут рассуждать! Теперь ты меня послушай. — И Джим, не переводя дыхания, минуты три объяснял Элмеру, кто он есть.
Почти всю ночь шло сражение за душу Элмера; Джим не потерпел поражения, но и не добился полной победы. Как раньше на молитвенном собрании между Элмером и проповедником, заслоняя видение креста, вставало лицо Джима, так теперь, смутные и печальные, маячили перед ним лица матери и Джадсона, и горячие слова Джима доходили до него как будто сквозь туманную завесу.
Проспав всего четыре часа, Элмер, спотыкаясь от усталости, отправился за булочками с корицей, сандвичами и кофе на завтрак Джиму. Затем, слово за слово, они заспорили снова; Джим — еще более настойчиво, Элмер — еще более раздраженно, как вдруг дверь распахнулась и к ним, в почтительном сопровождении дебелой квартирной хозяйки, вкатился не кто иной, как сам ректор, достопочтенный доктор Уиллоби Кворлс собственной персоной: козлиная бородка, белоснежная манишка, тугое брюшко под жилеткой.
Прочувствованно и многократно пожав руку Джиму и Элмеру, ректор движением бровей удалил из комнаты хозяйку и заговорил. Его гортанный голос опытного проповедника, нутряной, с растянутым «л» и раскатистым «р» — глубочайший, бухающий, как у филина, и вместе с тем елейно-проникновенный, как нельзя более подходил к этому храму, созданному им из этой обыкновенной комнаты лишь тем одним, что он в ней находился. Голос, полный укора джимам леффертсам, столь несерьезным и непочтительным, столь ребячески-циничным. Голос, напоминающий собою нечто среднее между вечерним колокольным звоном и утренним криком осла.
— Да, брат Элмер, вы совершили замечательный поступок. Какое редкостное мужество вы проявили! Такой большой и сильный человек, гладиатор — и не побоялся выказать такое смирение! Прекрасный пример, достойный подражания — прррекраснейший пример! Так будем же ковать железо, пока горячо! Сегодня вечером вам предстоит сказать речь на специальном собрании ХАМЛ, дабы закрепить успех, которого мы добились во время нашей поистине знаменательной Недели Молитвы.
— Ох, нет, что вы, господин ректор! — простонал Элмер. — Я не могу.
— Нужно, брат мой… Нужно! Уже и объявление готово. Выйдете на улицу через час — сами сможете полюбоваться на афиши. Будут расклеены по всему городу.
— Но я же не умею говорить речи!
— Господь вложит вам слова в уста — была бы только ваша добрая воля. Я сам зайду за вами без четверти семь. Да благословит вас бог!
И он удалился.
Элмер был окончательно испуган и подавлен — и готов лопнуть от восторга; после того как какой-то студентишка Джим Леффертс столько часов подряд измывался над ним, как над последним болваном, втаптывал его, можно сказать, в грязь, такая персона, как ректор Тервиллингер-колледжа, прижал его к своей накрахмаленной груди как собрата-апостола.
Пока Элмер набирался решимости сделать то, что он уже, собственно, решил сделать, Джим снова заполз под одеяло, отпустив несколько негромких, но убийственных замечаний по адресу господа бога.
А Элмер пошел взглянуть на афиши. Его имя было набрано восхитительно крупным шрифтом!.. Во второй половине дня, после занятий, на которых все поглядывали на него с уважением, Элмер битый час просидел, пытаясь подготовить выступление на совместном собрании ХАМЛ и примыкающей к ней женской организации. Джим спал, храпя, как разъяренный леопард.
На занятиях по ораторскому искусству, имевшие целью подготовку конгрессменов, епископов и коммивояжеров, Элмеру случалось выступать с речами на такие темы, как Система Налогов, Роль Небесного Провидения в Истории Человечества, Собака — Друг Человека и Величие Американской Конституции. Однако эти ежемесячные выступления давались ему сравнительно легко: если он и крал все мысли и даже почти все формулировки из энциклопедии, то это никого особенно не трогало. Подготовка к этим речам сводилась у него главным образом к тому, чтобы основательно прополоскать специальной микстурой горло, осипшее от постоянного и строжайше запрещенного курения. Эти занятия и не научили его ничему, кроме умения владеть своим бархатным голосом. Да и с какой стати было пытаться пленить своим красноречием какую-то горсточку студентов-однокашников и преподавателя — проповедника светского звания, бывшего податного чиновника из штата Оклахома! А потому по классу ораторского искусства Элмер шел кое-как: не так, чтобы из рук вон плохо, но и не так, чтобы хоть в чем-то отличиться.
И вот теперь, отчаянно потея от натуги, он все-таки сообразил, что от него ждут каких-то самостоятельных мыслей, что ему надлежит выразить в словах те стремления, которые отличают его, Элмера Гентри, от всякого другого человека, связно изложить собственные убеждения, и что теперь на одних воплях «аллилуйя» ему уже не выехать.
Он старался припомнить слышанные им ранее проповеди, речи. Но вот беда: все эти проповедники были так глубоко убеждены в своем духовном превосходстве, так превосходно вооружены тяжеловесными изречениями! А ведь он-то вовсе не уверен сейчас, действительно ли его призвание — быть проповедником, который призван нести людям свет, озаривший его, или он всего-навсего грешник…
Да! Грешник — и только! И навсегда! Будь он проклят, если отступится от старины Джима! Нет уж, дудки. Или предаст Джуаниту… Сколько она от него натерпелась! Явится к ней иной раз пьяный в стельку, грубый, наглый, а она только поддразнит его, и все… А как она обнимала его!.. Как умела вовремя выставить за дверь эту надоедливую Неллину тетку! Подмигнет ему, а сама наплетет тетушке, что в голову придет, да и выпроводит куда-нибудь в лавочку за продуктами… Эх, если бы только Джуанита была рядом! Вот кто подсказал бы ему, как поступить! Уж она бы ему посоветовала! То ли послать ректора и христианскую молодежь к чертям собачьим, то ли воспользоваться случаем и доказать Эдди Фислингеру и всем этим зазнайкам из ХАМЛ, что и он не такой уж болван… Э, нет, постойте! Не сам ли ректор сказал, что он, Элмер, и есть главная шишка? Ведь и собрание-то собирают из-за него. Ректор Кворлс — и Джуанита! Ну нет! Обоих ему не сохранить. А ректор-то: пожаловал собственной персоной…
Хм-м… Еще, может, и в газеты попадешь. Спас закоснелого грешника — не хуже, чем Джадсон Робертс. Джуанита… А-а, такую юбку найдешь где хочешь. Ты вот попробуй найди парня, который так вот запросто, с места в карьер, спасает заблудшие души!.. Ладно, к чертям все эти дурацкие мысли. Надо набросать эту самую речь, пока Джим спит. Как это там сказано?.. «Виноградари… в поте лица…» Что-то в этом роде. В библии где-то… Да-а: ну и досталось же ему! С одной стороны нажимает этот тихоня Эдди, с другой наскакивает Джим… Но все равно, как бы его ни донимали, он должен доказать тем гадам, что умеет все ничуть не хуже…
А-а, проклятье! Нет, так далеко не уедешь, так она у него никогда не будет написана, эта речь. Но все же…
М-да… Да, но о чем же все-таки говорить, черт побери? Подумаем… Стоп, идея! Вот о чем: как здоровый малый, спортсмен… да: чем он, дескать, сильней, тем более ему-то и надо признать, что святой дух даже его уложил на обе лопатки…
Нет. Вот чертовщина! Об этом уже говорил Старина Джад. Надо что-нибудь новенькое или хоть чуточку поновее.
И хватит чертыхаться. Надо это кончать. Раз уж ты встал на праведный путь, так и держусь, как ни трудно. Ему ли бояться трудностей… Да они со Стариной Джадом такие здоровые ребята, они кого хочешь…
Нет, сэр. Тут дело не в Старине Джаде. Мама — вот главное. Что бы она подумала, если б увидела его с Джуанитой? С этой распущенной, бесстыжей девкой… Да, надо навести во всем полную ясность. Ну, ладно! Элмер ухватился руками за край рабочего стола. Стол затрещал. Ощущение собственной силы радовало его. Засучив рукава засаленного красного свитера, он погладил свои мощные бицепсы и вновь обратился к своим апостольским трудам.
Значит, так: чего они будут ждать от него, эти ребята из Христианской Ассоциации? Есть! Нашел! Человек сам по себе ничего не значит. Если он чего-нибудь и добился в жизни, стало быть, на то была эта… как ее… воля божья.
И Элмер начал прилежно записывать что-то своим размашистым и корявым почерком в десятицентовой тетради по немецкому языку, потом сорвался с места и стал с важным видом раскладывать на столе всю свою библиотеку: библию — подарок матери; евангелие — подарок учителя воскресной школы; учебники по закону божьему и по истории церкви и один из четырнадцати томов «Собрания знаменитых проповедей», купленный им в Кейто за семнадцать центов во время одного из редких приступов библиомании — под пьяную руку. Сначала он сложил книги так, потом переложил их эдак. Стал постукивать по переплетам вечной ручкой. Вдохновение улетучилось бесследно. Что ж, тогда пороемся в библии. Уж в ней-то каждое слово полно вдохновения, что бы там ни говорили безбожники вроде Джима. Откроем первый попавшийся текст и будем развивать мысль.
Библия открылась на: «Итак, Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар-Бознай, с товарищами вашими Афарсахеями, которые за рекою — удалитесь оттуда!» Сильно сказано, конечно, только что-то мало вразумительно…
И он опять принялся ерошить свою пышную шевелюру и царапать пером по бумаге.
Ах ты господи! Надо же наконец хоть что-то придумать!
Ну, а если вот так: единственный путь к познанию жизни — понять те таинственные силы, до которых никогда не докопаться ученым, несмотря на все их лаборатории и всякое такое, и которые, зато, вполне доступны пониманию всякого истинного христианина…
Нет, это не пойдет. Он ведь и лабораторный практикум-то проходил только по курсу элементарной химии, так ему ли уличать в невежестве физиков и биологов! Элмер начал уныло вычеркивать так удачно начатые записи в немецкой тетради. А тут еще, как на грех, проснулся Джим и сразу же стал ехидничать:
— Что, Сорви-Голова, не так-то просто быть богобоязненным умником? Скатал бы уж лучше свою первую проповедь у какого-нибудь безбожника! Не ты первый, не ты последний: новоявленные пророки, они почти все так начинают.
И, запустив в приятеля тоненькой книжечкой, Джим вновь погрузился в свой неправедный сон. Элмер подобрал книжку с пола. То были избранные отрывки из произведений Робертса Ингерсолла. Элмер вознегодовал.
Как! Позаимствовать тему проповеди у Ингерсолла, этого отпетого старого безбожника, который говорил, что… ну это… словом, нападал на библию и все такое! Если ты сам не веришь библии, то уж, по крайней мере, не мешай верить другим! А иначе получается совсем свинство! Какое нахальство со стороны Джима предлагать ему что-то списывать у Ингерсолла! В огонь ее надо, эту книжонку!
Хотя… Чем сидеть вот так и ломать себе голову… Он рассеянно пробежал глазами страницу, другую — и забыл все свои печали. Великолепное, острое перо Ингерсолла убаюкивало, усыпляло его… Вдруг он выпрямился, подозрительно взглянул на притихшего Джима, перевел недоверчивый взгляд на потолок, потом промычал что-то невнятное, поколебался и начал бойко списывать в немецкую тетрадь цитату из Ингерсолла: «Любовь — единственный светлый луч, прорезающий темную тучу жизни. Любовь — это звезда утренняя и вечерняя. Она сияет над колыбелью младенца и озаряет безмолвие могилы. Она — мать искусства, она вдохновляет поэта, патриота, философа. Она — животворный светоч каждого сердца, оплот каждого очага, хранительница огня. Она наполняет мир музыкой, ибо музыка есть голос любви. Любовь — волшебница и чаровница, она может каждый пустяк превратить в источник радости, сделать бедняка королем, а его возлюбленную — королевой. Она — аромат чудесного цветка, имя которому — человеческое сердце, и без этой священной страсти, этого божественного дурмана человек ничтожнее зверя; но с нею земля становится раем, а мы — богами».
Списывая, он все-таки на какое-то мгновение помедлил в нерешительности. Но только на мгновение. Чепуха! Кто из них читал Ингерсолла? Заклятый враг! А потом — я его еще немножко переиначу по-своему…
V
Когда ректор Кворлс зашел за Элмером, конспект проповеди был уже в общих чертах готов, а сам Элмер успел переодеться в свой воскресный синий двубортный костюм и пригладить свои непокорные кудри. Они совсем уже собрались уходить, но Джим окликнул Элмера и, когда тот вернулся из передней, шепнул ему:
— Слушай, Сорви-Голова, ты, надеюсь, не забудешь выразить благодарность Ингерсоллу, да и мне, кстати? За идею — а?
— Пошел ты… — ответил Элмер.
VI
Собрание ХАМЛ обещало быть многолюдным. Присутствующие сгорали от любопытства. Целый день по всему колледжу шли ожесточенные споры. Неужели Сорви-Голова и в самом деле покаялся? Неужели он теперь остепенится и перестанет буянить?
Все, кого он только знал в колледже, были тут как тут, все глазели на него, разинув рты вопросительно, насмешливо, недоверчиво. Их кривые усмешки смутили его, а когда его представил аудитории председатель ХАМЛ, то есть не кто иной, как Эдди Фислингер, его стало разбирать зло.
Он начал вяло, запинаясь на каждом слове. Но о вступительной части его речи неплохо позаботился Ингерсолл, а голос — его собственный — звучал так восхитительно, что Элмер понемногу оттаивал. Толпа, заполнившая полукруглое помещение ХАМЛ, замаячила перед ним радужным облаком, его бархатный баритон загудел увереннее, он начал говорить обстоятельнее, высказывать глубокие мысли, всецело принадлежавшие ему, если не считать того, что он слышал их раз тридцать в чужих проповедях.
При всем том все это звучало совсем недурно. Во всяком случае, его речь, безусловно, выгодно отличалась от мистических и напыщенных разглагольствований, раздающихся обычно с кафедры.
При всем своем пристрастии к исковерканным оборотам речи, к вульгарным словечкам, к крепким выражениям Элмеру за время пребывания в колледже все-таки пришлось прочесть кой-какие книги, побывать на лекциях, обильно уснащенных пышными, витиеватыми и многосложными словами и чувствительнейшими сентенциями о боге, о закатах, о моральном самоусовершенствовании в результате ежедневного созерцания горных ландшафтов, об ангелах, любящих ловить рыбу и души человеческие, об идеалах, патриотизме, демократии, нравственной чистоте, ошибке провидения в тот час, когда оно создавало женскую ножку, о мужестве, смирении, справедливости, сельском хозяйстве Палестины эдак в четвертом году нашей эры, о радостях домашнего очага и размерах жалованья священнослужителей, и эти цветистые слова, громоподобные фразы, эти глубокомысленные изречения ему вбивали в голову до тех пор, пока они не укоренились в его мозгу как готовые к употреблению штампы.
Однако даже преподаватели, которые вколачивали ату осточертевшую им самим премудрость в студенческие головы и которые, казалось бы, должны были знать источники вдохновения Элмера Гентри, — даже они поражались, как это после четырех лет невразумительного бормотания на занятиях ему удалось вдруг разразиться такими каскадами красноречия и принимали его излияния всерьез, ибо, как и он, были вскормлены захудалыми баптистскими и кэмпбеллитскими[30] колледжами.
Никому из них и в голову не приходило, какое это, в сущности, комическое зрелище: рослый детина, которому, казалось бы, сам бог велел таскать мешки с углем, стоит и изрыгает вязкие и слащавые слова о Любви, Душе и прочих высоких материях. Так и сидели они, молодые учителя, совсем недавно покинувшие ферму; профессора, бледные от многолетней сонной дремы в душных аудиториях, — сидели, с уважением взирая на Элмера. А тот разливался соловьем:
— Ужасно это трудно человеку, если он привык гонять мяч на поле, а не выступать перед публикой, выразить то, что он думает. Но, по-моему, ведь порою бывает так, что хоть и не все говоришь вслух, а думаешь много кой о чем. Вот я и хочу… это… хочу сказать, что если вникнуть поглубже в самую суть и если не лукавить с богом, а дать ему наполнить твою душу высокими устремлениями, то видишь, что только одна любовь способна, как луч света, озарить мрачную тьму нашей жизни.
Да, если хотите знать: одна любовь и ничто другое! Любовь — это утренняя и вечерняя звезда. Любовь, она даже в безмолвной могиле… я то есть хочу сказать, в тех, кто стоит вкруг безмолвной могилы; даже в них вы ее найдете. Кто вдохновляет всех великих людей, всех поэтов, патриотов, философов? Любовь! Что — нет? Что послужило людям первым доказательством бессмертия? Опять же любовь! Она наполняет мир музыкой, потому что музыка — она есть что? Что такое музыка, я вас спрашиваю? А? Музыка — голос любви, вот оно что!..
Достославный ректор Кворлс откинулся на спинку стула и надел очки: они придавали несколько более ученый вид его украшенной козлиной бородкой физиономии, которая вообще-то скорее смахивала на физиономию владельца какого-нибудь захудалого банка пятидесятых годов прошлого века. Он восседал на почетном месте среди десятка избранных на невысокой эстраде под оштукатуренным полукуполом. Стена позади была увешана плакатами, диаграммами, похожими на анатомические таблицы и показывающими число спасенных душ в Египте, количество денег, расходуемых населением на виски, по сравнению с суммами, истраченными на сборники церковных гимнов, а также паломничество некоего грешника в картинках: от сквернословия — к курению и посещению пивных, а там и к довольно оживленной сценке, в которой он избивает свою жену, каковой это, по-видимому, не нравится. Наверху красовался большой и поучительный плакат: «Не дай злу одолеть себя, но одолей зло добром».
В зале стоял запах сырой соломы, присущий всем молитвенным домам, — впрочем, ректор Кворлс, по всей видимости, вовсе не страдал от этого. Всю свою жизнь он провел в молельнях, в комнатах, заставленных тощими церковными журналами и пухлыми сборниками проповедей. Правда, он нажил себе легкий хронический насморк, но, в общем, его организм, судя по всему, приспособился к жизни без воздуха. Ректор сиял, потирая руки, поглядывая с праведным восторгом на широкую спину Элмера. А тот разошелся не на шутку, речь его звучала все увереннее, он уже кричал на свою аудиторию, швырял в нее фразы, как мячи, перекрывая своим голосом всякого, кто осмеливался его перебить, забивая один гол за другим:
— Что отличает нас от животных? Чувство любви! Без любви мы… это самое… ничто, нуль. А с нею земля становится раем, а мы — конечно, до известной степени — уподобляемся самому богу! Вот это я и хотел вам сказать насчет любви, растолковать, стало быть, что к чему. Может, тут среди вас много таких, как я? Да, я грешил, я себя выгораживать не собираюсь. Я тоже ходил и думал, что слишком, мол, я хорош для святой любви спасителя. Еще бы: такой силач парень, такой молодец! А задумывался ли кто-нибудь из вас о том, как вы обкрадываете себя, воображая, будто можете обойтись без святого заступника? Ха! Может, вам и сам Моисей нипочем и апостол Павел? Может, вы умней великого ученого Пастера?..
Ректор Кворлс ликовал. Вот это воистину обращение грешника! Больше того! Это — настоящее открытие, и оно принадлежит мне! Элмер — прирожденный проповедник. Его надо только подтолкнуть, а уж это-то в моих руках! Воистину неисповедимы пути твои, господи! Тебе угодно было взрастить юного брата нашего не столько во храме за молитвой, сколько в мужественных битвах на олимпийском поле… Я… то есть ты, господи, создал истинного проповедника. Когда-нибудь он еще станет одним из ведущих ораторов страны!
Когда Элмер выкрикнул свои заключительные фразы, зал взорвался аплодисментами.
— …а вы, первокурсники, сбережете себе уйму времени, если сразу поймете одно: пока вы не познали бога, вы не знаете ровно ничего! Я лично много времени потерял даром, пока это не понял!
Рукоплескания, сияющие лица… А Эдди Фислингер, тот просто покорил его.
— Ну, старина, — вздохнул Эдди, — до сих пор ты меня бил на твоем поле, а теперь обставил на моем собственном!
Каждый хотел пожать ему руку, и самым горячим было рукопожатие его недавнего врага — преподавателя латыни.
— Откуда, Гентри, — захлебывался латинист, — откуда вы почерпнули все эти замечательные мысли? Все эти метафоры, относящиеся к божественной любви?
— О, — скромно ответствовал Элмер, — по совести, профессор, нельзя даже сказать, что они мои. Они мне были ниспосланы, — помолился, знаете, ну и вот…
VII
Джадсон Робертс, экс-чемпион по футболу, а ныне генеральный секретарь ХАМЛ, ехал на поезде в Конкордию, штат Канзас. Три раза затянулся в тамбуре запретной сигаретой, бросил, наступил ногой.
— В конце концов, не так уж плохо для этого — как его там — Элмера, что он возвращен в лоно церкви. Допустим даже, что все это чепуха, — все равно ему не вредно хоть на время избавиться от кой-каких дурных привычек. Это уж во всяком случае. Да и потом, как знать? Может быть, кого-то и вправду иногда осеняет благодать. Невероятно, конечно… ну, а электричество? Еще невероятнее… Вот бы и мне покончить со всеми сомнениями! Когда накрутишь их всех как следует на молитвенном собрании, то забудешься ненадолго, а потом попадается такой вот здоровенный мясник с блаженной улыбкой на глупой роже… Эх, придется, видно, все-таки переключиться на продажу недвижимого имущества. Не думаю, чтобы от меня был особый вред этим ребятам, но лучше заниматься честным делом. Ох, господи боже мой, если бы только подвернулось хорошее место в агентстве по продаже недвижимости!..
VIII
Элмер шел домой твердым шагом и размышлял: «Какое он имеет право, этот мистер Джемс Леффертс, утверждать, будто мне нельзя злоупотреблять моими способностями и будоражить толпу? Уж сегодня-то я их взбудоражил, будьте покойны! Никогда не думал, что так здорово умею говорить речи. И легко, не трудней, чем футбол! А ректор-то говорит, я прирожденный проповедник. Хо-хо!»
Твердо и гневно шагнул он в комнату, сорвал с головы шляпу, швырнул на стол.
Шум разбудил Джима.
— Ну, как сошло? Накормил их евангельской требухой?
— Представь себе, да! — прогремел Элмер. — Сошло, как вы изволите выразиться, шикарно. Возражения имеются?
Он повернулся к Джиму спиной, зажег самую большую лампу и до предела открутил фитиль.
Ответа не было. Он оглянулся. Джим, казалось, снова заснул.
В семь утра Элмер миролюбиво, можно сказать, покровительственно, произнес:
— Ну, я пошел. Вернусь к десяти. Поесть тебе чего-нибудь принести?
На этот раз Джим отозвался:
— Нет, спасибо. — Больше в то утро он не сказал ни слова.
Элмер вернулся в половине одиннадцатого. Джима не было. Вещи его тоже исчезли. (Вещей, правда, было не так уж много: три чемодана с платьем, да охапка книг.) На столе лежала записка:
«Поселился до конца года в студенческой гостинице. Думаю, Эдди Фислингер не откажется переехать к тебе. Как раз что тебе надо. Очень трогательно было наблюдать, как ты стараешься остаться честным кутилой, но быть свидетелем того, как ты превращаешься в духовного вождя праведников, — это уж, пожалуй, будет чересчур трогательно.
Дж. Б. Л.».
Элмер бушевал, но от этого в комнате все-таки не становилось менее одиноко…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
I
Его убеждал ректор Кворлс.
Став священником, Элмер — как знать, — возможно, прославится на весь мир. Какая честь для Тервиллингер-колледжа, для всех храмов Гритцмейкер-Спрингс!
Его убеждал Эдди Фислингер.
— Подумай! Ты же пойдешь куда дальше меня! Я уже вижу тебя председателем баптистского конвента!
Элмер по-прежнему недолюбливал Эдди, но Джима Леффертса он теперь старался вообще не замечать. Встречаясь на улице, они раскланивались со сдержанной яростью. Ну, а ведь надо было, чтобы хоть кто-то восхищался его добродетелями…
Его убеждал декан колледжа — бывший священник.
Где еще он найдет профессию, которая даст ему такое превосходное положение в обществе? Его будут слушать тысячи людей… Приглашения на званые обеды… И насколько легче, чем… то есть не то чтоб легче: все духовные лица трудятся ревностно — жизнь, полная самопожертвования… постоянная готовность проявить сострадание, оказать помощь… героическая борьба с пороком — но вместе с тем, какая интеллигентная, благородная профессия — жить в окружении книг, возвышенных идей, вращаться в избраннейшем дамском обществе… И на учение тратишь куда меньше, чем, скажем, будущий юрист. При стипендии, при возможности дополнительно подработать в местных храмах трехгодичный курс обучения в Мизпахской богословской семинарии обойдется Элмеру почти даром. Ну, а есть у него другие планы насчет выбора профессии? Ничего определенного? Но ведь это не иначе, как знамение божие! Нет, положительно! Итак, будем считать вопрос решенным. Может быть, ему удастся выхлопотать Элмеру стипендию даже на первом курсе…
Его убеждала мать.
Она писала ему ежедневно: она ждет, молится за него, она плачет…
Элмер и сам себя убеждал.
Какие у него перспективы? Скучнейшая служба в захудалой юридической конторе в Толуке (штат Канзас), принадлежащей его дальнему родственнику?.. Теперь, когда рядом не было Джима, единственное, что еще удерживало его от окончательного решения стать пастором, это мизерное жалованье, которое получают лица духовного звания, ну и еще то обстоятельство, что со священниками, уличенными в пьянстве или распутстве, обычно поступают довольно круто. Жалованье — это еще куда ни шло, он, разумеется, пойдет далеко и тысяч восемь или десять в год заработать, наверное, сумеет. А вот насчет развлечений… Он думал об этом так много, что в конце концов не выдержал, сорвался в Кейто и вернулся навеки (временно, разумеется) исцеленным от нечистых побуждений.
Самым сильным аргументом «за» служило воспоминание о том, как он овладел аудиторией в церкви, как покорил ее звуками своего голоса. Потрясать сердца… Вот это жизнь! Его так и подмывало говорить — неважно кому, неважно о чем, только сейчас же, сию минуту! И слышать гром аплодисментов!..
Теперь он уже так вошел в роль будущего праведника, что, нимало не смущаясь (к тому же этой язвы Джима теперь бояться было нечего), так и сыпал в беседах с ректором или Эдди самыми высокопарными богословскими и морально-философскими выражениями. Без тени усмешки произносил он громогласно-драматические речи о том, что «долг каждого — привести ближнего своего в лоно христианства» или об «исторической роли баптизма как единственного истинно евангельского вероучения, признающего обряд крещения посредством погружения в воду, согласно учению самого Христа».
И вот, наконец, он убежден. Он уже видел себя молодым проповедником со светлым челом и лучистыми очами, одетым в новый, с иголочки сюртук; он стоит на кафедре, и сотни прелестнейших женщин рыдают от умиления и бросаются к нему, чтобы пожать его руку…
Но оставалось еще одно препятствие, и весьма серьезное. Все кругом твердили ему, что он пока еще сырой материал, хотя и отмечен богом, что, прежде чем он примет окончательное решение, ему надлежит познать некое мистическое озарение, известное под названием «Глас Господень». Сам господь должен явиться ему и призвать его в слуги свои; а между тем Элмер, вполне сознавая теперь свои силы, а также величие баптистской церкви, все-таки ощущал присутствие господа поблизости не более, чем в самые черные дни своей жизни во грехе.
Он спрашивал и ректора и декана: ну, а они-то слышали этот самый Глас? Как же! Разумеется! Но ни тот, ни другой не смогли дать четких практических указаний, как вызвать Глас, как узнать его, если и услышишь ненароком. Обращаться к Эдди было неохота: уж этот-то наверняка не поскупится на советы, да еще, чего доброго, пожелает преклонить вместе с ним колена и помолиться, будет болтать всякую муть, охать и ахать, липнуть к нему — словом, Эдди лучше не трогать.
Одна неделя сменяла другую, а Гласа все не было. Вот и пасха прошла, а Элмер так и не решил окончательно, что ему делать на будущий год.
II
В прерии — весна; весна в разгаре! Щербатый кирпич и облупленная штукатурка учебных строений потонули в пышной сирени, сплошной и пестрой стеной встала таволга, а с канзасских полей струились мягкие ветерки и пение жаворонков.
Студенты торчали у окон, переговаривались с приятелями внизу, гоняли мяч на плацу, разгуливали с непокрытой головой и писали бессчетное множество стихов. Баскетболисты Тервиллингера нанесли поражение команде Фогельквист-колледжа,
А Гласа Божия все не было.
Днем, сражаясь в кеч, слоняясь без дела, затевая возню с товарищами, распевая «Никогда не забыть нам счастливые дни и тебя, старый, добрый Тервиллингер…», сидя на ограде (которая — так хотелось верить студентам — была совсем как ограда в Йельском университете), одиноко бродя в тополевой и ивовой рощице на берегу Тэнкер-Крик, Элмер дышал полной грудью вместе с ликующей природой и был счастлив.
Зато ночью начинался сущий ад.
Он чувствовал себя виноватым в том, что господь не призывает его. В середине мая он опять обратился за советом к ректору.
Доктор Кворлс с задумчивым видом изрек:
— Брат Элмер, я меньше всего хотел бы создавать видимость того, что Глас Господень услышан вами, если это не соответствует истине. Это было бы противно духу священнослужения; это напоминало бы те нечестивые галлюцинации, что навязывают этим злополучным страдальцам — приверженцам католицизма. Баптистский священнослужитель должен быть в первую очередь свободен от иллюзий; он должен основываться в своей работе на строгих, твердо установленных научных фактах, фактах доказанных и проверенных — фактах библии. А также на факте искупительной смерти Христа, истинность которого подтверждается практически, подтверждается жизнью. Но иллюзии — нет, ни в коем случае. И в то же время я уверен, что господь, несомненно, призывает вас, вам нужно только услышать его. И я хочу помочь вам рассеять туман мирской суеты, которая, несомненно, и поныне застилает ваш духовный слух. Приходите ко мне домой завтра вечером. Мы обратимся с молитвой к господу.
Вышло все это, в общем, достаточно кошмарно.
Стоял ласковый весенний вечер, свежий ветерок шелестел в листве платанов. Ректор Кворлс наглухо закрыл все окна гостиной, опустил шторы. Вся комната была увешана пастельными портретами достойных баптистов, уставлена красными плюшевыми стульями и застекленными составными книжными шкафами, хранящими светские творения священников, склонных к поэзии. Принять участие в молитвах были приглашены наиболее пожилые и солидные преподаватели колледжа из бывших пасторов, а также самые елейные златоусты из ХАМЛ во главе с Эдди Фислингером.
Когда Элмер вошел в гостиную, все они стояли на коленях, положив руки на сиденья стульев, склонив головы, и хором молились вслух. Они уставились на него так, как старушки разглядывают невесту, и ему сразу же захотелось удрать. Потом ректор схватил его за руку и заставил тоже опуститься на колени. Страдая, умирая от стыда, Элмер стоял и ломал себе голову: о чем же, черт побери, надо в конце концов молиться…
Присутствующие один за другим обращались к богу с указаниями по поводу того, как ему следует вести себя с «братом нашим, столь пламенно и искренне ищущим истины».
— А теперь, брат Элмер, — проскрипел ректор, — возвысьте и вы свой голос в молитве. Излейте всю душу, не смущайтесь. Помните, что мы с вами, что мы любим вас и хотим вам помочь.
Все столпились вокруг него. Ректор обнял его за плечо своею старческой, жесткой рукой. На ощупь рука была похожа на сухую кость, а от самого ректора разило керосином. С другой стороны к Элмеру всем телом привалился Эдди. Подползали еще какие-то люди, ободряюще похлопывали по спине. В комнате было страшно жарко, а тут еще все так плотно сгрудились вокруг! У него было такое чувство, словно его связали по рукам и ногам в больничной палате. Он поднял глаза и увидел длинное, бритое лицо и тонкие, плотно сжатые губы священника… Отныне это будет его собрат и его соперник…
Холодок ужаса пробежал по его спине. Он все же попробовал молиться.
— О, боже милосердный, помоги мне… помоги… — жалобно начал он.
Внезапно его осенила блестящая мысль. Он вскочил на ноги.
— Послушайте! — закричал он. — По-моему, я уже начинаю чувствовать присутствие святого духа! Может, мне лучше пойти пройтись, помолиться наедине с собой, а? А вы тут пока тоже бы помолились за меня.
— Мне кажется, не следует… — начал было ректор, но самый престарелый из преподавателей поддержал Элмера:
— Возможно, это господне знамение! Не подобает противиться воле божьей, брат Кворлс.
— Да-да, конечно, — согласился ректор. — Идите же прогуляйтесь, брат Элмер, и молитесь усердно, а мы останемся здесь и будем осаждать престол всевышнего молитвами о вас.
Элмер, спотыкаясь, выбрался на свежий воздух. Что бы ни случилось, он ни за что не вернется! Какие у них руки! Мягкие, цепкие, влажные — фу, гадость! У него мелькнула мысль, что неплохо бы поспеть на последний поезд в Кейто и напиться до бесчувствия. Нет, нельзя! До выпуска всего месяц, еще лишат диплома, и будет он не настоящим, первоклассным юристом с дипломом колледжа, а так, заштатным адвокатишкой.
— А-а, ну и черт с ним, с дипломом! Что угодно, только не идти снова туда — к этим липким, осторожным рукам, к этому старческому дыханию у тебя над ухом…
Надо остановить кого-нибудь, послать к ректору передать, что он заболел — и в постель! И точка! Не нужно ему никакого Гласа Божия, доставайся он кому угодно. И в священники не придется идти.
Да, но уж тогда не стоять ему перед тысячной аудиторией, не потрясать сердца речами о священной любви, о звезде утренней и вечерней… Эх, только бы как-нибудь перемучиться три годика в богословской семинарии, заполучить теплое местечко!.. Пусть тогда какой-нибудь Эдди Фислингер попробует сунуться к нему в кабинет и дышать ему в затылок! Тогда-то он его вышвырнет вон, как собаку! Элмер очнулся и увидел, что стоит, прислонившись к дереву, обламывая молодые веточки, а напротив, под уличным фонарем, стоит Джим Леффертс.
— Что-то ты, брат, Сорви-Голова, неважно выглядишь, — сказал Джим.
Элмер попытался принять вид, полный достоинства, но не выдержал:
— Ох, да, плохо мое дело! И зачем я только сунулся к этим святошам!..
— Что они над тобой вытворяют? А впрочем, ладно, можешь не рассказывать. Выпить тебе надо, вот что.
— Еще как надо!
— У меня дома есть кварта отличного кукурузного виски: раздобыл у местного самогонщика. Моя комната как раз в этом корпусе. Пошли!
За первой рюмкой Элмер притих. Он еще не пришел в себя после того, что случилось, и инстинктивно тянулся к Джиму — единственному, кто мог увести его от всех этих ужасов.
Однако он уже отвык от спиртного; он быстро пьянел. Еще не допив второй рюмки, он уже стал похваляться своими успехами в церковном красноречии и снисходительно сообщил Джиму, что никогда еще в стенах Тервиллингер-колледжа не появлялся столь многообещающий оратор и что в эту самую минуту за него молятся, его ждут сам ректор и преподаватели — в полном составе!
— Только, — в голосе его снова прозвучали виноватые нотки, — может, по-твоему, мне лучше к ним не возвращаться, а?..
Джим стоял у открытого окна.
— Да нет, — медленно произнес он, — теперь я вижу… Лучше ты возвращайся. У меня есть мятные лепешки. Пососи немножко — отобьет запах. Ну, прощай, Сорви-Голова!
Он сумел убедить даже самого Джима!
— О-о! Да он — владыка мира! Только чуточку, самую малость, под хмельком…
Он вышел на улицу счастливый и гордый. Какая красота вокруг! Какие высокие деревья! Что за прекрасная витрина у этого аптекарского магазина и как чудесно поблескивают глянцевые обложки разложенных на ней журналов! Далекие звуки рояля, волшебно! Какие очаровательные девушки, эти студентки-однокурсницы! А студенты — красота, а не ребята! Молодцы! Он был доволен всем и всеми. Ну, а сам-то он разве плох? Парень — что надо! Куда девались вся его злость и желчность? От них и следа не осталось! Как ласково он обошелся с Джимом Леффертсом, этим несчастным, одиноким грешником!.. Другие могут махнуть на него рукой и отвернуться; он, Элмер, никогда!
Бедняга Джим! Какая у него жуткая комнатушка — тесная, узкая, койка не застлана… на стопке книг валяются ботинки, трубка, вырезанная из кукурузного початка… Ах, бедненький! Надо будет его простить. Надо будет зайти к нему как-нибудь и убрать комнату. (Нельзя сказать, чтобы в былые времена Элмер хотя бы раз наводил порядок в комнате.)
Ах, какая дивная весенняя ночь! Какие они, в общем-то, славные ребята — и сам ректор да и другие тоже — не пожалели потратить целый вечер, чтобы только помолиться за него!
И почему это ему так хорошо? А-а, ясно! Он услышал Глас Божий! Господь все-таки явился ему — правда, не материально, а это… спиртуозно… нет, спиритуально — вот как! Наконец-то! Теперь — вперед, и мир будет у наших ног!..
Он вихрем ворвался в дом ректора и, выпрямившись во весь рост в дверях (остальные, замерев на коленях, воззрились на него снизу вверх), гаркнул:
— Снизошло! Точно — по всему чувствую! Господь открыл мне глаза, и я прозрел! Я вижу теперь, как здорово устроен наш мир! Знаете, вот прямо как слышу его голос: «Разве, — говорит, — ты не хочешь возлюбить ближних и помочь им обрести счастье? Неужели ты хочешь остаться черствым себялюбцем или ты стремишься… это… помочь людям?»
Он остановился. Его слушали молча, с интересом, изредка одобрительно вздыхая: «Аминь…»
— Честное слово, потрясающе! Понимаете — вдруг, сам не знаю почему, чувствую, что стал намного лучше, совсем не такой, как вышел отсюда. По-моему, определенно — Глас Господень! А по-вашему как, господин ректор?
— О, я уверен! — воскликнул ректор, торопливо вставая и потирая колени. — Теперь, я чувствую, с нашим братом все обстоит благополучно. Настал священный миг — он услышал Глас Господень и пред лицом всевышнего вступает на благороднейшее поприще служения богу. Вы со мною согласны? — добавил он, обращаясь к декану.
— Восславим господа, — отозвался декан и посмотрел на часы.
III
По дороге домой — они возвращались вдвоем — старейший из педагогов сказал декану:
— Да, это была поистине радостная и торжественная минута… И вместе с тем — э-э… гм… — несколько неожиданная. Никак не думал, что молодой Гентри удовольствуется тихими радостями пути праведного. Кстати, э-э… почему это от него так пахло мятой?
— Наверное, зашел по пути в аптекарский магазин, выпил чего-нибудь прохладительного. Не знаю, как вы, брат, а я что-то не слишком одобряю эти прохладительные напитки. Вещь, конечно, сама по себе вполне невинная, но все же это приводит к неразборчивости. Ну как может человек, который пьет имбирное пиво — как он может до конца прочувствовать, какая скверна — пиво настоящее?
— Да, да, — закивал головой старейший из преподавателей (ему было шестьдесят восемь лет, так что шестидесятилетний декан был рядом с ним просто мальчишка). — Скажите, брат, а какого вы мнения вообще о молодом Гентри? Как о будущем пастыре? Я знаю, что, до того как попасть сюда, вы достойно послужили на кафедре, да и я сам, прямо скажу, тоже… Ну, а если бы вам теперь было лет двадцать — двадцать пять, пошли бы вы все-таки в священники, если бы знали, куда повернет история?
— Да что вы, брат! — огорчился декан. — Конечно! Что за вопрос! Что сталось бы со всей нашей работой в Тервиллингере, с нашей главной идеей: противодействовать язычеству, что насаждается в крупных университетах?.. Чего бы все это стоило, если бы священнослужение не было самым высоким идеалом!..
— Да, знаю, знаю… Просто иной раз приходит в голову… Все эти новые профессии… медицина, реклама. Мир идет вперед гигантскими шагами! Попомните мои слова — лет через сорок, году так в сорок третьем, люди будут летать по воздуху в машинах со скоростью миль эдак сто в час!
— Дорогой друг, если бы богу угодно было, чтобы люди летали, он дал бы нам крылья.
— Но в писании есть пророчества…
— Там говорится об иных полетах — в чисто духовном, символическом смысле. Нет, нет! Никогда не следует искажать ясную мудрость библии. Я мог бы привести вам сотни цитат, которые неоспоримо доказывают, что до того дня, пока мы не восстанем из мертвых и не вознесемся к нему, господь повелел нам пребывать здесь, на земле.
— Гм-м… Возможно… Ну, вот и мой дом. Спокойной ночи, брат.
Декан вошел в свой дом — маленький, приземистый домишко.
— Ну, как сошло? — спросила его жена.
— Великолепно! Молодой Гентри, несомненно, услышал Глас Божий. Он как-то сразу преобразился, возвысился духом. Это вообще незаурядная личность, что-то в нем есть… только вот…
Раздраженно крякнув, декан уселся в плетеную качалку, скинул башмаки, ворча, нащупал шлепанцы…
— Только никак я не могу почувствовать к нему симпатию — не нравится, да и только! Скажи-ка, Эмма: если бы мне сейчас было столько же, сколько ему — ты как думаешь, пошел бы я в священники? Зная наперед, как все повернется в мире?
— Что это ты такое говоришь, Генри? С чего бы это ты вдруг? Конечно — да! А иначе чего стоит тогда вся наша жизнь? Ради чего мы тогда себе в стольком отказывали, и вообще?..
— Да, да, знаю. Так, иногда подумается… А от чего мы, если разобраться, отказались? Знаешь, и проповеднику иногда не мешает посмотреть правде в глаза!.. В конце концов, те два года, что я торговал коврами — ну, до того, как пошел в семинарию, — дела шли неважно. Может быть, так и зарабатывал бы не больше, чем теперь. Но если бы я мог… Представь себе, что я мог бы стать крупным химиком! Нет, это я только так рассуждаю — отвлеченно… Как бы психологическая задача… Разве это не лучше в тысячу раз, чем из года в год заниматься со студентами все одними и теми же опостылевшими вопросами, да еще всегда делать вид, что это и для тебя самого, понимаешь, чуть ли не откровение? Или из года в год торчать на кафедре и знать, что через пять минут ни один из прихожан уже не будет помнить, о чем ты говорил.
— Не пойму, Генри, что это за муха тебя укусила. Ты лучше бы сам помолился немного, чем нападать на бедного мальчика. Ни ты, ни я нигде не смогли бы быть счастливы, кроме как при баптистской церкви или в настоящем истинно-баптистском колледже.
Жена декана чинила старые полотенца. Брови ее были озабоченно сдвинутые, губы беззвучно шевелились. Покончив с работой, она поднялась на второй этаж, чтобы пожелать спокойной ночи своим родителям. Старики поселились у нее с тех пор, как отец — сельский священник — в семьдесят пять лет ушел на покой. До Гражданской войны он был миссионером в штате Миссури.
По-прежнему хмурясь, жена декана вошла в комнату родителей и крикнула в самое ухо отцу (старик был туговат на ухо):
— Пора спать, папа! И теба, мама, тоже!
Старички, сидевшие по обе стороны ледяной батареи, уже клевали носами.
— Ладно, Эмми, — пискнул отец.
— Скажи, папа… Мне пришло в голову… Скажи вот что: если б ты сейчас был молод, ты пошел бы в священники?
— Разумеется! Что за мысль! Самое славное поприще для молодого человека! Какие могут быть сомнения? Спокойной ночи, Эмми!
Однако его престарелая супруга, снимая с охами и вздохами свой корсет, пожаловалась:
— Не уверена, что ты пошел бы в священники, во всяком случае, если б твоей женой была опять я — кстати, это еще неизвестно во второй-то раз… — И если б я тоже вставила словечко…
— Да: уж что-что, а это-то вполне известно! И не говори глупостей! Конечно, стал бы!
— Не знаю… Пятьдесят лет — сыта по горло! И каждый раз готова была лопнуть от злости, когда, бывало, явятся наши приходские жены да начнут совать носы куда не надо да хаять каждую салфеточку на спинке стула… А уж если когда наденешь мало-мальски приличную шляпку или шаль — готово: пошли чесать языки! «Жене священника не пристало носить такие вещи». Ах, провались они! А я-то как раз всегда любила шляпки хорошенькие, яркие! Знаешь, сколько я передумала обо всем об этом! Вот ты, например, всегда был прекрасным проповедником, ничего не скажешь, но я тебе сколько раз говорила…
— Да, что правда, то правда, говорить ты горазда!
— …сколько раз говорила: почему так получается — когда ты стоишь на кафедре, то все знаешь, рассуждаешь про возвышенные предметы, про таинства, а когда приходишь домой, ничего не знаешь и ничего не умеешь! Даже молоток не можешь найти, или хотя бы испечь каравай хлеба, или расходы подсчитать так, чтобы хоть раз правильно сошлось, или найти Обераммергау[31] на карте Австрии!
— Германии, женщина! Я спать хочу, не мешай!
— Столько лет притворяться, что мы такие замечательные, когда мы самые что ни на есть обыкновенные люди. Неужели ты не рад, что хоть теперь стал человеком, как все?
— Может быть, так оно и спокойней. Но это еще не значит, что я снова не поступил бы точно так же. — Старик задумался и долго молчал.
— Да, скорей всего, я избрал бы тот же путь. Так или иначе, у молодых людей не следует отбивать охоту к посвящению в духовный сан. Должен же кто-то проповедовать слово божье?
— Да, наверное… Ох-хо-хо! Пятьдесят лет прожить женою священника! Если бы я хоть по-прежнему верила в непорочное зачатие! Нет, уж — только не начинай объяснять! Ты уже тысячу раз объяснял! Я знаю, что это правда, раз так сказано в библии. Если бы еще я могла поверить в это! Но… И почему только ты не попробовал заняться политикой! Вот бы славно! Если бы я хоть раз — один разок побывала в доме сенатора на банкете или там, я уж не знаю на чем, в ярко-красном платье, в золотых туфельках! А уж потом — пожалуйста: влезла бы в черную шерстянку, скребла полы, слушала бы, как ты репетируешь свои проповеди в конюшне перед нашей старой кобылой… Сколько же это лет, как она пала? Пожалуй… да, верно, лет двадцать семь будет…
И почему религия непременно требует, чтобы ты верил в такое, что никак не сообразно с жизнью? Ах, да не заводи ты мне опять эту старую песню: «Я верую, ибо это невероятно!» Верую, ибо невероятно! Фу! Такое только от попа и услышишь! Ох-хо-хо… Только на то и надеешься, что умрешь, пока еще не успеешь потерять веру. Но, по правде сказать, чем я старше, тем мне меньше нравятся все эти проповедники, что болтают про ад, которого сами никогда в глаза не видали.
Двадцать семь лет! А ведь сколько лет она у нас прожила! Ох, и лягалась же, помнится… Как тогда опрокинула двуколку…
Старички заснули.
ГЛАВА ПЯТАЯ
I
В тополевой роще у мутной речушки, в трех милях к западу от Парижа (штат Канзас), собрались верующие. Они пришли на целый день в парусиновых пыльниках с корзинами, набитыми снедью, с мокрыми, несчастными младенцами — они собрались на торжество. Брату Элмеру Гентри и брату Эдварду Фислингеру, уже получившим разрешение выступать с проповедями, предстояло пройти официальное посвящение в сан баптистских священников и стать полноправными проповедниками.
Оба приехали в родные места из Мизпахской богословской семинарии, дабы принять этот сан от своего совета церковных общин — «Баптистской ассоциации Кейуска-ривер». Обоим оставался еще год до окончания трехгодичного курса семинарии, но наиболее благочестивые сельские братья считают, что следует посвящать в сан пораньше, дабы молодые пасторы, еще не постигнув высшей премудрости, уже могли бы читать по воскресеньям проповеди в дальних приходах и, облеченные духовным званием, творить добрые дела.
Каникулы по окончании колледжа Элмер провел на ферме. Летом после первого курса семинарии он был надзирателем в бойскаутском лагере; теперь же, после посвящения в сан, ему предстояло замещать священников в небольших церковных приходах своего родного края.
На втором курсе семинарии он скучал и томился еще сильней, чем в Тервиллингере, и частенько подумывал о том, что надо бы все-таки бросить все и смотать удочки. Однако после вылазок в Монарк, ближайший городок, где жили девицы легкого поведения и содержатели баров (с которыми он был знаком, пожалуй, ближе, чем полагалось бы духовному лицу), он снова укреплялся в намерении вести чистую жизнь. Так-то вот и удавалось ему продвигаться к высшей ступени совершенства, воплощенной в звании «бакалавра богословия».
Но и скучая, он все-таки приобрел солидный запас профессиональных навыков.
Теперь ему было бы не страшно выступить перед любой аудиторией и смело разглагольствовать на любую тему в пределах любого регламента с точностью до минуты, сохраняя полное самообладание и — если не считать кое-каких мелких погрешностей — почти не делая синтаксических ошибок. Он обогатил свой лексикон изысканными оборотами. В его распоряжении было теперь восемнадцать синонимов для слова «грех», из коих одни были весьма длинные и внушительные, другие же — короткие, резкие и устрашающие. (Слово «устрашающий», кстати, стало одним из самых любимых его эпитетов. Очень подходящее словечко для того, чтобы вселить трепет в души грешников, хотя бы пока что воображаемых.)
Теперь он уже не смущался, говоря о боге в самых интимных выражениях; мог без тени улыбки спросить семилетнего малыша: «Разве ты не хочешь отказаться от своих пороков?» — или, глядя прямо в глаза продавцу из табачной лавочки, потребовать, чтобы тот сообщил ему, преклонял ли он когда-либо колени пред престолом всевышнего. В частных беседах с наименее безгрешными из студентов, такими, как Гарри Зенз, самый убежденный атеист во всей семинарии, Элмер отнюдь не гнушался прибегать к весьма «мирским» выражениям, но на людях не разрешал себе обронить даже случайное «ах, черт!» и всегда имел под рукой целый набор готовых фраз, которые умел весьма искусно ввернуть в нужный момент. «Брат, я готов помочь вам обрести религию» или «Вся моя жизнь есть свидетельство моей веры»; «Духовным взором так просто постичь триединую природу божества», «Нашей церкви не нужны унылые лица — если ты омыт кровью агнца, тебе становится так радостно на душе, что ты готов весь день распевать песни и восклицать „аллилуйя“»; и еще: «Ну, не скупитесь же — давайте все разом! И пусть это будет самый щедрый сбор, который когда-либо видели стены этой церкви». Он мог без труда разъяснить сущность божественного предопределения и запросто употреблял такие слова, как «баптизо» и «атаназианец»[32].
Быть может, когда-нибудь — после двух-трех лет службы по окончании семинарии, когда он обнаружит, как мало благородства в людских сердцах, как низменны их привычки и как мало они расположены к тому, чтобы дать своему пастырю неограниченное право контролировать их и искоренять эти привычки, — быть может, тогда речь его станет не такой напыщенной, менее парадной и цветистой. Впрочем, со временем он еще оправится от разочарования, так что ныне в нем можно было видеть как бы прообраз того, кем он станет через двадцать лет, — прорицателя с жалованьем десять тысяч долларов в год.
Он раздался в плечах, его лоснистые волосы, отросшие со времен Тервиллингера, были зачесаны назад, открывая широкий белый лоб, ногти его стали заметно чище, речь — еще величественнее. Его голос приобрел еще большую звучность и глубину, большую размеренность и значительность, подобающую лицу духовного звания. Как он умел одним коротким вопросом обнаружить глубочайшее сочувствие и понимание тайных духовных недугов человека! «Ну, как нам живется, брат мой?» — и в этом — все!
И хотя он едва было не провалился по греческому, — за свою курсовую работу по практическому богословию: «Шестнадцать способов уплаты церковного долга» он был удостоен премии в десять долларов.
II
Об руку с матерью Элмер расхаживал среди богомольцев, собравшихся в долине Кейуска-ривер. Миссис Гентри, хоть и жила в провинциальном городишке, была как-никак хозяйкой делового предприятия и вовсе не выглядела жалкой или обтрепанной; наоборот, на ней была очень миленькая черная шляпка и новое коричневое шелковое платье, украшенное длинной золотой цепочкой. Однако рядом с мощной, величественной фигурой сына она становилась маленькой и незаметной.
По случаю предстоящего торжества Элмер облачился в новый черный двубортный костюм и новые черные ботинки. Точно так же был одет и Эдди Фислингер, — правда, этот еще дополнил свой костюм мрачным галстуком и черной широкополой фетровой шляпой, в которой он был похож на техасского конгрессмена. Туалет Элмера был смелее. Если бы не соображение, что сегодня нужно выглядеть внушительно и солидно, он бы наверняка вырядился, как павлин: он обожал яркие цвета. Теперь же он удовольствовался тем, что приобрел себе в Чикаго, по дороге сюда, щегольскую светло-серую фетровую шляпу и решился оживить свой строгий костюм серым шелковым носовым платком с красной каймой, торчавшим из нагрудного кармана.
Зато с перстнем пришлось на сегодня расстаться — массивным опаловым перстнем, украшенным двумя змейками (почти что, можно сказать, золотыми). Этот перстень он уже приглядел давным-давно в Монарке, и однажды под влиянием винных паров не устоял — купил.
Он шествовал, точно войско с развевающимися знаменами; он гремел, как тромбон; он энергично жестикулировал большими, белыми, мясистыми руками. И мать, повиснув на его руке, глядела на него с восхищением. Он вел ее, прокладывая путь сквозь толпу, веселый, приветливый, как кандидат на выборную должность, а она шла рядом, озаренная блеском его великолепия.
На торжество из соседних приходов прибыло около двухсот баптистов — мужчин и женщин — и не менее двухсот младенцев. Люди приехали в шарабанах, двуколках, а то и на телегах. («Форды» в 1905 году сюда еще не дошли.) То были честные, добродушные, работящие люди: фермеры, кузнецы, сапожники; мужчины — с загорелыми, прорезанными глубокими складками лицами, в «парадных» костюмах, слежавшихся в сундуках; женщины — либо пышногрудые, либо высохшие от работы, в чистых бумажных платьях. Был тут и деревенский банкир, очень разговорчивый, нарочито «свойский», в новой полотняной паре. Сбившись в тесное стадо, люди поднимали в неподвижном, раскаленном воздухе тучи пыли; пыль оседала на их башмаках, на ветвях тополей; с тополей на их плечи слетали пушинки, цеплялись за грубую ткань, блестели на солнце.
В помощь парижскому священнику на церемонию явились шесть пасторов и среди них не кто иной, как сам преподобный доктор Ингл, прибывший из далекого Сент-Джо, где, по слухам, возглавлял воскресную школу с шестьюстами учащихся. В дни молодости (как он был тогда строен в своем черном сюртуке и как красноречив!) доктор Ингл полгода служил в Париже, и миссис Гентри вспоминала о нем с восторгом. Он был так добр к ней, когда она заболела! Приходил проведать, читал ей вслух «Бен-Гура»[33] и рассказывал сказки маленькому крепышу Элмеру, любившему забиться куда-нибудь за диван и швыряться оттуда в гостей репой или морковью.
— Так, так, брат мой! Стало быть, вы и есть тот самый маленький сорванец, которого я знал когда-то! Ну, что же, вы и тогда уже были отличным парнишкой, а теперь, говорят, решили посвятить себя служению богу и подаете воистину блистательные надежды! — так приветствовал Элмера доктор Ингл.
— Благодарю вас, доктор. Молитесь за меня. Это великая честь для нас, что вы оторвались от ваших важных дел и приехали сюда, — сказал Элмер.
— Что вы! Пустяки! Завернул по дороге в Колорадо — снял там хижину в горах. Вид дивный, знаете ли, закаты написаны рукою всевышнего… Мои прихожане любезно предоставили мне двухмесячный отпуск. Хорошо бы и вы там побывали, брат Элмер.
— Хорошо бы, конечно, доктор, но что поделаешь. Мой долг — делать здесь свое скромное дело, дабы не смолкло слово божие.
Миссис Гентри едва дышала от восторга. Подумать, ее мальчик беседует с доктором Инглом, как равный с равным! А говорит-то, как настоящий пастор, — легко, свободно! Погодите, придет время… Элмер — настоятель знаменитого храма; на лето — дачка в Колорадо; жена: милая, набожная женщина; полдюжины ребятишек, на лето будут звать ее к себе на дачу… Вот вся семья опускается на колени, Элмер читает молитву… Сейчас, правда, Элмер не очень рвется читать дома молитвы, — говорит, что в семинарии надоели. Жаль… Ну, конечно, она его уговорит… Если б он только еще послушался наконец и бросил курить! Сколько она его умоляла! А впрочем, должны же у него остаться хоть какие-то недостатки, иначе это уж не будет ее дорогой мальчуган… Как приходилось когда-то скандалить, чтобы он вымыл руки или надел те хорошенькие красные рукавички, которые она ему связала!
Не меньше радости доставляло ей видеть, какое впечатление Элмер прозвел на всех соседей. Маляр Чарли Уотли, председатель местного отделения «Союза ветеранов великой республиканской армии», который всегда сердито дергал себя за седой ус и недовольно ворчал, если она порывалась растолковать ему, что в Элмере скрыты задатки истинного праведника, — этот Чарли Уотли сейчас отвел ее в сторону и объявил:
— Вы были правы, сестра. Из него и вправду вышел верный молодой слуга господень.
Потом им встретился аптекарь Хэнк Мак-Виттл — неисправимый Хэнк. В былые времена они с Элмером были приятелями: вместе воровали сахарную кукурузу, пили перебродивший сидр и предавались любовным утехам на сеновале.
Хэнк был маленький рыжий человечек с маслеными и острыми глазками. Было ясно, что он явился сегодня только для того, чтобы посмеяться над Элмером. Они столкнулись нос к носу. Хэнк произнес:
— Здравствуйте, миссис Гентри! Ну, что Элми? В святые отцы метишь, а?
— Да, Хэнк.
— Нравится? — Хэнк ухмылялся, почесывая себе щеку веснушчатой рукой; несколько единомышленников-парижан остановились рядом, прислушиваясь.
— Нравится, Хэнк, — загудел Элмер. — И еще как! Мне близки и дороги пути господни, и я никогда и ногой не ступлю на иной путь. Ибо я вкусил от плодов зла, Хэнк, — ты сам знаешь. И что же? Все наши с тобой забавы, Хэнк, — ничто по сравнению с той спокойной радостью, которая наполняет ныне мою душу. Мне вроде бы даже жалко тебя, друг. — Он выпрямился во весь свой богатырский рост и уронил свою тяжелую лапу на плечо Хэнка. — Отчего ты не хочешь попробовать помириться с богом? Или ты мнишь себя достойнее его?
— Никогда не претендовал на это, — отрезал Хэнк и этой вспышкой расписался в своем поражении. Миссис Гентри торжествовала.
Одно омрачало ее радость: что почти никто не поздравляет Эдди Фислингера, хотя и он топтался тут же, одинокий, незаметный, заискивающе раскланиваясь с священниками.
Старый Джукинз, смиренный, кроткий фермер, застенчиво подступил к ним и пробормотал:
— Рад пожать тебе руку, брат Элмер. Так приятно видеть тебя среди избранных слуг господних. Подумать только! Я ведь тебя вот таким помню — кузнечику по колено. А нынче, верно, уже все ученые книжки прочел…
— Да, работать приходится усердно, на совесть, брат Джукинз. И материал, прямо скажу, сложный: герменевтика, хрестоматия, экзегетика, гомилетика, литургика, изагогика, греческий, древнееврейский, арамейский, гимнология, апологетика, — словом, хватает!
— Ого! Я думаю! — благоговейно произнес старый Джукинз.
Миссис Гентри не уставала поражаться: оказывается, Элмер еще ученее, чем она думала! А сам Элмер не без гордости отметил про себя, что и в самом деле понимает значение этих слов, — ну, разве что не считая двух или трех.
— О-ох! — вздохнула мать. — Ты у меня стал такой образованный, что, пожалуй, скоро не посмеешь и поговорить с тобой…
— О нет! Мы с тобою всегда останемся лучшими друзьями, и мне всегда будут нужны твои вдохновенные молитвы! — звучно произнес Элмер Гентри со сдержанным, но мужественным смехом.
III
Верующие рассаживались на скамьях, на сиденьях, снятых с повозок, на пустых ящиках. Начиналась церемония посвящения.
На деревянном столе, заменявшем кафедру, лежала толстая библия; стоял кувшин с лимонадом. По одну сторону стола стояли семь кресел-качалок для духовных лиц, а перед ними — две деревянные табуретки, предназначенные для кандидатов.
Местный священник брат Дингер, сухопарый мужчина с медлительной речью, любил молиться долго и обстоятельно. Он постучал по столу:
— Итак… э-э… итак, начнем.
Элмер, очень представительный на фоне разгоряченных, красных лиц, сразу перестал вертеться на своей табуретке и огорченно разглядывать свои блестящие новые ботинки, покрытые теперь серым слоем пыли. У него екнуло сердце.
Итак, конец. Выхода нет. Он все-таки будет священником…
Джим Леффертс еще мог бы спасти его в это последнее мгновение, но бог его знает, где он теперь, Джим… Нет! Нельзя допустить… Его плечи напряглись, расправились — и тотчас поникли так устало, славно он изнемог от долгой борьбы. Брат Дингер продолжал:
— Итак, мы начнем с обычного… э… опроса наших юных братьев. Мои собратья… э… любезно согласились… э-э… предоставить мне, под духовной… э… опекой которого вырос один из наших юных… э… братьев, здесь, на его… э-э… родине, — предоставить мне… э… задавать… э… эти вопросы. Итак, брат Гентри, верите ли вы искренне и всем сердцем в таинство крещения по баптистскому обряду — путем погружения в воду?
«Да, старина, с таким скрипучим голосам далеко не уедешь», — подумал Элмер и мягко зарокотал вслух: — Верую, брат. Меня учили, что, возможно, человек и может быть спасен крещением через окропление или обливание, но лишь в том случае, если не ведает истины. Но, конечно, только погружение есть тот единственно верный способ крещения, который указуется писанием. Если мы воистину хотим уподобиться Христу, мы должны вместе с ним погрузиться в воды Иордана.
— Превосходно, брат Гентри. Восславим господа! Теперь, брат Фислингер, скажите нам вы: верите ли вы в вечное блаженство праведников?
Послышался голос Эдди, истовый и трескучий, монотонный, усыпляющий, как стрекотание цикад в сожженных солнцем полях по ту сторону Кейуска-ривер.
Подобно тому, как баптистская церковь не признает никакой иерархии, являя собою лишь свободный союз местных общин единой веры, — точно так же не признает она и никаких канонических обрядовых форм, а руководствуется издавна принятыми обычаями. Церемония посвящения, таким образом, не есть строго установленный обряд и может проходить по-разному в разных приходах. Присутствие епископа также не требуется: достаточно согласия общего собрания входящих в ассоциацию приходов.
После опроса знаменитый доктор Ингл произнес блестящее «слово к кандидатам», в котором рекомендовал им усердно заниматься науками, воздерживаться от излишеств в еде и облегчать страдания больных, читая им вслух библию. Засим все уселись за длинные дощатые столы на берегу прохладной реки и приступили к грандиозному завтраку. Слоеный банановый пирог, пончики, жареные цыплята, шоколадный торт, картофельная запеканка, коврижка с изюмом, маринованные томаты… Тарелки ходили по столам; из огромного жестяного кофейника в чашки без блюдечек наливался кофе; тут же, как водится, обжегся и заревел какой-то младенец… Там и тут раздавались веселые возгласы: «Передайте-ка мне лимонный пирог, сестра Скифф!» или «Замечательную речь произнес брат Ингл!». «Ой, ложку уронила, вон на нее уж и муравей ползет… ну, ничего, вытру о передник… как хорошо брат Гентри рассказывал о том, что баптистская церковь существует еще с библейских времен!..» Вездесущие мальчишки с визгом плескались в реке, брызгались… Мальчишки забирались в заросли жгучего ядовитого сумаха, обжигались так, что сплошь покрывались волдырями и к вечеру опухали… Доктор Ингл восторженно рассказывал другим пасторам о своем паломничестве в Палестину… А Элмер врал о том, как он любит преподавателей своей богословской семинарии.
После завтрака брат Таскер, священник крупнейшего прихода ассоциации, произнес «слово к прихожанам». Это «слово» всегда было самой пикантной, скандальной и интересной частью в церемонии посвящения. Для священников это была возможность свести счеты с прихожанами, которые в качестве щедрых благодетелей и патентованных праведников весь год отравляли жизнь святых отцов.
— Вот сейчас мы с вами принимаем в ряды духовенства двух достойных юношей, — говорил брат Таскер. — Что ж, им следует помочь. Брат Гентри и брат Фислингер полны радости от желания жертвовать собой, учиться. Так пусть же им проявят сочувствие, а не заставляют бегать по приходу собирать по грошам свое законное жалованье, как приходилось иным пасторам старшего поколения. И довольно наводить критику на своих священников; пора наконец и оценить их подвижническую жизнь и вдохновенное слово вместо того, чтобы изводить их попреками день-деньской.
А что касается тех, кто особенно нападает на пасторских жен за то, что те будто бы проводят жизнь в праздности, — видно, им самим некуда девать свободное время, если они повсюду успевают совать свой нос и заниматься сплетнями. Спаситель не только о мужчинах думал, когда говорил, что только тот пусть бросит камень, кто сам без греха!..
Прочие духовные лица внимали ему, откинувшись назад в своих качалках, стараясь принять безучастный вид, и втайне надеялись, что брат Таскер еще хоть чуточку подробнее остановится на вопросе о жалованье.
Брат Нобло из Баркинсвиля в своей проповеди и заключительной молитве специально в честь Элмера Гентри, Эдди Фислингера, а кстати, и господа бога вкратце изложил историю баптизма, упомянув о роли миссионеров и опасностях, подстерегающих того, кто забывает ежедневно читать перед завтраком библию.
Во время этой долгой проповеди приезжие священники стояли, возложив руки на головы Элмера и Эдди. Сначала вышла довольно потешняя заминка. Почти все пасторы были небольшого роста, и им никак не удавалось дотянуться до головы Элмера. Бедные славные пасторы стояли сконфуженные в напряженных позах, отнюдь не подобающих лицам духовного звания, а паства оживленно шушукалась. Вот раздался чей-то смешок. Тогда Элмера вдруг осенило. Он быстро опустился на колени, и смущенный Эдди, подслеповато озираясь, последовал его примеру.
Прямо в мягкую серую пыль опустился Элмер, не раздумывая о своем костюме. На его голове лежали сухонькие ладони трех старичков-проповедников, и вдруг неподдельное и смиренное волнение охватило его, и на какое-то мгновение церемония посвящения Элмера Гентри в слуги господа перестала быть фарсом и приобрела истинный смысл.
До этого момента ему было только скучно. В семинарской церкви и в церкви Тервиллингера ему приходилось не раз слышать прославленных заезжих проповедников, и незатейливое красноречие пасторов «Ассоциации Кейуска-ривер» не могло произвести на него особого впечатления. Его тронуло другое: несмелая нежность, безыскуственная вера этих захолустных полунищих священников, которые терпеливо несли свою службу в убогих и душных молельнях, веруя, что спасают мир, и, с грустью вспоминая собственную юность, так сердечно принимали в свои ряды их, молодых.
Впервые за много дней Элмер молился не напоказ, но искренне, страстно, наслаждаясь новым и чистым чувством:
— Господи, милосердный… я буду стараться, я перестану пускать пыль в глаза и притворяться, буду только все время думать о тебе… творить добро… помоги мне, господи!
Свежий ветерок пробежал по тяжелой от пыли листве, заскрипели скамейки; верующие, вздыхая, стали подниматься с мест…
Спокойно, с достоинством встал с колен и выпрямился Элмер Гентри, облеченный духовным саном баптистский священник.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
I
Штат Уиннемак[34] лежит между Питсбургом и Чикаго, а примерно в сотне миль к югу от Зенита находится в этом штате город Вавилон, похожий скорее на городок Новой Англии, а не Среднего Запада. Раскидистые вязы осеняют его своею тенью, за купами сирени белеют колонны, и повсюду разлита ясная тишь, несвойственная исхлестанной ветрами прерии.
Здесь расположена Мизпахская богословская семинария, основанная северными баптистами. Почтенная секта распадается на два братства: северное и южное, — ибо до Гражданской войны северные баптисты, ссылаясь на священное писание, неопровержимо доказали, что рабство — грех, а баптисты южные, не менее неоспоримо и тоже ссылаясь на священное писание, доказали, что рабство создано по велению господню.
Три корпуса семинарии довольно красивы: кирпичные стены, белые купола, зеленые ставни на широких решетчатых окнах. Однако внутри неуютно и голо: аляповатый орнамент вдоль оштукатуренных стен, портреты миссионеров, истрепанные сборники проповедей.
В самом большом здании находится общежитие под названием Элизабет Шматц-Холл, или, на хлестком студенческом жаргоне, — Смат-Холл[35].
В этом здании и жил Элмер Гентри, уже посвященный в духовный сан и ныне завершающий курс семинарии, дабы получить степень бакалавра богословия — весьма ценный козырь при назначении в крупные и богатые приходы.
Из тридцати пяти человек, поступивших вместе с ним на первый курс, осталось всего шестнадцать. Остальные отсеялись, разбрелись кто куда: одни по сельским приходам, другие по страховым агентствам, третьи, смирившись с судьбой, вернулись к плугу. Среди оставшихся не нашлось таких, с кем Элмеру хотелось бы поселиться вместе, и он хмуро водворился в одиночную комнату, обстановку которой составляли койка, портрет его матери, библия и брошюрка «Что следует знать молодому человеку», засунутая под его единственную парадную крахмальную сорочку.
Большую часть однокурсников он недолюбливал. Все они были либо слишком неотесаны, либо чересчур набожны, одни проявляли излишний интерес к его ежемесячным поездкам в Монарк, другие были просто скучны. Элмер любил общество людей, как он выражался, мыслящих. Он не понимал ни слова из того, что говорилось в этом обществе, но, слушая все эти непонятные вещи, казался самому себе умнее и образованнее.
Кружок, в котором он бывал чаще всего, собирался в комнате Фрэнка Шалларда и Дона Пикенса, большой угловой комнате на втором этаже Смат-Холла.
Комната эта не отличалась уютом или комфортом. Правда, Фрэнк Шаллард от природы, может быть, и проникся бы любовью к живописи, шедеврам музыки и красивой мебели, но его приучили расценивать все это как суетные мирские соблазны, довольствоваться искусством «боговдохновенным» и считать «Отверженные» Гюго превосходной книгой потому только, что в ней выведен добряк-епископ, а «Алую букву»[36] — вредной книжонкой, потому что ее героиня — грешница, а автор не осуждает ее.
Стены комнаты были покрыты старой, потрескавшейся мертвенно-серой от времени штукатуркой и испещрены кровавыми пятнами — следами москитов и клопов, павших в ожесточенных боях с богословами, давным-давно покинувшими сию обитель, дабы поведать прозаическому и трезвому миру о возвышенных видениях, посетивших их здесь. Кровать — ржавый железный остов с ямой посередине — была застлана ватным одеялом не первой свежести. По углам стояли сундуки, а гардеробом служили крючки, вбитые в стену и задернутые ситцевой занавеской. Ветхие соломенные циновки постепенно грозили рассыпаться на отдельные волокна, а та, что под письменным столом, протерлась насквозь, и из-под нее просвечивали сосновые некрашеные доски.
Картин был всего три: две из них — гравюра Роджера-Вильямса и окантованная лиловатая копия «Пиппа проходит»[37] — принадлежали Фрэнку; третья — сельская церквушка, заметенная снегом, ярко сверкающим в лунном свете, — была заветным сокровищем Дона Пикенса. Светская литература была представлена творениями любимых поэтов Фрэнка — Вордсворта, Лонгфелло, Теннисона, Браунинга в дешевом издании, с мелким шрифтом и в убогом оформлении, а также «Подражанием Христу»[38], этим зловредным папистским документом, служившим по меньшей мере раз в неделю предметом ожесточенных споров.
В этой комнате ноябрьским вечером 1905 года расположилась на жестких стульях, на сундуках и на кровати семерка молодых людей, в том числе Элмер и Эдди Фислингер. (Эдди, в сущности, не принадлежал к этому кружку, просто он упорно ходил повсюду за Элмером по пятам, чувствуя, что с новообращенным братом еще не все обстоит благополучно.)
— Пастору надо быть здоровенным, как профессиональный борец, и отлично работать кулаками, — говорил Уоллес Амстед. — Он должен быть в состоянии справиться с любым нахалом, который вздумает помешать ему в церкви. А кроме того, физическая сила производит такое впечатление на прихожанок… Разумеется, я не в дурном смысле…
Уоллес был студент, но его использовали и на преподавательской работе. Он был «заведующий сектором физической культуры», и крошечный гимнастический зал семинарии находился в его ведении. Он был еще молод, носил усы на военный манер и превосходно работал на параллельных брусьях. Он уже успел получить степень бакалавра искусств в Канзасском университете и закончить спортивную школу.
По окончании семинарии он собирался посвятить себя работе в ХАМЛ и любил повторять, что хоть он, с одной стороны, и преподаватель, но в то же время пока еще и свой парень-студент.
— Это верно, — согласился Элмер Гентри. — Вот, например, у меня был случай прошлым летом. Читаю проповедь на молитвенном собрании в Гроутене, а какой-то здоровый парнюга перебивает буквально на каждом слове. Ну, я соскочил с кафедры, подхожу к нему. Он говорит: «Послушай, пастор, — говорит, — а скажи, как всевышний относится к сухому закону? Он же сам советовал апостолу Павлу употреблять винцо для хорошего пищеварения. Можешь ты это растолковать?» «На этот счет, — говорю, — я тебе, может, и не отвечу. Но не мешает тебе припомнить, что тот же всевышний повелел нам изгонять бесов». Хватаю болвана за шиворот и одним пинком — вон из церкви, а народ, — правда, народу, конечно, было не так уж много, но все так и легли со смеху. Досталось тому типу, будьте уверены. Так что физическая сила — она на всех действует: и на прихожанок и на прихожан. С кем хочешь спорю: не один знаменитый проповедник получил свой приход только потому, что в приходском совете чувствовали, что он каждого из них может вздуть за милую душу. Конечно, молитвы и все такое — штука хорошая, а только и о практической стороне нельзя забывать. Мы в этом мире для того, чтобы творить добро, но ведь сперва нужно обеспечить себе местечко, а уж потом — давай твори!
— Что за торгашеские рассуждения! — запротестовал Эдди Фислингер.
Фрэнк Шаллард поддержал его:
— Ну-ну, Гентри! Неужели к этому для тебя и сводится вся религия?
— И потом, — вмешался Орас Карп, — ты стоишь на неправильной точке зрения. На женщин… то есть на прихожан действует вовсе не грубая сила. Красивый голос — вот что главное. Я твоему росту, Элмер, нисколько не завидую, к тому же ты, конечно, растолстеешь…
— Черта с два!
— Но голос, — эх, мне бы такой! Они бы у меня все рыдали, как дети! Я бы им стихи с кафедры читал!
Орас Карп был единственным в семинарии сторонником англиканской церкви консервативного толка. Этот юноша смахивал видом на спаниеля, хранил у себя в комнате портреты и фигурки святых, ладан и большой кусок алой парчи и щеголял в ярко-красной бархатной куртке. Он не уставал возмущаться, что его набожный отец, оптовый торговец водопроводными трубами, пригрозил, что выгонит сына из дому, если тот поступит в англиканскую семинарию вместо этой твердыни баптизма.
— Да, уж ты-то, конечно бы, читал стихи! — фыркнул Элмер. — Вот в этом у вас и все ваше несчастье, у любителей высоких материй. Воображаете, что можно повлиять на людей стихами и прочей ерундой. Евангелие — простые библейские истины! Вот это захватывает, это держит, это каждое воскресенье приводит их в церковь. И, между прочим, невредно изредка пугнуть их и добрым, старым адом — вернее будет!
— Факт! И при этом внушать им, чтоб и о мускулах не забывали, — снисходительно вставил Уоллес Амстед. — И вот что — не хочу разыгрывать перед вами наставника — в конце концов я еще студент, как и вы, и очень рад этому — но если вы сегодня не выспитесь, то завтра утром едва ли будете молиться с полной отдачей. Я лично пошел в постельку. Всего!
Дверь закрылась за ним, и Гарри Зенз, семинарский «иконоборец», сладко зевнул:
— Пожалуй, этот Уоллес самый законченный подонок из всех, какие мне встречались в моей богатой духовной практике. Удалился, слава тебе, господи! Теперь можно, вздохнуть свободно и не стесняться в выражениях.
— Между прочим, не ты ли сам усердно зазываешь о посидеть и рассказать о его излюбленных методах тренировки? — возмутился Фрэнк Шаллард. — Ты, Гарри, вообще когда-нибудь говоришь правду?
— Без надобности — никогда. Чудак ты, я ведь чего добиваюсь? Чтоб Уоллес побежал к декану и рассказал, какой я ревностный труженик в вертограде господнем. А ты, бедняга, у нас святая простота. Я подозреваю, что ты всерьез веришь в ту чушь, которой нас тут учат. А ведь ты человек начитанный — ну, не очень, но все же, кроме меня, ты здесь единственный, кто способен прочувствовать и оценить хотя бы страничку из Хаксли[39]. Господи, как жаль мне тебя будет, когда ты станешь пастором! Ну, Фислингер-то наш, разумеется, просто приказчик из бакалейной лавочки, Элмер — провинциальный политикан, Орас — танцмейстер…
Его слова потонули в буре протестующих возгласов, отнюдь не шутливых и не слишком дружелюбных.
Гарри Зенз был старше других — ему было года тридцать два, если не больше. Упитанный и почти совершенно лысый, он любил сидеть, не раскрывая рта, не двигаясь, прикинувшись дурачком. А между тем это был человек поразительных, хоть и достаточно разрозненных знаний. Вот уже два года, как он регулярно читал проповеди в одном приходе, находившемся милях в десяти от Мизпахской семинарии, и слыл там ученым сухарем, человеком редкостной святости. На самом деле это был убежденный и жизнерадостный безбожник, но признавался он в этом только Элмеру Гентри и Орасу Карпу. Элмер относился к нему, как ко второму Джиму Леффертсу, но Гарри был так же похож на Джима, как свиное сало на хрусталь. Этот скрывал свое язвительное неверие, Джим своим кичился. Этот презирал женщин, Джим относился к Джуанитам мира сего с трезвым состраданием; этот был по-настоящему умен, Джим не шел далее цинических умозаключений.
Зенз прервал возмущенные возгласы товарищей:
— Эх вы, компания Эразмов Роттердамских[40]! Кому-кому, а вам бы следовало знать. Да, еще бы — в том, что мы проповедуем и чему учим, нет ни капли лицемерия! Мы — избранная каста Парсифалей[41], чей вид ласкает взор, а глас ласкает ухо, и нам доподлинно известно, о чем шушукались папаша-господь со святым духом in camera в девять шестнадцать утра в прошлую среду. И мы прямо-таки ждем не дождемся, когда уж можно будет пойти и понести в мир несравненную доктрину баптизма: «Дай себя окунуть или сам ступай ко дну». Мы чудо из чудес. Мы это скромно признаем. А народ сидит, слушает нас, глотает и не давится! Наверное, люди просто немеют от нашей наглости. Да, в нашем деле без нахальства не обойдешься, иначе не посмеешь и на кафедру второй раз взойти. Иначе пришлось бы нам бросить наше ремесло и молить у бога прощения за то, что вылезали на кафедру и делали вид, будто мы представители самого господа на земле и для нас плевое дело объяснить тайны, которые сами же именуем «необъяснимыми». А между прочим, я утверждаю, что есть еще священнослужители, которые не достигли такой святости. Почему, например, духовные лица так склонны совершать сексуальные преступления?
— Неправда! — не выдержал Эдди Фислингер.
— Не надо так говорить! — взмолился Дон Пикенс, сосед Фрэнка по комнате, хрупкий юноша, такой нежный и ласковый, что даже декан Троспер, «рыкающий лев благочестия», старался по возможности щадить его.
Гарри Зенз потрепал его по плечу:
— Эх, Дон, Дон, так всю жизнь и проживешь монахом! А ты, Фислингер, если не веришь мне, поверь статистике: с восьмидесятых годов — пять с лишним тысяч преступлений совершено духовными лицами, — и ведь это только те, которые попались! Не поленись, почитай. И обрати внимание на то, какой процент составляют половые преступления: тут тебе и изнасилование, и кровосмешение, двоеженство, растление малолетних — такой наборчик, что просто прелесть!
— О господи, — зевнул Элмер. — Надоело, братцы: трескотня, споры, дебаты… Все так просто: может, мы, священники, и не безупречны, так мы на это и не претендуем; а все же мы делаем немало добрых дел.
— Вот именно, — подхватил Эдди. — Хотя, пожалуй, верно… Соблазны пола так ужасны, что даже священники порой не могут устоять. А единственный выход простой: воздержание. Отвлекись; молитва, усиленные физические упражнения — и все пройдет.
— Молодец, Эдди, верно говоришь, — промурлыкал Гарри Зенз. — Молодые ребята из твоего прихода тебе цены знать не будут!
— А собственно, зачем тогда вообще идти в священники, не понимаю, — невесело проговорил Фрэнк Шаллард. — Вот хотя бы ты, Гарри? Раз уж ты думаешь, что мы тут все такие лжецы…
— Да нет, Фрэнк! Зачем же — лжецы? Просто практические люди, как правильно заметил Элмер. А что касается меня, то тут еще проще. Я не честолюбив. Я не настолько люблю деньги, чтобы ради них хлопотать. Я люблю сидеть, читать. Люблю умственную гимнастику и терпеть не могу работать. А все это священнику вполне доступно, не надо только быть чурбаном вроде тех, что ставят дело на широкую ногу и ради славы готовы себя работой в гроб вогнать.
— Нечего сказать, возвышенное же у тебя представление о деятельности священника, — буркнул Элмер.
— Ах, та-ак! Ну, хорошо, тогда скажите, брат Гентри, какие возвышенные мотивы побудили вас стать служителем господа?
— Меня-то… Это, как его… А, черт! Да неужели не ясно? Духовное лицо имеет возможность делать много добрых дел… помогать ближним и… разъяснять смысл религии.
— Может, кстати, и мне разъяснишь? В частности, желательно узнать следующее: в какой степени христианская символика заимствована у нечестивцев варваров?
— Ох, и надоел же ты мне!
Вмешался Орас Карп:
— Этим баптистским брехунам, разумеется, и в голову не приходит, в чем действительно заключается единственный и истинный raison d'etre[42] церкви. Церковь призвана скрасить собою беспросветно серую жизнь простолюдина.
— Угу! Какой простолюдин не почувствует себя беспросветно серым, внимая рассуждениям брата Гентри об ошибках супралапсарианизма[43]!..
— Никогда я ни о какой такой мути не рассуждаю, — возмутился Элмер. — Я просто произношу простую, бодрую проповедь, сдобрю шуточкой для живости, расскажу про театр или еще что-нибудь такое, чтобы их расшевелить немного, понимаешь, чтобы они встряхнулись, чтобы им жилось лучше, полнее…
— Вот оно что, — сказал Зенз. — Ну, извини, милый. Ошибся. А я-то, грешным делом, думал, ты накачиваешь их полезными сведениями о качестве innasiibilitas[44] и res sacramenti[45]. М-да! Ну, а ты, Фрэнк, чего ради заделался богословом?
— Если будешь глумиться, не скажу. Я верю, что существуют мистические откровения, доступные только тем, кто действительно отрешился от житейской суеты.
— Зато я точно знаю, как я сюда попал, — сказал Дон Пикенс. — Отец прислал.
— Вот и меня тоже, — пожаловался Орас Карп. — Одно только не могу понять: с какой стати нам торчать в баптистской школе? Жуткая секта! Что за церкви! Какие-то допотопные сараи… Прихожане гнусавят безграмотные гимны, а не в меру разговорчивые пасторы изрекают блестящие и такие новые истины: «Чтобы разрешить все свои проблемы, человечеству нужно только одно: вернуться к христову евангелию». Ну, нет! Англиканская церковь[46] — вот это я понимаю! Музыка! Облачения! Пышные службы! Великолепные церкви! Величие! Мощь! Будьте уверены, как только удастся вырваться отсюда, перейду в англиканство. Приобрету солидное положение в обществе, подыщу хорошенькую, богатую невесту…
— Ошибаешься, друг, — возразил Гарри Зенз, — единственная приличная секта — баптисты — ну и еще, быть может, методисты…
— Рад это слышать от тебя! — изумленно воскликнул Эдди.
— …потому что все тупицы — либо баптисты, либо методисты, не считая, пожалуй, тех, кто принадлежит к католической церкви да мелким сектам. Так что здесь даже ты, Орас, вполне имеешь шанс выбиться в пророки. А в англиканской церкви, у индепендентов[47] и, возможно, у кэмпбеллитов попадаются люди с головой, тут тебе ходу не дадут. Пресвитериане — те, разумеется, тоже недоумки, но у них есть твердые догмы, здесь нетрудно и в еретики угодить. Зато у баптистов и методистов — полный простор! Сущий рай для философов вроде меня и таких филинов, как ты, Эдди! Единственное, что необходимо, когда имеешь дело с баптистами и методистами, это, как справедливо заметил отец Карп…
— Если ты в чем-то со мной согласен, готов отказаться от собственных слов, — вставил Орас.
— … итак, единственное, что необходимо, — продолжал Зенз, — это выкопать какую-нибудь солидную и совершенно бессмысленную доктрину и твердить без конца. Прихожанам вы этим не наскучите, наоборот: ведь, в сущности, единственное, что им не по вкусу, — это новые идеи, которые заставляют их шевелить мозгами. Так что — нет, отец Карп! Оставим англиканскую церковь актерам, которым не хватает таланта для сцены, а нам, реалистам, сойдет и добрый старый баптистский сарай!
— Да брось ты, Гарри, — жалобно протянул Эдди. — Ломаешься, больше ничего! Ты гораздо лучше, чем хочешь казаться, и баптист не из последних и христианин неплохой. И я могу это доказать. Никто твоих проповедей слушать не стал бы, если бы они не были искренни. Да, сэр! Можно одурачить людей громкими фразами раз, ну от силы два, но в конце концов им требуется искренность. И еще одно: ты против открытого причастия — стало быть, ты в стане праведных. Я уже чувствую, что эти прохвосты, так называемые «либералы», которые стали вводить открытое причастие, — они ставят под угрозу самые основы баптизма, честное слово!
— Вздор! — проворчал Гарри. — Закрытое причастие — самое возмутительное, что придумано баптистами. Чистейший эгоизм! Никто, видите ли, не имеет права причащаться вместе с нами, кроме тех, кого мы сочтем достойными! Никто не смеет общаться с богом, если только мы его не представили богу. Самозванные стражи крови и тела Иисуса Христа! Тьфу!
— Вот именно, — подхватил Орас Карп. — И в священном писании решительно ничего не сказано в пользу закрытого причастия.
— Нет, сказано! — взвизгнул Эдди. — Фрэнк, где твоя библия?
— Фу ты: забыл в аудитории. А твоя где, Дон?
— Ну, скажи, пожалуйста! — заволновался Дон Пикенс после безуспешных поисков. — Весь вечер, подлая, здесь валялась, а сейчас…
— А — вспомнил! — перебил его Элмер. — Я ею таракана раздавил. Вон она — на твоем шкафу.
— Слушай, честное слово, так не годится: давить библией тараканов! — удрученно проговорил Эдди Фислингер. — Ну вот тебе библия, Гарри! Первое послание к коринфянам[48], глава одиннадцатая, стих двадцать седьмой и двадцать девятый. И вот черным по белому насчет закрытого причастия: «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу господню недостойно, виновен будет против тела и крови господней. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе!» А как может человек быть достойным христианином, если он не крещен через погружение?
— Я иногда себя спрашиваю, — задумчиво произнес Фрэнк Шаллард, — не кощунствуем ли мы, баптисты, объявив себя стражами врат господних и решая, кто достоин причастия, кто — человек праведный, кто нет?
— А как же иначе? — горячился Эдди. — Баптистская церковь — единственная истинно евангельская, а значит, и единственная подлинно божия церковь. Так что мы вовсе не самозванцы, мы только следуем воле господней.
Орас Карп тоже увлекался этим распространенным в семинарии видом спорта — отыскивать библейские тексты для доказательства предвзятых мнений.
— Да, но тут ни слова не говорится о баптистах, — заметил он.
— И о твоих паршивых англиканцах — снобах проклятых! — тоже ничего. И что пасторам пристало спать в ночных сорочках! — вскипел Эдди.
— Кое-что найдется, будь уверен. Раз в библии сказано о епископах, стало быть, имеются в виду англиканские, потому что у папистов и методистов канонических епископов нет, — злорадно возразил Орас. — Держу пари на два доллара шестьдесят семь центов, что я еще стану англиканским епископом и, уж можешь не сомневаться, самого что ни на есть консервативного толка: чем больше свечей на алтаре, тем лучше, черт побери!
— По-моему, — размышлял вслух Гарри Зенз, — неверно думать, что если уж мне самому случилось стать баптистским священником и воочию увидеть, что даже духовные вожди баптизма — не более как скудоумные схоласты, мыслящие средневековыми понятиями, толкующие библию вкривь и вкось, падкие на лесть, жадные до денег, — значит, и баптистская церковь самая худшая из всех. Это ненаучный подход. Ей-богу, не думаю, что она чем-либо хуже пресвитерианской церкви или еще какой-нибудь: скажем, конгрегационалистской, кэмпбеллистской, лютеранской. Но… Вот ты, Фислингер, скажи: тебе не приходило в голову, как это опасно — такое преклонение перед библией? Когда-нибудь нам с тобой, пожалуй, придется из-за этого отказаться от духовного поприща и пойти работать. Ты ведь внушаешь этим баранам, что в библии есть решительно все, что необходимо для спасения души. Так?
— Конечно.
— Тогда зачем нужны проповедники? И церкви? Пускай все сидят дома и читают библию.
— Да… гм… Но сказано…
Дверь распахнулась, и в комнату ввалился брат Каркис. Студента Каркиса уже никак нельзя было назвать молодым: это был мужчина сорока трех лет, большерукий, с тяжелой поступью и зычным, лающим голосом. Он был явно рожден для того, чтобы работать на ферме, но тем не менее уже лет двадцать тому назад стал баптистским священником и исколесил Дакоту, Небраску и Арканзас, надрывая глотку в захолустных молельнях.
Все его общее образование ограничилось программой сельской школы, и за исключением библии, сборника духовных гимнов, алфавитного указателя, незаменимого при отборе текстов для проповедей, да «Справочника птицевода», он не раскрыл в своей жизни ни одной книги. Он никогда не встречал ни одной женщины из хорошего общества, не выпил ни одной рюмки вина, не слышал ни одного такта классической музыки, и в кожу его въелась пыль маисовых полей.
Однако напрасно было бы жалеть брата Каркиса, вздыхать: «Так ему трудно, бедняжке, а вот ведь как упорно стремится к знаниям…» Никакой тяги к знаниям он не ощущал; был уверен, что он уже и так все знает, а преподавателей презирал, считая, что они помешались на своих книгах и утратили твердость в вере. «Я их всех вместе взятых один переплюну: что молиться, что горло драть, что по части спасения душ,» — говорил он. Семинарский же диплом нужен был ему только для того, чтобы достать себе местечко повыгодней или, говоря языком середины XIX века, вполне успешно применявшимся им в 1905 году, «чтобы расширить поле своей плодотворной деятельности».
— Слушайте, ребята, неужели вам больше делать нечего, как торчать тут, спорить и препираться до рези в животе? — рявкнул он. — Ей-богу, я ваш галдеж слышал внизу! Ребята молодые, взяли бы лучше покончили с заумной болтовней, преклонили колена да провели вечерок в молитве! Ну да, как же, вы — воспитанные, образованные, ученые! Но посмотрим, поможет ли вам вся эта белиберда, когда придется вылезти отсюда и сразиться со стариком сатаною за грешные души! И о чем же вы это спорите, пустозвоны?
— Гарри вот утверждает, — заныл Эдди Фислингер, — будто в библии ничего не сказано о том, что христианам нужны церкви и священники!
— Ха! А еще называется образованный! Ну-ка, где тут у вас библия?
Библия оказалась у Элмера: он читал свою любимую «Песнь Песней» Соломона.
— А-а, брат Гентри, рад, что хоть у одного из вашей компании хватает ума открыть святую книгу и постараться найти общий язык с богом, а не трепать языком, как какой-нибудь педо-баптист[49]. Ну-ка, взгляни, брат Зенз! Вот тут, в послании к евреям, сказано: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай». Ну как? То-то!
— Возлюбленный брат мой во Христе, — ответил Гарри, — я тут усматриваю не более как намек на собрания вроде Плимутского братства[50], не имеющие штатных священников. Я уже объяснял брату Фислингеру: лично я столь горячий почитатель библии, что подумываю даже, не основать ли мне самому секту — соберемся, споем гимн, а потом сядем вместе и весь день будем читать библию, каждый свою. И не допустим, чтобы между нами и всеобъемлющим словом божьим становился еще какой-то там проповедник. Надеюсь, что и вы вступите к нам, брат Каркис, если только вы не из тех гнусных критиканов, которые метят подкопаться под библию.
— Ох, не могу больше, — жалобно вздохнул Эдди,
— Правда, надоел ты, знаешь! Вечно передергиваешь простые заповеди писания. — И брат Каркис с силой захлопнул дверь с той стороны.
— Все вы надоели! Спорят, спорят, прости господи! — молвил Элмер, жуя свою дешевую питсбургскую сигару.
Теперь вся комната тонула в табачном дыму. На курение в Мизпахской семинарии смотрели косо — более того, по традиции считалось, что курить запрещено. Тем не менее в этой божественной компании все, кроме Эдди Фислингера, курили.
— Дышать нечем! — прохрипел Эдди. — И что только вам в этом гнусном зелье? Черви да люди — больше никто из тварей земных не признает табак. Нет, я ухожу…
Это заявление было принято на редкость спокойно.
Избавившись от Эдди, оставшиеся обратились к своей излюбленной теме, именуемой «половым вопросом».
Фрэнк Шаллард и Дон Пикенс были девственники, робкие и любопытные, преисполненные почтения к более опытным, и вместе с тем — нетерпеливые. У Ораса Карпа была в жизни только одна мимолетная интрижка, и поэтому все трое взволнованно и жадно внимали рассказам Элмера и Гарри Зенза. И Элмер, не произнесший почти ни слова во время богословских дебатов, теперь дал волю своему красноречию. Сегодня все его мысли были сосредоточены на этой теме. Юнцы только пыхтели, слушая подробности его летних свиданий с одной податливой хористочкой.
— Скажи… Знаешь, ты вот что скажи… — волновался Дон. — Девушки… ну… хорошие девушки… неужели они правда… это… встречаются с пасторами? И тебе не стыдно после в церкви на них смотреть?
— Ха! — фыркнул Зенз.
— Стыдно? Да они в тебе души не чают! — воскликнул Элмер. — Ухаживают за тобой, как ни одна жена не станет. Ну, конечно, пока влюблены. Взять хотя бы вот эту… Эх, и пела же она! М-м! — мечтательно закончил он.
У него как-то сразу пропала охота посвящать этих сосунков в сокровенные тайны пола. Он вскочил.
— Спать? — спросил Фрэнк.
Элмер, ухмыляясь, остановился в дверях, подбоченился.
— Да нет! — Он взглянул на часы. Часы, между прочим, были ему под стать — такие же большие, массивные, блестящие и почти что золотые. — У меня тут свидание с одной девочкой, вот и все.
Он врал. Просто его взбудоражили собственные рассказы, и он, кажется, отдал бы год жизни, чтобы его хвастливая фраза оказалась правдой. Как в лихорадке вернулся он в свою пустую комнату. «Господи, хоть бы Джуанита была здесь, или Агата, или пусть даже та служаночка со станции Соломэн. Черт, как же ее звали?»
Он присел на край кровати. Сжал кулаки, застонал, обхватил руками колени. Потом вскочил, заметался по комнате, опять опустился на кровать и замер, погрузившись в горестное раздумье.
— Господи, да я не выдержу!
Как он невероятно одинок!
У него нет друзей. После Джима Леффертса он не завел себе ни одного друга. Гарри Зенз презирал его за ограниченность, Фрэнк Шаллард — за грубые манеры; остальных он презирал сам. Днем — унылое бормотание семинарских педагогов, вечером — нескончаемые мальчишеские споры; в сутолоке молитвенных собраний — простых, торжественных, особо торжественных — одни и те же евангельские восторги одних и тех же записных энтузиастов. Тоска!
— Да, пойду дальше, буду проповедником. Бизнес, работа на ферме — нет, теперь уж ни за что. Ни гимнов, ни власти над толпой… Но я просто не в силах! Господи, до чего я одинок! Ох, если б хоть Джуанита была здесь!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
I
Преподобный Джекоб Троспер, доктор богословия, Доктор философии, доктор права, декан и глава Мизпахской богословской семинарии, профессор практического богословия и гомилетики, был энергичный человек с волевым лицом и властным, энергичным голосом. Щеки его были прорезаны двумя глубокими складками, густые брови насуплены. Волосы его, уже седые и жесткие, были, по-видимому, когда-то рыжеватыми, как у Эдди Фислингера. Из него мог бы выйти бравый сержант. Он смотрел на студентов так, будто видел их насквозь, давал им понять, что прекрасно знает все грехи и провинности еще до того, как студент успел в них покаяться.
Элмер боялся декана Троспера, и когда на другое утро после богословского диспута у Фрэнка Шалларда его вызвали в кабинет декана, ему стало не по себе.
У декана он встретил Фрэнка.
«О господи! Не иначе, как Фрэнк наболтал ему о моих любовных похождениях!»
— Брат Гентри! — начал декан.
— Да, сэр?
— У меня есть для вас дело; оно даст вам неплохую практику, а кстати, и возможность немного подработать. Сельская церковь Шенейме, одиннадцать миль отсюда, ветка железной дороги Онтарио — Омаха — Питсбург. Будете регулярно служить по воскресеньям утреннюю службу и вести занятия в воскресной школе; если сумеете взять на себя еще дневную и вечернюю службу, а также воскресное молитвенное собрание, — тем лучше. Десять долларов за каждое воскресенье. Если перепадет что-то сверх этого за случайную работу — дело ваше, договоритесь с паствой. Ехать советую на дрезине. Уверен, что здешний начальник участка согласится предоставить вам дрезину ради богоугодного дела; к тому же его брат часто получает у нас поденную работу в саду. Посылаю с вами брата Шалларда, будет вам помогать в воскресной школе, а кстати, и сам наберется кой-какого опыта. Брат Шаллард относится к делу чрезвычайно серьезно — в этом смысле вам не мешало бы у него поучиться, брат Гентри, но он несколько робок в обращении с простым людом, закоснелым в грехах. Итак, друзья: церковь эта невелика, однако не забывайте, что я вручаю вам на попечение бесценное сокровище — души человеческие. И кто знает, не суждено ли вам возжечь там огонь, который когда-нибудь воссияет над всем миром… разумеется, при том условии, брат Гентри, что вы раз и навсегда откажетесь от суетных развлечений, которым, как я догадываюсь, предаетесь ныне!
Элмер был в восторге. Его первое настоящее место! Этим летом в Канзасе он только временно замещал других проповедников недели на две, на три кряду.
Ну, теперь он им покажет! Кое-кто здесь считает его просто-напросто пустомелей! Он им покажет, как надо привлекать людей к церкви, как увеличить сборы, как покорять прихожан красноречием — ну и, конечно, нести прозябающим во тьме спасительное слово божье.
Да и лишние десять долларов в неделю тоже очень кстати, а если удастся как следует обработать шенеймский приходской совет, может, и больше. Его первый приход… собственный… а Фрэнк будет исполнять его приказания!
II
В те патриархальные дни — дни 1905 года — железнодорожные рабочие еще не пользовались дрезинами с бензиновым двигателем и выезжали на линию на ручных дрезинах. Ручная дрезина представляет собою платформу с двумя горизонтальными брусьями, которые надо качать вверх и вниз, как рычаги насоса.
На такой-то вот дрезине и выехали к месту своего первого назначения Элмер Гентри и Фрэнк Шаллард. В это ноябрьское воскресное утро, работая рычагами дрезины, они были не слишком похожи на лиц духовного звания. Было холодно, и молодые люди облачились в потертые осенние пальто. Элмер натянул на уши изъеденную молью плюшевую кепку, а у Фрэнка из-под нелепого котелка торчали и вовсе нелепые наушники; на руках у обоих были красные фланелевые рукавицы, которые им одолжили рабочие-железнодорожники.
Утро стояло яркое, солнечное, морозное. Яблоневые сады искрились инеем, в шуршащих стеблях скошенной травы под частоколами посвистывали перепела.
Усердно орудуя рычагом, Элмер чувствовал, как легкие его очищаются от библиотечной пыли. Он расправил плечи, он взмок от пота и радовался: вот оно, началось его служение богу среди настоящих людей, в гуще жизни. Ему стало немного жаль побледневшего Фрэнка — и он усерднее налег на рычаг, заставляя и Фрэнка наддать сильней, — вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз.
Поясницу и плечи, отвыкшие за последнее время от физической работы, ломило невыносимо — в особенности на подъемах, где сверкающие рельсы ползли вверх, извиваясь в гравиевой траншее. Зато, летя под гору, навстречу подернутым инеем лугам, навстречу перезвону колокольчиков пасущихся коров, навстречу утреннему солнцу, он гикал во весь голос от радостного возбуждения, задорно распевал:
Что за сила, сила, сила, Чудодейственная сила У священного Агнца в крови…Шенеймская церковь — грязновато-бурая коробка с игрушечной колоколенкой — стояла в центре небольшого поселка: станционное здание, кузница, две лавчонки да полдюжины домиков. Однако на изъезженной улице и под навесом за церковью стояло не менее тридцати повозок: человек семьдесят по меньшей мере съехались поглазеть на нового пастора; они стояли полукругом, и только любопытные глаза их виднелись в щелочках между заиндевелыми кашне и меховыми козырьками шапок.
— Боюсь до смерти! — пробормотал Фрэнк, шагая рядом с Элмером по единственной улочке, ведущей от станции. Зато Элмера так и распирало от прилива сил, бодрости, уверенности в себе.
Собственная церковь! Небольшая, правда, но какая-то такая… особенная, непохожая на обычные сельские молельни… И колоколенка очень славная… не то, что все эти сараи, без всяких колоколен! А вот и его паства ждет у входа… Внимательные взгляды летят ему навстречу, наполняя его горделивым чувством…
Он распахнул пальто и, откинув полу, величаво подбоченился левой рукой, чтобы всем был виден его черный костюм, купленный этим летом для церемонии посвящения, и элегантный белый кант в вырезе жилета (более позднее приобретение).
Краснолицый, усатый мужчина отделился от толпы и вразвалочку зашагал им навстречу.
— Брат Гентри и брат Шаллард — так? Я Барни Бейнс, церковный староста. Рад вас видеть. Да поддержит вас господь в ваших молитвах. У нас уж довольно давно нет проповедника, так что все порядком изголодались по духовной пище и слову божьему. Ну, поскольку вы оба из Мизпаха, то, видимо, можно не волноваться: открытого причастия, конечно, не признаете!
— Видите ли, что касается меня, — заволновался было Фрэнк, но Элмер больно толкнул его локтем в бок, и Фрэнк замолчал на полуслове. А Элмер Гентри умильно запел:
— Рад познакомиться, брат Бейнс! О да, во всем, что касается обряда крещения, а также закрытого причастия, на нас с братом Шаллардом можно положиться смело. Надеемся, вы будете молиться за нас, брат, дабы святой дух осенил нас сегодня в нашем деле, дабы все братья наши возрадовались великому пробуждению и обильной жатве!
Брат Гентри стал здороваться с прихожанами, а церковный староста Бейнс и прочие праведники, слышавшие слова Элмера, перешептывались:
— Паренек еще молодой, но, видно, с понятием. Будь уверен, проповедь услышим что надо! А вот брат Шаллард вроде бы подкачал. На вид малый ничего, да, кажется, туповат. Стоит, молчит, как пень. Ну, да ладно, ребятишек учить в воскресной школе и этот сойдет…
Брат Гентри пожимал руку каждому — никого не пропустил. То ли посвящение в сан подействовало на него столь благодатно, а может, сыграло свою роль и лето, когда приходилось таскаться из одной церкви в другую, но только сейчас он приветствовал свою паству так внушительно и задушевно, что ему мог бы позавидовать любой агент по продаже швейных машин. Он пожимал руки крепко и энергично; он смотрел в глаза пожилых сестер с таким видом, словно готов был одарить каждую безгрешным поцелуем, он отпускал весьма уместные замечания о погоде и даже по счастливому случаю, а быть может, и по вдохновению свыше, здороваясь с самым отчаянным ханжой во всей округе, именно ему, а не кому-нибудь другому процитировал великолепное изречение из пророка Малахии[51].
Шествуя к кафедре во главе своей паствы, он ликовал:
«Ну, готово, они уже у меня в руках! Да, уж я-то умею расшевелить такую деревенщину — не то что краснобаи вроде Фрэнка или Карпа. Бубнят, бубнят одно и то же — и ни с места… И что это я на прошлой неделе так пал духом и… это… поддался плотским вожделениям? Кафедра — вот где мое место!»
Перед ним на твердых, длинных скамьях разместились прихожане; их лохматые головы выделялись на фоне коричневых стен и двойных, крашенных под дуб сосновых дверей. Церковь полнехонька — вот славно! Сзади, ближе к выходу, стоят, переминаясь с ноги на ногу, молодые люди в бледно-голубых галстуках и с небритыми подбородками.
Упиваясь своей властью над ними, он запел первый куплет гимна «Церковь в лесной глуши». Все подхватили.
Темой проповеди он выбрал стих из Притчей Соломоновых: «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи».
Элмер ухватился могучими руками за край кафедры, грозно взглянул на свою паству… Передумал: решил, что лучше принять благосклонный вид. И наконец разразился:
— Я часто думаю: многие ли из нас в шуме и сутолоке повседневной жизни помнят о том, что всем лучшим и возвышенным в жизни мы обязаны отнюдь не вашей энергии, не усердию, ни даже сильной воле, но любви? Что есть любовь, святая любовь, которой… это… которой великий песнопевец учит нас в притчах своих? Любовь — это радуга, что приходит на смену грозовым тучам. Любовь — это утренняя звезда, но она же и звезда вечерняя, ибо эти звезды, как все вы, без сомнения, прекрасно знаете, ярчайшие из всех известных нам звезд. Любовь сияет над колыбелью младенца, а когда жизнь — увы! — отлетела, чтобы никогда уже не вернуться вновь, любовь все еще витает над безмолвной могилой. Что вдохновляет всех великих людей, будь то священник, или патриот, или крупнейший бизнесмен? Что, братья? Что, как не любовь? О, она наполняет мир музыкой, священной музыкой, подобной той, которой мы с вами только что наслаждались вместе. Ибо что есть музыка? Что она, друзья мои? Да — что такое музыка, скажите, если не голос любви?
Затем он объяснил, что ненависть есть чувство низменное.
Однако в виде поблажки наиболее твердокаменным и ревностным из церковных старост, восседающим в первом ряду, он все-таки разрешил ненавидеть католиков, всех, кто не верит в ад и крещение по баптистскому обряду, а также всех богатых поставщиков, что предаются разврату средь лживых улыбок распутных женщин — разодетых в шелка, женщин с рубиновыми кубками губительного вина в унизанных перстнями пальцах.
Понизив голос, он завершил проповедь отеческим шепотом, рассказав напоследок от начала до конца вымышленную, но оттого не менее поучительную историю о старом грешнике, который на одре болезни, вняв мольбам Элмера, понял, что ему следует немедленно покаяться, но затем откладывал свое покаяние слишком долго. Он умер, окруженный добродетельными и убитыми скорбью дочерьми, и, как следует полагать, прямым путем отправился в лапы дьявола
Когда Элмер бодрой рысцой подлетел к дверям, чтобы попрощаться с теми, кто не оставался на занятия в воскресной школе, ему не менее шестнадцати раз пришлось выслушать одно и то же: «Очень поучительная проповедь, брат, и как изысканно составлена'» — и он шестнадцать раз с юношеским жаром благодарно тряс руку тому, кто это сказал, — поистине умилительное зрелище!
Староста Бейнс похлопал его по плечу.
— Первый раз вижу, брат, чтобы такой молодой проповедник так отлично справился с темой. Познакомьтесь: моя дочь Лулу.
Так вот она наконец та девушка, о которой он не переставал мечтать с того дня, как поступил в Мизпахскую семинарию!
Лулу Бейнс была похожа на котенка — маленького, серого с белым котеночка с розовым бантиком. Во время проповеди она сидела в заднем ряду, за печкой, и поэтому он ее не заметил. Зато сейчас он пожирал ее глазами. Возбуждение, вызванное в нем шумным успехом проповеди, было ничто в сравнении с бурей чувств, охватившей его в эту минуту. Значит, во время его грядущих богоугодных трудов рядом с ним будет находиться она! Жизнь стала радужной, полной надежд сказкой… Он пожал ей руку и, стараясь говорить сдержанно, произнес:
— Очень приятно познакомиться, сестра Лулу.
Лулу было лет девятнадцать. В воскресной школе она вела занятия с немногочисленной группой двенадцатилетних мальчиков. Элмер рассчитывал, что, когда начнется воскресная школа, он улизнет, оставив учеников на попечение Фрэнка Шалларда, а сам отыщет укромное местечко и будет сидеть себе, покуривая питсбургскую сигару, однако под влиянием новоявленного духовного откровения он остался в школе и, сияя пасторским благоволением, внушительно, но в то же время по-братски беседовал с мальчишками из класса Лулу.
— Если хотите вырасти здоровыми и крепкими, словом, настоящими ребятами, надо только внимательно выслушать все, что расскажет вам мисс Бейнс о замечательном храме, который построил царь Соломон, — журчал он. Дети жались и застенчиво хихикали — ну и что же? Зато ему улыбалась Лулу, серый котенок с ласковыми глазками… Маленький мягкий котеночек.
— Ах, брат Гентри, — промурлыкала Лулу, — так страшно при вас говорить, просто не смею… — И он окунулся в глубокий блеск огромных глаз, и ее лепет показался ему ангельским хором, песнью жаворонка, целым оркестром флейт…
Занятия в воскресной школе кончились. Нет, он не мог ее отпустить! Надо ее удержать еще немножко…
— Знаете что, сестра Лулу, пойдемте, я вам покажу дрезину, на которой мы приехали с Фрэнком… с братом Шаллардом. Ну и забавная штука! Со смеху умрешь!
Линейная бригада проезжала мимо станции Шенейм по крайней мере раз десять в неделю, так что ручные дрезины никак не могли быть для Лулу потрясающей новинкой, но все-таки она засеменила рядом и с кокетливым изумлением осмотрела дрезину, восхищенно ахая:
— О-о, как интересно! Как же это вы доехали на такой штуке? Вот чудеса!
Она весело распрощалась с ними, и Элмер ревниво заметил, что она так же тепло пожала руку Фрэнка, как и его собственную.
«Пусть только попробует увиваться возле моей девочки!» — думал Элмер, работая рычагами на обратном пути в Вавилон.
Он и не подумал поздравить Фрэнка, хотя тот не только справился со своими страхами перед деревенскими тугодумами (Фрэнк всегда жил только в городах), но и сумел так рассказать о храме Соломоновом, что вместо унылого предмета, построенного из неведомого материала под названием «локти», дети увидели священную обитель всемогущего и грозного божества.
III
Вот уже два воскресенья подряд Элмер тщетно старался заставить Лулу почувствовать, что он не только молодой и подающий надежды пророк, но и весьма заслуживающий внимания мужчина. Как назло кругом постоянно было слишком много народа. Один лишь раз удалось ему остаться с ней наедине: они отправились за полмили навестить больную старушку. По дороге Лулу кокетливо вскидывала на него глазки из-под длинных ресниц (серый с белым котенок в маленькой шапочке, тоже серой, пушистой, мягонькой — так и хотелось погладить!).
Он начал наугад:
— Вам уж, наверное, до смерти наскучили мои проповеди?
— О, нет! Нет! Вы читаете просто изумительно!
— Правда? Честное слово?
— Ну да!
Он поглядел сверху вниз на ее детское личико, поймал ее взгляд и игриво воскликнул:
— Ах, проказник этот ветер! Смотрите, как у нас пылают щечки, как разрумянились эти милые губки! Нет, это, наверное, кто-то расцеловал их по пути в церковь!
— Нет, что вы…
Вид у нее был огорченный, почти испуганный.
«Ого! Задний ход, братец! — осадил он себя. — Не туда повернул. Видно, вовсе никакая не вертушка, ошибся. Видно, совсем еще невинность. Как смутилась, бедная девочка! Может, и не стоит ее будоражить… А-а, чего там, совсем не вредно, если кто-то и поухаживает раз в жизни со знанием дела!»
Первым делом — восстановить безупречность своей пастырской репутации.
— Ну-ну, я пошутил. Я просто хотел сказать: жаль, если такая прелестная девушка, как вы, ни с кем не помолвлена. Но ведь у вас, наверно, есть жених — да?
— Нет. Мне очень нравился один человек, но он уехал в Кливленд работать и, думаю, забыл меня.
— О, это печально!
Как надежно, сильно, ободряюще сжали ей руку его пальцы! Она благодарно взглянула на него, а когда они пришли к больной и Лулу услышала, как долго и горячо молится брат Гентри, как проникновенно рассуждает о смерти, которой, в сущности, нет, которая не причиняет страданий (у старухи был рак), Лулу стала смотреть на него даже с благоговением.
На обратном пути он задал последний пробный вопрос:
— Но если вы даже и не помолвлены, сестра Лулу, ручаюсь, что по вас тут сходит с ума не один паренек.
— Да нет же! Я, правда, встречаюсь с моим троюродным братом Флойдом Нейлором, но только он — такая размазня! С ним никакого веселья…
И преподобный мистер Гентри решил, что за весельем дело не станет.
IV
В субботу, после полудня, Элмер и Фрэнк отправились в Шенейм украшать церковь к торжественной службе в День Благодарения. Чтобы не делать два лишних конца — в Вавилон и обратно, они договорились, что переночуют в просторном доме церковного старосты Бейнса. Лулу Бейнс со своей кузиной, мисс Болдуин, старой девой, помогали им украшать церковь, иными словами, делали за них всю работу. Они развешивали в зале гирлянды из еловых веток и раскладывали перед кафедрой символы урожая — тыквы, желтый маис и бархатистый сумах.
В то время как Фрэнк обсуждал со старой девой декоративные достоинства тыквы, Элмер обратился к Лулу:
— Мне нужен ваш совет, Лулу, сестра Лулу. Как вы думаете: стоит мне в завтрашней проповеди объяснить… (они стояли рядом. Какие прелестные узенькие плечики, нежные, пухлые щечки! Он должен их поцеловать… Должен! Его качнуло к ней. Проклятый Фрэнк, проклятая старая дева! И что они здесь торчат?)… объяснить, что все эти дары урожая, бесценные сами по себе и необходимые для жрат… для праздничной трапезы, — они, в сущности, представляют собою не что иное, как символ, вещественное проявление?.. Садитесь же, Лулу, у вас утомленный вид, проявление более ценных духовных даров, которые шлет нам небо, — и не только в пору жатвы. Понимаете ли, это весьма важный момент…
(Ее рука упала, коснувшись его колена, и легла на скамью. Какая она белая на фоне тускло-коричневой скамьи! Ее юная, упругая грудь обрисовывалась под блузкой из клетчатой шотландки. Он должен коснуться ее руки! Его пальцы подкрались к ней, коснулись как бы случайно, ну, конечно, случайно! Лулу внимала, преданно глядя на него, а он рокотал все в том же возвышенном стиле.)
— …весьма и весьма важный… Круглый год нисходят к нам все эти сокровенные духовные дары, и за них-то мы и должны вознести хвалу господу в День Благодарения… за них в первую очередь, а не за материальные… это… материальные блага. Как вы полагаете — полезная мысль? Стоит остановиться на ней завтра?
— О, да! Еще бы! По-моему, чудесная мысль! (У него заныли руки — так хотелось ее обнять.)
Фрэнк и мисс Болдуин к этому времени сели и углубились в невыносимо долгую беседу о способах воздействия на этого маленького сорванца Катлера: дрянной мальчишка заявил, что не верит, будто вороны приносили пророку Илье хлеб и мясо, — уж он-то знает повадки этих самых ворон! Фрэнк считал, что не следует порицать мальчугана за чистосердечные сомнения, но если он заведет себе привычку каждый раз выскакивать и подрывать авторитет учителя дурацкими вопросами…
— Лулу! — взмолился Элмер. — Пойдем на минутку в ту комнату. Мне нужно спросить у вас кое-что о церковных делах, а я не хочу, чтобы еще кто-то слышал.
В Шенеймской церкви, кроме «зала» для молитвенных собраний, имелся еще просторный чулан, в котором хранились молитвенники, швабры, щетки, складные стулья, чашки для причастия. Свет проникал в него через запыленное окошко.
— Мы с сестрой Бейнс пошли взглянуть на наглядные пособия для воскресной школы, — небрежно и громко объявил Элмер.
Она не запротестовала — значит, теперь они связаны общей тайной. Он уселся на опрокинутое ведро, она примостилась на лесенке-стремянке. Ему было приятно чувствовать себя маленьким рядом с нею и смотреть на нее снизу вверх.
Элмер понятия не имел, что ему спрашивать «о церковных делах», но в обществе молоденькой женщины ему еще никогда не приходилось лезть за словом в карман. Он начал наступление:
— Мне нужен ваш совет. Я никогда еще не встречал человека, в котором так гармонично сочетались бы здравый смысл и высокие духовные качества.
— Ах, что вы, брат Гентри! Вы мне просто льстите!
— Нет, нет! Я говорю серьезно! Вы просто недооцениваете себя. А все потому, что вы всю жизнь прожили в захолустном городишке. Вот если б вы жили в большом городе — ну, в Чикаго, например, поверьте, там оценили бы вашу… это… ваше редкостное понимание духовных ценностей… ну, и все такое прочее.
— О! Чикаго! О-о! Я бы там умерла от страха!
— А вот я как-нибудь возьму и повезу вас туда, покажу вам город! Представляю себе, что тут пойдут за разговоры про греховодника-пастора!
Оба весело рассмеялись.
— Нет, серьезно, Лулу, я вот что хотел бы знать… это… Да! Я, знаете ли, хочу вас спросить: скажите — вам не кажется, что мне следует приезжать сюда на молитвенные собрания по средам?
— Да, по-моему, это было бы очень неплохо.
— Да, но ведь, с другой стороны, ездить-то придется все на той же старой дрезине…
— Верно…
— А вы даже представить себе не можете, как много я вынужден заниматься по вечерам в семинарии.
— Да, воображаю!
Оба понимающе, сочувственно вздохнули. Он положил свою ладонь на ее руку. Они вздохнули еще раз, и он отдернул руку, чуть ли не стыдливо.
— Но, конечно, я вовсе не намерен себя щадить. Жертвовать собою ради паствы — почетный долг пастора.
— Да, это правда…
— Хотя, конечно, при таких дорогах, как здесь, а в особенности зимой… К тому же большая часть прихожан живет на дальних фермах… им будет трудно сюда добираться… а?
— Правда ваша. С дорогами зимой плохо. Да, по-моему, вы правы, брат Гентри.
— Ах, Лулу! А ведь я-то вас зову по имени. И если вы не будете называть меня просто Элмером, то я подумаю, что это мне в укор: значит, я поступаю нехорошо!
— Так ведь вы пастор, а я — так, никто.
— Ну нет, вы не никто!
— Нет, никто!
Они расхохотались
— Послушайте, Лулу, милая. Не забывайте, что я еще, в общем-то, совсем мальчишка — в этом месяце только будет двадцать пять, — всего на пять или шесть лет старше вас. Так попробуйте же называть меня Элмером — посмотрим, что получится.
— О-ох! Неловко!
— Да вы только попробуйте!
— Нет, не могу! Да как это вдруг!..
— Ну и трусиха!
— А вот и нет!
— Нет, трусиха!
— Ничего подобного!
— «Ничего подобного», а сама трусит!
— Ну, пожалуйста: Элмер! Вот вам!
Снова смех, но на этот раз уже смех двух задушевных друзей. Как бы в порыве веселья Элмер взял ручку Лулу, сжал ее, провел ею по своей руке. Он так и не выпустил эту ручку, но пожатие его было чисто дружеским и — ну разве что самую малость — нежным.
— Как? Неужели вы в самом деле боитесь бедного, старого Элмера? — проворковал он.
— Да, капельку, самую малость.
— Но отчего?
— Ну, вы такой большой, сильный, важный, как будто вы гораздо старше, и потом у вас такой голос раскатистый — бум-бум!.. Нет, слушать-то я его ужасно люблю, но и боюсь тоже. Так и чудится, вот посмотрите на меня сердито и скажете: «Ах, ты, скверная девчонка!» — и мне придется тут же исповедоваться в грехах. И потом вы такой ужасно образованный: знаете столько длинных слов и можете объяснить такие вещи в библии, которых мне никогда не понять. К тому ж вы ведь духовное лицо… настоящий баптистский пастор.
— Гм… Да… Но разве это мне мешает быть и мужчиной тоже?
— Да, мешает! В каком-то смысле…
Теперь голос его звучал уже не игриво, а жадно, требовательно:
— Стало быть, вы и мысли не допускаете, что я могу вас поцеловать?.. Посмотрите на меня… Посмотрите на меня, говорю вам!.. Вот так!.. Нет, не отворачивайтесь. Ага! Покраснели? Ах, милая моя, бедняжечка, девочка моя дорогая! Значит, вы все-таки можете представить себе, что я вас целую!..
— Нет, это нехорошо…
— Стыдно?
— Да, стыдно.
— Слушайте, дорогая. Я кажусь вам ужасно взрослым и серьезным. Таким я, разумеется, и должен казаться на кафедре прихожанам. Но загляните мне в душу… Я ведь просто большой, застенчивый мальчишка, и мне так нужна ваша помощь! Вы — знаете что, дорогая? Вы мне напоминаете мою мать…
V
Фрэнк Шаллард напустился на Элмера сразу же, как только они перед ужином остались наедине в комнате, отведенной им на ферме Бейнсов (их привезли сюда ночевать Лулу и мисс Болдуин):
— Послушай, Гентри… Элмер. По-моему, это выглядело не особенно прилично: увел мисс Бейнс в чулан и проторчал там с ней добрых полчаса… А когда вошел я, вы оба так и подскочили с виноватым видом…
Элмер Гентри и Фрэнк Шаллард
Станция Шейнем
— Ага! Стало быть, наш любезный приятель Фрэнк подглядывает, как любопытная старая баба!
Комната, в которой им предстояло провести ночь, находилась под самой крышей и была похожа на просторную, полутемную пещеру. Кувшин на темном ореховом умывальнике был разрисован золотыми и пестрыми цветами, неизвестными ботанике. Оба умывались перед ужином. Элмер, злобно уставившись на Фрэнка, потянулся за полотенцем. С могучих, обнаженных до локтя рук его прямо на ковер закапала вода.
— Я не подглядываю, Гентри, и ты это прекрасно знаешь. Но ты здесь священник, а ради блага наших ближних наш долг — избегать даже видимости греха…
— Грешен тот, кто во всем видит грех. Тебе, может, и это приходилось слышать?
— Будь покоен, Элмер, может, и приходилось.
— Подозрительный пуританин — вот ты кто! У тебя грязные мысли! Видишь зло там, где его и в помине нет.
— Пуритан ненавидят не за то, что они подозрительны, а за то, что их подозрения чаще всего бывают весьма справедливы. Так вот что, Элмер. Я не хочу тебе доставлять неприятности…
— Уже доставляешь
— …но мисс Бейнс… Она на вид вроде и легкомысленная, кокетливая, но я уверен твердо, что на самом деле эта девушка чиста, как младенец, и я не намерен стоять сложа руки и наблюдать, как ты ее… как ты ее обхаживаешь.
— Скажите, пожалуйста, какой страшный! Ну, а если я, предположим, хочу на ней жениться?
— А ты — хочешь?
— Что ж ты спрашиваешь? Ты же сам все на свете знаешь, мог бы и это знать.
— Так, значит, хочешь?
— Я ведь не сказал, что нет.
— Ну, твоя риторика для меня слишком сложна. Будем считать, что хочешь. Отлично! Сообщу о твоих намерениях старосте Бейнсу.
— Черта с два ты сообщишь, понятно? Ты имей в виду, Шаллард, я тебе не позволю совать нос в мои дела. Ясно? И точка!
— Если б ты не был духовным лицом, а я не занимал официального положения в этом приходе, тогда бы точка. Я и сам не особенно люблю читать мораль другим: пустое дело. Но ты духовное лицо, ты пастор в этом приходе, а я вместе с тобой несу ответственность за его благополучие. И будь я проклят, если я потерплю, чтобы ты на моих глазах совращал первую же девушку, попавшую в твои потные лапы! Ладно, не размахивай кулаками! Конечно, тебе ничего не стоит со мной разделаться. Но ты не посмеешь. Тем более здесь, в доме церковного старосты. Карьеру себе погубишь… Господи! И какой только сброд мы любезно посвящаем в баптистские священники! Да, так я повторяю: я не намерен сидеть и смотреть, как ты соблазняешь…
— Ах, черт возьми! Ты что, вообразил, будто я потерплю… Я тебе прямо скажу, Шаллард: в жизни не встречал человека с такими грязными мыслями, как у тебя! Вообще — откуда ты взял, что я чего-то добиваюсь от Лулу… то есть от мисс Бейнс, кроме самых дружеских, простых, по-человечески хороших отношений? Да у меня и в мыслях не было! Если хочешь знать, чудак, я с ней сидел, и она рассказывала, как любила одного парня, а он ее бросил и удрал в Чикаго. Вот и все! И с чего ты подумал?..
— Ладно, Гентри! Не прикидывайся дурачком. Так я тебе и поверил! То-то ты сидел тогда в семинарии у меня в комнате и бахвалился вместе с Зензом, сколько у тебя было девчонок…
— Не волнуйся, ноги моей больше не будет в твоей проклятой конуре!
— Вот и чудно!
— Думай, что хочешь. И пошел ты к черту! Можешь бежать, докладывать папаше Тросперу, можешь растрезвонить хоть всем преподавателям…
— Неплохая идея, Гентри! Пожалуй, именно так я и сделаю. А пока что сегодня вечером я только буду следить за Лулу, то есть мисс Бейнс, и за тобой. Бедная, милая девочка! Такие славные глаза!
— Ага, друг Шаллард, значит, сам тоже принюхиваешься?!
— Боже великий! Ну и экземпляр же ты, Гентри!..
VI
Церковный староста Бейнс, крепкий, черноусый мужчина с суровым лицом, радушный и в то же время по-крестьянски жадный, и его пышка жена обращались с Фрэнком и Элмером, с одной стороны, как с жрецами священной науки, а с другой — как с двумя пареньками, которых уморили голодом в Мизпахской семинарии и которым сегодня вечером необходимо наверстать упущенное. Жареные цыплята, жареная говядина под белым соусом, домашняя колбаса, пикули, сладкий пирог, в котором Элмер с тихой радостью почуял аромат богопротивного бренди, — все это было лишь малой частью того, что требовалось одолеть молодым пророкам. Мистер Бейнс каждые три минуты гаркал раздувшемуся от еды страдальцу Фрэнку:
— Ничего, брат Шаллард, ничего! Вы еще и есть-то не начинали! Что это с вами, не понимаю? Давайте-ка сюда вашу тарелку: подбавим вам еще немножко…
За ужином сидели также старая дева мисс Болдуин, еще двое церковных старост с женами и молодой сосед-фермер по имени Флойд Нейлор. От двух представителей духовенства ждали назидательной беседы. Считалось, что, во-первых, они не могут говорить ни о чем, кроме богословия и церковных дел, и что, во-вторых, разговоры на подобные темы весьма способствуют благоприятному решению довольно-таки щекотливой задачи: устроить свою жизнь таким образом, чтобы и спать вволю, и разъезжать на бричке в свое полное удовольствие, и во вкусненьком себе не отказывать, и все-таки попасть в рай!..
— Скажите, брат Гентри, — спросил мистер Бейнс, — какую из баптистских газет вы считаете наиболее подходящей для домашнего чтения? Я было пристрастился к «Уочмен Эгзэминор», но он, мне кажется, как-то не очень нападает на кэмпбеллитов да и с католиками не так воюет, как полагается серьезной, истинно христианской газете. Теперь стал читать «Уорд энд Уэй». Вот это, по-моему, газета что надо: обо всем пишет ясно, и язык отменный, — одним словом, газетка как раз по мне! Там прямо так и говорится: ежели, дескать, не веришь в непорочное зачатие, воскресение из мертвых и крещение через погружение, тут уж никакие там добрые дела, благотворительность и тому подобное — ничего не поможет, потому что ты уж все равно осужден на погибель и попадешь прямым путем в ад — и не в какой-нибудь там придуманный, а в самый что ни на есть настоящий ужасный ад, где тебя будут поджаривать на самых что ни на есть настоящих угольках. Вот так-то, сэр!
— Нет, погодите, брат Бейнс, — запротестовал Фрэнк Шаллард. — Неужели вы серьезно думаете, Иисус Христос так-таки и не спасет ни единого человека на свете, кроме правоверных баптистов?
— Ну, я не стану говорить, что мне известны все тонкости. Я не ученый и не священник. Но только я так рассуждаю: если человек, скажем, никогда не имел случая увидеть истинный свет, ну, с детства воспитан методистом или мормоном, и никто ему никогда не растолковал про настоящую баптистскую веру — может быть, господь и простит его, потому что это он все по неведению. Но одно я знаю точно: все эти «просвещенные мыслители» и «ученые критики» — уж они-то определенно попадут в самое пекло! А вы что думаете, брат Гентри?
— Да, я лично вполне склонен с вами согласиться, — злорадно подхватил Элмер. — Во всяком случае, мы можем со спокойным сердцем предоставить всех трусов, хлюпиков и болтунов из породы так называемых «просвещенных мыслителей» милости господней. Если они подло подрывают нашу великую миссию спасения душ в мире сем, пусть занимаются дурацкими прениями, рассуждениями, словоизвержениями, которые никому не приносят практической пользы, а только мешают великому делу врачевания страждущих душ, — пусть! Мне по крайней мере некогда тратить на них время — вот и все. Пусть даже они меня услышат, мне решительно все равно. Да, вот в этом и беда брата Шалларда: я знаю, что в сердце его пребывает благодать господня, но только зря он тратит время, копается в разных там доктринах, когда ведь и так все, что человеку нужно знать, уже сказано в баптистском учении. Ты бы подумал об этом, Фрэнк, подумал бы…
Элмер вполне уже овладел собой. Ему всегда нравилось играть с огнем — если, конечно, огонь этот был не опасней того, что имелся в запасе у Фрэнка. Он нагло посмотрел Фрэнку в глаза… После разговора в спальне прошло около получаса.
Фрэнк открыл было рот, закрыл, снова попытался что-то сказать и снова промолчал. А потом было уж слишком поздно. На него уже насел с доводами в пользу духовного возрождения и новой порцией сладкого церковный староста Бейнс.
VII
Лулу сидела на другом конце стола, и Элмер был, пожалуй, рад этому. Он презирал Фрэнка за слабохарактерность, но Фрэнк был не чета Эдди Фислингеру: Элмер никогда не знал наверное, что Фрэнк надумает сделать или сказать через минуту. Поэтому он решил держаться начеку. Раза два он все-таки многозначительно взглянул на Лулу, но в разговоре (а разговор ради того, чтобы снискать восхищение Лулу, приходилось вести ученый и вместе с тем мужественно-оживленный) все время обращался к мистеру Бейнсу и двум другим старостам.
«Так! — размышлял он. — Этот остолоп Шаллард должен видеть, что я и не собираюсь совращать малютку… Если он заикнется насчет моих „намерений“ относительно нее, я просто сделаю удивленное лицо, и мистер Фрэнк Шаллард сядет в лужу со всеми своими гнусными подозрениями».
Но внутренний голос, поднимавшийся из самых темных и смутных глубин его существа, нашептывал ему, не переставая: «Я должен ею овладеть, должен!»
И Элмер останавливал себя: «Не торопись! Будь осторожен! Декан Троспер выкинет тебя из семинарии! Старик Бейнс возьмется за ружье… Осторожно!.. Выжди!»
Только через час после ужина, когда все занялись поджариванием кукурузы, он улучил минутку и шепнул ей:
— Не доверяйте Шалларду! Прикидывается моим другом, но не верю ему ни на грош. Должен вам рассказать про него. Необходимо! Слушайте! Когда все лягут, спуститесь тихонько сюда. Я тут подожду. Обязательно!
— О нет, не могу! Кузина Эделин Болдуин спит у меня в комнате.
— Ну и что же? Сделайте вид, будто ложитесь, ну, распустите волосы, что ли, а потом спуститесь посмотреть, догорел ли камин. Ладно?
— Может быть.
— Нет, наверное!.. Пожалуйста! Милая!
— Может быть. Но только на секунду.
И Элмер самым добродетельным, самым пасторским тоном завершил:
— Да, разумеется.
После ужина все расположились в гостиной. Бейнсы гордились своими передовыми взглядами: они не проводили вечера на кухне, по крайней мере — не всегда. Уютная гостиная была обставлена, как принято на фермах Новой Англии: яркий полосатый плетеный коврик, немыслимая кожаная качалка на медных ножках в виде драконов, украшенная шишечками в коринфском стиле, увеличенные фотографии, стол, заваленный иллюстрированными журналами, тяжелый альбом снимков Чикагской всемирной выставки[52]. Камин заменяла печь — забавное чудовище из никеля, со слюдяной дверцей, лихо увенчанное короной, правда, не золотой, а позолоченной, и украшенное цепочкой из стеклянных сапфиров, стеклянных изумрудов и жарких стеклянных рубинов, опоясывающей его раскаленное брюхо.
Устроившись возле этого курьезного и великолепного чудовища, Элмер открыл шлюзы своего красноречия и пустил в ход все свое обаяние.
— Ну, баста, друзья мои! Ни слова больше сегодня о церковных делах! Я сейчас не священник, я просто веселый парень, который хочет немножко порезвиться после такого замечательного ужина. И скажу вам откровенно: не будь мамаша Бейнс столь строгой матроной, я непременно заставил бы ее сплясать со мною. Ручаюсь, что она прошлась бы не хуже любой танцовщицы, что выступают в театрах.
И, обвив рукою необъятно пышный стан миссис Бейнс, он трижды покружил свою даму по комнате, а она, вся зардевшись, хихикала: «Ой, не могу… И придумает же!» И все захлопали, не щадя мозолистых, огрубевших от плуга рук, так что у чувствительного Фрэнка Шалларда едва не лопнули уши.
Фрэнка всегда считали на редкость общительным юношей, но в этот вечер его словно подменили: так он был мрачен и хмур.
Это Элмер занимал всех рассказами о первых поселенцах Канзаса, так хорошо известных ему из книг. И это Элмер, когда прошло первое смущение и гости стали вести себя естественно в обществе «божьих людей», предложил всем поджаривать кукурузу на огне. Тогда-то, в разгар веселья, когда даже самый сдержанный из церковных старост, лукаво хмыкнув, одернул Бейнса: «Эй, Барни, ты кого это там подталкиваешь?» — тогда-то Элмер и улучил минутку, чтобы незаметно назначить свидание Лулу.
Потом, еще более оживленный и слегка лоснясь от масла, которым намазывали початки, он собрал всю компанию у фисгармонии, на которой заиграла Лулу с невинной радостью, хоть и без особого умения.
Из уважения к духовным лицам сначала запели церковный гимн, но уже вскоре все с увлечением затянули вслед за ним «Как я Нелли домой провожал» и «Старый черный Джо».
И все время он втайне трепетал, предвкушая прелести предстоящего свидания.
Молодой фермер Флойд Нейлор, сосед и родственник Бейнсов, высокий и нескладный парень, тоже томясь и робея, не спускал глаз с Лулу, и это только сильней разжигало Элмера.
Последней спели «Бьюла Лэнд»[53] под аккомпанемент Лулу. Голос Элмера звучал так мягко и трогательно, так нежно:
Блаженный край, мой милый край,(«Ах ты, моя крошечка!»)
К тебе с вершин стремлюсь!(«Что, если ее попытаться разжалобить, может — клюнет?»)
К тебе тянусь через моря,(«Нет-нет, я буду вести себя хорошо, слишком далеко заходить не стану».)
К тебе душою рвусь!(«Какие ручки! Так и тянет поцеловать!»)
Твои родные берега(«И поцелую, ей-богу! Сегодня же!»)
К себе влекут меня всегда!(«Интересно, в чем она спустится — в капоте?»)
— Хотелось бы знать, — обратилась к нему жена одного из старост, особа чувствительная и бойкая, — о чем это вы думали, брат Гентри, когда пели?
— Э-э… гм… Думал о том, как мы все будем счастливы, когда очистимся от грехов и познаем отдохновение в Бьюла Лэнд.
— Ах, я так и знала, что вы думаете о чем-то божественном, — вы пели с таким чувством и вдохновением!.. Ну, нам пора! Чудный был вечер, сестра Бейнс! Мы просто не знаем, как и благодарить вас и брата Бейнса за такое удовольствие! Да, и брата Гентри тоже… Ну, и, конечно, брата Шалларда. Идем же, Чарли!
Чарли тем временем с другим старостой улизнул на кухню вслед за братом Бейнсом. Время от времени оттуда доносился подозрительный звук, словно бульканье из горлышка кувшина, и в такие минуты дамы и оба священника возвышали голос и ничего не замечали. Наконец один за другим старосты показались из кухни, утирая губы волосатыми лапами.
VIII
Когда долгая церемония прощания закончилась, Элмер сказал отчаянно зевающему хозяину:
— Если это не потревожит вас и сестру Бейнс, я на минутку задержусь здесь, внизу, у огня — приведу в порядок мои заметки для завтрашней проповеди. И брату Шалларду не буду мешать спать.
— Хорошо, хорошо… О-о-ох-хо-хо… простите, ко сну что-то клонит. Располагайтесь, как дома, сынок… виноват… брат Гентри. Спокойной ночи!
— Спокойной ночи! Спокойной вам ночи, брат Бейнс. Спокойной ночи, сестра Бейнс. Спокойной ночи, сестра Лулу… Всего, Фрэнк.
Он остался один, и комната заходила ходуном. Она плясала у него перед глазами, она была полна звуков. Элмер расхаживал из угла в угол, нервно постукивая кулаком одной руки по ладони другой, то и останавливался, лихорадочно прислушиваясь… Минуты ползли нестерпимо медленно. Она не придет.
Мышиный шорох на лестнице, неслышные шаги на цыпочках в холле. Все тело его напряглось от нетерпения. Он застыл в позе статуи Натана Хейла[54]: локти назад, кулаки у бедер, подбородок вздернут. Но когда в комнату робко шагнула она, перед нею, небрежно облокотившись на фисгармонию и с отеческой благодушной усмешкой, вертя в пальцах массивную цепочку от часов, уже стоял солидный и добросердечный пастор. Она была не в капоте, а все в том же самом синем платьице. Правда, она распустила волосы, и они сияющим, шелковистым облаком обрамляли ее шею. Она поглядела на него умоляюще.
Он мгновенно переменил позу и бросился к ней с заглушенным возгласом:
— О, Лу! Если бы вы знали, как меня обидел Фрэнк!
Это прозвучало совсем по-мальчишески…
— Что! Что случилось?
Очень естественно, непринужденно, будто их близость подразумевалась сама собой, он обнял ее плечи, с наслаждением погрузив пальцы в облако волос.
— Это ужасно! Фрэнк, казалось бы, должен знать меня, а знаете, что он сказал? О, он не посмел высказать все напрямик! Это мне-то! Нет, он намекал, крутил вокруг да около, клеветал, будто мы с вами вели себя неприлично тогда в церкви. А вы ведь помните, о чем мы там говорили? О моей ма-те-ри! О том, какая она красивая и добрая и как вы на нее похожи! Не правда ли, гадко с его стороны?
— О да! Просто отвратительно! То-то он мне никогда и не нравился.
В порыве сочувствия она даже забыла отстраниться от него.
— Пойдемте, милая, посидим рядышком на диване.
— Ах, нет, нельзя! (Подвигаясь к дивану вместе с ним.) — Мне надо сию же минуту идти наверх. Кузина Эделин такая подозрительная…
— Сейчас пойдем вместе. Понимаете, эта история меня так взволновала! Вы, наверное, и не предполагали, что здоровый чурбан вроде меня может оказаться таким чувствительным?
Он привлек ее к себе. Она, не сопротивляясь, со вздохом прильнула к нему.
— Нет, я понимаю, Элмер! По-моему, это шикарно… то есть это очень мило, когда такой большой и сильный мужчина умеет так тонко чувствовать. Но только мне, правда, пора идти!
— Пора идти — дорогой.
— Нет!
— Да! Не пущу, пока не скажете.
— Мне пора, дорогой!
Она вскочила, но он удержал ее руку в своей, поцеловал кончики ее пальцев и заглянул снизу вверх — жалобно, нежно.
— Бедный мальчик! Утешила я вас?
Она вырвала руку, быстро поцеловала его в висок и упорхнула, а Элмер, окончательно потеряв голову, тяжело затопал по комнате, то бурно торжествуя, то изнемогая от томления.
IX
На дрезине по дороге в Вавилон и семинарию Элмер с Фрэнком почти не разговаривали.
— Слушай, да не дуйся ты! Честное слово, я вовсе не собираюсь баловаться с малюткой Лулу, — пропыхтел Элмер, с остервенением работая рычагами дрезины.
В своей кепке, с шеей, обмотанной кашне, он имел очень потешный вид.
— Ладно. Забудем, — отозвался Фрэнк.
Элмер терпел до среды. Два дня его мучили мысли о том, как овладеть Лулу. Понуро сидя на краю своей койки, сжав кулаки, уставившись в пространство невидящим взглядом, он строил планы, такие реальные, что иногда они казались ему явью. Вот он нанимает на весь вечер повозку за целых два с половиной доллара и едет в Шенейм. Привязывает лошадей к большому дубу, что растет в полумиле от фермы Бейнсов. В лунном свете ясно виднеется круглый и выщербленный выступ в том месте, где был срублен сук. Он подбирается к ферме, прячется за овином, дрожа от холода и возбуждения. Вот на пороге показалась она. В руках у нее таз с водой. Она стоит боком к свету; грубое рабочее платье плотно облегает ее плечи и грудь. Вот он свистнул; она вздрагивает, нерешительно идет к нему, видит его, вскрикивает от радости.
Нет, она не может остаться с ним: еще не кончена вся работа по дому; она просит его подождать в хлеву. Здесь тепло, сладко пахнет коровами и сеном. Он сидит в темноте на краю яслей, пылая, его бьет дрожь, как от страха, но это не страх… Дверь хлева медленно приоткрывается, по коровнику скользит лунный луч и снова гаснет. Она идет к нему как бы нехотя, как зачарованная. Он не шевелится. Еще шаг — и она в его объятиях; они опускаются на копну сена, онемев, скованные страстью, и его рука гладит ее щиколотку…
В другой раз ему представлялось, что она падает в его объятия в шенеймской церкви. Он почему-то один (почему, он еще не придумал), без Фрэнка, в будни. Вечер. Она садится рядом с ним на скамью… Он слышал свои слова: он убеждает ее довериться ему, ибо в их любви есть что-то святое, а сам тем временем ласкает ее.
Но… Что если на его свист выйдет староста Бейнс и увидит, как его пастор прячется за хлевом? Что если она откажется предаваться романтическим грезам в коровнике? И под каким предлогом он может зазвать девушку вечером в пустую церковь?
Да, но… И так, то сидя на койке, то лежа в полусне и судорожно комкая одеяло, он снова и снова переживал в воображении встречи с нею, пока ему наконец не стало совсем невмоготу.
Только в среду вечером преподобному Элмеру Гентри пришло в голову, что ему, вообще говоря, вовсе нет нужды прятаться и таиться — это совсем не обязательно — и что он может прийти к Лулу совершенно открыто.
Не стал он тратить и двух с половиной долларов на повозку. Несмотря на свою видную и внушительную наружность, он был, в сущности, очень бедный молодой человек. Он отправился в Шенейм пешком (на этот раз уже не во сне, а наяву). Он вышел из дому в пять часов вечера, прихватив на ужин бутерброд с ветчиной, и зашагал по железнодорожному полотну, и холодные шпалы отдавались гулким эхом под его тяжелой поступью.
В Шенейм он пришел к восьми. Он был уверен, что в такой поздний час родители Лулу если и будут мешать им, то час, не больше. Его скорей всего оставят ночевать, а назойливой кузины Болдуин на этот раз не будет под боком.
Он постучался. Дверь открыл мистер Бейнс.
— А-а, брат Гентри! Что привело вас в наши края в столь поздний час? Заходите же, заходите!
— Да так, вздумалось прогуляться… очень уж заучился… Думал, если не прогоните, зайду погреться,
— Прогоню?! Ну знаете, брат, если б вы не зашли, я был бы просто в бешенстве! Наш дом — ваш дом, и для вас тут всегда найдется местечко за столом. Да, сэр! Ужинали? Что? Бутерброд? Чепуха. Мои женщины мигом вам что-нибудь сообразят. Они еще на кухне. Лу-лу!
— По-настоящему не надо бы заходить… так далеко до города и так уж поздно… И что я только забрел в такую даль!..
— Вы сегодня из этого дома не уйдете, брат Гентри! Вы ночуете у нас!
Лулу увидела его, и зачарованный взгляд ее сказал: «И весь этот долгий путь ты прошел ради меня?» Она была еще прекрасней, еще желанней, чем в его мечтах.
Согревшись, опьянев от сытной еды и от похвал, он сидел с ними в гостиной, рассказывая более или менее правдоподобные эпизоды из истории своей борьбы за веру в штате Канзас, пока мистер Бейнс не начал зевать.
— Смотрите-ка, уже десять минут десятого! И как это мы так засиделись? Не пора ли на боковую, мать?
Элмер отважно ринулся в атаку.
— Вы себе идите спать, пожалуй, а мы, молодежь, еще посидим, поболтаем. В будние дни я не священник, я только студент, разрази меня гром!
— Что ж… Если только это, по-вашему, день… По-моему, это скорей уж будняя ночь, брат!
Все рассмеялись.
Она очутилась на диване в его объятиях раньше, чем отец ее успел, зевая и кряхтя, подняться по лестнице; она лежала в его объятиях и в полночь, безвольно, бездумно; в два часа ночи после долгого молчания в остывающей комнате она торопливо поднялась и пригладила свои растрепанные волосы.
— Ах, как страшно! — жалобно всхлипнула она.
Он потянулся погладить ее, успокоить, но ему уже и самому было не по себе.
— Но это неважно… Когда мы поженимся? — шепнула она.
И тут последние остатки мужества покинули его. Он похолодел от ужаса.
Правда, когда он мечтал о Лулу, у него раз или два мелькала эта мысль, как бы не пришлось на ней жениться; но он решил, что ранний брак помешает его карьере и что, во всяком случае, ему вовсе ни к чему жениться на этом безмозглом цыпленке, который, разумеется, не сможет произвести нужного впечатления на богатых прихожан.
Но в порыве страсти всякая осторожность была забыта, и теперь ее вопрос прогремел для него, как гром среди ясного неба. Гнуснейшее осложнение! Мысли эти вихрем пронеслись у него в голове, пока он мямлил, запинаясь:
— Я… мы… пожалуй, сейчас еще рано решать. Надо подождать, пока я получу диплом, осмотрюсь, устроюсь в хорошем приходе…
— Да, может быть, ты и прав, — смиренно ответила она своему избраннику, самому лучшему, самому ученому, самому сильному и, безусловно, самому интересному человеку из всех, кого она знала на свете.
— Так что ты никому ничего не говори, Лу. Даже родителям. Ты вот поняла, а они могут и не понять, как трудно священнику первый раз получить сносный приход.
— Хорошо, дорогой. Поцелуй меня!
И, прежде чем сбежать к себе в комнату, пришлось еще целовать ее без конца в этой жуткой, холодной гостиной.
Он сел на кровать, убитый, жалкий. «Ах ты, черт побери! — сокрушался он. — Не надо было заходить так далеко! Так ведь думал, она хоть будет сопротивляться… А-ах! И стоило рисковать… Бр-р! Она глупа, как телка! Бедняжка! — От сознания собственного великодушия он снова смягчился. — Жаль ее. Но, господи, какая она тряпка!.. Сама же виновата по-настоящему… Но все-таки… Фу ты! Какого ж я дурака свалял! Ну, что ж, мужчина должен найти в себе смелость посмотреть правде в лицо и честно признать свои ошибки. Я и признаю. Я себя не оправдываю. Я не боюсь признаться в своих ошибках и раскаяться».
И так он в конце концов смог лечь спать, восторгаясь своей добродетелью и почти простив Лулу.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
I
Страстные ласки Лулу, горделивое сознание, что у него теперь свой собственный приход в Шенейме, радость при виде того, как надрывается Фрэнк Шаллард, работая рычагами дрезины, — все это не могло развеять скуку, которой с понедельника до пятницы Элмер томился в семинарии — скуку, которую всю жизнь обречены терпеть священнослужители, кроме тех немногих сельских пасторов, что увлекаются спортом, да еще настоятелей больших, напоминающих фабрики церквей, связанных с благотворительными заведениями, училищами и мастерскими.
Он нередко подумывал о том, чтобы отказаться от духовной карьеры и поступить на службу в какую-нибудь фирму. Поскольку елейные речи и внушительные манеры могли пригодиться не только в церкви, но и в конторе, он уделял сугубое внимание занятиям, которые вел мистер Бен Т. Бонсок, «Профессор Ораторского Искусства и Литературы, Специалист по Постановке Голоса». У него Элмер научился вкрадчивой и в то же время твердой, как сталь, манере вести себя с прихожанами, научился не допускать грубых грамматических ошибок в публичных выступлениях и узнал, что ссылки на Диккенса, Виктора Гюго, Джеймса Уиткомба Райли[55], Джоша Биллингса[56] и Микеланджело придают проповеди очень шикарный, столичный тон.
Красноречие Элмера разрасталось и наливалось соком, как августовская тыква. Он уходил в лесок и практиковался. Однажды на него наткнулся какой-то мальчишка. Элмер стоял на пеньке посреди просеки и приветствовал мальчугана грозным рыком: «Я обличаю всю мерзость вашей сладострастной и похотливой… э-э… похоти!» И мальчишка с воем убежал, навеки утратив беззаботную резвость, отличавшую его доселе…
В те минуты, когда Элмер начинал верить, что все-таки сможет удержаться на торной, но нудной тропе священнослужителя, он уделял внимание и лекциям декана Троспера по практическому богословию и гомилетике. Доктор Троспер учил будущих слуг божьих, что говорить у одра больного, как избежать неприятных последствий близкого знакомства с церковными хористками, как привести в систему поучительные и смешные анекдоты, чтобы не забыть их ненароком, как готовиться к проповеди, когда тебе нечего сказать, а также в каких руководствах можно найти наилучшие, многократно уже проверенные конспекты проповедей и главное — как заставить свою паству раскошелиться.
Тетрадь Эдди Фислингера с лекциями по практическому богословию (перед экзаменами Элмер считал ее также и тетрадью Элмера Гентри) была исписана от корки до корки такими ценными указаниями:
«При посещении прихожан:
Никому не отдавать предпочтения перед другими.
Не пренебрегать домашней прислугой, быть любезным.
Сдержанная беседа, приятные манеры. Можно посмеяться, при случае — забавный анекдот, но никаких сплетен, никакой критики в адрес других.
Сидеть не более 15–30 минут.
Спросить, хотят ли помолиться вместе, не настаивать.
Помни: не пропускать удобных случ. — болезни, несчастья, свадьбы и т. п.
Спросить шутливо, почему супруг редко ходит в церковь».
К курсу гимнологии Элмер относился без особого отвращения, лекции по толкованию Нового завета, истории церкви, богословию, истории миссий и сравнительному изучению религий он терпел стоически и проклинал от всего сердца. Кому какое дело до того, что Адонирам Джадсон[57] стал баптистом после того, как прочел Новый завет на греческом языке? К чему вся эта болтовня о пророчествах, якобы скрытых в апокалипсисе? Он-то, ведь не собирается упоминать эту напыщенную дребедень в своих проповедях! Какое идиотство думать, что кому-то понадобится история этого богословского спора о «filioque»[58]!
Преподаватели Нового завета и истории церкви были некогда священниками, однако впоследствии восхищенные их талантами и умирающие от скуки столичные приходы избавились от них путем перевода на более высокую должность. Тому и другому вежливые церковные старосты заявили: «Мы полагаем, брат, что вы созданы скорее для ученой, нежели пасторской деятельности. Вы истинный ученый. Мы нажали все пружины, чтобы добиться для вас достойного места — профессорской кафедры в одной из баптистских семинарий. Правда, платить вам будут, возможно, несколько меньше, зато это именно то почетное положение, которого вы, безусловно, заслуживаете. Да и работа, как говорится, куда легче».
Ученые мужи с благодарностью приняли предложение и теперь коротали свой век, вещая избитые истины, сладко подремывая и бормоча зевающим студентам чахлую и многословную книжную премудрость, именуемую ими наукой.
Но более всего раздражали Элмера лекции доктора Бруно Зеклина, преподавателя греческого и древнееврейского языков, а также истории Ветхого завета.
Бруно Зеклин был доктором философии Боннского университета и доктором богословия Эдинбургского. Он был одним из десятка настоящих ученых, которых можно было насчитать во всех духовных учебных заведениях Америки, а кроме того, он был совершеннейшим неудачником. Он читал лекции, запинаясь, писал туманно, непонятно, он не умел разговаривать с господом богом так, словно был его близким знакомым, и не мог заставить себя дружески обращаться с тупицами.
Мизпахская семинария принадлежала к правому крылу баптистской церкви, представляя то течение, которое лет двадцать спустя стало известно под названием «фундаментализм»; и в Мизпахской семинарии доктор Зеклин слыл еретиком.
К тому же он носил языческую рыжеватую немецкую бородку и родился он не в Канзасе и не в Огайо, а в городе с нелепым названием Франкфурт.
Элмер презирал его — презирал за бородку; за горячее увлечение древнееврейским синтаксисом; за то, что он не мог дать молодым честолюбивым пророкам ни одного полезного житейского совета; за то, наконец, что он словно с каким-то особенным удовольствием проваливал Элмера по греческому, когда Элмер плел отсебятину так храбро и отчаянно, что на него просто жаль было смотреть.
А Фрэнк Шаллард любил доктора Бруно Зеклина — любил только его одного из всех преподавателей семинарии.
II
Отец Фрэнка Шалларда был баптистский священник, человек мягкий, большой книголюб и умеренный либерал, добившийся известного успеха в жизни; мать была из довольно захудалой семьи родом из Мэн-Лайн. Фрэнк родился в Гаррисбурге и воспитывался в Питсбурге — так сказать, под сенью церковных шпилей, впрочем, достаточно благодатной и мирной в его случае, хотя отец его и затягивал семейные молитвы и поучал чад своих избегать мирских соблазнов, к которым относил танцы, театр, а также непристойные сочинения господина Бальзака.
Сначала дома шли разговоры о том, чтобы послать Фрэнка в Браунский или Пенсильванский университет, но когда ему минуло пятнадцать лет, отцу дали богатый приход в Кливленде, — а христианские откровения, сокрытые в Плавте[59] и Гомере, в таблице умножения, баскетболе и истории французской революции открыл Фрэнку Оберлин-колледж, штата Огайо.
Фрэнк был, в сущности, прирожденным поэтом и, как нередко случается с поэтами, отличался логическим складом ума и тягой к наукам. И то и другое — его воображение и его разум — поглотила религия, и такая религия, которая всякое сомнение почитала не только грехом, но, что гораздо хуже, признаком дурного вкуса. Душевная чуткость, которая могла бы привести его к розам и стихам, к боевым знаменам и геройской удали или состраданию к обездоленным труженикам, была отдана преклонению пред устрашающим величием Иеговы иудеев, пред мечтательной кротостью спасителя. Душа его была очарована сказками о рождении Христа, легендами, яркими, как эмалевые цветы: волхвы в драгоценных уборах, пастухи у кочевого костра, мерцающие звезды и младенец в яслях…
В смятении блуждал его дух средь загадок Апокалипсиса, словно Алиса в стране чудес[60] под маской дракона. Разум его был скован богословием, более того: все свои знания он почерпнул только из книг, не из общения с трудящимся людом. Великодушный, но требовательный, он был одинок в колледже. Шумный смех и брань товарищей раздражали его.
Он стремился проникнуть в глубь человеческой души, ибо не хотел и не мог рассматривать человека только как млекопитающее. Он скорбел о том, что греховные и страждущие души не стремятся обрести исцеление в мистическом процессе, именуемом Верой, Раскаянием и Спасением, который — так уверяли его лучшие и ученейшие умы — способен врачевать всяческую боль. Правда, его личный опыт не совсем это подтверждал. Даже после того, как он с восторгом предался душою вере, он ловил себя на том, что чувствует глубокую и немую ярость при виде того, как сверстники по-прежнему нагло разглядывают украдкой гибкие фигуры девушек. Впрочем, это, как он себя уверял, происходило только оттого, что он еще не достиг совершенства.
Были и сомнения. Привычка ветхозаветного бога требовать кровавого умерщвления всякого, кто не хотел ему льстить, представлялась Фрэнку не слишком человеколюбивой. Он спрашивал себя также, действительно ли сладострастные гимны «Песни Песней» воспевают любовь Христа и церкви. Стоит только вспомнить распри между Оберлинским духовенством и священниками из баптистской церкви на Миллер-авеню в Кливленде, Огайо! Не похоже! А вдруг Соломон имел в виду отношения между существами куда более земными и легкомысленными?..
Все силы своего ума Фрэнк, однако, направлял не на то, чтобы как следует разобраться в причинах своих сомнений и сделать выводы, а на то, чтобы разобраться в самих сомнениях и уничтожить их. Он считал аксиомой, что сомнение есть зло, и безжалостно убивал его в себе, проявляя при этом недюжинную изобретательность.
Что он будет священником, всегда подразумевалось само собой. Ему, правда, не посчастливилось так явственно и с таким экстазом услышать Глас Божий, как это произошло с Элмером Гентри, однако он с самого начала знал, что ему суждено всю жизнь грызть различные теории касательно евхаристии[61] и указывать людям путь к не обозначенным ни на одной карте вершинам, именуемым Праведностью, Идеалами, Честью, Жертвенностью, Красотою и Спасением души.
Вьющиеся льняные волосы, чистая кожа, прямой нос, ясные глаза, горделивая осанка — он был красивым юношей, этот Фрэнк Шаллард, двадцатитрехлетний студент Мизпахской семинарии.
Он был любимцем декана Троспера, любимцем преподавателя толкования Нового завета; он держался почтительно, получал прекрасные отметки, исправно посещал занятия. Но истинным своим учителем он признавал косноязычного, заикающегося Бруно Зеклина, этого бородатого поборника древнееврейского синтаксиса, эту вероятную жертву немецкого пива и немецкого рационализма. И единственным на курсе студентом, которого доктор Зеклин дарил своею дружбой и доверием, был Фрэнк Шаллард.
В первый год пребывания Фрэнка в Мизпахской семинарии они с доктором Зеклином были любезны друг с другом — и не более того; они присматривались друг к другу, уважали друг друга и оставались чужими. Фрэнк робел в присутствии такого ученого человека, и в конце концов Зеклин первый предложил ему свою дружбу. Он был одинок, жены у него не было, а что касается коллег, то одни из них внушали ему презрение, другие — страх. В особенности не любил он, когда энергичные, длинноногие и громогласные пасторы из глуши величали его «брат Зеклин».
В начале второго курса на лекции по истории Ветхого завета Фрэнк внезапно обратился к доктору Зеклину с вопросом:
— Профессор, не объясните ли вы мне одно явное противоречие в библии? В евангелии от Иоанна — где-то в первой главе, по-моему, — сказано: «Ни один человек никогда не зрел господа». И в евангелии от Матфея тоже определенно говорится про бога, «которого ни один человек не зрел и не может узреть». А между тем в «Исходе»[62] — глава двадцать четвертая — Моисей[63] и еще более семидесяти человек видели бога стоящим на тверди. Исайя и Амос тоже утверждают, что видели его. Бог даже нарочно сделал так, чтобы Моисей увидел часть его. И вот еще: господь сказал Моисею, что никто не может узреть его лицо и остаться в живых, но вот Иаков даже боролся с богом, видел его лицом к лицу и все-таки остался жив. Не думайте, профессор, я не хочу сеять сомнения, просто мне кажется, тут есть какая-то неувязка, и очень хотелось бы найти подходящее объяснение этого.
Доктор Зеклин поглядел на него со странной, неопределенной улыбкой.
— Что вы понимаете под словом «подходящее», Шаллард?
— Такое, которое мы сами могли бы потом давать молодым людям, охваченным сомнениями.
— Видите ли, это довольно сложный вопрос. Если б вы сегодня после ужина заглянули в мой дом, я попытался бы вам его разъяснить.
Но когда Фрэнк несмело явился к нему (доктор Зеклин преувеличивал, говоря «мой дом»: он занимал одну-единственную заваленную книгами комнату с альковом, служившим ему спальней, в доме какого-то остеопата), профессор даже и не попытался что-либо объяснить. Сначала он осторожно выяснил, как Фрэнк относится к курению, потом предложил ему сигару и, устроившись поглубже в старом кресле, осведомился:
— Не сомневались ли вы когда-нибудь, Шаллард, в правильности буквального толкования нашего Ветхого завета?
Голос его звучал мягко, очень задушевно.
— Не знаю. Да, вероятно. Только мне не хотелось бы назвать это сомнением…
— Почему же нет? Сомнение — здоровый симптом, в особенности у молодых. Разве не ясно, что иначе вы будете просто глотать все, что вам ни скажут преподаватели. А ведь ни один наставник в мире, поскольку он всего лишь смертный, не может быть всегда только прав, не так ли?
Так и началась эта беседа — сначала осторожная, но постепенно все более откровенная, беседа, которая затянулась до полуночи. Доктор Зеклин дал ему (с условием не показывать никому) ренановского[64] «Иисуса» и «Религию зрелого ума» Коу[65].
Потом Фрэнк пришел к нему снова, и они гуляли вдвоем по благоухающим яблоневым садам, даже не замечая очарования золотой осени, всецело поглощенные размышлениями о судьбах человека и его жадных богах.
Только через три месяца Зеклин признался, что он агностик, и не ранее, чем еще через месяц, что, пожалуй, еще более, чем слово «агностик», к нему применимо слово «атеист».
Задолго до того, как получить степень доктора богословия, Бруно Зеклин понял, что безоговорочно принимать на веру мифы христианства так же невозможно, как верить букве буддистских мифов. Однако в течение многих лет он пытался примирить свои еретические воззрения с религией. Эти мифы, утешал он себя, только символы славы господней и величия гения Христова. Он даже выработал себе такую удобную схему: человек, понимающий все буквально, утверждает, что флаг есть предмет священный, достойный того, чтобы принять за него смерть, — священный не как символ, а просто сам по себе. Неверующий же, стоящий на другом полюсе, говорит, что флаг — это лишь лоскут шерсти, шелка или ситца с довольно безвкусным узором, гораздо менее полезный, а потому и менее священный и романтический, чем даже, скажем, рубашка или одеяло. И только беспристрастный мыслитель — такой, как он сам, — поймет, что флаг — это символ, священный лишь тем, что он олицетворяет, но оттого все-таки не менее священный.
Но вот прошло почти два десятка лет, и он понял, что все время обманывал себя, что он вовсе не признает Иисуса Христа единственным духовным вождем; что учение Христа не только полно противоречий, но и вообще во многом заимствовано у более древних иудейских мудрецов. И что если учение Христа является знаменем, символом и философией горланов-проповедников, которых он встречал на каждом шагу и которых терпеть не мог, значит, для него оно неизбежно становится знаменем и символом его врага.
И тем не менее он продолжал оставаться баптистским священником и наставником будущих пасторов.
Он пытался объяснить это Фрэнку Шалларду так, чтобы все выглядело не слишком постыдно.
Прежде всего, говорил он, всякому человеку вообще, а шестидесятипятилетнему педагогу в особенности, трудно отречься от философии, которой он всю жизнь учил других. Чего бы тогда она стоила, эта самая жизнь?..
Кроме того, он действительно любит бродить по лабиринтам богословия.
И, наконец, признался он (когда они уже брели домой в зимних сумерках), он боится объявить о своих истинных взглядах еще и потому, что его просто-напросто выгонят со службы.
Он настоящий ученый — да, но никудышный проповедник, так что ни одна либеральная религиозная община его на эту роль не возьмет. А так как он не обладает изящным слогом, то и в журналисты тоже не годится. Стало быть, за пределами мира религиозного паразитизма (его собственное выражение) он не способен заработать ни гроша. Если бы его выкинули из Мизпахской семинарии, ему бы оставалось только умирать с голоду.
— Вот так-то, — сказал он мрачно. — Мне было бы очень горько, Фрэнк, если бы и вам пришлось пройти через все это.
— Но… но что же мне делать, доктор Зеклин? Вы думаете, мне лучше отказаться от церкви? Прямо сейчас, пока еще не поздно?
— Вы всю жизнь жили церковью. Без нее вам, наверное, будет очень одиноко. Быть может, вам стоит остаться… чтобы разрушить ее!
— Но разве вы хотите, чтобы ее разрушили? Даже если некоторые частности учения — допустим, даже все — ложь, подумайте, все же какое огромное утешение приносят религия и церковь слабым людям!
— Так ли? Сомневаюсь! Разве беззаботным атеистам, знающим, что умрут они — и делу конец, — разве им не легче живется, чем добрым баптистам, которые все время волнуются: а что, если их сыновья, родственники или возлюбленные, чего доброго, не попадут в баптистский рай? Или — что еще хуже — беспокоятся, как бы не прогадать им с господом богом: а вдруг он никакой не баптист, а католик или мормон, а может, и адвентист седьмого дня?.. Тогда они сами попадут в ад! Утешение? О нет! Но… оставайтесь. Пока сами не захотите уйти.
И Фрэнк остался.
III
К старшему курсу он прочел уже много запрещенных книг из библиотеки доктора Зеклина. Прочел «Примитивные черты в религиозном возрождении» Девенпорта, в которой утверждалось, что истерические выкрики с пеной у рта, припадки и судороги во время молитвенных собраний не более «священны», чем любое проявление религиозного исступления у варваров; прочел труды Додса и Сандерленда о происхождении библии, в которых говорилось, что библия не более божественна и непогрешима, чем творения Гомера, прочел «Пророка из Назарета» Натаниэля Шмидта[66] — книгу, перевернувшую прежние представления о жизни Христа; прочел «Историю борьбы науки с богословием» Уайта, в которой религия изображается врагом, а не пособником прогресса. Этот студент баптистской семинарии был типичным представителем тех самых «загубленных атеистическими учениями молодых людей», которых так любили изображать баптистские журналы.
И все-таки он не уходил.
Он цеплялся за церковь. Это была его родина, а он был патриот. С тяжелым сердцем он строил неопределенные, оторванные от действительности планы о том, чтобы посвятить свою жизнь так называемому «оздоровлению церкви изнутри».
Для него было истинным облегчением испытать после всей этой мучительной софистики такое простое, сильное и цельное чувство, как ненависть к брату Элмеру Гентри.
IV
Фрэнк всегда недолюбливал Элмера: его ограниченность, его дешевый лоск, его сальные шуточки и полную неспособность понять хотя бы простейшую отвлеченную мысль. Но такое чувство, как ненависть, было, вообще говоря, ему не свойственно, и когда они вместе с Элмером отправились к своей пастве в Шенейм, он, пожалуй, готов был даже любоваться Элмером, возбужденным, раскрасневшимся, — великолепным образчиком грубой и мужественной силы.
Лулу Бейнс казалась Фрэнку фарфоровой куклой, которую он был готов опекать, как любую десятилетнюю девчушку из своей воскресной школы. Он видел, как у Элмера все тело напрягается при появлении Лулу. Видел — и ничего не мог поделать.
Он боялся, что если поговорит с мистером Бейнсом или даже с Лулу, то Элмера сгоряча могут заставить жениться на ней, а Фрэнк, тот самый Фрэнк, который всю жизнь верил в «священный институт брака», внезапно понял, что такому резвому жеребенку, как Лулу, лучше уж пуститься во все тяжкие на воле, чем дать себя запрячь в грязный плуг Элмера.
На рождество отец и мать Фрэнка уехали в Калифорнию, и он провел праздники у доктора Зеклина. Они отпраздновали сочельник вдвоем — получился чудесный, радостный и в высшей степени немецкий Weihnachtsabend[67]. Зеклин раздобыл гуся, уговорил жену своего остеопата его зажарить, нашпиговать и испечь на закуску блинчики с брусничным вареньем. Он сварил пунш — и отнюдь не баптистский; пунш пенился, божественно благоухал и нагонял на Фрэнка радужные видения.
Они сидели в старых креслах по обе стороны круглой печки и, мерно помахивая в такт бокалами с пуншем, пели:
Stille Nacht, heilige Nacht…[68]— Да, да, — размышлял вслух старик. — Вот о таком Христе я мечтаю до сих пор — мальчике с сияющими волосами, о милом немецком младенце Христе из чудесной волшебной сказки… А ваши Тросперы превращают Иисуса в чудовище, ненавидящее юность и смех — Wein, Weib und Gesang. Der Arme![69]. He повезло ему, бедняге Христу, что старины Троспера не было с ним на свадебном пиру в Кане Галилейской и некому было объяснить ему, что нельзя превращать воду в вино. Кхе! Кхе! Да… а, может быть, я все-таки и не так уж стар, чтобы завести себе маленькую ферму с большим виноградником, с десятком любимых книг…
V
Элмер Гентри постоянно изощрялся в остроумии по адресу доктора Бруно Зеклина. То назовет его «старым пьянчугой», то ввернет в разговоре: «Кому же и преподавать древнееврейский, как не этой старой вороне! Он и сам-то словно вылез из еврейской книги!» О да, он умел отпустить подобную шуточку, этот Элмер Гентри; а поддержка Эдди Фислингера, который то и дело нашептывал всем в коридорах и уборных, что у Зеклина не хватает одухотворенности, вдохновила Элмера на создание нижеследующего шедевра.
Перед лекцией по истории Старого завета он, изменив почерк, написал на доске:
«Я пьянчуга Зеклин, я знаю больше, чем сам господь бог. Если бы Джейк Троспер пронюхал, что я на самом деле думаю о священном писании, он бы давно надавал мне по моей грязной немецкой шее и выгнал вон».
Студенты входили в аудиторию и дружно гоготали; ржал даже сам доморощенный Кальвин — неповоротливый, громадный брат Каркис.
В класс, семеня ножками, улыбаясь, вошел доктор Зеклин. Прочел надпись на доске. Лицо его выразило сначала недоумение, потом — испуг. Он близоруко оглядел своих студентов, словно старый пес, в которого бросают камнями хулиганы. Потом он повернулся и вышел под хохот брата Гентри и брата Каркиса.
Каким образом слух об этом происшествии дошел до декана Троспера, остается неизвестным.
Декан вызвал к себе Элмера.
— Я подозреваю, что это вы писали на доске.
Элмер решил было соврать, но внезапно передумал.
— Да, господин декан, это я, — выпалил он. — Потому что это стыд и срам… Я не говорю, что достиг вершин христианского совершенства, но я, во всяком случае, стараюсь. И, по-моему, это просто позор, что наш преподаватель, профессор духовной семинарии, старается поколебать в нас веру насмешечками да двусмысленными намеками. Я лично считаю вот так!
— Ну, вам-то лично, я думаю, нечего тревожиться, брат Гентри! — желчно отозвался декан Троспер. — Кто ж это способен вам указать новый путь ко греху?.. Однако в ваших словах, быть может, и есть доля истины. Ступайте и не грешите более. Я верю все-таки, что когда-нибудь вы повзрослеете и используете вашу кипучую энергию на благо многих, быть может, и вас в том числе. Можете идти.
На пасху доктору Бруно Зеклину без всякого объяснения предложили подать в отставку. Он поселился у своей племянницы. Племянница была бедна, любила играть в бридж; он был нежеланным гостем в ее доме. Он зарабатывал немного переводами с немецкого. Года через два он умер.
Элмер Гентри так и не узнал, кто это и зачем прислал ему тридцать серебряных десятицентовых монет, завернутых в брошюрку, трактующую о святости. Впрочем, отдельные выдержки из трактата вполне могли пригодиться для проповеди, а на тридцать серебряных монет он накупил фотографий веселых девиц в весьма фривольных позах.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
I
Нельзя сказать, чтобы отношения между братом Гентри и братом Шаллардом перед рождеством отличались особой сердечностью даже во время совместных трудов на дрезине, которые, казалось бы, могли настроить обоих на более дружеский лад.
Однажды, пыхтя над рычагами на обратном пути из Шенейма, Фрэнк сказал:
— Слушай, Гентри, надо что-то предпринимать. Опять не нравится мне эта твоя история с Лулу. Я вижу, как вы с ней переглядываетесь. И потом — сильно подозреваю, что это ты донес декану на доктора Зеклина. Боюсь, придется мне самому сходить поговорить с деканом. Не годишься ты в пасторы.
Злобно взглянув на Фрэнка, Элмер выпустил рычаг и потер руки в варежках о бедра.
— Я этого разговора ждал, — спокойно произнес он. — Я — человек увлекающийся, допустим. Я совершаю серьезные ошибки — какой нормальный мужчина их не совершает? Ну а ты? Я не знаю, далеко ли ты зашел в своем гнусном неверии, но не волнуйся, я слышал, как. ты жмешься и мнешься, когда тебя о чем-нибудь спрашивают дети в воскресной школе! Я знаю, что ты уже нетверд в вере. Недалек тот день, когда ты станешь отъявленным вольнодумцем. Господи! Подумать только — подрывать устои христианской религии, отнимать у слабых, мятущихся душ единственную надежду на спасение! Да ты преступник страшнее самого страшного убийцы!
— Это неправда! Я скорей умру, чем отниму веру у того, кто в ней нуждается!
— Значит, тебе просто-напросто не хватает ума понять, что ты творишь, и тебе не место на кафедре христианской церкви. Это мне нужно сходить поговорить с папой Троспером! Да взять хотя бы эту девушку, которая пришла к тебе сегодня, пожаловалась, что ее отец отлынивает от семейной молитвы! Ты ей что сказал? Что это, мол, не так уж важно! А может, ты как раз этим и толкнул бедную девушку на скользкий путь сомнений, что ведет к вечной погибели!
И всю дорогу до Мизпахской семинарии Фрэнк, волнуясь, объяснял и оправдывался.
А когда они вернулись в Мизпахскую семинарию, Элмер милостиво разрешил Фрэнку отказаться от своего места в Шенейме и посоветовал не пытаться искать себе места в другом приходе, пока он не раскается и не умолит святого духа наставить его на верный путь.
Элмер сидел в своей комнате, упиваясь праведным торжеством. Он так вошел в свою роль, что только через несколько минут сообразил, что Фрэнк больше не будет мешать его отношениям с Лулу Бейнс.
II
До наступления марта Элмеру раз двадцать удавалось встречаться с Лулу в ее собственном доме, в заброшенном бревенчатом сарае, в церкви. Но ее доверчивый лепет начинал уже надоедать ему. Даже ее обожание стало раздражать его: она постоянно и безудержно щебетала одно и то же. В любви она также была крайне неизобретательна. Ее поцелуи всегда были одинаковы, и от него она ждала таких же.
К началу марта он уже был сыт ею по горло, а она была так безгранично предана ему, что он начинал подумывать, не придется ли ему бросить Шенеймский приход, чтобы отвязаться от нее.
Он чувствовал себя несправедливо обиженным.
Никто не мог обвинить его в бессердечном обращении с девушками. Он даже не презирал их, как, бывало, презирал Джим Леффертс. Он многому научил Лулу, помог ей преодолеть ее провинциальную ограниченность; показал, что можно быть религиозным человеком и все-таки весело проводить время — надо только правильно смотреть на вещи и понимать, что проповедовать высокие идеалы, конечно, необходимо, но нельзя же требовать от человека, чтобы он на каждом шагу неукоснительно следовал им в повседневной жизни. В особенности, когда он молод. И разве он не подарил ей браслет, который стоил целых пять долларов?
Но она оказалась такой безмозглой дурой! Ни за что желала понять, что наступает момент, когда мужчине хочется отдохнуть от всех этих поцелуев, обдумать план воскресной проповеди, подзубрить этот подлый греческий. В сущности, возмущенно размышлял он, она его обманула. Он-то ведь считал, что имеет дело с милой, покладистой, уравновешенной девчуркой, с которой приятно позабавиться и которая не станет ему надоедать, когда его призовут более серьезные дела. А оказывается — вот тебе и раз: страстная натура! Поцелуи ей, видишь ли, подавай. Целуешься час, целуешься два — да сколько же можно! Его уже тошнит от поцелуев! Так и тянутся к тебе все время эти губы, то лезут к руке, то чмокают в щеку — и именно в тот момент, когда тебе хочется поговорить…
Она посылала ему в Мизпахскую семинарию слезливые записочки. А что, если они попадутся кому-нибудь на глаза? Хорошенькое дело!.. Она писала, что живет только от встречи до встречи, мешала ему, отвлекала его внимание от серьезных дел. Она влюбленно пялила на него свои глупые, нежные, сентиментальные глаза во время проповеди и начисто портила ему весь стиль. Она изводила его донельзя, и, значит, ему не остается ничего другого, как только от нее избавиться.
Неприятно, конечно, очень! Он всегда поступал с женщинами по-человечески — да и вообще со всеми. Но что поделаешь: надо — не только ради себя, а и ради нее самой…
Придется обойтись с ней покруче, так, чтобы она обиделась.
III
Они были одни в Шенеймской церкви после утренней службы. Она шепнула ему в дверях:
— Мне нужно сказать тебе кое-что.
Он испугался.
— Нехорошо, что нас так часто видят вдвоем, — буркнул он. — Ну да ладно… Когда все уйдут, ты незаметно вернись.
Он сидел на передней скамье в опустевшей церкви, читая, за неимением лучшего, церковные гимны. Она подкралась к нему сзади и поцеловала в ухо. Он подскочил, как ужаленный.
— О господи! — прорычал он. — Как можно так пугать людей? Ну, что ты мне там хотела сказать?
Она с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться.
— Я думала, что ты обрадуешься. Просто хотелось подойти потихоньку и сказать, что я тебя люблю!
— Да, но, боги великие, зачем же было вести себя так, словно ты беременна или — я уж не знаю что еще?..
— Элмер!
Так вот чем обернулась ее лукавая, нежная шалость! Она была так больно задета, так ошеломлена неприличным, по ее провинциальным понятиям, словом, что не смогла даже рассердиться как следует.
— Да, но ведь это правда! Зачем-то заставила меня торчать здесь, когда мне срочно надо обратно в город — важное собрание… И так приходится одному надрываться на дрезине! Ну, нельзя же вечно разыгрывать из себя десятилетнюю крошку!
— Элмер!
— А-а, да что там: Элмер, Элмер! Все очень мило и хорошо, я не прочь пошалить и подурачиться, как и любой другой, но это уж чересчур… Одно и то же — да сколько можно!
Она обежала скамью, встала перед ним на колени и, положив ему на колено свою детскую ручку, залепетала, по-детски коверкая слова — ух, как он ненавидел это сюсюканье!
— О-ох, какой селдитый сталый медведь! Какой нехолосый! Селдится на Лулусиньку!
— Лулусиньку?! О господи, вот дьявольщина!
— Что ты сказал, Элмер Гентри? — Теперь это была возмущенная преподавательница воскресной школы. Она отпрянула от него, не вставая с колен.
— Лулусиньку! Много я идиотского сюсюканья слышал в жизни — но это!.. Да говори ты по-человечески, ради Христа! И что ты тут расселась на полу? А если кто-нибудь войдет? Ты что, нарочно меня хочешь погубить?.. Лулусиньку!..
Она вскочила, прижала к груди кулаки.
— Что я такое сделала? Я же не хотела тебя рассердить! Правда, родной мой! Прости меня, пожалуйста! Просто пошутила — вроде как сюрприз!..
— Ха! Ничего себе сюрприз!
— Ну, милый мой! Ну, пожалуйста! Не сердись! Ведь ты же сам меня звал Лулусинькой.
— Я? Никогда!
Она молчала.
— А если и звал, так в шутку.
Смиренно, все еще пытаясь понять, в чем дело, она села рядом с ним и заговорила умоляюще:
— Я не знаю, что я такое сделала. Просто не понимаю. Может быть, ты бы объяснил мне? Пожалуйста! Чтобы я могла загладить свою вину…
— А, черт! — Он вскочил, схватил шляпу, нашарил рукою пальто. — Если не понимаешь сама, то и мне нечего терять время на объяснения! — И убежал с облегчением, но не слишком довольный собой.
Однако уже во вторник он поздравил себя за свою решимость.
Во вторник вечером от нее пришла записка с просьбой о прощении — отнюдь не лучший образец записок подобного рода: с помарками, орфографическими ошибками и к тому же довольно бессвязная — Лулу ведь и понятия не имела, за что, собственно, просит прощения.
Он не ответил.
Во время воскресной проповеди она не сводила с него глаз, готовая улыбнуться ему, но он старательно смотрел в другую сторону.
Пространно толкуя о прегрешениях Надава и Авиуда[70], возжегших чуждый огонь в своих курильницах, он думал, внутренне любуясь собственным благородством: «Бедная девочка. Жаль ее. Ей-богу, жаль».
Он видел, как после службы она замешкалась у выхода за спиною родителей, но, не попрощавшись с доброй половиной своих прихожан и не отпустив, соответственно, половины грехов, бросил на ходу старосте Бейнсу: «Виноват, страшно тороплюсь», — и помчался к железной дороге.
«Ах вот ты как! — бушевал он. — Ну, если ты меня, милочка, собираешься бесстыдно преследовать, то я с тобой поговорю иначе!»
Во вторник он ждал новой записки с извинениями, но ее не последовало; зато в четверг, когда он в самом благодушном, добродетельном и возвышенном настроении невиннейшим образом пил молочный коктейль в аптечной лавке Бомбери, неподалеку от семинарии, с удовольствием думая, что сочинение на тему о миссиях готово и что в кармане у него лежат две отличные пятицентовые сигары, он внезапно увидел ее. Она стояла на улице перед окном и в упор глядела на него.
Она казалась не совсем нормальной… Он встревожился.
— Неужели разболтала отцу? — простонал он.
В эту минуту он ненавидел ее.
Он храбро направился к выходу и в самой высокопарной манере изобразил свою радость по поводу того, что так неожиданно видит ее здесь, в городе.
— О-о, кого я вижу! Лулу! Какой приятный сюрприз! А где твой папа?
— Пошел с мамой к врачу: у мамы уши болят. Мы с ними условились встретиться в «Бостонском Базаре»… Элмер! — Голос ее звенел и дрожал, как натянутая струна. — Мне с тобой необходимо поговорить… Ты должен… Пойдем, пройдемся по улице.
Он заметил, что она нарумянилась. В 1906 году в среднезападной глуши румяниться было не принято. Лулу сделала это очень неискусно.
Стояла ранняя весна. Распускались, благоухая, первые мартовские почки, и Элмер со вздохом подумал, что, не будь она так навязчива и несносна, он, пожалуй, мог бы еще настроиться по отношению к ней на романтический лад… Они дошли до газона перед зданием суда, где стояла статуя генерала Шермана[71].
Элмер Гентри и Лулу в Шейнеме
Элмер Гентри
За время их знакомства Элмер сумел не только расширить словарь Лулу, но и в известной степени помочь ей преодолеть свою застенчивость. Поэтому она колебалась недолго: только несколько раз кокетливо взглянула на него снизу вверх, только разок попыталась просунуть свои пальчики под его руку (он нетерпеливо стряхнул их) и выпалила:
— Мы должны что-то предпринять. У меня, кажется, будет ребеночек.
— О господи боже мой! Проклятие! — отозвался преподобный Элмер Гентри. — И ты уж, конечно, все разболтала своим старикам?
— Нет, я ничего не рассказывала. — Она сейчас держалась спокойно, с достоинством — тем достоинством, на которое способен серый котенок, вывалявшийся в грязи.
— Ну, хоть это хорошо!.. Да, видимо, как-то придется действовать. А, дьявольщина!
Он начал торопливо соображать. Можно кое-что разузнать у веселых девиц, с которыми он водит знакомство в Монарке… А впрочем…
— Ну-ка постой! — прорычал он, резко поворачиваясь к ней. Они стояли на усыпанной толченым кирпичом дорожке сквера перед зданием суда, под чугунными крыльями ржавого Правосудия. — Да этого быть не может! Ты что это такое задумала мне навязать, а? Видит бог, я готов тебя поддержать и выручить чем только могу. Но дурачить себя я никому не позволю! С чего это ты решила, что ты беременна?
— Прошу тебя, дорогой, не говори этого слова!
— Хо! Скажи, пожалуйста! Вот еще! Ну-ну, выкладывай! С чего это ты взяла?
Она была не в силах взглянуть ему в глаза; она уставилась себе под ноги. И по мере того как она, заикаясь, бормотала о своих подозрениях, его благородное негодование разгоралось все сильней. Дело в том, что никто особенно не посвящал Лулу Бейнс в тайны физиологии, и было совершенно очевидно, что все свои убедительные доводы она просто придумала. Слезы текли по ее щекам, размазывая румяна, дрожащие пальцы были судорожно сжаты у подбородка; она беспомощно лепетала одно и то же:
— Ну, понимаешь… Я так плохо себя чувствую и… пожалуйста, милый, не заставляй меня объяснять подробно.
У него лопнуло терпение. Он схватил ее за плечо отнюдь не ласково.
— Лулу, ты лжешь. У тебя мелкая, лживая, подлая душонка! А я-то все не понимал, что это меня удерживает, мешает на тебе жениться! Теперь я знаю! Слава богу, что вовремя узнал! Ты лжешь!
— Нет, милый, не лгу. Умоляю тебя…
— Ну вот что! Я отведу тебя к врачу. Сию же минуту. Он скажет нам правду.
— Нет-нет! Нет! Пожалуйста, не надо! Я не могу!
— Это почему же?
— Прошу тебя…
— Ага! И это все, что ты можешь сказать в свое оправдание? А ну посмотри на меня!
Должно быть, они больно впились ей в плечо, эти его мясистые пальцы. Но он чувствовал себя праведником, одним из тех ветхозаветных пророков, которым поклонялась его секта. Наконец-то он нашел настоящий повод для того, чтобы поссориться с нею!
Она не поднимала глаз, как он ни стискивал ее плечо. Она только горько плакала.
— Значит, ты солгала?
— Да… Ах, дорогой мой, как ты можешь причинять мне такую боль? — Он снял руку с ее плеча и принял корректный вид. — Нет, я не про эту боль говорю! Плечо — это неважно! Ты всей мне делаешь больно! Так холоден со мной! Вот я и подумала: может быть, если бы мы поженились… Я бы сделала все, чтобы ты был счастлив! Я бы пошла за тобой повсюду! Пусть бы у нас был хоть самый крошечный и бедный домик…
— И ты… ты смеешь думать, что проповедник слова божия может жить под одной кровлей с лгуньей? О ты, ехидна, которая… А-а, дьявол, не буду говорить, как священник… Может быть, я с тобой поступил и не совсем хорошо, не отрицаю. Хотя, насколько я заметил, и ты была рада-радешенька удирать из дому и бегать тайком на свидания. Но когда женщина-христианка сознательно лжет мужчине, пытается обмануть его в лучших его чувствах… Нет, это уж слишком, как бы я ни был виноват сам! Никогда больше не смей со мной заговаривать. А если ты растрезвонишь отцу и вынудишь меня жениться, я… покончу с собой!
— Нет, я не расскажу! Честное слово!..
— Свой грех я смою горькими слезами, а ты, женщина, ступай и не греши более!
Он круто повернулся и большими шагами пошел прочь, не слушая ее жалкого лепета. Она сначала в отчаянии засеменила рядом, стараясь не отстать, потом остановилась, припав к стволу сикомора. Проходивший мимо приказчик из мелочной лавки насмешливо заржал.
В следующее воскресенье она не появилась в церкви. Элмер был так доволен, что стал подумывать, не назначить ли ей снова свидание.
IV
Староста Бейнс и его добрейшая супруга стали замечать, как бледна и рассеянна стала с некоторых пор их резвушка-дочь.
— Наверное, влюбилась в этого нового пастора. Ну, что же, не будем вмешиваться. Отличная партия! В жизни не видывал молодого священника с таким талантом! А говорит-то как! Словно по-писаному! — говорил староста, зевая и потягиваясь на пуховом и необъятном супружеском ложе.
И тогда к старосте явился встревоженный Флойд. Фермер-неудачник Флойд Нейлор приходился Бейнсам родственником. Это был долговязый парень лет двадцати пяти, сильный, как вол, глуповатый, но очень преданный. Он вздыхал по Лулу уже не один год. Нельзя сказать, что все это время он томился в одиночестве, с разбитым сердцем, благоговейно мечтая о ней. Просто он свято верил, что Лулу — самая красивая, самая интересная и самая умная девушка во всей вселенной. Лулу считала его дубиной, а староста Бейнс ни в грош не ставил его мнение о люцерне. При всем том он был своим человеком в доме, чем-то наподобие доброго соседского пса.
Бейнса Флойд нашел у амбара — староста чинил сломанную оглоблю.
— Послушайте-ка, кузен Барни, — буркнул он, — я что-то беспокоюсь насчет Лулу.
— А! Ну да, она вроде влюблена в этого нового пастора. Как знать, может, и поладят!
— Да, но брат Гентри — он-то в нее влюблен? Не знаю, что-то он мне не по душе, этот парень.
— Чепуха! Что ты понимаешь в священниках! Тебя и благодать-то не осеняла никогда. Ни разу по-настоящему даже во Христе не возродился.
— Это еще почему? Будьте покойны, возрождался не хуже вашего. Священники вообще-то — народ ничего. А вот этот Гентри… Понимаете, месяца два назад повстречался он мне с Лулу на дороге к школе: обнимаются, целуются — так, что только держись. Слышал, он ее называл «солнышко».
— Вот оно что! А точно это были они?
— Ручаюсь. Я как раз был с… э… в общем, со мной был еще один малый…
— Это кто ж такая?
— Неважно, роли не играет. Сидели мы в тени прямо под большим кленом, по эту сторону школы, а луна светила вовсю, Лулу с этим попом и прошли мимо — совсем близко, — вот как я от вас сейчас. Что ж, думаю, значит, скоро помолвка. Стал я держаться поближе к церкви; нет-нет да и останусь после службы. Раз как-то заглянул в окошко. Вижу: сидят прямо здесь, в первом ряду, милуются — да так, что уж после этого хочешь не хочешь, — женись. Я ничего не сказал — подожду, думаю: женится или нет? Конечно, Барни, это дело не мое, но только, вы же знаете, я Лулу всегда любил, и, сдается, надо бы выяснить: честную игру с ней ведет этот горлопан?
— Да, может, ты и прав. Я с ней поговорю.
Бейнс никогда особенно не присматривался к дочери, но Флойд Нейлор врать не любил. Староста ввалился в дом, нашел дочь у маслобойки — она стояла, бессильно уронив руки, — и зорко оглядел ее.
— Скажи-ка… хм-м… скажи мне, Лу, как у вас дела с братом Гентри?
— О чем ты?
— Обручились вы? Или собираетесь? Женится он на тебе, нет?
— Конечно, нет.
— Ухаживать-то за тобой ведь ухаживал?
— Нет, никогда!
— Никогда не обнимал, не целовал?
— Да нет же!
— Много себе позволял?
— Ничего он не позволял!
— А почему это ты в последнее время ходишь как в воду опущенная?
— Так просто, чувствую себя неважно. То есть я совсем здорова, конечно! Просто весна, наверное, действует…
Она опустилась на пол, уронила голову на маслобойку; тонкие пальчики ее выбивали нервную дробь на полу; она задохнулась от рыданий.
— Тише, Лу! Тише. Твой папа что-нибудь придумает.
Флойд ждал его во дворе.
В те времена и в тех краях нередко совершались церемонии, именуемые «свадьба под ружейным дулом».
V
Однажды вечером, когда преподобный Элмер Гентри читал в своей комнате в Элизабет Дж. Шматц-Холле иллюстрированный журнал, посвященный боксерам и певичкам, к нему без стука вошли двое дюжих мужчин.
— А-а, добрый вечер, брат Бейнс!.. Брат Нейлор! Какая приятная неожиданность! А я тут, знаете… Вы когда-нибудь держали в руках эту бульварную мерзость? Все об актрисках! Измышление самого дьявола! Думал вот в это воскресенье выступить с обличительным словом. Вы-то, надеюсь, не читаете такого… Не присядете ли, джентльмены? Вот, берите стул… надеюсь, вы такого никогда не читаете, брат Флойд, ибо по стопам…
— Вот что, Гентри, — не выдержал староста Бейнс, — мне желательно, чтобы вы сейчас позаботились о ваших собственных стопах и направили их к моему дому немедленно! Вы там крутили с моей дочкой, а теперь вы либо женитесь на ней, либо мы с Флойдом спустим с вас шкуру. И скажу честно: я еще не знаю, что я лично предпочел бы, так я к вам сейчас расположен.
— Иными словами, Лулу на меня наговорила, будто…
— Нет, Лулу-то ничего не сказала. Ей-богу, просто не знаю, надо ли позволять девочке выходить замуж за подобного типа… Но ничего не поделаешь, я должен спасать ее доброе имя, а после свадьбы мы с Флойдом уж сумеем позаботиться, чтобы вы ее не обижали. Словом, я уже пригласил на вечер всех соседей — сегодня же и объявим о вашей помолвке. Так что, давайте-ка облачайтесь в свой парадный костюм и айда за нами — да живо!
— Силой? Ну нет, не выйдет…
— Заходи с той стороны, Флойд! Только сначала я ему дам! А уж ты займешься тем, что останется.
Они двинулись на него с обеих сторон. Оба были ниже его и не так широки в плечах, но лица их были словно обтянуты жесткой дубленой кожей, глаза смотрели сурово…
— Вы верзила что надо, брат Гентри, но, верно, обрюзгли, практики давно не было. Размякли малость, — заметил староста Бейнс.
Кулак его скользнул вниз; еще ниже — к самому колену, плечо опустилось; вот он уже занес кулак, а Флойд внезапно завел Элмеру руки за спину, сжал как клещами…
— Ладно! Согласен! Женюсь! — взвизгнул Элмер. Он придумает, как расторгнуть помолвку. Он уже снова почти совсем овладел собою. — А теперь вы послушайте меня, друзья. Я люблю Лулу, собирался сделать предложение, как только окончу семинарию — уже меньше трех месяцев осталось — и получу приход. А вы тут, понимаешь, вмешиваетесь — и вся романтика насмарку…
— Еще бы, как бы не так! — с невыразимым презрением протянул Бейнс. — Приберегите красивые слова для Лулу. Поженитесь в середине мая — как раз хороший срок после помолвки, чтобы соседи не подумали чего дурного. А теперь одевайтесь! Повозка ждет на улице. Мы с вами обойдемся по-хорошему. Если будете обращаться с Лулу, как полагается, поласковей, чтобы снова была счастливой, может, мы с Флойдом и не убьем вас в первую брачную ночь. Там видно будет. И всегда будем к вам при посторонних со всем уважением, даже смеяться себе не позволим на ваших проповедях. Ну, поворачивайся, слышишь?
Одеваясь, Элмер отвернулся, чтобы справиться с собою и внезапно предстать перед ними, сияя самой очаровательной, мужественной и обезоруживающей улыбкой.
— Брат Бейнс, я хочу поблагодарить вас с кузеном Флойдом. Вы, конечно, совершенно неправы, думая, будто я собирался бесчестно обойтись с Лулу. Но я рад, сэр, слышите, душевно рад, что небо подарило ей таких преданных родственников! — Это заявление скорее озадачило, нежели пленило их, но он их окончательно сбил с толку, весело добавив: — И какие здоровяки! Я и сам не слабого десятка, — кстати, и тренируюсь гораздо больше, чем вы думаете, — но, пожалуй, с вами мне бы не справиться в два счета. Повезло старине Элмеру, что вы так и не достали его кулаком, брат Бейнс… Таким ударом мула с ног валят… И вы совершенно правы. Нет смысла откладывать свадьбу. Пятнадцатое мая — в самый раз подойдет, а теперь я только одно прошу: дайте мне поговорить с Лулу минут десять с глазу на глаз до того, как объявите о помолвке. А вы-то сразу заметите, сдержал я слово или нет — от родительского орлиного ока ничто не скроется.
— М-да… Мое орлиное око в последнее время что-то сильно подкачало. А вообще-то, думается, будет неплохо вам с ней перемолвиться словечком.
— Ну, так давайте пожмем друг другу руки — а? Пожалуйста!
Он был такой огромный, так сиял, так лучился простодушием!.. Бейнс с Флойдом стояли, растерянно ухмыляясь, — фермеры, которые клюнули на комплименты ловкого дипломата. Они пожали ему руку.
У Бейнсов было полно народу. На столе уже стояло угощение: жареные куры, соленые арбузы.
Староста привел Элмера в свободную комнату, привел Лулу, оставил их вдвоем.
Элмер развалился на диване; Лулу остановилась перед ним, дрожащая, с красными от слез глазами.
— Подойди сюда, бедная детка, — милостиво проговорил он.
Она, всхлипывая, шагнула ближе.
— Честное слово, дорогой, я папе ничего не говорила… и не просила ни о чем… И я… если ты не хочешь, я тоже не хочу.
— Ну, тише, тише, девочка. Все в порядке. Я уверен, что ты будешь славной женой. Садись-ка.
Он разрешил ей поцеловать ему руку, и она расплакалась от такого огромного счастья и вышла к отцу с сияющим лицом.
А Элмер, оставшись один, размышлял: «Покуда этого хватит с тебя, дура чертова. А пока придумаем что-нибудь, чтобы выбраться из этой заварухи».
Когда было объявлено о помолвке Лулу с служителем божьим, гости разразились хриплыми, восторженными криками.
Элмер произнес довольно длинную речь, в которой вспомнил все, что сказано в священном писании об отношениях между полами, — вернее, все, что помнил и что можно было произнести в присутствии дам.
— Смелее, брат! Поцелуйте ее! — требовали гости. Он поцеловал ее — поцеловал так жарко, что даже ощутил некое знакомое волнение.
Он остался ночевать у Бейнсов; он был так переполнен святою любовью, что, когда все в доме заснули, пробрался в спальню Лулу. Она приподнялась на подушке и прошептала:
— Это ты, любимый! Ты простил меня! Ах, как я тебя люблю! — И он стал целовать ее душистые волосы.
VI
По обычаям Мизпахской семинарии студентам полагалось сообщать о своей помолвке декану Тросперу. Дело в том, что декан при распределении рекомендовал выпускника на то или иное место, и здесь семейное положение кандидата играло определенную роль. Холостяков назначали преимущественно младшими пасторами больших городских приходов; а женатые — в особенности те, чьи жены отличались благочестием и умением стряпать, — обычно получали собственный, хоть и небольшой приход.
Декан вызвал Элмера к себе на дом — он жил на краю учебного городка в мрачном доме, где пахло капустой и мокрой золой.
— Гентри, что это за слухи ходят о вас и какой-то девице из Шенейма?
— Не понимаю, о чем вы, господин декан, — ответствовал Элмер тоном оскорбленной добродетели. — Я просто помолвлен с весьма достойной молодой особой, дочерью одного шенеймского церковного старосты.
— А-а, ну ладно! Лучше жениться, чем гореть в аду, по крайней мере, так сказано в писании. Хочу предупредить, чтобы все было честь честью, никаких фокусов. Священник должен быть осмотрителен. Следует избегать даже видимости греха. Ну-с, надеюсь, вы будете ее любить и лелеять. И полагаю, что в этом случае было бы неплохо не только обручиться, но даже и жениться. Можете идти!
«И что это он хотел сказать, черт бы его побрал?» — возмущался юный Парсифаль по дороге домой.
VII
До свадьбы оставалось меньше двух месяцев. Действовать надо было быстро.
Если бы можно было свести Лулу с кем-нибудь! Хотя бы с Флойдом Нейлором. Ведь этот болван ее любит.
Он старался проводить в Шенейме как можно больше времени — и не только с Лулу, но и с Флойдом. Он пустил в ход все свои чары, и вскоре доверчивый и недалекий Флойд из врага стал его пламенным другом. Однажды, когда Флойд провожал его к дрезине, Элмер проворковал:
— А знаешь, Флойди, в общем-то это не очень справедливо, что Лу выходит за меня, а не за тебя. Ты такой положительный, терпеливый, работящий! А мне и вспылить ничего не стоит…
— Ну что вы, Элмер! Я ей не пара. Ей нужен парень ученый, вроде вас, чтобы одеться умел и ввел бы ее в общество — ну и все такое.
— Но она и самому-то тебе, кажется, нравилась не на шутку, а? Да и как же иначе! Второй такой девушки во всем мире нет! Влюблен был в нее?
— Да, пожалуй, что так. Я… А-а, да что там — не ровня я ей, и все тут. Благослови ее бог!
За спиною Элмер говорил о Флойде как о своем будущем кузене, не переставал во всеуслышание твердить о том, как привязан к нему, восхищаться его достоинствами и прекрасным пением (Флойд Нейлор пел приблизительно так, как и полагается петь Флойду Нейлору). Да, Элмер говорил о Флойде как о своем будущем кузене — Элмер просто наглядеться не мог на него!
Он всячески расхваливал Лулу и Флойда друг другу, прибегая к всевозможным ухищрениям, чтобы почаще оставлять их наедине, а сам возвращался и наблюдал за ними в окно. Но они, к величайшей его досаде, просто сидели и мирно болтали.
Перед пасхой он провел в Шенейме целую неделю. Шенеймские баптисты с их нелюбовью к католической обрядности не придавали особенного значения пасхе как таковой, именуя ее «праздником воскресения Христова». Тем не менее они отнюдь не были намерены отказывать себе в ежедневных молитвенных собраниях в течение недели, известной еретикам под названием «святой недели». Элмер жил у Бейнсов и не покладая рук трудился, борясь с грехом, а также с опасностью оказаться связанным узами брака. Он был так вдохновенно красноречив, что вывел на стезю добродетели двух шестнадцатилетних девушек и вернул в лоно церкви престарелого грешника, притчу во языцех всей округи, большого любителя яблочной водки, — душу которого не удавалось спасти вот уже целых два года.
К этому времени Элмер знал уже, что хотя Флойд Нейлор в общем-то и не девственник, но решимость его — а следовательно, и его победы — гораздо скромнее его желаний. И Элмер задался целью устранить это несоответствие. Он увел Флойда в поле и, благодушно заметив сначала, что духовному лицу, в сущности, не следовало бы говорить о таких вещах, пустился рассказывать о своих амурных похождениях, пока у Флойда не разгорелись жадно глаза. Потом, смущенно хихикая, Элмер показал ему свою «коллекцию художественных фотографий».
Флойд так и пожирал фотографии голодными глазами; Элмер одолжил ему их на время. Это произошло в четверг.
Наряду с этим Элмер на всю неделю лишил Лулу своих ласк, по которым она изнывала, так что она уже была на грани отчаяния.
В пятницу, заменив вечернюю службу утренней, он условился с Лулу и Флойдом устроить вечером ужин на свежем воздухе в сикоморовой роще, недалеко от фермы Бейнсов. Он описывал этот пикник в таких радужных и идиллических тонах, что Лулу повеселела. По дороге в рощу, шагая с корзиночкой в руках рядом с ним и немного отстав от Флойда, она вздохнула:
— Отчего ты так холоден со мной, дорогой мой? Опять я в чем-то провинилась?
«Получай же, на тебе!» — злорадно подумал Элмер.
— Слушай, не скули ты все время, ради бога! — грубо сказал он. — Неужели раз в жизни не можешь доказать, что у тебя есть мозги, ну хотя бы куриные?
Когда они расположились ужинать, она с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться.
Когда они кончили, уже стемнело. Они сидели молча; Флойд поглядывал на Лулу, не понимая, отчего она так грустна, украдкой переводил взгляд на ее хорошенькие ножки.
— Схожу-ка я домой, набросаю кое-что для завтрашней проповеди, — сказал Элмер. — Нет, нет, вы меня подождите тут. На свежем воздухе оно приятней. Через полчасика вернусь.
Он удалился, тяжело шагая, с шумом раздвигая кусты, потом неслышно прокрался назад и притаился за сикомором, недалеко от Лулу и Флойда. Он был горд собой. Дело шло на лад. Лулу уже плакала навзрыд. Флойд утешал ее:
— Что с тобой, моя хорошая? Что случилось? Расскажи мне!
Флойд подвинулся ближе (Элмер едва видел их в сумерках), и она склонила головку на плечо своего друга.
Теперь Флойд осушал ее слезы поцелуями, а она, вероятно, прижалась к нему. Во всяком случае, до Элмера донеслось сдавленное:
— Ах, не надо меня целовать, нельзя!
— Элмер говорит, я должен относиться к тебе как к сестричке и мне можно тебя поцеловать… О господи, до чего же я тебя люблю, Лулу!
— Нет-нет, нельзя!
Наступило молчание.
Элмер сломя голову бросился на ферму, разыскал у амбара старосту Бейнса и грозно потребовал:
— Ступайте за мной! Я хочу, чтоб вы видели, чем Лулу занимается с Флойдом. Фонарь оставьте. У меня есть свой, электрический.
Он сказал правду. Он действительно купил себе электрический фонарик специально для этой цели. У него был даже револьвер в кармане.
Когда Элмер и ошеломленный Бейнс выскочили из-за деревьев, пучок света от электрического фонаря выхватил из темноты Лулу и Флойда, слившихся в долгом поцелуе.
— Вот вам! — оскорбленно загремел Элмер. — Теперь вы видите, почему я не решался обручиться с этой женщиной! Я это с самого начала подозревал. О мерзость, мерзость! И та, что свершила ее, да будет отвергнута!
Флойд вскочил, словно разъяренный пес. Элмер, несомненно, мог бы и сам справиться с ним, но его опередил староста Бейнс. Сбив Флойда с ног одним страшным ударом кулака, староста повернулся к Элмеру со слезами на глазах — то были первые слезы со времен его детства.
— Простите меня и моих близких, брат! Мы согрешили против вас. Эта женщина будет страдать за это до конца дней своих. Никогда больше не переступит она порог моего дома. Клянусь богом, она выйдет замуж за Флойда. За самого безмозглого, бестолкового, никудышного остолопа во всей округе.
— Я ухожу. Я этого не вынесу. Пришлю вместо себя другого пастора. Никогда больше никого из вас не хочу видеть, — сказал Элмер.
— Я понимаю вас, брат. Простите нас, если можете.
Староста плакал — плакал скупыми, мучительными слезами обиды и гнева.
Последнее, что увидел Элмер в свете электрического фонарика, была Лулу, сжавшаяся в комочек, вобравшая голову в плечи — Лулу, с лицом, обезумевшим от страха.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
I
Шагая вечером обратно в Вавилон, Элмер радовался своему освобождению гораздо меньше, чем ожидал. Тем не менее он мужественно заставлял себя вспоминать надоедливую болтовню Лулу, ее беспросветное невежество, ее приторные ласки, ее провинциальную серость, — все, от чего он так счастливо избавился.
Прожить с ней всю жизнь… Да ведь она связала бы его по рукам и ногам!.. Никогда не сумела бы помогать ему, улещая прихожан. А ведь его могут назначить и в большой город с шикарной церковью. Господи!.. Да как же ему не радоваться, что он выпутался из этой истории! И потом! Ей же самой будет лучше. Они с Флойдом гораздо больше подходят друг другу…
Он знал, что единственная слабость декана Троспера — привычка допоздна зачитываться по вечерам, вот почему он смело ворвался к декану в дом непозволительно поздно — в одиннадцать часов вечера. На протяжении последней мили он героически подавил в себе радостное возбуждение и так прочно вошел в роль обманутого и удрученного изменой юноши, что даже сам поверил в это.
— Ах, как вы были правы насчет женщин, господин декан! — скорбно возопил он. — Случилось нечто ужасное. Мы — я и отец моей невесты — только что застали ее в объятиях другого — местного сердцееда, распутника, каких мало. Я туда ни за что не вернусь, даже ради пасхальной службы! Ее отец, и то меня понимает… Хотите — можете его спросить!
— Что ж, чрезвычайно прискорбно это слышать, брат Гентри, сочувствую вам. Я и не думал, что вы способны так глубоко переживать. Не преклонить ли нам колени, не обратиться ли к господу с мольбой об утешении? А на пасху я пошлю туда брата Шалларда — кстати, и паства ему знакома.
Стоя на коленях, Элмер сообщил богу, что гак гнусно, как с ним, еще не обходились ни с одним человеком в мире. Декан внимал ему весьма сочувственно.
— Ну, ну, успокойтесь, мой мальчик! Придет срок, и господь облегчит ваше бремя. Как знать, быть может, нет худа без добра и вы еще счастливо избавились от подобной женщины, а вас самого это испытание научит тому смирению, тому глубокому стремлению к праведной жизни, которого, как мне всегда казалось, вам недоставало, несмотря на ваш прекрасный голос — голос истого проповедника. А теперь я сообщу вам нечто такое, что немного отвлечет вас от ваших горестей. На окраине Монарка есть очень славная церковка — там как раз временно требуется священник. Я, правда, собирался послать туда брата Хадкинса — ну, знаете, тот старичок пастор, что живет сейчас на покое возле кирпичного завода. Он иногда заходит к нам на занятия, вот я и хотел послать его отслужить там пасхальную службу. Теперь пошлю не его, а вас, и, думаю, если вы поладите с церковным советом, вам удастся получить там постоянное место — во всяком случае, до окончания семинарии. Плата — пятнадцать долларов за воскресенье плюс дорога. Ну, и поскольку вы уж попадете в такой город, как Монарк, можете там оставаться до понедельника — до обеда. Это даст вам возможность посещать духовную ассоциацию — завяжете полезные знакомства, а к лету, глядишь, и устроитесь младшим пастором в большую церковь. Утренний поезд в Монарк отходит, кажется, в десять двадцать. Отправляйтесь-ка завтра этим поездом и наведайтесь к адвокату по имени Эверсли. Его контора помещается… Позвольте, куда это я положил его письмо? Да, так, значит, его контора находится в доме компании Ройял Траст. Он церковный староста. Я пошлю ему телеграмму, чтобы он ждал вас там завтра после обеда или по крайней мере сообщил вам, где его найти, а уж остальное на ваше усмотрение. Церковь называется Флауердейл-Черч — дело поставлено превосходно и вполне современно, здание чудесное, прихожане — милейшие люди! Ну, а пока что ступайте к себе и молитесь, и я уверен, что вам станет легче.
II
Итак, поездом 10.20 Элмер Гентри в самом радужном расположении духа отбыл в Монарк, город с почти трехсоттысячным населением. Он сидел в вагоне, обдумывая свою пасхальную проповедь. Хо-хо! Его первая проповедь в настоящем, большом городе! Неизвестно еще, какие возможности она перед ним откроет! Надо их угостить чем-то пламенным, захватывающим. А, ну — посмотрим… «Воскресение Христово» — не подойдет… Мимоходом, конечно, упомянуть не мешает, но в двух словах. Основной темой должно быть что-то другое. Что же?.. Вера, Надежда, Раскаяние… Нет, с раскаянием надо поосторожней — этот церковный староста Эверсли — адвокат еще, чего доброго, обидится, если намекнуть, что ему, дескать, есть в чем покаяться. Да, так как же все-таки?.. Мужество. Целомудрие. Любовь… О! Вот это то, что надо. Любовь!
И он начал быстро и прямо из головы набрасывать план проповеди на обратной стороне конверта.
«Любовь:
радуга
утр. веч. звезда
от колыбели до могилы
вдохновляет искусство и т. д. Музыка — голос любви.
Пройтись насчет атеистов и пр., кот. не
умеют ценить любовь».
— Вы, случаем, не журналист, брат? — раздался рядом чей-то голос.
Элмер покосился на своего соседа — щуплого человечка с красным носом, красноречиво свидетельствующим о склонности к виски, и лучиками веселых морщинок в уголках глаз. Человечек был одет, пожалуй, даже щеголевато, и на нем был красный галстук, который в 1906 году все еще считалось приличным носить лишь социалистам да пьяницам.
Элмер сразу смекнул, как славно можно было бы провести время с таким вот малым, как этот. Скорее всего, коммивояжер. Что лучше: держаться с ним запросто или заговорить о спасении души и наблюдать, как он будет ежиться?.. Черт возьми, он еще успеет наговориться на религиозные темы в Монарке! И с самой дружеской, простецкой улыбкой Элмер Гентри отозвался:
— Нет, не журналист — вроде того. Жарко-то как, а?
— Да, жарковато. Давно живете в Вавилоне?
— Нет, не очень.
— Славный городок. Деловой.
— Ого! И девочки тоже ничего!
Человечек захихикал:
— Ну да! Правда? Может, дадите адресок? Я сюда заезжаю каждый месяц, а юбчонку еще до сих пор не присмотрел. А городишко и вправду ничего. Деньжищ здесь куры не клюют.
— Да, сэр, уж это точно. Городок подходящий. Бойкий. Дельце можно обстряпать в два счета. И денег хватает.
— А, между прочим, говорят, — заметил человечек, — что в Вавилоне имеется и фабрика, где готовят священников — ну, вы знаете…
— Серьезно?
— Факт! И знаете что, брат, сейчас вы будете смеяться… Знаете, что я скачала решил? Сидит, вижу, в черном костюме и что-то строчит на бумаге! Не иначе, думаю, священник.
— А, — кхм…
Нет, это уж просто выше сил. Хватит с него! И так каждое воскресенье в Шенейме приходилось разыгрывать из себя праведника, а тут еще этот староста Бейнс поминутно задавал дурацкие вопросы: то о предопределении, то еще о какой-нибудь чепухе… Надо же когда-то и отдохнуть! К тому же такой свойский малый, как этот, и не плюнет в твою сторону, если признаться, что ты священник.
В поезде стояли лязг и грохот. Так что если даже какой петух по соседству и прокричал три раза, то Элмер так или иначе все равно не мог этого услышать.
— Ха, и придет же в голову! — громко ответил он, и на лице его изобразилась глубокая скорбь. — Этот черный костюм я надел в знак траура по очень близкому мне человеку.
— Ох, простите, брат, бога ради. Вечно скажешь не то…
— Ничего, ничего.
— Ну, тогда вашу руку, и я буду знать, что вы на меня не сердитесь.
— С удовольствием.
От человечка разило виски, и Элмер жадно вдыхал этот запах. Как давно у него не было во рту ни капли спиртного! Целых два месяца. Правда, послушная Лулу пару раз нацедила ему украдкой крепкого сидра из отцовского бочонка, а так — ни глотка!
— Так чем же вы занимаетесь, брат? — спросил человек.
— Я, знаете, по части обуви.
— О-о, это дело хорошее! Да, сэр, без обуви не обойдешься — есть деньги, нет — все едино. Ну, а меня зовут Эд Лоукуст… Подумать только: назвать ребенка Эдни! Представляете? Ничего себе, подходящее имечко для человека, который любит погулять в своей компании, любит повеселиться!.. Ну, вы-то меня можете звать просто: Эд. Я коммивояжер фирмы Пикот. Продаем сельскохозяйственный инвентарь. Замечательная фирма! Отличные ребята! Да, сэр. На таких стоит работать! Да, сэр. Наш коммерческий директор — вы не поверите, перепьет кого хочешь из своих служащих, а уж мы насчет выпивки, будь уверен! Да, сэр, дурацкая это идея, с которой носятся сейчас несолидные фирмы: мол, что пьешь с клиентами, что нет — все одно, разницы нету… Вздор! Говорят, это все Форд болтает — ну, этот тип, что выпускает автомобили. Так вот, попомните мои слова: к тысяча девятьсот десятому году этот Форд прогорит, как миленький. Вот помяните мое слово! Да, брат. Вот компания Пикот — это другое дело. Это, понимаешь, фирма так фирма. И, между прочим, на той неделе у нас торговое совещание в Монарке.
— Да ну?
— Да, сэр, торговое совещание, вот оно как. Ну, знаете, будут говорить, как выжать деньги из покупателя, когда у него денег нет. Хе-хе! Да только кто всю эту муру будет слушать? Наши ребята найдут себе занятие поинтереснее: выпьем как следует, повеселимся — и сам коммерческий директор от нас не отстанет, будьте покойны. Знаешь что, брат… ты прости, я твое имя не разобрал.
— Элмер Гентри. Очень рад познакомиться.
— И я очень рад, Элмер. Так вот, Элмер, знаешь что? У меня тут в кармане припрятана бутылочка такого виски, какого ты в жизни не пробовал — и никто такого не пробовал. Ты вот работаешь по обувной части и, небось, человек солидный — еще, чего доброго, упадешь в обморок, если я тебе предложу глотнуть кой-чего от кашля — а?
— Это уж определенно — упаду. Угадал в самую точку.
— Ну, слушай, как же — такой здоровый парень. Надо все же уметь с собой справляться.
— Уж я постараюсь, Эд, ты только держи меня за руку.
— О чем разговор, конечно, поддержу!
Эд вытащил из привычно оттопыренного кармана пинту Грин-Ривера. Оба благоговейно приложились к горлышку.
— Слыхал когда-нибудь морскую застольную? — спросил Элмер. Он чувствовал себя таким счастливым, словно после долгих и томительных странствий вернулся в родимый дом к любимым и близким.
— Вроде бы нет. А ну, валяй!
За милых красоток в каждом порту. За хмель в каждой милой красотке… До трезвых ли мыслей на этом борту? Налей же вина или водки!Человечек так и подскочил:
— Никогда не слыхал! Ну и тост! Вот это лихо! Слушай, Элмер, что за дела у тебя в Монарке? Хочу познакомить тебя кое с кем из наших ребят. Совещание-то открывается только в понедельник, но мы тут кое с кем решили собраться сегодня — помолиться, знаешь, попоститься, пока не наехала всякая мелюзга. Хорошо бы и тебе с ними познакомиться. Парни — красота, ты таких еще не видывал, скажу тебе откровенно. Прямо рад буду, если ты с ними встретишься. Ну и им тоже невредно бы послушать эту твою песенку застольную «За хмель в каждой милой красотке!». Здорово, ей-богу! Ты что будешь делать в Монарке? Может, когда приедем, заглянешь в отель Айшавонга, поглядишь на наших ребят? А?
Мистер Эд Лоукуст не был пьян, то есть не совсем пьян: просто он основательно отдал должное виски и теперь испытывал прилив человеколюбия. Элмер же выпил ровно столько, чтобы не потерять способности рассуждать трезво. В то же время он изголодался — и не столько по выпивке, как по компании, не зараженной ханжеским духом.
— Я так тебе скажу, Эд, — промолвил он. — Понимаешь, я бы с великим удовольствием, но сегодня мне надо повидаться с одним типом — крупным коммерсантом, а он лютый враг спиртного. Само собой, я тебе очень благодарен за угощение, но только по-настоящему-то не надо было даже и притрагиваться.
— Брось, Элм, у меня есть мятные лепешки — запах начисто отшибают, ну просто напрочь! Глоток-другой никогда не повредит. А все же хотелось бы, чтоб наши ребята послушали твою застольную!
— Ну, ладно, загляну на минутку, посижу с вами, возможно, в воскресенье вечерком или в понедельник утром. Но…
— Да неужели, Элм, ты меня подведешь?
— Эх, так и быть. Позвоню этому типу, договорюсь так, чтобы с ним встретиться не раньше трех.
— Вот это разговор!
III
В полдень Элмер позвонил из отеля Айшавонга в контору мистера Эверсли, самого яркого светила в созвездии достойных старост Флауердейлской баптистской церкви. Ему никто не ответил.
«Должно быть, пусто: попал в обед. Ну, что ж, пока я сделал все, что мог, подождем до после обеда», — благонравно подумал Элмер, возвращаясь в бар Айшавонга, где его поджидали рыцари компании Пикот… Одиннадцать человек в отдельном кабинете, рассчитанном на восьмерых. Все говорят разом. Каждый кричит:
— Эй, официант, спроси подлеца бармена, что он сам виски гонит, что ли?
Не прошло и пятнадцати минут, как Элмер уж называл каждого из одиннадцати по имени, безбожно путая при этом все имена. Он расширил их литературный кругозор, трижды пропев свою застольную и рассказав лучшие анекдоты, какие знал. Он им понравился. Сбросив узы святости и избавившись от угрозы брачной жизни с Лулу, он от радости превзошел самого себя.
— Вот это парень, — то и дело говорили друг другу представители компании Пикот, — такого стоило бы залучить к нам, — и все одобрительно кивали головами.
Внезапно ему пришла в голову блестящая мысль: изобразить перед ними пародию на проповедь.
— Ну и уморил меня сегодня Эд! — прогремел он. — Знаете, за кого он меня сначала принял? За пастора!
— Ого! Вот это да! — расхохотались кругом.
— А между прочим, он не так уж ошибся. Я в детстве точно мечтал стать священником. Да вот, послушайте сами: разве не вышел бы из меня классный пастор?
И пока все они таращили на него глаза, восторженно хихикая, он торжественно встал, величественно оглядел собравшихся и загудел:
— Братья и сестры, в суете забот повседневной жизни все вы, разумеется, забываете о возвышенном и прекрасном. А знаете ли вы, что вдохновляет нас на возвышенное и прекрасное? Что руководит нами? Что, как не любовь? Что же такое любовь?
— Ты только останься с нами до вечера, а уж я тебе покажу! — взвизгнул Эд Лоукуст.
— Постой, Эд! Нет, серьезно — слушайте! Слушайте и скажете потом: вышел бы из меня пастор — да еще какой! — или нет? Ручаюсь, что сумел бы заворожить целую толпу народа — не хуже, чем любой из них. Слушайте же! Что такое любовь? Святая любовь? Это радуга, что расцвечивает сверкающими красками унылую пустыню, которую лишь недавно опустошил своею яростью свирепый ураган. Нежная радуга, сулящая избавление от всех трудов, тягот и ужасов юдоли сей. Что есть любовь? Я разумею божественную любовь, не плотскую — святую любовь, олицетворенную церковью. Что есть…
— Ты это кончай! — возмутился самый отчаянный сквернослов из всех одиннадцати. — Негоже потешаться над религией. Сам-то я никогда не хожу в церковь, но, может, если б ходил, был бы гораздо лучше, понятно? Во всяком случае, я, безусловно, уважаю тех, кто ходит в церковь, и детишек своих заставляю ходить в воскресную школу.
— Черт, да я и не думаю издеваться над церковью, — запротестовал Элмер.
— Черт, да он и не думает! — подтвердил Эд Лоукуст. — Просто шутит над священниками, вот и все. Священники — они ж обыкновенные люди, как и мы.
— Факт! Ругаться и путаться с девчонками умеют не хуже любого из вас. Я точно знаю! Если бы я вам рассказал все, что скрывается за их притворством, так у вас и уши бы все повяли, — загробным голосом произнес Элмер.
— Все равно нехорошо издеваться над церковью…
— Черт, да он вовсе не издевается!
— Не издеваюсь, честное слово! Но дайте мне кончить проповедь.
— Правда, дайте ему кончить!
— Так на чем я остановился?.. Да! Что такое любовь? Любовь — это утренняя звезда и звезда вечерняя, эти два ослепительные светила, что, скользя по необозримым пурпуровым склонам небесной тверди, несут в своих золотых лучах обещание чего-то лучшего, возвышенного, что… что… Ну, как, умники, гожусь я в знаменитые пасторы, нет?
В ответ раздались рукоплескания да такие оглушительные, что на пороге кабинета появился бармен и мрачно оглядел пирующих, а Элмеру пришлось пить с каждым в отдельности. Но выпил он только с четырьмя.
Дело в том, что он уже отвык от спиртного. И потом он в этот день не завтракал.
Он позеленел, на лбу и на верхней губе у него, точно бисер, выступила испарина, глаза внезапно остекленели.
— Эй, ребята! — взвизгнул Эд Лоукуст. — А Элм-то готов.
Элмера отвели наверх в номер Эда; двое поддерживали его под руки, третий подталкивал сзади. Едва переступив через порог, он без чувств свалился на кровать Эда и весь день прохрапел на ней одетый — с него стянули только пиджак и ботинки. Он пропустил свидание с советом Флауердейлской церкви и, очнувшись часам к шести, увидел участливо склоненную над собой физиономию Эда.
— Господи, до чего мне скверно! — промычал он.
— Вот, держи. Тебе надо выпить.
— Ох, нельзя мне больше пить, — молвил Элмер, беря стопку. Его рука так дрожала, что Эду самому пришлось поднести стакан к его губам. Элмер понимал, что должен сию же минуту позвонить старосте Эверсли. После двух стаканчиков ему стало значительно лучше; и рука больше не дрожала. В комнату стали сходиться ребята из компании Пикот; стали договариваться, куда пойти обедать. И Элмер решил, что успеет позвонить Эверсли после обеда; он продолжал откладывать этот звонок и потом. И в пасхальное утро он проснулся в обществе совершенно незнакомой ему молодой особы, в совершенно незнакомой квартире. Было десять часов, и он услышал за стеной Эда Лоукуста, который распевал: «Эх, промочить бы горло!»
До первой утренней рюмки Элмер долго каялся и стонал, но, выпив, он начал себя утешать.
— К черту, все равно я сегодня в эту церковь уже не попал. Скажу старостам, что внезапно заболел… Эй, Эд! Как мы сюда попали? Позавтракать-то в этой дыре можно?
Осушив две бутылки пива и милостиво побеседовав с дамочкой в кимоно и красных туфельках, он почувствовал себя совсем молодцом. В сопровождении Эда и тех из его приятелей, кто еще мог держаться на ногах, он с целым роем визгливых девиц отправился в танцзал на берегу озера и там провел остаток светлого воскресенья. Поздно ночью они вернулись в Монарк есть омаров и продолжать веселье.
«Ну, все, конец. Завтра утром берусь за дело. Повидаюсь с Эверсли и все улажу», — торжественно обещал себе Элмер.
IV
В те времена звонок по междугородному телефону был чрезвычайным событием, но адвокат Эверсли — староста Флауердейлской баптистской церкви — был человек расторопный. Когда новый пастор не явился к шести часам в субботу, Эверсли позвонил в Вавилон, подождал, пока на центральную станцию вызывали декана Троспера, и весьма раздраженно сообщил ему о неявке облеченного духовным саном поденщика.
— Я вам пошлю брата Хадкинса. Прекрасный проповедник, живет здесь на покое в данное время. Он выедет с ночным поездом, — ответил декан Троспер.
Мистеру Хадкинсу он дал такой наказ:
— И постарайтесь там разузнать, что случилось с братом Гентри. Я беспокоюсь за него. У бедного малого большие личные неприятности… уехал просто в отчаянном состоянии… по крайней мере так мне казалось. Что же касается мистера Хадкинса, то он в течение ряда лет вел миссионерскую работу в трущобах Чикаго и насмотрелся там чего угодно. Элмера он не раз встречал на занятиях в семинарии. Отслужив в Монарке утреннюю пасхальную службу, он побывал не только в полицейском участке и больницах, но и предпринял обход гостиниц, ресторанов и баров. Вот так и случилось, что в тот самый час, когда Элмер весело запивал омаров красным калифорнийским вином, изредка прерывая это занятие, чтобы поцеловать сидящую рядом блондинку или повторить по требованию публики матросскую застольную, за ним с порога кафе наблюдал преподобный мистер Хадкинс в завидной роли ангела-мстителя.
V
Когда в понедельник утром Элмер позвонил Эверсли и стал объяснять, что опоздал из-за внезапной болезни, староста отрезал:
— Хорошо. Пригласили другого.
— Да, но, видите ли, декан Троспер сказал, что вы и церковный совет, возможно, хотели бы переговорить о постоянной работе с неполной нагрузкой…
— Нет, нет, нет.
Вернувшись в Вавилон, Элмер сразу же отправился в кабинет Троспера.
Одного взгляда на лицо декана было достаточно.
Двухминутную, чрезвычайно выразительную характеристику Элмера декан закончил так:
— …сегодня утром на экстренном заседании педагогического совета вы были исключены из Мизпахской семинарии. Сан баптистского священника, разумеется, остается при вас. Я мог бы добиться того, чтобы ваша община лишила вас духовного сана, но мне жаль ваших земляков: им было бы слишком тяжко узнать, какому лживому чудовищу они оказали столь высокое доверие! Кроме того, я не хочу, чтобы Мизпахская семинария была замешана в такой скандальной истории. Но имейте в виду: если я когда-нибудь услышу, что вы читаете проповеди с баптистской кафедры, я вас разоблачу. Далее. Не думаю, чтобы у вас хватило способностей стать содержателем питейного заведения, но бармен из вас мог бы получиться неплохой. Что же касается наказания, то им послужат ваши собственные полуночные раздумья.
— Нехорошо с вашей стороны… — захныкал Элмер, — зачем вы со мной так говорите… Разве библия не учит нас, что следует прощать седьмижды семьдесят раз?..
— Это уже седьмижды восемьдесят. Вон отсюда!
Так преподобный мистер Гентри совершенно неожиданно стал практически уже совсем не преподобным.
Он подумал было о том, чтобы податься к матери, но постыдился; подумал податься к Лулу, но не посмел.
Он слышал, что Эдди Фислингер был срочно вызван в Шенейм, чтобы обвенчать Лулу с Флойдом Нейлором… Мрачная церемония в тишине, при свете лампы.
— Могли бы хоть меня позвать, — проворчал Элмер, укладывая свои вещи в чемодан.
Он вернулся в Монарк под крылышко Эда Лоукуста. Он признался, что был священником, и Эд простил его. В ту же пятницу Элмер стал коммивояжером компании сельскохозяйственного инвентаря Пикот.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
I
Элмеру Гентри было двадцать восемь лет. Вот уже два года, как он служил коммивояжером компании Пикот.
Бороны, грабли, сеялки, красные плуги, зеленые фургоны, каталоги, книги заказов; конторы, отделенные стеклянной перегородкой от полутемных складов; на высоких табуретках за высокими конторками — торговые агенты в жилетках, без пиджаков; бар на углу; душные маленькие гостиницы, закусочные; ожидание поездов по ночам на заплеванных вокзалах узловых станций, мучительная боль в спине от жестких брусчатых скамеек; поезда, поезда, поезда; расписания, радостные возвращения в штаб-квартиру в Денвере; попойка, театр — и служба в большой церкви…
Он щеголял в клетчатом костюме, рыжем котелке и полосатых носках; носил массивный золотой перстень с опалом и змейками — тот самый, купленный еще давным-давно, — и галстуки в цветочек, и жилеты (он называл их «фантази») — желтые в красную крапинку, зеленые в белую полоску, шелковые или — какая смелость! — замшевые.
Он пережил ряд мимолетных любовных увлечений; ни одно из них не оказалось достаточно глубоким, чтобы вскоре не угаснуть.
На службе дела его подвигались недурно. Язык у него был подвешен отлично, он умел великолепно пожимать руки; на его слово чаще всего можно было положиться, прейскуранты он почти все помнил наизусть и всегда знал свеженькие скабрезные анекдоты.
В Денверской главной конторе он пользовался популярностью среди «ребят». Его коронным номером, неизменно вызывавшим общий восторг, оставались пародии на проповеди. Ни для кого не было тайной, что он в свое время учился, готовясь стать священником, но затем нашел в себе мужество призвать, что «это не подходящее занятие для здорового малого с хорошими кулаками», и заявил профессорам, что «с него довольно». Словом, превосходный молодой человек, подающий большие надежды и в недалеком будущем, вероятно, коммерческий директор одного из отделений фирмы.
Несмотря на довольно беспутный образ жизни, Элмер продолжал заниматься спортом, чтобы сохранить втянутый живот и прямые плечи. Насмешливое замечание старосты Бейнса о том, что он здорово размяк, задело его за живое, и каждое утро у себя в номере он по четверть часа сосредоточенно проделывал гимнастические упражнения, а по вечерам либо занимался боксом, либо играл в кегли в спортивных залах ХАМЛ. В городах побольше он торжественно и подолгу плавал взад и вперед в бассейнах, похожий на большую белую морскую свинью. Он чувствовал себя здоровым и полным сил, как некогда в Тервиллингер-колледже.
И все же Элмер не был вполне счастлив.
Он был рад, что избавился от строгих правил семинарии, от чувства вины, которое в студенческие дни неизбежно мучило его после каждого очередного кутежа в Монарке, — избавился от обязанности выслушивать непонятные споры Гарри Зенза с Фрэнком Шаллардом. Но в то же время ему многого и недоставало. Ему хотелось, как прежде, вести за собой церковный хор, услышать звуки старых гимнов, слышать собственный голос, хотелось вновь околдовать толпу своей проповедью и насладиться сознанием своей власти. Каждое воскресенье (не считая тех, когда он назначал свидание какой-нибудь официантке или горничной) он отправлялся вечером в ближайшую евангелическую церковь и наслаждался, критикуя проповедь с точки зрения профессионала.
«Эх, и заткнул бы я за пояс этого простака! Писание писанием, но вверни он парочку примеров из литературы да выругай покрепче владельцев пивных — вот тогда бы всех пробрало!»
Пел он так громогласно, что, хоть от него попахивало табаком и виски, пасторы всегда особенно горячо трясли ему руку, приговаривая: «Рады были видеть вас сегодня с нами, брат».
Когда ему случалось попадать в большие и преуспевающие церкви, в нем просыпалась тоска о былом, желание снова читать проповеди, его так и подмывало взбежать на кафедру, столкнуть с нее пастора и заговорить вместо него, а не сидеть где-то позади в тиши и забвении, как будто он всего-навсего обыкновенный мирянин. «Вот удивились бы эти чурбаны, если бы узнали, кто я такой», — раздумывал он.
После таких переживаний было досадно толковать в понедельник утром с нудным торговым агентом о скидках на навозоразбрасыватели; противно торчать в заставленном плевательницами вестибюле гостиницы, дожидаясь, когда пора будет ехать на вокзал. Ведь в это время он мог бы сидеть в шикарной церковной конторе, окруженный мудрыми книгами, отдавать распоряжения хорошеньким секретаршам, велеречиво поучать пришедших за советом и помощью грешников. Правда, его отчасти — но лишь отчасти, утешала возможность открыто войти в пивную и гаркнуть: «Виски, Билл!»
Как-то воскресным вечером в небольшом городке Западного Канзаса он набрел на запущенную церковку и прочел на дверях объявление:
«Сегодня утром: „Смысл искупления“.
Вечером: „Верно ли, что танцы — от лукавого“.
Первая Баптистская Церковь.
Пастор — препод. Эдвард Фислингер, бакк. иск. бакк. богосл.».
«Ах ты, черт! — вздохнул Элмер. — Эдди Фислингер! Как раз по нему дыра! Много он понимает, этот чурбан, в смысле искупления да и в других догмах! О танцах, туда же, берется судить! Побывал бы разок со мной в Денвере да отколол бы коленце-другое в танцзале Билли Портиферо — вот тогда бы знал, что выдать! Фислингер… Наверное, тот самый! Сяду, пожалуй, в переднем ряду — испорчу ему все представление».
Церковь Эдди Фислингера была восьмиугольной формы. В одном углу стояла кафедра, что почему-то наводило на странные и неясные мысли о доктрине предопределения. Стены были окрашены в ярко-желтый цвет и увешаны множеством плакатов. «Не отвернись от господа», «Что уготовил ты себе в мире ином?» и «В глазах господа житейская мудрость — безумие!». Вывешенный подле кафедры журнал воскресной школы сообщал, что посещаемость возросла: сорок два ученика сегодня по сравнению с тридцатью девятью в прошлое воскресенье; сборы — восемьдесят девять центов (в прошлое воскресенье — всего семьдесят семь).
На каменщика в чистом воротничке, исполняющего обязанности привратника, произвел должное впечатление клетчатый костюм и накрахмаленная, в красную крапинку рубашка: Элмера усадили на переднюю скамью.
Увидев с кафедры Элмера, Эдди, как того и требовалось, зарделся до ушей, хотел было поклониться, но вовремя удержался, возвел очи к небесам и попытался изобразить на лице снисходительную улыбку. В начале проповеди он нервничал, но затем, воспрянув духом, решив, видимо, что его кампания против греха, носившая доселе характер чисто абстрактный (поскольку паства его была вопиюще добродетельна), на этот раз обрела реальное звучание. Он прочувствованно и по-беличьи взирал сверху на Элмера, а сущность его речей сводилась к тому, что Элмеру, пожалуй, лучше всего сейчас же отправиться прямым сообщением в преисподнюю — и дело с концом. Впрочем, потом он немножко смягчился, выразив надежду на то, что господь, вероятно, даже Элмеру Гентри даст возможность спастись, при условии, что означенный Гентри перестанет пить, курить, богохульствовать и носить клетчатые костюмы (Эдди, правда, не называл Элмера по имени, но его ядовитые взгляды были достаточно красноречивы).
Элмер сначала злился, потом принял подчеркнуто невинный вид, а потом заскучал. Он оглядел церковь, пересчитал присутствующих — их было двадцать семь, не считая Эдди и его жены (не могло быть сомнения, что молодая особа, с обожанием взирающая на проповедника с передней скамьи, — подруга жизни Эдди). Худая, как щепка, больно смотреть, мешковатое платье домашнего пошива, словом, типичная жена священника.
К концу проповеди Элмеру уже стало просто жаль Эдди. Заключительный гимн «Он лилия долины» он пропел с елейным изяществом, загремел мощным «аллилуйя» и подождал Эдди, чтобы пожать ему руку в знак того, что не сердится.
— Так-так! — протянули оба разом. — Как же тебя занесло в эти края?
А Эдди добавил:
— Погоди, пока все разойдутся! Надо же нам хорошенько поболтать с тобой, как прежде бывало, а, старина?
Направляясь вместе с Фислингерами к пасторскому дому, стоявшему за квартал от церкви, беседуя с ними в их гостиной, Элмер думал, что хорошо бы снова стать священиком, отнять у Эдди место и повести дело мастерски, с толком. В то же время его поразила угнетающе убогая обстановка, в которой протекала жизнь Эдди. Как ни невзрачны были номера плохоньких гостиниц, в которых ему приходилось останавливаться, в них по крайней мере не совали нос назойливые прихожане, а роскошью эти номера ничуть не уступали гостиной Фислингеров с пятнами на протекающем потолке, голым сосновым полом, колченогими стульями и стойким запахом пеленок. Женившись всего два года назад, Эдди успел уже обзавестись двумя отпрысками, вид которых сразу же наводил на мысль о непорочном зачатии. Кроме того, в доме имелась еще и убийственно бесцветная свояченица, которая присматривала за детьми в то время, когда родители были заняты в церкви.
Элмеру хотелось курить, но при всей своей осведомленности по части вечных таинств он не мог решить, го занятнее: закурить и посмотреть, как Эдди будет злиться, или воздержаться и заслужить его благоволение?
Он закурил и пожалел об этом.
Эдди обратил на это внимание, его худая, как жердь, супруга — тоже; у свояченицы просто глаза на лоб вылезли, и при этом все трое усердно делали вид, будто ничего не замечают.
В их обществе Элмер казался самому себе значительным, опытным и преуспевающим человеком — словно биржевой маклер, который приехал из города проведать кузена-фермера и спрашивает себя, достаточно ли он занятно рассказывает им про молочные реки с кисельными берегами.
Эдди сообщил ему новости о товарищах по семинарии. Фрэнк Шаллард получил назначение от семинарии: небольшой приход в городишке Катоба, на окраине штата Уиннемак. При посвящении его в сан вышла небольшая заминка: обнаружилось, что у него весьма шаткие взгляды даже на столь ясный и несомненный факт, как девственность Марии. Однако его отец и декан Троспер поручились за него, и Фрэнк все-таки получил сан. Гарри Зенз — пастор большого прихода в одном горнопромышленном городе Западной Виргинии. Уоллес Амстед, преподаватель физкультуры, весьма успешно подвизается в ХАМЛ. Профессор Бруно Зеклин умер, бедняга.
— А где же Орас Карп? — спросил Элмер.
— Ну, это самое удивительное! Орас сдержал свое слово и перешел в епископальную церковь[72].
— Что ты говоришь? Вот это да!
— Вот так-то, брат! Вскоре после того, как он кончил, умер его отец — ну, он сразу и переметнулся. Годик проучился в Духовной академии и теперь, говорят, преуспевает. Такой стал ярый консерватор, как все консерваторы, вместе взятые.
— Да и у тебя, Эдди, видно, неплохо идут дела. Церковь славная.
— Ну, она, конечно, невелика, но народ симпатичный на редкость. И дело налажено прилично. Не скажу, чтобы я так уж очень приумножил свою паству, но я и пекусь-то больше о том, чтобы укрепить в вере тех, кто есть. А когда почувствую, что каждый стал твердыней благодати, разверну кампанию. И тогда увидишь! Тогда-то у меня паства удвоится во мгновение ока! Да, сэр… Если б только они еще не затягивали так с моим жалованьем и вовремя вносили на уплату по закладной… Славный народ, положительный и по-настоящему благочестивый, только вот насчет денег туговат.
— Посмотрели бы, как у нас развалилась плита! Да и раковину пора красить! — Это была, кажется, единственная фраза, которую произнесла за весь вечер миссис Фислингер.
Элмеру стало душно, как в тюремной камере. Он поспешил улизнуть. В дверях Эдди взял его за обе руки и взмолился:
— О, Элм! Я ни за что не успокоюсь, пока не верну тебя к нам! Я буду молиться. Я видел, каков ты был, когда тебя осенила благодать. Я знаю, на что ты способен!
Свежий воздух, добрый стакан водки, громкий смех, посадка в поезд — какое наслаждение после этой затхлой атмосферы! Эдди уже выдохся, утратил тот благочестивый пыл, с которым некогда работал в ХАМЛ. Он постарел, остепенился и мирно доживал свой век, на котором едва ли уж суждено было случиться чему-то интересному и неожиданному. Да, но ведь Эдди сказал…
И Элмер взволнованно вспомнил: он все еще баптистский священник! Он вправе проповедовать, как бы ни противился этому Троспер!
Суеверно поежившись, он вспомнил заклинания Эдди: «Я ни за что не успокоюсь, пока не верну тебя!»
Что ж!.. Хотя бы для того, чтобы отобрать у Эдди церковь и показать, чего может добиться там он, Элмер Гентри! Видит бог, уж он сумел бы заставить этих толстосумов раскошелиться вовремя!
Он поспешил на другой конец штата, чтобы повидаться с матерью.
По ее словам, его фиаско в семинарии едва не убило ее. С трепетной надеждой выслушала она теперь его обещание, что, быть может, когда он повидает свет и решит остепениться, он снова вернется в лоно церкви.
В благочестивом настроении, не помешавшем ему, подпоив одного бухгалтера, добыть ценную информацию относительно кредитоспособности его фирмы, прибыл он в Сотерсвилл (штат Небраска), непривлекательный, но весьма деловой промышленный город с двадцатитысячным населением. И все в том же благочестивом настроении он обратил внимание на афиши, объявляющие о выступлениях женщины-евангелистки, пророчицы Шэрон Фолконер, о которой ему уже приходилось слышать прежде. От клерка в гостинице и фермеров, толпившихся на сельскохозяйственном складе, он узнал, что мисс Фолконер при содействии почти всех протестантских церквей города устраивает в особом шатре молитвенные собрания. Говорили, что она хороша собой и красноречива, что она разъезжает с целым штатом сотрудников и что «такой крупной звезды в здешних местах еще не бывало». Ее сравнивали с Муди[73], с Цыганом Смитом[74] и Сэмом Джонсом[75], с Дж. Уильбуром Чапмэном[76] и этим новоиспеченным евангелистом от бейсбола Билли Сандеем[77].
— Вздор! — объявил Элмер с видом знатока. — Женщина не может проповедовать писание! — И в тот же вечер отправился на молитвенное собрание мисс Фолконер.
Шатер был огромен. В нем можно было разместить три тысячи человек и еще тысячу на стоячих местах. Когда Элмер вошел и величественно проложил себе дорогу вперед, шатер был полон почти до отказа. В глубине шатра возвышалось удивительное сооружение, ничем не напоминающее обычную, украшенную американскими флагами кафедру-эстраду рядовых евангелистов. Это было сооружение из белого дерева, похожее на пирамиду и позолоченное по краям, с тремя площадками: одна — для хора, другая, повыше, — для представителей местного духовенства и третья — самая верхняя и самая маленькая, с кафедрой в виде раковины, раскрашенная во все цвета радуги и пышно убранная розами, лилиями и виноградными листьями.
«Вот это да! Цирк, да и только! Чего еще и ожидать от дуры-проповедницы?» — решил Элмер.
Верхняя площадка еще пустовала — она, очевидно, предназначалась для того, чтобы служить рамкой, подчеркивающей чары мисс Шэрон Фолконер.
Смешанный хор в длинных одеяниях и четырехугольных шапочках запел: «Соберемся ли мы у реки…» После этого на второй площадке появился стройный молодой человек, красивый, даже слишком красивый, с чересчур капризным изгибом губ, в жилете и воротничке священника и начал читать «Деяния». Элмер, пожалуй, впервые слышал, как читает англичанин, выпускник Оксфорда.
«Скажите, какой неженка! Нет, это слабая работа. Юбок слишком много, а эффекта мало. Нет, евангелие прежде всего. По старинке. Клиент косяком идет», — насмешливо думал Элмер.
Наступила пауза. Все ждали, и всем было чуточку не по себе. Взоры собравшихся были устремлены к верхней площадке. И вдруг у Элмера перехватило дыхание: откуда-то из-за площадки медленно, протянув к толпе прекрасные руки, вышла святая. Она была молода, Шэрон Фолконер, лет тридцати, не более; статная, стройная, высокая; продолговатое, худощавое лицо, черные глаза и роскошные черные волосы — все в ней дышало страстью, экстазом. Рукава ее прямого белого одеяния, схваченного рубиновым бархатным поясом, были с разрезами; они упали, открывая ее призывно простертые руки.
— Боже! — молитвенно прошептал Элмер Гентри… С этой секунды его безалаберное существование обрело смысл и цель. Он должен обладать Шэрон Фолконер.
Голос у нее был теплый, чуть хриплый, поразительно богатый оттенками.
— О, дорогие, дорогие мои! Я не стану поучать вас сегодня, — все мы так устали от назойливых проповедей о том, что надо быть добрыми и хорошими! Не стану я говорить вам и о том, что вы грешники, ибо кто из нас не грешен? Не буду толковать писание. Нам всем давно наскучили усталые старички, гнусавыми голосами объясняющие нам библию! Нет! Мы вместе найдем золотые письмена, начертанные в наших собственных сердцах. Давайте вместе петь, вместе смеяться, вместе радоваться, подобно журчащим апрельским ручейкам, сливающимся воедино, радоваться тому, что в нас живет истинный дух вековечного спасителя Иисуса Христа!
Элмер не сумел бы повторить отдельные слова и не вникал в их смысл — да и никто, кажется, не вникал. Он упивался ее голосом, как чарующей музыкой: а когда она сбежала вниз по витой, усыпанной цветами лестнице на нижнюю площадку и простерла руки, призывая людей обрести мир во спасении, он еле сдержался, чтобы не двинуться вперед вместе с вновь обращенными и не преклонить колена в исступленной толпе, под ее благословляющими руками.
Но то не был мистический экстаз. Он смотрел на происходящее глазами критика, растроганного пьесой, но не забывающего, что надо сегодня же сдать в газету свою рецензию.
«Вот оно — то, что я искал! Вот где я мог бы достигнуть славы. Англичанина заткнуть за пояс — пара пустяков. А Шэрон… Ах, что за прелесть!»
Она приближалась, проходя вдоль ряда обращенных или почти обращенных, касаясь ослепительными руками склоненных голов. Он затрепетал оттого, что чувствовал ее так близко. Она поравнялась с ним и спросила своим волнующим голосом:
— Брат, вы не хотите обрести счастье во Иисусе?
И он не склонился ниже, как другие, не зарыдал, а, с вызовом взглянув ей прямо в глаза, стараясь удержать ее взгляд, задорно сказал:
— Я счастлив уж тем, что слышал вашу чудесную проповедь, сестра Фолконер!
Она пристально взглянула на него и мгновенно, с непроницаемым лицом прошла дальше.
У него было такое чувство, будто он получил пощечину. «Ну ничего, я ей еще покажу!»
Пока толпа расходилась, он постоял в сторонке. Заговорил с деловитым молодым англичанином, который читал из «Деяний», — Сесилем Эйлстоном, правой рукой Шэрон.
— Ужасно рад, что попал сюда сегодня, брат! — начал Элмер. — Я, между прочим,— сам баптистский священник. Какая щедрая жатва! И как вы вдохновенно читали!
Сесиль Эйлстон одним быстрым взглядом окинул клетчатый костюм Элмера, его пестрый жилет.
— М-м… В самом деле? Рад слышать! Очень любезно с вашей стороны… Виноват…
Расположение Элмера к Эйлстону не возросло от того, что англичанин покинул его лишь затем, чтобы подойти к скромнейшей, незаметнейшей старушке в ветхой соломенной шляпке с обтрепанными полями.
Элмер решил участь Сесиля Эйлстона разом: «А, ну и черт с ним! От этого малого мы отделаемся! Меня, такого человека, обдает холодом, и тут же рассыпается бисером перед какой-то старухой, которая уж, наверное, давным-давно спаслась так прочно, что теперь ее и целой цистерной джина не обратишь в грешницу. Ну, это я тебе припомню, мой юный друг! И клетчатый костюм ему не по вкусу, а? Ну, еще бы, я же выбираю себе одежду специально, чтобы тебе понравиться! Как же иначе!»
Он ждал, надеясь, что ему удастся еще заговорить с Шэрон Фолконер. Ждали и другие. Она помахала всем рукой, подарила горделивой улыбкой, потерла глаза и жалобно попросила:
— Простите меня. Глаза слипаются от усталости. Мне надо отдохнуть! — И скрылась за великолепной, белой с золотом пирамидой.
Даже сейчас, когда она шаталась от утомления, голос ее не стал тусклым, он вибрировал от сумеречной страстности, которая покоряла Элмера больше, чем ее красота. «Никогда не видел подобной женщины, — размышлял он, шагая к себе в гостиницу. — Личико вроде худовато. Вообще-то мне больше по вкусу пухленькие. Но все-таки, ах ты черт возьми! Я мог бы влюбиться в нее, как не влюблялся никогда в жизни… Так, значит, тебе, паршивый англичанин, не понравился мой костюм? Чересчур франтоватый, так? Ничего, плевать! Кто еще имеет что-нибудь против моего костюма?»
Дремлющая вселенная безмолвствовала, и это почти умиротворило его. А в восемь утра — в Сотерсвилле был превосходный магазин готового платья, фирмы Эрбсен и Гоулдфарб — Элмер был уже в магазине, где приобрел безукоризненно строгий коричневый двубортный костюм и три богатых, но скромных галстука. Он не отставал от мистера Гоулдфарба, пока не добился того, что к половине десятого костюм был уже пригнан по его фигуре, а в десять он с важным видом расхаживал по шатру, заглядывая во все углы…
В это утро ему, по-настоящему, надо было уже двигаться дальше, в другой город.
Шэрон появилась лишь в одиннадцать, чтобы дать указания своим помощницам по работе с населением, и Элмер тем временем успел завязать знакомство с Артом Николсом, долговязым янки, в прошлом парикмахером по профессии, ныне играющем на корнете и французском рожке в инструментальном трио, с которым разъезжала Шэрон.
— Да, дело очень подходящее, — тянул Николс. — Куда выгодней, чем парикмахерская или гастрольные поездки с остановками на один день… Да, я ведь и актер тоже: играл характерные роли в бродячих труппах. Три сезона ездил с цирковой труппой Тома. Но это будет куда легче. Ни тебе парадов на улицах, ничего такого, да и добра немало делаем: спасаем души и все такое.
— И куда же вы отсюда?
— Через пять дней здесь кончаем, забираем денежки — и прощай. Подадимся в Небраску, город Линкольн. Через три дня уже начинаем там. Кочуем, как бродячие актеры, даже пульмана не дожидаемся, выедем отсюда некупированным в одиннадцать вечера, а к часу ночи уже будем в Линкольне.
— Так, стало быть, снимаетесь в воскресенье вечером. Интересно, и я еду тем же поездом. И тоже в Линкольн.
— Что же, приходите послушать. Я на первом собрании всегда играю на корнете «Иерусалим златой». Действует — железно. Наши тут думают, будто это на трепотне все держится, — на красивые слова, мол, грешник идет, — но вы, не верьте. Это все музыка. Да я один со своим корнетом больше нераскаянных грешников доведу до слез, чем десяток самых классных проповедников, вместе взятых!
— Верю, Арт… Видишь, какое дело… Я ведь сам тоже пастор, коммерсантом стал временно, пока подбираю себе новое место. (У Арта стало такое выражение лица, как у человека, который собирается отказать в ответ на просьбу дать денег взаймы.) И все же не верю я всей этой болтовне, будто человеку и повеселиться никогда нельзя. Недаром апостол Павел сказал: «Выпейте немного вина, ибо это полезно для здоровья». Правда, Сотерсвилл — «сухой» город, но я до субботы еще думаю побывать в одном «мокром». Так что ты скажешь, если я объявлюсь здесь с пинтой виски в кармане? А?
— Что ж, я своим здоровьем дорожу и ради него готов пойти на жертвы!
— А что за парень этот англичанин? Вроде как правая рука мисс Фолконер, так?
— О, он парень с головой. Только с нами вот как-то не умеет ладить.
— Ну, а она им довольна? Как зовут-то его?
— Зовут Сесиль Эйлстон. Понимаешь, на первых порах Шэрон очень им была довольна, ну а сейчас, думаю, ей уж надоели все его умные разговоры и что с нами он всегда как чужой…
— Ну, я тут хочу потолковать минутку с мисс Фолконер. Приятно было познакомиться, Арт. Увидимся в воскресенье вечером в поезде.
Разговор этот происходил у одного из многочисленных входов в шатер евангелистов, и Элмер увидел, как в другую дверь стремительно вошла Шэрон Фолконер. Сейчас это была уже не величественная жрица в греческой тунике, а деловая женщина в соломенной шляпке, в сером костюме и белой полотняной блузке с накрахмаленными манжетами и воротником. Лишь синий бант да усыпанный драгоценными камнями крест на кармашке для часов — ничем другим она не отличалась от какой-нибудь конторской служащей. Но Элмер, который всматривался в каждую черточку ее лица и фигуры с жадностью старателя, выбирающего из породы золотые самородки, отметил, что она вовсе не плоскогрудая, как могло показаться, когда на ней была свободная туника.
Она обратилась к своим добровольным помощницам — молодым женщинам, которые вызвались проводить домашние молитвенные собрания, ходить из дома в дом, побуждая людей к религиозной активности.
— Дорогие друзья, я очень рада, что все вы уделяете много времени молитвам, но бывает момент, когда надо и подметкам дать работу. Пока вы печетесь о царствии небесном, дьявол печется о своем по ночам, а днем ныряет среди народа, бывает у людей дома, говорит с ними! Неужели вы стыдитесь зайти в дом и позвать людей ко Христу — пригласить на наши собрания?.. Я недовольна. Да, очень недовольна, мои милые юные подруги! По моим сведениям, в юго-восточном районе из каждых трех домов вы побывали лишь в одном. Это не годится! Пора расстаться с представлением, будто служить господу — такая же милая забава, как украшать лилиями алтарь на пасху. Подумайте! У нас осталось всего пять дней, а вы все никак не можете расшевелиться и начать действовать. И чтобы никаких глупостей насчет того, что, мол, неловко говорить о денежных пожертвованиях. Говорите, и не стесняйтесь! Чем прикажете платить за помещение, переезды, освещение — воздухом? А персоналу, который ездит со мной? Вот вы — да, вы, рыженькая, славненькая… Ох, мне бы такие волосы! Ну что, например, сделали вы за всю эту неделю? На деле, не на словах?
Через десять минут все они у нее уже всплакнули и каждая горела желанием броситься в бой за души и доллары.
Шэрон Фолконер уже направилась к выходу, когда к ней с протянутой рукой, хорохорясь, подскочил Элмер.
— Сестра Фолконер, я хочу вас поздравить с необычайным успехом ваших выступлений. Я баптистский священник Гентри.
— Да? — холодно отозвалась она. — А где находится ваша церковь?
— Видите ли… э-э… церкви у меня в настоящий момент нет…
Она оглядела его своими сверкающими глазами — здоровый румянец, фатоватый вид, запах табака.
— А в чем дело? Пьянство? Или женщины?
— Как можно, ничего подобного! Вы удивляете меня, сестра Фолконер! Моя репутация безупречна! Просто… э-э… просто я на время отошел от церковных дел, чтобы сблизиться с деловым миром и лучше понять душу мирянина, а затем продолжать свое служение в церкви.
— Ах, вот что! Весьма похвально. Благословляю вас, брат! А теперь извините меня, пожалуйста. Я тороплюсь на собрание церковного совета. — И, улыбнувшись ему одними губами, она поспешила прочь.
В эту минуту он казался себе непроходимым тупицей, увальнем, болваном. И все же он мысленно поклялся: «Ну, погоди, черт бы тебя побрал! Захвачу тебя как-нибудь врасплох, когда не будешь так поглощена делами и так дьявольски уверена в себе, — и тогда ты у меня спустишься с небес на землю, голубушка!»
II
За пять дней ему пришлось успеть сделать то, что было рассчитано на девять: побывать в девяти городах, — и все-таки в воскресенье вечером он был уже снова в Сотерсвилле и, надев свой новый коричневый костюм, явился к одиннадцатичасовому поезду на Линкольн.
Его увлечение Шэрон Фолконер переросло в трепетную страсть — первую настоящую любовь в его жизни.
Было слишком поздно, чтобы устраивать пышные проводы, но на станции все-таки собралось не менее сотни братьев и сестер. Пели «Храни нас бог до новой встречи», пожимали руки Шэрон Фолконер. Элмер отыскал глазами своего новоиспеченного приятеля, корнетиста Арта Николса, и остальную евангелическую братию: правую руку Шэрон — Сесиля Эйлстона, толстого, сентиментального солиста-тенора, молоденькую пианистку, скрипача, наставника воскресной школы и руководительницу работы с населением. (Один из главных помощников мисс Фолконер — агент по печати и рекламе — был уже в Линкольне, подготовляя почву для приезда вестников божьих.) Сидя в ожидании поезда на своих чемоданах, они очень смахивали на сонных бродячих актеров и, как все бродячие актеры, были совсем не такие, как на сцене. Хорошенькая бледная пианистка, которая появлялась на собраниях, словно ангел, окутанный облаком серебристой ткани, сейчас была простой провинциалочкой в измятом синем саржевом костюме. Руководительница работы с населением, напоминавшая монахиню в своем белом льняном одеянии, теперь имела явно вызывающий вид в своем красном с черной отделкой платье и поглощена была не столько прощальными гимнами, сколько нежными взглядами немца-скрипача.
А преподобный Сесиль Эйлстон, отдававший носильщику из отеля распоряжения относительно багажа, куда более напоминал сержанта-квартирмейстера, чем мистика с оксфордским дипломом.
Зато Шэрон, вся в белом, была по-прежнему царственно хороша и притягивала всех к себе, точно магнит. Жирный пресвитерианский священник с бакенбардами увивался возле нее, пожимая ей руку с более чем благочестивым жаром. Она, к ярости Элмера, улыбалась ему, улыбалась длинному, тощему священнику секты «апостолов христовых», горячо пожимала всем руки и умилялась каждому. «Благослови вас господь, сестра». Но глаза у нее были усталые, и Элмер заметил, что, когда она отворачивалась от своих почитателей, уголки ее губ опускались. И тогда она казалась совсем юной, утомленной и беззащитной.
«Бедная девочка!» — думал Элмер.
Слепя огнями, оглушая пронзительным свистом, подошел поезд, и труппа засуетилась, подхватывая чемоданы.
— Прощайте!.. Благослови вас боже!.. Господь да благословит ваше дело!.. — кричали все разом — все, кроме священника-конгрегационалиста, хмуро стоявшего в стороне от всех и пояснявшего кому-то из прихожан:
— Укатила… Собрала за шесть недель столько, что всей нашей церкви на два года хватило бы, чтоб прокормиться, и укатила!
Элмер пробрался к своему другу музыканту Арту Николсу и, взбираясь вместе с ним на ступеньки вагона, шепнул:
— Арт! Арт же! Лекарство-то от всех болезней у меня с собой!
— Здорово!
— Вот что! Слушай! Устрой так, чтобы сесть рядом с Шэрон. А потом, немного погодя, выйди покурить.
— Она не любит, когда курят.
— А ты ей не говори, зачем! Выйди — и все… чтобы я мог посидеть и поговорить с ней. Важное дело. Насчет… это… ну, есть один шикарный город, где бы она могла выступить. Новый, понимаешь? На-ка, клади к себе в карман. А в Линкольне достану тебе еще. Ну, давай, входи вслед за ней.
— Ладно, попробуем.
В темном, переполненном и зловонном вагоне стояла жара: дело шло к лету. Тяжело дышали женщины, поскрипывая корсетами, фермеры, сбросив куртки, усердно выводили рулады носами, а Элмер стоял за спинкой скамьи, на которой темным пятном выделялись плечи Арта Николса и неясно мерцал белый костюм Шэрон Фолконер. Элмеру казалось, что она озаряет собою всю вселенную. Она была так дорога ему, каждая ее клеточка: он и не подозревал, что человеческое существо может быть таким бесценным, таким пленительным. Быть рядом с нею — одного этого уже довольно для счастья… почти.
Она молчала. Он слышал лишь гнусавый говорок Арта Николса:
— А не включить ли нам в программу негритянские песни? Встряхнем публику, а? Что вы на это скажете?
И ее сонный ответ:
— Ох, не надо об этом сегодня.
Потом — опять голос Арта:
— Выйти, пожалуй, на площадку, подышать свежим воздухом. — И вожделенное место подле Шэрон освободилось для витающего в облаках Элмера.
Волнуясь, он опустился на скамью. Она сидела усталая, поникшая, но тотчас выпрямилась, взглянула на него в полумраке и со сдержанной учтивостью, которая была обидней всякой грубости, потому что так говорят с чужими, произнесла:
— Мне очень жаль, но это место занято.
— Я знаю, сестра Фолконер. Вагон переполнен, и я только чуточку отдохну, пока нет брата Николса, разумеется, если вы разрешите. Не знаю, помните ли вы меня. Я… мы с вами разговаривали в вашем шатре в Сотерсвилле. Пастор Гентри.
— А-а! — равнодушно отозвалась она. И тотчас добавила: — Ах, да, тот пресвитерианский священник, которого выгнали за пьянство.
— Это совершеннейшая… — Он заметил, что она пристально наблюдает за ним, и догадался, что сейчас рядом с ним не святая, не деловая женщина, а совсем новая Шэрон, доступная и насмешливая. И, восхищенный, продолжал: — …совершеннейшее заблуждение! Я тот ученый богослов, которого выставили за то, что он целовался с регентшей церковного хора в субботу.
— О, это было неосмотрительно с вашей стороны!
— А! Значит, и вам человеческое не чуждо!
— Мне-то? Я думаю! Даже слишком.
— И вам иногда надоедает?
— Что именно?
— Быть знаменитой мисс Фолконер, не иметь возможности зайти в аптечную лавку за зубной щеткой, не рискуя услышать завывание аптекаря: «Хвала господу, у нас есть роскошные щетки, двадцать пять центов штука, аллилуйя!»
Шэрон прыснула.
— Надоедает, — убаюкивающе журчал он, — что не имеешь права уставать, как, например, сегодня, что рядом нет поддержки и опоры!
— Полагаю, дорогой преподобный брат мой, что это надо понимать как великодушное предложение быть мне поддержкой и опорой!
— Нет. Я бы не посмел! Я вас боюсь до смерти. Вы не только красивы… нет! Дайте же объяснить, какое впечатление вы производите на коллегу-проповедника… не только красивы, не только поразительно артистичны и хладокровны, но к тому же, кажется, и умны!
— Нет. Чего нет — того нет, умишком не вышла. Одни чувства. В этом-то и беда моя.
Голос ее теперь звучал уже не сонно и очень дружелюбно.
— Но подумайте, сколько грешных душ вы привели к раскаянию! Это ведь вознаграждает за все, правда?
— Да, наверное… О да, конечно! Только это одно и важно. Только… Скажите: что с вами все-таки случилось на самом деле? Почему вы отошли от церкви?
Он заговорил, очень серьезно:
— Я учился на старшем курсе Мизпахской духовной семинарии, но уже имел свой приход. Увлекся одной девушкой. Не скажу, что, дескать, она меня завлекла. В конце концов мужчина должен сам отвечать за глупости, которые совершает. Но, во всяком случае, ей, конечно… словом, ее забавляло, что по ней сходит с ума молодой священник. И потом она была так прелестна! Очень похожа на вас, только не такая красивая, куда там, и притворялась, будто страшно интересуется церковными делами — на это я и попался. Вот… Короче говоря, мы обручились; я только и думал что о ней да как мы славно заживем, как вместе будем трудиться во славу господа. Ну, а раз вечером прихожу и застаю ее в объятьях другого! Это так меня подкосило, что… О, я пытался и все такое, но просто не мог продолжать работать — и ушел на время. На новой службе дела пошли неплохо. Но сейчас я готов вернуться к той единственной работе, которую всегда любил. Вот о чем я и хотел с вами поговорить тогда, в шатре. Мне было нужно ваше женское сочувствие, ваш совет, а вы меня оттолкнули!
— О, простите, мне очень жаль! — Она ласково погладила его по руке.
Подошел Сесиль Эйлстон, взглянул на ник далеко не благостным взглядом.
Когда они подъезжали к Линкольну, Элмер уже держал ее руку в своей и говорил:
— Бедное дитя, милое, усталое дитя!.. — и — Вы не позавтракаете со мной? Где вы остановитесь в Линкольне?
— Знаете что, брат Гентри…
— Элмер!
— Ох, без глупостей, пожалуйста! Не пытайтесь воспользоваться тем, что я так измучена и что мне нравится иной раз побыть просто человеком…
— Шэрон Фолконер, вы ровным счетом ничего не поняли… Я восхищаюсь вашим талантом, вашим самоотверженным служением господу, но больше всего восхищаюсь тем, что вы — фигура, вы большой человек, а не обыденный, узкий профессионал-святоша. Вы сами отлично знаете, что иногда вам бывает приятно вести себя просто, говорить, не выбирая выражений. А сейчас вам слишком хочется спать, и вы не можете судить, нравлюсь я вам или нет. Поэтому я и хочу встретиться с вами за завтраком, когда сон не будет туманить эти дивные глаза…
— Хм! Звучит довольно искрение, кроме последней фразы… Эта, безусловно, не раз бывала в употреблении. Знаете, а вы мне нравитесь! Вы так бесподобно нахальны, так изумительно неразборчивы в средствах, так восхитительно невежественны! В последнее время мне приходилось слишком много бывать в благочестивом обществе. Эта глубокая уверенность в том, что вы способны меня пленить, очень забавна! Смешная вы личность, право… А остановлюсь я в отеле Антлерс, и, кстати, не старайтесь получить номер рядом с моим. Я фактически сняла целый этаж. Итак, встретимся в отеле за завтраком в половине десятого.
III
Спал он плохо, но все-таки рано вскочил и тотчас занялся своим туалетом. Побрился, опрыскал свою пошловатую красивую физиономию туалетной водой «сирень» и привел в порядок ногти, сидя в спортивных трусах и в майке в ожидании, когда принесут его новый костюм, который он отдал погладить. В жизни его, недавно вялой и скучной, появилась новая цель; вот почему дерзкие глаза его ярко блестели и упруго играли сильные мускулы, когда он проходил по мраморному с позолотой вестибюлю отеля Антлерс и остановился у дверей ресторана, поджидая Шэрон. Она спустилась вниз, свежая, в белом полотняном платье с синей каймой. Здороваясь, они рассмеялись, как добрые товарищи по озорным проделкам. Весело взяв ее под руку, он прошел мимо шушукающихся подавальщиц, взволнованных появлением знаменитой проповедницы слова божьего, и со знанием дела заказал завтрак.
— У меня блестящая идея, — сказал он. — Сегодня мне надо уехать отсюда, но в пятницу я вернусь в Линкольн. Что, если б мне выступить в пятницу вечером на вашем собрании в роли бизнесмена, который обрел спасение души? И поговорить эдак с полчаса о практической, трезвой, разумной, выраженной в долларах и центах выгоде пребывания во Христе с точки зрения коммерции?
— А говорите вы хорошо?
— Сногсшибательно.
— Что же, быть может, и неплохая идея. Да, определенно! Кстати, вы чем занимаетесь? Грабежом?
— Я, Шэрон, лучший торговый агент компании Пикот — сельскохозяйственный инвентарь. А если вы не верите…
— Верю, верю. (Хоть ей и не следовало бы.) Я не сомневаюсь, что вы говорите правду… изредка. Разумеется, мы не станем упоминать о том, что вы священник, разве что спросят. Ну-с, подойдет вам такая тема: «Как добиться успеха в жизни с библией Гидеона»[78]?
— О-о, шикарно! Стало быть, так. Попал я как-то в заброшенный городишко; погода жуткая, слякоть, дождь и прочее — темные тучи на небе, казалось, уж никогда не выглянет солнце. Промочил насквозь ноги, бесплодно бродя по улицам. Дела идут скверно, на товар спроса нет, полная безнадежность. Сижу у себя в номере… Забыл купить какой-нибудь пустой журнальчик из тех, которые привык читать. Рассеянно беру со стола библию Гидеона, читаю притчу о талантах — в тот же день узнаю, что в городе вы, иду и… обретаю благодать. Вижу, что обязан добиться повышения торговых оборотов, но уже не ради денег, а во славу царствия Христова, чтобы усилить свое влияние как христианина и делового человека. Это настолько придает мне уверенности в собственных силах, что я заключаю сразу несколько отличных сделок и побиваю конкурентов. И всем этим я обязан вашему вдохновенному слову, что и считаю за честь засвидетельствовать. А искать спасения души следует, мол, вовсе не слабым и хлипким неудачникам, а сильным, ибо только сильный не устыдится сложить все к ногам Иисуса.
— Что ж, прекрасно задумано, брат Элмер, отдаю вам должное. Особенно остановитесь на том, что происходило в номере: как вы сняли башмаки, как растянулись на кровати, чувствуя себя совершенно побитым, как, не находя себе места от беспокойства, поднялись снова, заходили по комнате, машинально взяли в руки библию… О рекламе я позабочусь. Но это будет сильно, Элмер? Вы не подведете меня? Ведь в афишах ваше выступление будет на самом видном месте. Значит, я убедила вас специально приехать из Омахи — нет, это слишком близко, — из самого Денвера. Если вы действительно постараетесь как следует, разойдетесь вовсю, это сильно приумножит славу господню, а также число заблудших душ, которые будут спасены на собрании. Ну как, — постараетесь?
— Милая, я им задам такого жару, что вы потом захотите возить меня с собой повсюду. Ручаюсь.
— Хм! Там будет видно, Элмер. А вот и Сесиль Эйлстон! Вы незнакомы с моим помощником? У-у, какой у него сердитый вид! Он, вообще, славный, но такой ужасно интеллигентный, изысканный и прочее и вечно требует от меня, чтобы и я была такой же. Но вы его полюбите.
— Ну нет! Во всяком случае, буду стойко сопротивляться этому чувству.
Оба рассмеялись.
Преподобный Сесиль Эйлстон (льняная шевелюра, великолепный, истинно английский цвет лица) плавно приблизился к их столику, окинул Элмера скучающим взглядом, гораздо более оскорбительным, чем недовольная гримаса, и сел, заметив:
— Я не хотел бы вам мешать, мисс Фолконер, но позвольте напомнить, что вас ждут в гостиной представители местного духовенства.
— Увы! — вздохнула Шэрон. — Такие же ужасные, как и везде, да? Может, вы сами подниметесь к ним и провернете коленопреклонения и молитвы, пока я доем яичницу? Предупредили вы их, что до конца недели необходимо удвоить сумму пожертвований? А не то пусть все линкольнские души и дальше катятся прямехонько в ад!
Сесиль тревожно покосился на Элмера.
— Ничего, ничего. Насчет Элмера не беспокойтесь. Он свой человек. Выступит у нас в пятницу. Был раньше знаменитым проповедником, но нашел в бизнесе более широкое применение своим талантам. Итак, разрешите представить вас друг другу: преподобный Эйлстон — преподобный Гентри. Ну, бегите, Сесиль, да не давайте им скучать и поддержите в них пламя благочестия. А что, все — старые развалины? Или есть отцы помоложе и на вид ничего себе?
Эйлстон ответил возмущенным взглядом и, поджав губы, удалился.
— Милый Сесиль, он так много сделал для меня — буквально заставлял читать стихи и всякое такое. Если б он еще только не был так убийственно корректен за завтраком!.. Я не убоялась бы хищников Эфеса[79], но есть накрахмаленную яичницу!.. Ну, пора и мне идти наверх.
— За ленчем увидимся?
— Отнюдь. Да, мой прекрасный молодой человек, глупостей на эту неделю хватит. С этой минуты я одна из помазанников божьих, и если вы хотите мне нравиться… да поможет вам бог, если вы вздумаете подкатиться ко мне, распустив хвост, когда я буду расправляться с этими меднолобыми братьями во Христе! Увидимся в пятницу. Пообедаем здесь вместе перед собранием. Значит, я могу на вас положиться? Отлично!
IV
Сесиль Эйлстон был отчасти мистик, отчасти приверженец обрядов, немножко шарлатан, немножко ученый, нередко — пьяница, а еще чаще — аскет и неизменно джентльмен и авантюрист. Ему было тридцать два года. В Винчестере[80] и в Нью-Колледже[81] он славился рекордами в беге на короткие дистанции, снобизмом и знанием греческой поэзии. Приняв духовный сан, он некоторое время был помощником викария в очень старинном, очень грязном и на редкость плохо освещенном храме в Ист-Энде и стал фанатическим приверженцем англо-католической церкви. Пока он размышлял, не уйти ли ему от мира в англиканский монастырь, викарий прогнал его, причем за что — так и осталось невыясненным: то ли за римскую ориентацию, то ли за шашни с дочкой одного чернорабочего, которую он наградил ребенком.
Его понизили — перевели в мрачную, квадратную каменную церковь в Корнуолле; тогда он ушел к Плимутским братьям и в их гулких часовнях из оцинкованного железа снискал себе на всю Блэк-Кантри славу грозного обличителя всех сладостных грехов. Однажды, приехав в Ливерпуль, где ему предстояло прочесть ряд проповедей и, бродя вдоль доков, он увидел готовый к отплытию пароход, купил палубный билет, прихватил с собой паспорт, который выправил себе для предполагаемого побега в Рио с женой одного набожного торговца углем, и, не сказав ни слова братьям во Христе, равно как и пылкой супруге угольного торговца, хмуро отбыл в Америку.
Прибыв в Нью-Йорк, он продавал галстуки в универсальном магазине, читал проповеди в какой-то миссии, был репетитором у дочки крупного рыбного оптовика, писал остроумные и едкие рецензии на книги. Затем уехал из Нью-Йорка, на два часа опередив старшего сына рыбного оптовика, и объявился в техасском городе Уэйко в роли преподавателя коммерческого колледжа; а после — в Уиноне (штат Миннесота) в качестве проповедника в молитвенном доме назареян[82]. В Кармеле (штат Калифорния) он писал стихи и справочники по продаже недвижимого имущества, а в Майлс-сити (штат Монтана) замещал в летние месяцы священника-конгрегационалиста. Там он пленил своей кротостью и усердием вдову какого-то фермера, и она вышла за него замуж. Потом она умерла, и он в два дня проиграл наследство в Тиа-Джуана. После этого он проникся сугубым благочестием и время от времени давал спасать себя то Билли Сандею и Цыгану Смиту, то Бидервулфу[83] и другим проповедникам, которых ставил в затруднительное положение: не рассчитывая на столь быструю победу, они не успевали обдумать, какой прок можно извлечь из новообращенного.
В Ишпеминге (штат Мичиган), где он заведовал тиром, одновременно хлопоча по почте о месте преподавателя в Гротон-Скул, он впервые услышал о Шэрон Фолконер и дал ей спасти себя с еще большей готовностью, чем обычно. Он влюбился в нее и хладнокровно, с пренебрежительной решимостью поставил ее в известность об этом.
У нее в то время как раз не было постоянного помощника. Она только что уволила очень полезного человека — велеречивого доктора богословия из секты «Объединенные братья»[84], за то, что он позволил себе намекнуть радостно внимающим сынам порока, что его отношения с Шэрон меньше всего можно назвать братскими. Итак, она взяла на его место преподобного Сесиля Эйлстона.
Он любил ее отчаянно. Он был так предан ей, что бросил пить, бросил курить и даже покончил с усилившейся в нем за последнее время страстью к подлогам, а с нею самой он творил чудеса.
До сих пор она была чересчур эмоциональна. Он научил ее не расходовать чувство зря, а вложить его разом в одно потрясающее, грандиозное выступление. Она очень вольно обращалась с грамматикой, прибегала в выступлениях к вульгарным и даже грубым примерам для иллюстрации своих слое. Он приучил ее терпеливо сидеть за книгой, читать Суинберна и Джоуитта[85], Патера и Джонатана Эдвардса[86], Ньюмэна[87] и сэра Томаса Броуна[88]. Он научил ее пользоваться своим голосом, глазами и — в более интимных отношениях — своею душой.
Она дивилась ему, досадовала на него, покорно слушала его и в конце концов стала тяготиться его высокомерным и преданным чувством. Он же любил ее больше жизни и ради нее отверг авансы завидной вдовушки, хотя вдовушка могла бы вернуть его в лоно епископальной церкви и добиться его назначения в полутемный и богатый храм, по которому томилась его душа после долгих месяцев, проведенных среди опилок и потных раскаявшихся грешников.
V
В пятницу, сойдя с поезда в Линкольне, Элмер остановился перед афишей, на которой черными и красными буквами сообщалось, что Элмер Гентри — крупная величина в промышленном мире, а также — занимательный и искусный оратор и что его выступление на тему «С библией Гидеона — к успеху в коммерции» явится «откровением для тех, кто стремится сделать отличную деловую карьеру».
— Вот это да! — протянула крупная величина. — Одна такая афиша стоит десяти миллионов проданных плугов!
Он мысленно представлял себе Шэрон Фолконер в ее номере в золотистом свете догорающего дня, одинокую, тоскующую — тоскующую о нем. Но когда он позвонил ей по телефону, она сухо ответила:
— Нет, очень сожалею, но сейчас принять не могу, увидимся без четверти шесть, за обедом.
Когда Шэрон, нахмуренная, деловитая, недовольная и к тому же в сопровождении Сесиля Эйлстона, торопливо вошла в ресторан, Элмер, еще не опомнившись от того холодного приема, был сдержан и молчалив.
— Добрый вечер, сестра… добрый вечер, брат Эйлстон, — чинно прогудел он.
— Здравствуйте. К выступлению готовы?
— Вполне.
Ее лицо чуть просветлело.
— Это хорошо. Все остальное идет из рук вон скверно. Здешнее духовенство воображает, будто можно таскать с собой целую ораву праведников так, за красивые глаза. Проберите их хорошенько, расскажите, на какие муки обречены скупцы-бизнесмены. Ладно, Элмер? До чего ж трясутся над деньгой! Знаете что, Сесиль? Будьте любезны не корчить такую мину, будто я кого-то укусила. Никого еще… пока.
Эйлстон пропустил ее слова мимо ушей. Элмер и он оглядывали друг друга, как пантера и буйвол (впрочем, буйвол свежевыбритый и отчаянно благоухающий лосьоном для волос).
— Брат Эйлстон, — заговорил Элмер. — Я прочел в отчете о вчерашнем собрании, что вы говорили о Марии, о помазании народом, читали «Идиллии короля» Теннисона[89]… Так, во всяком случае, говорится в газете…
— Все правильно.
— И вы думаете, это подходящий материал для молитвенного собрания? Церковь — другое дело, в особенности где есть богатые прихожане, люди из общества, но в походе за спасение душ…
— Дорогой мистер Гентри, мы с мисс Фолконер раз и навсегда решили, что даже в самой ожесточенной борьбе за спасение душ нет надобности угощать нашу паству пошлятиной.
— Ну, я бы им выдал не это!
— А что же именно, разрешите спросить?
— Добрую старую преисподнюю, вот что! — Элмер покосился на Шэрон и заметил, что она одобрительно улыбается. — Да, сэр, как в гимне поется: ад наших отцов хорош и для нас.
— Вот как! Боюсь, что он недостаточно хорош для меня, и не думаю, чтобы Иисус тоже питал к нему особенную нежность.
— Ну, во всяком случае, когда он пребывал у Марии, Марты и Лазаря, он не прохлаждался с ними, распивая чаи, будьте уверены!
— Но почему же, мой друг? Разве вам неизвестно, что чай впервые доставлен с Цейлона в Сирию караваном в шестьсот двадцать седьмом году до рождества Христова?
— Н-нет, я точно не знал, когда…
— О, конечно, вы просто забыли. В бытность вашу в университете вы, несомненно, читали о великом эпикурейском походе Фталтазара, ну, когда еще он взял с собой тысячу сто верблюдов? Псалтызар — помните?
— О да! О походе помню, я просто не знал, что он вез чай.
— Ну, естественно. Я понимаю. Да, мисс Фолконер, наш пылкий Шуп намерен сегодня петь соло гимн «Таков, как есть». Нельзя ли как-нибудь помешать? Эделберт — славная божья душа, но в таком виде, каков он есть, он грузноват. Вы не поговорили бы с ним?
— Ах, не знаю… Пусть поет. Он массу душ к нам привлек этим гимном, — зевнула Шэрон.
— Каких-то паршивеньких душонок…
— Ах, нельзя же так чваниться! Когда вы попадете на небеса, Сесиль, то станете ворчать, что серафиты… да, ладно, ладно, знаю, что «серафимы», просто обмолвилась, — что серафимы носят не такие корсеты!
— Не поручусь, что вы именно так и представляете себе рай: ангелы в корсетах, а вы — в золотом особняке на фешенебельной небесной Парк-Лейн[90]!
— Сесиль Эйлстон, не ссорьтесь со мной сегодня! Я чувствую, что с минуты на минуту начну действовать… вульгарно! Любимое ваше словечко! Я, право же, не прочь спасти душу кое-кому из своих собственных людей! Элмер, вы как думаете, бог учился в Оксфорде?
— Несомненно!
— И вы тоже, разумеется!
— Я-то нет, куда там! Я учился в захолустном колледже в Канзасе! И родился тоже в захолустном городишке в том же Канзасе!
— Да и я, фактически! Нет, родом-то я из очень старой виргинской фамилии и родилась, как говорится, в «родовом поместье», но мы были до того бедны, что наша гордость была просто смешна. Скажите, а вам приходилось в детстве колоть дрова и полоть грядки?
— Мне-то? Ого! Еще как!
Они сидели, положив локти на стол, хвастливо обмениваясь воспоминаниями о своем захолустном детстве, то и дело поражаясь тому, как много у них было общего, а Сесиль хранил ледяное молчание.
VI
Выступление Элмера на молитвенном собрании произвело фурор.
В его речи было все: четкий план, мелодические раскаты бархатного баритона, красивые фразы, занимательные примеры из жизни, высокие чувства, целомудренный подход к предмету, неподкупное благочестие.
Позже Элмер объяснял поклонникам своего ораторского таланта, что важнее всего — план. Что бы они подумали, спросил он, об архитекторе, который увлекся окраской и отделкой, не позаботившись создать проект здания? А велеречивые излияния Элмера в тот вечер отличались редкостной стройностью плана.
В первой части он признался, что, несмотря на свои успехи в коммерции, жил во грехе вплоть до того часа, когда, не находя себе места и слоняясь по номеру, стал лениво перелистывать Гидеона и был потрясен до глубины души притчей о талантах.
Во второй части он доказывал на собственном примере ценность христианства в переводе на звонкую монету. Он отметил, что коммерсанты часто предпочитают явному мошеннику человека надежного и благочестивого.
Пока что он был, пожалуй, слишком реалистичен. Он догадывался, что Шэрон никогда не возьмет его на место Сесиля Эйлстона, если не увидит, что душа его до краев переполнена поэзией. И потому в третьей части он заговорил о любви. Он объяснил, что если христианство не только мечта и идеал, но и практическое руководство к действию, то этим оно обязано любви. Он говорил о любви очень мило. Он сказал, что любовь — это утренняя звезда и звезда вечерняя. Это сияние над тихой могилой, а также источник вдохновения как патриотов, так и директоров банков. Что же касается музыки — то что есть музыка, как не голос любви?
Он увлек своих слушателей (а их было тысяча триста душ, и все слушали его очень почтительно) на головокружительные высоты идеализма и оттуда, словно орлов с горной вершины, стремительно низринул их в юдоль слез:
— Ибо, братья и сестры мои, как ни важно проявлять благоразумие в делах мира сего, важнее всего — мир грядущий, и в связи с этим мне хочется припомнить в заключение очень прискорбный случай, свидетелем коего я был недавно. Мне часто приходилось встречаться на деловой почве с одним очень видным человеком — Джимом Леф… Леффингуэллом. Ничто не мешает мне назвать вам его имя, потому что его уже судит вечный судия. Старина Джим был чудесный человек, но обладал роковыми недостатками: он курил, он пил вино, он играл в азартные игры и, как ни больно признаться, был не всегда воздержан в выражениях и иной раз произносил имя господа всуе. Однако Джим очень любил свою семью, в особенности же свою маленькую дочурку. И вот она заболела. О, какие тяжелые времена настали для всего дома! Убитая горем мать то входила на цыпочках в комнату больной, то снова выходила! Озабоченные доктора сменяли друг друга, стараясь ей помочь. А отец, несчастный старина Джим, сгорбившись от горя, не отходил от маленькой кроватки и за одну ночь совершенно поседел. Но вот наступил кризис, и на глазах у плачущего отца маленькое тельце затихло, и чистая, нежная, юная душа отошла к своему творцу… Джим пришел ко мне, рыдая, и я обнял его, как обнял бы маленького ребенка. «О боже, — рыдал он, — подумать только — я прожил всю жизнь во грехе, и моя малютка скончалась, зная, что ее папочка — грешник!»
Стараясь утешить его, я сказал: «На то была божья воля, старина, чтобы она ушла от тебя. Ты сделал все, что может сделать смертный. Лучшие врачи… Лучший уход».
Никогда не забуду, с каким негодованием он напустился на меня. «И ты называешь себя христианином! — вскричал он. — Да, были и врачи и уход, но одного недоставало — того, что одно только и могло спасти ее, — я не мог молиться!»
И этот сильный человек в отчаянии упал на колени, и, при всем своем опыте, я, привыкший изъяснять пути господни своим… своим собратьям-коммерсантам, — я не нашелся, что сказать. Было слишком поздно!
О братья мои! О друзья-бизнесмены! Неужто и вы будете оттягивать час покаяния, пока не будет уже слишком поздно! Вы скажете, что это — ваше дело? Так ли? Так ли это? Имеете ли вы право взваливать бремя своих грехов на тех, кто вам всего ближе и всего дороже? Неужели вы любите свои грехи больше вашего милого сынишки, больше крошки-дочки, больше нежного брата, доброго старика отца? И вы хотите их наказать? Хотите? Неужели у вас нет никого, кто был бы вам дороже, чем ваши грехи? А если есть — встаньте! Разве нет среди вас человека, который готов встать и помочь такому же деловому человеку, как он сам, нести в мир евангелие — нести миру радость? Неужели никто не подойдет ко мне? Не поможет мне? О, придите же сюда! Дайте мне пожать вам руку!
И они устремились к нему — десятки людей устремились к нему, рыдая. Рыдал и он, умиленный тем, какой он хороший.
Потом они стояли в узком проходе позади белой с золотом пирамиды — Шэрон и Элмер, — и она воскликнула:
— О, это было прекрасно! Честное слово, я чуть сама не заплакала, Элмер! Просто великолепно!
— Ну что — не захватил я их? А? Каково! Знаете, Шэрон, я так рад, что все сошло удачно, потому что это — ваше собрание, и я хотел отдать вам все, на что я способен!
Он шагнул к ней, протянув руки, и на этот раз, впервые в жизни, он не фальшивил, не думал о любовной дипломатии. Он шел к ней, как маленький мальчик к матери, чтобы она похвалила его. Но она отпрянула, прошептав просительно и без всякой насмешки:
— Нет! Пожалуйста!
— Но ведь я вам нравлюсь?
— Да.
— Очень?
— Не очень. Очень никто не может. Но все-таки вы мне нравитесь. Когда-нибудь я, быть может, и смогу полюбить вас. Чуть-чуть. Если вы не будете очень торопить меня. И только физически. Моей души, — гордо закончила она, — не может коснуться никто!
— По-вашему, это пристойно! Да разве это не грех?
Она вспыхнула:
— Я не могу согрешить! Я выше греха! Я воистину овеяна благодатью! Что бы я ни вздумала сделать, даже то, что грех для непосвященного, во мне обращается во славу божью! Я могу поцеловать вас, вот так — она легко коснулась губами его щеки — или страстно, бесконечно страстно, и это лишь будет символизировать мое полное единение с Иисусом! Я открыла вам тайну. Вам ее никогда не понять. Но служить мне вы можете. Хотите?
— Да… А ведь я никогда еще никому не служил! Так — можно? Прогоните вы этого чванного слюнтяя Сесиля, и будем работать вместе с вами. Разве не пригодятся вам эти вот руки, чтобы защитить вас, когда придет время?
— Может быть. Но меня нельзя торопить. Я — это я! И решаю тоже я.
— Да. Это, как видно, правда, Шэрон. Вы, должно быть, загипнотизировали меня или не знаю уж, что…
— Пока нет. Когда-нибудь, возможно, если вздумаю… Я все могу, стоит лишь захотеть. Господь избрал меня, чтобы творить его дело. Я — воплощение Жанны д'Арк, Екатерины Сиенской[91]! Мне являются видения! Бог говорит со мной. Я вам сказала как-то, что недостаточно умна, чтобы соперничать с мужчинами-евангелистами. Вздор! Ложная скромность! Они посланцы божьи, но я… я правая рука господа!
Она говорила нараспев, откинув голову, закрыв глаза, и он, вздрогнув, прошептал:
— Господи, да она одержимая!
Но ему было все равно. Он отдал бы все на свете, чтобы следовать за ней. Запинаясь, он сказал ей это, но она прогнала его прочь, и он тихонько побрел к себе, исполненный такого смирения, какое до сих пор было ему неведомо.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
I
В это лето Шэрон Фолконер провела еще два цикла молитвенных собраний, и в каждом «крупная величина в промышленном мире» живописала историю своего обращения, свершившегося благодаря притче о талантах и красноречию сестры Фолконер.
Порой она держалась с ним, как с близким человеком, порой смотрела на него стеклянными, невидящими глазами. Однажды она резко бросила ему:
— Вы курите, да?
— Я… да.
— Слышу по запаху. Терпеть не могу! Можете бросить? Раз и навсегда? И пить тоже?
— Да. Брошу.
И он бросил. Мучился, томился, не находил себе места, но ни разу с тех пор не прикоснулся ни к спиртному, ни к табаку и искренне жалел, что по вечерам, которые теперь нечем было заполнить, его нет-нет да и тянуло к горничным в отелях.
Однажды, в конце августа, в небольшом городке штата Колорадо, когда он после второго выступления в роли спасенного финансового титана возвращался с Шэрон в отель, он взмолился:
— Позвольте мне зайти к вам! Прошу вас! Нам никогда не удается просто посидеть и поболтать.
— Хорошо. Приходите через полчаса. Звонить по телефону не надо. Поднимитесь прямо в номер Б.
Полчаса трепетного ожидания — ожидания, сродни страху.
В каждом городе, где Шэрон проводила свои собрания, ее приглашали остановиться у кого-нибудь из праведных отцов города. Она всегда отказывалась.
У нее имелось наготове подробное объяснение: она может «полнее отдаваться молитвам, имея свое пристанище, где сама атмосфера понемногу становится все более одухотворенной».
Элмер гадал иной раз, не останавливается ли она в отеле ради атмосферы Сесиля Эйлстона, но старался не особенно задумываться об этом, чтобы не страдать.
Полчаса миновало.
Он нетвердой походкой поднялся к номеру Б и постучал.
— Войдите, — донеслось издалека.
Она была в спальне. Он медленно вошел в непроветренную гостиную. Обои в исполинских розах, на столике — ужасающая, пузатая золоченая ваза, два жестких кресла у стены, скрипучий диванчик. Лилии, которые ей прислали ее ученики, увядали в корзинках, в умывальном кувшине, ворохом лежали в углу. Вокруг фарфоровой плевательницы рассыпались бледно-розовые лепестки.
Элмер смущенно примостился на краешке кресла. Сам он не осмеливался заглянуть за пыльную парчовую портьеру, отделяющую гостиную от спальни, но воображение его было куда смелей.
Она откинула портьеру и остановилась, осветив, словно пламя, унылую комнату. Она сменила свою белую тунику на алый пеньюар с рукавами из золотой парчи — золото и пурпур, масса черных волос, узкое бледное лицо…
Бросив Элмеру:
— Идите сюда! — она скользнула на диван.
Он благоговейно обвил рукой ее стан, и голова ее легла ему на плечо. Он прижал ее к себе сильнее.
— Ах, нет, не надо любить меня сегодня, — вздохнула она, не двигаясь. — Вы узнаете, когда я сама захочу… А сегодня будьте хорошим, утешьте меня…
— Но я не могу вечно…
— Знаю. Вечно, быть может, и не придется… Как знать! О, мне нужно… Сегодня мне нужен только бальзам для моего тщеславия. Говорила я вам когда-нибудь, что я воплощение Жанны д'Арк? Я и сама иногда в это верю. Безумие, конечно! На самом деле я — весьма невежественная молодая женщина, с солидным запасом энергии, направленной не на то, что нужно, и с некоторой долей идеализма. Я произношу классные проповеди шесть недель подряд, но если бы я осталась в том же городе шесть недель и один день, мне пришлось бы вертеть шарманку сначала. Я умею красиво говорить, но почти все проповеди написаны Сесилем, а остальные я ворую без зазрения совести.
— Вам нравится Сесиль?
— О, какой славный, ревнивый толстяк!
Она, чей голос так недавно звучал, подобно грозному органу, сейчас лепетала, как малое дитя.
— Черт побери, Шэрон, не изображайте из себя младенца, когда я говорю серьезно!
— Черт побери, Элмер, не смейте говорить «черт побери»! Ненавижу мелкие грешки: табак, брань, сплетни, пьянства ради того, чтоб быть навеселе. Люблю крупные: убийство, страсть, жестокость, честолюбие!
— А Сесиль? Он тоже из тех крупных пороков, которые вы любите?
— О, он милый мальчик! И до чего всерьез принимает себя! Прелесть!
— И любит-то, наверное, так же горячо, как сливочное мороженое в стаканчике.
— О-о, вы бы очень удивились!.. Ну ладно, ладно! Не терпится вам, бедняжка, чтобы я сказала какую-нибудь гадость про Сесиля? Хорошо, доставлю вам это удовольствие. Так вот: он очень много сделал для меня. Он и в самом деле кое-что знает; он-то, во всяком случае, не добротный обелиск невежества, вроде нас с вами.
— Но, послушайте, Шэрон, ведь я тоже окончил колледж и к тому же, в сущности, имею право называться бакалавром богословия.
— О том я и говорю. Сесиль, он по-настоящему знает, как читать. И, спасибо ему, отучил меня от того, чтоб держаться, как служаночка из второсортного отеля. Вот только… просто я уже переняла все, чему он может научить, и если я еще немного проникнусь его высокомерием, то потеряю всякую связь с простым народом — благослови его, боже, этот славный, милый, честный народ!
— Прогоните его. Возьмите меня. О, дело не в деньгах. Вы это знаете, дорогая. Лет через десять, когда мне будет тридцать восемь, я могу стать у Пикот коммерческим директором — тысяч эдак десять в год, а когда-нибудь и председателем правления — это уже тридцать тысяч. Я не заработка ищу, а… Ох, я с ума схожу по вас! Я никого в жизни не обожал, кроме вас, вот еще только маму. Я люблю вас! Слышите? Черт побери — да, я сказал «черт побери» — я вас боготворю! О Шэрон, Шэрон, Шэрон! Я ведь не лгал, когда говорил сегодня, что вы меня обратили на путь истинный, — вы в самом деле сделали меня другим человеком! Вы позволите мне вам служить! И, может быть, согласитесь выйти за меня замуж?
— Нет. Не думаю, чтоб я когда-нибудь вышла замуж — как это принято понимать. Возможно, я выставлю бедняжку Сесиля и возьму вас. Увидим. Во всяком случае… Дайте мне подумать.
Она сбросила его руку и задумалась, опершись подбородком на руки. Он припал к ее ногам — в буквальном и переносном смысле.
Наконец она заговорила:
— В сентябре собрания будут в Венсенне, и всего четыре недели. Весь октябрь буду отдыхать перед зимней кампанией, зимой вы меня не узнаете: шик, блеск, закрытые помещения, большие залы!.. Поеду домой в Виргинию, в старое родовое поместье Фолконеров. Папа и мама уже скончались, и оно теперь принадлежит мне. Старая плантация. Хотите приехать туда ко мне недели на две в октябре? Только вы и я…
Элмер не помнил себя от счастья.
— Хочу? О боже!..
— А вам удастся освободиться?
— Да. Хотя бы мне это стоило места!
— В таком случае… я вам пришлю телеграмму, когда приехать. Я поеду первая. Адрес — Виргиния, Браутон. Хэннинг-Холл. А сейчас я, пожалуй, лягу, милый. Приятных сновидений!
— Можно, я вас уложу?
— Нет, дорогой! А вдруг я забуду, что я сестра Фолконер… Спокойной ночи!
Ее поцелуй был легок, как дуновение ветерка. Элмер послушно вышел, удивляясь тому, что Элмер Гентри способен любить так сильно, что даже не добивается любви.
II
В Нью-Йорке он купил себе костюм из ирландского грубого сукна, рябенькую кепку. Идиллически благодушный, массивный, сидел он у окна пульмановского вагона, с умилением взирая на поля Виргинии. «Старая Виргиния — ах, старая Виргиния!» — блаженно мурлыкал он. Причудливо извивающиеся изгороди, негритянские хижины, тонконогие кони на скалистых пастбищах, при виде которых вспоминались плантаторы, разъезжающие на них, бесконечные синие холмы… Это был старый край, старше его жаркого Канзаса, старше Мизпахской семинарии, и ему хотелось стать частью этого края, полного традиций, этого мира, к которому принадлежит Шэрон. А потом, по мере того как сокращались мили, отделявшие его от нее, он перестал обращать внимание на теплые краски ландшафта за окном и отдался предвкушению встречи с нею.
Он вспомнил, что она аристократка, особенно здесь, в кругу старых друзей ее родовитой семьи. Он робел больше прежнего… И больше прежнего гордился своей победой.
На перроне он на мгновение подумал, что она не встречает его, и тут же увидел девушку, стоящую подле старомодного деревенского шарабана.
Она казалась такой молоденькой — совсем девочкой в своей матросской блузке с широким вырезом у ворота, белой плиссированной юбке и белых туфельках. Ее красный берет был лихо сдвинут набок. Увидев его, она простецки, лукаво улыбнулась и замахала рукой. И эта девушка была сестра Фолконер.
— Боже, до чего вы обворожительны! — шепнул он ей, бросая свой чемодан и обнимая ее, такую душистую и нежную. Он поцеловал ее.
— Довольно! — шепнула она. — Предполагается, что вы мой кузен, а даже самые нежные кузены не целуются с таким знанием дела.
Пока шарабан трясся по холмистой дороге под скрип сбруи и фырканье белой лошадки, Элмер ласково держал ее за руку и витал в облаках.
Когда, миновав темную сосновую рощу и разбросанные по ней чахлые полянки, они выехали на покатый и голый склон, он вскрикнул от восторга: перед ними стоял Хэннинг-Холл. Это было как в сказке: не очень большой кирпичный дом с белыми стройными колоннами, белым куполом и решетчатыми слуховыми окошечками. По лужайке важно расхаживал на солнышке павлин. Из сказки вышли и эти чернокожие старичок со старушкой, что кланялись, стоя на крыльце, а потом заторопились навстречу им вниз по лесенке: дворецкий в зеленом фраке и с висячими седыми усами, старушка-экономка в зеленом ситцевом платье, которая расплывалась в широчайшей улыбке и церемонно приседала.
— Они ходили за мной с самой колыбели, — шепнула Шэрон. — Я их люблю… люблю и этот милый старый дом. Поэтому… — Она запнулась и смело закончила: — Поэтому я и привезла вас сюда!
Дворецкий подхватил его чемодан и унес наверх, чтобы разложить по местам вещи, а Элмер тем временем бродил по старой спальне, растроганный, счастливый. Пастельные пейзажи на стене: старинные усадьбы за аллеями вязов. Кровать с пологом на четырех столбиках; камин с полочкой и белыми изразцовыми колонками; под ногами — широкие дубовые доски, отполированные ногами забытых поколений и покрытые коврами эпохи кринолинов.
— Господи, как я счастлив! — вздохнул Элмер. — Я приехал домой!
Когда дворецкий вышел, Элмер лениво подошел к окну и снова ахнул от восхищения. Он не заметил по дороге, что они поднялись так высоко. За холмистыми пастбищами, за перелесками горела в лучах послеполуденного солнца Шенандоа.
— Ше-нан-до-а! — протянул он.
Он вдруг опустился на колени у окна, и, впервые с тех пор, как расстался с Джимом Леффертсом, футболом и веселой, беспутной жизнью, душа его освободилась от грязной накипи, покрывшей ее, — ораторского тщеславия, необузданной чувственности, мертвых изречений скучных пророков, мертвых догм, ханжества. Золотая извилистая река манила его к себе, его манило к себе высокое небо, и он простер руки и стал молиться об избавлении от молитв.
«Я нашел ее. Шэрон. Хватит, не стану больше вариться в этом евангелическом котле. Заманивать идиотов божественной чепухой! Нет, довольно! Буду жить честно. Схвачу ее в охапку и унесу и буду бороться как настоящий мужчина. Бизнес — вот это дело! Добьюсь успеха. Стану большим человеком. И буду смеяться, а не хныкать, пожимая руки церковным крысам! Да, решено!..»
Этим и ограничились его смелые планы.
Туман компромиссов скрыл от него прекрасную реку… «Как он сможет отказаться от евангелической комедии, если хочет добиться Шэрон? А ведь это единственная цель его жизни. Шэрон любит свои собрания, она ни за что не бросит их, — он должен подчиниться. И потом — так приятно упиваться собственным красноречием…
Да! И еще можно многое сказать в пользу евангелистов. Мы ведь и в самом деле творим добро. Возможно, мы чересчур играем на их чувствах, но людям только полезно встряхнуться! Безусловно!»
И Элмер, облачившись в белый свитер, твердым и размеренным шагом спустился к Шэрон.
Она ждала его в холле, такая легкая и молодая, в своей матросской блузке и красном шотландском берете.
— Не будем говорить о серьезном. Я не сестра Фолконер — сегодня я Шэрон. И, подумать только, что мне случалось выступать перед пятитысячной аудиторией! Пошли! Бежим на тот холм — кто скорей?..
Широкий холл, по традиции увешанный гравюрами по меди и индейским оружием, тянулся во всю ширину дома, от парадного крыльца и до задних дверей, выходящих в сад, все еще ярко пестреющий пурпурными астрами и золотистыми циниями.
Шэрон помчалась через холл, по саду, мимо каменных солнечных часов, по высокой жесткой траве и вбежала в залитый солнцем фруктовый сад на вершине холма. Нимфа, а не торжественная Юнона[92]! А он, тяжелый, неуклюжий, поспешал за ней, неуклонно настигая, думая не столько о ее легкости и грации, сколько о том, что, бросив курить, он стал явно меньше задыхаться — да, несомненно.
— Умеете бегать, ничего не скажешь! — воскликнула она и, переводя дыхание, остановилась у садовой ограды, обсаженной шпалерными грушами.
— Еще бы! А футболист я какой! Форвард — сила страшная, так-то, мой юный друг!
Он подхватил ее на руки, и она, болтая ногами и отбиваясь, была вынуждена восхищенно признать:
— Вы ужас какой сильный!
Но солнечный октябрьский денек был так покоен и безмятежен, что разрезвившийся Элмер утих, и, чинно взявшись за руки и размахивая ими в такт шагам, они поднялись на холм и так же чинно беседовали (Элмер лез из кожи вон, стараясь не ударить в грязь лицом перед семейством Фолконер, старым родовым поместьем и чернокожими слугами). Беседовали о том, какие беды сулит миру дух критиканства и как талантлив Э. О. Экселл, автор священной, но в то же время зажигательной музыки.
III
Переодеваясь к обеду, иными словами, облачаясь в коричневый костюм и повязывая сногсшибательный новый галстук, Элмер тревожился. Слишком безоблачны были эти несколько часов дружеской близости. Что-нибудь, наверное, да нарушит ее. Шэрон вскользь упоминала о каких-то братьях, заносчивых тетках и кузинах, а дом так велик, что в недрах его коридоров может скрываться целая туча родственников. Неужели ему предстоит встретиться за обедом с враждебно настроенными реликвиями прошлого, которые будут пялить на него глаза и приставать с разговорами и в конце концов сочтут дремучим провинциалом? Он заранее читал пренебрежение в их надменных и выцветших глазах. Он уже ясно представлял себе, как Шэрон, поддавшись их презрительному неодобрению, стряхнет с себя сомнительное очарование его дерзости и жизненной энергии.
— Проклятие! — произнес он. — Я ничуть не хуже их!
Он нехотя спустился в старомодную, уютную гостиную с этажеркой, уставленной безделушками: китайская туфелька, олень, вырезанный из черного ореха, раковина с Мадагаскара, кувшин с засушенным тростником, — со старинным секретером, и столиком с раздвижной крышкой, и симпатичной старенькой кушеткой перед белым камином. И эта комната и весь обширный дом полны были шорохов, таинственных скрипов и мертвых подозрительных глаз… В коттедже, что остался в канзасском Париже, не было ни шорохов, ни воспоминаний… Элмер стоял тоскливо, как провинившийся мальчуган: вот он и кончился, его романтический побег с девушкой из барского дома… Но так велико было его преклонение перед ней, что он даже не возмущался тем, что у него отнимают самое дорогое на свете.
Но вот в дверях появилась она, ничуть не похожая на проповедницу, элегантная, любезная, в черном атласном вечернем платье, отделанном золотыми кружевами… Ему еще не случалось иметь дело с людьми, которые носят вечерние туалеты… Она весело протянула ему руку, но он-то подошел к ней совсем не весело, а скорей смиренно, дав себе слово не посрамить ее в глазах подозрительной родни.
Рука об руку вошли они в столовую, и он увидел, что стол накрыт всего на двоих.
Он чуть не рассмеялся от радости, чуть не воскликнул: «А я-то думал, что будет масса народу!» — но удержался и неторопливо подвинул ей стул.
Затем так же неторопливо он прочел молитву.
Свечи и красное дерево, серебро и старинные кружева, розы и веджвудский фарфор, дворецкий в бутылочно-зеленом фраке, жареная дичь. Онемев от блаженства, он слушал, как она рассказывает пресмешные истории из своей евангелической жизни: о теноре-солисте, толстяке Эделберте Шупе, который обожает ликер «creme de cocoa»; о жене фермера-шведа, которая, добившись, что ее мужа отучили молитвами от пьянства, черной брани и нюхательного табака, пыталась отучить его молитвами и от игры в шашки; после чего он пошел и напился до полного бесчувствия.
— Я никогда еще не видела вас таким притихшим, — сказала она. — Право, вы можете быть очень ничего. Хорошо вам?
— Ужасно!
Над главным крыльцом находилась открытая терраса, и здесь, одевшись потеплее — вечер был прохладный — и развалившись в удобных шезлонгах, они пили кофе и грызли мятные лепешки. У ног их шумели верхушки деревьев; а когда их глаза привыкли к темноте, они увидели и реку при свете звезд. Прокричала, пролетая мимо, сова. Мягкий, ласковый, шелестящий воздух обвевал их лица.
— О боже, хорошо, как хорошо! — вздохнул он, ища ее руку, и почувствовал, как она доверчиво скользнула в его ладонь. И вдруг он сам безжалостно, обдуманно разрушил это очарование: — Слишком уж, думается, хорошо для меня! Шэрон, я никчемный, отпетый тип. Проповедник я неплохой, вернее, мог бы стать неплохим проповедником, если бы представилась возможность, но сам я… барахло. Я бросил пить и курить ради вас — я и правда бросил! Но раньше я пил, как лошадь, и, пока не встретил вас, ни одну женщину в грош не ставил, кроме матери. Я всего-навсего второсортный коммивояжер. Я родом из Парижа, штат Канзас, но даже этого захолустного городишки я не стою, потому что там народ приличный, работящий, а меня даже и таким не назовешь. Вы же — не только пророчица — а вы пророчица, конечно, настоящая, крупная величина, но к тому же еще и Фолконер! Родовитая семья! Старые слуги! И это старое поместье! Да что там! Вы недоступны для меня! Именно потому, что я вас отчаянно люблю. Потому-то и не могу вам лгать.
Он выпустил ее тонкую руку, но она снова тихонько легла на его ладонь, тонкие пальцы стали гладить ложбинки между косточками.
— Вы еще добьетесь славы, — негромко сказала Шэрон. — Я помогу! А я-то, может быть, и пророчица в какой-то мере, но вместе с тем и большая лгунья! Видите ли, вовсе я никакая не Фолконер. Их вообще на свете нет! Я Кэти Джонас. Родом из Ютики. Отец работал на кирпичном заводе. Имя «Шэрон Фолконер» я себе придумала, когда служила стенографисткой. Этот дом впервые увидала два года тому назад. И стариков-негров до тех пор никогда не видала — они служили прежним хозяевам этого поместья, но и они были не Фолконеры — у них фамилия аристократическая: Спрагги! Кстати сказать, за поместье-то это я и четвертой части еще не заплатила. И все-таки я не лгу! Нет! Я в самом деле теперь Шэрон Фолконер! Я создала ее сама — своими молитвами. Я заслужила право быть ею! А вы тоже больше не будете Элмером Гентри, бедняком из канзасского Парижа. Вы станете преподобным доктором Гентри, великим духовным пастырем. О, я рада, что вы тоже без роду, без племени! Сесиль Эйлстон… Ну, любить-то меня любит, но я всегда чувствую, что он смеется надо мной. Ведет счет моим грамматическим ошибкам и не желает видеть, сколько я спасла душ, будь он неладен! А вы… О, вы-то будете служить мне… Будете?
— Вечно!
После этого было сказано немного. Даже о том, что она избавится от Сесиля и возьмет постоянным помощником Элмера, они договорились в несколько фраз, вскользь, как бы между прочим. Он был убежден, что стальная стена ее превосходства, разделявшая их, исчезла.
Однако, когда они вернулись в дом, она весело объявила, что надо лечь пораньше, чтобы завтра рано встать; она сгонит с него фунтов десять на теннисной площадке. А когда он прошептал:
— Где ваша комната, милая? — она рассмеялась и холодно, равнодушно уронила:
— Этого, бедненький, вам никогда не узнать!
И Элмер, дерзкий, предприимчивый Элмер, тяжело ступая, побрел к себе в комнату, медленно разделся и печально постоял у окна, уносясь в темноте душою к неведомым далям. Потом он повалился на кровать и задремал, чересчур опустошенный неподатливостью Шэрон, чтобы предаваться обманчивым мечтам о том, что ждет его завтра.
Вдруг он услышал легкий шорох. Кажется, повернулась ручка двери. Он приподнялся на кровати с бьющимся сердцем. Шорох тотчас же стих, но вскоре возобновился. Край двери медленно пополз по ковру. Узкий веер бледного света, проникавшего из холла, раскрылся шире. Вытянув шею, он разглядел ее — белое облако, туманное видение.
Он отчаянно протянул к ней руки, и вот она наткнулась на них.
— Нет! Пожалуйста! — Голос, как у сомнамбулы. — Я заглянула только пожелать вам спокойной ночи и укрыть потеплей. Бедный, обиженный мальчик! Ну, в постельку! Я поцелую вас на сон грядущий и пойду к себе.
Его голова уткнулась в подушки. Рука Шэрон легко коснулась его щеки; но ему показалось, что от ее пальцев исходит какая-то сила, которая убаюкивает его, навевает мимолетный, покойный сон.
Он проговорил с усилием:
— Вам тоже — тоже нужно, чтобы вас утешали, а может быть, и распоряжались вами… Когда я перестану бояться вас…
— Нет. Я должна нести бремя своего одиночества одна. Благословение это или проклятие, не знаю, только я не такая, как все. А что я одинока, — это правда, очень одинока.
Ее пальцы скользнули вверх по его щеке, по виску, зарылись в темных волосах, и с него мгновенно слетел всякий сон.
— Какие густые волосы, — сонно проговорила она.
— Как у вас бьется сердце, Шэрон, дорогая!
Внезапно она вцепилась ему в руку:
— Идем! Я слышу зов!
Озадаченный, он последовал за нею, белой с головы до ног, в белом пеньюаре, отороченном у шеи белым мехом, — вниз, в холл, потом вверх по крутой маленькой лесенке в ее комнаты.
Он окончательно растерялся, когда из благонамеренного коридора, оклеенного обоями в незабудочках, увешанного чопорными гравюрами — портретами именитых людей Виргинии, попал словно в раскаленное горнило.
Ее спальня… нечто бредовое, нечто в духе «восточных» гостиных 1895 года: высокое ложе на резных ножках слоновой кости, накрытое оранжевым китайским покрывалом, незажженные бронзовые светильники наподобие тех, что бывают в мечетях и пагодах, на стене — раззолоченные доспехи из папье-маше, большой туалетный стол, заставленный кремами и лосьонами в причудливых парижских флаконах; высокие канделябры с зажженными витыми разноцветными свечами и тонкий аромат ладана в воздухе.
Открыв шкафчик, она бросила ему какое-то одеяние, крикнула: «Для служения пред алтарем!» — и исчезла в туалетной комнате.
Недоверчиво, чувствуя себя довольно глупо, надел он тяжелую ризу пурпурного бархата с непонятными черными символическими знаками и тяжелым, расшитым золотом воротником. Не совсем понимая, что ему следует делать, он покорно ждал.
Но вот на пороге появилась она, и он ахнул. Высокая, с опущенными вдоль тела руками, округлые кисти которых чуть шевелились, словно лилии, подхваченные потоком, она казалась фантастическим видением в багряном одеянии, усеянном золотыми звездами и полумесяцами, свастиками, трехконечными крестами. На ногах — серебряные сандалии, голова увенчана тиарой из серебряных лун, с острыми стальными лучами, сверкающими в свете канделябров. Облачко ладана окутывало ее; казалось, это она сама струит благоухание, и, когда она медленно воздела руки, Элмер с мальчишеским благоговением почувствовал, что она и в самом деле жрица.
— Идем! Вот часовня!.. — вздохнула она, и опять ее голос звучал, как голос сомнамбулы.
Она направилась к двери, отчасти скрытой ее ложем, и ввела его в комнату…
Теперь им владело уже не любопытство, не влюбленность. Теперь он чувствовал лишь глубокую неловкость.
Какой трюк был применен здесь архитектором, он так никогда и не узнал; быть может, просто убрали перекрытие и получилась небольшая комната высотою в два этажа, но, так или иначе, это была молельня, залитая потоками света внизу, возносившаяся сквозь мрак, казалось, к самым небесам. Стены были затянуты черным бархатом; стульев не было; в центре возвышался широкий алтарь.
Что это — безумие или странный гротеск, этот алтарь, убранный китайскими тканями — алыми, персиково-желтыми, изумрудными, золотыми?
Две широкие ступени розового мрамора. Над алтарем висело гигантское распятие; из раны в боку Христа, из пробитых гвоздями рук и ног сочилась кровь, на верхней ступени стояли гипсовые бюсты девы Марии, святой Терезы, святой Екатерины, скорбное изваяние умирающего святого Стефана. Зато на нижней ступени тесно сгрудились «языческие идолы», как называл их Элмер: божки с обезьяньими и крокодиловыми головами, божок трехглавый и божок шестирукий, Будда из нефрита и слоновой кости, обнаженная гипсовая Венера, а в самом центре — прекрасная и жуткая, страшная и обольстительная серебряная богиня с тройным венцом на голове, с узким, продолговатым и страстным лицом Шэрон Фолконер. Перед алтарем лежала длинная черная бархатная подушка, очень мягкая и пышная.
Шэрон порывисто опустилась на колени и подала Элмеру знак последовать ее примеру.
— «Час настал! — вскричала она. — О пресвятая дева, матерь Гера[93], матерь Фригга[94], матерь Иштар[95], матерь Изида[96], грозная матерь Астарта[97]! Это я — твоя жрица! Та, что после вековечных странствий, после долгих лет слепой тьмы возвестит миру, что все вы — одно, и все воплотились во мне! И с этой вестью вселенная обретет покой и мудрость, постигнет тайну светил, изведает глубины познания! Вы, что склонились ко мне и коснулись уст моих бессмертными перстами, примите в лона ваши брата моего, откройте очи его, освободите скованный дух, сделайте подобным богам, дабы со мною вместе он мог нести в мир откровение, которого, задыхаясь от мук, тысячи скорбных лет ждут люди!
— О крест из роз и таинственная башня из слоновой кости -
Услышь мои моленья!
О гордый полумесяц апреля -
Услышь мои моленья!
О разящий меч из стали, без изъяна -
Услышь и ты мои моленья!
О ты, змея с загадочными глазами -
Услышь мои моленья!
Вы, скрытые завесой, вы, обнаженные — из забытых пещер прошлого — с вершин будущего, из шумного сегодня, слейтесь во мне, вознесите его, примите его, грозные, безымянные! Нас вознесите от тайны к тайне, от светила к светилу, из одного владения к другому, к самому престолу!»
Она взяла библию, лежавшую подле нее на черной бархатной подушке у подножия алтаря, сунула ему в руки и крикнула:
— Читай, читай — скорее!
Библия была раскрыта на «Песне Песней», и он, все еще растерянный, стал читать нараспев:
— «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих — как ожерелье, дело рук искусного художника. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столп из слоновой кости. Волосы на голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью!»
Высоким, немного резким голосом она прервала его:
— О мистическая роза! О лилия изумительнейшая, о дивный союз! О святая Анна[98], матерь непорочная; Деметра[99], матерь благодетельная; Лакшми[100], матерь светозарная, смотрите: я принадлежу ему, и он — вам, и вы — мне!
Он продолжал читать, и голос его гремел, словно голос жреца, торжествующего победу:
— «Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее…»
Он так и не дочитал этот стих до конца: стоя на коленях перед алтарем, она склонилась к нему и с полуоткрытыми губами упала в его объятия.
IV
Они сидели на вершине холма и, сонно переговариваясь, смотрели на залитую полуденным солнцем долину. Но вот он нарушил оцепенение:
— Почему ты не хочешь выйти за меня замуж?
— Нет. Во всяком случае, не в ближайшее время. И стара я слишком — тридцать два, а тебе двадцать восемь? Двадцать девять? А потом, я должна быть свободна, чтобы служить господу… Ты знаешь, я ведь это серьезно. Я действительно избранная, что бы я ни вытворяла!
— Да, любимая, я знаю! Я знаю это.
— Но замуж — нет! Хорошо иной раз почувствовать, что ты просто женщина, но мне ведь почти всегда приходится жить, как святой… Да и мужчины, мне кажется, охотнее дают себя обращать, когда знают, что я не замужем.
— Проклятие! Послушай, но ты любишь меня хоть немножко?
— Немножко — да. О, я люблю тебя сильнее всех на свете, кроме Кэти Джонас. Славный мой мальчик!
Она небрежно склонила голову к нему на плечо. Над дорожкой фруктового сада гудели пчелы, и он крепче прижал ее к себе.
В тот вечер они вместе пели псалмы в назидание слугам родовитой семьи, которые с этих пор стали величать его «доктор».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
I
Лишь в декабре Шэрон Фолконер взяла Элмера к себе в помощники.
Когда она рассчитала Сесиля Эйлстона, он сказал тихо и сдержанно:
— Итак, дорогая моя пророчица с большой дороги, это была моя последняя попытка вести достойную жизнь.
Однако было известно, что он пытался в течение нескольких месяцев руководить миссией в Буффало. Правда, у него подозревали психическое расстройство, но лишь потому, что он мог часами просиживать, уставившись в одну точку. Вскоре он был убит в игорном притоне в Хуареце. Когда Шэрон узнала об этом, она очень огорчилась, собиралась съездить за телом, но была слишком занята своими благочестивыми делами.
Элмер приступил к своим обязанностям в начале очередного цикла собраний в Сидер-Рэпидс (штат Айова). Он открывал собрания, составлял афиши, выбирал молитвы, сам выступал, когда она бывала слишком утомлена, управлял хором, когда заведующему музыкальной частью Эделберту Шупу нездоровилось. Он составил добрый десяток солидных проповедей по богословским энциклопедиям, по справочникам для евангелистов и руководствам для начинающих проповедников. Для служб, на которые собирались только мужчины, он подготовил очень сильную речь о моральной и физической пользе целомудрия; повторял свой рассказ о том, как Джим Леффингуэлл у смертного одра дочери познал тщету мирских развлечений; и, кроме того, у него всегда было наготове подходящее ко всем случаям возвышенное слово о любви — любви, каковая является звездой вечерней, равно как и утренней.
Там, где Сесиль только мешал Шэрон, Элмер ей помогал, — по крайней мере так она утверждала. Она по-прежнему пользовалась своей поэтической терминологией, но Элмер советовал ей обличать пороки в том именно вульгарном стиле, который так принят у уличных проповедников и от которого Сесиля бросало в дрожь. Ее очень забавляло, когда Элмер называл Сесиля «Озрик»[101], «Перси»[102], «Олджернон». Он убеждал ее покорять самые большие города, самую аристократическую публику, самых отпетых головорезов и рекламировать себя не в любимых Сесилем и англиканской церковью жиденьких и тонных выражениях, но в стиле, подобающем бродячему цирку, съезду секты, практикующей занятия черной магией и астрологией, или новоявленному мессии.
По настоянию Элмера Шэрон впервые решилась показаться в больших городах. Она нагрянула в Миннеаполис и при поддержке лишь весьма немногих сект, таких, как «истинные христиане», «назареяне», «церковь господня»[103] и «везлеянские методисты»[104], на собственные сбережения сняла учебный манеж и поместила в газетах объявления на два столбца, набранные аршинным шрифтом.
Миннеаполис был точно так же, как провинциальные города, покорен голосом Шэрон, ее глазами, греческими хитонами и белым с золотом пирамидальным алтарем, и Доходы оказались весьма удовлетворительны. После этого она вперемежку с небольшими городами посетила Индианаполис, Рочестер, Атланту, Сиэтл, оба Портленда и Питсбург.
Эти два года Элмер Гентри прожил словно в клокочущем водовороте.
Темп жизни был такой лихорадочный, что он не мог даже припомнить, что именно в каком городе произошло. Все сливалось в туманное пятно: пылкие речи, истерические вопли вновь обращенных, воззвания о пожертвованиях, поезда, скандалы с лентяйками из группы «работы с населением», скандалы с Эделбертом Шупом из-за его попоек, изгнание Эделберта Шупа, возвращение Эделберта Шупа после того, как выяснилось, что второго такого елейно-набожного тенора не найти…
Была у Элмера одна обязанность, которая никогда не утомляла его: принимать благочестивых посетительниц и производить на них неотразимое впечатление своими внушительными манерами и мужским обаянием. Как нежно брал он их руки в свои, как ворковал: «Неужели вы не внемлете зову спасителя нашего, сестра?» — и все они — старые девы, такие трогательные в своем запоздалом девическом кокетстве, и непонятые жены — отвечали ему крепким пожатием и пополняли собою число тщательно регистрируемых спасенных душ. Шэрон следила за тем, чтобы он и одевался соответственно своей роли: зимою — в двубортный темно-синий костюм с щегольским галстуком, летом — в белый костюм и белые туфли.
Но, как бы заманчиво ни шелестели вокруг него юбки, сила грозного очарования Шэрон была так велика, что он оставался верен ей.
Если он эти два года был похож на дервиша, она была подобна метеору: полная вдохновения во время своих выступлений, то страстная, то озорная, как непослушный ребенок, готовая хохотать по всякому поводу, не желая быть серьезной, даже когда пора было выступать с проповедью. То великодушная и щедрая, а через минуту скаредная и сварливая, готовая устроить скандал из-за десяти центов на почтовые марки. Но всегда, со всеми своими настроениями и прихотями, она оставалась для него божеством, целью и смыслом его жизни.
II
Начав поход на большие города и обратившись за поддержкой к богатым церковным общинам, Шэрон была вынуждена найти ряд новых методов в своем ремесле. Церковные общины были недоверчиво настроены к женщинам-евангелисткам: женщине подобает навещать больных, вязать носки для язычников, устраивать пикники и празднества, но ей не под силу кричать так громко, чтобы испуганный дьявол пулей выскочил из грешника. Впрочем, немилостивое отношение распространялось вообще на всех евангелистов — как женщин, так и мужчин. То тут, то там трезвые служители церкви задавали вопрос: какую духовную ценность имеет запугивание людей, превращающее их в истеричных маньяков? Они ссылались на статистические данные, доказывающие, что из всех «обращенных» на евангелических молитвенных собраниях не более десяти процентов оставались в лоне церкви. Они были столь неделикатны, что позволяли себе касаться и материальной стороны дела, спрашивая, почему священник, получающий две тысячи долларов в год (если удавалось их получить), должен выбиваться из сил, чтобы помочь евангелисту заработать от десяти до сорока тысяч?
На все эти недоуменные вопросы надо были уметь найти убедительный ответ. Элмер уговорил Шэрон расстаться с ее прежним агентом по печати и рекламе, который до злополучной истории с нефтяными акциями был священником и сотрудничал в религиозной прессе, и пригласить профессионала с солидным опытом по части рекламы, газетного дела и перепродажи недвижимости. Вместе с этим агентом Элмер и выработал новый тактический план, довольно-таки рискованный, но зато весьма впечатляющий.
Если прежний агент убеждал священнослужителей и богатых прихожан города (в который Шэрон хотелось получить приглашение) оценить ее вдохновенный талант и высокие заслуги, а потом сидел в номере своей гостиницы и нервничал в ожидании ответа, то новый зазывала из лавочки душеспасительных товаров действовал без всяких церемоний:
— Мне некогда тратить время свое и божье и ждать, пока вы будете раздумывать. Сестра Фолконер заинтересовалась именно вашим городом, потому что здесь, по ее сведениям, происходят определенные, хоть и скрытые сдвиги, которые могут привести к небывалой вспышке религиозной активности и процветанию ваших храмов, при условии, что найдется опытный человек — ну, скажем, такой мастер, как она, который сумеет поджечь фитиль. Однако есть столько других городов, которые добиваются ее помощи, что, если вы не сможете решить немедленно, нам придется внять их призыву и миновать вас. Очень сожалею. Жду только до полуночи. Сегодня или никогда. Уже заказал себе место в пульмане.
Находилось немало духовных советов, которые отвечали, что ему незачем ждать даже до полуночи; но те, которых удавалось запугать, подписывали контракт (и очень выгодный контракт, составленный набожным юристом по имени Финкельштейн из секты ученых христиан) и были готовы оказать Шэрон по приезде всяческую поддержку, как духовную, так и материальную.
В конце концов новый агент по рекламе сам настолько пленился красотами евангелизма (по сравнению с бродячими цирками и фирмами по перепродаже недвижимости, с которыми ему приходилось иметь дело раньше), что тоже был обращен в лоно религии и когда не был в отъезде во время очередного цикла собраний, то даже певал в хоре и проводил с местными членами ХАМЛ занятия по журналистике. Однако даже красноречивые доводы Элмера так и не смогли убить в нем верной и неистребимой любви к покеру.
III
После того, как контракт был подписан, агент по печати и рекламе вдруг вспоминал о своей былой работе газетчика и за несколько дней завязывал трогательно-дружеские отношения со всеми газетными репортерами города. Новые друзья допоздна засиживались в его номере, мальчишки-рассыльные то и дело отсылались за все новыми бутылками виски различных марок. Агент начинал с заявления о том, что считает мисс Фолконер безусловно самой великой женщиной после Сары Бернар[105], а затем переходил к рассказам о том, что, как он ручался, известно лишь ему одному: о ее красоте, о заслугах ее предков, о ее необычайном даре привлекать грешников, а также вызывать дождь простой молитвой и о том довольно трудно поддающемся датировке времени, когда ее, совсем еще юную девушку, признал своей преемницей Дуайт Муди.
К югу от Мейсона и Диксона дед ее был просто мистер Фолконер, воинственный и набожный человек, но дальше, к северу, он уже превращался в генерала Фолконера из старой доброй Виргинии, сердечного друга и сподвижника генерала Роберта Ли[106]. В обязанности агента по печати входило также составлять от имени церковного объединения афиши, в которых дьявола откровенно предупреждали о том, какая страшная участь ожидает его.
Таким образом, ко времени приезда Шэрон и ее помощников газетки уже держали перо наготове, стены домов и витрины алели от афиш, и весь город ждал, умирая от нетерпения, а в день ее приезда на вокзале нередко собиралась тысячная толпа.
Всегда находились недоверчивые люди, особенно среди репортеров, которые склонны были сомневаться в могуществе ее таланта. Но вот на площадке вагона появлялась Шэрон в длинном белом пальто и останавливалась на секунду с закрытыми глазами, как бы отдавшись молитве о благе сей новой паствы, и потом медленно простирала вперед белые нервные руки — и агенту по рекламе делать больше было нечего; он мог со спокойной совестью отправляться дальше и готовить почву для новой жатвы. Однако, прежде чем Шэрон удавалось победить силы своекорыстия и приступить к выполнению своей высокой миссии, происходило еще немало трений.
Местные комитеты всегда отличались упорством, местные комитеты страдали от черной зависти, местные комитеты были нерасторопны и ленивы, и местным комитетам всегда указывали на перечисленные выше недостатки, и в самых энергичных выражениях. Причина всех недоразумений неизменно была одна и та же: деньги.
Шэрон одной из первых среди евангелистов стала взимать в свою пользу не долю от текущих сборов или еженедельных пожертвований, а полный сбор с одного вечера, целиком посвященного добровольным «благодарственным приношениям» ей и ее команде. Это и выглядело бескорыстно и приносило гораздо больше. Каждый верующий откладывал деньги специально для этой цели, и оказывалось, что легче получить пятьдесят долларов разом, чем двенадцать раз по доллару. Но для того, чтобы такое единичное приношение выросло до желательной суммы, требовалась любовная и тщательная подготовительная работа: напоминания со стороны влиятельных пасторов, банкиров и прочих благочестивых особ города, раздача пустых конвертов, над которыми верующие имели возможность хорошенько поразмыслить те шесть недель, в течение которых продолжались собрания, наконец, бесчисленные заметки в газетах на тему о том, как велико самопожертвование евангелистов, равно как и их расходы.
Но, как только дело касалось этих невинных и необходимых мер предосторожности, тут-то и сказывались мелочность и жадность местных комитетов. Предоставить евангелисту сбор с одного-единственного вечера — это их устраивало, но они не желали, чтобы об этом было сказано хотя бы слово до тех пор, пока не будут обеспечены их собственные интересы, пока не будут покрыты расходы по аренде помещения или сооружению молельни, по отоплению, освещению, рекламе и так далее.
Шэрон являлась на заседание комитета (десятка два пасторов, несколько наиболее уважаемых церковных старост, несколько угловатых директоров воскресных школ, две-три недоброжелательные супруги) в приемную при церкви. Для такого случая она неизменно надевала свой серый костюм и непререкаемо властную мину заезжей столичной знаменитости и поигрывала пенсне, в которое были вставлены простые стекла. Пока председатель местного комитета изрекал заранее известные фразы о том, как велики их расходы, она улыбалась так, словно ей было известно то, что скрыто от других, и затем, не давая им опомниться, обрушивалась на них:
— Боюсь, что тут какое-то недоразумение! Мне что-то не совсем ясно: действительно ли вы настроены забыть обо всем материальном и горячо, самозабвенно посвятить себя священной борьбе за спасение душ. Я наперед знаю все, что вы хотите сказать, — кстати, вы забыли упомянуть еще о расходах на сторожей, покупку новых псалтырей и прокат складных стульев! Но вы не имеете даже отдаленного представления о моих расходах! Мне приходится содержать почти такой же огромный штат, как на настоящей фабрике, — не только моих помощников и музыкантов, но еще и целый ряд сотрудников, которых вы и в глаза не видите. Кроме того, я веду большую благотворительную работу. Существует, например, ягенский приют для престарелых — я одна содержу его полностью. О, я не собираюсь рассказывать вам о нем, но если б вы только видели испуганные лица этих бедных старых женщин, обращенные ко мне! (Где находится этот приют, Элмер так никогда и не установил.) Мы приезжаем сюда, не имея никаких гарантий: мы целиком зависим от добровольных приношений в последний день, и я боюсь, что вы так рьяно печетесь о местных расходах, что у людей вообще пропадет всякая охота жертвовать в последний день — хотя бы столько, чтобы мне хватило на жалованье для моих сотрудников. Я… если б не мое отвращение к этому презренному, растлевающему души пороку, именуемому азартной игрой, — я сказала бы, что веду такую рискованную игру, что мне самой страшно. Но что поделаешь…
Во время этой речи Шэрон успевала приглядеться к членам комитета и определить, что они собою представляют: чудаки, кислые, как старые девы, брюзги, предприимчивые, падкие на рекламу демагоги, рядовые церковные служаки, юные либералы шатких убеждений, подлинные мистики, добросердечные пастыря, поборники справедливости. Наметив себе в качестве потенциального сторонника того, кто внимал ей наиболее сочувственно, она заключительную часть своей речи обращала уже непосредственно к нему:
— Неужели вы хотите погубить меня, чтоб я никогда уже более не могла выполнять свою миссию — нести слово спасения отчаявшимся душам, которые ждут меня повсюду и взывают ко мне о помощи? Этого ли вы добиваетесь, вы, призванные содействовать мне в служении возлюбленному господу нашему Иисусу? Это ли ваша цель? Да?
Она разражалась рыданиями, что служило условным знаком для Элмера, которому в этот момент надлежало сорваться с места и объявить о том, что его осенила блестящая идея.
Он, Элмер, не сомневается, что возлюбленные братья и сестры отнюдь не преследуют подобной цели. Они лишь стремятся учесть практические обстоятельства дела. Но в таком случае отчего бы комитету не обратиться к состоятельным прихожанам, объяснить им беспрецедентное положение вещей, указать на то, что дело это богоугодное, что, помимо бесспорных духовных плодов, религиозное возрождение даст и другие благие результаты: сократится число преступлений, а следовательно, понизятся и налоги; рабочие, обратившись к возвышенным думам, забудут о забастовках и политике и станут усерднее работать за ту же плату. Если членам комитета удастся собрать среди состоятельных прихожан сумму, достаточную для текущих расходов, то на собраниях не придется докучать людям разговорами о сборах, и верующие приберегут свои деньги для «благодарственного приношения» в последний день, а на ежевечерних собраниях достаточно будет нескольких мелких монет, и никто не будет вытягивать больше.
Затем Элмер начинал предъявлять местному комитету претензии уже совсем другого рода. Почему, спрашивал он, никто не позаботился снабдить молитвенный дом достаточным количеством туалетных комнат? Сестре Фолконер необходимо иметь отдельное помещение. Им с ней нередко бывает нужно перед самым собранием совещаться по важным вопросам. И почему так мало добровольцев-распорядителей? Надо собрать их сейчас же, не откладывая, чтобы успеть их обучить, так как именно они при надлежащей подготовке облегчают мятущимся душам путь к алтарю, где опытная рука мастера завершает дело.
А позаботились они о том, чтобы пригласить многочисленные делегации от местных предприятий — от кетчупной фабрики братьев Смит, вагоноремонтных мастерских, от пакгауза? Ну, как же! Следует и их расшевелить; каждому предприятию будет посвящен специальный вечер; делегатов усадят вместе, и все будут петь любимые гимны — подумайте, сколько радости это доставит людям!
К этому моменту сбитые с толку члены местного комитета готовы были обещать что угодно, а заключительный радостно звенящий призыв Шэрон, казалось, окончательно рассеивал их сомнение:
— Вы все должны быть готовы с радостью жертвовать и временем и деньгами для наших собраний! Мы сами многим пожертвовали, чтобы явиться сюда, и единственно ради того, чтобы помочь вам!
IV
Кульминацией собраний были дневные и вечерние проповеди, когда Шэрон, простирая руки к верующим, громогласно взывала: «Истинно господь в месте сем, а я не ведала того», или «Вся правда наша не более как ветошь мерзкая», или «Многогрешны мы и оттого лишились милости господней», или «О, да проснется во мне иной, дабы не пребывал я тем, кто я ныне», «Праведны будете во господе», «Не устрашусь евангелия христова, ибо в нем — путь к спасению».
Но для того, чтобы даже такое испытанное средство, как эти призывы, действовало наверняка, дошло до самых бесчувственных сердец, надо было предварительно подготовить аудиторию, настроить ее на чувствительный лад, а на это, помимо красноречия Шэрон, уходила масса такой кропотливой работы, какую проделывают за спиной бушующей леди Макбет костюмеры, декораторы и рабочие сцены. И львиная доля этой подготовительной работы ложилась на плечи Элмера Гентри.
Как только Шэрон ввела его в курс дела, он стал руководить мужчинами из группы «работы с населением», оставив женщин в ведении руководительницы этой группы — молодой особы, которая обожала танцы и фальшивые драгоценности, но, как никто, умела выслушивать излияния старых дев. В ведении Элмера обычно были банковские кассиры, бухгалтеры из оптовых бакалейных фирм, приказчики обувных магазинов, преподаватели ручного труда. Они обходили магазины, оптовые склады, фабрики и устраивали собрания во время обеденного перерыва, разъясняя, что даже самое совершенное знание стенографии не исключает возможность угодить в преисподнюю. Элмер внушал им, что обратить легче тех, кто приходит на евангелическое собрание основательно запуганным.
Этим работникам вменялось в обязанность всюду, где можно, ходить от одного конторского стола к другому, беседуя с каждой жертвой о тайных грехах, — а что таковые имеются, на это можно было рассчитывать твердо. Кроме того, как мужчины, так и женщины из группы «работы с населением» должны были посещать на дому тех, что победнее, предлагая оробевшей, перепачканной в муке хозяйке дома и ее супругу (в шлепанцах и с трубкой в зубах) преклонить колена и помолиться вместе.
Все данные по этой работе (скорее воображаемые, чем действительные) — столько-то душ дали согласие выйти к алтарю, столько-то выступлений перед рабочими в обеденный перерыв, столько-то молитв, прочитанных на дому (с указанием продолжительности) — Элмер и руководительница группы заносили в балансовые ведомости, которыми Шэрон по выполнении своей миссии пользовалась для отчета, а при переговорах о дальнейших собраниях — для рекламы.
Каждый день Элмер совещался с Эделбертом Шупом, этим вечно жаждущим и наивным тенором, который заведовал музыкальным оформлением собраний, и вместе с ним отбирал гимны. Когда требовалось внушить публике доверие, пускали в ход гимн «Нежно и кротко зовет Иисус», если нужно было настроить ее на простецкий и дружеский лад, останавливались на гимне «Наша старая, добрая вера».
«Хороша была для Павла, Хороша была для Савла, Хороша для них обоих Подойдет и для меня!»А если случалось настраивать на воинственный, прибегали к гимнам «У креста» или «Вперед, воинство Христово».
У Эделберта имелись собственные идеи о «служении музыкой», но Элмер считал, что главная цель гимнов — настроить аудиторию так, чтобы она готова была делать то, что ей скажут.
Он научился выстукивать двумя пальцами на пишущей машинке и отвечал на письма, которые получала Шэрон, — те, что она давала ему читать. Он вел всю ее бухгалтерию, размашисто, но достаточно точно записывал расходы на корешках чековых книжек. Он каждый вечер писал для газет отчет об очередной ее проповеди, который затем в сильно сокращенном виде помещали где-нибудь между сенсационными сообщениями о новообращенных. Он беседовал с местными столпами церкви, столь богатыми и высоконравственными, что их побаивались собственные пасторы. И он же придумал один способ в помощь проповеднику, которым и поныне пользуются на молитвенных собраниях евангелистов, хотя честь его открытия приписывают Эделберту Шупу.
Эделберт был в курсе всех ходовых приемов. Он разбивал мужчин и женщин на два хора и заставлял их петь поочередно — кто лучше. В самый напряженный момент, когда Шэрон призывала обращенных к алтарю, он мячиком катался по проходу между рядами, толстенький, проворный, розовый, и, застенчиво улыбаясь, похлопывал людей по плечу, подпевал хору, стоя тут же, среди них, и часто возвращался с тремя или более пленниками меча господня, хлопал в пухлые ладошки и заливался колокольчиком: «Идут! Идут!» — после чего, хоть и неизвестно, по какой причине, грешники лавиной валили к алтарю.
В своем наивном энтузиазме Эделберт, пожалуй, не уступал Шэрон или Элмеру, когда возглашал: «Сегодня вы все станете евангелистами! Все до одного! Ну, пожмите же руку соседу справа и спросите, спасен он или нет!» — и с восторгом обводил глазами смущенные физиономии в зале. Да, он был не лишен способностей, этот Эделберт Шуп, но все же «аллилуйя-клич» придумал не он, а Элмер.
Вспоминая дружные вопли болельщиков в колледже, вспоминая, как они воодушевляли игроков, когда надо было двинуть коленом нападающего противника или подбить центрального защитника вражеской команды, Элмер подумал: «Отчего бы и в этой игре не применить спортивный клич?»
И первый, отмеченный историей клич евангелистов написал он сам:
Аллилуйя, славься, Боже, ал-ли-луй-я! Аллилуйя, славься, Боже, ал-ли-луй-я! Ну-ка дружно, ну-ка разом: Ал-ли-луй-я! Для спасения народа А-а-а-минь!Стоило посмотреть, как Элмер управлял этим хором, как приплясывал, размахивая могучими ручищами, как надрывался:
— А ну еще раз! А ну, над-дай! Над-дай, ради спасителя! Дружно, разом, братья и сестры, это же наша с вами команда! Нельзя же подводить своих! Ну, то-то! А ну-ка, сони, просыпайтесь, наддайте жару так, чтоб стены затрещали! Ал-ли-луй-я!
Не одного нерешительного юнца, смущенного надломленно-страстной женственностью Шэрон, привел к алтарю этот клич. Юнец пожимал руку Элмера и приобщался к благам, которые дарует человеку религия.
V
Члены команды евангелистов никогда не видели в своих «обращенных» просто людей: официантов, маникюрш, кондукторов, — а питали к ним такой же профессиональный интерес, какой врач питает к больному, критик — к автору, рыбак — к форели.
В городке Терро-От их замучил какой-то старикашка, который «обращался» буквально каждый вечер. Был то сумасшедший или просто пьянчужка, но только каждый вечер он являлся на собрание со слезящимися глазками и видом закоснелого вероотступника, и каждый вечер, во время проповеди, в нем постепенно пробуждались высокие духовные запросы, а когда раздавался призыв, обращенный к тем, кто вновь обрел веру, он вскакивал как ужаленный и с воплем «аллилуйя, обрел!» галопом мчался вперед, расталкивая локтями в стороны гораздо более стоящих и заслуживающих внимания грешников. Евангелисты ждали его появления с тем же чувством, с каким люди, расположившиеся на ночлег под открытым небом, ждут нашествия комаров.
На редкость назойливые клиенты попались им в Скрентоне. Этот городок до них уже спасало множество других евангелистов, и он был почти неспособен реагировать на новых. Десять вечеров они в поте лица обрабатывали свою аудиторию — и хоть бы один грешник выразил желание покаяться! Элмеру пришлось пойти и нанять человек десять довольно-таки убедительных «обращенных».
Разыскал он их в одной миссии у реки. Он объяснил им, что, подав благой пример равнодушным, они сделают богоугодное дело, а кстати, если пример окажется заразителен, — получат по пять долларов на брата. Во время переговоров пришел сам миссионер и тоже вызвался «обратиться» за десять долларов, но он был лицом, слишком хорошо известным в городе, так что Элмеру пришлось отсчитать ему эти десять долларов только за то, чтобы он держался подальше.
Ватага «обращенных» произвела сильное впечатление, но с этого вечера евангелисты не знали ни сна, ни покоя. Христиане-профессионалы осаждали их шатер денно и нощно. Они требовали, чтобы их спасали снова и снова. Если же им отказывали, они предлагали привести новых кандидатов за пять долларов с каждого… за три доллара… — за пятьдесят центов и сытный обед. К этому времени было уже достаточно настоящих, бесплатных энтузиастов, которым, несмотря на все их рвение, не улыбалось спасать свою душу в компании с бродягами, от которых разит винным перегаром. Когда же Элмер с Артом Николсом в буквальном смысле слова вышвырнули человек пять таких вымогателей за дверь, те стали являться на собрания и освистывать проповедницу, так что пришлось до самого отъезда платить им по доллару на брата в вечер, чтобы они не показывались.
Да, Элмер отнюдь не мог смотреть на кающихся как на простых людей. Подчас, спускаясь в публику и разыгрывая рубаху-парня, героя, которого некогда разыгрывал перед ним Джадсон Робертс, он бросал взгляд на площадку, где в ряд стояли на коленях кающиеся, положив руки на сиденья стульев, обратив к публике широкие зады, и у него появлялось желание фыркнуть и вооружиться линейкой. Но через пять минут он уже был рядом с ними, опускался на колени возле зеленого с похмелья агента по продаже швейных машин и, обняв клиента за плечи, увещевал, глядя на него умильными коровьими глазами:
— Отчего вы не хотите склониться пред Христом, брат? Отказаться от ужасных привычек, которые губят вас, не дают вам добиться успеха в жизни? Внемлите! Господь поможет вам выйти на праведный путь! А когда вам станет одиноко, старина, помните: он тут, он готов говорить с вами!
VI
Обычно к концу собраний их труды были вознаграждены: им удавалось зажечь аудиторию должным энтузиазмом. Молодые женщины в экстазе падали, задыхаясь, на колени с остекленевшими глазами, с полуоткрытым ртом. Иной раз, когда Шэрон бывала в особом ударе, у них случались чудеса почище, чем в великую эпоху возрождения веры — в 1800 году.
Люди корчились в священном исступлении, бились в судорогах; старики, вдохновленные подвигами пятидесятников, начинали говорить на неведомых — совершенно неведомых наречиях, женщины падали без чувств с закушенными языками. А однажды произошло событие, расцениваемое знатоками как высшее проявление религиозного вдохновения: четверо мужчин и две женщины опустились на четвереньки и с лаем закружились вокруг столба — это называлось «изгонять лаем черта из дерева».
Шэрон упивалась этими чудесами. Они были свидетельством ее таланта, несомненным проявлением божественной силы. Впрочем, иногда они навлекали на собрания дурную славу, циники осмеливались проводить оскорбительные сравнения, вспоминая о «радениях» изуверских сект.
Из-за этих злобных наветов, а также по причине чрезмерного возбуждения, которое неизменно охватывало Шэрон на собраниях, столь очевидно отмеченных благосклонным вниманием святого духа, Элмеру приходилось утешать ее с особенным усердием.
VII
Все члены евангельской команды старались создавать эффекты, которые как можно ярче и выгоднее оттеняли бы Шэрон. Лихорадочно обсуждались ее костюмы. Белое с рубиновым поясом одеяние жрицы было находкой Эделберта, который считал, что Шэрон должна всегда появляться только в нем.
— У вас в нем такой царственный вид, — скулил он.
Элмер настаивал на том, чтобы менять костюмы; самой Шэрон нравились шитые золотом бархатные одежды, а для встреч с женщинами из делового мира — элегантные белые фланелевые костюмы.
Все принимали участие и в составлении новых проповедей.
Свое «слово» Шэрон произносила под гипнотическим влиянием эмоций, никак не связанных с ее настоящей жизнью. Сегодня Порция[107], завтра Офелия или Франческа[108], она всегда притягивала к себе мужчин и могла делать с ними все, что хотела. Бывало и так, что она видела в себе разящий меч господень. Но как страстно ни изливала бы она потоки чувств, как бы пылко ни выражала в самых диковинных словах самые сложные оттенки чужих мыслей — самостоятельно она была не в состоянии придумать ничего более глубокого, чем фраза «я несчастна».
Расставшись с Сесилем Эйлстоном, она ничего не читала, кроме библии и рекламных объявлений конкурентов-евангелистов в бюллетенях Библейского института Муди.
Без Сесиля составление для Шэрон новых проповедей требовало общих и отчаянных усилий. Старые же ей быстро надоедали. Эделберт Шуп поставлял поэтический материал. Он любил поэзию и читал Эллу Уилер Уилкокс[109], Джеймса Уиткомба Райли и Томаса Мура. Изучал Шуп и философию: прекрасно разбирался в трудах Ралфа Уолдо Трайна[110] и украшал проповеди Шэрон двустишиями на тему «Домашний очаг и малютки», а также философскими сентенциями на темы «Сила воли», «Мысль есть дело», «Любовь есть красота», «Красота есть любовь» и, наконец, «Любовь есть все».
У особы, ведающей «работой с населением», неожиданно обнаружился талант к сочинению маленьких рассказов о том, какой печальный конец ожидает пьяниц и неверующих; Лили Андерсон, хорошенькая и анемичная пианистка, была в свое время школьной учительницей и прочла на своем веку две-три книжки, посвященные ученым. Она поставляла материал, при помощи которого Шэрон наносила сокрушительные удары сторонникам новомодной теории эволюции[111]. Наконец, корнетист Арт Николс снабжал Шэрон грубоватыми, но высоконравственными образчиками народного юмора штата Мэн, его истории о лошадиных барышниках, о капусте и крепком сидре очень помогали обхаживать скептически настроенных деловых людей. Но связывать все эти разнородные элементы воедино было обязанностью Элмера, как человека с богословским образованием; догмы, стишки о деснице божьей и закатах, исповеди обреченных грешников и побасенки о деревенских танцульках в штате Мэн — все надо было увязать, да так, чтобы звучало!
А тем временем бок о бок с преподобной сестрой Фолконер и преподобным мистером Гентри и их сотрудниками в трудах праведных существовали просто Шэрон и просто Элмер, а рядом с ними вся группа: обыкновенные, земные люди со своими радостями и горестями; вместе разъезжали, вместе жили — и совсем не всегда в состоянии блаженной невинности.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
I
Степенно, как старая супружеская чета, почти всегда тихо и мирно, жили друг с другом Элмер и Шэрон, и он был всегда и неизменно предан ей. Зато Шэрон была всякий раз другая. Иногда она была жрица и вестница несчастья; иногда пугала ненасытной страстностью; иногда, как-то сразу осунувшись, не находя себе места, терзалась сомнениями в себе; иногда затихала, по-монашески бледная, замкнутая; иногда превращалась в холодную деловую женщину, а иногда — в маленькую девочку. В этой последней роли она была самою собой, и такой Элмер нежно любил ее, кроме тех случаев, когда Шэрон начинала разыгрывать эту роль именно в ту минуту, когда нужно было взойти на кафедру и гипнотизировать трехтысячную толпу.
— Ну, пожалуйста, Шэра, прошу тебя, будь умницей! Перестань дуться, ступай и задай им жару!
Шэрон топала ногой, и ее глаза по-детски округлялись.
— Нет! Не желаю проповедовать! Хочу быть скверной и гадкой. Хочу швыряться чем попало. Хочу пойти и шлепнуть лысого дядьку по макушке. Надоели мне души! Катись они все к черту!
— Ох, ну уймись же, Шэра! Хватит дурачиться! Тебя ждут! Эделберт вон уже второй раз поет одно и то же!
— Ну и пусть! Может петь сколько хочет! Я пою, пою, пою, все я боженьку хвалю! И буду гадкой! И буду! Вот выйду и засуну Эделберту мышь за пазуху, прямо на его жирный-жирный святой животик!
И вдруг:
— Ох, а как бы хотелось! Как хотелось бы, чтоб мне дали подурачиться! Устала я. Тянутся ко мне, высасывают из меня кровь, хотят, чтобы я вдохнула в них мужество, а самим добыть — кишка тонка!
А через минуту она уже стояла перед толпой, радостно вещая:
— О возлюбленные мои, господь шлет вам ныне благую весть!
А еще через два часа, возвращаясь на такси в гостиницу, рыдала у него на груди:
— Обними меня покрепче! Мне так одиноко и холодно, так страшно!
II
Однако, помимо всего прочего, Элмер к тому же находился у Шэрон на службе… Он не мог примириться с тем, что она зарабатывает в пять раз больше долларов, чем он, тех самых долларов, к которым он питал почтительное восхищение.
Когда они впервые договаривались о совместной работе, она сказала:
— Знаешь, милый, если дела пойдут как надо, года через три я тебе предложу войти со мною в долю. Только сначала мне надо накопить порядочную сумму. У меня есть планы, правда, еще неясные, относительно создания крупного евангелического центра: собственный печатный орган, школа для подготовки евангелистов. Когда соберу достаточно, будем с тобою договариваться… Но пока… Ты сколько зарабатывал в своей фирме?
— А-хм, около трехсот в месяц… тысячи три с половиной долларов в год. — Он и вправду любил ее: прибавил всего пятьсот.
— Ну, тогда для начала положим тебе три тысячи восемьсот, а лет через пять, надеюсь, будет уже десять тысяч, а может, и вдвое больше.
Шли месяцы, но она никогда больше не возвращалась к вопросу о его жалованье. Это его раздражало. Он знал, что она сама зарабатывает более двадцати тысяч в год, что в недалеком будущем дойдет до пятидесяти. Но он так сильно любил ее, что вспоминал об этом, пожалуй, раза три в месяц — не чаще.
III
Шэрон по-прежнему останавливалась со своей группой в гостиницах: так было свободней. Но вот однажды произошла неприятная история. Как-то раз Элмер допоздна засиделся у нее в номере за деловым разговором и сам не заметил, как уснул в ногах ее кровати. Оба были так утомлены, что проснулись лишь в девять часов утра, а разбудил их не кто иной, как Эделберт Шуп, который, постучав в дверь, по простоте душевной впорхнул в номер, не дожидаясь ответа.
Шэрон подняла голову и увидела ухмыляющуюся физиономию Эделберта.
— Да как вы посмели зайти ко мне, не постучав, злосчастная сосиска! — вскипела она. — Ни стыда, ни совести! Вон отсюда, пугало воронье!
Когда Эделберт, глупо улыбаясь и чирикая тенором «честно — никому и ничего», выкатился — всполошился Элмер:
— Фу ты, будь он неладен! Думаешь, станет нас шантажировать?
— О нет! Эделберт меня обожает. Нам, девицам, надо стоять друг за друга горой. Но все-таки неприятно. Что, если бы вошел не он, а кто-нибудь чужой? Люди всегда все истолковывают дурно, осудят… Слушай. Сделаем вот что. Впредь давай в каждом городе снимать большой меблированный дом — сразу на всех. С одной стороны, все та же независимость, но болтать будет некому. И, между прочим, наверняка у кого-нибудь из членов церковного комитета можно будет снять славный домик по дешевке. Вот будет чудесно! Когда заработаемся до бесчувствия, можно устроить вечеринку в своей компании, потанцевать. Знаешь, как я люблю танцевать! Ну, в проповедях-то, разумеется, я танцы предаю анафеме, но у нас ведь и люди не те: каждый все понимает, так что здесь греха не будет. Миряне — совсем другое дело! Вечеринка — мм! Положим, Арт Николс непременно напьется. Ах, да пусть! Человек так много работает… Ну, а теперь беги! Постой! Ты что, не хочешь меня поцеловать? С добрым утром!
Оба наперебой льстили Эделберту, чтобы заручиться его молчанием, а агенту по рекламе было велено подыскать в том городе, куда они направлялись, вместительный меблированный особняк.
IV
Меблированные особняки для евангелической компании сестры Фолконер дали новый и богатый материал для разногласий с местными церковными комитетами. Неприятности начинались в основном после отъезда группы из города.
Разгневанные домовладельцы заявляли, что служители господни, как выразился один староста из пострадавших, попросту творят черт знает что. Староста жаловался, что обивка мебели во многих местах прожжена папиросами, ковры залиты вином, стулья поломаны. Он предъявил иск местному комитету; комитет переслал иск Шэрон; завязалась оживленная переписка, а убытки так и не были возмещены.
Обстоятельства подобного рода обыкновенно всплывали наружу лишь по окончании цикла собраний и не влияли на ход душеспасительной кампании, но все же эти распри, связанные с частной жизнью евангелического отряда, давали пищу для весьма нежелательных толков. Безбожники открыто глумились. Воспитанные, но обиженные жизнью старые девы не переставали дивиться, что же, собственно, за всем этим скрывается, и шушукались, замирая от сладкого ужаса: «Неужели было?.. Говорят, будто… попойки! И — страшно сказать — кое-что похуже…»
Тем не менее лояльное большинство всегда логически возражало, что, поскольку сестра Фолконер и брат Гентри — праведники, ничего неподобающего они делать не могут и, следовательно, все эти слухи от нечистого, а разносят их вероотступники и содержатели пивных. И пред лицом гонений на носителей слова божьего благочестивые души еще более самозабвенно выступали в защиту и поддержку группы Шэрон Фолконер.
Дискуссии о возмещении убытков навели Элмера на прекрасную мысль о том, как можно еще более сократить расходы. К концу пребывания в городе евангелисты просто не вносили плату за снятый ими особняк. А потом письменно напоминали местному комитету о том, что по приезде им обещали предоставить помещение и, следовательно, вопрос исчерпан… Завязывалась оживленная переписка…
V
Одной из основных забот Шэрон было вовремя отправить спать своих людей. Подобно большинству актеров, они бывали страшно возбуждены после выступлений. У одних так расходились нервы, что они не могли уснуть, не просмотрев «Сатердей ивнинг пост»[112], другие до собрания не могли проглотить ни крошки, а потом до часу ночи жарили яичницы-болтуньи и яичницы-глазуньи, поджаривали гренки и спорили, чья очередь мыть посуду. Несмотря на то, что все они были (если верить публичным заявлениям) убежденные и непримиримые враги проклятого алкоголя, некоторые из них время от времени были не прочь пропустить для бодрости кварту виски, а там начинались танцы и, естественно, веселье до упаду.
Нередко им крепко доставалось за это от Шэрон, но чаще она добродушно закрывала на все глаза. Да и слишком уж она была поглощена деловыми совещаниями с Элмером, чтобы должным образом следить за тем, что творится на вечеринках.
Лили Андерсон, бледненькая пианисточка, была недовольна. Она говорила, что надо ложиться пораньше и раньше вставать, что следует чаще ходить и устраивать домашние молитвенные собрания. Ей отвечали, что это уж чересчур, что нельзя так много требовать от людей, когда они уже отработали свои три часа в день и смертельно устали. Она напоминала им, что они делают божье дело и должны быть готовы, если потребуется, лечь костьми на своей работе. Они соглашались, что и так готовы, разумеется, но только не сегодня.
Вслед за днями, когда корнетист Арт Николс и скрипач Адольф Клебс поднимались в десять утра с такой тяжелой головой, что им приходилось сразу же опохмеляться, наступали другие дни, когда Арта и Адольфа охватывало истерическое благочестие, и они молились и каялись каждый в своей комнате и с дрожью в голосе завывали в священном экстазе, пока Шэрон наконец не выходила из себя и объявляла, что «неизвестно, что еще лучше — когда тебя ночью будит пьяный дебош или вопли „аллилуйя“». Но все-таки при случае она купила для них портативный фонограф и много пластинок с церковными гимнами и зажигательными танцами.
VI
Хоть близость Шэрон почти убила в Элмере потребность в других возбуждающих средствах — табаке, алкоголе и отчасти в сквернословии, — все же прошел почти год, пока тяга к ним окончательно исчезла. Но мало-помалу он обрел полную уверенность в своих силах, в том, что ему обеспечена блестящая карьера на поприще служения богу. Честолюбие стало доставлять ему ощущения более сильные, чем алкоголь, и, уверовав в собственную добродетель, он был очень доволен собою.
То было праздничное, радостное, солнечное время. У него было все: его любимая, его дело, были слава и власть над людьми. Когда они выступали в Топике, мать Элмера приехала из Парижа послушать его. И когда она увидела, как ее сын держит речь перед двухтысячной толпой, тяжелые и мрачные сомнения, терзавшие ей душу с того дня, как он был изгнан из Мизпахской семинарии, рассеялись.
Теперь он чувствовал, что нашел свое место на земле. Евангелисты Шэрон признали его как своего второго руководителя, как человека более смелого, сильного и ловкого, чем любой из них, кроме Шарон, и следовали за ним, точно верные псы. В мечтах он уже видел тот день, когда женится на Шэрон, возглавит дело вместо нее, лишь изредка разрешая ей выступать в качестве приманки для публики, и сделается одним из крупнейших евангелистов Америки. Он нашел свое место; теперь, если ему случалось встречаться с собратьями-евангелистами, пусть даже самыми знаменитыми, он был доволен, но нисколько не робел.
Разве он и Шэрон не познакомились с таким прославленным евангелистом, как сам доктор Хауард Бенкок Бинч, этим величайшим из баптистов, сторонником буквального истолкования библии, директором «Школы проповедников истинного писания», издателем «Стража Вертограда», автором «Грубейших ошибок псевдонауки»? И разве доктор Бинч не отнесся к Элмеру как к сыну?
Доктор Бинч оказался в Джолиете во время выступлений Шэрон проездом в Эбнер-колледж, куда направлялся в связи с присвоением ему шестой ученой степени доктора богословия. Он позавтракал вместе с Шэрон и Элмером.
— Скажите, доктор Бинч, какие гимны, на ваш взгляд, действуют сильнее всего, когда призываешь к покаянию? — спросил Элмер.
— Что ж, скажу вам, брат Гентри, — тоном знатока отозвался его собеседник. — Я считаю, что на простые сердца ничто так не действует, как «Таков, как есть» и «Иисус, я возвращаюсь в отчий дом».
— Боюсь, что не согласна с вами, — запротестовала Шэрон. — Мне кажется… Хотя, разумеется, у вас, доктор Бинч, и опыта и таланта куда больше…
— Вовсе нет, дорогая сестра, — возразил доктор Бинч, бросив на Шэрон плотоядный взгляд, при виде которого у Элмера заныло сердце от ревности. — Вы молоды, но мы все отдаем должное вашему дарованию.
— Очень вам благодарна. Но я хочу сказать вот что: это чересчур вялые гимны. Мне представляется, что надо выбирать гимны зажигательные, от которых ноги ходят сами, как в танце, и несут вперед, прямо к скамье покаяния.
Забыв проглотить кусок жареной свинины, доктор Бинч добродетельно воздел свою дряблую белую руку.
— О сестра Фолконер, как меня огорчает, что вы употребляете слово «танец» в применении к евангелическому собранию! Что есть танец? Танец есть преддверие ада! Сколько невинных девушек встретили в танцзале соблазны, которые ввергли их в пучину страшного порока!
В течение двух минут — в тех же выражениях, какими пользовалась и сама Шэрон, — доктор Бинч просвещал их относительно танцев, закончив горячим призывом:
— Я умоляю вас не говорить, что ноги несут грешников к скамье покаяния, «как в танце»!
— Знаю, доктор Бинч, знаю. Я имела в виду освещенный писанием смысл: ведь сказано же, что «Давид плясал перед господом».
— Нет, мне думается, что тут смысл совсем иной. Жаль, что вы не знаете древнееврейского. Это слово надо бы переводить не «плясал», но «был движим духом».
— Неужели? Я и не знала. Я этим выражением воспользуюсь.
Все трое помолчали с ученым видом.
— Доктор Бинч, а какие приемы, по вашему мнению, вернее всего побуждают людей идти к алтарю, когда они не желают подчиниться святому духу?
— Я всегда для начала предлагаю поднять руки тем, кто желает, чтобы за него молились.
— Да? А не лучше ли предложить им встать? Раз уж человек встал на ноги, ему гораздо легче выйти в проход и подойти к алтарю. Когда он просто поднимает руку, он может и опустить ее раньше, чем вы его заметите. Мы дали указания нашим распорядителям, что как только кто-нибудь встает, они сразу подскакивают и предлагают: «Брат, может быть, пройдете вперед, пожмете руку сестре Фолконер и примкнете к защитникам Иисуса?»
— Нет, — заявил доктор Бинч, — я знаю по опыту, что бывает много нерешительных людей, на которых надо воздействовать постепенно. Возможно, впрочем, мы оба правы. Мой девиз как спасителя душ — да будет мне позволено применить к себе столь высокое звание — таков: всякий способ хорош, если помогает, грубо говоря, сбыть товар.
— Что ж, это правильно, — отозвался Элмер. — А скажите, доктор Бинч, что вы делаете с обращенными после того, как они выйдут к алтарю?
— Я всегда стараюсь устроить так, чтобы их можно было пригласить в отдельную комнату. Это дает им возможность по-настоящему глубоко продумать свой новый и важный шаг. А поскольку дверь закрыта, им уже не ускользнуть. Да, кстати, и толпа не разглядывает их, не смущает.
— Не очень убедительно, по-моему, — сказала Шэрон. — Я считаю, что человек, который вызвался стоять за Христа, должен найти в себе мужество не смущаться других людей. А какое впечатление производит на толпу необращенных большая группа алчущих спасения у скамьи покаяния! Согласитесь, брат Бинч, — простите: доктор Бинч, — ведь многие из тех, кто приходит на собрание, только чтобы убить время, невольно заражаются и проникаются верой, видя, как глубоко потрясены другие.
— Нет, мне все же кажется, что гораздо важнее произвести глубокое впечатление на каждого отдельного обращенного, чтобы каждый, уйдя от вас, стал, если можно так выразиться, вашим вербовщиком. Впрочем, пусть каждый пользуется своим методом. Оговариваюсь: при том условии, что с нами и за нас господь.
— Скажите еще, доктор Бинч, — попросил Элмер, — как вы ведете подсчет ваших обращенных? В последнем городе, где мы были, кое-кто из пасторов обвинял нас в том, будто мы передергиваем цифры. Что вы берете за основу при подсчете?
— Мы считаем — мы, кстати, пользуемся счетной машиной — каждого, кто выйдет вперед и пожмет мне руку. Пусть даже иные из них старые прихожане, чья вера лишь разгорается с новой силой — что из того? Разве не столь же почетно вызвать к новой духовной жизни тех, кто, познав ее, затем утратил?
— Разумеется. Мы тоже так считаем. И, знаете, сколько нам пришлось терпеть нападок в этом дурацком городе! Мы — я хочу сказать, сестра Фолконер — испробовали новый прием. Мы заклеймили позором наиболее грязные притоны и кабаки и назвали их. Даже с указанием улицы и номера дома. Наш выпад произвел сенсацию; народ повалил к нам валом в расчете на то, что мы назовем и другие подобные места. По-моему, неплохая тактика. На той неделе испробуем ее здесь. И грешники исполнятся страха божия, и к тому же очко в нашу пользу!
— Однако и здесь есть свои опасные стороны, — молвил доктор Бинч. — Я бы вам не советовал… Дело в том, что в подобных нападках вы легко можете задеть кого-нибудь из влиятельных прихожан, тех именно, кто оказывает наибольшую материальную поддержку делу спасения. Они часто являются владельцами домов, которые бесчестные люди используют для низменных целей; и хотя они сами, конечно, сокрушаются по этому поводу, но все же, перечислив в своем выступлении адреса злачных мест, вы можете лишиться поддержки владельцев. Да на таком деле тысячи долларов можно потерять! На мой взгляд, бичевать порок вообще и более мудро и даже более соответствует духу христианства.
— А сколько у вас музыкантов в оркестре, доктор Бинч? — спросила Шэрон.
— Стараюсь, чтоб было как можно больше. С собой вожу пианиста, скрипача, барабанщика и корнетиста, ну, и, кроме того, солиста-певца.
— Вам известно, конечно, что кое-кто возражает против скрипки?
— О да. Но я их убеждаю тем, что нельзя отдавать все виды искусства на откуп дьяволу, — пояснил доктор Бинч. — Притом, как я убедился, красивая мелодия, в хорошем исполнении, медленная и грустная, настраивает людей на такой лад, что они идут к вам с открытым сердцем и открытым кошельком. Кстати, раз уж об этом зашла речь — как у вас со сборами в последнее время? И какую вы применяете систему?
— Да грех жаловаться, — ответила Шэрон. — Но мне и нужно много, я ведь содержу сиротский приют. Мы придерживаемся системы добровольных даяний в последний день… Таким образом мы собираем больше, чем каждый город мог бы гарантировать нам заранее. Если призыв к добровольным приношениям звучит достаточно убедительно, результаты, как правило, бывают очень недурны.
— Да, у меня та же система. Только мне не нравится термин «добровольные даяния» или «благодарственные приношения». Их до того уж затаскали второразрядные евангелисты — среди них, должен с прискорбием сознаться, есть и такие, что больше пекутся о своих доходах, чем о служении всевышнему, — что эти слова приобрели торгашеский оттенок. Я употребляю в своих воззваниях термин «приношения любви».
— Об этом следует подумать, доктор Бинч, — вздохнула Шэрон. — Но как трагично, что нам, несущим людям благую весть о спасении… ведь если бы только этот печальный мир внял нашим словам, всем его горестям и затруднениям пришел бы конец, — а нам приходится быть практичными и собирать деньги на свои расходы и на благотворительность! О, мир не сумел еще оценить евангелистов! Подумайте, как мы можем помочь приходским священникам! Тошно слушать разговоры этик пасторов о том, будто они могут сами проводить кампании по возрождению веры! Разве они представляют себе хотя бы, как за это взяться? Это особая профессия! Надо приемы знать. Не сочтите меня нескромной, но я беру на себя смелость утверждать, что мне известно, чем и как заставить людей вернуться к вере.
— Не сомневаюсь в этом, сестра Фолконер, — согласился Бинч. — Скажите, а как вы и брат Гентри относитесь к объединенным собраниям?
— Самым положительным образом, можете быть уверены! — воскликнул брат Гентри. — Мы никогда не выступаем, не заручившись поддержкой всех пасторов-евангелистов города!
— Думается, что напрасно, брат Гентри, — покачал головой доктор Бинч. — Мой опыт говорит, что удачнее всего проходят те собрания, что организованы с участием нескольких приходов, но уж зато непременно первоклассных. А когда связываешься со всеми, то приходится иметь дело и с настоятелями крохотных захолустных церквушек, которые получают по тысяче в год, а тоже считают себя вправе лезть со своими предложениями! Нет, сэр! Я предпочитаю сотрудничать с почтенными пасторами богатых городских приходов — эти привыкли вести дело на широкую ногу и не станут брыкаться, если даже ты и увезешь из города приличную сумму!
— М-да. В этом есть резон, — сказал Элмер. — Нам как раз то же самое как-то говорил евангелист Билл Баттл — вы с ним знакомы, вероятно?
— Да, но надеюсь, вы не питаете симпатий к брату Баттлу? — взволновался доктор Бинч.
— О нет! Я, во всяком случае, — никаких! — поспешила заявить Шэрон (то была супружеская «шпилька» в адрес Элмера).
— Это прохвост! — фыркнул доктор Бинч. — Ходят слухи, что его бросила жена. И отчего это в столь благородном деле, как наше, попадается столько проходимцев? Взять хотя бы доктора Мортонби! Выдает себя за ярого сторонника буквального толкования библии, а сам в таких отношениях со своей певичкой… о, вы бы в ужас пришли, сестра Фолконер, если б я вам рассказал о моих подозрениях…
— Да, знаю, знаю. Я сама с ним не встречалась, правда, но слышала о нем чудовищные вещи, — горестно вздохнула Шэрон. — А Везли Зиглер? Говорят, он пьет. И это евангелист! Да если б кто-нибудь из моих сотрудников выпил хоть глоток спиртного, я бы его выставила в ту же минуту!
— Правда ваша, правда ваша. Действительно ужасно! — сокрушался доктор Бинч. — А как вам нравится этот шарлатан Эдгар Эдгарс? Совершенно неприличный тип, в прошлом — игрок! А что за отвратительный жаргон! У-у! Лицемер!
С радостным воодушевлением все трое наперебой заговорили о недостатках своих конкурентов от евангелизма: один — невежда, другой — подделывает чеки, третий — не тверд в вопросе о втором пришествии — и столь же радостно заключили, что единственные образованные и высоконравственные евангелисты во всей Америке — это доктор Бинч, сестра Фолконер и брат Гентри. И завтрак завершился восторженной благодарственной молитвой.
— Этот Бинч гнуснейший фанфарон и мошенник во всей Америке! — немного погодя говорила Элмеру Шэрон. — И насчет Ионы не тверд и, говорят, табачок жует, а туда же, корчит из себя персону! Скажите, величина! Ты смотри осторожнее с ним, — добавила она. — Ох, милый, милый ты мой!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
I
Слава Шэрон росла. Теперь сестра Фолконер была на пути к тому, чтобы стать самой знаменитой проповедницей-евангелисткой Америки — и не столько благодаря своему красноречию, сколько тому, что она стала заниматься исцелением больных. Красноречие успело уже надоесть людям, да и вообще сфера деятельности евангелистов была поневоле ограничена тем, что даже самые ревностные едва ли пожелают спасаться больше трех или четырех раз. А вот исцелять их можно было до бесконечности — и все от одной и той же болезни.
Позже исцеление больных стало главным козырем многих евангелистов, но в 1910 году им занимались главным образом секты — Христианская наука[113] и Новая Мысль[114]. У Шэрон же это началось случайно. Правда, на каждом собрании она молилась за больных, но довольно-таки машинально. На одном из собраний в Скенектади, год спустя после того, как они с Элмером стали работать вместе, какой-то мужчина подвел к Шэрон свою глухую жену и попросил ее исцелить. Шэрон забавы ради послала за каким-нибудь маслом (масло оказалось смазкой для ружейных затворов, но она освятила его по всем правилам), смазала им уши женщины и стала с жаром молиться об исцелении.
И вдруг женщина взвизгнула:
— Слава тебе, господи, ко мне вернулся слух!
В молитвенном зале поднялось волнение. Каждый загорелся желанием исцелиться от своих недугов. Элмер отвел в сторонку исцеленную глухую и записал ее имя для газет. Правда, она его не слышала — просто он писал свои вопросы, а она — ответы, и так родилось отличное сообщение для газет, а кстати, и великолепная новая идея.
— Отчего бы не сделать исцеление больных непременной частью программы? — убеждал он Шэрон.
— Не знаю. По-моему, у меня к этому нет таланта, — задумчиво отозвалась она.
— Конечно, есть! Разве ты не обладаешь даром внушения? Ого! Займись этим. Можно бы устраивать особые собрания, посвященные исцелению. Держу пари, что сборы будут небывалые, а с местными комитетами будем договариваться так: все сборы сверх определенной суммы получаем мы, ну и, конечно, сбор последнего дня.
— Что ж, можно попробовать. Как знать — быть может, господь и дал мне особый дар. На все его святая воля, хвала ему… Ой, давай-ка зайдем сюда, съедим по порции сливочного мороженого! Я так люблю пломбир с бананами! Надеюсь, никто меня здесь не увидит! Эх, потанцевать бы сейчас… об исцеленных мы еще, конечно, поговорим… Как придем домой, сразу приму горячую ванну с ароматическими солями — насыплю много-премного — целую горсть!
Успех был потрясающий.
Своими чудесными исцелениями она оттолкнула от себя многих пасторов-евангелистов, но зато приобрела еще больше сторонников в лице тех, кто зачитывался книгами о силе воли, а в газетах стали регулярно появляться сообщения о ежедневно творимых ею чудесах. А кроме того, по крайней мере так говорили: некоторые из ее пациентов действительно исцелялись навсегда.
— Знаешь, — шептала она Элмеру, — пожалуй, в этих исцелениях действительно что-то есть. А как это волнует, когда велишь хромому бросить костыль! Вот, например, вчерашний калека — он в самом деле почувствовал себя куда лучше…
Теперь они убирали алтарь костылями и тростями, которые поднесли им благодарные пациенты, не считая тех, которые Элмеру пришлось купить вначале, чтобы выставка сразу произвела должное впечатление.
Деньги текли к ним рекой. Один благодарный пациент вручил Шэрон пять тысяч долларов, что и послужило поводом к единственной — не считая, конечно, случайных вспышек, — ссоре между Элмером и Шэрон. Он требовал прибавки жалованья ввиду увеличения доходов, а она утверждала, что все без остатка уходит на благотворительность.
— А-а, довольно, наслушался! — бросил он. — И «женский приют для престарелых», и «сиротский приют», и приют для ушедших на покой священников! Ты их, наверное, с собой в кармане таскаешь!
— Ты что это, любезный друг, позволяешь себе намекать, будто я…
Разговор происходил в очень повышенном тоне и вполне по-семейному. В заключение она повысила ему жалованье до пяти тысяч и поцеловала его.
Зарабатывая деньги с такой легкостью, Шэрон стала лихорадочно строить планы на будущее. Она купит ферму — десять тысяч акров земли, — откроет там колонию и университет христианских социалистов[115] (и даже действительно приобрела трехмесячный опцион на двести акров, но этим ограничилась). Она начнет выпускать крупную ежедневную газету, только без отдела уголовной, спортивной и светской хроники, но зато с толкованием отрывков из священного писания на первой полосе. Она возглавит новый крестовый поход — десятимиллионную армию, которая пройдет по языческим странам и еще при жизни нынешнего поколения обратит в христианство весь мир. Один из этих планов она в конце концов и в самом деле осуществила, создав штаб-квартиру для своих летних молитвенных собраний.
В приморском курортном городе Клонтар — штат Нью-Джерси — она купила летний театр на набережной, в котором Бенно Хакеншмидт ставил в свое время оперные спектакли. И хотя только на первый взнос ушли почти все ее сбережения, она рассчитала, что это выгодная покупка, так как она будет единоличной владелицей здания и ей не придется делить доходы с местным духовенством. И, кроме того, обосновавшись на одном месте, она гораздо больше поднимет свой престиж, чем разъезжая из города в город и всякий раз заново рекламируя свои достоинства.
В радостном возбуждении она мечтала, что, если все пойдет удачно, она сохранит за собою театр в Клонтаре как летнюю резиденцию и выстроит постоянную зимнюю молельню в Нью-Йорке или Чикаго. Она уже видела себя в мечтах второй Мэри Бейкер Эдди, Анни Безант[116] или Кэтрин Тингли[117]… Элмер Гентри только руками развел, когда она намекнула, что — как знать — не будет ли второй мессия женщиной, и женщиной, которая живет на земле, сейчас лишь начиная сознавать свое божественное назначение на земле.
Летний театр представлял собою огромное здание, сколоченное из дешевых сучковатых сосновых досок, пронзительно красное в золотую полоску. Впрочем, в жаркие вечера находиться в нем было очень приятно. Вокруг всего здания шла терраса, нависшая над водой, — прежде здесь в антрактах оперы прогуливались влюбленные, — и на эту террасу выходило множество широких, как в амбаре, дверей.
Шэрон окрестила его Скиния Вод Иорданских, окрасила в еще более красный цвет с еще более золотыми полосами, а наверху поставила исполинский вращающийся крест, сверкающий по вечерам желтыми и рубиновыми электрическими лампочками.
В начале июня вся группа евангелистов в полном составе прибыла в Клонтар, чтобы подготовиться к торжественному открытию, которое было намечено на первое июля.
Им предстояла еще вербовка добровольных распорядителей и работников с населением, а кроме того, Шэрон и Эделберт Шуп задумали создать огромный хор в туниках с тремя или четырьмя платными солистами.
Элмер на сей раз помогал ей с меньшим рвением, чем обычно, так как с ним — увы! — стряслась неприятность. Он вдруг явственно понял, что ему следует обращать гораздо больше внимания на пианистку Лили Андерсон. О нет, он был по-прежнему верен Шэрон, но все глубже проникался сознанием, что это непростительная небрежность — допустить, чтобы миловидная анемичная и девственно-чистая Лили пропадала зря. Обратить же на нее внимание его заставило то возмущенное чувство, с которым он заметил, что корнетист Арт Николс рассуждает примерно так же.
Элмера пленила ее нетронутость. Продолжая любить Шэрон, он за ее спиной постоянно поглядывал на хорошенькое, бледное личико Лили и облизывался.
II
Вечером, накануне торжественного открытия, Шэрон с Элмером сидели на берегу при свете луны.
Весь Клонтар с его вытянувшимися на милю вдоль моря комфортабельными летними виллами и пряничными домиками отелей проявлял живейший интерес к скинии, а Торговая палата даже напечатала объявление:
«Рекомендуем каждому, кто приезжает на побережье Нью-Джерси, посетить это первоклассное религиозное заведение, которое только что пополнило собою многочисленные и разнообразные достопримечательности этого изысканнейшего из всех модных курортов».
Идею с хором в двести человек удалось осуществить — некоторые из участников даже согласились приобрести туники и шапочки за свой счет.
Молельня возвышалась неподалеку от песчаной дюны, на которой расположились Элмер и Шэрон, и на крыше ее медленно поворачивался электрический крест, бросая пятна света то на волны прибоя, то на бледный песок.
— И это мое! — трепетно промолвила Шэрон. — Моих рук дело! Четыре тысячи мест! И, кажется, это единственный христианский молитвенный дом, который стоит над самой водой! Элмер, мне даже страшно. Какая ответственность! Тысячи бедных смятенных душ тянутся ко мне за помощью, и если я не оправдаю их надежд, буду слабой, усталой, жадной, — я погублю эти души, стану убийцей. Мне почти что хочется сбежать домой, в Виргинию!
Ее голос звучал точно во сне, сливался с грозным рокотом волн, тонул в грохоте прибоя, звенел страстью в секунды затишья, а огромный светящийся крест все поворачивался — медленно, безостановочно.
— Я честолюбива, Элмер. Я это знаю. Мне хочется покорить весь мир. Но я понимаю, какая в этом кроется страшная опасность. И ведь меня некому было учить. Кто я? Никто. Без роду, без племени. Ни семьи, ни воспитания. До всего пришлось доходить самой, не считая того, что для меня сделал Сесиль, да ты, да еще один человек. Но это, пожалуй, пришло слишком поздно. Когда я была маленькая, некому было внушить мне, что такое честь, и я… — что я только не вытворяла!.. Маленькая Кэти Джонас с Рейлроуд-авеню, малышка Кэти в красной фланелевой юбчонке и рваных чулках дралась со всей уличной шпаной с Килларни-стрит и так заехала в нос Дворняге-Монану, что будь здоров! И ни цента, хотя бы на леденцы! А теперь это все мое, эта молельня, этот крест — да ты только взгляни на него! — этот хор, что там репетирует! Да-да, я — та самая Шэрон Фолконер, о которой пишут все газеты! А завтра… о, эти люди, что тянутся ко мне… я исцеляю их… Нет! Мне страшно! Это не может так продолжаться. Сделай, чтобы могло, Элмер! Сделай для меня! Не позволяй никому отнять у меня это все!
Она разрыдалась, уронив голову к нему на колени, и он неловко утешал ее. Ему было чуточку скучно. Она так тяжело навалилась на него, и потом — при всей его привязанности к ней — он предпочел бы, чтоб она не так часто повторяла эту историю Кэти Джонас из Ютики.
Она привстала на колени и протянула к нему руки: в голосе, что снова зазвучал сквозь шум прибоя, послышались истерические нотки:
— Нет, мне это не под силу. Но ты… Я только женщина. Я слаба. Я часто задаю себе вопрос: может быть, хватит смотреть на себя, как на чудо, отдать бразды правления в твои руки, а самой отойти на второй план и только помогать тебе? Быть может, это разумно?
Какое здравомыслие! Он был восхищен. Прочистив горло, он рассудительно заговорил:
— Ну, тогда я тебе скажу. Я никогда не заговаривал об этом первым, но раз уж ты подняла этот вопрос… Я никоим образом не собираюсь утверждать, будто обладаю большим организаторским или ораторским талантом, чем ты, — нет; вероятнее всего, мне до тебя далеко. Да и начала это дело ты, а я пришел на готовое. Но при всем том… временно женщина, конечно, может вести дело не хуже любого мужчины, — пожалуй, даже и лучше. Но она все-таки женщина, она не приспособлена к тому, чтобы всегда везти на своих плечах мужскую работу. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Будет ли лучше для дела господня, если я откажусь от своих честолюбивых стремлений и последую за тобой?
— Я не говорю, что будет лучше. Ты много сделала, родная. Я не собираюсь наводить критику. Но все же, по-моему, нам это следует обдумать.
Она затихла в той же позе — серебристое коленопреклоненное изваяние. Потом вдруг уронила голову ему на колени и воскликнула:
— Не могу! Я не могу отказаться! Неужели это необходимо?
Вспомнив, что вблизи прохаживаются гуляющие, он цыкнул:
— Ох, ради всего святого, Шэра, не голоси и не ломайся! Вдруг кто-нибудь услышит!
Она вскочила.
— О-о, какой дурак! Какой безмозглый чурбан!
И убежала по песку — через зыбкие полосы света — в темноту. Он в сердцах потерся спиной о песчаную дюну, бормоча:
— Пропади они, эти бабы! Все одинаковы, даже Шэра. Вечно закатывают истерики по пустякам. Но и я-то хорош, не сдержался — и как раз когда она заговорила о том, чтоб передать мне дело! Ну ничего, я еще к ней подъеду, только лаской!
Он снял ботинки, вытряхнул песок и стал, не торопясь, с удовольствием почесывать себе пятку одной ноги — ему пришла в голову мыслишка…
Если Шэрон намерена откалывать такие номера, надо ее проучить.
Спевка окончена. Почему бы не вернуться домой и не взглянуть, что сейчас поделывает Лили Андерсон?..
Вот это славная девочка! И как она им восхищается! Такая ни за что не позволила бы себе орать на него!
III
На цыпочках подошел он к двери девственной Лили и легонько постучал.
— Кто там?
Он не решился ответить. В этом огромном старом доме, который они сняли в Клонтаре, дверь в комнату Шэрон почти напротив. Он постучал еще раз и, когда Лили, в халатике, подошла к двери, зашептал:
— Шш! Все спят. Можно зайти на минутку? По важному делу!
Удивленная Лили, явно не без волнения, впустила его в комнату, убранную вышитыми салфеточками.
— Лили, я беспокоюсь. Не начать ли Эделберту завтра с гимна: «Господь — наша твердыня» — или еще чего-нибудь похлестче в исполнении хора? Чтобы овладеть вниманием аудитории? А уж потом самому затянуть что-нибудь волнующее?
— Право, мистер Гентри, думаю, что сейчас уже поздно менять программу.
— Да? Ну, ладно, неважно. Сядьте-ка, расскажите, как прошла вечерняя спевка. Хотя, что это я! Конечно, великолепно, раз барабанили по клавишам вы!
— Ну вот еще! Вы просто смеетесь надо мной, мистер Гентри!
Она легко присела на краешек кровати, а он уселся рядом и храбро произнес с довольным смешком:
— И я никогда не смогу добиться хотя бы того, чтобы вы назвали меня Элмером?
— О, я не смею, мистер Гентри! Мисс Фолконер меня бы так отчитала!
— Вы только скажите мне, Лили, если кто-нибудь хоть раз посмеет вас отчитать! Да как же так!.. Не знаю, достаточно ли это ценит Шэрон, но ведь вы так преподносите музыку, что ваша игра для наших собраний не менее важна, чем ее проповеди и все прочее…
— Нет, мистер Гентри! Вы мне льстите — вот и все! Да, кстати! И я вам могу отплатить той же монетой.
— Постойте-ка, дайте еще припомнить. Ага! Вот вам! Тот епископальный священник — ну, знаете, такой высокий, красивый, — так вот он говорил, что вам надо в концертах выступать: так вы талантливы!
— Ох, что вы, мистер Гентри! Вам подшутить надо мной захотелось, наверное!
— Честное слово! Ну, а что же вы припасли мне? Хотя больше хотелось бы услышать что-нибудь приятное от вас лично!
— Что ж вы теперь напрашиваетесь на комплименты?
— Еще бы! Из такого ротика!
— Ой, что вы только говорите! Ужас просто! — Смех — взрыв серебристого хохота, целый каскад… — А про вас говорила та солистка из оперы, которая будет петь на открытии. Говорит, вы такой сильный, что ей прямо страшно!..
— Да ну? Правда? А вам?.. А? Вам тоже страшно? Признавайтесь-ка!
Рука ее каким-то образом очутилась в его ладони, он сжал ее, а Лили, отвернувшись, заливаясь румянцем, наконец прошептала:
— Да… и мне…
Он едва сдержался, чтобы не обнять ее, — но не следовало слишком подгонять ход событий. И он заговорил обычным деловым тоном:
— М-да, так вернемся к Шэрон и нашей работе. Скромность, конечно, украшает человека, но вы все же должны понять, как бесконечно ваша игра способствует созданию возвышенной атмосферы на наших собраниях.
— Я очень рада, что вы так думаете… но серьезно — разве можно сравнивать меня с мисс Фолконер, когда речь идет о деле спасения душ… Да она же самый потрясающий человек на свете!
— Это верно. Так и есть.
— Только жаль, что она не думает, как вы. По совести говоря, она едва ли высокого мнения о моей игре.
— И совершенно напрасно! Я не хочу сказать о ней ничего дурного — надеюсь, вы понимаете. Она, безусловно, одна из величайших проповедниц нашего времени. И все же, между нами говоря, у нее есть один недостаток: она никого из нас не умеет ценить по-настоящему! Думает, что все держится на ней одной! Я уже сказал, что от души восхищаюсь ею, но, клянусь, просто больно иногда становится, что она совсем не ценит вашу игру, — то есть, я хочу сказать, не так, как следовало бы ценить. Вам ясно, что я хочу сказать?
— О, это так мило с вашей стороны, но я, право, не заслужила…
— Но я-то ведь всегда ценил вашу игру, правда, Лили?
— Да, конечно, и это так мне помогало…
— Нет, серьезно? Если б вы знали, до чего мне это приятно слышать, Лили! — Он сильнее сжал ее хрупкую ручку. — Стало быть, вы рады, что мне нравится ваша музыка?
— О, да!
— А что вы сами мне нравитесь?
— Тоже — да. Ведь мы работаем все вместе… разумеется, как сестра — брату…
— Лили! А вы не думаете, что когда-нибудь… х-мм… когда-нибудь мы могли бы стать и чуточку ближе, чем брат и сестра?
— О-о, как же вам не совестно! Разве может вам понравиться такая, как я, — незаметная, маленькая, когда вы принадлежите Шэрон?
Что вы этим хотите сказать? Я — и принадлежу Шэрон? Да откуда вы взяли? Я восхищаюсь ею бесконечно, но я свободен, и вполне, можете быть абсолютно уверены! Только я немножко робел перед вами; вы такая красивая, нежная, как цветочек, и ни один мужчина, даже самый грубый, не решится обидеть такую, как вы. Оттого я и держался в стороне, думал, что как бы вас охраняю. А вы из-за этого, пожалуй, решили, что я не оценил ваших достоинств!
Она глотнула.
— О, Лили! Я ничего не прошу! Только иной раз, когда у вас тяжело на душе — а с кем из нас этого не бывает? Разве что с тем, кто думает, что он пуп земли и полновластный хозяин дела евангелистов!.. Чтобы вы, когда вам взгрустнется, позволили мне говорить вам о том, как один человек ценит то очарование, которое вы расточаете зря!
— Вы в самом деле говорите правду? Но… играть на рояле я, может быть, и умею, а сама-то ведь я — так… ничто.
— Неправда, дорогая, неправда это, Лили! Как это похоже на вас с вашей скромностью — не замечать, что вы, как светлый луч, согреваете наши сердца, что нам так дорого…
Дверь распахнулась. На пороге стояла Шэрон Фолконер в черном с золотом пеньюаре.
— Вы оба свободны, — сказала Шэрон. — Уволены с этой минуты! И чтобы я больше вас не видала. Переночевать можете здесь, но утром, еще до завтрака, потрудитесь убраться вон из этого дома.
— О, мисс Фолконер… — всхлипнула Лили, отталкивая руку Элмера. Но Шэрон, хлопнув дверью, скрылась. Они выскочили в холл и услыхали только, как повернулся ключ в ее двери. На их стук она не отозвалась.
Лили гневно сверкнула глазами на Элмера, щелкнул замок и в ее двери. Элмер остался в холле один.
IV
Долгие часы просидел он в унылом оцепенении, и лишь к часу ночи правдоподобное объяснение было найдено и продумано. Поистине героическое зрелище являл собою преподобный Элмер Гентри, влезая с балкона второго этажа в комнату Шэрон, подкрадываясь на цыпочках к кровати, тяжело шлепаясь подле нее на колени и награждая Шэрон смачным поцелуем.
— Я не сплю, — уронила она ледяным тоном и натянула одеяло до подбородка. — Наоборот, я впервые за два года по-настоящему проснулась, мой юный друг. А ну-ка убирайтесь отсюда! Не стану вам говорить всего, о чем я передумала, ограничусь лишь тем, что вы, помимо всего прочего, неблагодарный пес, кусающий руку, которая вытянула вас из грязной канавы, вы — лжец, невежда, шарлатан и бездарный проповедник.
— Черт побери, я тебе покажу…
Она фыркнула, и тут он вспомнил только что выработанный им план действий.
Он прочно уселся на краю кровати и спокойно заговорил:
— Знаешь что, Шэрон? Ты просто-напросто дремучая дура, вот и все. Думаешь, я стану отрицать, что волочился за Лили? Не стоит труда. Если ты сама так мало себя ценишь, если не понимаешь, что мужчину, который был близок с тобою, просто не может интересовать ни одна другая женщина, то мне нечего сказать! Бог мой, Шэра, ты что, не знаешь, что ты такое? Изменить тебе? Для меня это так же невозможно, как изменить моей вере! Кстати, хочешь узнать, о чем я говорил с Лили… то есть с мисс Андерсон?
— Нет, не хочу.
— Неважно, все равно ты меня выслушаешь. Так вот. Когда я вошел в холл, дверь в ее комнату была открыта, и она попросила меня зайти, чтобы о чем-то спросить. Оказывается, бедняжка мучилась сомнениями — достаточно ли хороша ее игра для такой величины, как ты, — кстати, это ее собственные слова — в особенности теперь, когда Иорданская скиния еще приумножит твою славу. Она говорила, что ты — величайшее явление в духовной жизни мира, и спрашивала, достойна ли она…
— Угу. Значит, спрашивала… Что ж, нет, недостойна! Так что увольнение остается в силе, что же касается вас, мой славный врунишка, то если вы еще хоть одним глазком поглядите на какую-нибудь девицу, то вылетите отсюда — и уже окончательно. Ах, Элмер, любимый, как ты мог? Ведь я все тебе отдала… О, лги, лги и дальше! А ну-ка выдай мне вескую, солидную ложь, чтоб я могла поверить! А потом поцелуй меня!
V
Флаги, знамена, хоругви, взмывающие ввысь по стропилам, флаги на стенах молельни, флаги, плещущие на ветру, который налетает с неспокойного моря. Вечер открытия Скинии Вод Иорданских, вечер, который положит начало крестовому походу Шэрон во имя покорения мира.
И в самом Клонтаре и в близлежащих курортах люди чувствовали, что готовится нечто не вполне доступное их пониманию, нечто удивительное, чего никак нельзя пропустить. И со всего побережья Нью-Джерси — кто на машине, кто в тележке — наехал благочестивый люд. К началу торжества все четыре тысячи мест были заполнены, человек пятьсот стояли в проходах, а снаружи собралась целая толпа тех, кто надеялся каким-нибудь чудом тоже прорваться в зал.
Изнутри помещение молельни напоминало амбар: дыры в тонких деревянных стенах были кое-как, на скорую руку заколочены для защиты от жестоких зимних бурь, но сейчас они были сплошь прикрыты флагами различных наций, огромными плакатами, возвещавшими кроваво-красным по белому о том, что в таинственной крови мессии кроется искупление всех горестей, а в его любви — приют и спасение. Вычурный, белый с золотом пирамидальный алтарь Шэрон заменила эстрадой, задрапированной черным бархатом, на фойе которого выделялся в глубине громадный хрустальный крест, а места для хора в двести человек, расположенные позади золотой кафедры, были обтянуты белым.
Возле кафедры стоял белый деревянный крест.
Вечер был жаркий, но в открытые на террасу двери врывался свежий ветерок, и ропот волн, и шум крыльев встревоженно взлетающих чаек. Все здесь настраивало на мистически-возвышенный лад, и каждый замирал в ожидании чуда.
Перед началом торжества евангелисты собрались за кулисами возбужденные, как театральная труппа перед премьерой. Они бесцельно метались из стороны в сторону, натыкаясь друг на друга, бормоча: «Слушай… да, что это я хотел… ну — как там…» Эделберт Шуп до последней минуты давал ненужные наставления новой пианистке, вызванной по телеграфу из Филадельфии, чтобы заменить Лили Андерсон. Она изображала из себя глубоко благочестивую особу, но Элмер уже отметил, что эта кудрявая милашка очень бойко постреливает глазками.
Хористы собирались по мере того, как наполнялся зал, пробирались вперед; болтали, с важным видом проходили за кулисы. Здание выходило прямо к морю, и поэтому, естественно, служебного выхода на сцену за эстрадой не было. Имелась только одна дверь, выходящая на задний балкончик, куда оперные артисты обычно выходили подышать свежим воздухом. С террасой, опоясывающей здание, балкончик не сообщался.
К этой двери и привела Элмера Шэрон. Их уборные помещались рядом. Она постучала — он сидел с библией и вечерней газетой в руках, читая то одну, то другую. Он открыл дверь и увидел сияющую, разгоревшуюся от возбуждения девочку, в пеньюаре, наброшенном прямо на сорочку, как видно, совсем забывшую свой недавний гнев.
— Иди сюда! — позвала она. — Посмотри, какие звезды!
Не обращая внимания на изумленных хористов, которые стекались в свою уборную, чтобы облечься в белые туники, она увлекла Элмера к двери и вывела на балкон.
Черные воды искрились огнями. Дыхание ветра, простор, покой…
— Посмотри, какая ширь! Как непохоже на тесные города, в которых мы были заперты, как в клетке! — бурно радовалась она. — Звезды и волны, что катятся от самой Европы! Европа! Замки на зеленых берегах! Никогда там не была, а теперь поеду! И толпы народа будут встречать меня в порту, как оплот духовной силы! Смотри-ка!
По небу, оставляя за собою длинный огненный след, пролетела падучая звезда.
— Элмер! Это предзнаменование грядущей славы! И сегодняшний вечер положит ее начало! Ах, мой любимый, никогда больше не обижай меня!
Поцелуй его обещал это вполне, сердце — почти. Сейчас, когда они стояли над морем, она была женщина — и только, но полчаса спустя она вышла на эстраду в белом атласе и серебряных кружевах, с алым крестом на груди, пророчицей — пророчицей с головы до ног; с высоким лбом, с затуманенным странным взором.
И вот уже запел хор. Он начал с славословия, что вызвало у Элмера некоторое сомнение. Ведь славословие уместно в конце, а не в начале. Однако с виду он был бесстрастен, этот священнослужитель в сюртуке с белым галстуком бабочкой, когда торжественно прошествовал мимо хористов величественный и строгий, и великолепным жестом воздел руки, требуя тишины.
Он рассказал собравшимся о сестре Фолконер и ее миссии, о планах и целях их деятельности в Клонтаре; затем попросил на минуту сосредоточиться в молчании и помолиться, дабы дух святой снизошел на этот храм.
Он отступил к своему креслу, поставленному в глубине эстрады, рядом с хором, и мимо него, едва касаясь земли, проплыла Шэрон — не женщина, богиня. Вот она увидала, какое множество народу явилось к ней, и прелестные глаза ее заблестели от слез.
— Мои возлюбленные! Вы даруете мне силу своею верой! — дрожащим голосом начала она.
Но затем голос ее окреп, зазвучал взволнованно, вдохновенно:
— Только сейчас, устремив свой взор поверх вод к далеким пределам мира, я видела счастливое для всех нас предзнаменование — огненную стрелу, начертанную десницей божьей, — светозарную падучую звезду. Так предварил он нас о пришествии своем и повелел, чтоб мы были готовы. О, готовы ли вы, готовы ли? Будете ли готовы, когда пробьет заветный час?
Ее проникновенный лиризм взволновал собрание.
Однако за дверями молельни были и не столь благочестивые души. Двое рабочих, закончив перед самым началом собрания полировку деревянных колонн, выбрались сквозь толпу входящих на террасу и уселись на перила, наслаждаясь прохладой и прислушиваясь к долетающим до них словам проповеди.
— Ничего язык подвешен у бабенки. Преподобный Голдинг с того конца города в подметки ей не годится, — произнес один, закуривая папироску и пряча ее в ладони.
Второй на цыпочках подошел к двери, заглянул внутрь и, вернувшись, процедил:
— Точно; и к тому же красотка — первый класс. А все-таки, знаешь, что я тебе скажу, женщина — она хороша там, где ей положено быть, а религией заниматься — для этого требуется настоящий мужчина.
— Да нет, эта справляется что надо, — зевнул первый, щелчком отбрасывая папиросу. — Ну, пошли, что ли? Может, хлопнем по кружке пива? Пойдем террасой к выходу.
— Это можно. Угощаешь?
Рабочие двинулись вперед — две темные фигуры меж морем и дверями ярко освещенного зала.
Забытый окурок притаился среди промасленных тряпок, брошенных рабочими на террасе у тонкой дощатой стены. Края одной тряпки начали тлеть, словно красный червячок; вот вся она вспыхнула огненным кольцом.
— Что может быть прекраснее такой молельни, воздвигнутой над лоном бездонных волн? — нараспев выговаривала Шэрон. — Вспомните, что сказано о могучей водной стихии в священном писании. Над водным простором носился дух всевышнего, когда земля была лишь хаос и тьма! Иисус был крещен в святых водах Иордана! Иисус ходил по водам, как могли бы и мы, если б верили, как верил он. О боже милосердный, исцели нас от неверия, даруй нам веру, равную твоей!
Элмер сидел сзади и слушал, взволнованный, как в те первые дни, когда его покорила Шэрон. Он так устал от ее поэтических импровизаций, что был почти готов признаться в этом самому себе. Но сегодня он вновь ощутил ее странное обаяние и вновь преклонился перед нею. Он видел ее стройную спину в мерцании белого атласа, видел ее дивные руки, простертые к многотысячной толпе, и с жаркой тайной гордостью наслаждался сознанием того, что эта красота, которой любуются и поклоняются столь многие, принадлежит ему одному.
Но тут он заметил и нечто иное.
В одну из дверей, выходящих на террасу, вползала и спиралью поднималась вверх струйка дыма. Он вздрогнул; он едва не вскочил с места; но побоялся вызвать панику и сидел, цепенея от ужаса, ловя бессвязные обрывки мыслей, мелькающие в голове, пока не услыхал пронзительный вопль: «Пожар! Пожар!» — и не увидел, что и вся публика и хор с дикими криками вскакивают с мест. В ту же минуту ярко вспыхнула легкая дверь, и пламя веером поднялось к стропилам.
В это мгновение он думал только о Шэрон — Шэрон, стоявшей, словно недвижная колонна из слоновой кости, перед обезумевшей толпой. Он бросился к ней. Он слышал, как она взывает:
— Не бойтесь, выходите, не торопясь!
Она обернулась к хористам, которые в развевающихся белых одеждах панически устремились вниз со своих скамей.
— Не бойтесь! — молила она. — Мы в божьем храме! Господь защитит нас! Я верую! Верьте же и вы! Я проведу вас невредимыми сквозь пламя!
Но они, не обращая на нее внимания, неслись мимо, отталкивали ее с дороги. Он схватил ее за руку.
— Сюда, Шэра! В заднюю дверь! Прыгнем с балкона и доплывем до берега!
Она словно и не слыхала его. Оттолкнув его руку, она продолжала выкрикивать голосом, который звенел безумием и фанатической верой:
— Кто положится на гостеприимство всемогущего господа? Пришел час испытать нашу веру! Кто последует за мной?
Две трети публики находилось за полосою огня, и большинство смогло беспрепятственно выбраться на террасу, а оттуда — на берег: дверей было много, и притом достаточно широких. Раздавили лишь одного ребенка, затоптали одну женщину, упавшую в обморок. Но ближе к эстраде, прорываясь между балками, бушевало пламя, раздуваемое ветром с моря. Большая часть хористов и публики из передних рядов уже спаслась, но тем, что были сейчас в глубине эстрады, путь к спасению оказался отрезан.
Элмер снова схватил Шэрон за руку и срывающимся от страха голосом крикнул:
— Бежим, ради бога! Медлить нельзя!
Безумие придало ей сверхъестественную силу. Она оттолкнула его так резко, что он отлетел в сторону и ударился коленом о скамью. Рассвирепев от боли, не помня себя от страха, он прорычал:
— Ах, так! Ну и черт с тобой! — и кинулся прочь, расталкивая оставшихся и истерически визжавших хористов. Оглянувшись назад, он увидел, что она уже совсем одна, высоко подняла в руках белый деревянный крест, стоявший у кафедры, и твердым шагом двинулась вперед — высокая белая фигура на фоне огненной завесы.
Хористы, которым не удалось пробраться к выходу, вспомнили или догадались о существовании маленькой задней двери, вспомнили о ней и Эделберт с Артом Николсом, и все они теперь устремились туда.
Дверь открывалась внутрь, только сейчас она не могла открыться, потому что человек двадцать несчастных напирали на нее с этой стороны. С ревом ужаса Элмер ворвался в самую гущу кучки людей, расшвырял их в стороны, сбил с ног девушку, стоявшую у него на пути, рывком распахнул дверь и выскочил последний и единственный. Больше никто не успел.
Он не помнил, как спрыгнул в воду, и пришел в себя уже в волнах прибоя, отчаянно стараясь выплыть к берегу, скованный холодом, скованный намокшим платьем. С большим трудом он ухитрился вытащить руки из рукавов сюртука.
Во внутреннем кармане лежал адрес Лили Андерсон, который она дала ему утром перед отъездом.
Ночное море, хоть и освещенное сейчас сверху пламенем пожара, уходило в бесконечную черную, слепую мглу. Волны вынесли Элмера к сваям, на которых стояла молельня, и он стал судорожно цепляться за замшелые, скользкие, точно змеи, столбы. Раковины врезались ему в ладони. Но он все же выбрался из-под нависшего над ним здания и, задыхаясь, поплыл к берегу, а море вокруг становилось кроваво-красным. В крови плыл он, в крови, холодной, как лед, бушующей и ревущей ему в уши.
Но вот колени его коснулись песка, он выполз на берег среди кричащих, растерзанных, вымокших людей. Многие бросились в море с террасы и все еще с жалобными воплями, выбиваясь из сил, боролись с прибоем. Их мокрые и безжизненные головы были отчетливо видны в свете пожара. От скинии остался уже лишь остов — клетка с беснующимся пламенем — и черные крохотные фигурки, все еще прыгающие с террасы в море.
Элмер вбежал по колено в воду и вытащил женщину, которая, впрочем, уже и так благополучно добралась до мелководья.
К тому времени, как на него налетели репортеры, он спас таким образом по меньшей мере человек тридцать — из тех, кто уже спасся собственными силами. Ему пришлось прервать свое занятие и отвечать на вопросы о причине пожара, стоимости здания, размерах страховой премии, о числе присутствовавших, а также количестве душ, возрожденных мисс Фолконер к духовной жизни за все время ее деятельности. Он не преминул отметить, что совсем уже было спас мисс Фолконер и Эделберта Шупа, но в этот момент обрушилась балка и раздавила их.
Сто одиннадцать человек погибли в ту ночь, и в их числе — все евангелисты, за исключением Элмера.
Не кто иной, как Элмер Гентри, отыскал на рассвете тело Шэрон, лежавшее на одной из балок пола. К трупу кое-где пристали лохмотья белого атласа; обугленная рука все еще сжимала обугленный крест.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
I
На взгляд людей ненаблюдательных и заурядных миссис Эванс Риддл была просто кузнец в юбке, однако сама-то миссис Риддл и ее последователи знали, что она открывает новую эру, в которой навсегда будет покончено с болезнями, бедностью и безрассудством.
Она возглавляла организацию Победа Силы Мысли с штаб-квартирой в Нью-Йорке. Сам Лос-Анжелос не мог бы похвастаться более крупным и значительным центром удобоваримой философии и мармеладной этики. Она издавала журнальчик, изобилующий перлами такого рода, как «Мир — лишь дорога, на которой все мы не более, как случайные попутчики». По воскресеньям она устраивала утренние и вечерние службы в Зале Эвтерпы на Восемьдесят Седьмой стрит и в промежутках между минутами «молчаливого раздумья» храбро сражалась с необъяснимым. Она устраивала курсы и читала лекции на темы: «Сосредоточение», «Материальное благосостояние», «Любовь», «Метафизика», «Восточный мистицизм» и «Четвертое измерение».
В небольших кружках избранных она давала наставления о том, как удержать при себе мужа, понимать санскритскую философию, не имея понятия ни о санскрите, ни о философии, как похудеть, не отказывая себе в пирожных. Она лечила от всех болезней, упомянутых в медицинском словаре, равно как и от тех, которые там не упомянуты; а в частных консультациях — десять долларов за полчаса — разъясняла неаппетитным пожилым особам, как возбудить страсть в юном чемпионе по футболу.
У нее был свой штат сотрудников, в число которых входил и настоящий индусский факир — индус он, во всяком случае, действительно был настоящий, — но она искала себе первого помощника и заместителя.
II
В роли самостоятельного евангелиста-проповедника преподобный Элмер Гентри потерпел неудачу.
Он шумел и грозил не меньше, чем всякий другой уважающий себя евангелист; как водится, утверждал на достаточно многолюдных собраниях, что день страшного суда, по всей вероятности, наступит в течение суток, самое позднее — в шесть утра; рассказывал навязшую в зубах историю про умирающего пьяницу. И все же чего-то не хватало. Дело не клеилось. Рядом с ним всегда незримо присутствовала Шэрон, манила, звала, упрекала — и это было невыносимо. Порой он поклонялся ей, как тени умершего божества; неизменно по-человечески тосковал по ней, по ее причудам, вспышкам гнева, по ее заразительному смеху. На кафедре он чувствовал себя самозванцем, а в номере гостиницы до боли томился по звукам ее голоса.
И хуже всего — что от него всюду ждали рассказов о ее «мужественной гибели за дело господне». Его мутило от этих рассказов.
Миссис Эванс Риддл предложила ему поступить к ней.
Против жидкого молочка Новой Мысли Элмер не возражал. Но миссис Риддл после Шэрон — это уж было чересчур. Она регулярно брилась, насквозь пропахла сигарным дымом, но тем не менее испытывала умилительную потребность в теплой мужской ласке.
Элмеру надо было зарабатывать себе на жизнь, и он уже слишком пристрастился к сладкому яду красноречия, чтобы вернуться к роли коммивояжера. После беседы с миссис Риддл он пожал плечами и смирился. Он сказал, что для такого молодого человека, как он, миссис Риддл будет источником вдохновения, он держал ее за руку — потом вышел и помыл руки — и твердо решил, что раз ему придется жить в большом каменном особняке, служившем и штаб-квартирой организации Сила Мысли и жилищем самой миссис Риддл, то он просто всегда будет держать свою дверь запертой.
Подготовка к новой деятельности не отняла у него много сил. Он прочел от корки до корки шесть номеров журнала миссис Риддл и заучил — точно так же, как в свое время ходовые штампы евангелизма, — терминологию Новой Мысли: «космический закон вибрации», «я утверждаю живую мысль» и тому подобное. Он также одолел главу из «Сущности восточного мистицизма, оккультизма и эзотеризма» и семь несравненных страниц «Бхагавад-Гита»[118]. Таким образом, он был готов обучать жаждущих, как добиваться любви и богатства.
На практике, однако, ему приходилось не столько взбираться на высоты философии, сколько угождать миссис Эванс Риддл. Обнаружив, что ему вовсе не улыбается просиживать с ней вдвоем до поздней ночи, она довольно строго требовала, чтобы он заботился о привлечении новых «чела» — так (по «Киму»[119]) именовала она платных клиентов.
Случалось, что миссис Риддл уставала лечить ревматизм или сама страдала от ревматизма, и тогда утреннюю воскресную службу в Зале Эвтерпы вместо нее справлял Элмер; да он и вообще обязан был присутствовать в Зале Эвтерпы для духовной поддержки своей вдохновительницы. Она любила, чтобы перед самым выходом на кафедру кто-то поглаживал ее волосатую руку; обязанность была не такая уж тяжелая: обычно за то время, что она была на кафедре, он вполне успевал прийти в себя. На его же обязанности лежало давать частные консультации старым девам, и он немало забавлялся, глядя, как жадно трепещут ноздри их заострившихся носов, как дрожат иссохшие губы.
Но больше всего внимания он уделял лекциям о том, как добиться успеха и благосостояния в делах. Для него, никогда еще не получавшего больше пяти тысяч в год, было увлекательнейшим занятием разъяснять десяткам восторженных и пораженных тупиц, как заработать десять тысяч, пятьдесят тысяч, миллион в год исключительно при помощи чудесной силы внушения, яркой индивидуальности и божественного ритма, короче говоря, исключительно путем освобождения своего внутреннего я.
Фантазия его разыгрывалась без удержу, и он, никогда не видевший в глаза ни одного Исполина Успеха более крупного калибра, чем председатель местного евангелического комитета, тешился, поучая бухгалтера с жалованьем тридцать долларов в неделю, как гордо войти в кабинет Моргана и, устремив на него проникновенный и могучий взор, тут же получить взаймы сто тысяч.
И все-таки он неотступно тосковал по Шэрон, тосковал с ощущением пустоты, таким же острым, как слабость от голода или утомление после долгих странствий. Дни, проведенные с нею, казались ему сейчас привольными, радостными, полными удивительных приключений, напоенными ароматом свежего воздуха. Он ненавидел себя за то, что позволил себе подумать о другой, и давал обет безбрачия на всю жизнь.
В каком-то смысле он даже предпочитал Новую Мысль стандартному протестантизму. Здесь было спокойней. Он никогда не чувствовал полной уверенности, что в тех доктринах, которые он проповедовал в качестве евангелиста, нет доли истины. Быть может, и в самом деле каждое слово библии продиктовано богом? Быть может, и вправду существует ад с горящей серой и смолой? Быть может, святой дух действительно парит вокруг и наблюдает за тобой и обо всем доносит богу? А тут он был совершенно спокоен: он точно знал, что все эти его Новые Мысли, все его теософические тирады — чистейший и чистопробный вздор. Никто не мог опровергнуть его теорий, ибо ни в одной из них не было ровным счетом никакого смысла. Что он говорит, было совершенно неважно, лишь бы его слушали, а, кроме того, сам он упивался сознанием своей власти, гипнотизируя слушателей длинными, запутанными, певучими, восторженными, как парфюмерная реклама, фразами.
Как приятно в солнечный зимний денек разглядывать элегантных женщин в раззолоченном, отделанном бархатом лекционном зале и разливаться соловьем: «О возлюбленные мои, разве не видите вы, разве не чувствуете, разве глаза ваши, прикованные к земле, не могут узреть, сколь могущественна „сила раджи“, которую каждый из нас путем внутреннего самосозерцания, в коем воплощено все, как бы ни было оно окутано завесой видимого, может довести в себе до совершенства, воспарив затем к горним высотам духа?!»
В ход шло почти любое индусское слово. По-видимому, индусы обладают особой скрытой силой, которая дает им возможность добиться всего, что они пожелают, кроме разве что избавления от магометан, чумы и кобры. «Жизнь души» была тоже хорошей темой, когда говорить было не о чем, а последние четверть часа внимание аудитории, состоящей из дам, разодетых в шелка, всегда удавалось привлечь горячей проповедью «сосредоточения».
Но все эти приятные стороны его ремесла не уменьшали его ненависти к миссис Риддл. Он подозревал к тому же, что она, выражаясь его словами, «накалывает его на сколько-то монет». Они договорились, что, помимо своего скудного жалованья, — две с половиной тысячи в год, — он будет получать определенный процент от прибыли. Но прибыли никогда не бывало, а когда он выразил желание заглянуть в ее кассовые книги — исключительно с целью насладиться точностью их ведения, — она отказала.
Тогда он резонно решил принять меры в защиту собственных интересов. Начал он с того, что переехал на другую квартиру и всех клиентов, которые являлись для личных консультаций, стал принимать сам в гостиной своего нового пансиона в Гарлеме. А когда миссис Риддл не присутствовала на собраниях в Зале Эвтерпы, он приносил в штаб-квартиру Победы Силы Мысли лишь ту часть сбора, которую после долгих молитв, размышлений и подсчетов на старом конверте определял как подходящую.
Это-то его и погубило.
Миссис Эванс Риддл, к сожалению, заподозрила неладное. Она подстроила так, что в кружку на вечернем собрании была положена меченая двадцатидолларовая бумажка, — с тех пор, как Элмер стал служителем Высших сил, миновал уж год, — и, когда он сдал ей выручку без этой двадцатидолларовой бумажки, она громогласно объявила в присутствии скалящего зубы смуглого язычника-факира:
— Гентри, вы ворюга! Вы уволены! У вас есть контракт, да я плевать хотела. Можете подавать в суд! Джексон! — Появился огромный негр-эконом. — А ну, вышвырните вон этого мошенника!
III
Он был ошеломлен; он почувствовал себя бесприютным и нищим бродягой, но все же решил самостоятельно вести курсы лекций под названием «Путь к богатству».
Справлялся он с этим самым «Путем к богатству» прекрасно, если не считать того, что не мог с его помощью заработать себе на жизнь.
В каждом городе он проводил от месяца до четырех. Для своих лекций, которые проводились три раза в неделю, он снимал танцзал какого-нибудь второразрядного отеля и рекламировал себя в газетах, словно новую марку папирос или мыла.
МИР ЗАДОЛЖАЛ ВАМ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ!
ОТЧЕГО ВАМ НЕ ВЗЯТЬ ЕГО?
ЧТО ПРИНЕСЛО МИЛЛИОНЫ РОКФЕЛЛЕРУ, МОРГАНУ, КАРНЕГИ?
СИЛА ВОЛИ!
ОНА ЕСТЬ И У ВАС, УЧИТЕСЬ РАЗВИВАТЬ ЕЕ.
ЭТО В ВАШЕЙ ВЛАСТИ!
ТАЙНУ ГОСПОДСТВА НАД МИРОМ,
СКРЫТУЮ В УЧЕНИЯХ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ[120]
И ИНДУССКИХ МУДРЕЦОВ,
ОТКРОЕТ ВАМ В ДВЕНАДЦАТЬ УРОКОВ
ЗНАМЕНИТЫЙ ПСИХОЛОГ ЭЛМЕР ГЕНТРИ.
доктор философии, доктор богословия, доктор психологии.
Писать или звонить по телефону для бесплатной личной консультации:
БАУЭРС-ОТЕЛЬ.
Его учениками были школьные учителя, мечтающие стать владельцами кондитерских; клерки, мечтающие стать торговыми директорами; священники, желающие стать журналистами; журналисты, желающие стать агентами по продаже недвижимости; агенты по продаже недвижимости, задумавшие стать епископами, и вдовы, которым хотелось зарабатывать деньги, не роняя себя при этом в глазах окружающих. Он поучал их, пользуясь отборнейшей терминологией, заимствованной от первого до последнего слова из журнала миссис Риддл.
Манипулировал он набором фраз — краденых, — которые заставлял своих учеников заучивать наизусть и повторять хором, как и полагается на всяком порядочном религиозном собрании.
Среди наиболее впечатляющих заклятий были такие:
Кем бы ни пожелал я быть — буду; я обращаю взор свой на свое внутреннее «Я» и обладаю всем, чего добиваюсь.
Я — дитя господне; все сущее — от господа, от господа и богатство, и я желаю унаследовать его.
Я тверд, и решимость моя безгранична, мне не страшен никто, ни на службе, ни в ином месте.
Сила — во мне, сила, побуждающая вас уступать моим желаниям.
Крепко удерживай, о подсознательное «Я», мысль о том, что я должен преуспеть.
В божественной книге достижений имя мое начертано золотом. Итак, я знатен в мире сем и сейчас, в этот миг, вступаю во владение царством моим. Я частица Мирового Разума и вправе требовать для себя частицу Власти над Миром.
День ото дня мое подсознательное «Я» будет повторять мне: не успокаивайся на том, чтобы работать на других, иди дальше.
В результате каждый его ученик был готов наживать по миллиону в год, и только сам учитель был готов вот-вот обанкротиться.
Учеников у него было достаточно, но все они были небогаты, а расходы он нес огромные. Надо было платить за аренду зала, за рекламу и сохранять видимость полного достатка; занимать фешенебельный номер в отеле, носить ослепительно-свежее белье, безукоризненно отутюженную визитку. Сидя иной раз в обитой красным плюшем гостиной номера, который стоил двадцать долларов в сутки, он ломал голову, как бы раздобыть сегодня денег на завтрак. Он приходил в такое уныние, что начал даже заниматься самоанализом.
С решимостью отчаяния он давал себе слово впредь всегда сохранять верность в любви и дружбе, если они еще встретятся ему на пути, и говорить в молитвах и проповедях лишь то, чему верит сам.
— Ох, вернуться бы сейчас в Мизпахскую семинарию, вымолить прощение у декана Троспера, получить свой диплом и закатиться в любую деревушку с баптистской церковкой. Но сначала надо сколотить денег хотя бы на то, чтобы оплатить год учения в семинарии.
Он уже некоторое время вел переписку с мистером О'Херном, владельцем гостиницы в Зените — городе штата Уиннемак с населением в четыреста тысяч человек, расположенном в ста милях от Мизпаха. Это было в 1913 году, еще до постройки отеля Торнлей, и Джил О'Херн старался переманить фешенебельную публику из пышного, но обветшалого Гранд-Отеля в свою новенькую желтую кирпичную таверну. Духовные беседы в танцзале придают отелю почти такой же шик, как первоклассный специалист по составлению коктейлей, так что мистер О'Херн заинтересовался рекламными проспектами ученого и неотразимого доктора Элмера Гентри.
Элмер мог принять предложение О'Херна при определенных гарантиях, и деньги на жизнь были бы ему обеспечены, но ему было необходимо иметь наличные на первые две недели, пока не начнутся поступления.
У кого бы занять эти деньги?
Он вспомнил о том, что — как он вычитал из бюллетеня выпускников Мизпахской семинарии — Фрэнк Шаллард, служивший в свое время вместе с ним в Шенеймской церкви, получил приход недалеко от Зенита.
Он отыскал этот бюллетень. Да, Фрэнк живет в Эврике, промышленном городке с сорокатысячным населением. На билет до Эврики у Элмера денег хватило. Всю дорогу он лелеял в себе то нежное чувство, с которым будущий должник вспоминает старого знакомца — человека щедрого и чуточку слабохарактерного.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
I
Фрэнк Шаллард окончил Мизпахскую духовную семинарию и получил свой первый приход. И вот сейчас, став священнослужителем — человеком, по теории отличным от всех простых смертных, — он начал сомневаться, имеет ли духовенство вообще какую бы то ни было объективную ценность.
Кому нужны эти нестройные, бездарно написанные гимны? Кому нужны проповеди, если набожные прихожане, судя по всему, ничем не отличаются от тех, кто никогда в жизни не слыхал ни одной проповеди? Быть может, размышлял Фрэнк, все священники и церкви — лишь пережитки суеверной старины, нечто вроде страховки на всякий случай? Допустим даже, что бывают вдохновенные проповеди. Допустим, что существует такая своеобразная должность, как должность священника, чья профессия — быть добродетельным человеком, будто добродетели можно научиться точно так же, как водопроводному делу или лечению зубов. Но и в этом случае — разве он сам, или его товарищи по курсу, или их профессора, чьи докторские степени не спасали от несварения желудка и дурного настроения, — разве все они получили достаточную подготовку для того, чтобы заниматься этим ремеслом профессиональной добродетели?
Предполагалось, что он должен врачевать недуг, именуемый пороком. Но он никогда не сталкивался с пороком и даже не знал наверное, каким именно любопытным занятиям предаются люди, погрязшие в пороке. Станет ли пьяница прислушиваться к советам человека, ни разу не побывавшего в пивной?
Предполагалось, что он должен нести человечеству мир. Но что знает он о силах, которые порождают войны человека с человеком, класса с классом, нации с нацией? Что известно ему о наркотиках, страстях, преступных желаниях? О капитализме, о банках, о труде и заработной плате, о налогах? О борьбе между государствами за рынки сбыта, о синдикатах по производству оружия, о честолюбцах в военных мундирах?
Предполагалось, что он должен приносить облегчение болящим. Но что знает он о болезнях? Как решить, когда следует молиться, а когда порекомендовать порошки?
Предполагалось, что он должен разъяснять страждущему человечеству намерения всемогущего бога, болтать по-дружески с всевышним и даже напоминать ему о его обязанностях по части дождей и церковных долгов. Но только — который из всевышних имеется в виду? Профессор Бруно Зеклин познакомил Фрэнка по меньшей мере с сотней богов, не считая еврейского Иеговы, или Ягве, который был лишь бедным и довольно-таки мрачным родственником такого блистательного аристократа, как Зевс.
Предполагалось, что с Фрэнком произошло некое мистическое превращение, вследствие которого он получил возможность спокойно жить, не испытывая нормальных человеческих страстей, без всякого интереса смотреть на ножки девушек, а в виде легкого развлечения почитывать церковные газеты да обмениваться рукопожатиями с членами приходского совета. А между тем, как это ни прискорбно, хорошенькие ножки как раз возбуждали в нем живейший интерес, он скучал по театру и, как ни каялся потом, не мог удержаться от чтения романов, хотя его наставники и доказывали ему, что это пустая и напрасная трата времени.
А что же он все-таки знал? Чему научился?
Он знал еврейский и греческий языки ровно настолько, чтобы с помощью словаря кое-как пробираться сквозь библейские дебри, а потому, как и все его товарищи, тотчас по выходе из семинарии стал читать библию только по-английски. Знал солидное количество наиболее грозных цитат из библии, но, пожалуй, все же меньше, чем знает рядовой плотник-евангелист из секты трясунов. Знал теорию о том, что Индия и Африка бедствуют лишь оттого, что не приобщены к христианству, а приобщенные к христианству Бэнгор и Демойн бедствуют лишь оттого, что нечистый (персона явно более могущественная, чем всемогущий бог) денно и нощно шныряет там, чиня препоны делу баптистских проповедников.
Он научился — теоретически — собирать деньги при помощи церковных базаров и находить темы для беседы во время посещений своей паствы на дому. Узнал, что Роджер Уильяме, Адонирам Джадсон, Лютер, Кальвин, Джонатан Эдвардс и Джордж Вашингтон — величайшие фигуры в истории, что Линкольн в критические минуты своей жизни горячо молился; что Ингерсолл призвал к своему смертному одру несуществующего сына и повелел ему стать правоверным христианином. Узнал, что папа римский замышляет явиться в Америку и захватить власть в свои руки, а мешают ему в этом лишь разоблачения баптистского духовенства с некоторой долей участия методистов и пресвитерианцев; что большинство преступлений совершается из-за алкоголя, а также из-за того, что люди меняют баптизм на унитарианство[121]; а еще он узнал, что священникам не полагается носить красные галстуки.
Он научился составлять проповеди из древнееврейских цитат, изречений греческих философов и евангелических анекдотов Среднего Запада. Он усвоил, что бедность благословенна, однако наилучшие церковные старосты получаются из банкиров.
Ну, а помимо всего этого, как с грустью убедился Фрэнк, проверяя свой духовный арсенал в начале новой карьеры, он, пожалуй, не научился ровным счетом ничему.
Из романа Элмера Гентри с Лулу Бейнс и откровенных намеков Гарри Зенза, что он атеист, Фрэнк вывел заключение, что священник может быть прохвостом или лицемером, оставаясь все же приемлемым для своей паствы. Глядя на декана Троспера, который служил своему богу с кислой гримасой, он помял, что человек может быть неповинен ни в одном из пороков, соблюдать все правила церкви и все же не внушать своей пастве ничего, кроме страха. Слушая заезжих знаменитостей, которые иногда появлялись в семинарии и важничали перед будущими пророками, он понял, что человек может произносить весьма ученые и пламенные речи и при всем том не сказать ничего, что удержалось бы в памяти хотя бы на шесть минут.
В конце концов он пришел к заключению, что если церковь и священнослужители вообще хоть что-нибудь стоят — в чем он вовсе не был уверен, — то уж, во всяком случае, сам он как священник не стоит ничего.
А между тем он был посвящен в духовный сан, получил свой приход.
Он едва ли примирился бы с необходимостью лгать, если бы не грозные настояния декана Троспера и жалобные просьбы отца. Отец Фрэнка, человек в общем покладистый, столько лет пробыл баптистским священником, что церковь была для него святыней. Если бы сын отрекся от нее, он бы не вынес. Разумеется, услыхав от кого-нибудь, что он убеждает Фрэнка лгать, он был бы потрясен. Он только разъяснил сыну, что ответы экзаменаторам при посвящении в сан, в конце концов, не более как поэтические символы, освященные благоговейным повторением многих поколений, и что понимать их буквально не следует.
И Фрэнк Шаллард, ученик Бруно Зеклина, нервно ответил экзаменующей его духовной особе, что — да, он верит, что крещение посредством погружения в воду одобрено самим богом как единственно верный способ начать праведную жизнь; и — да, нераскаянные грешники попадают в самый настоящий ад, а к числу этих самых нераскаянных грешников принадлежит всякий, кто, имея возможность посещать евангелическую церковь, не делает этого; и — да, творец вселенной со всеми ее звездами, отстоящими друг от друга на сто тысяч световых лет, — творец этой вселенной сердится и считает за личное оскорбление, если какой-нибудь малыш играет в воскресенье в бейсбол.
Полчаса спустя после своего посвящения и — в какой-то степени — ободряющих поздравлений ветеранов он ненавидел себя и изнывал от желания бежать, но снова привычный страх «огорчить отца» удержал его от честного шага.
И он остался в церкви… и продолжал доставлять огорчения отцу не один день, а долгие годы.
II
Одинокий и смятенный, приехал Фрэнк Шаллард на первое свое место — место пастора баптистской церкви в Катобе, городке с восемнадцатитысячным населением, расположенном в том же штате, что и Зенит и Мизпахская семинария. В городке его полюбили, но не принимали всерьез. Говорили, что проповеди он читает «ну, чисто, как стихи», восхищались тем, что он способен терпеливо сидеть со старой миссис Рэндал, которая уже тридцать лет была полным инвалидом и шестьдесят лет — непроходимо скучной особой, и ни разу в жизни ничем по-настоящему не болела. Восхищались и его стараниями организовать клуб для мальчиков, но восхищением дело и ограничилось: денег на клуб никто не дал. Его величали «преподобный отец» и говорили ему, что для человека, который, к несчастью, так хорошо образован, он придерживается удивительно здравых взглядов на религию. Так он и жил, словно в безвоздушном пространстве.
Своей пятой проповедью в Катобе Фрэнк остался доволен. Он начинал чувствовать, что его колебания приходят к концу. Он решил впредь игнорировать противоречивую теологию, игнорировать все догматы и сосредоточиться лишь на роли Иисуса как духовного вождя. На эту тему и говорил в воскресенье кудрявый юноша с блестящими глазами в храме с ярко-голубыми стенами, и голос его пел, точно скрипка, когда он рисовал образ Иисуса — доблестного вождя, доброго друга, верного защитника.
Он был убежден, что проповедь удалась, и в понедельник утром, направляясь из своего пансиона на почту, все еще думал о ней.
У извозчичьего двора Фэшн на ветхом сиденье, снятом с поломанного шарабана, сидел Лем Стейплс, весельчак-ветеринар, местный безбожник. Док Стейплс выписывал журнал «Искатель Истины» — по слухам, атеистический, цитировал Роберта Ингерсолла, Эда Хау[122], полковника Уотерсона[123], Элберта Хаббарда[124] и прочих авторов, которые, по слухам, держались того мнения, что католик ничуть не хуже методиста или баптиста. Док жил один, по-холостяцки, в маленьком желтеньком коттедже, и Фрэнк слышал, что по вечерам он часов до одиннадцати, а иногда и того позже засиживается в питейном заведении Марта Блюма за крибеджем.
Фрэнк недолюбливал его и даже не был с ним знаком. Он был готов приветствовать всякие честные поиски истины, честные сомнения — но объявить себя атеистом?! На это способен лишь полный идиот, возмущался Фрэнк. Кто же создал цветы, бабочек, закаты, детский смех? Такое само собою не появится! И, наконец, почему бы ему не держать свои сомнения при себе, вместо того, чтобы пытаться отнять у других людей религию — их единственное утешение и опору в болезни, горе и нужде? Это уже вопрос не морали, а уважения к вере окружающих тебя людей, вопрос элементарного приличия, наконец…
В то утро, когда Фрэнк поспешно шагал по Вермонт-стрит, Лем Стейплс окликнул его:
— День добрый, преподобный отец! Слушайте, вы не торопитесь?
— Я… да нет, не очень.
— Тогда садитесь, посидите. Тут у меня кой-какие вопросы, хотелось бы выяснить.
Фрэнк сел. От неловкости по шее у него забегали мурашки.
— Так вот что, преподобный. Старушка Теркинс рассказывала тут о вашей вчерашней проповеди. По-вашему, выходит так, что, какой бы веры кто ни придерживался, на одно мы все можем положиться железно — это на учение Христа. Так?
— Да, доктор, в общем, так. Грубо говоря.
— И вы считаете, что каждый разумный человек должен следовать этому самому учению?
— Ну, конечно.
— И что церковь, сколько бы за нею ни числилось провинностей, преподносит людям истины Иисуса лучше, чем если б люди обходились вообще без церквей?
— Разумеется. Иначе я бы не был служителем церкви.
— Ну, так объясните тогда, почему девять десятых убежденных, ревностных духовных лиц распадаются на два класса: одни — круглые невежды, которые боятся ада и, не разжевывая, проглотят любую самую дурацкую догму, другие — люди архипочтенные, которые играют в религию, чтобы казаться еще почтеннее? Отчего это? И почему самые умелые рабочие и первоклассные специалисты всех профессий обычно только посмеиваются над религией, а к церкви даже близко не подойдут, хотя бы и раз в месяц? Почему?
— Потому, вероятно, что это просто неправда!
Фрэнк торжествовал. Он взглянул на груду ржавых подков и лемехов в густо разросшейся сорной траве подле кузницы и подумал, что он очистит этот город силой добра.
Он разъяснил уже мягче:
— У меня, конечно, нет точных данных, но фактически почти каждый влиятельный и культурный человек в нашей стране является членом той или иной церковной общины.
— О-о! Является! А является он туда?
Фрэнк побрел дальше расстроенный. Он пробовал успокоить себя тем, что док Стейплс — грубый неуч, который очень забавно пересыпает свой деревенский говор плохо усвоенными книжными словечками. И все-таки он был встревожен. Вот он, тот самый человек из народа, которого полагалось бы убедить служителю церкви.
И Фрэнк вспомнил, как еще в отцовских приходах замечал, сколько людей, считающихся верными чадами церкви, с легким сердцем из месяца в месяц не заходили в нее; вспомнил торговцев, которые с внушительным видом обходили верующих с кружкой для подаяний, а позже, в разговоре с его отцом, выяснялось, что они очень смутно представляют себе, о чем он говорил во время своей проповеди.
Он стал присматриваться к своей собственной пастве. Вот они, солидные «сливки» города и простодушный, добрый деревенский люд, который понимает его только, когда он сулит им райское блаженство в награду за супружескую верность и добросовестное разведение кур или грозит адом за пристрастие к крепкому сидру.
В Катобе имелось одно-единственное городское предприятие, мебельная фабричка, где работали очень опытные мастера, и лишь немногие из них ходили в церковь. Фрэнк Шаллард всю жизнь держался в стороне от тех, кого с мягким пренебрежением именовал «рабочим классом». С кем из них ему приходилось сталкиваться? Служанки в отцовском доме, пожилые набожные и нерадивые негры-истопники, слесари и электромонтеры, приходившие в пасторат, когда требовался какой-нибудь мелкий ремонт; да еще железнодорожные служащие, с которыми он пробовал завязывать беседы в дороге — только их он и знал и всегда относился к ним с бессознательным чувством собственного превосходства.
Теперь он робко пытался завести знакомство со столярами-краснодеревщиками фабрики во время их обеденного перерыва. Они встретили его добродушно, но, уходя, он чувствовал, что они посмеиваются у него за спиной.
Впервые в жизни ему стало стыдно, что он проповедник, христианин. Ему страстно хотелось доказать им, что он все-таки «настоящий мужчина», но он не знал, как это доказать. Он скоро убедился, что все рабочие, кроме католиков, смеются над церковью и благодарят бога, в которого не верят, что им нет надобности слушать проповедь воскресным утром, когда можно так прекрасно посидеть на уютном заднем крылечке, почитывая спортивные новости и потягивая отличное пиво. Даже католики — и те как будто сомневались, что платная месса способна помочь их усопшим родственникам выбраться из чистилища в рай. Некоторые из них сознавались, что выполняют лишь свой «пасхальный долг» — ходят на исповедь и мессу раз в год.
Фрэнку впервые пришло в голову, что он и понятия до сих пор не имел, какая огромная армия умных, независимых тружеников существует в этом мире помимо хозяев, с одной стороны, и грубой рабочей силы — с другой. Он и не подозревал, как эти аристократы-умельцы презирают церковь, как издеваются над своими лидерами из Американской Федерации Труда[125], которые из предосторожности многословно уверяют всех, что они ревностные христиане. Эти открытия не давали ему покоя. С той поры, проходя по улицам Катобы с видом юного пророка, он чувствовал себя ряженым комедиантом.
Вероятно, он все-таки отказался бы от духовного сана, если бы не преподобный Эндрю Пенджилли, пастор катобской методистской церкви.
III
Если бы кому-нибудь вздумалось вскрыть Эндрю Пенджилли до самого нутра, оказалось бы, что он насквозь чист и прозрачен, как стекло. То был священник, каких любят изображать в благочестивых романах, только этот существовал на самом деле.
Каждому приходу, в котором ему пришлось побывать за сорок лет службы, он был добрым пастырем. Прихожане любили его, слушали его и платили ему гроши. В 1906 году, когда Фрэнк приехал в Катобу, мистер Пенджилли был уже старый служака, хрупкий и согбенный, с серебристыми волосами, тонкими серебристыми усами и тихой улыбкой, обращенной ко всему миру.
На Гражданскую войну Эндрю Пенджилли пошел мальчишкой-барабанщиком; босой и раненый спал на морозе в горах Теннеси на голой земле и вернулся все еще ребенком. Потом служил приказчиком в лавке и учил детей в воскресной школе. «Обращен» он был еще в десять лет, но в двадцать пять на него произвели неизгладимое впечатление проповеди индейца-евангелиста Осейджа Джо; он стал методистским пастором и с тех пор ни разу не усумнился в благодати господней. В тридцать лет он женился на пылкой девушке-певунье с добрым личиком. Он любил ее такой романтической любовью, что даже укутать ее на ночь ватным одеялом было для него своего рода поэзией, а ее башмаки из сыромятной кожи казались ему туфельками феи. Он так беззаветно любил ее, что, когда она умерла от родов через год после их свадьбы, у него ничего не осталось в душе для другой женщины. Он жил один, а вместе с ним — ее немеркнущий образ. Самые ярые сплетницы никогда не позволяли себе даже заикнуться о том, будто мистер Пенджилли поглядывает на какую-нибудь вдовушку из своего прихода.
В молодости Эндрю Пенджилли не нахватался книжной премудрости и по сей день ничего не слыхал о критике, которой подвергается библия, о происхождении религий, о социологии, которой начинали увлекаться даже высшие духовные особы. Зато он прекрасно знал библию и верил каждому ее слову; мало-помалу пристрастился к чтению книг, полных мистического экстаза. Сам он был мистик в полном смысле этого слова. Мир ненависти, мир плугов и мостовых был для него куда менее реален, чем мир ангелов, чьи серебристые одеяния словно мелькали в воздухе вокруг него, когда он предавался одиноким думам у себя в коттедже. Новомодные методы преподавания в воскресной школе были столь же неведомы ему, как налоги или финансовая система Литовского государства, но немногие протестанты лучше него знали творения отцов церкви.
Когда Фрэнк Шаллард в день своего приезда в Катобу распаковывал свои книги в доме аптекаря и церковного старосты Холтера, у которого он остановился, ему сказали, что его ждет внизу преподобный мистер Пенджилли. Фрэнк спустился в гостиную (позолоченные метелочки осоки в вазе и корзиночка с диапозитивами для волшебного фонаря), и чувство тоскливого одиночества покинуло его, когда он увидел широкую и ласковую улыбку мистера Пенджилли и услышал его неторопливую речь:
— Добро пожаловать, брат! Я Пенджилли, из методистской церкви. Я никогда не был мастер разбираться во всех этих различиях между названиями церквей, и, мне думается, мы с вами сможем работать вместе во славу божью. Во всяком случае, я надеюсь! А еще я надеюсь, что вы будете ходить со мной на рыбную ловлю. Я тут знаю один пруд, где водятся щучки — одно загляденье!
Последняя фраза была сказана с неподдельным воодушевлением.
Много вечеров провели они вместе в коттедже мистера Пенджилли, не таком грязном и запущенном, как обиталище местного атеиста, дока Лема Стейплса, и потому только, что дамы из прихода мистера Пенджилли, стараясь перещеголять друг друга, наперебой подметали у него, вытирали пыль, перекладывали, каждая по-своему, его книги и нацарапанные куриным почерком наброски проповедей и кричали на него, чтобы он носил зимой калоши и теплое белье. Они не давали ему самому готовить, заставляя терпеть прелести кухни одного пансиона за другим, но по вечерам он иногда жарил для Фрэнка яичницу-болтунью. Он гордился своим кулинарным талантом, хотя никогда в жизни ничего, кроме яичницы, не готовил.
Его комната была завешана портретами и олеографиями. Как ни увещевали его местные церковные власти, всякий раз рядом с такими методистскими героями, как Леонидас Хэмлин и Фрэнсис Эсбьюри[126] в романтическом плаще, он упорно развешивал репродукции старых итальянских картин, изображавшие мадонн, воскресение Христа, святого Франциска Ассизского[127] и даже Святое сердце. В эркере помещалась целая проволочная пирамида с горшками герани. Мистер Пенджилли был страстный садовод и забывал полоть и поливать свои цветы, только когда по целым неделям предавался мечтаниям. Зимой он всегда дожидался, пока листочки герани пожелтеют и увянут, а потом тщательно срезал их, чувствуя себя человеком, который по горло занят важными делами.
В комнате безраздельно властвовали старый пес и совсем древний кот, которые терпеть не могли друг друга, ворчали друг на друга не переставая, а по ночам спали вместе, свернувшись тесным клубочком.
Развалившись в ветхой, покосившейся качалке, накрытой ситцевой перинкой, Фрэнк слушал не очень связные речи мистера Пенджилли. Вначале они беседовали о вещах чисто внешних: перемывали косточки прихожан, посмеивались над мужчиной, который ходил из церкви в церковь, оглушая почтенных богомольцев громогласными возгласами «аллилуйя», — словом, вполне по-человечески отводили душу, беззлобно — а иногда и не совсем беззлобно — сплетничая о своих ближних. Фрэнк на первых порах побаивался делиться своими юношескими сомнениями со столь ясным и святым старцем, но в конце концов поведал ему о том, что его смущает.
— Как увязать, — спрашивал он, — представление о милосердном и любящем боге с тем, что этот бог покарал Ездру[128] за похвальную попытку спасти падающий ковчег, убил — чуть ли не для забавы — сорок два ребенка лишь за то, что они дразнили Елисея[129] точно так же, как дразнил бы сегодня какого-нибудь старичка любой мальчишка из Катобы? Разумно ли это? А если нет, если какая-то часть библии — только миф, то где же граница? Можно ли верить после этого, что библия вообще боговдохновенна?
Мистер Пенджилли не пришел в ужас и даже не взволновался. Глубоко утонув в старом плюшевом кресле, сплетя тонкие пальцы, он размышлял вслух:
— Да, я слыхал, что просвещенные критики задаются подобными вопросами. Должно быть, такие вещи смущают людей. Но я порою спрашиваю себя, не для того ли господь ввел в библию эти камни преткновения, чтобы испытать нашу веру, нашу готовность всем сердцем и всей душой принять даже то, что может показаться нелепым рассудку? Разве умом многое постигнешь? Подумайте, многое ли знают даже астрономы об обитателях Марса, если они там есть? Не должны ли мы принять Иисуса Христа сердцем, верою, а не историческими выкладками? Разве не чувствуем мы его влияние на нашу жизнь? Разве не тот выше всех среди нас, кто всего сильнее ощущает это влияние? А может быть, господь желает отстранить от служения ему всех, кто чересчур надеется на свой жалкий разум и не способен смиренно и безоговорочно принять великую и неоспоримую истину милосердия Христова? Вот вы… Когда вы чувствуете себя всего ближе к богу? Когда читаете какую-нибудь ужасно умную книгу, в которой критикуется библия, или когда преклоняете колена в молитве, и дух ваш возносится в неведомую высь, и вы знаете, вы ощущаете всем существом своим, что вы общаетесь с богом?
— Ну, разумеется…
— И вам не кажется, что он сам в положенный срок разъяснит все эти смущающие нас загадки? А пока что не лучше ли просто служить бедным, больным, измученным людям, чем строчить бойкие книжицы, выискивая ошибки в писании?..
— Да, но…
— А может ли что-нибудь сравниться с библией, когда надо вернуть счастье и покой заблудшим душам? Разве не испытана она на деле?
В утешительном присутствии Эндрю Пенджилли все эти доводы казались очень вескими, подлинными откровениями. Бруно Зеклин отходил куда-то, в серую, туманную даль, и Фрэнк был покоен.
Утешил его мистер Пенджилли и относительно интеллигентных рабочих, которые не желают иметь дела с церковью. Тут старик просто рассмеялся:
— Да помилуйте, приятель! А чего ж вы ожидаете, вы, пастор? Чтобы ни одного грешника во всем мире и никакого дела для вас? Вы, наверное, получаете не так уж много, но и эти деньги надо же чем-то заработать! Кто-то не ходит в христианскую церковь?! Ха! Когда начинал наш учитель, так вообще никто не ходил в христианскую церковь! Ступайте да приведите их!
Пристыженному Фрэнку все это казалось более чем убедительным: он пошел, чтобы привести их, — и не привел и все-таки продолжал оставаться священником.
В духовной семинарии «общение с богом» именовали католической мистерией. Теперь он столкнулся с ним на практике. Мистер Пенджилли научил его опускаться на колени, отрешившись духом от забот, от гордости, от всех желаний, и повторять слова: «Явись, дабы я мог узреть тебя воочию», — повторять не как заклинание, но для того, чтобы не осквернить уст своих мирскою речью. И когда он уже был и напряжен и утомлен, он впадал в экзальтацию, начиная чувствовать подле себя нечто светозарное, почти пугающее, и ощущать, как он был убежден, подлинную, любовную, неподдельную близость бога.
Он стал называть своего наставника «отец Пенджилли», и теперь старик журил его редко, а вскоре и совсем перестал.
При всей своей наивности, при всем своем мистицизме отец Пенджилли был далеко не глуп и обладал весьма твердым характером. Так, однажды он сурово отчитал нахала бакалейщика, недавно поселившегося в городе. Решив, что этот старикан — отличная мишень для шуточек, он гаркнул однажды, что ему «надоело ждать, пока вы, попы, вволю намолитесь о дожде. Вы и сами-то, думается, не очень верите в эту чушь». Досталось от него и старой мисс Юделл, главному стражу нравственности в городе. Старушка явилась и стала нашептывать ему, что Эми Дав якобы бог весть чем занимается по вечерам с молодыми ребятами.
— Я знаю, что вы любите посплетничать, сестра, — отозвался мистер Пенджилли. — Возможно, это не по-христиански — лишать вас такого удовольствия. Но все, что касается Эми, мне известно. А вы бы сейчас пошли и помогли бедной старой калеке, сестре Экстайн, управиться со стиркой. Так и время пройдет незаметно, и, глядишь, один денек проживете без сплетен.
В чувстве юмора отцу Пенджилли тоже нельзя было отказать. Странности прихожан вызывали у него лишь усмешку. А местный атеист, док Лем Стейплс, был ему просто по душе. Он часто зазывал ветеринара к себе, и Фрэнк отдыхал душой, наблюдая, с каким безмятежным спокойствием выслушивает отец Пенджилли насмешки дока по адресу корыстолюбивых и далеко не безгрешных церковников.
— Лем, — говорил отец Пенджилли, — вы, может быть, удивитесь, но должен вам сказать, что среди вашей братии тоже наберется парочка-другая грешников. Представьте себе, я слыхал, что среди безбожников попадаются даже конокрады. Это, думается, кое о чем да говорит. Да, сэр. Я восхищаюсь тем, что вы рассказываете о добросердечных атеистах, особенно после всего, что я читал о людоедах, которым так мало досаждают методисты и баптисты!
Отец Пенджилли искал и находил бога в природе не только в своем саду, но и в лесу, на берегу речки. Он был страстный рыболов, хотя уловом интересовался очень мало. Фрэнк плавал с ним в замшелой плоскодонке по тихим заводям под ивами, слушал, как журчит вода между корнями, смотрел, как расходятся по воде круги там, где всплеснулся окунек. Низко надвинув на загорелое, окаймленное серебристыми усами лицо немыслимую деревенскую соломенную шляпу, старик мурлыкал себе под нос гимн «Широка господня милость, как простор морской воды» и посмеивался: «А вы вот в книгах хотели искать бога, молодой человек!» И Фрэнку было радостно сопровождать его, быть его сподвижником и товарищем и больше полагаться на его многолетний опыт, а не на свои досадные недоумения, принимать на веру любое объяснение ценности библии, назначения церкви, духовного водительства Христа, лишь бы оно казалось основательным этому воину Христову.
Фрэнк сделал успехи как проповедник. После Катобы он сменил еще два или три прихода в более крупных городах и, наконец, попал в Эврику — оживленный промышленный городок с сорокатысячным населением. И здесь его заметила и женила на себе славная Бесс.
IV
Бесс Нидем, впоследствии Бесс Шаллард, была удивительно похожа на малиновку: такая же веселенькая, кругленькая, румяная и так же глубоко уверенная, что смысл жизни заключается в том, чтобы пораньше вставать, чирикать, заводить птенцов и заботиться о пропитании. С Фрэнком она встретилась на церковном собрании, сразу пожалела его за бледность, которую приписала недоеданию, и отрядила своего батюшку, общительного и толкового зубного врача, пригласить Фрэнка в гости, чтобы он мог «поесть как следует» и послушать веселые патефонные пластинки. Она с удовольствием прислушивалась к его речам; о чем он говорит, она понятия не имела, но ей нравилось, как это у него звучит.
Его волновала ее гибкая шейка, уютная грудь, пухлые пальчики, которые стали гладить его кудри еще до того, как он догадался, что сам мечтает об этом. Его трогали ее уверения в том, что он «заткнул за пояс» преподобного доктора Сигера, давнишнего баптистского пастора Эврики. Так, без всякой борьбы она и женила его на себе, и в самый короткий срок у них появилось трое детей.
Бесс оказалась чудесной женой и матерью. Она клала ему в постель горячие грелки, восхитительно готовила тушеное мясо с капустой, была вежлива с самыми нудными прихожанами, была рачительна и бережлива и, когда он сидел в кругу своих коллег, толкуя о церковных таинствах, она слушала его и только его, сияя материнской нежностью.
Он понимал, что теперь, с женой и тремя детьми, он не вправе и помыслить о том, чтобы бросить церковь, и с той минуты, как осознал это, стал чувствовать себя как в ловушке и больше прежнего терзаться угрызениями совести.
V
Эврика с ее сталелитейными заводами, ее кипучим жизненным темпом, конфликтами между наступающими промышленниками и неподдающимися социалистами не имела ничего общего с Катобой, где все располагало к созерцательной жизни, где мысли мерцали, как далекие звезды в туманной дымке. Тут происходили яростные столкновения взглядов и идей, на почве которых возник «Клуб проповедников-либералов». Фрэнк был вовлечен в этот клуб, не успев прожить в Эврике и двух недель.
Заправилой у либералов был Герман Кассебаум — раввин-модернист, молодой, красивый, черноглазый и еще более черноволосый, неизменно веселый; по мнению избранных кругов города — мелкий шарлатан и опасный малый, а на самом деле несомненно самый образованный человек, какого когда-либо приходилось встречать Фрэнку, если не считать Бруно Зеклина. Его друзьями были: унитарианский священник — благодушный атеист; пресвитерианец — правоверный по воскресеньям и бунтарь по понедельникам; колеблющийся конгрегационалист и представитель англо-католической епископальной церкви, который не уставал восхищаться как красотами ритуала, так и его солнцепоклонническим происхождением.
Душевные волнения Фрэнка возобновились. Он снова перечел «Что такое христианство» Гарнака[130], «Происхождение и природа библии» Сандерленда[131], «Многообразие религиозного опыта» Джеймса[132], «Золотую ветвь» Фрезера[133].
Он находился в том приятном состоянии, когда все, что ни сделаешь, окажется плохо. Споры в либеральном клубе не удовлетворяли его. «Если вы держитесь такого мнения, почему же вы не порываете с церковью?» — постоянно спрашивал он друзей по клубу. Но все-таки он не мог уйти от них, а потому не мог и рассчитывать на большой успех среди братьев-баптистов. Когда он осторожно намекнул своей доброй жене Бесс о своих сомнениях, та запротестовала:
— Нельзя сблизиться с людьми, взывая только к их рассудку. И потом — даже если б ты и выложил им всю правду, как ты ее понимаешь, они бы не поняли. Они еще не подготовлены к ней.
Изо всех его сомнений горше всего была неуверенность в себе. Так и остался он жить на этой унизительно-зыбкой почве, одинаково завидуя как раввину Кассебауму, открыто глумившемуся над всякой религией, так и непоколебимой и громогласной убежденности евангелистов, веривших каждой букве писания.
Он, каждое воскресенье указывавший своей пастве точный адрес в рай, сам беспомощно барахтался в чистилище сомнений, где всякая его семейная добродетель оборачивалась трусостью, всякое мистическое вдохновение — суеверной блажью, всякая попытка быть честным — жестокостью по отношению к Бесс и к своему горячо любимому потомству.
Вот в каком настроении пребывал Фрэнк Шаллард, когда к нему в кабинет неожиданно явился шумный, уверенный в себе, преподобный Элмер Гентри, такой рослый, красивый, вылощенный, — явился и заявил, что если Фрэнк найдет возможным дать ему взаймы сто долларов, он, Элмер (а с ним надо полагать, и господь бог), будет весьма благодарен и вернет деньги в течение двух недель.
Встретиться с Элмером как с собратом-пастором — это уж было выше сил. Фрэнк торопливо — чтобы поскорее отделаться — сунул Элмеру сто долларов, которые скопил на оплату двух последних счетов от акушерки, и потом долго сидел у своего письменного стола, бессильно опустив голову на руки и молился: «О боже, укажи мне путь!»
Вдруг он вскочил.
— Нет! Элмер сказал, что бог указал путь ему! Ну, так я постараюсь сам найти себе дорогу! Я… — И закончил упавшим голосом: — Но разве я могу огорчить Бесс, огорчить отца и старину Пенджилли? Нет, видно, надо тянуть лямку.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
I
Сидя за небольшим дубовым письменным столом в холле отеля О'Херна в Зените, преподобный Элмер Гентри писал письма. Друзей у него не было, и писал он в ответ на запросы относительно курсов «Путь к богатству». С курсами дела в Зените подвигались так себе — ни хорошо, ни плохо. Он заработал достаточно, чтобы подумать об уплате ста долларов Фрэнку Шалларду, но явно недостаточно, чтобы уплатить. Ему уже наскучило это ненадежное занятие; он уж был почти готов вернуться к продаже сельскохозяйственного инвентаря. Впрочем, внешне он отнюдь не производил впечатление неудачника: щегольская визитка, стоячие воротнички, синий в крапинку галстук-бабочка.
По другую сторону того же стола сидел и писал щуплый человечек с огромным крючковатым носом, безвольным подбородком и голым византийским черепом. На нем был коричневый рабочий костюм, ярко-зеленый галстук и очки в роговой оправе.
Помощник директора банка, начинал школьным учителем, решил Элмер. Он заметил, что человечек наблюдает за ним. Будущий слушатель курсов? Нет. Староват,
Откинувшись на спинку стула, Элмер сложил руки, принял как можно более благостный вид и, умело откашлявшись, расцвел в улыбке. Человечек, продолжая поглядывать на него снизу вверх, словно крыса, не проронил ни слова.
— Чудесное утро сегодня, — заметил Элмер.
— Да. Восхитительное. В подобное утро вся природа воплощает в себе божественную радость.
«Эх, черт! Тут не разживешься! Либо пастор, либо костоправ!» — уныло подумал Элмер.
— Вы… кхм… вы, полагаю, доктор Гентри?
— Да. К сожалению, я что-то не…
— Я Тумис, епископ методистской церкви Зенита и округа. Имел огромное удовольствие слышать вас на днях, доктор Гентри.
Элмер затрепетал от радостного возбуждения. Епископ Везли Р. Тумис! Он уже много лет слышит об этом исполине, одном из самых блестящих ораторов церковной кафедры, глубоком мыслителе, вдохновенном проповеднике и талантливом руководителе методистской церкви Севера. В Оушен-Гров епископа слушали десять тысяч людей; он выступал в Йельской капелле, имел успех в Лондоне. Элмер встал и с рукопожатием, которое, вероятно, доставило епископу немало страданий, сияя, заговорил:
— Да что вы, сэр! Какая великая честь, сэр! Так вы приходили меня послушать! Вот это да! Жаль, что я не знал! Пригласил бы вас на почетное место!
Епископ Тумис тоже привстал, жестом показал Элмеру, чтобы он садился, а сам присел на краешек стула, точно ястребок, и заклекотал:
— Нет, нет, спасибо, зачем же? Я пришел как скромный слушатель. Смею сказать, что как по стечению обстоятельств, так и по возрасту, я более вас опытен в христианской жизни и христианском учении; и я не стану делать вид, будто во всем решительно согласен с вами. Тем не менее я должен признать, что некоторые ваши мысли производят весьма внушительное впечатление. Мысль о необходимости земных богатств для поддержания деловой жизни мира в ее нынешнем виде. Мысль о значении самоуглубления — как в молчании, так и в счастливые минуты устных молитв. Да, да. Я твердо уверен, что и мы, методисты, должны применять некоторые из Великих Истин, относящихся к божественным внутренним силам — силам, слишком часто затемняемым и замалчиваемым. Силам, каковыми — как открыла нам Новая Мысль — в подсознании обладает каждый из нас. Я убежден, что нельзя ограничивать церковь уже известными догматами, следует поощрять ее рост. И мысль о том, что реальным следствием подлинно благочестивой молитвы и самоуглубления явится физическое здоровье и материальное благополучие, вполне резонна. Да, да. Меня весьма заинтересовало то, что вы говорили по этому поводу… Кстати, сегодня мне предстоит выступить с речью на завтраке в Торговой палате — и примерно на ту же тему. И, если вы случайно свободны, я был бы очень рад…
Они отправились вместе — Элмер и епископ Тумис, и Элмер дополнил речь епископа несколькими собственными мыслями, а также восторженными похвалами епископам вообще, епископу Везли Р. Тумису в частности, духовному красноречию и радостям обладания благами мира сего.
Все — за исключением, пожалуй, членов Торговой палаты — дивно провели время, а после завтрака Элмер и епископ вышли вместе.
— Право, я весьма польщен, что вы так много обо мне наслышаны, — скромничал епископ Тумис. — В конце концов я только скромный слуга методистской церкви, — то, бишь, Господа, и я не думал, чтобы та небольшая известность, которой я пользуюсь среди своих, могла стать достоянием также и мира Новой Мысли.
— О, я не принадлежу к миру Новой Мысли! Я… гм… я веду эти курсы временно… нечто вроде психологического эксперимента, если можно так выразиться. Дело в том, что я баптистский пастор, а в семинарии ваши проповеди, естественно, приводились нам в пример, как образец, достойный подражания.
— Боюсь, что вы мне льстите, доктор!
— Ничуть. Честно говоря, меня они настолько увлекли, что при всем своем почтении к баптистской церкви я почувствовал, когда прочел их, что методистская церковь выгодно отличается от нее своею мощью и размахом. Я даже подумывал, не переговорить ли мне с кем-нибудь из выдающихся методистов вроде вас, например, о том, чтобы перейти к методистам.
— Да ну? В самом деле? А мы могли бы найти вам дело! М-да… не зайдете ли вы ко мне завтра вечерком поужинать чем бог послал?..
— Сочту за честь, епископ.
Наедине с собою, у себя в комнате, Элмер ликовал:
— Вот это дело! А то тянешь канитель в одиночку!.. Надоело! Пора войти в настоящую крупную организацию, как эти методисты, начать хотя бы с малого, но зато быстро пойти в гору… Лет через десять самому стать епископом! Какая силища за спиной — деньги, большие церкви, крупные приходы — все! Вот это по мне! О боже, ты указуешь мне путь… Нет, это я серьезно… Шалостям — крышка. Отныне — настоящая религия. Урра! Ну, старина епископ, развешивай уши — наслушаешься же от меня сегодня лести!
II
Епископский дворец… В конце длинной мрачной гостиной — альков со стрельчатыми сводами — остатки картезианской часовни. Скорбное распятие школы Эль Греко[134]: изможденная фигура умирающего бога на фоне зловещих, гонимых ветром туч. Окна в мелких переплетах, витражи, поныне сверкающие девизами старых епископов, давным-давно обратившихся в жалкий прах. Огромный полированный трапезный стол старого дуба и строгие монашеские стулья вокруг. И библиотека: по обе стороны величавого камина скупо поблескивают, ряд за рядом, кожаные переплеты томов, заключающих в себе мудрость, ныне мертвую, как и епископы.
Запомним эту картину. Запомним потому, что она столь разительно непохожа на резиденцию преподобного доктора Везли Р. Тумиса, епископа методистской церкви Зенита и его округа.
Епископ Тумис обитал в той части Зенита, что известна под названием Девон-Вудс и расположена у слияния двух рек, Чалузы и Эпплсид, в районе, начинавшем застраиваться лишь в 1913 году, когда впервые попал туда Элмер, и пользующемся большой популярностью среди врачей средней руки, юристов, агентов по продаже недвижимости и оптовиков-торговцев скобяным товаром. Епископ жил в приземистом доме в стиле модерн, построенном из узорного кирпича и отделанном цветной декоративной керамикой, с крытым крыльцом, где были расставлены кресла-качалки и где имела обыкновение запросто сиживать летними вечерами такая высокочтимая особа, как сам доктор Тумис.
В гостиной находились встроенные в стену застекленные книжные полки, встроенные диванчики с плоскими коричневыми сиденьями; огромная люстра с абажуром из пупырчатого стекла, рубинового, изумрудного, водянисто-синего. Повсюду стояли кресла — клубные и моррисовские, деревянные стулья с прямыми спинками, украшенными выжженным узором, и множество столов, так что передвигаться по комнате приходилось с опаской. Однако достопримечательностями комнаты были камин, книги и чужеземные сувениры.
Камин был поистине оригинален. Сложен он был в основном из грубо обтесанных глыб зеленого камня, между ними были вделаны мелкие камешки, розовые, коричневые, землистые, привезенные епископом с разных концов света. «Вот этот камешек, — щебетал епископ, показывая гостю комнату, — привезен с берегов Иордана; тот отбит от Великой Китайской стены, третий украден из сада во Флоренции».
Но камешками не ограничивалась примечательность камина. Верхняя доска его была из настоящего ливанского кедра, окованного полосками меди с судна, которое в 1902 году потерпело крушение в Черном море, — епископ лично приобрел эту медь в России в 1904 году. Подставки для дров были сделаны из лемехов плуга, за которым сам епископ — в те времена еще крестьянский паренек-несмышленыш, не подозревающий о грядущей славе, — работал на пшеничных полях Иллинойса. Кочерга, как хвастался епископ, была не что иное, как настоящий китобойный гарпун, купленный по дешевке в Нантукете. Ее грубая ручка была украшена розовым бантом, — впрочем, это было дело рук не епископа, а его супруги. Сам он, по его словам, предпочел бы грубое дерево, простое, мужественное и сильное, но миссис Тумис казалось необходимым смягчить и оживить его суровый фон…
В закоптелую стенку камина была вделана мраморная отшлифованная доска с надписью, высеченной витиеватыми золочеными буквами:
Добродетель домашнего очага — мир.
Гордость домашнего очага — благоговение.
Книги тут были такие, которые, по выражению епископа, стоило «полистать». В первую очередь, разумеется, «Методистская доктрина» и «Сборник методистских гимнов» — обе в красивых бледно-голубых сафьяновых переплетах с кожаными застежками. Затем — внушительная коллекция библий, в том числе одна очень старинная, 1740 года, а другая — богато иллюстрированная — все гофмановские рисунки[135] и сто шестьдесят других библейских сюжетов! Здесь имелись также труды ученых богословов, которые приличествует иметь епископу: «Проповеди» Муди, «Жизнь Иисуса Христа» Фаррара, «Цветы и звери святой земли», «По его стопам» Чарльза Шелдона. Книги, нужные для повседневной работы, находились в кабинете. Однако епископ был человек светский, и подбор книг в библиотеке достаточно ярко отражал его вкусы. Тут были полные собрания сочинений Диккенса, Вальтера Скотта, Теннисона — в тисненом сафьяне с золотым обрезом; лучшие труды Маколея[136] и Рескина[137], а для легкого чтения — романы миссис Хамфри Уорд[138], Уинстона Черчилля[139] и других. Но больше всего увлекали его путешествия и книги по естествознанию, которые и были представлены по меньшей мере пятьюдесятью томами, под такого рода заглавиями: «Как изучать птиц», «С палаткой и фотокамерой по Мадагаскару», «Лето в Скалистых горах», «Моя миссия в глуши Африки», «Лондон с империала автобуса» и т. д.
Не пренебрегал епископ историей и экономикой: у него была одиннадцатитомная, роскошно изданная и иллюстрированная «Полная всеобщая история» преподобного доктора Хокета, купленная у букиниста, «Экономика» Хедли[140] и труд, озаглавленный «Братская любовь — разрешение проблемы капитализма и труда».
И все-таки не камин и не библиотека, а путевые сувениры придавали резиденции епископа особый шик, недосягаемый для прочих домов Девон-Вудса. Епископ и его супруга обожали путешествовать. В течение шести месяцев они обследовали миссии в Японии, Корее, Китае, Индии, на Яве, Борнео и Филиппинских островах, где епископ Тумис приобрел солидные сведения о всех восточных правительствах, религиях, психологии, торговле и отелях. Но, кроме того, шесть лет подряд они проводили летние месяцы в Европе, всякий раз выбирая самые изысканные и привилегированные туристические маршруты. Как-то раз они целых три недели осматривали только один Лондон, отклоняясь в сторону не далее Оксфорда, Кентербери, Стрэтфорда; в другой раз четыре дня бродили пешком по Тиролю, а переправляясь однажды на пароходе через Ла-Манш, повстречали человека, который, по словам стюарда, был настоящий лорд.
В гостиной веяло ароматом приключений. Не то, чтобы там было особенно много заморских вещиц, — епископ считал, что ни к чему навозить иноземную мебель и прочие вещи, когда на родине делают все самое лучшее, но что касается фотографий!.. Супруги Тумисы были завзятыми любителями фотографии и привезли с собою весь мир на своих снимках.
Здесь был и храм Неба в Пекине, а перед ним — сам епископ, и Великие Пирамиды с миссис Тумис подле одной из них, и Миланский собор, а у портала — они оба. Снимал на сей раз гид-итальянец, весьма услужливый джентльмен, уверявший епископа, что он сторонник сухого закона.
III
В эту комнату и вошел Элмер Гентри, весь — воплощенная любезность. Он склонился над рукою миссис Тумис так низко, будто хотел поцеловать ее, прошелестев:
— О, если бы вы только знали, какая это честь для меня!
И миссис Тумис, дородная особа в очках, застенчивая, но оживленная, зарделась и взглянула на епископа, словно говоря: «Ну что ж, милый, он и вправду славный парень!»
Он почтительно пожал руку епископу и прогудел:
— Как великодушно с вашей стороны оказать гостеприимство бездомному страннику!
— Вздор, брат, чепуха! Нам хочется, чтобы вы чувствовали себя как дома. Не хотите ли до ужина взглянуть на наши книги, фотографии и разные вещицы, которые мы с моей старушкой собрали во время путешествий по делам церкви? Вот это, например, может вас заинтересовать: это фотография парламента или Вестминстера, как его называют в Лондоне, в Англии, — вроде как наш Капитолий в Вашингтоне.
— Вот как? Ну, чудеса!
— А вот эта фотография тоже небезынтересна. Это сюжет, который очень редко удается фотографам — я даже послал этот снимок в «Национальный Географический Журнал» (и хотя из-за обилия материала они его не поместили, но один из редакторов написал мне — у меня где-то даже сохранилось письмо, — что это действительно очень интересный и необычный снимок). Он сделан прямо у Сакра-Кер, знаменитой парижской церкви, на вершине холма Моунт-мартер, и если вы вглядитесь внимательно, то по странному освещению догадаетесь, что снимок сделан как раз перед восходом солнца! А ведь как превосходно получилось! Та дама справа — миссис Тумис. Да, сэр, живой кусочек Парижа!
— Подумать только, как интересно! Париж! Скажите, пожалуйста!
— Да, но что за ужасные нравы в этом Париже, доктор Гентри! Я уж не говорю о пороках самих французов — это дело их совести, — хотя я, понятно, ратую за как можно более активное и широкое распространение наших американских протестантских миссий — там, да и во всех других европейских странах, задыхающихся в зловонной тьме католицизма! Но что особенно печалит меня — а я знаю, о чем говорю, ибо видел эту грустную картину собственными глазами, — и что, конечно, опечалило бы и вас, доктор Гентри, — это наша славная американская молодежь, которая, попадая туда, не извлекает пользы из этих поучений в камнях, из живой истории, запечатленной в памятниках архитектуры, а с головой уходит в жизнь, полную безрассудного и буйного веселья, а быть может, и прямой безнравственности! Да, это наводит на размышления, доктор Гентри!
— Да, разумеется! Кстати, епископ… не «доктор Гентри», а просто «преподобный» мистер Гентри — и все.
— Но, кажется, в ваших проспектах…
— О, это ошибка моего агента по рекламе. Ему уж от меня хорошо досталось за это!
— Так, так! Что ж, молодчина, что прямо сказали! Не так-то легко нам, слабым смертным, отказываться от почестей и званий, безразлично, по праву достались они нам или нет. Впрочем, я уверен, что для вас это лишь вопрос времени — вы-то, безусловно, удостоитесь высокой чести носить звание доктора богословия… не сочтите меня нескромным, что я в таких выражениях говорю о звании, которое ношу сам… О да, для человека, в котором, как в вас, сила сочетается с красноречием, личным обаянием и владением изысканными оборотами речи, это может быть только вопросом времени.
— Везли, милый, ужин подан.
— Да, хорошо, дорогая. Дамы, доктор Гентри… то есть мистер Гентри — дамы, как вы, быть может, уже успели заметить, исходят из той любопытной точки зрения, что хозяйство должно идти заведенным порядком, и эти милые дамы готовы, не задумываясь, прервать даже отвлеченный философский спор, чтобы пригласить нас к праздничной трапезе, когда, по их мнению, для этого настало время. Что до меня, то я спешу повиноваться и… Кстати, после ужина тут найдется еще парочка фотографий, на которые вам будет любопытно взглянуть. Кроме того, я очень рекомендую вам порыться в моих книгах. Я знаю, бедному епископу не подобает поддаваться страсти к обладанию благами земными, но, каюсь, в одном грешен — в чрезмерной любви к обладанию шедеврами литературы… Да, дорогая, идем. Тужур ла фам, мистер Гентри — всегда эти женщины! Кстати, вы не женаты?
— Пока нет, сэр.
— М-да, а вам следовало бы подумать об этом. Должен вам сказать, что холостой проповедник всегда подвергается многочисленным — и, разумеется, зачастую несправедливым — нападкам, которые серьезно тормозят его карьеру. Да, дорогая, мы идем.
На столе уже лежали горячие булочки, спрятанные в салфетках, свернутых в виде рогов изобилия, и ужин начался с фруктового коктейля из апельсинов, яблок и консервированных ананасов.
— Очевидно, — заметил Элмер с любезным поклоном в адрес миссис Тумис, — я попал в высшее общество — мы начинаем с коктейля! Должен сознаться, что просто не могу обойтись без коктейля перед едой!
Острота имела огромный успех. Епископ повторил ее дважды, задыхаясь от смеха.
IV
За ужином Элмер ухитрился довести до сведения хозяина и хозяйки дома, что он не только кончил духовную семинарию, не только превзошел премудрости психологии, восточного оккультизма и науки о том, как наживать миллионы, но и состоял в свое время главным помощником знаменитой мисс Шэрон Фолконер.
Неизвестно, решил ли епископ Тумис про себя: «Этот человек мне нужен — он предприимчив, он мне пригодится», — но только, во всяком случае, он слушал Элмера очень внимательно и сочувственно, а после ужина, потратив не более часа на осмотр библиотеки и сувениров, привезенных из дальних странствий, увел его в кабинет, подальше от миссис Тумис, которая каждые четверть часа перебивала их беседу своими воспоминаниями о ростбифе у Симпсона, квартирной плате в Блумсбери-сквер, обедах во французском вагоне-ресторане, быстрой езде французских такси и виде с Эйфелевой башни в час заката.
Кабинет был выдержан в гораздо более строгом стиле, чем гостиная. Там стоял делового вида письменный стол, фонограф для диктовки, ящик с картотекой возможных жертвователей в церковный фонд, стальной архивный шкафчик и личная пишущая машинка епископа.
Книги здесь были исключительно те, что необходимы для работы: «Указатель библейских изречений», «Словарь библии», атлас Палестины и собрание проповедей самого епископа в трех томах. Стоило епископу десять минут полистать эти книги, и любая речь на любую тему была готова. Епископ опустился в свое вращающееся кресло светлого дуба и, указывая на пишущую машинку, вздохнул:
— По этой ужасной комнате можно судить, как я погряз в практических делах. А мне так хотелось бы спокойно посидеть вот здесь, за моей любимой машинкой, отдаваясь подлинному творчеству, исполненному чистой красоты, создавая нечто такое, что жило бы вечно. Ведь все наши дела, даже самые важные, скоропреходящи. Да, разумеется, я печатаюсь: передовые в «Защитнике», избранные проповеди…
Он зорко взглянул на Элмера.
— Ну, как же, как же, епископ, читал, конечно!
— Весьма любезно с вашей стороны. Но знаете ли, о чем я мечтал все эти годы? О греховном светском литературном труде. Я всегда воображал, — быть может, напрасно, — что у меня есть талант… Мне хотелось сделать книгу, точнее, роман… Сюжет задуман мною довольно интересно. Стало быть, так: крестьянский мальчик, выросший в нужде, лишен возможности получить образование и читает сам, всеми силами стараясь приобрести побольше знаний. Там, на просторе зеленых полей, на божьих лугах, среди густых деревьев, при свете звезд по ночам, вдыхая чистый, ароматный воздух пастбищ, он вырастает сильным, неиспорченным, набожным юношей и, когда попадает в город — я хотел было посвятить его в духовный сан, но, чтобы не получилось слишком автобиографично, заставил его пойти по коммерческой линии, но в какой-нибудь из наиболее созидательных сфер большого бизнеса — скажем, в банковском деле… Итак, в городе он встречает дочь своего хозяина, прелестную молодую женщину, увы, склонную поддаваться многообразным соблазнам и развлечениям города. Я хочу показать, как его влияние заставляет ее свернуть с торной дороги, ведущей к гибели, и как оно сказывается не только на ней, но и на других, кто погряз в сутолоке деловой жизни. Да, очень бы хотелось написать, но… Сидишь вот так вдвоем и вдруг подумается, что не худо бы и покурить… Вы курите?
— Слава богу, нет, епископ. Могу по совести сказать, что уже много лет, как я забыл вкус никотина и алкоголя!
— Хвала господу!
— Когда я был моложе, я был юноша… как бы это сказать… здоровый, жизнерадостный и поддавался иной раз искушению, но влияние сестры Фолконер, — о, что за святая душа! Настоящая монахиня! — только протестантская, разумеется, — так возвысило меня, что теперь я свободен от этих грешных побуждений.
— Рад слышать это, брат, очень рад… Кстати, Гентри, прошлый раз вы говорили, что подумываете о том, чтобы перейти к методистам: насколько это серьезно?
— Вполне серьезно!
— Я бы советовал вам. Разумеется, великая методистская церковь, которой предначертано с каждым днем все в большей степени руководить и просвещать наш возлюбленный народ, могла бы обойтись и без вас и без меня. Я хочу сказать другое… Когда я встречаю прекрасного молодого человека вроде вас, я невольно думаю: какое высокое духовное удовлетворение нашел бы он, работая вместе с нами! Положим, ваше нынешнее занятие тоже может казаться увлекательным многим славным молодым людям, но это — работа в одиночку, в ней нет преемственности. Сотворенное вами добро умрет вместе с вами, ибо для того, чтобы продолжать его, нужна такая крепкая, жизненная организация, как церковь, а у вас ее нет. Вам надо войти в крупную организацию, среди которых одной из наилучших, при всем моем уважении к баптистам, я считаю методистскую церковь. Какая широта взглядов, какой демократизм и вместе с тем какая мощь! Вот истинно народная церковь!
— Да, мне думается, вы правы, епископ. После нашего первого разговора я много думал… Но, предположим, методистская церковь согласится меня принять. Что мне следует сделать? Это сложная процедура?
— Нет, это было бы очень просто. Поскольку вы уже облечены духовным саном, Окружная конференция, которая состоится через месяц в Спарте, могла бы по моему предложению рекомендовать Годовой конференции удовлетворить вашу просьбу. И я не сомневаюсь, что той весной, меньше чем через год, при наличии удостоверений из Тервиллингера и Мизпахской семинарии, мне удалось бы провести вас на Годовой конференции и утвердить в качестве методистского священника. До тех пор я могу устроить вас на испытательный срок. У меня как раз есть на примете приход в Банджо-Кроссинге, там нужен именно такой пастырь, как вы. В Банджо всего девятьсот человек населения, но вы ведь понимаете, что начинать все равно придется с малого. У братьев возникло бы справедливое недовольство, если бы я сразу дал вам первоклассный приход. Впрочем, я не сомневаюсь, что смогу способствовать вашему быстрому продвижению. Да, вы нужны нашей церкви. Велико поле деятельности, где может приложить руки посвященный… и готов держать пари на что угодно — я еще своими глазами увижу вас епископом!
V
Неужели опуститься до того, чтобы работать в какой-то дыре с населением в девятьсот человек, сокрушался Элмер, возвратившись к себе в отель. Жалованье, верно, не больше тысячи — тысячи ста! И это после огромной скинии Шэрон с толпами народа, после номеров «люкс», элегантных визиток, после того, как на своих лекциях в танцзалах он был для жен маклеров доктором Гентри!
Но нельзя было и продолжать жить, как сейчас. В Новой Мысли он никогда не займет командных высот. Он сам сознавал, что ему не хватает творческой фантазии. Ему никогда не додуматься до таких оригинальных изречений, какими сыпала хотя бы та же не лишенная чувства юмора миссис Риддл: «Не бойтесь перевернуть человеку всю душу, — у него и так там все вверх дном, так что вы лишь вернете его в нормальное положение!»
Зато для того, чтобы добиться успеха среди методистов или баптистов, никаких оригинальных суждений, к счастью, не требовалось, разве что в немногих фешенебельных церквах.
В настоящем пасторате он будет чувствовать себя прекрасно. Он ведь профессионал. Как актер любит грим, вызовы на сцену и груды декораций, так и Элмер питал нежные чувства к привычной обстановке своей профессии — молитвенникам, причастию, спевкам хора, пестованию дамских комитетов, а больше всего к торжественному появлению из таинственных закулисных глубин, столь неведомых и волнующих для прихожан, выходу к рампе, к ожидающей его пастве!..
И потом мать… Вот уже два года, как они не виделись, но в его душе теплилось желание утешить ее: он знал, что его арлекинада с Новой Мыслью не вызывает в ней ничего, кроме недоумения… Но девятьсот человек населения! Он крепился две недели; попросил у епископа Тумиса церковь побольше; показал для вящей убедительности все газетные вырезки, в которых среди восторженных похвал в адрес Шэрон содержались одобрительные отзывы и о его красноречии.
Но вот кончились лекции в Зените. Виды на будущее были весьма туманны.
Епископ Тумис сокрушался:
— Огорчаюсь, брат, что вы больше печетесь о величине вашего стада, чем о громадных, просто гррромадных возможностях творить добро, которые открываются перед вами!
Элмер изобразил невинное, открытое юношеское смущение:
— Да нет, епископ, вы меня просто не поняли, честное слово! Я только хотел бы использовать свой опыт там, где он принесет больше всего пользы, а вообще-то я готов во всем следовать вашим указаниям.
Два месяца спустя Элмер уже сидел в поезде на Банджо-Кроссинг в качестве пастора методистской церкви этой приветливой деревушки, раскинувшейся в тени сикомор.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
I
Июнь 1913 года. Четверг.
Поезд — два старых пассажирских вагона, один багажный — тащился мимо фруктовых садов, мимо кукурузных полей. На этой боковой ветке еще не научились деловитой торопливости, и сто двадцать миль от Зенита до Банджо-Кроссинга поезд проходил за пять часов.
Преподобный Элмер Гентри был настроен благодушно. Приняв решение жить отныне чисто, смиренно, творя добро ближним, он дарил своих попутчиков милостивым вниманием. Он готов был опекать весь мир независимо от того, понравится это миру или нет.
Впрочем, внешне он ничем не подчеркивал свое особое положение как человека духовного звания, профессионального добродея. На нем был строгий серый парусиновый костюм, скромный, но дорогой коричневый галстук, и он твердил себе, что не как священник, а просто как гражданин обязан занимать и развлекать своих попутчиков.
Пожилой кондуктор знал большинство своих пассажиров по имени; и те, в свою очередь, тоже называли его «дядюшка Бен», посторонних в своем поезде кондуктор недолюбливал. Когда Элмер воскликнул, обращаясь к нему: «Славный денек, брат!» — дядюшка Бен глянул на него с таким видом, будто хотел сказать: «Если и так, то не по моей вине». Но Элмер так упорно одолевал его проявлениями братской любви, что старик в конце концов поручил отбирать билеты тормозному кондуктору.
Коммивояжеру, который попросил у него спичку, Элмер громовым голосом ответствовал: «Я не курю, брат, и сомневаюсь, чтобы Джордж Вашингтон тоже когда-нибудь курил!» Однако его благодеяния были приняты так холодно, что он чуть было не махнул рукой, но потом он помог одной старушке вынести из вагона чемодан, и она поблагодарила с тем восторгом, какого он заслуживал, и после этого он с удвоенным рвением стал гладить детишек по головке — к их неописуемому ужасу — и разъяснять значение севооборота старичку фермеру, который вот уже сорок семь лет как обрабатывал землю.
Но так или иначе, а он все же удовлетворил на этот день свое стремление к человеколюбию и, повернув к себе переднюю скамью, протянул ноги на сиденье, притворился спящим, чтобы никто не примостился рядом, и отдался радостному сознанию, что начал новую жизнь — жизнь святого и почитаемого человека.
С удовольствием поглядывал он на места, мимо которых проезжал. Вид сельский и простой — пусть так: но простые, честные сердца его прихожан будут тянуться к нему с такой любовью, какой не приходилось ждать от бухгалтеров, слушавших его лекции о том, как стать богатым. Он рисовал себе сердечную встречу, которую ему устроят в Банджо-Кроссинге. Он знал, что окружной инспектор (окружной инспектор в методистской церкви — нечто вроде заместителя епископа, прежде — председатель совета старейшин) сообщил о времени его приезда в Банджо-Кроссинг мистеру Натаниэлю Бенему, главному попечителю местной церкви, а также самому крупному торговцу в долине Банджо.
Да, он пожмет на станции руку каждому члену своей паствы, даже самому смиренному; он заглянет в чистые, Доверчивые глаза и возрадуется, что ему суждено быть пастырем этих людей, вести их вперед и ввысь по крайней мере в течение года.
Из окна вагона Банджо-Кроссинг казался очень маленьким. Видны были задние крылечки домов с лоханями, с поломанными стульями, деревянные тротуары…
Когда Элмер торжественно сошел с поезда у красного бревенчатого домика и огляделся, разыскивая глазами торжественную и полную благоговейной радости толпу встречающих, оказалось, что никаких встречающих вовсе нет, а радость можно было прочесть лишь на пухлой физиономии начальника станции, который с любопытством наблюдал, как распускает хвост щеголь из города.
— Хе-хе, а автобусов-то здесь не водится, — ощерился он. — Придется самому тащить свои вещички в гостиницу.
— А где же мистер Бенем? — спросил Элмер. — Мистер Натаниэль Бенем?
— Старик Нат? Что-то не видал его сегодня! Надо полагать, в магазине сидит, как обычно, старается нагреть какого-нибудь фермера хоть на два цента на партии яиц! А вы кто, коммивояжер?
— Я новый методистский пастор.
— Да ну? Вот так так! Что ж, очень приятно! Никак бы не подумал, что вы пастор. Очень уж вы упитанный! Жить будете у миссис Кларк, вдовы Пита Кларка. Чемоданчики оставьте здесь, мой малый снесет их. Ну, желаю удачи, брат. Надеюсь, у вас обойдется без неприятностей, не то, что у нашего прежнего. Ну, да он сам виноват. Придира был, не умел ладить с простым народом.
— Ну, я-то сам из простых. Рад, не знаю как, что после большого города попал сюда! — любезно отозвался Элмер. И мрачно подумал, шагая прочь: «Да, есть чему радоваться!»
Окончательно пав духом, он рисовал себе заведение брата Бенема в виде жалкой, грязной лавчонки и незаметно подошел к двухэтажному кирпичному зданию с большими окнами. Рядом в проулке стояло с полдюжины фургонов, на которых мистер Бенем доставлял свой товар фермерам за двадцать миль вверх и вниз по долине Банджо. Со все возрастающим уважением Элмер прошел по широким торговым залам, мимо нарядных прилавков, ничем не уступающих городским универсальным магазинам. Мистера Бенема он застал в конторе за диктовкой писем.
Если Натаниэль Бенем и был коммерческим гением скромного масштаба, по наружности его судить об этом было трудно. Борода его была похожа на мочало. Голос звучал гнусаво и нудно.
— Что скажете? — проскрипел он.
— Я преподобный Гентри, новый пастор.
Бенем поднялся, хоть и без особой поспешности, и суховато пожал Элмеру руку.
— А, да! Председатель совета сообщил, что вы сегодня приедете. Рад вас видеть здесь, брат. Надеюсь, бог благословит ваши труды. Жить и столоваться будете у вдовы Кларк. Как пройти, — спросите, каждый скажет.
Очевидно, добавить ему больше было нечего.
— Я хотел бы осмотреть церковь, — с обидой в голосе произнес Элмер. — Ключ у вас?
— Ключ? Постойте… у брата Джонса есть, наверное. По этой же улице малярная и плотничья мастерская… Да нет, пожалуй, и у него не найдете. У нас тут есть один паренек, мальчишка, точнее сказать, мы его приставили сторожем при церкви — так у него-то ключ есть, но ведь теперь каникулы, так что он не иначе, как на рыбалке. Вот что: вы лучше наведайтесь к брату Фритчеру, к сапожнику. Может, у него найдется… А вы женаты?
— Нет. Я… м-м… Я был евангелистом, разъезжал, работал… Мне не дано еще было вкусить радостей и утех семейной жизни.
— Откуда родом?
— Из Канзаса. Родители верующие?
— Конечно. Моя матушка была и есть истинная праведница.
— Пьете, курите?
— Безусловно, нет!
— А по части того… просвещенного критиканства?
— Да нет, что вы.
— Охоту уважаете?
— Я… гм… по правде сказать, да!
Вот это славно! Ну, рад, что вы будете с нами, брат. Жаль, я сейчас занят. Да, вот что: мы с моей старушкой ждем вас сегодня к ужину, в половине седьмого. Всего доброго!
Улыбка и рукопожатие Бенема были достаточно любезны, но вместе с тем недвусмысленно давали понять, что аудиенция окончена, и Элмер вышел в ярости, близкой к отчаянию… До чего он докатился! Снисхождение сельского лавочника после триумфов с Шэрон!
Шагая к дому вдовы Кларк — дорогу ему указал какой-то зевака, — он уже ненавидел эту жалкую деревушку, ненавидел курятники во дворах, всклокоченные газончики, старые скрипучие телеги, проезжающие мимо, женщин с мокрыми и красными руками, женщин в засаленных фартуках — женщин, при виде которых даже воспоминание о его собственных любовных радостях было омерзительным, ненавидел деревенских увальней с тупым взглядом, отвислой челюстью и внезапными взрывами дурацкого хохота.
Так низко пасть! И это в тридцать два года! Неудачник!
Пока он стоял и ждал на крылечке белого, квадратного, безликого дома вдовы Кларк, ему хотелось броситься назад, на станцию, вскочить в первый же поезд и уехать куда угодно! В эту минуту он уже решил вернуться к сельскохозяйственному инвентарю, к унылой, одинокой, но свободной жизни коммивояжера. Но тут дверь отворилась, и он увидал на пороге резвую девочку-подростка лет четырнадцати или пятнадцати, всю в кудряшках.
— А-а, это преподобный Гентри! — нараспев проговорила она. — Ой, а я-то заставила вас ждать! Простите, пожалуйста! Мама ужас как жалела, что не может встретить вас сама, да, ей пришлось уйти к кузине Этте. Кузина Этта разбила себе ногу! Входите же, пожалуйста! Вот не думала, что у нас теперь будет молодой пастор!
Она была прелестна в своем невинном оживлении.
В квадратном холле с его хромолитографиями, изображающими эпизоды гражданской войны, было какое-то своеобразное модно-провинциальное благородство.
Девочка — это была Джейн Кларк — проводила Элмера в его комнату. Она вприпрыжку взбежала по лестнице, над грубыми башмаками мелькали ее лодыжки, и Элмера вдруг молниеносно пронзило знакомое ощущение, более сложное, чем стратегия целой войны, и означавшее, что этой девочки он будет домогаться. Но так же неожиданно, почти с тоской ощутил он снова усталую тягу к покою и чистоте и одернул себя:
«Нет! Не смей! Хватит! Оставь ребенка в покое. Веди себя пристойно. Боже, помоги мне стать порядочным и приличным человеком!»
Борьба победоносно завершилась в те полминуты, что он поднимался по лестнице, и он смог, как ни в чем не бывало, пожать ей руку и небрежно сказать:
— Очень рад, что вы так встретили меня, сестра. Надеюсь принести благословение этому дому!
Сейчас он уже чувствовал себя как дома: отрадно, покойно. Комната оказалась уютной: ярко-красный ковер, печь, сверкающая полированным никелем, и в эркере — глубокое кресло. На кровати с пологом — стеганое лоскутное одеяло, на подушках — накидки с вышитыми ягнятами, кроликами и изречением: «Бог да благословит наш сон!».
— Ничего, подходяще. По-домашнему. Не то что эти проклятые отели, — размышлял он,
Он был снова готов завоевывать Банджо-Кроссинг, завоевывать методистскую церковь. И, когда прибыли его чемоданы и сумки, он даже не стал распаковывать их, решив сначала отправиться осматривать свои владения.
II
Банджо-Кроссинг был очень невелик, однако найти ключ от Первой методистской церкви оказалось проблемой, достойной сыщиков Скотленд-Ярда.
Сапожник, брат Фритчер, передал ключ сестре Андерсон, из Общества содействия женщинам, та отдала его уборщице миссис Пришетски, которая одолжила его Пусси Бирнс, председателю Эпвортской Лиги[141], а та, в свою очередь, дала его сестре Фритчер, супруге брата Фритчера, так что Элмер в конце концов получил его в доме по соседству с той самой сапожной мастерской, откуда и начались его докучные поиски.
Все они — брат Фритчер и сестра Фритчер, сестра Пришетски и сестра Бирнс, сестра Андерсон и большинство прохожих, у которых он спрашивал по дороге, как и куда пройти, — задавали ему одни и те же вопросы: «Вы новый методистский пастор?», «Женаты, нет?», «Только приехали?», «Из города, говорят? Рады, наверное, что выбрались оттуда?»
От церкви он не ожидал ничего хорошего. Еще не видя ее — она была скрыта от него зданием школы, — он был уверен, что это какая-нибудь уродливая коричневая громадина с бревенчатыми подпорками.
Он был приятно изумлен — он был горд, как достойный гражданин, избранный мэром, когда подошел поближе и увидел симпатичную маленькую церковку, крытую серой дранкой, увенчанную скромным шпилем и обрамленную подстриженными газонами и цветочными грядками. Радостно возбужденный, вступил он внутрь, и навстречу ему повеяло затхлым могильным запахом, свойственным всем пустым церквам.
Внутри было тоже очень мило. На первый взгляд здесь могли поместиться человек триста. Светло-желтые скамьи казались чересчур яркими, но стены были окрашены в мягкий кремовый цвет, а у алтаря под изящной белой аркой стояла красивая белая кафедра и скромно задрапированный клирос.
Элмер продолжал исследовать свои владения. Просторное помещение для воскресной школы, подвальный этаж, заставленный столами, кухонька. Все уютное, обжитое, во всем обещание дальнейшего роста.
Вернувшись в главный церковный зал, он заметил красивый витраж. Сквозь чистые стекла окон ему приветливо кивали клены…
Он обошел здание кругом, и внезапно его охватило мистически-гордое, пьянящее чувство собственника. Это все — его, это принадлежит ему и уже поэтому прекрасно! Как ласкает глаз мягкий серый тон кровли! Какой изящный шпиль! Что за великолепный клен! А какая прелесть эта цементированная дорожка! И превосходная новая урна! Как красива доска для объявлений — и на ней вскоре засияет его собственное имя! Его владение, которым он волен распорядиться как ему угодно! И — уж будьте уверены — он совершит здесь прекрасные дела, большие дела, вдохновенные! Теперь, когда он вновь обрел цель жизни, он уже ни за что не даст увлечь себя низменным страстям — гордыне, любовным приключениям… Его собственность!
Пророчица Шэрон Фолконер
Элмер Гентри читает лекции по «Христианской науке»
Он снова вошел в церковь, величаво опустился по очереди в каждое из трех кресел перед алтарем, которые, как он думал в детстве, были предназначены для святой троицы. Затем он встал и, опершись руками о кафедру, прогудел, обращаясь к почтительно внимающей толпе молящихся (Ого! А сколько стоят в проходах!):
— Братья мои!
Он переживал такой подъем, какого не испытывал со времен Шэрон.
Он начнет сызнова — он уже начал, клялся он себе. Довольно лжи, обмана, хвастовства! Этот городок, быть может, и скучноват, но он, Элмер, оживит его, возродит к новой жизни, вдохнет в него свою душу! Да, так будет! Жизнь распахнулась перед ним — чистая, радостная, зовущая на высокий подвиг, достойный рыцаря христианства. О да, когда-нибудь он станет епископом, но даже и это пустяк в сравнении с той победой, что он одержал над низменными сторонами собственной натуры.
Он опустился на колени и, смиренно, умоляюще раскинув руки, стал молиться:
— Господи боже, ты, что снизошел ко мне, недостойному, распахнув предо мною врата царства твоего, ты, что открыл мне в эту минуту вечную радость праведной жизни, помоги мне остаться цельным и чистым и да пребудет во всем воля твоя. Аминь.
Он стоял у кафедры со слезами на глазах, так сильно сжимая мясистыми пальцами кожаный переплет огромной библии, что тот треснул.
Дверь в дальнем конце зала отворилась, и на пороге в лучах июньского солнца возникло видение…
Впоследствии он припомнил двустишие, которое сохранилось в его памяти со времен колледжа — такой предстала перед ним молодая женщина, смотревшая на него от дверей.
Увенчана спокойною листвою, Бледна, она в дверях твоих стоит.Она была моложе его, но в ней чувствовалась ясная зрелость, горделивая грация. Стройная, но с высокой грудью, она обещала в будущем пополнеть. Лицо очаровательное, с широким лбом, доверчивыми карими глазами, гладко причесанные каштановые волосы. Свою соломенную шляпку, украшенную розами, она сняла с головы и раскачивала в большой и изящной руке.
…Девственно-прекрасная, статная, добрая, бесконечно великодушная.
Она невозмутимо подошла к кафедре и, протянув руку, воскликнула:
— Вы преподобный Гентри, да? Я так горда, что первая приветствую вас тут, в церкви. Я — Клео Бенем, регент хора. Папу вы, наверное, уже видели? Он здесь попечитель. И владелец магазина.
— Да, вы первая встретили меня добрым словом, сестра Бенем. Страшно рад познакомиться. А ваш отец любезно пригласил меня сегодня ужинать.
Они церемонно пожали друг другу руки и, улыбаясь, сели на первой скамье. Он сообщил ей, что у них, несомненно, «произойдет великий религиозный подъем», а она рассказала о том, какие милые люди здесь в приходе, в городке, во всей округе. А ее порывисто вздымающаяся грудь сказала ему другое: что она, дочь местного магната, влюбилась в него с первого взгляда.
III
Клео Бенем провела три года в женском колледже города Спарты, занимаясь игрой на фортепьяно и органе, французским языком, английской литературой (тщательно процензурированной) и изучением библии. Вернувшись в Банджо-Кроссинг, она с жаром отдалась церковной работе. Она играла на органе, проводила спевки хора; преподавала самым младшим в воскресной школе, убирала церковь к пасхе, к похоронам, к дню всех святых.
Ей было двадцать семь лет — на пять лет меньше, чем Элмеру. Да, она не отличалась особой бойкостью в тех беседах, что ведет молодежь летними вечерами на крылечке; в тех редких случаях, когда она позволяла себе согрешить против церковного учения и потанцевать, она танцевала тяжеловато; да — в ней была та целомудренная скованность, которая отпугивала грубоватых юнцов Банджо-Кроссинга, — но при всем том она была красива, добра, а у ее отца, по слухам, имелось семьдесят пять тысяч долларов, и ни цента меньше. Поэтому почти все женихи, как в Банджо-Кроссинге, так и в его окрестностях, пытались сделать ей предложение.
Мягко и сочувственно, она отказывала всем — одному за другим. Брак, по ее понятиям, был таинством, она должна стать подругой человека, который «творит добро в этом мире». «Добро» же, как она считала, творят врачи и священники.
— С твоим духовным образованием ты будешь идеальной женой для священника, — твердили ей подруги. — И музыка! Просто прелесть! Ты бы ему так могла помочь!
Но ни один свободный пастор или врач не попался до сих пор, и Клео, слегка растерянная, продолжала жить в одиночестве, жадно лаская детей своих подруг и с каждым годом все более страстно отдаваясь духовной музыке и горячим одиноким молитвам.
Сейчас она с наивной откровенностью говорила Элмеру:
— Мы так боялись, что епископ нам пришлет старенького и немощного пастора! Народ здесь славный, но немножко вялый, его надо расшевелить. Я ужасно рада, что нам прислали человека молодого, обаятельного… Ох, что это я, как можно так говорить… Я, конечно, думала только о церкви, вы понимаете?
А глаза ее говорили, что она думала вовсе не только о церкви.
Взглянув на ручные часики (первые в Банджо-Кроссинге), она воскликнула:
— Боже, ведь уже шесть часов! Хотите, пойдем вместе прямо к нам, не заходя к миссис Кларк? Умыться вы могли бы у папы…
Что за вопрос! — возрадовался Элмер и торопливо поправился: — Как сказал бы разбитной парнишка! Да, конечно, мне будет очень приятно иметь удовольствие проводить вас домой.
Под вязами, мимо розовых кустов, в пыльной дымке, пронизанной закатом, шел он рядом со своею статной аббатисой.
Он понимал, что такая жена поможет ему добиться епископского сана. Он убеждал себя, что, несмотря на все ее добродетели, с нею при ближайшем знакомстве можно будет не без приятности и целоваться. Он отметил, что они «славная парочка». Он сказал себе, что она первая в его жизни женщина, которая достойна его… Потом он вспомнил Шэрон… Но на этой мирной деревенской улице было так покойно, голосок Клео журчал так нежно, что боль длилась лишь одно мгновение.
IV
Вдали от священной сумятицы своего магазина мистер Натаниэль Бенем забывал о скидках и векселях и становился радушным хозяином. Усердно повторяя: «Очень, очень приятно, брат!» — он тряс Элмеру руку многократно и с чувством. Миссис Бенем — крупная, довольно красивая женщина в переднике поверх узорчатого фулярового платья: она помогала на кухне, — была не менее радушна.
— Уверена, что вы проголодались как волк, брат! — воскликнула она.
Он и в самом деле был голоден; по дороге проглотил в каком-то станционном буфете только бутерброд с ветчиной да стакан кофе — и все.
Дом Бенемов был самый видный во всем городке: дощатый, желтый с белым, с просторным крытым крыльцом и маленькой башенкой с витражом на лестничной клетке и даже с настоящим камином, которым, впрочем, никогда не пользовались. Перед домом, к великому восторгу Элмера, стоял один из трех автомобилей, которыми в 1913 году мог похвастаться Банджо-Кроссинг, — ярко-красный, с медными деталями бьюик.
По количеству жареных кур и богословских вопросов ужин у Бенемов напоминал первый ужин Элмера у старосты Бейнса в Шенейме. Но только здесь были большие деньги, к которым Элмер питал трогательное почтение — и здесь была Клео.
Лулу Бейнс была лакомым кусочком; Клео Бенем — королевой. Обладать ею, алчно думал Элмер, — это одно стоит целого царства, ради этого стоит вести самую жестокую борьбу!.. И, однако, его почему-то не тянуло заманить ее в уголок и целовать, как он целовал Лулу; при взгляде на гордый изгиб ее плеч у него не сводило пальцы от желания их приласкать.
После ужина, когда все уютно расположились в сумерках на крыльце, мистер Бенем спросил:
— А где вы служили прежде, брат Гентри?
Элмер скромно намекнул, какое ответственное положение занимал он при сестре Фолконер; упомянул о своих ученых изысканиях в Мизпахской семинарии, достаточно ярко описал свои успехи в Шенейме и дал понять, что в свое время фактически являлся помощником коммерческого директора компании Пикот.
Мистер Бенем хмыкал в изумленном восхищении. Миссис Бенем прожурчала:
— И повезло же нам: наконец-то получили настоящего, первоклассного проповедника!
А Клео — Клео только склонилась к Элмеру, сидя в своем плетеном кресле; близость ее была полна очарования.
Шагая к себе домой сквозь густую мглу июньской ночи, Элмер был счастлив. Какой-то прохожий, поравнявшись с ним, пробормотал: «Добрый вечер, преподобный отец!», — и он почувствовал, что здесь он свой, и всю дорогу мысленно представлял себе Клео — гордую, как Афина, и женственную, как златокудрая Афродита.
Он нашел свое дело, свою подругу, свое будущее.
Добродетель, отметил он, несомненно, окупается.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
I
У него было два дня на то, чтобы подготовиться к первой проповеди, разобрать сумки и чемоданы и разложить книги, приобретенные в Зените.
Пожитки его являли собою довольно-таки пеструю смесь: у него была прекрасная новая визитка, три превосходных пиджачных костюма, лакированные ботинки, отличный котелок, шикарный цилиндр — и всего две смены белья, да и то рваного.
Носки были черные, шелковые, но все в дырах; для нагрудного кармашка имелись шелковые носовые платки, а пользовался он простыми, бумажными, расползшимися по краям. Были у него духи, помада для волос, пудра; массивные золотые запонки для манжет; но халат заменяло пальто, а ночные туфли превратились в грязную бесформенную массу; на цепочке из золота с платиной он носил простой будильник ценой в один доллар.
Он составил себе солидный запас богословской литературы. Купил у букиниста за 13 долларов 75 центов все пятьдесят томов толкования библии — неисчерпаемый источник готовых проповедей. Приобрел проповеди Сперджена, Джефферсона, Брукса, Дж. Уильбура Чапмэна. Он был готов обращаться за руководством к этим корифеям, не навязывая миру собственные идеи. Он достал очень нужную книгу епископа Эбермена «И тени греха», наставляющую молодых проповедников, как спасаться от соблазнов. Элмер предвидел, что она будет особенно полезна в его новой жизни.
Был у него и энциклопедический словарь — он любил рассматривать цветные иллюстрации с изображениями драгоценных камней, флагов, растений и водоплавающих птиц. Кроме того, в его библиотеке имелись: библейский словарь, указатель изречений, история методистской церкви, история протестантских миссий, комментарии к отдельным частям библии, «Основы богословия» и труд доктора Аргайла «Пастор и его стадо», в котором говорилось о том, как повысить сборы с прихожан, как сколотить хороший церковный хор, какие делать физические упражнения, как улещивать церковных старост и мастерить из папье-маше макеты Соломонова храма для вящего наставления в благочестии малышей из воскресной школы.
Короче говоря, библиотека была что надо — «божья артиллерия, черным по белому», как остроумно назвал ее епископ Тумис; во всяком случае, в ней можно было найти любую справку, какая потребуется для практической деятельности Профессионального Добродея. Он сможет стряпать проповеди, богатые сведениями по географии Палестины и вместе с тем полезные для тех его духовных чад, которые возымели бы тайное желание читать мирские журналы в воскресный день. С таким багажом он сможет увеличить число прихожан, давать советы заблудшим юнцам, собирать средства в миссионерский фонд, дабы язычники Калькутты и Пекина получили возможность стать похожими на преподобного Элмера Гентри.
II
Если не считать поездки с Клео по окрестностям, почти все время, оставшееся до воскресенья, Элмер посвятил тому, чтобы подштопать и подновить проповедь, с которой часто и успешно выступал, работая с Шэрон. Темой проповеди служило библейское изречение из послания к римлянам, глава первая, стих шестнадцатый: «Ибо я не стыжусь благовествования христова, потому что оно есть сила божия ко спасению всякому верующему».
Когда в воскресенье утром он подошел к церкви, высокий и видный, внушительный и торжественный в своей щегольской визитке с дружелюбной улыбкой на лице и библией под мышкой, он ощутил радостное волнение, увидев, какая толпа народу вливается в церковь. Улица была запружена деревенскими повозками; здесь же стояли даже несколько фордов. Он направился к заднему входу, мимо прихожан, столпившихся на паперти, и вслед ему раздавались дружеские возгласы: «Доброе утро, брат!», «Чудесный денек, ваше преподобие!»
Клео поджидала его вместе с хористами: учительницей мисс Клуф, миссис Дибел, супругой торговца сельскохозяйственным инструментом, Эдом Перкинсом, разносчиком товара из магазина мистера Бенема и маслоделом из молочной Реем Фосситом. Клео радостно протянула ему руку.
— Сколько народу сегодня! Я так рада!
Они вместе заглянули в щелку двери, ведущей в главный зал, и Элмер едва не обвил рукой ее крепкую талию. Это казалось так естественно, и приятно, и уместно, и так мило…
Когда он вышел к алтарю, церковь была уже переполнена, и человек десять стояли в проходе. Раздался шепоток восторга. (Позже он узнал, что прежний пастор шамкал из-за своей вставной челюсти и был не в меру слезлив.)
Элмер возглавил хор.
— А ну, начинай! — весело воскликнул он. — Встретьте-ка хорошенько нового пастора! Лучший способ — не жалей легких, пой что есть силы! Шуметь-то каждый хоть немножко умеет! Ну и шумите вовсю!
Он сам подал пример, с наслаждением выводя своим сильным, глубоким голосом издавна любимые гимны: «Люблю о том поведать» и «Обращаю с верой к тебе я свой взор».
Затем он прочел короткую молитву. Ему надоели молитвы, в которых священник бессвязно разъясняет богу, что бог и в самом деле бог. Сегодня, сказал он, его первая встреча с новой паствой. Пусть же господь поможет ему доказать им свою любовь и желание им служить.
Перед проповедью он обвел взглядом собравшихся, одного за другим. В эту минуту он любил их всех. Они были его солдаты, он их полководец; они матросы, он — капитан; они его больные, он — их верный целитель. Он начал медленно; звучный голос его постепенно окреп, загремел уверенно, торжествующе.
Голос, самообладание, умение держаться, выучка — все было при нем. Никогда еще он не был так увлечен своей ролью, никогда так блистательно не исполнял ее; никогда так точно и верно не говорил в нем актерский инстинкт.
Для стариков у него были готовы солидные библейские истины. Как утешительно и убежденно вещал он о том, что самое главное в мире — искупление. Благодаря ему увечные и неимущие сравняются с королями и миллионерами; тот, кто преуспел в жизни, обязан каждым своим поступком доказывать, что памятует об искуплении.
Для молодежи у него нашлась масса забавных историй, и он не боялся дать посмеяться молодым прихожанам.
Рассказав мрачную историю о мальчике, который утонул, занимаясь рыбной ловлей в воскресенье, он тут же привел и веселый случай с пареньком, который отказался ходить в школу, так как в двадцать третьем псалме сказано, что бог велит лежать на зеленых лугах, а он, безусловно, предпочитает это занятие школе!
А для всех вместе, в особенности же для Клео, которая сидела за органом, крепко сжав на коленях руки и преданно глядя на него, он воспарил на крыльях поэзии.
— Проповедовать благую весть евангелия! О, это вовсе не пустое, скучное, ханжеское занятие, как утверждают дурные люди! Это дело, которое по плечу сильным мужчинам, решительным женщинам. Ради этого миссионеры-методисты идут в джунгли, где их ждут свирепые львы и предательская лихорадка, ради этого они терпят смертельный холод дальнего севера, томящую жажду пустыни, опасности поля брани. Нам ли уступить им в геройстве? Вот здесь, в Банджо-Кроссинге, есть ли дело столь безотлагательное, нужда столь острая, как необходимость возвестить ослепленным, гибнущим грешным душам, что пришло время покаяться? Покайтесь же, покайтесь — покайтесь во имя господа!
Его великолепный голос заполнил собою всю церковь, и глаза Клео засверкали вдохновенными слезами.
Бесспорно, лучшей проповеди в Банджо-Кроссинге еще не слыхали. Именно это и говорили ему в один голос прихожане, когда он весело обменивался с ними прощальными рукопожатиями у порога.
— Ну, порадовали вы нас сегодня проповедью, ваше преподобие!
И Клео подошла к нему с протянутыми руками, и он едва удержался, чтобы не поцеловать ее.
III
Занятия в воскресной школе начинались после утренней службы. Элмер решил, что каждую неделю присутствовать на занятиях он не станет. «Ни за что на свете! Лучше вздремнуть до обеда!» Но в это утро он здесь — сияющий и велеречивый, он обратился к детям с кратким, но ярким словом, увещевая их всегда говорить правду, слушаться родителей и усердно внимать наставлениям учителей — белошвейки мисс Митти Лэм и владельца картофелехранилища Оскара Шольца.
В последнее десятилетие ученики воскресных школ в более крупных приходах стали подвергаться такой же тщательной сортировке, как и в общеобразовательных школах. Начали открываться курсы подготовки учителей. Все эти новые веяния еще не проникли в Банджо-Кроссинг, но все-таки и здесь детей до десяти лет отделили от старших; младшим отделением и ведала Клео Бенем.
Элмер наблюдал, как она переходит из класса в класс, как непринужденно и ласково разговаривают с нею дети.
«Из нее выйдет чудесная жена и мать… замечательная жена для пастора… идеальная жена для епископа», — заметил он про себя.
IV
На вечернюю воскресную службу в методистской церкви Банджо-Кроссинга обычно собиралось не более сорока человек; в этот вечер набралось около сотни. И в этот вечер Элмер еще не совсем уверенно, нащупывая почву, порвал со стародавней церковной традицией, положив начало своим, знаменитым впоследствии «Веселым Воскресным Вечерам».
Выбрав несколько наиболее бодрых гимнов — «Вперед же, воинство христово», «О животворные слова», «Твори добро и согревай», величественный «Когда нас трубы призовут на суд», — он предложил пропеть лишь по одной строфе из каждого вместо того, чтобы тянуть все до конца, а затем ошеломил свою аудиторию, громко заявив:
— Ну, а теперь вот что. Пожалуйста, не удивляйтесь, друзья, и не думайте говорить, что это, мол, не приличествует церкви, потому что я все равно попробую взбодрить ваш дух, расшевелить вас так, чтобы самому сатане стало тошно! Вспомните: ведь это господь создал и ласковое солнце и зеленые холмы — значит, наверняка он же стоит за спиною тех, кто сочиняет веселые песни! Вот я и хочу, чтобы вы все, как один, дружно и разом грянули «Дикси»[142]! А после для старичков, вроде меня, споем строфу из великолепного старого гимна, что вдохновляет праведных, «Ты — наш оплот».
Кое-кто действительно был неприятно поражен, но молодежь — девушки и юноши, сдержанно переглядывавшиеся на задних скамейках, — пришла в восторг. Он несколько раз заставил их пропеть хором «Дикси», и наконец развеселились все, кроме разве что двух или трех святош-ревматиков.
Темой проповеди он выбрал текст из послания к га-латам: «Плод же духа: любовь, радость, мир».
— Не вздумайте никогда слушать нытиков, — наставлял он, — нерешительных людей, которых пугает суровость доброго старого методистского учения, которые утверждают, будто детали не имеют значения, будто догма и установленные правила ничего не значат! Так нет же, они очень важны! И отпущение грехов и крещение! И это что-нибудь да значит, если, в то время как люди суетные и порочные находят удовольствие в безумии алкоголя и зловонии табака, мы, методисты, остаемся чистыми, незапятнанными, непорочными.
Но сегодня, в день первой встречи с вами, братья и сестры, я не хочу входить в эти подробности. Я остановлюсь на самом основном — все прочее служит лишь дополнением к нему. Что же это основное — как по-вашему? Что это, братья? Что, как не Иисус Христос и его любовь ко всем и каждому из нас?
Любовь! Любовь! Любовь! Сколь прекрасно само это слово! Любовь не плотская, но божественная, ощущение небесной благодати. Что есть любовь? Слушайте же! Любовь — это радуга, сверкающая пред нами великолепием красок, пронизывающая и рассеивающая темные тучи жизни. Это утренняя и вечерняя звезда, что лучезарно сияет на сумеречном горизонте, призывая все живое радоваться дивному творению божьему — небесному своду! У колыбели младенца, что спит так мирно в то время, как над ним с невыразимым обожанием склоняется мать, реет чудо любви. В последние скорбные минуты, утешая сердца, навеки отмеченные ее печатью — даже над безмолвной могилой, — тоже сияет любовь!
Что есть великое искусство — я говорю не о посредственных картинах, но о творениях прославленных старых мастеров, что служат нам великим нравственным уроком, — что же есть матерь искусства, источник вдохновения поэта, патриота, философа, выдающегося деятеля, политического или финансового? В чем черпают они творческие силы, как не в любви?
О, не случалось ли вам слышать тихую мелодию, что плывет на заре над полями, словно возникая где-то в неведомых таинственных далях? Не кажется ли вам, что вы слышите далекий шелест крыл херувимов, когда дорогая сестра наша играет заключительный гимн? А что есть музыка, дивная, прекрасная музыка, нежная мелодия? Ах, музыка — это голос любви, волшебницы, превращающей нас, простых смертных, в венценосных царей! Любовь — аромат дивного цветка, любовь — это мощь атлета, дающая ему силы претерпеть пыль и зной, устоять в бою ради доблестной победы! О любовь, любовь, любовь! Если бы не она, мы были бы хуже зверей! С нею земля — рай и мы все — боги!
Да, такова любовь, созданная Иисусом Христом, любовь, которую несет от поколения к поколению его церковь, а в особенности, как думается мне, великое, мощное, демократическое, либеральное братство методистской церкви! Да, вот что значит она для нас!
Мне вспоминается один случай, относящийся к дням моей ранней молодости, когда я еще учился в университете. У меня был товарищ по курсу — не стану называть вам его имени, скажу лишь, что мы его звали Джимом, — юноша приятной наружности, юноша, обладающий всеми данными для того, чтобы стать верным служителем христовым, но — увы! — по-мальчишески гордый своим умом, настолько одержимый духом себялюбия и бахвальства, что никак не хотел смириться пред источником всякого разума и признать Иисуса как своего спасителя.
Я очень любил Джима — даже готов был поселиться с ним в одной комнате, надеясь, что мне удастся образумить его и вернуть на путь спасения. Однако он начитался книг, принадлежащих перу таких личностей, как Ингерсолл и Томас Пэйн, — чванных глупцов, вообразивших, что они умнее самого всемогущего бога! Джим предпочитал цитировать порочный, внушенный дьяволом бред вместо того, чтобы внимать целительному журчанию благословенного источника, каковым является для нас священное писание! А я все убеждал и убеждал его — судите же сами, как я был молод и неразумен! Но вот в один прекрасный день на меня снизошло вдохновение! Я понял, что существует нечто более веское и убедительное, чем любые доводы рассудка. «Джим, — сказал я ему, — ты любишь своего отца?» Его отец был достойный старый джентльмен, истинный христианин, сельский врач и, подобно многим сельским врачам, героически самоотверженный, многоопытный человек. «Так ты любишь своего старого отца?» — спросил я.
Джим, естестенно, обожал отца и даже вроде бы обиделся, что я задаю ему такой вопрос.
«Ну, еще бы, конечно!..» — ответил он. «А скажи, Джим, — говорю, — твой отец тоже любит тебя?» «Ну да, понятно», — отвечает Джим. «Так послушай же, Джим, — говорю я опять, — если твой земной отец тебя любит, то насколько же сильней должен любить тебя отец небесный, — он, кто сотворил всякую любовь, — как же бесконечно должен он любить тебя и скорбеть о тебе!»
Так вот, друзья мои, это его и сразило. Вся ученая дребедень, вычитанная из книг, разом вылетела у него из головы. Уставился на меня — в глазах дрожат слезинки — и пролепетал: «Понимаю теперь, что ты хотел сказать, друг, и с этой минуты склоняюсь пред Иисусом Христом, как перед господом своим и учителем!»
О, да воистину прекрасно светозарное сияние божественной любви! Разве вы не чувствуете ее? Не о вялом приятии говорю я, не о ленивой, машинальной привязанности, но о страстной…
V
Готово! Полная победа!
Забавно было наблюдать, как старые фанатики, которых коробило от пения «Дикси», поддались его обаянию и признали его силу. Он говорил, обращаясь прямо к каждому из них, одному за другим, — и покорил их всех.
По окончании службы они трясли ему руки еще горячее, чем утром.
Клео стояла немного позади как загипнотизированная. Когда он подошел к ней, она выдохнула, глядя на него невидящими глазами:
— О ваше преподобие, это величайший день для нашей старой церкви.
— Вам понравилось то, что я говорил о любви?
— Ах… любовь… да!
Она говорила точно во сне, не замечая, что он нежно пожимает ей руку, и молча вышла из церкви рядом с ним, а в его душу ее исступленное благочестие вселило чувство, похожее на страх.
VI
На этот раз, увлеченный делом, Элмер не обратил особого внимания на церковные сборы. Впрочем, это произошло по недосмотру — он прекрасно знал технику своей профессии. Просто он считал, что в первый день ему следует утвердиться на позициях духовного вождя, а потом уже, завоевав себе признание, он позаботится и о том, чтобы это духовное руководство должным образом вознаграждалось. Разве такой труженик не достоин вознаграждения?
VII
Приезд Элмера отмечали во вторник вечером в подвальном этаже церкви. С половины восьмого, когда стал собираться народ, и до четверти девятого Элмер был занят бесконечными рукопожатиями.
Прихожане хвалили его красноречие, его вдохновенный слог. Он видел, что Клео гордится тем, что ему оказан такой прием. Ей удалось ему шепнуть:
— Вы понимаете, что это значит? Так радушно еще никогда не встречали нового проповедника. О, я так рада!
Брат Бенем призвал всех к порядку, и сестра Килвин исполнила соло «Священный город» — довольно плохо. Брат Бенем в короткой и не очень гладкой речи выразил общее восхищение по поводу проповедей брата Гентри. Брат Гентри, в свою очередь, долго и прочувствованно говорил о своем восхищении братом Бенемом, другими членами семейства Бенемов, остальными членами конгрегации, Банджо-Кроссингом, округом Банджо, Соединенными Штатами Америки, епископом Тумисом, методистской епископальной церковью (северной) и всем, что с нею связано.
Торжество закончилось игрой Клео на рояле соло и новым каскадом рукопожатий. По-видимому, было принято, чтобы каждый, кто подходил к пастору или случайно оказывался поблизости с ним, всякий раз хватал его за руку, хоть и успел получить это удовольствие уже неоднократно в течение вечера.
Затем было подано пирожное и сливочное мороженое домашнего приготовления.
Все это было очень скучно и вместе с тем очень лестно для Элмера. Он почувствовал, что его приняли и признали, и был готов взяться за дело.
VIII
Для вечерних молитвенных собраний по средам у него были особые планы. Нетрудно было вообразить, что представляет собою молитвенное собрание в Банджо-Кроссинге. Прожужжат два-три гимна, затем человек пять — всегда одни и те же — встрепенутся и забормочут, и опять-таки одно и то же: «Благодарю тебя, господи, что ты явился мне и указал мне прегрешения мои, и пусть те, что еще не узрели света, чьи сердца отягчены грехом, обратятся к господу в этот вечер, пока еще есть в них дыхание жизни» (чего эти последние никогда не делали). А хмурая, несчастная женщина, в выцветшей жакетке, поднимется с задней скамьи и потребует: «Я хочу, чтобы община помолилась о моем муже и спасла его от греха, от пьянства и от курения». «Я, быть может, и не такой ученый, как епископ Тумис, — размышлял Элмер, — зато умею придумывать разные штучки, чтобы расшевелить молящихся и привлечь народ в церковь, а это стоит побольше, чем вопли о пророках и теологии!»
Начал он свои «штучки» на первом же молитвенном собрании.
Он внес предложение:
— Знаю, что многие из вас хотели бы высказать свои религиозные чувства, но иной раз трудно подобрать новые слова. Вот я как раз и хочу предложить вам кое-что новое. Пусть каждый по очереди выберет тот гимн, который лучше всего выражает его чувства к нашему возлюбленному спасителю и милостям его. А мы все подхватим и сольемся в ликующем славословии.
«Штучка» сошла блестяще!
— Знатный малый, этот новый методистский пастор, — говорили на той неделе в Банджо-Кроссинге.
Застенчивые, неловкие и как будто равнодушные, они исподтишка по-дружески следили за ним, готовые похвалить его как доброго соседа или поднять на смех как дурачка.
— Да, — говорили они, — малый хоть куда! Знает свое дело. И язык подвешен — мое почтение. И настоящий мужчина. Прямо в глаза глядит. Одна беда — не засидится он у нас, слишком хорош. И, между прочим, раз уж он так хорош, — почему ж его прислали сюда? В чем тут загвоздка? Уж не выпивает ли, как полагаешь?
Элмеру, хорошо знавшему и свой канзасский Париж и Гритцмейкер-Спрингс, нетрудно было угадать, какие именно пойдут о нем пересуды, и, обходя дом за домом, лавку за лавкой, пожимая десятки рук, он старательно объяснял, что много лет работал на ниве евангелизма, а теперь, по совету своего старого, верного друга епископа Тумиса, решил годик потрудиться в их вертограде, чтобы набраться сил для грядущей работы.
К женщинам во время своих пасторских визитов был внимателен, но держался с ними осторожно. Расхваливал их кулинарные таланты, их моррисовские кресла, сувениры с Ниагарского водопада и школьные тетрадки их детей. С мужчинами, решительно всеми, включая местного врача, местного гомеопата, юриста, начальника станции и всех служащих магазина Бенема, старался быть в самых дружеских отношениях.
И в то же время он прекрасно сознавал, что сможет занять в церковном мире положение, к которому стремится, лишь в том случае, если будет учиться, пополнять свой идейный и особенно словесный арсенал, чтобы затем использовать его в деле просвещения своих современников.
IX
Обязанностями в Банджо-Кроссинге он был обременен не слишком, и в своей тихой комнатке, в доме вдовы Кларк, мог час за часом спокойно заниматься самообразованием.
Он продолжил свои богословские изыскания, прочел все проповеди Брукса, Бичера и Чапмэна, каждый день читал по три главы из библии и дошел до конца буквы «Г» в библейском словаре. Особенное внимание уделял он методистскому учению в виде подготовки к Годовой конференции, на которую ему предстояло явиться в качестве кандидата, чтобы стать полноправным членом методистского духовенства. Свод методистского учения, представляющий собою сочетание методистских молитв и «Особых постановлений», трудно было назвать увлекательным чтением. Много ли материала для проповеди или хотя бы для пополнения интеллектуального багажа способен дать, скажем, такой параграф:
«Совместная рекомендация двух третей присутствующих и имеющих право голоса членов нескольких годовых конференций, а также двух третей присутствующих и имеющих право голоса членов мирских избирательных конференций является достаточной для того, чтобы уполномочить ближайшую Общую конференцию вынести при большинстве в две трети голосов решение об изменении или дополнении любого из постановлений настоящей Конституции, за исключением параграфа 1 главы X; а после того, как таковые изменения или дополнения будут приняты большинством в две трети голосов на Генеральной конференции, то, как только они будут одобрены двумя третями присутствующих и имеющих право голоса членов нескольких Годовых конференций, а также двумя третями присутствующих и имеющих право голоса членов мирских избирательных конференций — они войдут в силу; результаты же голосования должны быть объявлены Генеральным Секретарем».
Ему, пожалуй, уж больше нравились отрывки из «Религиозного Устава»:
«Жертва Христа, единожды принесенная, есть полное искупление, очищение и отпущение всех грехов мира — как первородного греха, так и грехов содеянных, — и нет иного искупления греху, кроме этого, единственного. А посему жертвоприношение во храме, когда священник, как говорят, приносит в жертву Христа за живых и мертвых для избавления от страданий или от вины, — есть богохульственный и опасный обман».
Ему было не вполне ясно, что все это значит, но звучало это красиво и вдохновенно! «Богохульственный и опасный обман». Просто здорово!
В ближайшее же воскресенье он сообщил в назидание своей пастве, что непогрешимость папы римского есть «богохульственный и опасный обман». Они так и подскочили на месте.
Немало поучительного вынес он также из «Правил поведения проповедника» (также — часть «Свода»):
«Будь серьезен. Пусть твой лозунг будет таков: „Святость во господе“. Избегай легкомыслия, шуток, праздной болтовни. Не трать лишних слов, веди себя благоразумно с женщинами. Каждому, кто находится на твоем попечении, прямо говори, но ласково и незамедлительно, что ты находишь предосудительного в его поведении и характере. Иначе это будет жить в сердце твоем и мучить тебя.
Как правило, рекомендуем следующее распределение времени: 1) Как можно чаще вставать в четыре часа утра. 2) От четырех до пяти утра и от пяти до шести вечера — молиться, размышлять и читать священное писание, делая пометки.
Искореняй в церкви нашей куплю-продажу товаров, которые не оплачены пошлинами, установленными государством… Искореняй подкуп — прямой или косвенный при голосовании на любых выборах».
С точки зрения этих правил, Элмер стал воистину образцом во всех отношениях — кроме разве что легкомыслия и шуток; благоразумного поведения с женщинами; разговоров с каждым, кто находится на его попечении, о том, что он, Элмер, находит в них предосудительного, — на это ушло бы все его свободное время. А также кроме подъема в четыре часа и искоренения торговли контрабандным товаром.
Чтобы получить к экзамену на Годовой конференции удостоверение о курсе, пройденном в семинарии, он написал декану Тросперу. Он объяснил, что его озарил великий свет; что он работал с сестрой Фолконер; но что именно раннему влиянию декана Троспера он обязан в конечном счете своим нынешним совершенством. Удостоверение он получил вместе с письмом декана:
«Надеюсь, вы не будете чрезмерно усердствовать в праведном рвении. Это могло бы тяжело отразиться на вашей пастве. Помнится, вам всегда было свойственно стремление заходить слишком далеко — и во многом. Как баптист, я поздравляю методистов с тем, что они заполучили вашу особу. Если все, что вы говорите о своем благостном состоянии, — правда, то все же советую вам продолжать молиться. Возможно, остались еще две-три добродетели, которые вы еще не успели обрести».
«Ах ты, черт побери! — бесился непонятый святой. — А, наплевать, не все ли равно! Документики как-никак у меня, а степень бакалавра — он сам говорит — мне может дать экзамен. Беда старины Троспера, что он тоже слишком уж умничает. Ну, и пошел он!..»
X
Наряду с богословскими изысканиями Элмер уделял время и светской литературе. Книги он брал у Клео и в крошечной местной общественной библиотеке, помешавшейся в здании школы; а во время случайных поездок в Спарту, ближайший крупный город, даже покупал иной раз подержанные книги, если попадалось хорошее издание.
Начал он с Браунинга[143].
Он много слышал о Браунинге. Слышал, что это шикарный поэт и вдохновенный мыслитель. Но сам не нашел в Браунинге ничего особенного. Столько строчек, которые приходится перечитывать по три, по четыре раза, пока доберешься до смысла… и чересчур много написано об Италии и прочих второстепенных странах.
Но все-таки Браунинг дал ему массу новых словечек для записной книжки, куда он заносил многосложные слова и фразы, которые долгие годы служили ему богатым и тайным источником материала для наиболее высокопарных его речей. Сохранилась страничка из этой книжки.
Испепелить — сжечь.
Меровинги[144] — французский род, примерно 500-й год нашей эры.
Запомн. Голгофа — место распятия.
Ли Хант[145] — поэт — 1840, отрицат.
Лупин — голубой цветок.
Аннулировать — свести на нет.
Chanson (произн. шан-сон) — французская песенка.
Запомн. стоящий человек — тот, кто улыбается, когда хуже быть не мож.
Проповедь о чел., кот. гов., что другие планеты обитаемы, — чепуха, т. к. в библии не сказано, чтоб Христ. собирался их спасать.
Теннисон был Элмеру больше по душе, чем Браунинг. Ему понравилась «Мод»[146], она напоминала Клео, только не такую симпатичную, а мораль и убийства «Идиллий короля» доставили ему просто огромное удовольствие. Взялся он и за Омара Хайяма в переводе Фитцджералда — его в свое время рекомендовал литературный кружок в Тервиллингере — и сделал открытие, которое решил было даже опубликовать в печати.
Он слышал, будто Омар Хайям — безбожник, а между тем, прочтя:
Я в юности своей усердно посещал Ученых и святых и слову их внимал, Но слово пусто их, как знаю я теперь, И я от них бегу обратно в ту же дверь!пришел к заключению, что этим четверостишием Омар, несомненно, хочет сказать: как там ни распинайся учителя, а он, Омар, твердо верит в Иисуса.
Диккенс был для Элмера откровением.
Он и не подозревал, что в прежние времена, когда еще не было газеты «Сатердей ивнинг пост», печатались такие потрясающие книги. К юмору он был равнодушен; он считал, что со стороны мистера Диккенса вульгарно и даже безнравственно заставлять Пикквика напиваться пьяным, а Манталини замышлять самоубийство; его увлекала сентиментальная и романтическая сторона. Когда умер Поль Домби, Элмер чуть не разрыдался. Когда мисс Никклби приходилось защищать свою добродетель от покушения сэра Малбери Хоука[147], Элмеру хотелось быть там, на месте, как пастору и как спортсмену, чтобы спасти ее от этого гнусного светского льва, типичного для своего класса, развратителя невинности и молодости.
— Да, сэр, вот это вещь! — восторгался Элмер. — Это писатель! Проникает в сокровенную глубину человеческой души! Буду на него ссылаться, когда эти олухи созреют для литературных проповедей.
Увы, художественными изысканиями ограничиваться он не мог. Надо было овладевать и философией… Элмер ретиво взялся за Карлейля[148] и Элберта Хаббарда. Нырнул — и поспешил вынырнуть, заледенев от холода. Впрочем, в биографиях Хаббарда, наводнивших в то время Америку, Элмер нашел кое-что поучительное. Он узнал, что Рокфеллер стал во главе Стандарт Ойл не случайно, а благодаря своим трудам, таланту, а также баптистскому воспитанию. Узнал, что можно найти поучения в камнях, назидание — у фермеров, благостыню — у банкиров и стиль — в прилагательных.
Привыкнув жить «на виду», Элмер был общителен, как воробей, и не мог молчать об открытых им литературных сокровищах. Но Клео Бенем в данном случае была бы неподходящей собеседницей. Он понимал, что она читала куда больше художественных произведений вроде «Послания к Гарсии», чем даже он сам. Поэтому он стал изливать свои литературные восторги Клайду Типпи — преподобному Клайду Типпи, пастору церкви Объединенных братьев в Банджо-Кроссинге.
Клайд в отличие от Элмера не был образованным человеком. Пробыв всего два года в начальной школе, он затем учился только год в семинарии Объединенных братьев. Элмер не был сторонником общения и дружбы с пасторами-конкурентами: разве его задача не заключалась в том, чтобы отбить у них прихожан? Но что за упоение найти хотя бы одного из духовной братии, которого он может подавить своей ученостью!
И он частенько навещал скромный коттедж, в котором преподобный мистер Типпи (двадцати шести лет от роду) обитал вместе со своею толстушкой женой и четырьмя детьми. У мистера Типпи были бледно-голубые глаза и воротнички на полтора номера шире, чем нужно.
— Клайд, — важничал Элмер, — если вы хотите пойти далеко и не только удовлетворять духовные потребности прихожан, но и делать их жизнь богаче, полнее, радостнее, вам просто необходимо знакомить их с великими образцами литературы.
— Да, пожалуй, верно. Много читать-то мне было некогда, в литературе, наверно, есть чему поучиться, — отвечал преподобный мистер Типпи.
— Еще бы! Вот послушайте-ка! Это из Лонгфелло. Поэт такой.
Жизнь реальна! Жизнь серьезна! Ей могила не предел.И еще — вслушайтесь, ритм какой шикарный:
Жизнь великих учит малых Чистоты блюсти закон И оставить, умирая, След свой на песке времен !Читал я это давным-давно, в школе еще, да некому было разъяснить мне смысл, как я собираюсь теперь разъяснить моей пастве. Вы только вдумайтесь: «Ей могила — не предел»! Чем Лонгфелло не проповедник такой же, как мы с вами? А?
— Да, правда ваша. Надо будет прочесть его стихи. Не дадите почитать?
— Непременно, Клайд! Вам это только пойдет на пользу. Молодому проповеднику вроде вас нельзя забывать — если вы позволите старшему коллеге обратить на это ваше внимание — о том, что образование наше не является законченным с того момента, как мы начинаем проповедовать. Мы обязаны и дальше расширять свой кругозор. Понимаете, что я имею в виду? Для начала я вам дам почитать «Дэвида Копперфилда». Сколько там прекрасных мест! Вот, например, та сцена, когда… У этого Дэвида, понимаете, была тетка, и все ее считали просто старой каргой, а отчим бедного малыша… — пусть вас не покоробит, что я, священник, произношу это слово, но только этот отчим, он был настоящий сукин сын и ужасно обращался с Дэвидом, просто жутко. Ну, Дэвид сбежал от него и разыскал дом тетки, а тетка-то оказалась первый сорт и приняла его чудесно. Вас наверняка слеза прошибет в том месте, где он приходит к ней в дом, а она его не узнает, а он говорит ей, кто он такой, и она тогда опускается возле него на колени… И вывод можно сделать: не считай человека плохим только потому, что ты просто его не понимаешь… Да, сильная вещь! Да, сэр, «Дэвид Копперфилд»!.. От такой книжки ничего, кроме пользы!
— «Дэвид Копперфилд»… Название как будто слыхал. Спасибо вам, брат, что пришли, рассказали.
— Ну что вы, пустяки! Рад помочь, чем могу, Клайд!
Успехи в роли наставника мистера Клайда Типпи по части литературы и морали побудили Элмера с новым рвением приняться за свои изыскания. Да, он понесет в мир не только добродетель, но и красоту!
Поразмыслив, он решил, что наилучшим подарком изумленному и жаждущему откровений миру будет Лонгфелло, и он одолел много-много страниц, глубокомысленно отмечая те строфы, которым посчастливилось заслужить его одобрение и в которых не говорилось о вине.
…жить никогда не поздно, Погаснет светлый ум — с последним биеньем сердца. Катон[149] — глубоким старцем греческий учил, Софокл[150] — «Эдипа» написал, одной ногой Уже в могиле стоя; Симонидас[151] — Всех победил на состязании поэтов, Когда ему за восемьдесят было.Элмер не очень ясно представлял себе, кто такой Симонидас, но эти поучительные строки послужили укреплением его проповедей в каждом из тех приходов, в которых ему суждено было священствовать.
Не менее победоносно справился он с Джеймсом Расселом Лоуэллом[152], Уитьером[153] и Эллой Уилер Уилкокс. От Киплинга он отказался, так как заметил, что читает его с удовольствием, и заключил отсюда, что это не стоящий поэт. Зато, открыв Роберта Бернса, он остался страшно доволен собою.
Но вот он вступил в единоборство с Джошией Ройсом[154].
XI
Епископ Везли Р. Тумис советовал Элмеру читать философов вообще и Ройса в частности. Сам он, по его словам, не смог уделить Ройсу столько времени, сколько хотелось бы, но он знал, что творения Ройса представляют собой богатое поле для любителя интеллектуальных изысканий. Оттого и получилось, что Элмер как-то вернулся из Спарты с двумя томами ройсовского труда «Мир и индивид» (а кстати, и с двумя новыми детективными романами).
«Полистаем этого Ройса, — думал он, — и приятно и с пользой для себя. А потом позаимствуем мыслишек и у других философов, о которых приходилось слышать: Джеймса[155], Канта, Бергсона[156] и этого — как его… с таким забавным именем… Спинозы, кажется?»
Он доверчиво раскрыл первый том Ройса и в ужасе отпрянул.
В его распоряжении был мирный, долгий свободный вечер, за который ему предстояло набраться мудрости. Он трудился на совесть. Каждую фразу он перечитывал по шесть раз. Уголки его рта беспомощно поникли. Какая несправедливость, чтобы воина христова, не жалеющего времени на то, чтобы воспринять чужие идеи, подвергали такой жестокой пытке! Он вздохнул и перечел первый параграф. Вздохнул еще раз, и книга выпала из рук на колени.
Он оглянулся. Рядом на этажерке лежал один из детективных романов. Элмер достал его. Завязка, как и во всяком приличном детективном романе, происходила ночью, в баре таверны Кот и Скрипка; снаружи бушевал ветер, и дождь барабанил по стеклам старинных окон; но в баре было тепло и уютно; на красные занавеси ложились блики от пылающего камина, а начищенные до блеска ручки пивного насоса…
Через час Элмер дошел до того места, в котором на инспектора Скотленд-Ярда нападает из-за дроковых кустов маньяк. В волнении он положил ногу на ногу. Ройс скатился на пол, где и остался лежать.
Но Элмер все-таки не сдавался. Не прошло и трех месяцев, как он уж добрался до пятьдесят первой страницы первого тома Ройса и тут завяз в подстрочном примечании:
«В трудах ученых схоластов, таких, как скажем, „Disputations of Suarez“, наша терминология употребляется главным образом в следующем смысле. „Бытие“ (или ens), взятое в его наиболее абстрактном значении, способно, по утверждению этих авторов, относиться в равной степени как к философскому „что“, так и к философскому „то“. Таким образом, говоря о бытии человека, я могу, соответственно этому употреблению, иметь в виду либо идеальную природу человека в отвлечении от его существования, либо, наоборот, существование человека. Термин „Бытие“ здесь применим к обоим этим столь резко отличным друг от друга понятиям, и в этом смысле мы можем рассматривать Бытие двояко. В качестве философского „что“ оно означает сущность вещей, или Esse Essentiae. В этом смысле под Бытием человека мы просто подразумеваем дефиницию того, что есть человек как идея. В качестве же философского „то“ Бытие означает сущность сущего, или Esse Existentiae. Esse Existentiae человека, или сущность его сущего, является, таким образом, тем, чем оно обладало бы лишь в том случае, если бы существовало. Вследствие этого авторы-схоласты, о которых здесь идет речь, всегда вынуждены в каждом частном случае указывать, что именно они имеют в виду под термином Ens или Бытие: философское „то“ или философское „что“ — Esse Essentiae, или Existentiae».
Преподобный Элмер Гентри глубоко перевел дух, спокойно закрыл книгу и возопил:
— О-ох, да заткнись ты!..
С тех пор он больше никогда не брался за философов более сложных, чем Уоллес Д. Уотлс[157] или Эдвард Бок[158].
XII
Элмер не пренебрегал своими, не слишком обременительными обязанностями. Он ходил удить рыбу, чем снискал себе расположение мужской половины населения Банджо-Кроссинга. Он завел себе собаку — тоже разумный и вполне мужской поступок, и хотя во время прогулок за городом ему случалось давать собачке пинка, на людях он всегда бурно выражал свое расположение к. ней Время от времени он ездил в Спарту, чтобы купить книги, сходить в кино, украдкой заглянуть в театр. И хотя его прельщали развлечения другого сорта еще менее поощряемые методистской церковью, он, право же, честно старался устоять.
С помощью энтузиазма и наглости он собрал средства на погашение почти всего церковного долга и повел агитацию за приобретение нового ковра. Рискуя навлечь на себя немилость, он пригласил как-то в воскресенье вечером в церковь музыканта для исполнения соло на корнете. Он стойко воздерживался от ухаживания за четырнадцатилетней дочерью своей квартирной хозяйки — лишь раза два поцеловал ее, и то шутя. Короче говоря, он неустанно творил добро и являл собою образец пасторского благочестия.
Однако все сокровенные помыслы его были сосредоточены отныне на Клео Бенем.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
I
С женщинами Элмер всегда был, по собственному выражению, «малый не промах», но сейчас его духовный сан, с одной стороны, а с другой — то восторженное любопытство, с которым сплетники следят за священником, когда он ухаживает за дамой, делали его осмотрительным. В отличие от городских франтов он не мог разгуливать с Клео вдоль полотна железной дороги или вдоль речки Банджо, по прибрежным лугам в тени ив. Он так и слышал карканье десяти тысяч методистских старейшин: «Избегай даже тени греха…»
Он знал, что она влюблена в него, влюблена с тех самых пор, как увидела его впервые — благочестивого и вместе с тем мужественного вождя, стоящего у кафедры в последних лучах летнего дня. Он был уверен, что она сдастся ему, как только он потребует. Он был уверен и в том, что она обладает всеми качествами, какие только можно пожелать. И все же…
Она как-то не волновала его. То ли это в нем говорил страх перед женитьбой, степенной жизнью, необходимостью соблюдать супружескую верность… То ли в самой Клео еще не проснулась женщина и ее нужно было разбудить? А как тут разбудишь, если под боком все время торчит ее папаша!
Когда бы он ни зашел к Клео, старый Бенем непременно сидел гут же, в гостиной. Он был — конечно, в свободные от дел часы — большим любителем потолковать о религии. Как раз в тот момент, когда Элмер под прикрытием фортепьяно готовился пожать руку Клео, к ним вразвалочку подходил Бенем и гнусавил:
— Как, по-вашему, брат, что спасает человека: вера или добрые дела?
И Элмер объяснял, мысленно добавляя: «Уж ты-то, старый мошенник, тоже туда же! Тебе с твоей лавкой, где ты творишь разбой на большой дороге, конечно, надо норовить попасть на небо за веру, потому что за дела ты никогда туда не пролезешь!»
А когда Элмер пытался юркнуть вслед за Клео на кухню, чтобы помочь готовить лимонад, Бенем снова останавливал его вопросом:
— Что вы думаете насчет доктрины Джона Везли о совершенствовании?
— Очень здравая доктрина и вполне доказанная, — изрекал Элмер, понятия не имея о том, что означает эта чертова доктрина.
Возможно, что постоянное присутствие стариков Бенемов, мешающее более близкому знакомству с Клео, и не давало Элмеру понять, отчего ему все-таки не очень хочется обнять ее. Он объяснял это непривычное отсутствие любовного пыла своею добродетелью, все более проникаясь уверенностью в том, что он и в самом деле коренным образом переменился и достиг совершенства, а потом шел домой и торчал на кухне, шутливо, но с пасторским достоинством болтая с малюткой Джейн Кларк.
Даже оставаясь с Клео наедине в ее шикарном автомобиле, когда она возила его по соседним фермам, где он должен был побывать с пасторским визитом, и он настойчиво твердил себе о том, что она красива, даже тогда он не мог держаться с нею естественно.
II
Как-то вечером в конце ноября он зашел к Бенемам. Родителей Клео не было дома, они ушли на собрание Общества Восточной звезды. Вид у Клео был пасмурный, глаза заплаканы.
— В чем дело, сестра Клео? — благосклонно пропел он, когда они стояли в дверях гостиной. — У вас что-то грустный вид!
— Нет, это так, ничего…
— Ну-ну, расскажите же мне! Смелее! Я помолюсь за вас или вздую кого следует, только прикажите!..
— Как можно так шутить над… А впрочем, все это пустое…
Она потупилась. Элмер почувствовал себя полным веселой энергии, властным, сильным — восхитительно было ощущать, насколько он сильнее ее. Он приподнял указательным пальцем ее подбородок и требовательно произнес:
— Ну-ка, взгляните на меня!
В ее широко открытых глазах он прочел такое стыдливое, такое бесстыдное томление по нем, что был тронут. Он невольно обвил ее стан рукой, а она уронила голову ему на плечо, заливаясь слезами. Вся ее гордость покинула ее. Он пришел в такой восторг от сознания собственной власти над нею, что принял его за страсть, и вот он уже целовал Клео, ощущая нежность ее бледной кожи, самодовольно отмечая, как покорно она льнет к нему. Внезапно у него вырвалось:
— Я вас ужасно люблю. Я полюбил вас с той самой секунды, когда увидел в первый раз!..
И когда она сидела у него на коленях, приникнув к нему, не сопротивляясь, он уже не сомневался, что она очень красива и желанна.
Вернулись Бенемы. Миссис Бенем, узнав о помолвке, разразилась счастливыми слезами, мистер Бенем, сердечно хлопая Элмера по спине, отпускал шуточки:
— Ну что ты скажешь, теперь у меня в семье будет настоящий живой священник! Пожалуй, придется стать до того честным, что и торговлишка-то вся прогорит!
III
На свадьбу в январе приехала из Канзаса его мать. Ее счастье при виде сына на церковной кафедре, при виде красоты и душевной чистоты Клео, а также при виде богатства ее отца, было так велико, что она забыла долгую и мучительную скорбь, в которую Элмер поверг ее своими многочисленными изменами ее богу и своим переходом из священного лона баптизма в ненадежную, чуть ли не безбожную в своем либерализме веру методистов.
Присутствие матери, радость Клео, взволнованной, разрумянившейся, материнская ласка и радушие миссис Бенем, которая самозабвенно жарила, варила и пекла, щедрость мистера Бенема, который вызвал его на заднее крыльцо и вручил чек на пять тысяч долларов, — все это вызвало у Элмера ощущение, что он теперь имеет семью, пустил корни, устроился основательно, надежно.
К свадьбе были приготовлены горы слоеных кокосовых тортов, сотни ветвей флердоранжа, розы из настоящего цветочного магазина в Спарте, бочка безусловно безалкогольного пунша и красивое, но скромное белье для Клео, а в семейном альбоме появились новые фотографии. Это было грандиозно, и все же Элмер был несколько огорчен, что ему некого пригласить шафером: со времен Джима Леффертса у него не было ни одного друга.
Он пригласил Рея Фоссита, маслодела из молочной и хориста церковного хора, и вся деревня была польщена, что сотням своим задушевных друзей — там, в огромном мире, — Элмер предпочел местного паренька.
Итак, в вьюжный зимний денек их обвенчал окружной ревизор методистской церкви, а после церемонии они сели в поезд на Зенит, где им предстояло переночевать по пути в Чикаго.
И когда наконец они очутились в вагоне и смолкли приветственные крики и прекратился рисовый дождь, Элмер взглянул на довольно-таки невыразительно улыбающуюся Клео и ахнул про себя: «О боже, попался, связал себя по рукам и ногам. Теперь уж больше никогда не позабавиться!»
Но все же он держался с нею как мужчина и джентльмен: скрывал свою неприязнь и занимал жену рассказами о красотах поэзии Лонгфелло.
IV
У Клео был усталый вид, и к концу дороги, зимним вечером, под унылый вой бури, она, казалось, почти не слушала его замечаний о занятиях в воскресной школе, о средствах от мозолей, о его триумфах на молитвенных собраниях сестры Фолконер и о невежестве преподобного Клайда Типпи.
— Слушай, ты могла бы быть хоть немного внимательней! — проворчал он.
— Ах, прости! Право же, я тебя слушаю внимательно! Я просто устала — свадьба и все эти приготовления… — Она взглянула на него умоляюще: — О Элмер, ты должен быть… Я отдаю тебе всю себя… всю без остатка.
— Ха! Ты что, считаешь, что принесла себя в жертву, когда стала моей женой?..
— О, нет! Я не это хотела сказать…
— И, как видно, решила, что я не намерен заботиться о тебе? Ну еще бы! Я, конечно, буду пропадать из дому по ночам, играть в карты, пьянствовать, бегать за женщинами! Какой вопрос! Я не служитель церкви — я содержатель пивной!
— Ох, дорогой, дорогой мой, милый мой, я совсем не собиралась тебя обидеть! Я только хотела сказать… ты такой сильный и большой, а я… конечно, я тоже не былинка, но я не такая сильная, как ты.
Как ни приятно было разыгрывать оскорбленную невинность, он все-таки предостерег себя: «Заткни глотку, чурбан! Если будешь так орать, тебе никогда ее не научить любовным забавам».
— Я понимаю! — великодушно утешил он ее. — Конечно, милая моя, бедняжка! Глупо все-таки, что твоя мать затеяла такую пышную свадьбу: и угощение, и столько родственников, и всякое такое!
И при всем том Клео все-таки оставалась расстроенной.
Поглаживая ее по руке, он заговорил о том, как они обставят свой домик в Банджо-Кроссинге, и при мысли о том, что скоро Зенит, скоро — комната в отеле О'Херна (теперь уже не требовался номер «люкс» — не то что прежде, когда надо было производить впечатление на слушателей курсов «Путь к богатству»), он стал более пылок, стал шептать ей о том, как она красива, и все гладил ей руку, пока она не задрожала как лист.
V
Едва только коридорный закрыл за ними дверь номера с двуспальной кроватью, Элмер кинулся к Клео, сорвал с нее пальто с мокрым от снега воротником, швырнул на пол и стал целовать ее шею. Когда он разжал свои объятия, она попятилась назад и, испуганно прижав руку к губам, прерывающимся от страха голосом попросила:
— Не надо! Только не сейчас! Я боюсь!
— А-а, чепуха! — рявкнул он, надвигаясь на нее грудью. Она снова отступила.
— Нет, нет! Пожалуйста!
— Но, черт побери, что ж тогда, по-твоему, замужество?
— Ох, ведь ты еще никогда при мне не ругался!
— Господи, да я и сейчас не стал бы, но ведь ты себя так ведешь, что у святого терпение лопнет! — Он овладел собой. — Ну, ладно, ладно! Прости! Видно, и я немного устал! Ну тихо, девочка, тихо! Я не хотел тебя испугать. Извини меня! Это только показывает, что я с ума схожу от любви — понимаешь?
В ответ на его широкую, апостольски-сладкую улыбку слабо улыбнулась и она, и он снова схватил ее в объятия и положил свою мясистую руку ей на грудь. В промежутках между долгими объятиями, чувствуя, как в нем нарастает злоба оттого, что Клео ничем не расшевелить, он пытался ободрить се:
— Ну-ну, детка, веселей! Что ты, как неживая!
Она не сопротивлялась больше; она являла собою олицетворенную покорность. Безвольная, бледная, она только мучительно покраснела, когда он стал подшучивать над ее старомодной ночной рубашкой с длинными рукавами, которую она робко надела, укрывшись в относительном уединении ванной комнаты.
— Хо-хо! Ты могла бы с таким же успехом облачиться в мешок из рогожи! — загрохотал он, протягивая к ней руки.
Медленно двигаясь к нему навстречу, она попыталась принять безмятежный вид. Ей это не удалось.
«Иногда нужно быть грубым — это ей же на пользу!» — сказал себе Элмер, хватая Клео за плечи…
Когда он проснулся рядом с нею, он увидел, что она плачет. Нет, с нею положительно пора было поговорить твердо.
— Ну, вот что, милая! Тот факт, что ты жена священника, еще не означает, что ты должна перестать быть человеком. А еще берешься учить мелюзгу в воскресной школе! — К этому он добавил немало других выразительных и сильных слов, а она все плакала, отводя растрепанные пряди волос со своего кроткого лица, которое он ненавидел.
VI
Открытие, что Клео никогда не будет пылкой возлюбленной, побудило Элмера по возвращении в Банджо-Кроссинг еще более рьяно взяться за осуществление своих честолюбивых стремлений.
Клео, всякий раз заново ошеломленная его неистовыми вспышками злобы, все же находила некоторое утешение, наводя уют в своем маленьком домике, расставляя на полках книги мужа, восхищаясь его красноречием на церковной кафедре и принимая знаки уважения, которые ей, как жене пастора, оказывали даже старые подруги. Элмер же сумел совсем выбросить ее из головы и сосредоточить все свои помыслы на своей карьере. Он с нетерпением ждал весны и Годовой конференции: пора было двигаться дальше, в большой город, в большой приход…
Ему надоел Банджо-Кроссинг. Жизнь захолустного священника, лишенного даже невинных сельских развлечений, пожалуй, скучнее, чем жизнь сторожа на железнодорожном полустанке.
По правде говоря, Элмеру попросту не хватало дела. Впоследствии, в крупных церквах, он был завален работой, как управляющий большого предприятия, но теперь настоящая работа отнимала у него не более двадцати часов в неделю. Четыре молитвенных собрания по воскресеньям, если он, кроме церковной службы, посещал также воскресную школу и Эпвортскую Лигу; молитвенное собрание в среду вечером, в пятницу — спевка хора. Примерно раз в две недели — заседание комитета прихожанок и миссионерского общества и тоже, вероятно, раз в две недели свадьба или похороны. Пасторские визиты отнимали не более шести часов в неделю. С помощью своих справочников он мог подготовить две проповеди за пять часов, а в те дни, когда его одолевала лень или когда хорошо клевала рыба, на это хватало и двух часов.
Жена Элмера Клео Гентри
Элмер Гентри, Оскар и Хетти
В строгой обстановке рабочего кабинета его одолевала лень, он любил деловую сутолоку, любил встречаться с людьми, блеснуть перед ними своими талантами. Но блеснуть чем бы то ни было в Банджо было довольно трудно. Добрым горожанам вполне хватало порции благочестия, которую они получали по воскресеньям и средам.
Тогда Элмер начал помещать в местной газете объявления о своих еженедельных службах, положив этим начало торговле спасением душ, благодаря которой со временем снискал себе известность и почет во всех рекламных конторах и дальновидных церковных организациях страны. Просматривая сообщения о предстоящих богослужениях, читатели «Пионера Долины Банджо» с изумлением нашли среди объявлений пресвитерианской и баптистской церквей, секты учеников христовых и объединенных братьев нижеследующее объявление:
ПРОСНИТЕСЬ, МИСТЕР ДЬЯВОЛ!
Если бы старик сатана был так ленив, как иные из наших горожан, именующих себя христианами, мы могли бы чувствовать себя в полной безопасности. Но сатана не дремлет! Приходите же в это воскресенье к 10 ч. 30 м. утра послушать захватывающую проповедь преподобного Гентри на тему:
«СТАЛ ЛИ БЫ ИИСУС ИГРАТЬ В ПОКЕР?»
Методистская Епископальная Церковь
Он научился хорошо печатать на машинке, и это ему очень пригодилось. Медлительное перо не подходило к бурному темпераменту преподобного Элмера Гентри — ему куда более соответствовал стремительный цокот клавишей; из-под его пишущей машинки мощным потоком вырывались заповеди новой морали и социальные откровения.
В феврале он на две недели с головою ушел в проведение евангелических собраний. Он пригласил странствующего миссионера с женой; он отлично умел пустить слезу, она недурно пела. Но куда, самодовольно отметил про себя Элмер, куда им было тягаться с ним самим, человеком, работавшим с сестрою Шэрон Фолконер! Впрочем, эти двое были новинкой для Банджо-Кроссинга, и, когда истерический подъем достигал высшей точки, Элмер был тут как тут, сам бросался с атакой на перепуганную толпу, предостерегая, что, если грешники не выйдут вперед и не падут смиренно на колени, они еще до завтра могут оказаться в аду.
В результате церковь приобрела двенадцать новых прихожан и пять отступников вернулись в ее лоно, а Элмер получил повод опубликовать в «Западном христианском защитнике» заметку, которая значительно повысила его престиж в кругах праведников:
«В церкви Банджо-Кроссинга отмечается поразительный и волнующий подъем религиозной активности, являющийся результатом трудов брата Т. Р. Физелса и певицы-евангелистки сестры Физелс при содействии местного пастора, преподобного Гентри, ранее принимавшего участие в работе евангелистов в качестве помощника покойной Шэрон Фолконер. Нам сообщают, что здесь наблюдается великий всплеск духовной жизни. Молитвенные собрания дали богатые всходы и привели многих в лоно церкви».
Сам он тоже испытал «подъем религиозной активности» и, дав городку понять, как это ему обременительно, еженедельно — в течение двух недель — лично обследовал младшее отделение Эпвортской Лиги — юношеское отделение этой превосходной молодежной организации, целью которой, как сама она утверждает, является «убрать зло из отдыха и развлечения и превратить их в духовное возрождение»[159].
Он получил коротенькое письмо от епископа Тумиса, в котором епископ намекал на то, что от окружного инспектора получены самые благоприятные отзывы об «усердной и истинно творческой работе» Элмера, а также о том, что на предстоящей Годовой конференции Элмер будет переведен в значительно более крупный приход.
— Чудесно! — ликовал Элмер. — Ну и рад же я буду выбраться отсюда! Здешней деревенщине от первокласного пастора, вроде меня, столько же проку, как стаду ослов!
VII
Айшуа Роджерс умер, и в методистской церкви шла панихида. Все свои семьдесят девять лет Айшуа Роджерс прожил в Банджо-Кроссинге, был фермером, потом лавочником и почтмейстером.
Старого Дж. Ф. Уитлси смерть Айшуа потрясла. Они росли вместе, вместе мужали, жили на соседних фермах, а в последние годы, когда Айшуа почти ослеп и поселился у своей дочери Дженни, Дж. Ф. Уитлси ежедневно наезжал в город, часами просиживая с другом на крылечке и до хрипоты споря о Блэйне и Гровере Кливленде[160]. У Уитлси теперь не осталось в живых ни одного друга. Мир будет казаться ему пустыней, когда, проезжая мимо домика Дженни, он не увидит старого Айшуа.
Он сидел в церкви на передней скамье и видел лицо своего друга в открытом гробу. Смерть стерла с этого лица все, что было в нем мелочного и суетного, осталось лишь то немое благородство, с которым он переносил зимние метели и августовский зной, труд и горе, лишь то мужество, которое и любил в нем Уитлси. И этого Айшуа он больше не увидит никогда! Он вслушивался в слова Элмера, который с глазами полными слез (все же драматическое зрелище — церковь, наполненная людьми, оплакивающими своего старого друга) унимал скорбь своей паствы торжествующей песнью Откровения:
«Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. За это они пребывают ныне пред престолом бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод и отрет бог всякую слезу с очей их».
Собравшиеся затянули вслед за ним: «О господи, заступник наш в веках минувших!» И старый Уитлси тоже пытался подтягивать старческим фальцетом.
Потом все вереницей потянулись к гробу. Когда Уитлси бросил последний взгляд на мертвое лицо Айшуа, сухие глаза его застлала пелена и он пошатнулся.
Элмер поддержал его своими могучими руками и прошептал:
— Он ушел к славе своей, ему воздастся сполна! Не будем же печалиться о нем!
И в твердости и силе Элмера Уитлси обрел утешение. Он приник к своему пастору, шамкая:
— Благослови вас бог, брат! — и заковылял к выходу.
VIII
— Ты был сегодня изумителен на панихиде! Я никогда не ощущала в тебе такой глубокой веры в бессмертие, — благоговейно говорила мужу Клео по дороге домой.
— Да, но кто это ценит… Даже когда я им расписал, каким героем был этот старикан, — и то не оценили. Надо перебраться в другой город, где у меня будет хоть какая-то перспектива…
— Ты думаешь, в Банджо-Кроссинге бог не тот же самый, что в большом городе?
— Ох, Клео, не донимай ты меня религиозными разговорами! Ты просто не можешь понять, какое это напряжение — провести как следует панихиду, так, чтобы все разошлись по домам утешенные. Бог-то, быть может, и тот же самый, да жалованье не то!
Он больше не злился на Клео, не придирался к ней. За эти два месяца она стала безразлична ему; безразлична настолько, что он даже перестал ненавидеть ее и был способен восхищаться тем, как умело она руководит воскресной школой, как тактично обращается с добрыми сестрами-прихожанками, когда те суют свой нос во все углы пасторского дома.
— Пожалуй, прогуляюсь немного, — пробормотал он, когда они подошли к своему крыльцу.
Он направился к дому вдовы Кларк, где жил холостяком.
Джейн была во дворе; мартовский ветер захлестывал ей юбку вокруг ног, розовое лицо ее зарумянилось еще жарче, глаза засветились мягким светом при виде пастора, который приветствовал ее, великолепным жестом приподняв шляпу.
Она порхнула к нему.
— Ну, как вы тут, скучаете без меня? Наверное, рады-радехоньки, что отделались от бедного старого священника, от которого вечно был только беспорядок в доме?
— Скучаем ужасно!
Элмер почувствовал, что его неодолимо тянет к ней. Он поспешно отошел от нее, и пожалел, что отошел, и заторопился подальше от опасности, грозящей его репутации. Теперь он снова ненавидел Клео — ненавидел оскорбленно, сам не понимая, за что.
«В Спарту, что ли, удрать на неделе! — сгоряча решил он и сразу одернул себя: — Нет! Через десять дней конференция; пока не кончится, нельзя рисковать».
IX
Город Спарта; конец марта месяца. Годовая конференция. Самое торжественное событие года, когда священники-методисты пяти-шести округов съезжаются для совместных молитв и веселья, съезжаются послушать об успехах дела божьего на земле, а кстати, и разузнать, не предвидится ли в новом году более доходное местечко…
Председательствующий — епископ Везли Р. Тумис собственной персоной, важный, озабоченный, со своими помощниками — окружными инспекторами…
Священники, показывающие всем своим видом, будто возможное повышение жалованья — нечто совершенно недостойное их внимания…
В перерывах между заседаниями они толкались в большой аудитории Престонской методистской церкви: причастные к церковной работе миряне и около трехсот священников.
Состарившиеся на службе сельские пасторы, бородатые и в очках, сутулые, в порыжевших пиджаках, но все еще обслуживающие по две деревенские церкви, а то и три или четыре, делающие по пятьдесят миль в неделю, а в качестве легкого чтения довольствующиеся священным писанием и церковным еженедельником «Защитник».
Только что оперившиеся сельские священники, еще сохранившие на своих широких ладонях мозоли от ручек плуга или от вожжей, не стремящиеся к иному образованию, кроме своих двух классов средней школы, и иным источникам сведений по истории и геологии, кроме Ветхого завета.
Священники из более крупных городов, в которых чаще всего трудно признать духовное лицо: элегантные и строгие костюмы, скромные галстуки; преувеличенная любезность друг с другом; пожалуй, добрая четверть пользуется славой «модернистов»[161], почитывающих популярное руководство по биологии и психологии; остальные три четверти по-прежнему гремят с кафедры по Книге Бытия.
Сквозь эту массу, сразу бросаясь в глаза, движутся те, кому сопутствует успех: окружные инспектора, пасторы крупных городских приходов, вероятные кандидаты на должность ректоров колледжей, председателей миссионерских советов, издательских советов, кандидаты в епископы.
У них, этих офицеров штаба, вовсе не обязательны львиные гривы и актерский вид. Многие сухопары или малорослы, жилисты, в очках, с серьезными лицами, но все великолепные политики с прекрасной памятью на имена, находчивые и медоречивые. Верят, что всем правит господь, но что надо будет только по-дружески помочь ему в этом. И что вербовка политических союзников, почти так же, как и молитвы, помогает приобрести репутацию подходящего кандидата на доходное место!
Среди этих лидеров — Савонаролы[162], мрачные субъекты, с раздражением встречающие технический прогресс, способные собирать тысячные аудитории целомудренными, но не лишенными пикантности обличениями грабежей, танцев и витрин магазинов дамского белья!
Здесь же прославленные либералы, проповедники, которые выступают в переполненных городских молитвенных домах, в церквах университетских городов, доказывая, что можно пропускать те места в библии, которые представляются не слишком вразумительными, и в то же время считать ее боговдохновенной книгой, и что полотна Лэндсера[163] и Розы Бонэр[164] чрезвычайно поучительны с нравственной точки зрения.
Самыми приметными среди этих аристократов были рослые джентльмены-церковники, учтивые, с бархатными нотками в голосе, с проникновенно сердечными манерами, точно созданные для роли персонажа из пьесы Шекспира или администратора универсального магазина. В их ряды со временем и вошел преподобный Элмер Гентри.
Он был здесь новое лицо, он лишь надеялся, что, рассмотрев его бумаги, конференция признает его как полноправного члена методистского духовенства, и у него был только крохотный сельский приход, а между тем откуда-то уже просочился слух, что он человек, на которого следует обратить внимание, залучить в число политических сторонников; и даже пастор, чье вознаграждение за святые труды, по скромным подсчетам, составляло не менее десяти тысяч долларов в год, обращаясь к нему, назвал его «брат». К нему присматривались; с ним беседовали не только о святых таинствах, но об автомобилях и об использовании «гарантийных писем», и, чувствуя теплоту его рукопожатия, слыша его густой и дружеский голос, встречая его мужественный взгляд, не затуманенный ни сомнениями, ни угрызениями совести, и отмечая, что он носит свой костюм не хуже любого духовного магната, они любезно кланялись ему и искали его общества, признав в нем будущего полководца воинства христова.
Созданию его престижа немало способствовали обаяние и изысканные манеры Клео.
Целых три дня, перед их отъездом на конференцию, Элмер лез из кожи вон, умасливая и улещая ее, внушая ей уверенность в том, что даже если прежде у них и случались недоразумения, то отныне их ждет лишь тепло и уют полного семейного счастья. И Клео была оживленна, была мила и почтительна с женами старших пасторов, встречаясь с ними на приемах в отеле.
Ее очевидное восхищение Элмером убедило высокопоставленных политиков, что в семейной жизни у него все благополучно.
И потом им было известно, что его вызвал сам епископ — о да, они это прекрасно знали! Что бы ни делал епископ в эти критические дни, все было известно. Среди пожилых священников было много таких, которых тревожило затянувшееся пребывание в маленьких городах; им хотелось бы шепнуть епископу, что они вполне подходят для более ответственных постов. (Список новых назначений был уже составлен епископом и членами его совета, но в него, конечно же, можно было внести некоторые изменения — самые незначительные!) Но им никак не удавалось увидеться с епископом. Большую часть времени он скрывался от них в доме ректора Уиннемакского университета имени Джона Везли.
А вот за Элмером он послал сам и даже назвал его просто по имени.
— Видите, брат Элмер, я был прав! Методистская церковь подходит вам как нельзя более, — сказал епископ, поблескивая глазками из-под косматых бровей. — Я уже сейчас могу дать вам более крупный приход. Правда, это была бы нечестная игра, как говорят англичане… Ах, Англия, Англия! Сколько удовольствия вы получите, когда съездите туда! Вы убедитесь со временем, что путешествия — такой обильный источник материала для поучительных проповедей! Не сомневаюсь, что вы и ваша очаровательная супруга — я уже имел удовольствие видеть ее, — что вы оба когда-нибудь вкусите радость и романтику путешествий… М-да, так вот я что говорю: я могу уже теперь перевести вас в более крупный город, но назвать вам его сейчас, пока список назначений не оглашен на конференции, было бы неудобно, и если вы будете и дальше продолжать ваши ученые занятия, уделять внимание нуждам своей паствы и по-прежнему вести столь же безупречный образ жизни — а все это отмечено окружным инспектором, — что ж, тогда в самом недалеком будущем вас ждет гораздо более широкое поле деятельности! Итак, благослови вас бог!
X
После опроса на конференции Элмер Гентри был единодушно утвержден полноправным членом методистского духовенства.
Среди вопросов из области методистского учения, на которые он счел себя вправе ответить чистосердечным «да», были такие:
Стремитесь ли вы к совершенству?
Надеетесь ли в этой жизни достичь совершенства в любви?
Прилагаете ли к этому все усилия?
Исполнены ли вы решимости всецело посвятить себя богу и его делу?
Достаточно ли серьезно вы обдумали правила поведения священника — в особенности те, которые предписывают прилежание, пунктуальность и примерное исполнение возложенных на вас обязанностей?
Будете ли вы как словом, так и примером призывать к посту и усердию?
Члены конференции говорили потом друг другу, что просто удовольствие задавать вопросы кандидату, который может отвечать на них с такой непоколебимой уверенностью.
Празднуя свое отречение от плотских утех и соблазнов обильным ужином, за которым он с жадностью уничтожил бифштекс с жареным луком и картофелем, несколько кукурузных початков, три чашки кофе и два куска яблочного пирога с мороженым, Элмер снисходительно бросил Клео:
— Ну и баня была! Интересно было бы посмотреть, сумел бы хоть один из жалких олухов, с которыми я учился в семинарии, ответить так, как я!
XI
Выслушали отчеты о сборах средств на содержание миссий, о новых школах и церквах; вняли великому множеству молитв; вежливо вытерпели «вдохновляющее слово» епископа и преподобного С. Палмера Шутца. Но по-настоящему ждали только того момента, когда епископ огласит список назначений.
И вот епископ поднялся с места. Лица остались невозмутимо равнодушными; ногти впились в ладони. Каждый старался сохранить лояльность по отношению к братьям по оружию — но… худощавый священник думал о сыне, которого надо послать в колледж; молодой человек с озабоченным лицом — об операции, которую предстоит сделать его жене; старый служака, почти уже потерявший голос, гадал, оставят ли его еще на насиженном теплом местечке.
Резкий голос епископа отщелкивал:
— Округ города Спарты:
Алби-Сентер — У. Э. Ванс.
Ардмур — Эйбрэхэм Мандон…
И вместе со всеми слушал Элмер, охваченный внезапным страхом.
Что епископ подразумевал под «более крупным городом»? Какую-нибудь жуткую дыру с населением в тысячу двести душ?
Но вот он вздрогнул и просиял, и собратья-священники закивали ему, поздравляя. Епископ прочел:
— Радд-Сентер — Элмер Гентри.
Ибо Радд-Сентер — это свыше четырех тысяч жителей; это хорошо налаженная церковная работа и большой завод шипучих напитков. Итак, он на пути к величию, к святым делам в этом мире и к сану епископа.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
I
Год в Радд-Сентере, три года в Валкане, два года в Спарте. В Радд-Сентере четыре тысячи сто жителей, в Валкане — сорок семь тысяч, в Спарте — сто двадцать тысяч. Да, как видно, преподобный Элмер Гентри не терял времени, поднимаясь по ступенькам карьеры и успеха.
В Радд-Сентере он сдал выпускные экзамены за курс Мизпахской семинарии и получил степень бакалавра богословия; там же, в Радд-Сентере, он освоил искусство завязывать контакты с предприимчивыми и деловыми людьми — окулистами, издателями и фабрикантами эмалированных ванн — и использовать их практические таланты в своих крестовых походах за духовное совершенство человечества.
Он начал вступать в различные общества и организации: стал членом масонской ложи, членом братства Чудаков[165] и общества Маккавеев. В день поминовения он обратился с речью к общему собранию ветеранов Гражданской войны, и он же произнес приветственное слово на встрече местного депутата в конгресс, возвратившегося в родные пенаты признанным чемпионом палаты представителей по игре в покер.
Помимо трудов на пути к совершенству, пребывание в Валкане было также отмечено, во-первых, появлением на свет двух отпрысков — Ната, в 1916 году, и Бернис, прозванной Банни, — в 1917-м и, во-вторых, тем, что Элмер отказался от попыток просветить жену в области любовной науки соответственно собственным взглядам.
Произошло это через месяц после рождения Банни,
В тот вечер Элмер произнес речь на обеде в спортивном клубе Удочка и Ружье. Он отметил, что создатель, безусловно, благоволит к охотникам и рыболовам, ибо, сказал он:
— Мне хотелось бы, друзья, обратить ваше внимание на следующий факт: подыскивая себе первых учеников, наш учитель выбрал не каких-нибудь сутулых и косолапых слюнтяев, а двух первоклассных рыбаков!
В ответ раздался дружный хохот собравшихся, и Элмер вернулся домой, опьяненный успехом.
Со времени рождения Банни он спал в комнате для гостей, но сейчас, в веселом настроении, на цыпочках вошел в одиннадцать часов в комнату Клео с тем деланно-невинным видом, который мгновенно и с ужасом замечают холодные жены.
— Ну, душа моя, все прошло великолепно! Речь понравилась всем, и очень. Ну, а ты как, моя заброшенная девочка? Безобразие — спишь здесь совсем одна! Бедная детка! — Он погладил ее по плечу. — Видно, придется мне сегодня ночевать здесь!
Прислонившись спиною к подушкам, тяжело дыша, Клео попыталась ответить решительным тоном:
— Нет, пожалуйста! Еще рано…
— Что такое?
— Прошу тебя! Я сегодня устала. Поцелуй меня на ночь — и все. Ладно? И дай мне уснуть!
— Иными словами, вашему величеству мои нежности не требуются, так? — Он прошелся по комнате. — Ну-с, милая моя, настало время поговорить начистоту! Я думал, ты сама догадаешься, я намекал, терпел молчал, но сколько можно! Нет, черт возьми, тебе слишком многое сходит с рук! Еще и прикидываться начала… «Поцелуй меня на ночь — и все!» Еще бы! Я должен стать монахом! Покладистым муженьком, предметом в хозяйстве, из тех, что и пикнуть не смеют, если супруга не одобряет их манеру обниматься. Ну нет, милочка, ошиблась. Не на такого напала. Ты что, вообразила, что раз я священник, значит, уж не мужчина?.. Ты даже не даешь себе ни малейшего труда хоть капельку поучиться не быть рыбой! Ты так ведешь себя, словно терпеть меня рядом — тяжкий труд! Можешь поверить, на свете есть женщины гораздо лучше и красивее тебя — да, да, и гораздо более набожные! И им почему-то кажется, что я совсем не противен. Я твоих штук не потерплю… И хоть бы раз, хоть бы разочек постаралась — так нет же!..
— Ах, Элмер, я старалась! Честное слово, старалась! Если б ты только был со мной ласковее и терпеливее с самого начала, я, возможно, и научилась бы…
— Чушь! Идиотская болтовня! Просто ты всегда боялась смотреть в лицо суровой правде жизни — вот в чем твоя беда. Ну, а мне это надоело, понятно? Можешь катиться ко всем чертям! И будь покойна — больше я к тебе не приду!
Он хлопнул дверью и ночью с удовольствием прислушивался к ее рыданиям. И почти целый месяц держал свое слово и не трогал ее. Мало-помалу он и вовсе перестал подходить к ней — теперь они всегда спали в разных комнатах.
И все это время он был почти так же озадачен и несчастлив, как и его жена; и всякий раз, встречая прихожанку, которая не прочь была его утешить, или, уезжая в Спарту по неотложным, хоть и необъяснимым делам, он испытывал не торжествующую и самодовольную гордость, но чувство вины, гнетущее ощущение своей греховности, которое он изливал, все более яростно кляня именно этот грех с высоты кафедры.
— Господи, если б только я мог остаться с Шэрон, я был бы приличным человеком, — сетовал он, полный сострадания ко всем печалям мира. А на другой же день неистовствовал, врачуя свое горе: — Но пусть они знают, эти содержатели дансингов, эти развратители милых, невинных девушек, те, кто увлекает людей в бездну смерти и ужаса, — пусть они знают, что их ждет возмездие, что они будут гореть в преисподней, в самом пекле ада, гореть, в буквальном смысле слова — гореть! А мы, глядя на их страдания, только возрадуемся, что божие правосудие свершилось и восторжествовало!
II
За время двухлетнего пребывания в Спарте — с 1918 по 1920 год — имя преподобного Элмера Гентри стало приобретать широкую известность в пределах штата. Весною 1918 года он был одним из самых доблестных защитников Среднего Запада от неминуемого вторжения немцев. Он стал членом организации Фор-минитмен[166]. Он с жаром клеймил жестокость немецких солдат и успешно продавал облигации военного займа. Он грозился бросить Спарту, предоставив ей погрязнуть в грехах, и пойти в армию капелланом, чтобы «заботиться о наших славных воинах», и, быть может, даже осуществил бы свою угрозу, если б война затянулась еще на год.
В той же Спарте он постепенно перешел от сравнительно робких церковных объявлений к таким эффектным и даже сенсационным, что, вероятно, сам дьявол был потрясен, читая их! Во всяком случае, каждый воскресный вечер они приводили в церковь человек шестьсот восхищенных грешников, а после одной проповеди об ужасах пьянства некий не слишком трезвый содержатель питейного заведения, удовлетворенно крякнув, выложил на блюдо для сбора пожертвований пятидесятидолларовую бумажку.
При всех успехах рекламного дела до сего дня в торговле спасением душ еще не создано более действенной рекламы, чем принадлежащая перу Элмера Гентри поэма в прозе, помещенная в одном из субботних номеров журнала «Спарта уорлд-кроникл» в декабре 1919 года:
«КАК БЫ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ, ЕСЛИ БЫ ВАША МАТЬ КУПАЛАСЬ БЕЗ ЧУЛОК?
По душе ли вам старомодная женская скромность, которая не мешает любить и смеяться и вместе с тем делает женщину символом божественной добродетели, так что слезы наворачиваются на глаза, когда вспоминаешь о трогательной женской нежности? Хотелось ли бы вам видеть, как ваша родная и любимая матушка купается на смешанном пляже или танцует этот поистине бесовский уан-степ?
ПРЕПОДОБНЫЙ ЭЛМЕР ГЕНТРИ
ответит вам на эти и многие другие вопросы в воскресенье утром. Гентри называет вещи своими именами.
МЕТОДИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА ПОПЛАР-АВЕНЮ
В прекрасную церковь ступай за толпой,
Изведаешь счастье в молитве святой».
III
Там же, в Спарте, Элмера застал общегосударственный сухой закон, давший церковным ораторам столь богатый и красочный материал для проповедей. И в Спарте же Элмер задумал и провел свою величайшую политическую кампанию.
Явно подходящим и респектабельным кандидатом на пост мэра Спарты был некий Христианский Бизнесмен, пресвитерианин, владелец фабрики резиновых галош. Правда, его обвиняли в том, что в принадлежащих ему же зданиях помещаются самые низкопробные публичные дома и тайные питейные притоны города, но все это было вполне убедительно объяснено: несчастный джентльмен не смог выкинуть на улицу своих съемщиков; к тому же почти все свои доходы с недвижимого имущества он отдает на миссионерскую работу в Китае.
Его соперник был человек, с точки зрения Элмера, во всех отношениях неприемлемый: еврей-адвокат, радикал, обвиняющий церкви в неуплате налогов, гоняющийся за сенсацией и дешевой славой, бесплатно защищающий в суде профсоюзы и негров. Элмер посоветовался с членами своего приходского совета, и те единодушно согласились, что поддерживать надо только пресвитерианина. Что же касается еврея-радикала, то, как отметил совет, его беда заключается в том, что он не только радикал, но еще и еврей!
И все же Элмер не успокоился. Да, он, возможно, и не так уж много имел против домов терпимости, как можно было заключить по его речам с кафедры. Да, он, безусловно, одобрял позиции пресвитерианина, заявившего, что «не следует пускаться на опасные эксперименты в управлении страной, разумнее стойко придерживаться испытанной политики и методов ведения хозяйства, существующих при нынешней администрации». Но, беседуя с прихожанами, Элмер обнаружил, что простой народ (а надо сказать, что простой, самый простой народ и составлял наибольший процент его паствы) ненавидит пресвитерианина и, как ни странно, души не чает в еврее.
— Он очень добр к бедным людям, — говорили прихожане.
И Элмера: как он выразился сам, «осенило». «Чистая публика вся, как один, будет за этого типа Мак-Гарри, — размышлял он. — Но будь я проклят, если не победит еврейчик! Тот, кто его поддержит, после выборов будет на коне…»
Он выступил за еврея — и как! Газеты подняли шум, пресвитериане призывали на его голову громы и молнии, раввины только посмеивались.
Элмер вел бой не только с высоты своей кафедры, его речи гремели то на одном, то на другом предвыборном митинге. Однажды его закидали гнилыми яйцами в одном из залов поблизости от района, где были расположены злачные заведения. В другой раз на него полез с кулаками какой-то торговец запрещенными спиртными напитками и доставил этим Элмеру истинное удовольствие.
Торговец, пузатый и разгневанный, вскарабкался на церковный помост и двинулся на Элмера, размахивая кулаками и рыча:
— Ах ты подлая церковная крыса! Ну, я тебе покажу, брехун проклятый!..
Пастор исчез, и на его месте вновь загорелось забытое светило тервиллингерской команды. Элмер был спокоен, как в схватке на футбольном поле. Он шагнул вперед, оценивающим взглядом наметил подходящую точку на нижней челюсти детины и нанес точный, мощный удар. Торговец грохнулся на пол. Не удостоив его даже взглядом, Элмер повернулся к кафедре и продолжал свою речь как ни в чем не бывало. Вся аудитория поднялась на ноги и разразилась восторженными аплодисментами, а Элмер Гентри стал на секунду самым знаменитым человеком в городе.
Газеты признали, что он заметно влияет на ход кампании; одна из них перешла на его сторону. Он с такой доблестью защищал добродетель и женскую чистоту, так гневно клеймил пьянство, что возражать ему значило признать себя распутником.
На деловом собрании его прихода разгорелись жаркие споры по поводу его деятельности. Когда главный попечитель, друг пресвитерианского кандидата, объявил, что уйдет из прихода, если Элмер не прекратит свое участие в кампании, какой-то старичок сторож крикнул:
— А если преподобный не будет продолжать, то уйдем мы все!
Раздались веселые и непочтительные аплодисменты. Элмер сиял.
Кампания приняла столь воинственный характер, что в Спарту наехали репортеры зенитских газет и в их числе знаменитый Билл Кингдом из зенитской «Адвокат-таймс». Элмер любил репортеров. Они писали о нем по всякому поводу, начиная от преподавания закона божьего в школе и кончая мандатом на Армению[167]. Он предусмотрительно называл их не «ребята», а «джентльмены», не хлопал слишком часто по плечу, угощал превосходными сигарами и каждому говорил:
— Боюсь, что не смогу беседовать с вами, как полагается священнику. Этого с меня хватает и по воскресеньям. Я буду говорить как простой американец, которому хочется жить и воспитывать своих детишек в городе, где нет грязи.
Биллу Кингдому он, в общем, понравился, и на третьей полосе зенитской «Адвокат-таймс» — Громовержца штата Уиннемак[168] — появилась статья о «священнике-крестоносце» и фотография Элмера с выброшенной вперед и сжатой в кулак рукою, словно наносящей сокрушительный удар всем сластолюбцам и злодеям на свете.
Спартанские газеты перепечатали эту статью и ссылались на нее с благоговением.
Кампанию выиграл еврей.
И сразу же вслед за этим — хотя до конференции 1920 года оставалось еще добрых шесть месяцев — Элмера вызвал к себе епископ Тумис.
IV
— На первых порах, — сказал епископ, — я боялся, что вы делаете большую ошибку, ввязываясь в эту предвыборную кампанию в Спарте. В конце концов наша миссия состоит в том, чтобы проповедовать чистое евангелие и спасение во Христе, а не в том, чтобы баловаться политикой. Но вы добились такого успеха, что вас можно простить. Итак, настало время… На ближайшей конференции я смогу наконец предложить вам церковь здесь, в Зените, и церковь очень большую, но такую трудную, что от вас потребуется поистине героическая энергия. Я имею в виду старую Уэллспрингскую церковь, что на углу Стэнли— и Додсворт-авеню, в так называемом Старом городе. В свое время это была самая модная и деятельная методистская церковь Зенита, но затем этот район пришел в упадок. И при нынешнем пасторе — вы его знаете — это старик Сирир, благородный христианин и высокой души человек, но скверный оратор, — число прихожан сократилось с тысячи четырехсот человек примерно до восьмисот. Я вовсе не уверен, что на утренней службе присутствует хотя бы человек сто. Позор, Элмер, стыд и позор, что великолепный храм, предназначенный для того, чтобы нести духовную пищу такому множеству душ, приходит в упадок и даже ни цента не дает на наши миссии! Вот я и подумал: не сможете ли вы его возродить? Съездите, посмотрите церковь, оглядитесь по сторонам и скажите, что вы решаете. Быть может, вы предпочтете остаться в Спарте. Жалованье в Уэллспринге у вас будет меньше, чем в Спарте. Вы получаете четыре тысячи в год, верно? Но если вы поднимете церковь, то, конечно, приходский совет вознаградит вас по заслугам.
Церковь в Зените! Элмер был готов — почти — взять ее вообще без всякого жалованья! Он уже видел себя доктором богословия, епископом, ректором колледжа, пастором сказочного прихода в Нью-Йорке.
Методистская церковь в Уэллспринге оказалась безобразной громадой из серого камня, с грязноватыми окнами и высоким, выложенным унылыми рядами зеленой и красной черепицы шпилем с оловянными водосливами, украшенными химерами. Район был когда-то фешенебельным, но кирпичные особняки, некогда горделиво возвышавшиеся среди газонов и садов, были теперь запущены и неприглядны, превратились в дешевые меблированные дома с гастрономическими лавками в нижних этажах.
— Черт, этот райончик уже никогда больше не оживет. Слишком много этих гадов «hoi polloi»[169]. Итальяшки, голытьба. На десяток кварталов, может, один выложит на блюдо больше десяти центов. Ничего не выйдет. Очень надо открывать бесплатную столовую да упрашивать грязных бродяг прийти ко Христу! Благодарю покорно!
Но вот за квартал от церкви он увидел новый жилой дом. Рядом зиял котлован для фундамента.
— Хм-м… А пожалуй, может и вырасти жилой массив… Не надо торопиться с выводами… Да и потом, — благочестиво добавил про себя преподобный Элмер Гентри, — разве здешний народ не нуждается в евангелии точно так же, как чванные толстосумы с Ройял-риджа?
При содействии своего старого знакомого Джила О'Херна, владельца отеля, Элмер встретился с солидным строительным подрядчиком и расспросил его о шансах на урожаи с уэллспрингского виноградника.
— Да, в этом районе определенно построят в ближайшие пять лет много жилых домов, и очень неплохих. Будет в Старом городе строительная горячка. Во-первых, близко к деловой части города, во-вторых, достаточно далеко от центральной станции, тут нет под боком товарных складов и оптовых баз. Покупайте, ваше преподобие, не прогадаете.
— Да я не покупаю, я как раз продаю… Торгую словом божьим! — сказал его преподобие и отправился сообщить епископу Тумису, что после молитв и размышлений решился принять назначение в Уэллспрингский приход.
Так, тридцати девяти лет от роду Цезарь вошел в Рим, и Рим немедленно узнал об этом.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
I
Теперь он уже не стоял у алтаря, умиленно давая обет быть добродетельным и благочестивым. Теперь, впервые деловито обходя Уэллспрингскую методистскую церковь в Зените, он был похож на нового директора фабрики, и его первое замечание было:
— Машина сдала, нужен капитальный ремонт.
Во время этого инспекторского осмотра Элмера сопровождал весь его личный состав: секретарь церкви и личный секретарь пастора мисс Бандл, увядшая и плаксивая дева, лишенная каких бы то ни было признаков обаяния, член приходского совета мисс Уизиджер, в равной степени склонная к тучности и к добрым делам, и А. Ф. Черри, органист и регент хора, работающий по совместительству.
Элмер был недоволен, что приход не может выделить ему ни помощника пастора, ни заведующего религиозным воспитанием. Ничего, появятся, и очень скоро, и он ими будет командовать! Красота!
Он увидел главный зал, в котором могли поместиться до тысячи шестисот человек, но отталкивающе мрачный, с окнами в грязных подтеках, с коричневыми оштукатуренными стенами и чугунными колоннами, Задняя стена алтаря была выкрашена в траурно-синий цвет; звезды, нарисованные на ней, уже давно не мерцали; темная дубовая кафедра была увенчана нелепой зеленой бархатной подушкой с кистями, выцветшей и потертой. Общее впечатление от зала было унылое, отталкивающее; пустые ряды темно-коричневых скамей печально глядели на Элмера.
«Ничего не скажешь, бодрая компания христиан спланировала здесь все так мило. Ладно, у меня тут через пять лет будет новая церковь, светлая, веселая, в готическом стиле, с современным учебным оборудованием, со специальными аудиториями для церковных обществ и кружков», — размышлял новый священник.
Помещение для воскресной школы было достаточно просторное, но запущенное: на полу валялись растрепанные молитвенники; в кухне для церковных ужинов, помещавшейся в подвальном этаже, стояла старинная неуклюжая печь и горы битых тарелок. Кабинет и канцелярия самого Элмера выходили на забитый машинами двор какого-то гаража и не проветривались. Орган, по словам мистера Черри, страдал сильной одышкой.
«Да ладно, — рассуждал потом сам с собою Элмер, — мне-то что! Места хватит, а уж народ сюда затащить — это моя забота! Пойдут как миленькие… Боже, ну и чучело эта Бандл! Надо будет добыть себе расторопную секретаршу, хорошенькую! Ну, за дело! Ура! Покажем этому городу, что такое первоклассный проповедник!»
Только через три дня ему пришло в голову, что Клео, быть может, тоже хочется посмотреть на церковь.
II
Хотя в Зените было почти четыреста тысяч жителей, а в Банджо-Кроссинге только девятьсот, банкет в честь Элмера, устроенный в подвальном этаже Зенитской церкви, был удивительно похож на торжество в подвальном этаже церкви в Банджо. Те же грубоватые братья с мозолистыми руками, те же пышнотелые сестры, великие мастерицы по части пончиков и пирогов, те же низенькие, расторопные деловые люди, любители посмеяться и отпустить благочестивую шуточку. То же домашнее мороженое и доморощенное красноречие. Но только народу тут было в пять раз больше, чем в Банджо, а Элмер всегда обожал количество. И потом среди недавней деревенщины попадалась и другая публика. Преуспевающие специалисты различных профессий, элегантные женщины, хорошенькие девушки, о которых с одного взгляда можно было сказать, что они посещают танцевальную школу и будут посещать, что бы там ни предписывало методистское учение.
Элмеру было весело с ними, он любил их всех — своих, как он выразился, «братьев-крестоносцев, которые решительным шагом идут вперед к победе царства божия на земле».
Ему нетрудно было установить, кто из присутствующих членов приходского совета более других достоин его внимания. Мистер Эрнест Апфелмус, один из церковных старост, был владелец кондитерской фирмы Жемчужина Океана и смахивал на пухлого и растерянного мальчишку, внезапно раздувшегося до гигантских размеров. Мисс Бандл шепнула, что он ужасно богат и не знает, куда девать деньги, кроме как на брильянты жене да на божьи дела. И Элмер преданно ухаживал за мистером Апфелмусом и его супругой, которая, кстати, очень недурно владела английским.
Но еще более значителен, хоть и не так богат, был, как понял Элмер, Т. Дж. Ригг, знаменитый адвокат-криминалист и попечитель Уэллспрингской церкви.
Мистер Ригг был мужчина невысокого роста, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, с лукавым и умным взглядом. Элмер мгновенно определил, что такой человек должен быть чудесным собутыльником. У его жены был заразительный смех и девичье личико, круглое, голубоглазое, с гладкой кожей, хотя ей было уже за пятьдесят.
— С этими можно играть в открытую, — решил Элмер, стараясь держаться к ним поближе.
— Слушайте, преподобный отец, — предложил ему Ригг, — отчего бы вам и вашей супруге не заглянуть сегодня к нам после банкета? Можно будет отдохнуть, посмеяться, прийти в себя после этого рукодельного кружка.
— Я бы с большим удовольствием! — Элмер смекнул, что если он хочет действительно чувствовать себя в своей тарелке, то нельзя брать с собой Клео. — Только жаль, у жены, у бедненькой, страшно разболелась голова. Подбросим ее домой, а потом я поеду к вам.
— Когда пожмете еще пару тысяч рук?
— Именно!
Элмер был приятно поражен, когда выяснилось, что у мистера Ригга свой лимузин и свой шофер, — Элмеру не так уж часто доводилось разъезжать в лимузинах. Приятно все-таки, когда твои братья во Христе не испытывают недостатка в благах земных… В то же время при виде лимузина он стал держаться с Риггом более сдержанно, почтительно и елейно, и когда они доставили Клео в отель, Элмер изящно откинулся на бархатное сиденье и, поэтически взмахнув рукою, молвил:
— Какой сердечный прием оказали мне эти милые люди! Я так им благодарен! Воистину проявление высокого духа…
— Слушайте! — фыркнул Ригг. — С нами благочестие не обязательно. Мы с моей старушкой — стреляные воробьи. Мы любим религию, любим добрые старые гимны — это память о нашем родном захолустье. По-нашему, религия — отличное средство держать в руках народ: пусть лучше думают о высоких материях, чем о высокой зарплате, стачках и беспорядках, от которых так страдает наша промышленность. А кроме того, мне по душе хороший, энергичный проповедник, который умеет показать товар лицом. Поэтому я и стал попечителем. Но мы сами не так уж набожны. Так что, когда вам захочется дать себе передышку, а я думаю, что такому здоровенному малому, как вы, тошно слушать все время, как хнычут сестрицы во Христе, приходите к нам запросто, и, если вздумаете выкурить сигару или даже пропустить рюмочку, как порою делаю и я, грешный, мы вас отлично поймем. Верно я говорю, жена?
— Спрашиваешь! — отозвалась миссис Ригг. — А я сбегаю на кухню и, если кухарки не будет дома, сама поджарю вам яичницу. Да и пива бутылочка всегда найдется в холодильнике — смотрите только не проболтайтесь кому-нибудь из братьев. Идет?
— Еще бы! — обрадовался Элмер. — Само собой! Только я-то сам вот уж несколько лет, как не пью и не курю. Раньше, конечно, всякое было, а потом бросил совсем и теперь не хочется идти на попятный. Ну, а вы, естественно, валяйте. И знаете, какое это облегчение, когда в твоем приходе есть человек, с которым можно говорить свободно и не бояться, что он упадет в обморок! Ведь эти святоши, которые благочестивей самого господа бога, — они ни за что не дадут священнику вести себя просто, по-человечески!
Просторный и не очень новый дом Риггов был забит книгами — причем видно было, что здесь их читают, — книги по истории, биографии замечательных людей, записки путешественников… В маленькой гостиной с пылающим камином и широкими мягкими креслами было уютно, но миссис Ригг здесь не сиделось.
— Пошли на кухню, сочиним гренки с сыром! Обожаю готовить, но не смею сунуть нос в кухню, пока прислуга не ляжет спать.
Итак, первая беседа Элмера с Т. Дж. Риггом, которому суждено было стать единственным его настоящим другом после Джима Леффертса, состоялась в огромной кухне, за сверкающим белой эмалью столом, вокруг которого хлопотала миссис Ригг, потчуя мужчин гренками с сыром, салатом из сельдерея, холодной курицей — словом, всем, что нашлось в холодильнике.
— Мне нужен ваш совет, брат Ригг, — сказал Элмер. — Хотелось бы, чтобы первая проповедь прозвучала сенса… так, чтоб люди навострили уши и слушали. Тему надо сообщить завтра, чтобы успели подготовить объявление. Не подпустить ли немного пацифизма?
— М-м…
— Знаю, знаю! Во время войны я, конечно, был таким же патриотом, как всякий другой, вступил в Фор-минитмен, еще месяц — уж был бы в военной форме. Но, честное слово, теперь, когда война благополучно завершилась, все кричат о пацифизме — крупнейшие проповедники страны, и как их слушают! А здесь, в Зените, насколько мне известно, еще никто не трогал эту тему. Можно бы произвести большое впечатление…
— Что ж, верно. Отчего бы не стать пацифистом, пока новой войны не предвидится? Вполне разумно.
— Или, может, взять что-нибудь поблагороднее, назидательнее, с эдаким поэтическим уклоном? Как по-вашему? Вы ведь знаете здешнюю публику. Может, такая проповедь произведет больше впечатления? Или что-нибудь сильное, обличительное, смело бичующее порок? Знаете, пьянство, безнравственность — короткие юбки и прочее — ха, черт побери: у девиц юбки, что ни год, то короче!
— Я лично за последнее, — сказал Ригг. — Верное дело. Ничего нет лучше хорошей смачной проповеди о пороке. Да, сэр! Решительный бой пьянству и ужасающей половой распущенности, а то действительно все это принимает чудовищные размеры. — Мистер Ригг задумчиво смешал себе коктейль — виски с содовой, кусочек льда — не слишком крепкий: наутро ему предстояло защищать в суде некую особу, обвиняемую в злостном шантаже своих любовников. — Да-да. Кое-кто говорит, будто такие проповеди — сенсационная трескотня и только, но я на это всегда говорю одно: если священник таким путем заставляет народ ходить в церковь — а ведь очень немногие представляют себе, как трудно составить хорошую проповедь о пороке: чтобы и пробрало как следует и в то же время не получилось чересчур непристойно — так вот: надо только залучить людей в церковь, а там уж, пожалуйста, угощайте их старой, доброй, прочной религией, показывайте путь к спасению, учите соблюдать законы и добросовестно зарабатывать свои честные трудовые деньги, а не считать с утра, много ли осталось до конца рабочего дня, как мои чертовы клерки! Да-да, если вам нужен мой совет, берите порок… Слушай, ма, думаешь, его преподобие не обидится, если мы ему расскажем тот анекдотец про горничную и коммивояжера — помнишь, Марк рассказывал?
Элмер не обиделся. Больше того: у него был тоже наготове анекдотец ничуть не хуже. Домой он отправился в час ночи.
«С этой парой можно славно проводить время, — размышлял он, с наслаждением развалившись в такси. — Только со стариной Риггом надо держать ухо востро. Он стреляная птица и не прочь меня поймать… — И тут же возмущенно одернул себя: — А между прочим, что значит „поймать“? Что это я, правда? И ловить нечего! Пить отказался, от сигары тоже отказался — разве нет? Никогда не ругаюсь, разве что когда выйду из себя… Веду истинно христианскую жизнь! И, кстати, привожу в лоно церкви в сто раз больше душ, чем любой святоша-трезвенник, который боится смеха и веселья хуже чумы. „Поймать!“ Черта с два!»
III
В субботу утром среди церковных объявлений в зенитских газетах появилось сообщение о первой проповеди Элмера, напечатанное на двух столбцах. Тема звучала многообещающе: «Может ли приезжий найти в Зените притоны порока?»
Да, может, и без всякого труда, — заявил Элмер в своей проповеди. Он сказал это перед аудиторией в четыреста человек, если не больше, хотя обычно на утренних богослужениях набиралось не более сотни.
Он сам новый человек в Зените, и вот он пошел по городу и был «потрясен — нет, ошеломлен, охвачен ужасом», на каждом шагу сталкиваясь с пороком — и каким заманчивым, привлекательным пороком! Он обследовал Браунс-Айленд, шумный пляж, танцевальную площадку, ресторан в южной части Зенита; он обнаружил, что мужчины и женщины купаются вместе! Он живописно изобразил женские ножки, описал двух милых молоденьких женщин, которые к нему привязались на улице. Он рассказал про официанта из ресторана Брауна, который хоть и отрицал, что в ресторане продают спиртные напитки, был готов сообщить ему, где их можно достать и где найти ночной игорный дом. «Играют в покер и при этом на деньги, понятно?» — пояснил Элмер.
На Вашингтон-авеню, в северной части города, он обнаружил два кинотеатра, в которых «гнусные и размалеванные поставщики зловонного порока» — Элмер имел в виду киноактеров — танцевали на экране с двусмысленными телодвижениями, при виде которых щеки всякой приличной женщины покрылись бы краской стыда, и где все те же поставщики распивали напитки, которые, как он понял, представляли собою не что иное, как смертоносные коктейли. На обратном пути в гостиницу после посещения этих кинотеатров к нему прямо на ярко освещенной улице пристали три особы легкого поведения. Праздношатающиеся гуляки (к которым ему, по-видимому, легко удалось войти в доверие) рассказывали о тайных кабачках, торговцах наркотиками, притонах изощреннейшего разврата.
— Вот, — восклицал Элмер, — что может какой-нибудь приезжий найти в нашем — отныне и моем горячо любимом городе! Но может ли он столь же легко найти добродетель, а? Может ли, скажите мне? Или же он найдет лишь покладистых прихожан, которые прохлаждаются в свое удовольствие в то время, как справедливый господь угрожает граду сему огнем и всепожирающей серой, что уничтожили Содом и Гоморру в их гордыне и скверне! Братья! С помощью всесильного бога создадим же здесь, в этой церкви, оплот добродетели, которого ни один чужой не сможет не заметить! Мы ленивы. В нас не горит праведный огонь благочестия. На колени же, о нерадивые христиане, и молитесь, чтобы бог простил вас и помог создать братство ревностных, бодрых, пламенных последователей каждой заповеди господа бога нашего!
Газеты напечатали проповедь почти целиком… Так уж случилось, что в церкви присутствовали репортеры; Элмер (тоже по чистой случайности) зашел в субботу в «Адвокат-таймс», случайно вспомнил, что встречался с репортером «Адвоката» Биллом Кингдомом в Спарте и совершенно случайно, просто желая помочь доброму старому Биллу подработать деньжат, сообщил ему, что в это воскресенье в его церкви произойдет нечто весьма интересное.
В следующую субботу Элмер дал такое объявление:
«ПРАВДА ЛИ ЭТО, ЧТО РЯДОМ С НАМИ
ШНЫРЯЕТ НАСТОЯЩИЙ ДЬЯВОЛ
С РОГАМИ И КОПЫТАМИ?»
В воскресенье в церкви собралось уже восемьсот человек. А через два месяца Элмер — все более уверенно и эффектно — выступал с проповедями перед аудиторией более многочисленной, чем в любой другой церкви Зенита, не считая, быть может, четырех или пяти.
Но его коллеги-священники, а в особенности раздосадованные собратья-методисты брюзжали скептически: «Ах, просто новая сенсация. Его хватит ненадолго. Ни образования, ни закалки… Да и потом Старый город разваливается на глазах…»
IV
Клео и Элмер подыскали в Старом городе красивый старинный дом, и дешево (район был неважный). Элмер намекнул жене, что если он сам принес такую высокую жертву, согласившись переехать в Зенит на меньшее жалованье, то и ее отец, как ревностный христианин, обязан им помочь. Так что если ей не удастся заставить отца уяснить себе эту мысль, он, Элмер, к сожалению, будет вынужден на нее рассердиться.
Клео съездила в Банджо-Кроссинг и вернулась домой с двумя тысячами долларов.
У Клео был врожденный вкус, и она понимала толк в мебели. Для своего старинного дома, отделанного белыми панелями, она заказала стулья, комоды и столы в стиле старинной новоанглийской мебели. В гостиной сверкал белизною камин, и на нем стоял чудесный старинный канделябр из хрусталя.
— Шик! Не стыдно пригласить самый bon-ton, и, будь уверена, я скоро добьюсь, и чистая публика у меня валом повалит в церковь… Честное слово, иногда жаль, что я не пошел в епископальную церковь. И шику куда больше, и никто не поднимает вой, если пастор позволит себе опрокинуть рюмочку.
— О Элмер! Как ты можешь! Ведь методистская церковь — это…
— Боже ты мой! Хоть бы раз в жизни не искажала умышленно моих слов! Я, понимаете, рассуждаю в чисто философском плане, вовсе не конкретно, а она уже начинает, тут как тут…
В доме был наведен порядок. Пора было обратить внимание на свой гардероб. Он одевался обдуманно, как актер перед выходом на сцену. Для кафедры — по-прежнему визитка. Для церковного кабинета — подчеркнуто скромный пиджачный костюм — серый, коричневый или синий в полоску, — крахмальные воротнички, строгий синий галстук. Для выступлений перед довольно буйными членами дневных клубов шли мужественные, спортивные костюмы из твида и не менее мужественные отложные воротнички в сочетании с мужественным голосом и мужественными остротами.
Свои густые волосы он зачесывал назад с массивного квадратного лба, так что они, точно грива, ниспадали чуть пониже воротника. Жаль, правда, мало в них было седины, а то бы пророк, да и только…
Еще и месяца не прошло, как он поселился в Зените, а две тысячи уже растаяли без следа.
— Ничего, окупится, дело верное, — говорил Элмер, — познакомлюсь с тузами — увидят, что хоть и церковь — барахло и район — трущоба, да зато сам лицом в грязь не ударю, что тебе твой хлыщ из церкви на Чикасо-роуд.
V
Если в Банджо-Кроссинге Элмер изнывал от безделья, то в Зените он почти изнемогал оттого, что его разрывали на части. При Уэллспрингской церкви имелось десятка два различных общественных организаций, а Элмер еще удвоил их число, ибо ничто так не помогало добиться любви, гласности и пожертвований. Богатые старые гиены, никогда не ходившие в церковь, отвалят тебе сто, даже пятьсот долларов, если ты распишешь им, как матери, кутаясь в шали, приходят с глазами, полными слез, к пункту бесплатной раздачи молока.
Для бедных мальчиков и девочек из Старого города при церкви имелись кружки ручного труда, домоводства, гимнастики и птицеводства. Были созданы отряды бойскаутов и скаутов-девочек. Шли собрания комитета прихожанок, женского миссионерского общества, регулярно проводились церковные ужины перед молитвенными собраниями, курсы изучения библии для учителей воскресных школ, занятия кружка рукоделия, работали ясли и бесплатная столовая для бедных и больных, полдюжины клубов для юношей и для девушек, полдюжины кружков для матерей семейства, домашних хозяек, мужской клуб с ежемесячными обедами, на которые пастору вменялось в обязанность залучать бесплатно выдающихся ораторов. Воскресная школа напоминала маленький университет. И каждый день десятки посетителей шли к пастору за утешением, за советом, за денежной помощью: юноши, искушаемые соблазнами; вдовы, которым требовалась работа; старухи, которым нужна была уверенность в бессмертии; бродяги, взывающие о подаянии, и велеречивые агенты книжных магазинов. Если жители Банджо стыдились выставлять напоказ свои тайные горести, то здесь, в большом городе, всегда находились одинокие, которые тешились тем, что они чуточку не такие, как все, чуточку странные, чуточку не укладываются в рамки общепринятого — люди, которые жаждали говорить о себе и твердо рассчитывали на то, что священнику это всегда должно быть интересно.
У Элмера едва хватало времени готовиться к проповедям, хотя теперь он искренне стремился сделать их по-настоящему оригинальными и красноречивыми. Старых запасов уже явно не хватало. Надо было пополнить свой словарь и даже — куда ни шло — нахвататься новых идей из книг по биологии, из жизнеописаний великих людей, из политических передовиц.
Из дому он ежедневно выходил в восемь утра, после завтрака, за которым обычно осведомлялся у Клео, отчего она, черт побери, не может заставить Ната и Банни посидеть тихо, пока он читает газету, а возвращался не раньше шести, валясь с ног от усталости. А вечером нужно было заниматься… Он был вечно раздражен… Дети боялись его, даже когда на него нападала внезапная веселость и он решал на один вечер разыграть роль любящего родителя и катать их на спине, независимо от того, хотелось им кататься у него на спине или нет. Оба — Нат и Банни — должным образом страшились бога и чтили заповеди его, потому что их собственный отец был для них столь совершенным олицетворением этого бога…
Когда Клео была занята на церковных собраниях и кружках, Элмер корил ее за то, что она забывает о домашних обязанностях; когда она меньше занималась церковными делами, у него опять-таки был повод упрекнуть ее в том, что она плохо помогает ему в работе. И, конечно, по ее же вине у Элмера никогда не оставалось времени для утренней семейной молитвы — не могла получше наладить домашний распорядок дня… Впрочем, этот последний пробел он наверстывал особо рьяной молитвой перед трапезой, во время которой испепелял взглядом детей, если те осмеливались шелохнуться на стуле.
И вечно, вечно звонил телефон, и не только в его канцелярии, но и по вечерам дома.
Как дьяконисе мисс Уизиджер поступить со старой мисс Мэлли, которая требует новую ночную сорочку? Не может ли преподобный Гентри в этот вторник днем выступить в Клубе рекламы с краткой речью на тему «Реклама и Церковь»? Не может ли он в ближайший четверг в четыре часа — как раз когда у него собрание приходского совета — выступить в Музыкально-литературном клубе с речью на тему «Религия и Поэзия»? Церковный сторож докладывает, что нужно топить печь, а уголь еще не привезли. Какой совет может преподобный мистер Гентри дать молодому человеку, который хочет поступить в колледж и не имеет средств? Из какой книги взята цитата «Софокл „Эдипа“ написал одной ногой», которая была приведена в его проповеди в то воскресенье? Не согласится ли мистер Гентри выступить в эту пятницу в 9.15 в Линкольнской школе — милые детки будут так рады всякому его поучительному слову, а постоянный лектор прийти не может?.. Можно ли баскетбольной команде девочек занять сегодня вечером подвальное помещение? Пусть преподобный Гентри сейчас же приедет к Бену Т. Эверсу, 2616 Эплбистрит, в пяти милях от него, тут очень больна бабушка, и она нуждается в утешении. О чем это думал преподобный Гентри, когда говорил в прошлое воскресенье, что, быть может, слова «адский огонь» следует понимать лишь в возвышенном, переносном смысле — что он, не знает, что это противоречит евангелию от Матфея, глава V, стих 29: «…все тело твое было ввержено в геенну»? Нельзя ли сейчас же вернуть в типографию гранки церковного бюллетеня? Можно ли членам комитета Юго-западного женского клуба собраться завтра в кабинете мистера Гентри? Не произнесет ли преподобный Гентри речь на банкете «Общества благоустройства Старого города»? Не желает ли его преподобие купить подержанный автомобиль в отличном состоянии? Может ли преподобный Гентри…
— Боже правый! — стонал преподобный Гентри. — Что? Да нет, Клео, конечно, ты не можешь отвечать за меня! Но ты могла хотя бы постараться не напевать себе под нос, когда твой муж просто убивает себя, заботясь о всех этих проклятых идиотах, и приносит себя в жертву, и вообще!..
А письма!
Откликом на каждую проповедь был поток посланий, уведомляющих его о том, что он светлая надежда евангелизма, что он сам дьявол с раздвоенным копытом, вдохновенный оратор и заезженный патефон. После проповеди о райском блаженстве, которое он изобразил как вечный летний полдень на приморском курорте, почта одновременно принесла четыре нижеследующих отзыва:
«Спешу вам сообчить одну мысль очин важную стово время как я вас слушал в прошлое воскресенья пачему вы ни служете службу кажный вечир чтобы гаварить народу и пр. Нащет рая и страшной гиены нам нада спишить и спишить, церковь в тижелом палажение нада нам кто точно знаит про рай и про ад нам нада спишить да мы должны спасти преход везде призыват бога, наполнить людями церькви и апусташить этих праклятых театров.
Ваш довтарова присшестия,
Джеймс К. Уикс
2113А, Мак-Грю стрит».
«Пишущий эти строки — честный и стойкий христианин, которому хочется сказать вам, Гентри: единственное, что можно считать пристойным и уместным в вашей утренней проповеди в воскресенье, были заключительные слова: „Давайте же помолимся“, — но только вам скорее следовало бы сказать: „Давайте же я буду морочить вам голову“[170]. Своими малодушными восторгами по поводу радостей рая и боязнью подчеркнуть ужасы ада вы вызываете у людей беспечное, самодовольное настроение, в котором легко поскользнуться и впасть в грех. Вы притворяетесь, будто всерьез верите каждой букве писания, — на самом же деле вы атеист в овечьей шкуре. Я сам служитель божий и знаю, что говорю.
Ваш
Элмон Джуингс Стрейф».
«Слышал в это воскресенье вашу дрянную старомодную проповедь. Вы выдаете себя за либерала, но вы просто-напросто узколобый консерватор! Никто больше не верит буквально в рай или ад, так что вы сами делаете себя посмешищем вашими рассуждениями. Проснитесь и займитесь-ка основами современных наук.
Студент»
«Дорогой брат, ваша проповедь о рае в прошлое воскресенье была изумительна — я лучшей никогда не слышала. Я уже старуха, и здоровьем не могу похвастаться, и в моих болезнях и горестях — в особенности из-за внука, который стал пить, ваши чудесные слова дают мне такое утешение, что нельзя описать.
Ваша восторженная почитательница
м-с Р. Р. Гоммери».
Предполагалось, что на все эти письма, кроме, конечно, злобных анонимных, он должен отвечать, — отвечать, сидя в своей душной конторе, лицом к полке с книгами в черных переплетах и диктуя плаксивой мисс Бандл, которая вечно перевирала адреса, вечно печатала без интервала там, где надо было дать разрядку, и добивалась нужной скорости в печатании тем, что пропускала большую часть глаголов и прилагательных.
VI
Если Элмер был раздражителен и в будние дни, то воскресенья были для его запуганного семейства сущим адом, когда главное было не попадаться ему на глаза, а сам Элмер всякий раз переживал то напряжение, которое переживает актер в день премьеры.
В семь утра он уже сидел за столом, просматривая заметки для проповеди, готовясь к речи в воскресной школе и рыча на Клео:
— Господи боже, хоть сегодня могла бы подать завтрак вовремя!.. И неужели, черт побери, тебе трудно вызвать истопника, чтобы мне не приходилось замерзать, когда я работаю?
В без четверти десять он уже был в воскресной школе, и ему часто приходилось самому проводить занятия по изучению библии с огромным классом, объясняя наиболее туманные места, основываясь на своих познаниях древнееврейского и древнегреческого языков, недоступных пониманию мирян.
Утренняя церковная служба начиналась в одиннадцать. Теперь, когда его аудитория часто составляла уже тысячу человек, Элмер, украдкой выглядывая в зал из своего кабинета, испытывал профессиональный страх перед выходом на сцену. Сможет ли он овладеть их вниманием? Ах, дьявольщина, да что ж это он собирался сказать о причастии? Он не мог вспомнить ни слова!
Нелегко было снова и снова убеждать тех, кто еще не обрел спасения, выходить вперед, и убеждать так, будто он действительно верил, что они выйдут, и будто ему не было решительно все равно, сделают они это или нет. И в день причастия, когда прихожане стояли на коленях вокруг алтаря, было совсем нелегко удержаться от смеха, глядя на ханжеские лица и строго поджатые губы достойных братьев, которые, как он знал, были в миру прожженными мошенниками.
Нелегко было с надлежащим убеждением повторять, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, будет ввергнут в геенну огненную — особенно когда в переднем ряду сидит и глядит на тебя с восторгом хорошенькая девушка. А самое трудное начиналось после проповеди, когда его дело было сделано, когда он был измучен и мечтал отдохнуть, а надо было пожимать руки старым и благочестивым девам-прихожанкам и без тени улыбки слушать их бессвязный лепет, что он среброкрылый ангел, а они — родственные ему души.
Придумывать для каждой новую остроумную и благочестивую шутку в ответ! Видеть, как рослые, спортивного вида мужчины поглядывают на тебя, словно ты старая баба в штанах!
К тому времени, как он возвращался домой к воскресному завтраку, он уже искал повод для того, чтобы почувствовать себя обиженным и объявить, что его недооценивают, мучают, злоупотребляют его добротой, — и обычно находил такой повод.
А ведь ему еще предстояла в этот день вечерняя воскресная служба и часто — собрание Эпвортской Лиги, а иногда и специальное заседание в четыре часа. И если дети нарушали его воскресный послеполуденный сон, Элмер неизменно обрушивался на них с красноречием, достойным гневного пророка. Безобразие! Единственное, что он требует от Ната и Банни, — это чтобы они, как дети методистского священника, не бегали по улицам и в парке в благословенный воскресный день и чтобы их не было слышно в доме! Он говорил им, и очень часто, что они совершают беспримерный грех, заставляя его сердиться, что отнюдь не подобает служителю господа.
И при столь тяжких трудах, при столь явно недостаточном сочувствии со стороны членов собственной семьи он все-таки твердым шагом продвигался вперед.
VII
С епископом Тумисом Элмер продолжал оставаться в самых дружеских отношениях.
В первые же дни по приезде в Зенит он посоветовался и с епископом, и с хитрым и умным адвокатом-попечителем Т. Дж. Риггом о том, с кем из собратьев-священников стоит сойтись поближе.
Из числа священников — не методистов ему назвали доктора Дж. Проспера Эдвардса, высокообразованного пастора-конгрегационалиста, доктора Джона Дженнисона Дрю, энергичного и благочестивого пастора пресвитерианской церкви на Четем-роуд, затем стойкого баптиста, преподобного Хозию Джессупа и Виллиса Форчуна Тейта, который хоть и состоит в епископальной церкви и очень шаток в таких вопросах, как спиртные напитки и ад, уготованный грешникам, собрал в своем стаде самую шикарную и богатую паству в городе. А если Элмер способен выносить членов секты Христианская наука с их надменной уверенностью в том, что лишь они одни владеют истиной, то стоит еще присмотреться к прославленному пастору Первой церкви Христианской науки мистеру Ирвингу Тиллишу.
Что же касается методистских священников Зенита, то их Элмер имел возможность видеть и изучать каждый понедельник на регулярных утренних собраниях в часовне Центральной церкви. Они были похожи на группу преуспевающих и энергичных дельцов. Только двое из них носили пасторские жилеты, но и из них лишь один, в виде уступки папству и ересям Кентерберийского собора[171], надевал свой воротничок задом наперед. Еще несколько были похожи на фермеров или на франк-масонов[172], но большинство было невозможно отличить от владельцев розничных магазинов. Преподобный Четертон Уикс носил красные носки «фантази», шелковые носовые платки и перстень с огромным изумрудом, напоминая собою веселый персонаж из водевиля. Никто не держался святошей. Они хлопали друг друга по плечу, называли просто по имени, перебрасывались шуточками: «Я слышал, вы прибрали к лапам всех до одного в городе, а, старая лиса?» — а те, кто был посмелей и поудачливей, не моргнув глазом, пересыпали свою речь кощунственным «черт побери!».
Простодушный мирянин был бы несказанно изумлен, увидев, как они сидят на скамьях рядами, точно школьники, слушают почему-то не сообщение о кредитах и упадке торговли скобяным товаром, а краткие, но содержательные сообщения о делах религии. Впрочем, равновесие поддерживалось достаточным количеством выступлений на деловые темы: какую конструкцию церковных скамей следует считать наиболее удобной; стоит ли рассылать прихожанам открытки с таким текстом: «Где вы пропадали в это воскресенье, старина? Нам, право же, очень недоставало вас в воскресной школе для взрослых»; какой счетчик лучше всего использовать во время специальных денежных сборов: в виде огромного термометра, исполинских часов или гигантского автомобильного спидометра; нужно ли выдавать золотые и серебряные звезды в награду за примерное посещение воскресной школы; имеет ли смысл раздавать детям копилки в виде прелестной церковки, чтобы с детства приучать их откладывать каждый цент на богоугодные дела; безнравственно или нет приглашать для выступления в церкви солистов-скрипачей.
А когда начинались отчеты о росте посещаемости и денежных сборах, то выяснялось, что духовным лицам вовсе не чуждо и хвастовство, столь свойственное простым смертным.
Элмер понял, например, что на главного инспектора зенитского округа Фреда Ора можно не обращать особого внимания, так как это человек робкий и молчаливый. Правда, он бесподобен во время молитвы и, по-видимому, ведет до отвращения непорочный образ жизни, но не имеет никакого понятия о том, как надо увеличивать сумму церковных сборов.
Серьезных конкурентов, с которыми приходилось считаться, среди методистских проповедников было четыре.
Во-первых, Честер Браун, священник новой и ультраготической церкви Эсбери-Черч, строгий блюститель обрядов, по слухам, не лучше любого сторонника епископальной церкви. Носит наглухо застегнутый пасторский жилет; заставляет хористов носить специальные одеяния и пользуется католической обрядовой книгой; по слухам, как-то раз допустил на богослужении зажженные свечи вокруг алтаря. До ужаса (с точки зрения Элмера Гентри) сведущ в литературе и эффектен на кафедре. Говорят, что обладает литературным талантом, печатается не только в «Адвокате», но и в «Христианском Веке» и «Нью-рипаблик»[173]. Его эссе довольно изысканны по стилю, вполне правоверны, но откровенно критикуют церковь за леность, жадность и недальновидность. Бывший профессор английской литературы и церковной истории в Лаккокском колледже; читает о книгах такие проповеди, о каких Элмер, со своими исчерпывающими познаниями из области творчества Лонгфелло и Джорджа Элиота[174], не мог даже мечтать.
Во-вторых, доктор Отто Хикенлупер, Центральная церковь. Еще более неприятный соперник. Из всех церквей штата его церковь ведет самую активную воспитательную и общественную работу. У него есть не только курсы ручного труда и гимнастические кружки, но и устраивались религиозные спектакли, студия живописи (без обнаженной натуры), курсы французского языка, курсы разрисовки материй способом «батик», кружок половой гигиены, бухгалтерии, литературное объединение. Клубы железнодорожников, стенографисток, рассыльных. А после церковных ужинов молодежи разрешалось оставаться посидеть в нишах, игриво именуемых газетчиками «укромными уголками».
Д-р Хикенлупер — горячий сторонник общественной деятельности. Он очень дружески настроен к Американской Федерации Труда, Индустриальным Рабочим Мира[175], социалистам, коммунистам и Лиге беспартийных[176], чего нельзя сказать об отношении этих организаций между собой. По воскресным вечерам читает лекции о Безумии Войн, о Минимальной Заработной Плате и пользе стерилизованного молока. Раз в месяц проводит открытые митинги, на которые приглашаются самые опасные ораторы-радикалы, и им позволяется говорить решительно все, при условии, чтобы они не употребляли бранных слов, не затрагивали вопроса о прелюбодеяниях и не подвергали сомнению духовного водительства Христа.
Третий — доктор Малон Поттс, Первая методистская церковь. На первый взгляд показался Элмеру менее опасным соперником. Тучен, напыщен, тяжеловесно и шумливо благочестив. Позер. «А, мой дорогой брат! — гремел он, — как мы чувствуем себя сегодня, мой милый доктор, как поживает ваша прелестная женушка?» Увы! У доктора Поттса более многочисленная паства, чем у любого другого священника любого религиозного толка. Он такой респектабельный, такой благонадежный. На такого можно положиться. А как красиво говорит! Тут тебе и горы, и закаты, и сожжение мучеников, и прием, который оказывают названным мученикам. Отлично говорит — может потягаться с любым проповедником в городе. Зато никогда не сомневается сам и не позволяет сомневаться другим, что, регулярно посещая методистскую церковь и не забывая о раскаянии, спасении души, крещении, причастии и щедрых пожертвованиях на церковные дела, каждый может почти наверняка застраховать себя от рака, туберкулеза, грехопадения и обеспечить себе верное место в раю.
Этим трем Элмер завидовал, уважая их; четвертому завидовал с лютой ненавистью.
Четвертым был Филипп Мак-Гарри, Арборская методистская церковь.
Доктор философии, преподаватель экономики и философии Чикагского университета, Филипп Мак-Гарри — только все, кто его любил, как миряне, так и собратья-священники, называли его «Фил» — в свои тридцать пять лет был известен всей методистской церкви Америки как enfant terrible. Все дочерние издания «Защитника» по всей стране восхищались им и кудахтали, словно нежные и встревоженные наседки, по поводу его частых выходок. Его обвиняли во всякой и всяческой ереси. Он никогда не пытался ничего отрицать и, как было известно, бесспорно признавал один-единственный догмат — духовное водительство Иисуса, о божественном происхождении которого высказывался довольно-таки неопределенно.
Это был коренастый, улыбчивый мужчина, страстный любитель бокса, неспособный даже на похоронах со вздохом прошептать: «Увы, сестра!..»
Он критиковал всё и вся, критиковал даже епископов за то, что они слишком толсты и честолюбивы и в разгар жестокой забастовки позволяют себе мямлить о милосердии. Он критиковал — довольно, впрочем, добродушно — общественного деятеля, просветителя и неразборчивого филантропа Отто Хикенлупера, с его клубами по изучению Карла Маркса и воскресными вечеринками для одиноких коммивояжеров.
— Вы парень ничего, Отто, — говорил ему доктор Мак-Гарри. И как! Во всеуслышание на очередном заседании в понедельник. — Намерения у вас хорошие. Жаль только, что вы из этих чертовых филантропов!
«Чертовых! И это — на людях! Ничего себе…» — возмущался преподобный Элмер Гентри.
— Вся эта ваша возня в Центральной, Отто, — не унимался доктор Мак-Гарри, — не что иное, как мелочная опека. Прикармливаете свою драгоценную паству, а сами держите ее в повиновении. Болтаете о социализме, пацифизме, расписываете это все до небес, но при этом непременно объясняете, что реформы должно проводить своевременно, иными словами — никогда, и то лишь с любезного разрешения Рокфеллера и Генри Форда! Я всегда подозревал, что за вашей деятельностью кроется низкий замысел — заманить бедных простаков в церковь, пусть даже методистскую!
Собрание духовных особ разразилось бурными воплями:
— Да, конечно, в этом и есть наша цель…
— Интересно знать, зачем же вы сами состоите в методистской церкви, если считаете делом второстепенным привлечение…
— Ну, а вы-то сами, проповедник евангелия, — вы о чем печетесь, если не о религии?
Собрание в это утро грозило безудержно отклониться от вопроса об использовании в церковных печах мелкого угля и подойти к вопросу о том, что действительно думают священники о богословских проблемах в целом, когда не стоят перед своей паствой и когда их слова не заносят в протокол.
«Очень опасно и очень глупо, — думал Элмер Гентри. — Трудно даже сказать, до чего можно дойти, если начнешь шуметь о таких дурацких проблемах. Знай себе проповедуй, что сказано в библии, помогай людям стать лучше, а во всех этих скользких богословских и общественных вопросах предоставь копаться профессорам».
Свою веселую атаку на доктора Хикенлупера в то самое утро, когда Элмер впервые имел неудовольствие с ним познакомиться, Филипп Мак-Гарри завершил словами:
— Видите ли, Отто, ваши реформы не имеют ровным счетом никакого значения, иначе вы бы не смогли удержать в своем приходе столько богатых стяжателей. Пока у вас в попечителях состоит этот выжига Джо Хенли — никакого риска, что кто-нибудь из рабочего люда в вашем приходе затеет что-то опасное. Слава богу, что во всем моем паршивом стаде нет ни одной респектабельной овцы!
(«Во-во, тут-то ты себя и выдал, друг Мак-Гарри! — злорадно подумал Элмер. — Первый раз сказал правду!»)
Церковь Мак-Гарри находилась в районе гораздо более запущенном, чем даже Старый город Элмера. Назывался он Арбор; в дни первых поселенцев здесь было окруженное виноградниками селение, раскинувшееся вдоль берега реки Чалузы, — из него и вырос современный Зенит. Теперь здесь не осталось ничего, кроме пивных, публичных домов, жалких лачуг и дешевых лавчонок. И все же именно здесь находилось холостяцкое жилье Мак-Гарри, по-видимому, вполне довольного своей судьбой. Мак-Гарри давал советы карманникам и поломойкам, а вечерами по пятницам читал лекции, на которые валом валили любознательные студентки-еврейки, рабочие-радикалы, старые чудаки и не удовлетворенные жизнью богатые девицы, приезжающие в собственных лимузинах из обширных садов Ройял-риджа.
«С этим Мак-Гарри не миновать неприятностей, если мы оба будем в одном городе. Нам с ним никогда не ужиться, — думал Элмер. — Что ж, будем держаться от него подальше и относиться к нему с тем самым христианским милосердием, о котором он так чертовски много болтает, не понимая его истинного значения. Будем считать, что он — пустое место да и большинство остальных тоже. А вот эти три кита — их-то как одолеть?..»
Он не способен — даже если б ему досталась новехонькая церковь — превзойти Честера Брауна в элегантности и составлении литературных проповедей. Он никогда не смог бы сравниться с Отто Хикенлупером в постановке учебной и общественной работы. Ему явно не по плечу задача побить Малона Поттса там, где речь идет об умении располагать к себе зажиточных и солидных горожан.
И все-таки он сможет победить их всех, вместе взятых!
С наслаждением обдумывая свой план на собрании священников, по пути домой, вечером у камина, он понял, что каждый из этих китов узко специализировался на чем-то одном, пренебрегая хорошими, сулящими популярность особенностями других двух, он же, Элмер, сольет их воедино, он будет почти так же благородно возвышен, как Честер Браун; станет почти таким же горячим общественником и культуртрегером, как Отто Хикенлупер; почти таким же солидным, надежным и нравственным, как Малон Поттс. А кроме того, все трое да и вообще все священники города, кроме одного пресвитерианина, пренебрегают такой… о, да, пусть кое-кто называет ее сенсационной, это просто от зависти, куда правильнее сказать: мощной, или, быть может, смелой, или волнующей — итак, все они пренебрегают такой мощной, смелой, волнующей, бросающей вызов самому дьяволу темой, как обличение порока. Виски. Женские ножки. Бридж. Дело верное!
Конечно, надо будет соблюдать меру, и все же город вскоре узнает, что на проповедях преподобного Элмера Гентри непременно услышишь что-нибудь пикантное и вместе с тем поучительное.
— Ничего, я еще всю компанию уложу на обе лопатки! — Элмер сладко потянулся, раскинув большие руки, радостно ощущая их силу. — Построю новую церковь. Переманю от них весь народ. Стану самым крупным проповедником в Зените — единственным! А потом — Чикаго? Нью-Йорк? Епископство? Да все, что ни захочу! Урра!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
Наводя справки о своих союзниках и соперниках-клерикалах (что было, в сущности, одно и то же), Элмер узнал, что в Зените находятся два его однокурсника по Мизпахской семинарии.
Уоллес Амстед, бывший студент и преподаватель гимнастики, был теперь генеральный секретарь зенитского отделения ХАМЛа.
— Олух. Не заслуживает внимания, — решил Элмер. — Парень крепкий, но не хватает тонкости, культуры. А впрочем, нет. Так не годится. Можно создать себе неплохую рекламу: выступить в Ассоциации, привлечь ребят в церковь…
И он нанес визит мистеру Амстеду, и это была сердечная и трогательная встреча: два однокурсника, два сильных человека, мужественные собратья — воины армии христовой.
Но о том, что в городе находится другой его однокурсник — Фрэнк Шаллард, — Элмер узнал без всякого удовольствия. Он с досадой припомнил: «Ах, да, тот самый, что задирал передо мною нос и терся вокруг и пробовал шпионить за мной в Шенейме, когда я помогал ему хоть чему-то научиться в нашем ремесле».
Ему было отрадно узнать, что у благонадежных и здравомыслящих представителей зенитского духовенства Фрэнк не в чести. Из баптистской церкви он ушел; говорили, что во время мировой войны он вел себя некрасиво: вступил в армию простым солдатом, а потом стал пастором конгрегационалистской церкви в Зените — только не той богобоязненной и богатой конгрегационалистской церкви, к которой принадлежал, скажем, доктор Дж. Проспер Эдвардс, а той, что снискала себе дурную славу своею неустойчивостью в вере, малодушием и путаным учением и, по правде говоря, была ничем не лучше любой церкви унитарианского толка.
Элмер вспомнил, что до сих пор должен Фрэнку сто долларов, которые занял у него на поездку в Зенит на последние занятия курсов «Путь к богатству». Вспомнил — и пришел в бешенство. Не может же он вернуть долг сейчас, когда только что купил себе автомобиль, а уплатил пока всего лишь половину. Но, с другой стороны, разумно ли наживать себе врага, да еще такого придурка, как этот Шаллард, который, чего доброго, еще начнет болтать, распускать всякие небылицы…
И, страдальчески кряхтя, он выписал чек на сто долларов (что составляло половину всей суммы на его текущем счету в банке) и послал его Фрэнку с запиской, в которой объяснял, что уже много лет горел желанием вернуть эти деньги, но потерял адрес Фрэнка. И что в первую же свободную минуту он непременно навестит своего дорогого однокурсника.
— Эдак лет через шестнадцать после Страшного суда! — фыркнул он.
II
При всей своей кротости, безмятежном простодушии, со всеми своими мистическими видениями Эндрю Пенджилли, этот деревенский святой, не смог примирить Фрэнка Шалларда с положением баптистского священника, особенно после сближения Фрэнка в Эврике с пытливым раввином и священником-унитарианцем. Эти либералы являли собою отличное доказательство того, как справедливо утверждение баптистских фундаменталистов: забивать себе голову биологией и этнологией — значит утратить баптистскую веру, и, следовательно, государственное университетское образование должно ограничиваться алгеброй, агрономией и изучением библии.
В начале 1917 года, когда возник вопрос, уходить ли ему из баптистской церкви или подождать, пока выкинут, Фрэнка захватила трагедия войны — ему, уставшему от собственной нерешительности и сомнений, здесь чудилась сила, — и, не слушая возражений растерянной Бесс, он сложил с себя духовный сан, отослал жену и детей к тестю и пошел в армию рядовым.
Идти капелланом? Нет! Ему хотелось, впервые в жизни, быть таким, как все, и вместе со всеми.
Всю войну его продержали в Америке писарем военного лагеря. Он был усерден, исполнителен, точен и послушен; он дослужился до сержанта и стал курить. Он добросовестно доставлял домой своего капитана, когда тот напивался, и он прочел с полсотни научных книг.
И ни на секунду не переставал ненавидеть эту жизнь.
Он ненавидел унизительное положение, когда ты не сам по себе, а в стаде других таких же, не уважаемый и авторитетный человек со своими вкусами и привычками, важными как для тебя самого, так и для окружающих, но просто винтик в машине, который бесцеремонно бьют молотком при малейшей попытке действовать самостоятельно. Он ненавидел войну за ее бессмысленность. Война ради того, чтобы покончить с войнами? Почему же он ничего не слышал об этом ни от своих товарищей-солдат, ни от офицеров?!
Но он и научился кое-чему. Научился держаться свободно и просто с простыми людьми и даже не слышать их ругань. Научился любить этих дюжих мужчин, явно предпочитающих мылу жевательный табак и не ведающих более многосложного слова, чем «черт». Он глубоко оценил достоинства этих простых людей, ощутил потребность что-то сделать для них и по размышлении с чувством растерянности убедился, что не может придумать лучшего способа служить им, как снова стать проповедником.
Значит, вернуться к меднолобым баптистам? Нет, ни за что. Тогда, быть может, перейти к унитарианцам? Нет, для этого он еще не созрел. Он все еще почитал Иисуса из Назарета, как путеводную звезду на тропе справедливости и добра, и по-прежнему, словно в детские годы, находил таинственное очарование в рассказах о пастухах, охраняющих в ночи осененную благодатью матерь, склонившуюся над младенцем в яслях. Он по-прежнему ощущал безотчетную уверенность в том, что Иисус не смертный, но воистину Христос.
Ему казалось, что из всех сект, более или менее признающих святую троицу, наибольшей свободой пользуются конгрегационалисты. У каждой конгрегационалистской церкви свой статут. Предполагалось, что в баптистских церквах то же положение, но на самом деле они подчинялись суровому общественному мнению.
После войны он вступил в переговоры с суперинтендантом конгрегационалистских церквей штата Уиннемак. Фрэнку хотелось получить свободомыслящий приход — бедный, но не запуганный, не инертный.
Что ж, конгрегационалисты будут рады принять его в свои ряды. Так, во всяком случае, уверил его суперинтендант. Сейчас как раз есть место именно в таком приходе, какой ему нужен, — это Дорчестерская церковь на окраине Зенита. Прихожане — мелкие лавочники, заводские мастера, рабочие высокой квалификации, рабочие-железнодорожники и несколько случайных людей — учительницы музыки, страховые агенты. Народ по большей части бедный и как будто действительно нуждающийся в истине, которую несет им проповедник.
Когда в Зенит пожаловал Элмер, Фрэнк находился в Дорчестерской общине уже третий год и был почти счастлив.
Он обнаружил, что его более высокопоставленные коллеги-конгрегационалисты, такие, как Дж. Проспер Эдвардс с его фешенебельным собором в центре города, так же легко, как и баптисты, приходили в ужас, когда кто-нибудь решался сказать, что о непорочном зачатии, собственно говоря, мы ничего достоверно не знаем. Он убедился, что достойные мясники и галантерейщики из его общины не испытывают особого восторга когда кто-нибудь начинает защищать большевистские порядки в России. Он понял, что по-прежнему вовсе не уверен, что делает благое дело, разве что снабжает дурманом религиозной надежды несмелых, запуганных адом людей, которым страшно брести в одиночку.
Но зато чувствовать себя сравнительно свободным, снова обрести милый домашний уют, быть рядом с веселой Бесс, с детьми — после армии это было такое блаженство, что Фрэнк на целых три года прервал свои мучительные поиски правды.
Еще больше, чем Бесс, мешала Фрэнку порвать с церковью его дружба с доктором Филиппом Мак-Гарри, пастором Арборской методистской церкви.
Жизнерадостный крепыш Мак-Гарри был года на три или четыре моложе Фрэнка, но казался более зрелым человеком. Встретился с ним Фрэнк на ежемесячном собрании Союза Духовенства. Обоим понравилась друг в друге их общая черта: особая высокомерная честность. Мак-Гарри нельзя было поразить намеком на то, что биология не оставляет камня на камне от книги Бытия, или утверждением, что некоторые христианские обряды украдены из культа Митры, или фрейдизмом, или хотя бы ересями социального характера, но Мак-Гарри все-таки любил церковь, как товарищеское сообщество людей, в равной степени жаждущих чего-то более полного и яркого, чем повседневные заботы о своем маленьком «я», и эту же любовь он привил Фрэнку.
Но Фрэнку все-таки было досадно чувствовать, что его не считают вполне зрелым проповедником; что даже умные люди считают нужным обходиться с ним иначе, чем с другими, что он словно стеною отгорожен от обыкновенных людей, не знает их сокровенных мыслей, не разделяет их истинных желаний.
И, получив от Элмера приветственную записку, он вздохнул:
— Боги великие, неужели меня просто ставят на одну доску с такими субъектами, как этот Гентри?..
С должным чувством описав своей Бесс выдающиеся таланты Элмера Гентри на духовном и на амурном поприще, он заключил:
— А может, отослать ему этот чек назад?
— Ну-ка, давай сюда, — сказала Бесс и, засунув чек себе в чулок, насмешливо продолжала: — Вот слушай: новый костюм Майклу — это раз; во-вторых, роскошный обед нам с тобой, потом — новая губная помада, да еще и взнос в банк. Ура! Знаешь что, преподобный Шаллард, я, конечно, тебя обожаю и преклоняюсь перед тобой, и предана тебе душой и телом, как и надлежит доброй христианке, но заметь, мой мальчик: тебе бы очень не мешало чуточку поучиться у Элмера ловкости в любовных делах!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
I
Даже здесь, в Зените, Элмеру приходилось водить знакомство со множеством пресных и украшенных бакенбардами персон, единственное удовольствие которых, помимо того, чтобы самим не веселиться, состояло в том, чтобы не давать веселиться другим. Однако и на общем мрачном фоне его секты все-таки стали появляться светлые пятна. Так, в недрах Уэллспрингской общины он обнаружил молодую компанию, члены которой вели почти такую же беспечную жизнь, как если б вообще не имели дела с церковью.
Молодые супружеские пары, из которых состояла эта компания, пользовались превосходной репутацией: жены преподавали в воскресной школе, мужья благолепно обходили прихожан с тарелочкой для сбора пожертвований — и при всем том они относились к религии с такой же легкостью, с какой католический священник относится к модной и истекающей кровью Мадонне последнего образца. Жили они в основном в тех самых новых домах, которыми мало-помалу застраивался Старый город. Нельзя сказать, чтобы это были богатые люди, но все же у каждой пары был и форд, и граммофон, и джин. Они так увлекались танцами, что были готовы танцевать даже в присутствии пастора.
В Элмере они сразу почуяли своего. При Клео они стеснялись, чувствовали себя неловко и держались подчеркнуто благопристойно, зато когда он заглядывал к ним один, они наперебой кричали:
— А, преподобный отец! Заходите, не стесняйтесь! Спорю, что по части танцев вы любого из нас заткнете за пояс. Вот моя женушка обязательно хочет потанцевать с вами! Не вредно бы вам поближе познакомиться с мирскими грехами, если вы хотите читать классные проповеди!
И Элмер соглашался, и в самом деле шел танцевать с забавно-страдальческим лицом. Несмотря на свою грузную фигуру, он был все еще легок в движениях, а от руки его, обвивающей стан дамы, ей словно передавался электрический ток.
— Ах, преподобный отец, если б вы не были священником, какой бы из вас вышел танцор! — щебетали женщины, и Элмер, несмотря на всю свою осторожность, не мог не заглянуть в их влюбленные глаза, не заметить, как взволнованно поднимается их грудь, и не шепнуть в ответ:
— Не надо забывать, что я только смертный, душа моя! Если уж меня прорвет — ого!
И они восхищались им за это.
Однажды, когда он с заметной жадностью вдохнул в себя запах виски и табака, хозяин дома так и прыснул:
— Уж не почудилось ли вам, преподобный отец, что от меня попахивает спиртом? Подозревать, что такой добрый методист, как я, способен выпить хоть глоток спиртного? Неслыханно!
— Мое дело — принюхиваться по воскресеньям, — дружелюбно сказал Элмер. — По другим дням я запахов не различаю.
— А ну-ка, сестра Джилсон, давайте еще раз попробуем этот фокстрот! Ох-хо-хо! Мне ли замечать запах спиртного! Подумали бы лучше, что бы произошло, если б брат Апфелмус узнал, что его драгоценный пастор потихоньку занимается танцами. Смотрите, не выдавайте, ребята!
— Не бойтесь, не выдадим! — отвечали они, и даже престарелые святоши, которым он чаще всего наносил визиты, не так горячо расхваливали преподобного Элмера Гентри и не создавали такую отличную рекламу его проповедям, как молодые хлыщи из этой компании и их бойкие супруги.
У него постепенно вошло в привычку бывать на их вечеринках. Он изголодался по веселому обществу, и теперь ему было совсем уж невыносимо сидеть с Клео. Она никак не могла усвоить, что ей все равно не отучить его от бранных слов, пусть хоть десяток раз в день принимает огорченный вид и укоризненно выговаривает ему:
— Ах, Элмер, как ты можешь!
Отправляясь на вечеринки, он говорил ей, что идет навестить кое-кого из прихожан. И в этом была доля правды. Честолюбие теперь говорило в нем куда сильней, чем жажда самых бурных развлечений, и как бы часто ни нападала на него тоска по музыкальным ящикам и девицам в розовых кимоно, тем самым, которых он так смачно клеймил в своих проповедях, он отчаянным усилием воли заставлял себя держаться от них подальше.
Но зато эти веселые жены из компании молодых парочек!.. В особенности эта миссис Джилсон, двадцатипятилетняя Берил Джилсон, словно созданная для ласк. У нее был бесцветный брюзгливый супруг, который вечно ссорился с нею, брызгая слюной и бессильной злобой. На нее явно произвела впечатление уверенная сила Элмера. Он сидел рядом с нею в укромных уголках, и у него сводило руку от желания обнять ее. Но он одержал над собою героическую победу и устоял. Да и потом он был не очень уверен, что ему удастся покорить ее. Она была ветрена, любила кружить головы мужчинам, но она была и осмотрительна, эта горожаночка, которая привыкла иметь много поклонников. А если бы она и уступила!.. Она была из его прихода, она была болтушка. Она могла проговориться.
После таких размышлений он бежал под гостеприимный кров Т. Дж. Ригга и в его веселом, беспорядочном доме мог спокойно отдохнуть душой, узнать любопытные факты о частных делах наиболее щедрых своих прихожан. Но неотступный и обольстительный образ Берил Джилсон, воспоминание о ее нежных, гладких плечах сводили его с ума.
II
Он не заметил их во время проповеди в то воскресное утро поздней осени, не заметил и в толпе почитателей, которые спешили подойти и пожать ему руку после проповеди. И вдруг он вздрогнул и охнул так, что очередная поклонница, ожидающая рукопожатия, решила, что пастор нездоров.
В стороне, оттесненные толпой, стояли некогда навязанная Элмеру невеста, Лулу Бейнс из Шенейма, и долговязый, неотесанный, мстительный Флойд Нейлор, ее двоюродный брат.
Только когда все остальные прихожане уже ушли, когда радушные распорядители вдоволь натешились, накидываясь на очередную жертву, тряся ей руку, похлопывая по плечу, как и полагается церковным распорядителям после церковной службы, только тогда Лулу и Флойд неуверенно подошли ближе. Элмер едва не пожалел, что все распорядители уже ушли и защиты ждать неоткуда, но публичный скандал был страшнее насилия.
Он собрался с духом, чувствуя, как вздуваются сильные мышцы у него на спине, мгновенно принял решение и бросился навстречу старым знакомым, сбивчиво приговаривая:
— Вот так-так, вот так-так…
Флойд, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, крепко и совсем не враждебно пожал ему руку.
— Мы с Лулу только что узнали, что вы в городе, не так-то часто, понимаете, ходим в церковь, вот и не слыхали. Мы ведь теперь женаты!
Пожимая руку Лулу гораздо нежнее, Элмер милостиво дал свое благословение:
— Ну — чудесно! Страшно рад слышать!
— Да, знаете, женаты… ба, да ведь уж четырнадцатый год пошел!.. Поженились сразу, как вы последний раз побывали в Шенейме.
Будто по наитию свыше, Элмер напустил на себя такой вид, словно ожившее воспоминание об этом злосчастном последнем свидании ранило его в самое сердце. Скрестив руки на груди своей щегольской визитки, он придал своему лицу меланхолически-скорбное и благородное выражение… Но он и не думал предаваться скорби. Он зорко разглядывал Флойда и Лулу. Он увидел, что Флойд остался таким же нескладным и неловким, как прежде, но Лулу (сколько ей сейчас? Тридцать три — нет, скорей тридцать четыре…) приобрела городской лоск. На ней была простая, пожалуй, даже элегантная шляпка, прекрасное твидовое пальто, а главное — она стала настоящей красоткой. Ласковый, манящий взгляд, прежняя доброжелательная улыбка, открытая всем и каждому… Располнела, конечно, что поделаешь, но пока еще не слишком… А эта крошечная белая лапка — совсем как у котенка!..
Все это Элмер отлично разглядел, стоя перед ними со скорбно-всепрощающей миной и слушая сбивчивые оправдания Флойда:
— Понимаете, ваше преподобие, вы, наверное, подумали, что мы сыграли с вами скверную шутку в тот вечер на пикнике у папаши Бейнса — ну, когда вы пришли назад, а я вроде бы обнимал Лулу!
— Да, Флойд, это было очень больно, но… Пора забыть и простить!
— Нет, вы все же послушайте, ваше преподобие! Ведь и мне, знаете, как тяжело было идти к вам объясняться, но уж раз я начал… Так вот. Мы с Лулу тогда ведь и не думали о нежностях. Вот оно что, сэр! Просто она была очень расстроенная, ну, а я, значит, хотел ее утешить. Честно говорю, потом, стало быть, когда вы разобиделись и уехали, папаша Бейнс совсем взбесился от злости — и за дробовик, и давай меня честить на чем свет стоит, — да, да, сэр, такой тарарам поднял, что держись; слова мне не давал сказать. Женись, говорит, на Лулу, да и точка. А я ему — что ж, говорю, если вы думаете, что это для меня такое тяжелое наказание…
Флойд остановился на полуслове и хохотнул. Элмер же заметил, что Лулу вновь всматривается в его лицо благоговейно, восхищенно, с трепетом воскресшей любви.
— …Если, — говорю, — вам кажется, что это мне так уж трудно, дядя, так уж давайте я вам скажу всю правду. Я, — говорю, — только о том и мечтаю, чтоб жениться на Лу, еще с тех самых пор, когда она была вот такусенькая. Ну, значит, тут пошли споры, да разговоры, да снова споры… Папаша Бейнс говорит: сперва поезжайте в город и объясните ему — вам, то есть. Ну, а вы на другое же утро куда-то, оказывается, уехали. И, в общем, короче говоря, вот так оно и получилось. И, между прочим, отлично живем! У меня здесь свой гараж на окраине, и квартирка у нас что надо, так что все очень нормально. А все же мы с Лу так подумали, что надо, наверное, сходить поговорить, тем более, вы тут же, в городе… У нас, знаете, два сына — симпатичные ребята!
— Честное слово, мы и не думали… мы совсем не хотели! — умоляюще пролепетала Лулу.
— Ну, разумеется, сестра Лулу! — снизошел Элмер. — Я все прекрасно понимаю. — Он сердечно пожал руку Флойду, а еще более сердечно — руку Лулу.
— Просто не могу вам сказать, до чего я тронут, что вы не посчитали за труд прийти и мне все объяснить. Так мило с вашей стороны и так учтиво! И по-настоящему благородно, особенно если учесть, как я по-идиотски себя вел тогда… В гот вечер я столько выстрадал из-за вашего вероломства — я же не знал правды, — что думал, не переживу эту ночь! Ну да ладно! Не будем об этом больше говорить, хорошо? Все разъяснилось — и все в порядке! — Он снова пожал обоим руки. — Ну, и раз уж я снова нашел двух старых и добрых друзей — мне ведь здесь, в Зените, все фактически еще чужие, — я не собираюсь вас терять снова. Я к вам непременно зайду в гости. Вы здесь, в Зените, принадлежите к какому-нибудь приходу?
— Да по правде сказать, нет… — признался Флойд.
— Так, может, я вас уговорю приходить сюда изредка, а там, глядишь, и надумаете вступить в приход, а?
— Видите, дело-то в чем, ваше преподобие: когда имеешь дело с автомобилями… хоть оно вроде бы и против моей веры, но, вы сами понимаете, так уж заведено, что в нашем деле самая работа по воскресеньям!
— Ну так, возможно, Лулу вздумает прийти иной раз?
— Она-то да! Женщины должны держаться поближе к церкви, я всегда говорю! Сам не знаю, как это мы здесь, в городе, отвыкли… И, главное, ведь все время говорим, что надо бы, мол, снова начать ходить, но… Никак все не соберешься…
— Надеюсь, брат Флойд, что наша, э-э… наша размолвка в тот вечер не сыграла никакой роли в вашем отходе от церкви! Было бы очень жаль! Да, просто очень. Но, пожалуй, я мог бы вас тут понять! (Он видел, что Лулу жадно ловит каждое слово его сладкозвучных и вычурных фраз, столь выгодно отличающихся от деревенского косноязычия Флойда. Да, чертовски хорошенькая женщина. Полненькая — как раз в меру, а Клео с возрастом превратится не в красивую матрону, как он надеялся, а просто в толстую старую бабу. А все-таки жениться на Лулу было нельзя. Да. Он поступил правильно. Провинциалочка — и только. Но все-таки чертовски аппетитная!) Да, думаю, я понял бы вас, Флойд, если б вы оскорбились. Какой я был остолоп, что не… не догадался, что происходит на самом деле. А еще священник! Право же, Флойд, это я должен просить у вас прощения за свою дурацкую недогадливость!
— Да я, по совести говоря, и вправду тогда подумал, что уж очень вы как-то легко раскипятились, ну, оттого и досадно было, конечно, — смущенно проворчал Флойд. — Но теперь-то уж это неважно.
— И ручаюсь, что Лулу еще больше вас рассердилась на меня за глупость? — очень заинтересованно спросил Элмер.
— Представьте — нет! Она мне никогда не давала и слова-то плохого сказать про вас! Ха-ха! Да вот хоть и сейчас взгляните-ка на нее: покраснела — ей-ей, покраснела! Ничего я ее поддел, а, сэр?
Элмер взглянул, и очень внимательно.
— Что ж, я рад, что все выяснилось, — вкрадчиво промолвил он. — Так вот, сестра Лулу, вы разрешите мне к вам зайти и рассказать о нашем славном, дружном приходе, о замечательных делах, которыми мы занимаемся?.. Да, знаю, когда в доме двое чудесных ребятишек — двое, я не ошибся? Великолепно! — и достойный супруг, за которым нужно хорошенько ухаживать, у хозяйки забот по горло, но все-таки, быть может, вы сумеете выкроить время, чтобы вести какой-нибудь класс в воскресной школе или хотя бы иногда бывать по средам на наших веселых церковных ужинах. Я вам расскажу о нашей работе, а вы потом посоветуетесь с Флойдом и узнаете, как он на это смотрит. Так когда же к вам можно будет заглянуть, Лулу? И адрес не забудьте сказать. Что, если, ну хотя бы завтра, часа так примерно в три? Жаль, Флойда не застану дома, но все вечера у меня расписаны буквально по минутам.
На другой день, без пяти три, преподобный Элмер Гентри вошел в довольно-таки непрезентабельный дом, в котором жили Флойд Нейлор и его супруга, и, раздраженно оттолкнув ногой детскую колясочку, стоявшую у него на дороге, резво взбежал по лестнице и остановился, слегка задыхаясь и с сияющим видом глядя на Лулу, которая открыла ему дверь.
— Совсем одна? — сказал, нет, скорее прошептал он.
Под его взглядом она опустила глаза.
— Да. Мальчики в школе!
— Вот досада! А я надеялся их повидать. — Когда дверь закрылась и они остановились в передней, его словно прорвало: — Ах, Лулу, ненаглядная моя! Я думал, что потерял тебя навсегда, и вот снова нашел! О, прости, что я так говорю! Ведь нельзя! Прости меня! Но если б ты только знала, как я думал, как мечтал о тебе, как ждал тебя все эти годы!.. Нет! Я не имею права так говорить. Это грешно. Но мы ведь будем друзьями — да? Флойд, ты и я? Добрыми, искренними, нежными друзьями…
— О да! — чуть слышно отозвалась она, вводя Элмера в убогую гостиную с крашеными тростниковыми качалками и кушеткой под вязаным покрывалом, с дешевыми хромолитографиями, изображающими фрукты и виды Версаля.
Они стояли друг против друга, всматриваясь, вспоминая. Он хрипло пробормотал:
— Милая, я думаю, не будет ничего плохого, если ты меня поцелуешь?.. Только разок… Хорошо? Чтобы я знал, что ты меня правда простила. Мы ведь теперь словно брат и сестра.
Она поцеловала его робко, пугливо и вдруг с возгласом: «Ах, мой любимый! Я так долго ждала!» — обвила его шею руками страстно, безудержно.
Когда мальчики вернулись из школы и позвонили внизу, любовники встретили их с преувеличенной сердечностью. Потом дети убежали играть на улицу, и Лулу воскликнула в экстазе:
— Ах, я знаю, что это грех, но я всегда тебя так любила!
— Тебе кажется, что это особенно грешно, потому что я священник? — с интересом спросил Элмер.
— Нет! Я этим горжусь! Ты не такой, как другие мужчины, ты словно ближе к богу! Я очень горжусь, что ты священник! Да и какая женщина бы не гордилась. Это — ну, ты сам знаешь! Это что-то совсем особенное!
— Ах ты, моя прелесть! — сказал Элмер, целуя ее.
III
Им приходилось соблюдать осторожность. Элмер не испытывал особого желания, чтобы Флойд Нейлор с его мозолистыми ручищами нагрянул как-нибудь днем домой и застал его с Лулу.
Подобно многим влюбленным, прославившимся в веках, они нашли себе прибежище в церкви. Лулу была великая мастерица по части стряпни. Поселившись в Зените, она не стремилась к таким развлечениям большого города, как лекции, концерты, литературные клубы, но честолюбивые, хоть и неясные, мечты о собственной лавке побудили ее поступить в кулинарную школу, где она узнала рецепты салатов и пирожных, научилась делать маленькие бутерброды на французский манер. Элмеру удалось устроить ее преподавать раз в неделю, во вторник, на вечерних кулинарных курсах при Уэллспрингском приходе и даже выхлопотать для нее у попечителей жалованье: пять долларов в неделю.
Занятия на курсах кончались в десять. К этому времени в церкви не оставалось никого, и Элмер решил, что вечер вторника — лучшее время посидеть почитать в своем церковном кабинете.
У Клео было тоже много мелких обязанностей в церкви: клубы, Эпвортская Лига, вышивальный кружок, но во вторник вечером — ничего.
Пока наступал час, когда в тишине подвала раздавались все ближе несмелые шаги Лулу по темному и затхлому коридору, а потом и робкий стук в дверь, Элмер нетерпеливо расхаживал по кабинету. Он протягивал руки ей навстречу, и она, забывая обо всем, падала в его объятия.
Теперь у него появилась отрада в жизни.
— Я ведь, в сущности-то, неплохой человек! За женщинами не бегаю… Ну та, сумасшедшая в гостинице, в счет не идет, а так — нет. Особенно теперь, когда у меня есть Лулу. А Клео — она никогда не была мне женой, с ней считаться нечего! Я ведь сам люблю жить по-хорошему… Если б только у меня была жена вроде Шэрон! Господи, Шэрон! Значит, я изменяю ей! Нет! Милая моя Лулу, хорошая моя девочка, тебе ведь я тоже кое-чем обязан! Нельзя ли так устроить, чтобы видаться с ней в субботу?..
Да, новая отрада в жизни и — потрясающий успех.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
I
Осенью в первый же год своей службы в Зените Элмер положил начало своим впоследствии прославленным «Веселым Воскресным Вечерам». Утром, объявил он, прихожане будут получать от него «на первое» добрую порцию благочестия, которой им хватит на всю неделю, но по вечерам он хочет потчевать их «на десерт» воздушнейшими пирожными с кремом. Христианство — Религия Радости, а он сделает ее еще радостнее.
Веселые Воскресные Вечера начинались пением: два-три гимна, старых, испытанных и кровожадных, затем шла коротенькая проповедь о солнечных закатах, писателях или вреде азартных игр, но большую часть времени все просто веселились, как беспечные дети. Он заставлял их петь: «В доброе старое время», и «Суони-ривер», и народные песенки, которые, пожалуй, вовсе не подходили бы для церкви, если б не были освящены войной: «Типперери», «Долгий, долгий путь», «Спрячь все печали в походный старый ранец — и ну, веселей, веселей, веселей!».
Он заставлял женщин состязаться в пении с мужчинами; молодежь — со стариками; грешников — с добрыми христианами. Хохот стоял отчаянный, особенно когда кое-кто из столпов добродетели — таких, как, например, сам Элмер, — на какое-то время попадал в стан грешников. Он заставлял их свистеть хором и петь мелодию без слов, декламировать текст без мелодии. Он заставлял их петь, размахивая носовыми платками, дирижируя одной рукой, дирижируя обеими. Придумывал он и другие забавы. Был приглашен для сольного выступления с гавайской гитарой виртуоз из Уиннемакского университета. Прелестная трехлетняя девчурка, водруженная на кафедру, пела песенку. Было устроено состязание на губных гармониках между знаменитым квартетом гармонистов с Хиггинботемской ящичной фабрики и четверкой лучших гармонистов железнодорожных мастерских Бостон-Канзас-сити. Победили в результате общего голосования прихожан, как ни странно, предприимчивые и обаятельные молодые железнодорожники.
Потом выходил Элмер и говорил, причем догадаться, что он шутит, могли лишь те, кто сидел близко и видел, как лукаво блестят его глаза, — а говорил он что-нибудь в таком роде:
— Тут, быть может, кое-кто думает, что те вещи, которые нам сегодня сыграли, такие, как «Поход через Джорджию» и «Мамми», не очень подходят для методистской церкви. Но разрешите мне показать вам, как можно исполнить на той же самой губной гармонике самый что ни на есть настоящий и торжественный религиозный гимн. Итак — наш друг и брат Билли Хикс!
И Билли начинал играть «Ach! Du Lieber Augustin».
Ого, как они хохотали — все, даже серьезные пожилые старосты! И сразу же, пока веселье не остыло, преподобный Гентри обрушивал на них громоподобную обличительную речь о том, какое чудовищное зло совершают люди, позволяя своим детям читать в воскресенье утром раскрашенные комиксы и обрекая тем самым невинных малюток на адские муки.
Однажды, чтобы наглядно показать весь вред тотализатора, он устроил для прихожан лягушачьи скачки. В другой раз, чтобы опять-таки наглядно показать преимущество безалкогольных напитков перед хмельным зельем, он пригласил в церковь представителя знаменитой фирмы виноградного сока, и тот раздавал собравшимся стаканчики с образцами своей продукции. А раз он даже выставил на церковном помосте жуткий искалеченный автомобиль, в котором на железнодорожном переезде были убиты три человека. На этом примере он показал своей пастве, что быстрая езда — лишнее доказательство все возрастающего безумия, суетности и жажды материальных благ, свойственных нашему веку, и что исцелить это безумие можно, лишь вернувшись к простой стародавней вере — той самой, которую проповедуют в Уэллспрингской методистской церкви.
Автомобиль дал ему семь газетных столбцов чистой рекламы, снабженной фотографиями его самого, автомобиля и погибших автомобилистов.
Да и вообще надо сказать, что почти все открытые им пути к спасению пресса исправно дарила своим почтительным вниманием.
Пожалуй, во всем Зените не было священника, даже считая либерального пастыря унитарианцев и могущественного епископа католиков, который не ухаживал бы за молодыми представителями прессы. Зенитские газеты нападали на религию с той же легкостью, что и на универсальные магазины.
Но из всех духовных особ никто не вел себя по отношению к репортерам так сердечно, дружески, братски, как преподобный Элмер Гентри. Священники-конкуренты ограничивались любезным приемом представителей общественного мнения, когда те их навещали. Элмер навещал их сам.
Через полгода после приезда в Зенит он стал готовить проповедь на тему «Пути и цели большой печати». Он сообщил о своем плане редакторам, самолично обошел все издательства и познакомился с сотрудниками «Адвокат-таймс», его отпрыска «Вечернего Адвоката», «Прессы», «Газеты» и «Глашатая».
Во время этих визитов он сумел завязать, а впоследствии и укрепить приятельские отношения по меньшей мере с дюжиной репортеров. А кроме того, он познакомился с полковником Сноу — самим великим Резерфордом Сноу, владельцем «Адвоката», седовласым, набожным старым джентльменом, мошенником и сквернословом, занимающим в Зените столь же высокое общественное положение, что и председатель правления банка или крупного акционерного общества. Элмер и полковник сразу оценили друг в друге свойственную обоим предприимчивость и дерзость. В знак своей преданности церкви и ее работе по охране свободных и демократических установлений Америки полковник Сноу регулярно отдавал конгрегационалистской церкви свыше десятой части средств, заработанных на рекламе патентованных медикаментов: лекарств от рака, грыжи, туберкулеза, — а также на «Полезных Советах Старого Доктора Блая». К Элмеру полковник отнесся дружелюбно и дал распоряжение, чтобы по крайней мере раз в месяц печатались отчеты о его проповедях, как бы шумно ни требовало внимания к себе все остальное духовенство.
Но вот сойтись поближе с Биллом Кингдомом, этим матерым и заслуженным газетным волком из «Адвокат-таймс», Элмеру никак не удавалось. Он делал все что мог: называл Билла по имени, угощал дорогими сигарами, добросовестно чертыхался при нем, но Билл не проявлял к нему ни малейшего интереса, даже когда Элмер принес ему пикантнейшую статью о дансингах. В печали и справедливом гневе Элмер направил свои чары на более молодых сотрудников «Адвоката», достаточно не искушенных, чтобы получать удовольствие от дружбы с пастором, которому ничего не стоит помянуть черта.
Особенно благоволил Элмер к некой мисс Кой, репортеру отдела новостей «Вечерней газеты» и его ревностной прихожанке: это означало столбец в неделю. Он всегда томно вздыхал, беседуя с нею после службы…
Лулу выходила из себя.
— Мало того, что я должна сидеть здесь на одной скамье с твоей супругой и ты даже не познакомишь меня с ней, потому что это, по-твоему, рискованно! Но еще и глядеть, как ты жмешь ручку этой Кой, — нет, это уж будет чересчур!
Но он объяснял, что считает мисс Кой непроходимой дурой, что противно даже дотронуться до нее, а любезен он с ней только потому, что ему нужна пресса. И Лулу начинала понимать, что все это так и надо и поистине благородно с его стороны, даже несмотря на то, что в церковном бюллетене, который он писал каждую неделю и который затем раздавали всем молящимся, Элмер не скупился на излияния:
«Давайте все поздравим сестру Кой, блистательную представительницу искусства в наших рядах, с опубликованной в последнем номере „Газеты“ великолепной статьей о женщине-алкоголичке, которой Армия спасения помогла вернуться на стезю добродетели! Читая эту статью, ваш пастор чувствовал, как к глазам его подступают горячие слезы. Это ли не свидетельство силы таланта сестры Кой! Ваш пастор всегда стремится к дружбе и сотрудничеству с Армией спасения, равно как и со всеми другими организациями истинной Протестантской, Евангелической Всеобщей Церкви. Уэллспринг — целиком за терпимость и широту взглядов, пока это не расшатывает нравственность и не противоречит принципам Библии».
II
Не менее важным и хлопотливым делом, чем реклама, для Элмера было добывание денег.
Он сделал одно открытие, гениальное по своей простоте: лучший способ получить деньги — просить, чтобы тебе их дали, просить их достаточно настойчиво и достаточно часто. Визиты к богатым прихожанам, соревнование по сбору средств между классами воскресной школы, вручение гарантийных конвертов — все это было полезно и все это тщательно выполнялось. Но лучшим способом было обратиться к пастве в воскресенье со словами о том, какое великое и доброе дело творит Уэллспрингская церковь и ее пастор и насколько больше добра могли бы они делать, имея больше средств, и попросить у них помощи — сейчас же, сию минуту.
Церковный совет был в восторге, видя, что сборы растут, и быстрее даже, чем число прихожан. Совет потребовал, чтобы епископ оставил им Элмера еще на год — еще на много лет! — и повысил Элмеру жалованье до четырех с половиной тысяч долларов.
А осенью совет дал ему двух помощников — младшего пастора, бакалавра искусств и богословия преподобного Сидни Уэбстера и помощника по религиозному воспитанию, бакалавра искусств мистера Генри Уинка.
Мистер Уэбстер был секретарем епископа Тумиса, и можно было смело предсказать, что со временем он станет секретарем какого-нибудь влиятельного церковного совета: издательского, миссионерского или совета воздержания и нравственности. Это был мужчина лет двадцати восьми, в прошлом один из лучших баскетболистов Бостонского университета, молчаливый, как президент Новой Англии, точный, как арифмометр, холодный, как сердце бюрократа. Если к богу и к человечеству в целом он и питал суровую, но преданную любовь, то любви к живым и конкретным людям не испытывал никакой. Если он ненавидел грех вообще, то живых и настоящих грешников он слишком сильно презирал, чтобы удостоить их своею ненавистью. Он просто отворачивал от них свое ледяное лицо и предоставлял им катиться в преисподнюю. У него не было пороков. И, кроме того, он знал свое дело. Он умел проповедовать, умел отделываться от попрошаек, благочестиво и с достоинством читать молитвы у смертного одра, сокращать церковные расходы и толково объяснять, что такое святая троица.
Что касается Генри Уинка, то он шепелявил и любил рассказывать глуповатые анекдоты, но был великолепен как руководитель воскресной школы, курсов по изучению закона божьего во время каникул и различных организаций Эпвортской Лиги.
Теперь, когда основную часть церковных обязанностей взяли на себя мистер Уэбстер и мистер Уинк, Элмер стал занят не меньше, а больше. Он уже не просто зазывал публику к себе в церковь, но шел на улицу и, если можно так выразиться, тащил ее к себе насильно. Он не просто клеймил порок. Он победоносно искоренял его.
III
Пробыв в Зените год и девять месяцев, Элмер создал Комитет Общественной Морали и совершил облавы на район публичных домов.
Ему стало казаться, что о нем с некоторых пор меньше пишут в газетах. Даже его друг полковник Резерфорд Сноу, владелец «Адвокат-таймс», объяснил ему, что газета не может вечно преподносить под рубрикой «Новости» только слова. Новости — это главным образом сообщения о том, что делается, а не о том, что говорится. «Ну, ничего, теперь, когда развлекать братьев могут Уэбстер и Уинк, увидите, как я возьмусь за дела!» — мысленно дал себе зарок Элмер.
По вдохновению свыше ему открылось, что внезапно, по какой-то неведомой причине, «положение в Зените резко изменилось к худшему: безнравственность разъедает общество сверху донизу, угрожая моральным устоям молодого поколения и святости домашнего очага. Духовенство уже не может больше ограничиваться тем, чтобы стоять в стороне, предостерегая нечестивцев. Настало время выйти из величавого уединения, объявить открытую войну силам зла и лично возглавить наступление».
Эти ошеломляющие слова были брошены им с высоты кафедры, затем он повторил их в интервью и еще раз — в письме к наиболее значительным духовным лицам города, приглашая их собраться вместе, чтобы создать Комитет Общественной Морали и выработать план военных действий.
Дьявол, по-видимому, дрогнул. Во всяком случае, газеты писали, что даже угрозы создания Комитета было достаточно для того, чтобы целый «ряд известных мошенников и женщин легкого поведения покинули город». Имена беглецов, однако, названы не были.
Предполагалось, что в Комитет войдут: от методистов — преподобные Элмер Гентри и Отто Хикенлупер, от конгрегационалистов — Дж. Проспер Эдвардс, от пресвитериан — Джон Дженнисон Дрю, от лютеран — Эдмунд Сент Винсент Зан, от кемпбеллитов — Джемс Ф. Гомер, от католиков — отец Мэтью Смисби, Бернард Амос — от евреев, Хозия Джессуп — от баптистов, Виллис Форчун Тейт — от епископальной церкви и Ирвинг Тиллиш — от «Христианской науки», а также секретарь ХАМЛ Уоллес Амстед, четыре высоконравственных мирянина и юрист мистер Т. Дж. Ригг.
Они собрались на завтрак в малом банкетном зале роскошного Спортивного клуба. Чтобы доказать посторонним, что они настоящие свойские ребята, хоть и священники, они, столпившись перед завтраком в вестибюле клуба, с особенным задором окликали проходящих мимо знакомых: врачей, владельцев цветочных магазинов, коммерсантов-оптовиков. Так, доктор Дрю, пресвитерианин, крикнул агенту по продаже недвижимости некоему Джорджу Бэббиту:
— Эй, Джорджи! Бутылочку с собой не прихватил? Завтракаю в компании священников, а они, надо думать, будут не прочь смочить глотку!
Мистер Бэббит принял шутку восторженно, а со стороны духовенства она вызвала взрыв хохота у всех, исключая мистера Тейта из епископальной церкви и мистера Тиллиша из секты «Христианская наука».
Банкетный зал клуба представлял собою узкую красную комнату, в которой висели две фотографии — мохнатая сосна на фоне необыкновенно высоких гор и под сосной молодые индианки литовского происхождения, в национальных костюмах, прелестно открывающих их ножки. В соседнем банкетном зале происходил завтрак Ассоциации поставщиков мужского платья, и мистер С. Гаррисон Сигел из Нью-Йорка держал речь на тему «Прокат Фрачных Костюмов» и «Как Поставить Дело в Фешенебельном Ателье».
Будущий Комитет Общественной Морали восседал вокруг длинного узкого стола на гнутых деревянных стульях, в которых члены Комитета все время тщетно старались откинуться назад. Их стол отнюдь не ломился от яств и напитков, а на это дьявольское зелье — ром и намека не было, и лишь бокалы с ледяной водой строго поблескивали своей наготой.
Завтракали чинно и благопристойно: бульон, сельдерей, жареная баранина, почти совсем остывшая, картофельное пюре, холодное, как лед, переваренная брюссельская капуста, мороженое, довольно тепленькое. Кофе в огромных чашках. После завтрака не курили.
— Я не знаю, кто из нас самый старший, — начал Элмер, — но, разумеется, ни один из присутствующих здесь не имеет таких заслуг и такого редкостного опыта на поприще христианского служения, как доктор Эдвардс из церкви конгрегационалистов. Я уверен, что все вы поддержите мою просьбу о том, чтобы он прочел молитву перед нашей трапезой.
Застольная беседа носила еще менее оживленный характер, чем даже молитва.
Все они ненавидели друг друга. Каждый знал, в чем и при каких обстоятельствах проштрафились остальные: кто хитростью переманил — или, по слухам, пытался переманить к себе — чужого прихожанина, подорвал его веру и прикарманил пожертвования. Доктор Хикенлупер заявил в печати, что у него самая крупная воскресная школа в городе, доктор Дрю заявил то же самое о своей. Всем протестантам хотелось бы забросать отца Смисби коварными вопросами насчет непорочного зачатия, а отец Смисби, улыбчивый брюнет лет сорока, заготовил на случай, если будут нападать на католическую церковь, анекдот о муравье, сказавшем слону: «А ну, посторонись, ты что, не знаешь, кого толкнул?» Всем им, за исключением мистера Тиллиша, хотелось бы спросить мистера Тиллиша, как это он дал себя одурачить этой авантюристке, Мэри Бейкер Эдди, и все, за исключением раввина, были бы очень не прочь спросить у рабби Амоса, отчего это евреи такие идиоты, что не желают перейти в христианство.
Они были ужасающе любезны друг с другом. Они разговаривали вежливыми голосами, и слишком часто улыбались, и совершенно не слушали друг друга. Элмер с тревогой заметил, что, если их не объединить тотчас же, они разбегутся еще до того, как будет создан Комитет. Но что же это за единственная тема, которая вызовет у них всех радостный интерес? Как что? Конечно, порок! Он обрушится на порок сейчас же, не дожидаясь делового заседания после завтрака.
Он постучал по столу, требуя слова.
— Большинство из вас живет в Зените дольше меня. Я признаю свою неосведомленность. Правда, мне удалось выявить многочисленные случаи ужасного, ужасающего тайного греха. Но вот вы, джентльмены, вы, кто знает город гораздо лучше меня, скажите, прав я или нет? Действительно ли положение вещей так ужасно, как мне представляется, или, быть может, я преувеличиваю?
Все оживились и просияли и, как-то вдруг распознав в Элмере человека все-таки по-настоящему симпатичного, начали упоенно рассказывать о своих прискорбных открытиях… Был приведен леденящий душу случай, когда отец нашел в сумочке своей шестнадцатилетней дочери неприличные открытки. Было высказано страшное подозрение, что на банкете ветеранов войны в Лерой-хаузе танцевала молодая особа, весь наряд которой состоял из туфелек и шляпы.
— Я знаю все подробности об этом банкете — мне их рассказал один из моих прихожан, и если вы считаете, что вам тоже следует их знать, я охотно поделюсь с вами, — вызвался доктор Гомер.
Весь вид присутствующих красноречиво говорил, что им, безусловно, следует все это знать, и доктор Гомер углубился в подробности, и в конце его весьма детального рассказа доктор Джессуп судорожно глотнул.
— Да-а, этот Лерой-хауз — сущий вертеп! Его надлежит сровнять с землей!
— Несомненно. Я вообще человек мягкий, — прогремел лютеранин доктор Зан, — но будь моя воля, я сжег бы владельца этого притона на костре!
У каждого оказался наготове рассказ о каком-нибудь происшествии, свидетельствующем о разгуле порока во всем городе. У каждого, кроме отца Смисби, который сидел, молчал и улыбался, представителя епископальной церкви доктора Тейта, который сидел и молчал со скучающим видом, и представителя «Христианской науки» мистера Тиллиша, который сидел и молчал с ледяным выражением лица. По правде говоря, могло показаться, что, несмотря на их собственные усилия и усилия тысяч других вдохновенных и знающих свое дело христианских священников, которые с самого момента основания Зенита не покладая рук трудились над его совершенствованием, этот самый Зенит являет собою не что иное, как второй Содом. И все же почему-то казалось, что встревоженные апостолы не так уж сильно встревожены, как говорят. С вниманием, пожалуй, даже благосклонным, слушали они, как доктор Зан с сильным немецким акцентом говорит о скандальных любовных историях девушек из общества, так отлично знакомых ему по рассказам самого богатого из своих прихожан, у которого он обедал раз в году.
Да, все они были, несомненно, горячо увлечены проблемой порока, что с весьма отрадным чувством и отметил Элмер Гентри.
Но когда настал момент перейти от слов к делу, вынести резолюцию, избрать состав подкомиссий, наметить программу действий — все повернули на попятный.
— Неужели мы не можем объединиться, действовать сообща? — тщетно взывал Элмер. — Разве при всех различиях в вере мы не чтим одного и того же бога, разве не защищаем один и тот же кодекс нравственности! Я лично представляю себе этот комитет как постоянную организацию, и затем, когда подойдет время… Подумайте, какая встряска для города! Каждый из нас получает полномочия специального шерифа полиции и лично идет походом на всяческую мерзость, хватая гнусных душегубов, швыряя их туда, где они никому не смогут причинить вреда. И, может быть, мы поведем за собою в этот крестовый поход наших прихожан! Подумайте только!
Они подумали — и забеспокоились.
— Моя церковь, джентльмены, — заговорил отец Смисби, — вероятно, придерживается более строгой доктрины, чем ваша, и все-таки я не думаю, чтобы моих единоверцев потрясло открытие, которое, по-видимому, так сильно поразило вас, — а именно тот факт, что грешники временами грешат. По-видимому, католическую веру трудно исповедовать, но с нею легче жить.
— Что касается моей организации, — произнес мистер Тиллиш, — то для нее дикая охота на ведьм неприемлема в той же мере, что и бездумная благотворительность. Ибо как бедняки, так и грешники… — он слегка присвистнул сквозь свои великолепные, хоть и фальшивые зубы и с ледяной снисходительностью продолжал: — …имеют полную возможность прочесть в «Науке и Здоровье» или услышать на всех наших собраниях одну непреложную истину: что и порок и бедность, так же как и болезни, суть вещи нереальные, ошибки, избавление от которых состоит в том, чтобы уяснить себе, что средоточие вселенной есть господь; что болезни, смерть, зло, порок есть отрицание милостивого и всемогущего бога — отрицание жизни. Если же эти, с позволения сказать страдальцы не приемлют истину, которую им предлагают, и в такой доступной форме, — что ж, прекрасно! Наша ли это вина? Я разделяю ваше сочувствие к этим несчастным, но вам не истребить невежество огнем.
— М-да, боюсь, что и я тоже пас, — лукаво усмехнулся рабби Амос. — Если уж вам так нужен раввин-крестоносец, завербуйте какого-нибудь хлыща-либерала из Цинциннатского колледжа, впрочем, все эти юнцы так горячо сочувствуют грешникам, что и от них вам будет мало проку! Во всяком случае, члены моей общины так ужасающе респектабельны, что если их раввин найдет себе еще какое-то занятие, кроме как сидеть у себя в кабинете с ученым видом, они тут же выкинут его вон.
— А я, — сказал доктор Виллис Форчун Тейт из епископальной церкви, — могу, с вашего позволения, рассматривать этот проект — выступление духовных лиц в роли полисменов и собственноручную расправу с преступниками — лишь как в высшей степени вульгарную и к тому же бессмысленную затею. Я понимаю ваши возвышенные идеалы, доктор Гентри…
— Мистер Гентри.
— …Мистер Гентри, и уважаю вас за них, я высоко ценю вашу энергию, но я покорнейше прошу вас учесть, как превратно все это будет истолковано и прессой и рядовыми мирянами, с их безнадежно обывательскими и отсталыми взглядами на вещи.
— Боюсь, что я вынужден согласиться с точкой зрения доктора Тейта, — молвил конгрегационалист, доктор Дж. Проспер Эдвардс с видом Памятника Пилигримам[177], вынужденного согласиться с точкой зрения Вестминстерского аббатства[178].
Что же касается остальных, то, заявив, что нужно «обдумать все на досуге», они с наивозможнейшей любезностью поспешили раскланяться и разойтись.
А Элмер вместе со своим другом и своей опорой, мистером Т. Дж. Риггом, направился к зубному врачу, в кабинете которого лицо, облеченное духовным званием, обречено на короткий срок стонать, и корчиться, и, булькая, полоскать рот, как любой нормальный человек.
— Ну и компания! — возмущался мистер Ригг. — Перепуганные пророки! Благородные образчики мороженого в трубочках! Не повезло, брат Элмер! Сочувствую! Крестовый поход против порока — идея что надо! Не думаю, конечно, что он хоть в малейшей степени повлияет на судьбы порока, да в этом, видимо, нет и необходимости. Надо же оставить беднягам, лишенным наших возможностей, хоть какую-то отдушину! Но к церкви это привлекло бы большое внимание. Я очень горд, что мы вновь поднимаем из руин нашу Уэллспрингскую старушку. Эта церковка, знаете, — моя слабость… А тут, понимаешь, эти духовные сосульки! Не поддержать такую идею! Возмутительно!
Он взглянул на Элмера и увидел, что тот посмеивается.
— Да я ничуть не огорчен, Т. Дж. Наоборот, здорово! Во-первых, я отпугнул их от этой темы. Пока они снова возьмутся бичевать порок, эта тема уж будет прочно запатентована нашей церковью. Во-вторых, у них теперь не хватит духу мне подражать, если я все же возьмусь за этот крестовый поход. А в-третьих, это дает мне возможность громить их с кафедры. И я ею воспользуюсь, будьте уверены! Ну, конечно, не называя имен, — пусть не думают, будто я вымещаю зло, — я просто расскажу своей пастве, как убеждал группу священников принять практические меры, чтобы покончить с развратом, и как эти священники струсили.
— Отлично! — одобрительно кивнул попечитель. — Мы им докажем, что Уэллспринг — единственная церковь, которая действительно следует заветам евангелия.
— Вот именно! Теперь слушайте, Т. Дж. Если вы, попечители, выделите мне на это средства, я думаю пригласить двух хороших частных сыщиков, и пусть они мне добудут точные адреса злачных мест — ведь есть же такие, наверно, — и кой-какие доказательства. Потом я накинусь на полицию за то, что она их не накрыла. Скажу: что ж, мол, вы смотрите, об этих притонах все знают, значит, и вы должны знать. Между прочим, наверное, так и есть… Что будет! Сенсация! Каждый воскресный вечер — новое разоблачение! И так целый месяц! Заставлю начальника полиции ответить нам на страницах печати!
— Дельная мысль! Что ж, я как раз знаю подходящего человечка — бывший агент государственного комитета борьбы с нарушителями сухого закона, уволен за шантаж и пьянство. Не то чтобы двурушник — куда честнее, чем многие такие агенты, но все же адресок-другой, думаю, нам подкинет. Я его к вам направлю.
IV
Когда преподобный Элмер Гентри объявил с высоты кафедры, что власти Зенита «умышленно потворствуют пороку, который умело пользуется своей безнаказанностью», и что он может назвать адреса и имена владельцев шестнадцати публичных домов, одиннадцати нелегальных питейных заведений, двух агентств по продаже кокаина и героина, а также совершенно непристойного кафешантана, с программой столь чудовищной, что он может лишь намекнуть о характере исполняемых в нем номеров, — когда он предъявил тяжкие обвинения начальнику полиции и обещал представить более подробные улики в следующее воскресенье, весь город заклокотал.
Сенсационные заголовки на первой полосе, злобные возражения со стороны мэра города и начальника полиции, контрвозражения Элмера, бессчетные интервью, целая полоса, посвященная торговле «живым товаром» в Чикаго. Бурные дебаты в клубах и конторах, церковных обществах, потайных комнатах «безалкогольных» баров. Сотни посетителей, телефонных звонков, писем. Элмер не успевал отбиваться. Его помощник Сидни Уэбстер и секретарь мисс Бандл были не в силах преградить доступ толпе, и он укрылся в доме Т. Дж. Ригга, не принимая никого, кроме газетчиков, которые по каким-либо соображениям — христианским или же братским — пожелали бы увидеться с ним.
Во второй вечер воскресных разоблачений церковь была переполнена за полчаса до начала, забит был даже вестибюль, и сотни людей ломились в закрытую дверь.
Элмер назвал точный адрес восьми нелегальных кабаков, рассказал о том, как там напиваются маисовым виски, и о том, сколько полисменов в полицейской форме побывало за эту неделю в наиболее соблазнительных из этих притонов.
Полиция сделала все, что могла, чтобы помочь своим друзьям прикрыть на время свой бизнес, но все же десятка полтора из сотни с лишним преступников, названных Элмером, пришлось арестовать. Зато начальник полиции взял реванш, заявив, что больше ни одного не найти.
— Превосходно, — нежно прожурчал на это Элмер в набранном жирным шрифтом, взятом в рамку и помешенном на видном месте заявлении, — произведите меня временно в чин лейтенанта полиции, дайте отделение полисменов, и я вам за один вечер — любой, кроме воскресного, — найду и закрою пять нелегальных кабаков.
— Согласен. Можете начинать свои налеты завтра, — прозвучал в «последних известиях» официально сдержанный ответ начальника полиции.
Мистер Ригг слегка встревожился.
— Пожалуй, вы хватили через край, Элмер. Если вы по-настоящему восстановите против себя кого-нибудь из крупных оптовиков-бутлеггеров[179], они нас крепко прижмут с деньгой. А если тронете бандитов — могут прихлопнуть, очень даже просто. Чертовски опасная штука.
— Знаю. Не волнуйтесь, я себе выберу кого-нибудь из мелкой сошки, самогонщиков, которые не пользуются покровительством полиции, разве что сунут участковому пятерку или десятку. Газеты ради рекламы их распишут настоящими гангстерами и убийцами, а мы пожнем лавры, не делая глупостей и не рискуя.
V
Огромная толпа — не менее тысячи человек — собралась в тот вечер у крыльца Центрального полицейского участка. Двенадцать вооруженных полисменов спустились по ступенькам и замерли в стойке «смирно», поглядывая на дверь в ожидании своего командира. И вот он появился, преподобный Гентри — великий Гентри, — и остановился на крыльце в картинной позе. Полисмены отдали ему честь, толпа приветствовала восторженными или презрительными криками, а фотокорреспонденты лихорадочно защелкали затворами, ослепив собравшихся вспышками магния. На Элмере была фуражка лейтенанта полиции с золотым околышем, строгий сюртук, черные брюки. Под мышкой — библия.
Взревели и умчались два полицейских фургона. Все женщины в толпе, кроме нескольких представительниц самой древней в мире профессии, которые — увы! — выражали свое неодобрение весьма нецензурными фразами, ахнули от восторга перед этим современным Савонаролой.
Он обещал толпе раскрыть по меньшей мере один настоящий дом терпимости…
VI
Жили-были в Зените две молодые особы, которым надоело гнуть спину на скверном хлебопекарном заводишке, а по воскресным вечерам безвозмездно сносить грубые ласки грузных, бледных и одутловатых пекарей. Они установили, что в небольшой квартирке, недалеко от церкви Элмера, можно проводить время гораздо легче и веселей. Они обожали читать иллюстрированные журналы, танцевать под патефон и ходить в церковь — чаще всего в церковь Элмера. Возможно, их отношения с приятелями мужского пола и были несколько более утешительны, чем мог бы ожидать священник, познав на собственном опыте сладость священных и холодных, как лед, уз брака, но ведь этих приятелей у них было совсем немного, и девушки часто штопали им носки и при каждом удобном случае превозносили до небес ораторские таланты Элмера Гентри.
В тот вечер одна из подруг вела задушевную беседу с мужчиной, который, как выяснилось впоследствии на суде, не был ее мужем, а другая пекла на кухне пирог ко дню рождения своей племянницы, тихонько напевая гимн «Вперед, воинство христово». Внезапно и с изумлением она услышала внизу, на улице, грохот, звон и крики, затем топот многих ног на лестнице. Она порхнула в гостиную и увидела, как прелестная, отделанная под красное дерево дверь их квартирки разлетается под ударами прикладов.
В комнату, скаля зубы, ввалились двенадцать полисменов, а за ними, — к смущению и стыду хозяйки, кумир дома, обожаемый пророк, его преподобие Элмер Гентри. Только сейчас это был совсем не тот любезный, улыбчивый мистер Гентри, которого она знала по церкви. Этот мистер Гентри простер руку и с жестом, исполненным тошнотворнейшей святости, возопил:
— О блудница! Пусть грехи твои падут на твою голову! Отныне тебе уж больше не завлекать несчастных юношей в клоаку, в мерзостную пучину порока! Сержант! Держите револьвер наготове. Недаром говорят, что от женщин такого пошиба можно ждать чего угодно!
— Есть, лейтенант, будет сделано! — ухмыльнулся краснорожий полицейский сержант.
— Вздор, Гентри! Девчонка не опаснее золотой рыбки, это всякому видно, — заметил Билл Кингдом из «Адвокат-таймс», который два часа спустя уже строчил эпическое повествование о героизме Великого Крестоносца.
— Пошли, посмотрим, чем там занимается вторая! — заржал один из полисменов.
Сколько было смеха, когда, заглянув в спальню, они увидели, что у окна, с лицами, сведенными мучительным стыдом, съежились мужчина и полуодетая девушка!
Вот на нее-то, пропустив мимо ушей восклицание Билла Кингдома: «Слушайте, бросьте! Найдите себе кого-нибудь под стать — с кем вы связались!» — Элмер, гроза порока, обрушил всю мощь истинно библейского красноречия.
Только энергичное вмешательство Билла Кингдома удержало лейтенанта Гентри от того, чтобы приказать людям швырнуть блудницу в полицейский фургон прямо как есть, в одной рубашке. А затем Элмер повел свой отряд в тайный притон, где, по неопровержимым сведениям, люди губят свои тела и души, вливая себе в глотки адское зелье — виски.
VII
Мистер Оскар Гохлауф был содержателем пивной еще до сухого закона, но и после того, как был введен сухой закон, мистер Гохлауф продолжал оставаться содержателем пивной. Это было очень солидное, старомодное, убаюкивающе-тихое и симпатичное заведение; ни в одном другом кабачке — даже гораздо более роскошном — не было таких меню, артистически выведенных мылом на зеркале за стойкой, ни в одном не было такой дивной маринованной со специями селедки.
В этот вечер у стойки стояли трое: плотник Эмиль Фишер с густыми и пышными усами чуть ли не до ушей; его сын Бен — Эмиль приучал его пить доброе пиво вместо виски и джина, которыми Америка насильно спаивает народ, — и старый портной-швед папаша Соренсон.
Разговор шел о джазе.
— Вот я, скажем, приехал в Америку за свободой, а сын Бен, думается, поедет за свободой обратно в Германию, — говорил Эмиль. — Когда я был молодой, мы, бывало, как суббота, так вечерком соберемся и играем — Баха играем, Брамса — Gott weiss[180], играли мы ужасно, но что ж такого? Нам это было по душе, а слушать мы никогда никого не заставляли. А теперь, куда ни пойдешь, везде этот джаз, словно какая-то пляска святого Витта. Джаз и музыка есть то же, что этот преподобный Гентри, о котором пишут газеты — и наш добрый старый Prediger[181]. Я так думаю, что Гентри этот самый — он никогда и не рождался на свет, его попросту выдули из саксофона.
— Ладно тебе, па, страна подходящая, — вставил Бен.
— Та, это прафда, — с довольным видом произнес Оскар Гохлауф, срезая лопаткой пену с кружки пива. — Американцы, как я их фидел раньше, когда быль жиф Билл Най[182] и Юджин Филд[183], они люпили смеяться. Теперь они стали серьёссный. А когда нашнут смеяться опять, то они надорвут себе шивотики над челофеками вроде этого Гентри и фсеми этими пасторами, которые шелают фсем указыфать, как надо шить! Ну, а если народ смеется — у-уф! — тогда помогай бог пасторам!
— Да, это верно, — сказал портной-швед. — Слушай, Оскар, не говорил я тебе? Мой-то внучек Вильям стипендию в университете отхватил!
— Молодчина! — в один голос отозвались все, дружески хлопая папашу Соренсона по плечу… Вдруг в парадную и заднюю дверь ворвалась дюжина полисменов в сопровождении рослого и сумрачного джентльмена, вооруженного библией.
— Этого арестовать, всех остальных тоже задержать! — прогремел сумрачный джентльмен, указывая на оторопевшего Оскара. И, обращаясь к своей жертве и молниеносно возникшей и возрастающей с каждой секундой аудитории, продолжал:
— Попался, несчастный! Вы — один из тех, кто учит молодых людей пить; это вы толкаете их на скользкий путь, ведущий ко всем смертным грехам, к азартной игре и убийству, — вы с вашим дьявольским зельем, вашим пойлом, которое лакает сам дьявол!
Арестованный впервые в жизни, ошеломленный, сломленный, бессильно поникший в руках двух полисменов Оскар Гохлауф при этих словах выпрямился и закричал:
— Это гнусная лошь! Пока мне не мешали, я фсегда торговал пивом Эйтелбаума, лучшим во всем штате, а теперь фарю сфоё собственное. Это — хорошее пиво! Фнего ничего не намешано! «Дьяфольское зелье»! И фы беретесь судить о пиве! Сфинья хочет судить о стихах! Фаш Христос, который создал фино, — фот он бы оценил мое пиво!
Элмер прыгнул вперед, сжав свои огромные кулаки. Если бы не полицейский сержант, внезапно схвативший его за руку, он бы сбил богохульника с ног.
— В фургон нечестивца! — завизжал он. — Он у меня получит высший срок!
И Билл Кингдом пробормотал себе под нос: «Доблестный пастор в салуне один на один с толпой вооруженных до зубов головорезов укоряет их за то, что они поминают имя господа всуе. Да, выйдет классная статья… А потом, пожалуй, пойду и наложу на себя руки…»
VIII
По толпе свидетелей и среди самих полисменов пошел шепоток, что, судя по тому, как опасливо преподобный лейтенант Гентри держится сзади, вместо того, чтобы идти во главе, можно заключить, что он побаивается кровожадных злоумышленников, которым объявил столь беспощадную войну. И правда: Элмер не отличался особой любовью к дуэлям, где пускают в ход револьверы, зато он еще не утратил вкуса к рукопашным потасовкам; там, где требовалось проявить физическую силу, он не был трусом, в чем все и сумели убедиться, когда отряд нагрянул в заведение Ника Сполетти.
Ник, владелец бара в подвальчике, был в свое время боксером-профессионалом и отличался хладнокровием и решительностью. Услыхав приближение крестоносцев, он крикнул своим посетителям:
— Давай сюда, в боковую дверь! Я их задержу!
Первого полисмена он встретил у подножия лестницы и сбил с ног, ударив бутылкой по голове. Второй упал, споткнувшись о тело товарища; остальные замешкались, топчась на месте со смущенным видом, заглядывали друг другу через плечо, вынимали револьверы. Но Элмер почуял запах драки, и в тот же миг с него слетела всякая святость. Швырнув на пол библию, оттолкнув с дороги двух полисменов, он кинулся на Ника с нижней ступеньки. Ник замахнулся, целясь ему в голову, но Элмер, применив боксерский прием, дернул шеей, увернулся и нанес Нику точный и сокрушительный нокаут левой.
— Черт, ну и удар у преподобного! — проворчал сержант.
— М-да, неплохо… — вздохнул Билл Кинг дом.
И Элмер понял, что одержал победу, что теперь он станет героем Зенита, что отныне он не только Уильям Дженнингс Брайан[184] методистской церкви, но и ее сэр Ланселот[185].
IX
Еще два налета — и полицейский фургон доставил лейтенанта Гентри домой, и герой поднялся на свое крыльцо, сопровождаемый единодушным и даже не слишком сардоническим «ура» своих подчиненных.
Клео кинулась ему навстречу.
— Ты жив, какое счастье! Ах, что это, дорогой? Ты ранен?
На его щеке выступили капельки крови.
В порыве восхищения самим собой, такого огромного, что оно распространилось даже на его жену, он схватил ее в объятия, смачно поцеловал и загремел:
— А, пустяки! Все сошло грандиозно! Пять налетов, двадцать семь преступников арестовано — застали на месте, занимались таким изощренным распутством!.. Я даже и не знал, что такое бывает!
— Ах, бедненький ты мой!
Все бы хорошо, только аудитория была маловата: лишь Клео да еще горничная высунулась в переднюю.
— Пойдем расскажем детям! Пусть гордятся своим папочкой! — прервал он ее.
— Милый, так ведь они спят…
— Вот как! Ну, конечно. Значит, спать важнее. Важнее, чем узнать, что их отец — это человек, который не боится отстаивать евангелие даже ценою собственной жизни!
— Нет, я не это хотела сказать… я думала… Да, ты безусловно прав! Это для них чудесный пример — и такой назидательный. Только дай я тебе сперва наклею на щеку кусочек пластыря.
К тому времени, как она промыла ему царапину, и перевязала ее, и поахала над нею, он, как и рассчитывала Клео, успел забыть и о детях и о том, как им необходимо учиться на геройском примере отца, и, усевшись на край ванны, стал рассказывать жене о своих подвигах, достойных целого троянского войска. Клео слушала с таким благоговением, что он совсем было настроился на амурный лад, но тут она так тревожно и заботливо погладила его по руке, что он решил, будто она нарочно старается вызвать в нем нежные чувства, и разозлился. Что за эгоизм! В самой нет ни капли привлекательности, а тоже, туда же — пытается завлечь такого мужчину, как он! Он удалился к себе в комнату, от души жалея, что рядом нет Лулу. Вот кто порадовался бы такому славному, такому блистательному началу карьеры Джона Везли последнего образца!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
I
На судебном процессе Элмер добился осуждения шестнадцати из двадцати семи арестованных им злодеев, а Оскару Гохлауфу еще дали лишних шесть месяцев за сопротивление, оказанное властям при аресте, а также употребление бранных и оскорбительных выражений. Судья похвалил Элмера; мэр простил его; начальник полиции пожал ему руку и обещал предоставить ему наряд полиции в любое время и по первому требованию, а несколько репортеров — из тех, что помоложе, — даже и не почувствовали необходимости прикрыть рот ладонью, пряча усмешку.
С пороком в Зените было покончено. Прошел целый месяц, прежде чем хоть одна из веселых девиц смогла опять по-настоящему развернуть работу, впрочем, галантные тюремщики исправительного дома нередко позволяли то одной, то другой отлучиться на вечерок.
Каждый воскресный вечер толпы людей пытались проникнуть в переполненную церковь Элмера. Здесь всегда было что-нибудь интересное: если не проповедь о пороке, так по крайней мере сольное выступление саксофониста или хоровое исполнение «А у нас в Старом городе будет жаркое дело».
А однажды прихожан развлекал профессионал-фокусник, на груди у которого висела табличка «Я за Слово Божье» (идея принадлежала самому Элмеру); фокусник показывал, как легко можно поднять тяжелые гири с символическими надписями: «Грех», «Горе», «Невежество», «Папизм».
Совет попечителей обсуждал проект постройки новой и гораздо более просторной церкви. Элмер вот уж год, как готовил для этого почву, постоянно обращая внимание попечителей на размах строительства новых жилых домов на месте прежних обветшалых строений Старого города.
Совет повысил ему жалованье до пяти тысяч в год и выделил дополнительные средства на организационную работу. Элмер, правда, не заводил такого количества клубов для изучающих хиропрактику или искусство кинематографа, как доктор Отто Хикенлупер из Центральной методистской церкви, но зато с девяти утра до десяти вечера не было такой минуты, чтобы в его церкви не заседал какой-нибудь кружок, стараясь творить для кого-нибудь какое-нибудь добро… и даже после десяти вечера в церкви часто можно было застать самого Элмера, совещающегося с Лулу Бейнс-Нейлор по вопросам, связанным с курсами кулинарного искусства.
Элмер сообразил, что его нашумевший крестовый поход и его «Веселые Воскресные Вечера» таят в себе опасность: вместо великого вождя нравственности в нем начнут видеть просто шута.
«Надо что-нибудь придумать — и достоинство соблюсти и публику завлечь, — размышлял он. — Пусть кривляются за меня другие, а мое дело — стоять на пьедестале. И что-то я уж слишком часто улыбаюсь, это не годится. Видимо, все несчастные болваны решили, что мои воскресные вечера — просто-напросто веселое эстрадное представление. Ну ладно же! Угостим их старой доброй громовой проповедью о геенне огненной, вечных муках. Или ввернем что-нибудь поэтическое — в самый разгар веселья».
Получилось, и очень недурно! Правда, многие из священников-конкурентов продолжали называть его шутом, шарлатаном и любителем дешевых сенсаций, но никто не мог отрицать, что Элмер Гентри обладает возвышенной душою и солидным научным багажом — особенно после того, как хотя бы раз воочию видел его застывшим в молчаливой и скорбной молитве и слышал, как, подняв свой длинный перст, он выговаривал нараспев:
— Вы смеялись сейчас. Вы пели. Вы веселились. Но что хотели вы найти в пустыне сей? Только ли смех? Мне хотелось бы, чтобы вы сейчас задумались на минуту и просто вспомнили, давно ли вам по-настоящему стало ясно, что в любую ночь за вашей душою может явиться смерть и что тогда — как вы ни смейтесь, как ни плачьте — все равно: если вы не обрели мир во Христе, если не признали Иисуса спасителем своим, то не надейтесь, что в последнюю минуту вам удастся покаяться. Нет, вы будете ввергнуты в геенну огненную, обречены на страшные, неслыханные и нестерпимые вечные муки!
Элмер стал такой выдающейся личностью, что был с воодушевлением принят в члены Ротари-клуба.
В Ротари-клуб входили бухгалтеры, портные, остеопаты, ректоры университетов, владельцы фабрик ковровых изделий, владельцы рекламных бюро, магазинов дамских шляп и музыкальных инструментов, фабрик искусственного льда, фабрик-прачечных и тому подобные лидеры общественной мысли. Раз в неделю они собирались, чтобы позавтракать вместе, послушать обращение заезжего актера или речь политикана, направленную против дипломатических отношений с Россией, полюбоваться эксцентрическими танцами эстрадного ансамбля и потешить себя пламенными словопрениями об этике Бизнеса и Служения Народу. Они утверждали, что их единственное желание при всем различии их призваний — вовсе не делать деньги, но лишь служить на благо того, что именуется обществом! Они говорили об этом служении так же искренне и серьезно, как преподобный Элмер Гентри говорил о пороке…
В обществе ротарианцев[186] Элмеру дышалось удивительно привольно; ему здесь нравилось все: и чувствовать себя своим парнем среди таких славных ребят, и произносить коротенькие спичи о том, скажем, что «Будь Иисус Христос жив в наши дни, он стал бы членом Ротари-клуба; Линкольн был бы сегодня членом Ротари-клуба; Уильям Мак-Кинли[187] был бы тоже ротарианцем в наши дни. Ибо все эти люди проповедовали принципы Ротари: один за всех, и все за одного; будь готов помогать своим ближним и почитай бога».
Одним из правил этой организации, бурлящей весельем и задорными шутками в перерывах между вдохновенными речами, было называть друг друга за завтраком по имени. Преподобного мистера Гентри окликали: «Элмер» или «Элм», — и он, в свою очередь, тоже называл своего галантерейщика «Айк», а своего сапожника ласково звал «Руди». Несколько лет назад подобная фамильярность могла бы вызвать у него желание держаться развязно, ввернуть вульгарное словцо или даже выпить. Но теперь он уже прочно вошел в роль человека достойного и, уронив невзначай: «Шикарный денек, Шорти!», — поспешно и гладко завершал в высокопарных тонах: «Полагаю, вам удалось на этой неделе насладиться красотою молодой листвы на лоне природы». И Шорти — да и его приятели — не уставали трубить на всех углах и перекрестках, что преподобный Гентри — «отличный парень, душа компании, и вместе с тем глубокий философ и просто потрясающий оратор».
Когда Элмер рассказал о невинных радостях Ротари-клуба Т. Дж. Риггу, адвокат поскреб подбородок.
— Недурно. Но вот какое дело, брат Элмер. Вы кое-что упускаете из виду. Вы забыли, что на свете есть денежные тузы, люди с тугими кошельками. С ними необходимо познакомиться. Методистов среди них не так уж много — они по большей части предпочитают епископальную церковь, пресвитерианскую, конгрегационалистов или Христианскую науку, а не то вообще не принадлежат ни к какой церкви. Однако это еще не означает, что мы не можем обратить их денежки в методистскую веру. В загородном клубе Тонаванда — я туда попал только благодаря одному субъекту, который спекулировал пшеницей, да еще пришлось его, можно сказать, прямо-таки шантажировать, — так вот в загородном клубе Тонаванда едва ли встретишь многих из этих ваших ротарианцев.
— Но, но как же так, Т. Дж.? Ведь ротарианцы — это… Ведь там и Айра Ранион — а он главный редактор «Адвоката», — видные агенты по продаже недвижимого, например, Уин Грант…
— Так-то так, но хозяина этого самого «Адвоката» и банкира, который позволяет Уину Гранту копошиться, пока он не прогорит, членов правления корпорации, которая всех их спасает от тюрьмы, — вот их-то, злодеев, вы не встретите на каком-то клубном завтраке; эти вам не станут верещать о служении обществу! Их вы найдете за маленькими столиками старого Юнион-клуба[188], где они надрывают себе животы, высмеивая это самое служение. А играть в гольф они ездят в Тонаванду. В Юнион-клуб мне вас не протащить. Там не потерпят священника, который разглагольствует о пороке. Священники, которые состоят членами Юниона, обсуждают последнюю модель кадиллака и сетуют на то, как трудно достать настоящий итальянский вермут. Но Тонаванда — это другое дело. Туда могут и пустить. Для пущей респектабельности. Чтобы доказать, что тех бутылок с джином, что спрятаны в потайных ящичках их потайных шкафчиков, просто-напросто не может быть на свете.
Шесть месяцев времени и хитроумные тайные маневры стратега Т. Дж. — и дело было сделано.
Уэллспрингский приход, а вместе с ним и пастор Уэллспринга расцвели от гордости, что Элмер достиг такого высокого социального положения: еще бы — ему разрешили играть в гольф с банкирами!
Одна беда: он не умел играть в гольф…
С апреля по июль, ни разу не показываясь на поляне одновременно с другими игроками, Элмер брал уроки у клубного тренера-профессионала, приезжая в Тонаванду по утрам три раза в неделю на элегантном новеньком бьюике, недавно купленном и почти уже оплаченном.
Тренер был, как водится, маленький и рыжий ворчун-шотландец (из Индианы) и — опять-таки, как водится, — такой грубиян, что Элмер при нем держался овечкой.
— Выбили дерн — кладите обратно! Что это вам, церковь, что ли? — рычал тренер.
— А, черт! Забываю, Скотти, — заискивающе оправдывался Элмер. — Достается вам с нами, священниками, да?
— Священники — это мне тьфу, и миллионеры — тоже тьфу, а вот поле для гольфа — это для меня вещь, — ворчал Скотти. (Он был ревностным пресвитерианином, и колоритно грубить клиентам-христианам ему было так же тяжко, как и сохранять шотландский акцент, которому он научился у настоящего ирландца из Ливерпуля.)
Элмер был силен и покладист — на свежем воздухе, — и глаз у него был верный. Когда он впервые при всем народе вышел на поле Тонаванды в составе четверки: он, Т. Дж. Ригг и два самых уважаемых в городе врача, — он сам и его игра привлекли внимание и детально обсуждались. А когда, переодеваясь потом в гардеробной, он подчеркнуто не заметил плоской бутылочки, что ходила по рукам в десяти футах от него, он был признан и принят как человек вполне светский.
Уильям Доллинджер Стайлс, член правления Тонаванды и президент легендарной Компании металлических изделий «У. Д. Стайлс», — тот самый Стайлс, который ввел в обиход всей страны от Луисвиля до Детройта Обоюдоострый Топорик, а в обиход тонавандского клуба белые бриджи, — да, да, тот самый Стайлс, этот барон, этот епископ бизнеса, сам представился Элмеру и приветствовал его как нового члена клуба.
— Рад вас здесь видеть, святой отец! В гольф давно играете?
— Нет, только научился, но, будьте покойны, заболел всерьез и надолго.
— Правильно, ваше преподобие. Я лично придерживаюсь такого взгляда на этот счет: для нас, кому приходится сидеть за письменным столом и принимать решения, которые определяют жизнь простого народа, ваши — в религиозном плане, мои — в коммерческом, — для нас, как я сказал, а через нас и для простых людей очень полезно, знаете, выбраться иной раз на природу, поддерживать себя в форме, чтобы справляться с решением наших сложных проблем (я, кстати, недавно как раз говорил об этом на банкете Торговой палаты) и сохранять здравый, разумный взгляд на вещи, чтобы не поддаваться всем и всяческим переливам в непостоянном и капризном общественном мнении, что неизбежно привело бы…
Короче говоря, мистер Уильям Доллинджер Стайлс сказал, что любит гольф.
Элмер нежно поддакивал.
— Да, да, очень верно, совершенно правильно. Очень многим священникам совсем бы не помешало почаще проводить время на свежем воздухе и заниматься спортом, вместо того чтобы вечно сидеть да читать.
— Вот-вот. Эх, жаль, не слышит вас сейчас мой духовный пастырь… не скажу, что б я так уж часто бывал в церкви, но, как казначей приходского совета, интересуюсь, конечно… Дорчестерская конгрегационалистская, знаете ли. Преподобный Шаллард.
— А, Фрэнк Шаллард! Как же, знаю еще со времен богословской семинарии! Чудный малый, честный, умница.
— Да, все так, только одно мне не нравится — вечно, понимаете, заводит разговоры об этих мошенниках из рабочих профсоюзов, чуть ли не открыто берется их защищать. Я потому и не хожу на его проповеди, а старосты мои никак не желают ничего замечать. Ну и потом, как я уже сказал, такому бы очень полезно больше бывать на воздухе… Что ж, очень рад был познакомиться, преподобный отец. Надо вам как-нибудь сыграть и в нашей четверке, если только вас не очень будет коробить, когда — неровен час — у кого-нибудь сорвется крепкое словечко.
— Уж как-нибудь постараюсь выдержать, сэр! Очень приятно было с вами познакомиться!
«Так вот оно что, — размышлял Элмер. — Стало быть, наш слюнявый интеллигентик Фрэнк заполучил к себе в приход такого богача, как Стайлс, и Стайлс его недолюбливает. Не перейдет ли Стайлс к методистам?.. А не переманить ли его от Фрэнка? Посоветуемся с Т. Дж…»
Но вокруг было так прелестно, денек был так хорош, а клуб Тонаванда до того фешенебелен, что это чисто религиозное раздумье Элмера сменилось мыслями более эстетического порядка.
Ригг уже уехал домой. Элмер сидел один на просторной веранде Тонаванды, длинного серого загородного дома на холме, спускающемся к реке Эпплсид. На том берегу среди фруктовых садов рыжими пятнами раскинулись ячменные поля. По площадке для гольфа двигались фигурки: мужчины в пестрых твидовых костюмах, девушки в коротких юбочках, развевающихся вокруг ног. Вот на роллс-ройсе подъехал какой-то мужчина в белом спортивном костюме — это был еще первый и единственный роллс-ройс во всем Зените, — и Элмер почувствовал прилив гордости от сознания, что он принадлежит к тому же клубу, что и хозяин шикарного автомобиля. На лужайке перед верандой пили чай под полосатыми садовыми зонтами мужчины с усами, как у английских офицеров, хорошенькие женщины в легких светлых платьях…
Элмер не был знаком ни с кем из них, хотя многих знал в лицо.
— Ничего, придет день, когда и я буду там, с этими франтами! Надо только действовать осторожненько, держать нос повыше и никому не навязываться в друзья с первой встречи.
Недалеко от него группа очень солидных на вид мужчин лет пятидесяти беседовала об искусстве и политике. Элмер прислушался. Да, Ригг был прав. В Ротари-клубе славные ребята, порядочные, образованные, джентльмены из хорошего круга, и деньгу гребут лопатой, и в бизнесе знают толк, и в то же время придерживаются самых высоких взглядов. Но до этих тузов им далеко: не тот класс!
Упоенно внимал он доносившимся до него обрывкам беседы этих воротил — биржевого маклера, владельца угольных рудников, известного адвоката и миллионера-лесопромышленника.
— Да, сэр, одного наша страна, в сущности, никак не может усвоить — того, что стабилизация английского фунта благоприятно влияет на нашу торговлю с Англией.
— Я им ответил, что не только не отказываюсь признавать прав трудящихся, но даже сам, можно сказать, вышел из рабочей среды и делаю для рабочих все возможное, но слушать кошачий концерт наемных агитаторов из так называемых профсоюзов — ну нет, увольте. А если им не нравится мой образ действий…
— Началось-то с семидесяти трех с половиной, но зная, как было дело с сарацинскими…
— Да, сэр, на Пирс-Эрроу можно вполне положиться, вполне…
Элмер испустил юношески-страстный, трепетный вздох. Подумать только, так близко от него — рукой подать — силы, которые правят Зенитом и думают за него, правят всей Америкой и думают за всю Америку! Ему так хотелось побыть здесь еще, но его призывало дело, хоть и явно недостойное его талантов: надо было подготовить краткую, но содержательную речь о миссионерской работе среди индейцев-диггеров.
«Когда-нибудь, — радостно мечтал он по дороге домой, — я буду на равной ноге с самыми избранными из них. А когда стану епископом, то, будьте уверены, от меня никто не услышит нудных слов о методах преподавания в воскресной школе. Начну принимать у себя сливки — сенаторов и прочих… У Клео на большом званом обеде в хорошем туалете будет вид что надо… Если б еще только не корчила из себя чопорную гусыню… Ну, ничего, может, она умрет к тому времени. Тогда, думаю, надо будет взять жену из епископального прихода… Интересно, дали бы мне эти ночные колпаки епископство, если переметнуться в епископальную? Классная штука! А впрочем, нет. Методисты сильнее. А потом в епископальной вряд ли дадут по-настоящему, крепенько пройтись с кафедры насчет греха и пороков…»
II
Три года назад Джилфезерская «Шатоква[189] корпорейшн», которая проводит свои однонедельные сессии в маленьких городках, не проявила никакого интереса, когда Элмер ясно дал понять, что в душе его созрело Слово к Американской Молодежи, которое, по его скромным подсчетам, должно стоить что-нибудь около ста долларов в неделю, и что он будет рад хоть сейчас же понести это Слово в гущу упомянутой молодежи. Но вот, когда, стерев с лица земли порок в Зените, Элмер завоевал себе славу в веках и даже два-три столбца в газетах Нью-Йорка и Чикаго, тут Джилфезерская Корпорация взглянула на него иными глазами. К нему приходили, его донимали просьбами, ему предлагали двести долларов в неделю, исполинский шрифт в афишах и трехмесячный контракт.
Но Элмеру не хотелось просить у своего попечительского совета трехмесячный отпуск. Он задумал другое: через год или два провести лето в Европе. Широкое и непосредственное знакомство с европейской культурой даст ему именно тот лоск, которого ему сейчас только и не хватает, чтобы занять любую церковную кафедру в стране. Впрочем, он все-таки согласился заменить со второй половины августа и по первую неделю сентября джилфезерскую звезду — доктора медицины, доктора остеопатии, доктора естественных наук Дж. Торстона Уоллета, который приводил в восхищение тысячные аудитории своей остроумной и поучительной лекцией «Диета или Смерть — Природа или Гибель», пока, к несчастью, не заболел в Повосси (штат Айова), объевшись неспелыми дынями.
Элмер наметил провести август со своим семейством в Северном Мичигане, причем наметил с величайшим неудовольствием, потому что, если в городе, где были и работа, и общественные дела, и Лулу, Клео еще можно было как-то терпеть, то жить целый месяц, не имея возможности уйти от ее постной, увядшей физиономии и плаксивого голоса, — это было тяжкое испытание даже для Профессионального Добродея.
Объяснив жене, что его призывает долг, он поспешно снялся с места и уехал, задержавшись лишь для того, чтобы успеть взять в публичной библиотеке несколько книг, которые вдохновляли бы его при подготовке к лекциям Шатоквы.
Он был в восторге — приключения, деньги, слава в новых местах, аудитория, для которой не надо будет придумывать свеженьких примеров «из личного опыта». А кроме того, как знать, не найдет ли он и подругу, которая поймет его и добавит к его мощному и мужественному таланту недостающий ему легкий, нежный оттенок женственности. Пора сознаться, что Лулу надоела ему почти так же, как Клео. Он мысленно рисовал себе образ этой подруги — быть может, пианистка Шатоквы или певица-сопрано, чревовещательница, исполнительница сольных номеров на музыкальной пиле… Неожиданная и волнующая встреча в янтарном освещении парусинового шатра… Встреча двух родственных, чистых и одиноких душ, словно после долгой разлуки…
И он, конечно, нашел.
III
Высокофилософская лекция Элмера, озаглавленная: «Остановись, молодежь!» — с поучительными высказываниями о пользе трезвости, целомудрия, трудолюбия и честности; с возвышенно-поэтическим гимном Любви (единственному светозарному лучу, что пробивается из-за темных туч жизни, утренней звезде и вечерней), с рассказом о том, как он, Элмер, спасал от пьянства и безбожия своего товарища по колледжу некоего Джима, — эта лекция вошла в золотой фонд классических шедевров Шатоквы.
А потом — никому в Созвездии Талантов, кроме, пожалуй, одного латышского джентльмена, не знавшего ни одного слова по-английски и исполнявшего народные песенки на стаканах с водой, не удалось так ловко, как Элмеру, обойти вопрос о Ку-Клукс-Клане.
В те дни новый Ку-Клукс-Клан — организация, объединяющая отцов, младших братьев и служащих тех, кто преуспел в жизни и стал членом Ротари-клуба, — как раз начал становиться политической проблемой. Многие из достойнейших священников — методистов и баптистов — поддерживали Ку-Клукс-Клан и сами пользовались его поддержкой, да и сам Элмер горячо разделял принципы Ку-Клукс-Клана: поставить на место всех иностранцев, евреев, католиков и негров, которым в Америке не место, — вообще дать возможность стопроцентным протестантам, вроде Элмера Гентри, спокойно править страной.
А между тем он заметил, что в крупных городах даже среди методистов и баптистов встречаются люди — известные и уважаемые богатые люди, которые считают, что человек может быть евреем и все же оставаться при этом американским гражданином. И он решил, что истинно американской и в то же время гораздо более надежной тактикой в этом вопросе будет тактика уверток, и потому везде пользовался обтекаемо-примирительной формулировкой, суть которой сводилась к следующему:
— В отношении религиозных, политических и общественных организаций я отстаиваю право каждого гражданина нашей свободной страны создавать вместе со своими согражданами таковые, когда и как ему угодно и для любой угодной ему цели. Но я равным образом отстаиваю право всякого другого свободного американского гражданина требовать, чтобы подобные организации не заставляли его менять в угоду им свой образ мыслей или — если того не требуют соображения нравственного порядка — свой образ действий.
Такой подход к делу устраивал и Ку-Клукс-Клан и противников Ку-Клукс-Клана, и все единодушно восхищались глубокомыслием Элмера Гентри. С шумом и треском прибыл он в городок Блэкфут-Крик, штат Индиана, и местный комитет доверил принять знаменитого собрата священнику-методисту, некоему Эндрю Пенджилли.
IV
Всегда немного одинокий, затерявшийся в бесконечных лабиринтах своих мистических дум, старый Эндрю Пенджилли чувствовал себя еще более одиноким с тех пор, как его покинул Фрэнк Шаллард.
Услышав о приезде преподобного Элмера Гентри, мистер Пенджилли прошелестел на заседании местного комитета, что будет рад принять у себя мистера Гентри, избавив его от необходимости терпеть все прелести деревенской гостиницы.
Он читал, что мистер Гентри — великолепный оратор, бесстрашный борец с Грехом. Мистер Пенджилли вздохнул. Ему самому почему-то никогда не удавалось обнаружить поблизости особенно много Греха. Что ж, это его вина. Глупый старый мечтатель. Зато теперь его дом — скромную обитель тихого деревенского cure — почтит своим присутствием сам архангел Михаил в сверкающих доспехах…
V
После вечерней лекции Шатоквы, сидя в лачуге мистера Пенджилли, Элмер любезно удостоил хозяина беседой.
— Так вы говорите, брат Пенджилли, что слышали о нашей работе в Уэллспринге? Но так ли мы близки сердцам слабых и несчастных, как вы вот здесь? О нет. Мне думается иной раз, что первое мое пасторство в городке, еще меньшем, чем этот, было во многих отношениях гораздо более плодотворно, чем вся эта хлопотливая сумятица в большом городе. Но даже и то, что действительно удается осуществить, вовсе не моя заслуга. У меня такие великолепные, такие трогательно-преданные помощники: младший пастор мистер Уэбстер — такой святой человек и вместе с тем превосходный работник, и мистер Уинк, и дьяконисса мисс Уизиджер, и мой секретарь милая мисс Бандл — что за верная душа, что за труженица… О да, воистину господь печется обо мне. Ну и, надо признать, что… м-м… имея таких людей, которые по-настоящему преданы работе, мы и вправду сумели кое-что осуществить по милости и с помощью божией. Вот, например, открыли курсы по декорированию витрин, причем единственные в своем роде и не только в Соединенных Штатах, но, вероятно, в Англии и Франции тоже. И уже видны результаты — отличные результаты: во-первых, целому ряду наших достойных молодых прихожан повысили жалованье, а кроме того, куда более бойко пошла торговля в городе, гораздо красивее стали витрины, а вы знаете, насколько это украшает улицу! Ну и, надо признать, наплыв прихожан все возрастает. На последней воскресной проповеди в Зените у меня было свыше тысячи ста человек, и это летом! А в разгар сезона нередко набирается около тысячи восьмисот душ, хотя помещение рассчитано всего на тысячу шестьсот. И не боясь показаться нескромным, — я тут, собственно, ни при чем, это все методы нашей работы, — думается, что можно смело сказать: каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок уходит от нас счастливым и в то же время с солидной порцией духовной пищи, которой им хватает на всю неделю. Видите, в чем дело, ну, во-первых, я, конечно, даю им в проповеди хороший заряд старых добрых евангельских истин, а потом вовсе не стесняюсь резать правду прямо в лицо и напоминать об ужасных последствиях греха, невежества и духовной лености. Да, сэр! Никакого замалчивания ужасов стародавнего испытанного ада — по крайней мере, в моей церкви! Но, с другой стороны, они у нас собираются на дружеские встречи, и тогда пастор для них — просто добрый приятель, свойский парень, и мы поем вместе бодрые, радостные песни. По душе им это все, спросите? Ого! Вы бы взглянули на наши сборы!..
— Мистер Гентри, — сказал Эндрю Пенджилли, — отчего вы не верите в бога?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
I
Единственным, что еще удерживало Фрэнка Шалларда в лоне церкви, была, как ему казалось, дружба с доктором Филиппом Мак-Гарри из Арборской церкви. Что же касалось его толстушки Бесс и трех чинных отпрысков, их он горячо любил, а еще больше жалел и в общем не сомневался, что сможет их содержать, работая и в другом месте.
Мак-Гарри не мог похвастаться ни выдающейся ученостью, ни блистательным красноречием, ни особыми добродетелями, но в нем удачно сочетались доброта, здоровый юмор, стремление к справедливости, подкрепленное здравым смыслом, и именно те черты настоящего товарища, которые Профессиональные Добродеи города Зенита — будь то лица духовного звания или обувные фабриканты — столь тщетно и кощунственно пытались изобразить шумными возгласами, громоподобными раскатами хохота и дружескими похлопываниями по плечу. Женщины доверялись его силе и чувству чести; дети не стеснялись его; мужчины поверяли ему свои тайные печали, а он предпочитал не ужасаться, а помогать.
Фрэнк его обожал.
Холостяк Мак-Гарри стал в доме Фрэнка своим человеком. Он знал, где хранится ломик для льда и где термосы для пикников; он так же естественно и просто, как Фрэнк, шел после поздних ужинов на кухню мыть посуду, а если, приходя, не заставал Бесс и Фрэнка дома, то поднимался в детскую, и родители, возвращаясь, заставали вопиющую картину: никто из детей не спит, хотя час неслыханно поздний, а Филипп сидит и преспокойно рассказывает им свои охотничьи приключения в Монтане, Аризоне и Саскачеване.
Именно так обстояло дело и в этот вечер. Фрэнк и Бесс вернулись домой с молитвенного собрания. Что касается самого Филиппа Мак-Гарри, то его молитвенные собрания, как правило, не затягивались. Многие говорили, что эти собрания — столь же неподобающая форма религиозной рекламы, как и Веселые Воскресные Вечера Элмера Гентри, но, если Мак-Гарри тоже имел обыкновение заставлять людей напевать себе: «И веселей, веселей, веселей» по всякому более или менее подходящему поводу, кроме разве что похорон, — он хотя бы не требовал, чтобы они при этом надрывали себе глотки…
Из детской они спустились в гостиную пасторского домика с веселенькими ситцевыми занавесками — гостиную, в то же время похожую на кабинет ученого из-за тяжеловесных и чопорных томов по социологии, принадлежащих хозяину. Фрэнк утонул в глубоком кресле, покуривая трубку (несмотря на все старания, он все равно выглядел при этом, как юный преподаватель колледжа который курит лишь для того, чтобы доказать, какой он зрелый мужчина). Мак-Гарри расхаживал по комнате. В споре у него была привычка размахивать для вящей убедительности своих доводов каким-нибудь мелким предметом домашней обстановки: каминными щипцами вазочкой, книгой, настольной лампой — привычка, которая не только казалась, но и в самом деле была довольно опасной.
— Ох, просто никуда я сегодня не годился на молитвенном собрании, — проворчал Фрэнк. — Черт побери, не могу больше притворяться, будто мне страшно интересно слушать, как старая миссис Бизом рассказывает, что бог для нее — великое утешение в ее печалях! Можете быть уверены: сама старуха Бизом не слишком великое утешение для своей невестки в ее печалях! И при всем при том просто не могу собраться с духом и сказать ей — после того, как она тут порхала среди ангелов, хвастаясь направо и налево о том, что Иисус в ней души не чает, — просто не хватает духу взять и сказать ей: «Послушайте вы, сестрица, вот что я вам скажу, скаредная, кляузная старая ведьма…»
— Ай-ай, Фрэнк! — не слишком укоризненно произнесла Бесс.
— «…ступайте сейчас домой, забудьте о том, каким успехом вы пользуетесь на небесах, да попросите-ка прощения у сына и невестки за то, что вы их истерзали, пытаясь перекроить по своему фасону в таких же, как вы, тошнотворных святош!»
— Фрэнк!
— Да пусть его, Бесс! — сказал Мак-Гарри. — Если бы священник не имел возможности хоть изредка сказать пару теплых слов по адресу своей паствы, никто не выдержал бы, разве что Иоанн-великомученик, но, между прочим, ручаюсь, что этот милый Иоанн был не слишком силен по части еженедельных служб и посещения прихожан на дому!
— И еще, — продолжал Фрэнк. — Завтра у меня панихида. Хороним Генри Семпа. Вес — двести восемьдесят фунтов от шеи до пят и всего три унции от шеи и выше. Дивный гражданин и дивный христианин свято верил, что после Джорджа Вашингтона самый великий человек на свете — Уоррен Г. Гардинг. Я убежден, что он никогда не бил свою жену. Достойный член прихода. Пришла жена заказать панихиду, рассказывает, как умирал Генри, плачет в три ручья, а потом ушла, смотрю в окно: шагает себе по улице и уж очень как-то заметно повеселела… Да, Генри был оплот отечества; к нему нужно относиться с почтением, господа интеллигенты. А по некоторым словам его вдовы, у меня есть полнейшее основание заключить, что они с муженьком каждый год надували правительство на каждом центе подоходного налога. И вот завтра мне предстоит удовольствие расписывать его друзьям, что это был за образец нравственности и титан мысли и как сломлена — нет, просто раздавлена горем его бедная вдовушка. Ха! Как бы не так! Или я ничего не понимаю в людях, или не пройдет и шести месяцев, как она будет снова замужем, — и если я завтра сумею понравиться ей на панихиде, то, быть может, еще заработаю на венчании. О боже, Фил, что за лживое ремесло у священника, сколько тут сделок с совестью!
То был, наверное, их сотый спор на эту тему.
Мак-Гарри размахивал диванной подушкой, которой затем предпочел сумочку Бесс (Бесс попыталась сделать равнодушное лицо), и стал кричать:
— Неправда! А я вот слышал, что сказал один известный нью-йоркский священник. Все, говорит, знаю: и как несовершенно духовенство и сколько в неге проникает посредственных людишек — и все-таки, если б у меня была тысяча жизней, я бы все равно в каждой из них хотел быть только служителем господним, тем, кто несет человечеству философию Иисуса. А единственной организацией, в которой мы можем трудиться сообща, открывая людям евангелие, является пока что при всех ее недостатках именно всеобщая церковь. И, может быть, Фрэнк, деточка, это твоя вина, а не церкви, если ты до того боишься своих прихожан, что лжешь на панихидах! Я, например, не лгу, будь уверен!
— Это ты будь уверен, Фил, моя радость: лжешь как миленький. Просто не замечаешь! Ты знаешь, что делаешь? Гипнотизируешь себя, вот и все. Внушаешь себе, что каждый ненаглядный покойничек был при жизни образец добродетели, ну и начинаешь разливаться соловьем.
— А может, он и был образец.
— Ну еще бы! А может, каждый бандит был чудо храбрости, а аферист — пример доброты к людям, исключая тех, кого он грабил. Но я лично не чувствую особого восторга, когда мне платят деньги за то, что я расхваливал бандитов и аферистов, и почтенных ростовщиков и обжор, вроде Генри Семпа, наставляя молодежь следовать их примеру. Мы таким образом поддерживаем варварскую общественную систему, — а ведь мы, священники, за нее не меньше в ответе, чем юристы, и политики, и солдаты, и даже учителя. Ну нет, благодарю. Я все-таки распрощаюсь с церковью! Подумать! Священник находит религию, находит спасение, находит честность и теряет сан! Вот тогда-то я и познаю наконец радости очищения, о которых вы, методистики, столько толкуете!
— Ой, до чего надоело! — миролюбиво пожаловалась Бесс, которая в сорок один год выглядела славненькой толстушкой лет двадцати. — Честное слово, Фил, хоть бы вы объяснили Фрэнку, в чем он неправ. У меня самой не получается, хоть я стараюсь пятнадцать лет.
— Вот уж что правда, то правда, мой котик!
— Серьезно, Фил, неужели нельзя ему хоть немножко открыть глаза? Он… нет, конечно, я его обожаю и все такое, но такого ребячества… хуже моих детишек! Говорит, говорит… найду себе работу в благотворительной организации, в рабочем банке, в рабочей газете… Буду читать лекции, попробую писать… Да растолкуйте вы ему, что он везде будет точно так же всем недоволен! Ручаюсь чем угодно — и рабочие лидеры, и радикалы-агитаторы, и деятели в благотворительных обществах далеко не ангелочки, так же как и священники!
— Господи, да я на это и не рассчитываю! — отозвался Фрэнк. — И на то, что мне все понравится, тоже. Но разве это не здорово, что есть люди, которые всем недовольны? Без них и прогресса-то не было бы! Просто смех один: предполагается, что священнослужитель наделен чуть ли не пророческими полномочиями. Как же, грозит людям муками ада! А наряду с этим предполагается, что он же не более как мальчишка на побегушках, которого можно отругать и выгнать, если он осмелится наводить критику на капиталистов или своего же брата-священника! Так или иначе… Бесс, моя радость, это, конечно, свинство по отношению к тебе. Мне бы и самому хотелось быть из тех. кто всем доволен, преуспевать, мириться с полуправдой. Да не могу… Видишь, в чем дело, Фил. Меня учили, что христианский бог не трусливый и угодливый агент из бюро коммунальных услуг, но творец и проповедник суровой правды в мире. Наверное, это воспитание меня и испортило: я был так глуп, что принимал своих учителей всерьез!
— Ну полно, полно, Фрэнк! Твоя беда знаешь в чем? — Филипп Мак-Гарри зевнул. — Твоя беда в том, что ты любишь спорить. А надо не спорить. Надо терпеливо разбираться в духовных проблемах бедного, туповатого, бесконечно жалкого человеческого существа, которое приходит к тебе за помощью. Ему совершенно наплевать, что ты проповедуешь: зороастризм[190] или адвентизм седьмого дня. Ему важно чувствовать, что ты его любишь и можешь влить в него силу, которую черпаешь из какого-то высшего источника. Я уверен, что если б ты отрешился от своей интеллигентской гордыни, если б забыл, что тебе сегодня, вот сейчас же, необходимо бежать и строить новый мир — лучший, чем тот, что создан творцом, — тебе, Бернарду Шоу, Г. Дж. Уэллсу и Г. Л. Менкену, Синклеру Льюису… (Господи, и до чего же он нуден, этот Льюис со своей «Главной улицей», судя по той части, что я одолел! Тянется и тянется, и конца ей нет, а автор только то и заметил, что в глухих углах Миннесоты народ не так часто ходит на литературные вечера, как он сам! — и это все, что он разглядел в славных героях-пионерах!) Ну, да ладно. Так вот, если б вместо того, чтобы начинать там, где твоя паства отступилась — потому что у нее никогда не было таких возможностей, как у тебя, — если бы вместо этого ты мог тянуть их за собою…
— Да я пытаюсь! И, кстати, заметь, молодой человек: я кое-кого из них затащил так далеко, что у них хватило ума бросить и меня и мою евангелическую церковь и перейти к унитарианцам, а не то так вообще уйти из церкви и тем самым, Бесс, ангел мой, отнять у моей женушки и моих деток еще парочку-другую центов! Нет серьезно, Фил…
— Человек всегда говорит: «Нет, серьезно», — если чувствует, что до сих пор его доводы были не очень убедительны!
— Возможно! Во всяком случае, я тебе вот что хочу сказать: разумеется, мой либерализм — сплошной вздор! А знаешь, почему мои прихожане с ним мирятся? Да они просто не вникают в то, что я говорю! Им не интересно! Если б меня сменил какой-нибудь фундаменталист[191], он бы им понравился ничуть не меньше. А может, и больше. Они бы с радостными воплями вернулись к священным адским сковородкам, от которых я их с таким трудом отучал. Когда я начинаю громить страх перед вечными муками, таинственное, полное шаманских запретов поклонение библии и духовенству и прочие пугала так называемого христианства, украшенные зловещими черепами, — они просто не верят, что я это всерьез. Они даже не отдают себе отчета в том, что я делаю: отчасти просто приучены не слишком верить тому, что говорится в проповедях, а потом — тут есть и моя вина. Я, понимаешь, не агрессивен! Я бы должен скакать, как сумасшедший или как модный проповедник-евангелист, и орать: «Да вы понимаете меня? Когда я говорю, что большинство ваших религиозных воззрений — чепуха, я хочу сказать именно это самое: че-пу-ха!» Я еще ни разу не говорил всерьез настолько пламенно, чтобы мне намяли бока во имя господа нашего Иисуса Христа. Пока, во всяком случае!
— Ха! Вот и попался, Фрэнк! Страшно умилительно наблюдать, как ты разыгрываешь из себя первого безбожника на деревне. Сам же вот сказал: «Во имя господа…» А сколько раз говорил при прощании: «Благослови тебя бог» — причем всерьез! Ну да, конечно, ты не веришь в Христа! В точности как римский папа!
— Угу. Наверное, если б я тебя послал подальше к господу Иисусу Христу, это бы тоже означало, что я ревностный христианин! Эх, Фил, просто не могу понять, как это такой честный человек, как ты, искренне готовый помочь людям… и терпеть их… как такой человек может спокойно допускать, чтобы его ставили на одну доску со всей этой сворой собратьев-священников? Подумать только — так и жить бок о бок в одной методистской общине и в одном городе с Элмером Гентри и ни разу не заявить во всеуслышание на собрании священников: «Либо он уходит — либо я!»
— Знаю, дурачок! Думаешь, у нас каждый мало-мальски порядочный человек не страдает, что он и Гентри как бы одного поля ягоды? Думаешь, мы его ненавидим меньше, чем ты? Да, Элмер Гентри — скотина, ну и что ж из этого? Значит, если в здоровую, нужную обществу организацию, где работают достойные, серьезные люди, затесался один прохвост, то и вся организация никуда не годится?
— Один? Только один? Да, готов согласиться, таких подонков, как Гентри, в вашей церкви — да и в любой другой — отыщется не так уж много. Ну, а другие? Вот позволь мне высказать тебе свое искреннее и братское мнение еще кое о ком из ваших дивных методистов! Епископ Тумис — пустобрех! Честер Браун с его свечами и песнопениями — просто англиканец чистой воды, давно перешел бы в англиканскую церковь, да страшно денежки терять: начинать-то придется с низов! Точно так же очень многие англиканцы — обыкновеннейшие католики и с радостью перешли бы в католичество, если б не тряслись так над своим положением в обществе. Теперь Отто Хикенлупер со всеми своими организациями… Богачей так трогает его благотворительность, что они дают ему деньги, а потом все восхваляют Отто за то лишь, что он тратит эти самые деньги. Получается заколдованный круг. И подумать, сколько несчастных молодых олухов тратят попусту время и забивают себе головы вздором в высоконравственных студиях Отто Хикенлупера, где учителей приглашают не за то, что они разбираются в композиции, а за то, что они нужного мнения о святом причастии!
— Но, Фрэнк, я-то ведь говорил о…
— А чего стоит положительный ученый, рассудительный доктор Малон Поттс! Да, прекрасный человек, отнюдь не фанатик! И не считает, что теория эволюции — измышление нечистого. Да только вот беда: как большинство прославленных проповедников, он не имеет ни малейшего понятия о том, что такое обыкновенный живой человек. Он отгорожен от мира с тех самых пор как стал священником. Он может отпустить грехи проститутке на смертном одре (хотя ручаюсь, что такое бывает не часто), но он не в состоянии понять, что вполне порядочные мужья и жены иногда не уживаются потому что не ладится половая жизнь.
Поттс живет в мире книжных героев; представление о силах, которые движут людьми, он составляет себе по книгам Джорджа Элиота и Маргарет Деланд[192], об экономике — по передовицам «Адвоката», о значении собственной деятельности — по комплиментам дам из Комитета прихожанок. Он преступник, пострашней, чем Гентри! У Элмера хотя бы, как я понимаю, есть какое-то желание быть славным малым, поделиться с кем-то своей добычей, а доктору Поттсу, ему требуется всех, кто населяет этот мир, всех живых, истекающих кровью и потом, любящих, борющихся людей переделать по образу и подобию доктора Поттса… доктора Поттса, который после обеда похрапывает под полкой с томами, посвященными доктринам отцов церкви!
— Ого-го, до чего ж ты нас обожаешь! Ты, видно, решил, что я без ума от этих субъектов? Да ведь они меня еретиком почитают — все, начиная от епископа, — усмехнулся Филипп Мак-Гарри.
— И все-таки остаешься с ними!
— Можешь предложить церковь получше?
— О, нет. Не думай, что я питаю особое пристрастие к методистам. Я говорю именно о них только потому, что это твои дружки. Нет. И мои любезные братья-баптисты, внушавшие мне, что крещение посредством погружения в воду гораздо важнее социальной справедливости, и пресвитериане и кэмпбеллиты — я всю компанию люблю одинаково страстно!
— Ну, а как же ты сам? И я?
— Насчет себя ты знаешь, что я думаю: я человек слабый, и не решаюсь открыто заявить о своих взглядах, рискуя, что меня объявят безумцем или гнусным безбожником. Ну-с, а тебя, мой юный друг и либерал, я приберег на конец. Ты в этой компании священников-методистов самый совершенный образчик!
— Будет тебе, Фрэнк! — зевнула Бесс.
У нее слипались глаза. Ну и любители же они поговорить, эти проповедники! Вот, скажем, штукатуры, или писатели, или биржевые маклеры — неужели они тоже просиживают до полуночи, копаются у себя в душе и мучительно решают вопрос о том, стоит ли быть штукатуром, писателем или маклером?..
Она снова зевнула, поцеловала Фрэнка, потрепала Филиппа по щеке и удалилась со словами:
— Ты, может быть, и слабый человек, Фрэнк, но ты вполне способен до смерти заговорить сильную и крепкую молодую жену!
Обычно под натиском шутливой воркотни своей супруги и дружеских колкостей Фила Фрэнк сникал, но сегодня он разошелся вовсю и не желал уняться.
— Да, Фил, ты хуже всех! Ты-то ведь знаешь кое-что о людях! Ты не чета старому Поттсу, который всегда так чудно осведомлен о том, как много греха на свете, и всегда несказанно удивляется, встретив грешников во плоти! И ты прекрасно понимаешь: окунают ли человека в воду, то бишь крестят, нет ли, ровным счетом все равно. Был бы только приличный человек. Но вот ты влезешь на кафедру и начинаешь бубнить молитву так, что люди решают: ну, стало быть, и этот на короткой ноге с боженькой, точно так же, как Поттс или Гентри! Твоего либерализма хватает только от моего дома до трамвая. Ты рассуждаешь о красотах райских кущ и блаженстве нездешнего покоя, а сам сколько раз признавался мне, что понятия не имеешь, существует ли загробная жизнь. Берешься толковать об Искуплении, о Таинстве Святого причастия, о том, как одному народу господь помогает выиграть войну, а другой народ карает наводнением, и еще массу такого, во что сам не веришь ни на грош.
— Знаю, черт! Ну а ты сам, ведь и ты молишься в церкви!
— Честно — нет. Я вот уж больше года не обращаюсь с молитвой к какому-то определенному божеству. Я говорю так: «Погрузимся же в раздумье, забудем повседневные заботы и сольем наши души в едином стремлении к покою на вечные времена» или еще что-нибудь в этом роде…
— Что ж, молитва как молитва, Фрэнк, и довольно посредственного качества. Ты, видно, решил, что твое призвание — написать за господа бога новый «Отче наш», вот и вся твоя беда! — Филипп расхохотался, хлопнул Фрэнка по плечу.
— Кончай веселиться, черт побери! Не хуже тебя знаю, что молитва дрянная. Туманная. Невразумительная. Годится для репертуара зазывалы второсортного балагана Новой Мысли. Не нравится — ладно, но зачем этот игривый тон? И отчего это все вы, защитники церкви, сразу начинаете паясничать, как только разговор всерьез заходит о самых основах религии?
— Верно, Фрэнк. Должно быть, результат долголетней привычки читать проповеди. А если серьезно, то да, я действительно говорю с кафедры вещи, которые сам не приемлю в буквальном смысле. Что ж из этого? Людям понятны эти символы; люди на них воспитаны, свыклись с ними! Цель моих проповедей — в меру моих возможностей научить людей жить, призывать свою паству и себя самого к тому, чтобы быть добрым, честным, чистым и смелым, любить бога и своих ближних. А весь опыт церкви показывает, что учить этому лучше всего, проповедуя такие истинно высокие идеи, как спасение души, присутствие святого духа, вечное блаженство и так далее.
— Хм… Так ли? А пробовала церковь что-нибудь другое? И потом — что это, интересно знать, ты имеешь в виду, когда говоришь: «Быть чистым, честным, научить искусству жить»? Боги, до чего же мы, проповедники, обожаем фразы, которые лишены всякого смысла! Но даже если допустить, что ты прав, — все равно. Раз ты пользуешься тем же богословским жаргоном, что и какой-нибудь Гентри, или какой-нибудь Тумис, или Поттс, ты невольно наводишь людей на мысль, что ты и думаешь и действуешь, как они.
— Ерунда! Хотя не скажу, чтоб и на меня так уж действовали чары этих мудрецов. Да я бы лучше с радостью попал куда-нибудь на необитаемый остров вдвоем с тобой — понятно, старый безбожник? С тобой, несчастный дурень! Но предположим, что они и в самом деле такое отребье, как ты говоришь. Все равно это не причина осквернять свое родное гнездо, позорить славную старую Методистскую Церковь, ее геров и святых. Везли, Эсбьюри, Квейл, Картрайт, Мак-Дауэл, Мак-Коннел… — какие люди! Подумаешь, так прямо слезы подступают! Ну, смотри: допустим, ты на фронте. Ты состоишь в прославленном полку. И, допустим, многие твои однополчане и даже теперешний командир полка — мерзавцы и трусы. Неужели это значит, что ты вправе дезертировать? А не наоборот — сражаться еще отчаяннее, чтобы восполнить то, что не способны дать они?
— Понимаешь, Фил, после балаганных острот, о которых я уже говорил, и после затасканных фраз самое страшное зло в религиозных диспутах — это метафора! Протестантская церковь не полк. Ты не солдат. Солдат обязан воевать, когда прикажут и как прикажут. А ты пользуешься полной свободой, если не считать обязательств нравственного и религиозного порядка.
— Ага! Вот и попался, милый любитель логики! Если мы пользуемся такой свободой, почему ж ты не желаешь оставаться в церкви? Ох, Фрэнк, дружище, какой же ты осел! Я знаю, что ты жаждешь справедливости. Но неужели ты не видишь, что ее легче добиться, оставаясь в церкви, преобразуя ее изнутри, чтобы там было посвободнее, а не бежать от нее, оставляя народ в лапах Гентри и ему подобных?
— Я и сам думал так же все эти годы. Только потому я до сих пор священник! Но теперь я прихожу к убеждению, что это чепуха. Я начинаю думать, что эти консерваторы, что вопят об ужасах ада, развращают честных либералов с гораздо большим успехом, чем либералы прочищают дремучие мозги фундаменталистов. Да по правде-то говоря, чего она добивается, эта наша церковь? Зачем она вообще нужна? Может она предложить человечеству что-нибудь такое, чего не почерпнешь в светских источниках — в школах, книгах, беседах?
— Кое-что может, Фрэнк. Она может предложить человечеству неповторимый образ и единственное в своем роде учение Иисуса Христа. Ведь в самом Иисусе, в том, как он говорил, в том чувстве, которое охватывает человека, внезапно и непостижимо познавшего учителя и его присутствие, — во всем этом есть нечто такое, что отличает христианскую церковь от любого другого института, любой другой организации, созданных человеком. Иисус не просто более велик и мудр, чем Сократ или Вольтер, он нечто совершенно иное. Толковать и преподавать учение Сократа или Вольтера — в школе, в книгах и беседах — может кто угодно. Но чтобы толковать учение Иисуса и значение его личности, требуется особый отряд людей — избранных, призванных, специально обученных, посвященных и объединенных в особом институте, имя которому — церковь.
— Звучит, Фил, ничего не скажешь. Да только, милый ты мой, каковы они были на самом деле, личность Иисуса и его учение? Пожалуй, это центральный вопрос в спорах о христианской религии. Не будем говорить сейчас о том, что большинство людей, несомненно, верит догматам той или иной религии потому лишь, что получили ее в наследство со дня рождения. Итак, главный вопрос таков: действительно ли Христос как личность, если библейским преданиям о нем можно верить хотя бы наполовину, действительно ли он был так уж особенно благороден? И было ли его учение настолько уж самобытно и глубоко? Ты ведь знаешь, что почти невозможно заставить людей добросовестно вчитаться в библию. Их до того приучили понимать каждое слово писания в его церковном толковании, что они вычитывают из него только то, что им велят. Так было и со мною еще пару лет назад. А вот теперь я немного стряхнул с себя этот гипноз и, к своему величайшему прискорбию, убедился, что Иисус вовсе не такая уж сногсшибательная личность!
— Да, он колоритная фигура. Великолепный рассказчик. Добрый малый, любитель простецкой компании… Подумать только, Иисус, которого жрецы тех времен клеймили как беспутного пропойцу, избран покровителем сухого закона! Поистине — одна из забавнейших причуд истории!.. Но вместе с тем он тщеславен, склонен к безудержному бахвальству, любит удивлять народ довольно примитивными фокусами, которые нас учат величать «чудесами». Если народ не желает почитать его великим вождем, он злится, как капризный ребенок. Он выходит из себя. Он проклинает злополучную бесплодную смоковницу за то лишь, что ей не удалось его накормить. И, боги, где только у людей голова! Слушают, как священники доказывают на основании библии диаметрально противоположное: и что католическая церковь создана по велению божию и что она создана вопреки божьей воле, — и им даже в голову не приходит, что христианская, да и всякая другая религия не только не принесла блага человечеству, но, напротив, внесла такой сумбур во все идеи и понятия, породила такой предвзятый взгляд на действительность, что мы лишь теперь начинаем задаваться вопросами: что мы такое, и зачем мы, и что можем сделать из своей жизни?.. Ну, а что же дает учение Христа? Что он принес — мир или новые войны? Если верить его же словам, — и то и другое. Признает oh земных монархов или призывает восстать против них? Опять-таки и то и другое. И разве… подумать только: сам бог принимает человеческое обличье, дабы помочь земным тварям! Но разве он подал людям хоть одну ценную идею о том хотя бы, как уберечься от болезней и спасти жизнь миллионам? И ты не можешь даже объяснить это упущение тем, что он был занят слишком высокими материями, чтобы обращать внимание на какие-то там болезни! Напротив, он страшно ими интересовался и вечно исцелял то одного, то другого… при том условии, конечно, что они в достаточной мере льстили его тщеславию! Чему же именно он учил? В одном месте Нагорной проповеди он советует… постой, возьму библию. Вот: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного», — а через пять минут заявляет: «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от отца вашего небесного». Явное противоречие, и это в документе, который является уставом всей христианской церкви! Нет-нет, Фил, я знаю, что ты их можешь увязать друг с другом. К этому же и сводится вся задача подготовки священников: научить нас устранять противоречия, объясняя, что одно из них означает совсем не то, что оно означает… И, кроме того, уметь вовремя заметить: «Вот если б вы только прочли это место в подлиннике, по-гречески, вам бы стало все ясно!» В учении Христа только одно сказано отчетливо и последовательно. Он защищает такой экономический строй, при котором никто не копит денег, не запасает пшеницы и вообще ничего не делает, а просто живет себе, как бродяга. Если бы это его учение было принято, человечество вымерло бы от голода через двадцать лет после смерти Христа! Нет, Фил, постой — еще минута, и я кончу!..
Он проговорил до рассвета.
Заключительный аргумент прозвучал уже на крыльце в холодных предрассветных сумерках:
— Мое главное возражение против церкви состоит не в том, что священники коварны, лицемерны и, по существу, безнравственны. Да-да, вспомни хотя бы, сколько из них попало в тюрьму за продажу фальшивых акций, за совращение четырнадцатилетних сироток из приютов, состоящих на их попечении, за поджоги, убийства!.. И даже не в том, что церковь находится в полной зависимости от крупного капитала и рабски следует тому, что ей диктуют миллионеры, — а ведь во многих случаях именно так и обстоит дело… Мое главное возражение заключается в том, что девяносто девять процентов и проповедей и занятий в воскресных школах так убийственны, так невыносимо скучны!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
I
Как бы ни досадовал на Фрэнка Филипп Мак-Гарри, он, разумеется, и не помышлял о том, чтобы натравить на своего друга захлебывающегося благочестивым лаем Элмера Гентри. Это произошло случайно. На каком-то обеде, где обсуждались миссионерские фонды, соседом Филиппа оказался Элмер, и, вспомнив, что Фрэнк и Элмер — бывшие однокурсники, Филипп участливо посетовал:
— Жаль, бедняга так терзается тем, во что нужно просто верить, — и этой фразой выдал Элмеру львиную долю ересей Фрэнка.
В хлопотах по изысканию средств на постройку нового огромного храма Элмер совсем было забыл о своем намерении спасти прославленного жреца скобяных изделий мистера Уильяма Доллинджера Стайлса — а заодно и его миллионы — от тлетворного влияния богохульственных речей Фрэнка.
— Папаша Стайлс нам бы очень пригодился, ну а вам послужила бы отличной рекламой кампания против попыток Шалларда украсть у нас не только Иисуса, но даже и ад, — молвил наперсник Элмера, мистер Т. Дж. Ригг, когда тот обратился к нему за советом.
— Великолепно! «Как либерализм приводит к атеизму». Здорово! Теперь только подождать, пока мистер Фрэнк Шаллард откроет рот — тут-то ему и крышка! — сказал преподобный Элмер Гентри. — М-м… Вот бы нам еще раздобыть отчетец о его проповеди… Фигура-то довольно жалкая, так что его требуху не очень часто печатают в газетах.
— Об этом позабочусь я. У меня в конторе есть одна девица, хорошая работница, расторопная. Я ее пошлю, пусть записывает все его проповеди. Подумают, просто упражняется в стенографии.
— Что ж, черт возьми, вот и проповеди на что-то пригодились! Ха-ха-ха! — сострил Элмер.
— Да, сэр, ваша правда, наконец-то им найдено применение! Ха-ха-ха! — отозвался мистер Т. Дж. Ригг.
II
Меньше чем через месяц Фрэнк привел в бешенство жителей Зенита, заявив с кафедры, что, хоть он и сторонник трезвенности, он все-таки против сухого закона и что методы Лиги «Долой пивные!» достойны скупщиков краденого.
Этим случаем и воспользовался Элмер.
Он объявил о проповеди на тему «Лжепастыри, и кто они такие».
В этой проповеди он сказал, что Фрэнк Шаллард (он назвал его по имени) — лжец, дурак, неблагодарный субъект, которому он так старался помочь в семинарии; вор, который пытается украсть Христа у страждущего человечества.
Газеты остались довольны и напечатали все это весьма подробно.
Элмер устроил так — четверку для партии позаботился подобрать Т. Дж. Ригг, — чтобы на той же неделе сыграть в гольф с Уильямом Доллинджером Стайлсом.
— Мне очень грустно, мистер Стайлс, — сказал он, — что я вынужден был, по велению совести, нападать в то воскресенье на вашего пастора, мистера Шалларда… Но когда человек начинает глумиться над Иисусом Христом, тут уж, знаете, снисходительность неуместна.
— Да, мне, честно говоря, показалось, что вы слишком уж на него напустились. Сам-то я не слышал эту его проповедь. Я, знаете, хоть и состою в приходе, но столько дел всегда накапливается за неделю, что почти каждое воскресное утро приходится сидеть в конторе… Но, судя по тому, что рассказывают, он ничего особенно вопиющего не сказал.
— Значит, вы не считаете, что Шаллард фактически — безбожник?
— Да нет, конечно! Славный человек, очень приличный…
— Мистер Стайлс, а вам известно, что весь город только диву дается, как это вы — вы! — можете оказывать поддержку такому типу, как Шаллард! Известно вам, что не только священники, но и миряне говорят в один голос, что Шаллард в душе — агностик и социалист, хоть и трусит открыто заявить об этом? Я только и слышу это со всех сторон. Правда, вам сказать боятся. Черт, да и я сам побаиваюсь вас! Ха, нет, все-таки я парень неробкий, вот ведь решился же!
— Ну, не так уж я страшен, — сказал очень польщенный мистер Стайлс.
— Во всяком случае, я совсем не хочу, чтобы вы решили, будто я наговариваю вам на Шалларда за его спиной. Знаете что? Пригласите вместе с дорчестерскими старостами Шалларда на завтрак или на обед и меня тоже и дайте мне задать ему несколько вопросов. Я с ним поговорю в открытую! Неужели же вы рискнете прослыть заступником атеиста, который свил себе гнездо в церкви? Не следует ли заставить его сбросить личину и выложить нам свои убеждения? Если я неправ, то извинюсь перед вами и перед ним, и тогда можете назвать меня как угодно — и наушником, и нахалом, и вздорным клеветником, и идиотом, который сует нос не в свои дела!
— М-да… А все же он как будто симпатичный малый! — Мистеру Стайлсу было явно не по себе. — Хотя, если правда, что он действительно безбожник, этого, думаю, так оставить нельзя.
— Устроит вас, если я в эту пятницу приглашу вас, нескольких старост и Шалларда пообедать в отдельном кабинете Спорт-клуба?
— Ну что ж…
III
Фрэнк был настолько простодушен, что потерял самообладание, когда Элмер начал запугивать и орать на него, грозно надвигаясь всею своею массой, в то время как его же, Фрэнка, собственные старосты почтительно ловили каждое слово Элмера. В запальчивости позабыв всякую осторожность, Фрэнк тоже раскричался и выпалил, что отрицает божественное происхождение Иисуса Христа, что не уверен в существовании загробной жизни, не уверен даже в существовании какого-то определенного бога!
— Почему, в таком случае, вы не сложите с себя сан, мистер Шаллард? — резко перебил его мистер Уильям Дмлинджер Стайлс. — Добровольно, не дожидаясь, пока вас выгонят.
— Потому что я еще не уверен… Да, я считаю, что наши церкви в их нынешнем виде так же нелепы, как вера в колдовство, и все-таки я убежден, что можно создать церковь, свободную от суеверий, церковь, которая будет помогать нуждающимся, даст народу то мистическое нечто, которое сильнее разума, то чувство душевного подъема, которое возникает, когда люди едины в своем поклонении неведомой силе добра. О себе лично могу сказать, что мне будет одиноко в мире, где нет ничего, кроме унылых дискуссионных клубов. Я думаю, по крайней мере пока еще, что у многих душ есть потребность поклоняться чему-то, пусть это даже будет красивый обряд…
— «Мистическая потребность поклоняться»! «Неведомая сила добра»! Слова, слова и слова! Сахарная водичка! — загремел Элмер. — И это при том, что вам уж дан величественный и вполне конкретный образ, достойный поклонения и подражания, — образ Иисуса Христа! Извините, что я вмешиваюсь, господа, но мне — не как священнику, а просто как смиренному и благочестивому христианину — физически тошно, когда кто-то начинает воображать: он-де так много знает, что может выкинуть в окошко самого Христа — Христа, в которого столько веков верит весь цивилизованный мир, — и пытается заменить его набором пустых фраз! Простите, мистер Стайлс, но в конце концов религия — дело серьезное, и если мы вообще решаемся называть себя христианами, то обязаны признавать существование бога доказанным фактом. Еще раз прошу извинить.
— Пожалуйста, доктор Гентри, пожалуйста. Вполне понимаю ваши чувства, — сказал Стайлс. — И — хоть я и не авторитет по части духовных дел — не только понимаю, но и разделяю их. Полагаю, что и остальные господа тоже… Ну-с, Шаллард, а с вами так: можете придерживаться каких угодно взглядов, но только не на нашей кафедре. Почему бы вам не уйти тихо и мирно, пока мы сами вас не выбросили вон?
— Не имеете права! Для этого требуется решение всего прихода!
— Ничего, не волнуйтесь. Будет и решение всего прихода! — пообещал староста Уильям Доллинджер Стайлс.
IV
— Что будем предпринимать, дорогой? — устало спросила Бесс. — Я, конечно, всегда и во всем с тобой, но давай-ка смотреть на вещи практически. Может, проще и лучше будет все-таки уйти самому?
— Что я такое сделал, чтобы уходить? Я жил честно. Я не лгал, не подличал, не крал. Я проповедовал творческую мысль, счастье, справедливость, стремление к правде. Я, конечно, не бог весть какой мудрец, но мои люди все-таки узнали от меня, что есть на свете такие науки, как этнология[193] и биология, такие книги, как «Этан Фроум»[194], «Отец Горио», «Тоно Бенге»[195], «Иисус» Ренана, что вовсе не грешно смотреть на жизнь открытыми глазами…
— Милый, я ведь сказала: будем рассуждать практически!
— А, черт, не знаю! Думаю, что смогу устроиться на работу в Благотворительное общество — их генеральный секретарь, насколько я знаю, настроен достаточно либерально.
— Ужасно не хочется совсем порывать с церковью. Понимаешь, для меня это вроде как родной дом. Может, стоит попытаться перейти к унитарианцам?
— Чересчур респектабелен. Боюсь. Все те же старые освященные временем фразы, от которых я пытаюсь избавиться и, наверное, так и не сумею.
V
Чтобы решить, достоин ли Фрэнк звания священника, было созвано общее собрание прихожан, которым Стайлс доложил, что Фрэнк выступает против религии вообще. Многие его приверженцы, которых до сих пор ничуть не смущало то, что они слышали собственными ушами, мгновенно прозрели и увидели, что Фрэнк — опасный субъект, вполне способный нанести урон всемогущему богу.
Перед собранием одна женщина, которая была еще по-прежнему расположена к Фрэнку, тревожно убеждала его:
— Ах, неужели вы не понимаете, какое ужасное дело совершаете? Подвергать сомнению божественное происхождение Иисуса! Боюсь, что вы причините религии непоправимый ущерб. Если б вы только смогли открыть глаза и понять… если б вы знали, чем была для меня религия в минуты отчаяния! Не знаю, что стало бы со мной, когда я болела тифом, если б не это утешение! Вы же все понимаете и все можете, когда захотите. Почему вы не сходите к доктору Дж. Просперу Эдвардсу? Поговорите с ним по душам. Он старше вас, он доктор богословия, у него такой огромный приход… Я уверена, что он сумеет показать вам, в чем ваши заблуждения, и тогда все снова станет просто и ясно!
Приехала сестра Фрэнка — ныне супруга адвоката из Экрона. Когда-то им с Фрэнком так славно жилось в тепличной, мирной обстановке отчего пасторского дома! Они играли в церковь — куклы и солонки были прихожанами. Вокруг всегда были книги, такие привычные, а за столом они слышали, как гости отца — священники, юристы, политики — беседуют о высоких материях.
— Знаешь, Бесс, — волновалась сестра, — Фрэнк ведь и половины того не думает, что говорит. Он просто любит порисоваться! Он даже сам не знает, что в душе он добрый христианин. Такой был набожный в молодости — председатель местного отделения С. М. Б., — просто не может быть, чтобы он отошел от Христа и ударился во всю эту муть, которую никто не принимает всерьез, кроме всякого долгогривого отребья! Он прямо разбивает сердце отцу! Нет, пора потолковать по душам с милым братцем и привести его в чувство!
Как-то на улице Фрэнку встретился знаменитый доктор Мак-Тайгер, пастор пресвитерианской церкви на Ройял-ридж.
Доктор Мак-Тайгер родился в Шотландии, учился в Эдинбурге и втайне — хоть и не делая из этого особого секрета — презирал все американские институты и семинарии, а заодно и выпускников. Это был огромный мужчина, нетерпеливый и бесцеремонный, славившийся тем, что читал бесконечно длинные проповеди.
— Говорят, молодой человек, — рявкнул он Фрэнку, — вы прочитали от корки до корки книжонку о дохристианских таинствах, решили, что наши собственные доктрины — несвежий товар, и теперь собираетесь разделаться с церковью! Не будьте же столь бессердечны! Как бедной церкви отныне ковылять по своей стезе, утратив такого титана мысли, как вы, приятель! Жаль, что, открыв для себя столь ценное явление, как ученые занятия, вы не сумели набраться хотя бы столько учености, чтобы понять, что по несравненной милости божией древние и разрозненные религии со временем объединились в одно гармоническое и совершенно целое — христианское братство. Уж и не знаю, что более характерно для вас, молодой друг мой: невежество в области церковной истории или отсутствие чувства юмора! Идите же и не грешите более.
А от Эндрю Пенджилли пришло нацарапанное дрожащей рукой потрясенное письмо, в котором он умолял Фрэнка не изменять вере, не предавать вверенную ему паству во власть дьявола. Вот это было больно.
VI
Первое деловое собрание прихода не решило вопроса о том, оставаться ли Фрэнку в церкви. Ему задавали вопросы о его взглядах и были смущены его честными, прямыми ответами. Несмотря на все угрозы Стайлса, мужчины, которым Фрэнк помогал, женщины, которых он утешал во время болезни, отцы, которые приходили к нему, когда их дочери «попадали в беду», — все они стояли за него горой.
Прежде чем проводить голосование, надо было созывать людей снова. Узнав об этом из газет, Элмер помчался к Т. Дж. Риггу.
— Самый подходящий момент! — потирая руки, радовался он. — Если б они выставили Фрэнка на первом же собрании, Стайлс бы, может, и остался в приходе, хотя, по-моему, богословие моей фирмы и моя республиканская политика ему больше по вкусу. Почему бы вам, Т. Дж., не пойти к нему и не намекнуть, что его собственный приход нанес ему тяжкое оскорбление?
— Ладно, Элмер. Еще одна спасенная душа! У брата Стайлса хранится первый заработанный им доллар, но нам, возможно, и удастся вытянуть из него центов десять на новый храм. Только… Я вполне отдаю себе отчет, насколько он богаче меня, но все же хотелось бы надеяться, что вы будете и впредь обращаться за душеспасительными советами и полезными идеями ко мне, а не к нему.
— Будьте спокойны, Т. Дж.! Еще никто и никогда не имел повода сказать, что Элмер Гентри не верен своим друзьям! Но все же, надеюсь, руководство моей церковью принесло и вам какую-то пользу.
— Что ж, да, пожалуй! Три новых клиента, тоже братья-методисты по Уэллспрингскому приходу: две кражи со взломом, один подлог. Но не в том дело. Просто люблю, грешник, дергать за ниточки, которые приводят в движение машину…
А час спустя мистер Ригг уже говорил мистеру Уильяму Доллинджеру Стайлсу:
— Если вы перейдете к нам, уверен, не пожалеете… Вы сами видели, что за человек доктор Гентри: боевой, напористый, решительный — настоящий, стопроцентный мужчина и, что касается бизнеса, кремень. Да и вашему приходу было бы очень поделом за то, что не послушались вашего совета. Правда, нам очень неприятно вас уговаривать; доктор Гентри, по правде говоря, категорически запретил мне с вами об этом толковать: еще, чего доброго, подумаете, что все это только из-за того, что вы богаты!..
Стайлс брыкался три дня; затем его все-таки взнуздали и, дрожащего, повели запрягать.
Доктор Дж. Проспер Эдвардс, пастор конгрегационалистов, сказал своей супруге:
— И почему это мы не додумались обратиться к Стайлсу и предложить перейти к нам? Такая простая вещь, что как-то даже в голову не пришло… Просто зло берет, честное слово. Ты-то, кажется, могла бы подать идею…
VII
Второе собрание прихода было отложено. Элмеру стало казаться, что если так пойдет и дальше, Фрэнк, пожалуй, останется в Дорчестерской церкви. А это нанесет ущерб престижу Элмера как духовного и морального вождя города.
И Элмер стал действовать бесстрашно и решительно.
В одной проповеди за другой он гремел о «шайке дорчестерских атеистов». Прихожане Фрэнка были обеспокоены. Им приходилось оправдываться (при этом не совсем понимая, в чем именно) перед своими покупателями, соседями, друзьями из других приходов. Они чувствовали себя, как в опале. Итак, было созвано второе собрание.
Фрэнку заранее представлялось эффектное отречение. Вот он встает перед притихшей аудиторией и бросает ей горькие слова: «Я пришел к заключению, что никто из присутствующих, в том числе и ваш пастор, не верит христианской религии. Никто не подставит обидчику другую щеку. Никто не продаст своего имущества, чтобы раздать деньги беднякам. Никто не отдаст свой пиджак тому, кто снял с него пальто. Каждый из нас старается накопить как можно больше земных сокровищ. Мы не следуем христианской религии на деле. Мы даже не собираемся следовать ей. Значит, мы ей не верим. А потому я отрекаюсь от церкви и советую вам не лгать себе более и сделать то же».
И он твердыми шагами идет по проходу мимо потрясенных людей и покидает церковь навсегда… И тут же приходило другое.
«Я слишком устал. Слишком несчастлив, и стоит ли причинять боль бедным смятенным душам? И… я так устал!..»
Когда началось второе церковное собрание, он встал и мягко заговорил:
— Я не хотел уходить от вас. Я и сейчас считаю, что достоин честно продолжать свое честное дело на кафедре. Но я вижу, что поднимаю брата на брата. Я не знамя, я только друг. Я любил вас, любил свою работу, любил слушать согласный хор дружеских голосов, счастливые встречи в досужее воскресное утро. Всего этого я отныне лишен. Я ухожу. Мне хотелось бы сказать вам на прощание: «Храни и благослови вас господь». Но добрые христиане взяли и превратили бога в мрачное пугало, и в эту свою последнюю минуту на кафедре я, отдавший всю свою жизнь религии, не могу сказать вам: «Благослови вас бог».
А Элмер Гентри в первой же проповеди великодушно заявил, что согласен принять отступника Шалларда в свой приход при условии, что тот покается.
VIII
Убедившись, что Благотворительное общество и работа в этой унылой организации нравятся ему не больше, чем работа в церкви, Фрэнк усмехнулся:
— Правду сказала Бесс! Последовательный брюзга! Ну что ж, по крайней мере хотя бы последовательный… Зато какое облегчение — не быть больше священником! Не корчить из себя святошу! Не чувствовать, что мужчины тебя считают старой бабой в штанах! Иметь право смеяться, не заботясь о том, какое это произведет впечатление!
Благотворительное общество вверило попечению Фрэнка ночлежный дом, лесной склад, на котором бродяги отрабатывали по два часа в день за завтрак и ночлег, и бюро по трудоустройству. По части благотворительности на научный лад Фрэнк был слаб, и его коробила та надменно-ледяная манера, с которой его подчиненные — старая дева у справочного стола, хозяин лесного склада, клерк в ночлежном доме и молодая особа, допрашивавшая подопечных об их вероисповедании и их прегрешениях, — обращались с запуганными, незадачливыми существами, точно со злоумышленниками, тяжкое преступление которых — бедность.
Работники Общества были деловиты и несентиментальны, как агенты бюро по истреблению паразитов.
Среди этого колючего совершенства Фрэнк тосковал по ореолу тайны, который окружает любую молельню — от самой простой и суровой до самой изысканной. Мало-помалу у него вошло в привычку заходить в огромную католическую церковь св. Доминика, где пастором был велеречивый отец Де Пинна, а младшим пастором и правой рукой отца Де Пинна — патер Мэтью Смисби, священник новой американской формации, воспитанник государственного университета.
В Зените церковь св. Доминика считалась старинным зданием, а копоть от фабрик южной части города осела на сером камне, точно многовековая пыль. Интерьер храма, сумрачный и асимметрический, с высоким сводом, причудливыми раками, таинственной дверью над каменными ступенями поразил воображение Фрэнка. Он с волнением заметил, что здесь в любое время дня стоят коленопреклоненные фигуры. Он еще никогда не видывал церкви, в которую простой народ приходит помолиться. Несмотря на суровое великолепие храма, люди, казалось, чувствовали себя здесь как дома. А побывав на торжественной мессе, ослепленный блеском золота и пурпура в глубине темного прохода, зажатый в густой толпе людей, по всем признакам ощущающих рядом с собою присутствие бога, он спросил себя: не нашел ли он наконец ту церковь, которую, не отдавая себе в том отчета, всегда искал?
Он знал, что буквально верить в чистилище, непорочное зачатие, в таинство святой евхаристии и непогрешимость чиноначалия для него так же невозможно, как верить в Зевса.
«Но разве не может быть, — размышлял он, — что все это сказка, и такая гениальная, что критиковать ее не менее бессмысленно, чем пытаться доказать недоказуемое? Здравомыслящий пастор не станет рассчитывать, что человек мало-мальски образованный мог поверить, будто месса способна хоть как-то повлиять на души, которые находятся в чистилище. Священник поймет, что такой человек будет воспринимать эту мессу как нечто подобное симфоническому концерту, и потом мне так одиноко без церкви, без друзей по приходу!..»
Он пошел советоваться с патером Мэтью Смисби, с которым прежде, в бытность свою священником, не раз встречался на обедах.
Достойный патер сидел за конторкой из Грэнд-Рэпидс, в комнате, ничем не отличающейся от делового кабинета, если не считать резного баварского буфета и распятия на голой оштукатуренной стене. Смисби был мужчина лет сорока; того же типа, что и Филипп Мак-Гарри, только пожестче.
— Вы кончали американский университет, отец, правда? — спросил Фрэнк.
— Да. Индианский. Хавбек университетской команды.
— Тогда, думаю, с вами можно разговаривать. Мне кажется, большинство ваших священников иностранцы не только по национальности — поляки, скажем, и так далее. Они вообще смотрят сверху вниз на наши американские нравы и хотят переделать нас по своему образу и подобию. Ну, а вы… Скажите: мог бы такой человек, как я, не скажу ученый, но, во всяком случае достаточно начитанный, который никогда не сможет поверить хотя бы одному слову ваших доктрин…
— Ого!
— …но на которого ритуал и общий дух вашей службы… произвели огромное впечатление, мог бы такой человек быть принят в лоно католической церкви честно, с полным пониманием того, что для него ваши догмы не что иное, как символы?
— Безусловно, нет!
— А вы не знаете священников, которые любят церковь, хоть и не верят каждой букве ее доктрин?
— Нет! Не знаю ни одного! Вам, Шаллард, не охватить умом весь авторитет и всю разумность церкви. Вы не созрели для этого. Вы слишком высокого мнения о вашем собственном ничтожном интеллекте. Вам не хватает святого смирения, чтобы постичь всю глубину многовековой мудрости, которая воздвигла эту твердыню. И вот вы стоите у ее стен — одинокая крохотная фигурка — и трубите в рог вашего самомнения, требуя, чтобы стражи проводили вас к командиру, ибо вы милостиво расположены оказать ему помощь. «Только пусть он имеет в виду, — заявляете вы, — что в моих глазах гранитные стены его крепости — простой картон, и я оставляю за собою право повалить их одним щелчком, когда мне надоест». Да если б вместо вас ко мне пришли проститутка или убийца и спросили: «Могу я здесь найти спасение?» — я бы крикнул им: «Да!» — и не пожалел бы жизни, чтобы им помочь. Но вы преступник хуже убийцы: вы одержимы гордыней ума. А между тем вы даже и не слишком умны, так что гордиться-то особенно нечем. И я не поручусь, что это не самое страшное из всех ваших преступлений. Всего наилучшего!
И когда Фрэнк в бешенстве распахнул дверь, добавил:
— Ступайте домой и молите бога о смирении.
— О вашем смирении? — отозвался Фрэнк. — И ваших манерах? Идти домой и молить бога, чтобы он сделал меня таким, как вы?
Через две недели Фрэнк — просто так, для собственного удовольствия — записал свое заключение по поводу этой беседы в специальную тетрадочку (он всегда имел ее при себе, чтобы записывать мысли, подходящие для проповедей: прежде — для тех, что он читал с кафедры, теперь — тех, что ему уж никогда больше не дадут читать):
«Католическая церковь — институт куда более совершенный, чем воинственная протестантская. Она не требует, чтобы ты пожертвовал ради нее любовью к прекрасному, чувством юмора и милыми твоему сердцу грешками. Она только отнимает у тебя честь, разум, сердце и душу».
IX
Ко времени Дейтонского «обезьяньего процесса»[196] Фрэнк прослужил в Благотворительном обществе уже три года и стал помощником генерального секретаря. То были дни, когда наиболее ретивые представители консервативного духовенства увидели, что развитие наук ставит под удар их влияние, их красноречие, их доходы. Самые сообразительные из них поняли, что им угрожает опасностью не только биология, но и история, которая дает не слишком лестную характеристику христианской церкви; и астрономия, которая не находит на небе подходящего местечка для рая и вежливо посмеивается над версией о том, что кто-то остановил солнце ради того, чтобы помочь иудеям одержать верх в мелкой пограничной стычке; и психология, которая сомневается в умственном превосходстве полуграмотного деревенского священника-баптиста над квалифицированными работниками научных лабораторий; да и вообще все науки, которые преподают в современных университетах. Они догадались, что настоящая школа не должна обучать ничему, кроме бухгалтерии, агрономии, геометрии, мертвых языков, разлученных с занимательной литературой и оттого еще более мертвых, и, наконец, иудейской библии в том толковании, которое придают ей люди, великолепно обученные, чтобы обходить ее противоречия, — люди, именуемые в профессиональных кругах «фундаменталисты».
И, усвоив эту идею, духовенство вместе с наиболее почитаемыми мирянами стало немедля проводить ее в жизнь. Они создали десяток компетентных и отлично финансируемых организаций, которым вменялось в обязанность держать в страхе доморощенных законодателей отдельных штатов, грозя им поражением во время политических кампаний и подкупая елейным славословием, чтобы эти Солоны захолустья и трущоб запретили преподавать во всех государственных школах и колледжах те предметы, к которым евангелисты относятся неодобрительно.
Затея оправдала себя блестяще. В ответ на это ученые, в свою очередь, объединились в несколько организаций. Одна такая организация предложила Фрэнку выступить с чтением лекций. Обрадованный, что ему снова представилась возможность говорить с аудиторией, Фрэнк взял отпуск в зенитском Благотворительном обществе и стал готовиться к поездке.
Гордый и взволнованный приехал он в первый пункт своего турне — шумный современный город на Юго-Западе. Ему понравился этот город, и он искренне поверил, что прибыл сюда с «высокой миссией». Жадно вдыхал он воздух Запада, любовался зданиями, взметнувшимися ввысь там, где только вчера расстилалась прерия. Он улыбнулся, увидав из окна гостиничного автобуса афишу, сообщающую, что, по поручению Лиги свободной науки, его преподобие Фрэнк Шаллард выступит в Центральном доме рабочего с докладом на тему «Фундаменталисты и охота за ведьмами».
— Вот это да! Снова воюем! Я все-таки нашел ее, эту свою религию!
Он поискал глазами другие афиши… Все были сорваны.
В отеле его ждала напечатанная на машинке записка без подписи:
«Ты у нас в городе никому не нужен, чертов безбожник! Мы можем сами думать за себя, без всяких „либералов“ со стороны. Если тебе дорога жизнь, выкатывайся из этого порядочного христианского города, пока не стемнеет. Если нет, да поможет тебе бог. Мы народ добродушный и поэтому предупредили тебя, но если ты не послушаешься, то во имя божьей справедливости мы сделаем все, чтобы ты получил сполна, что тебе причитается. Богохульников надо учить. Подумай, сладко ли тебе будет, если твою лживую рожу погладят плеткой? Комитет».
Не считая потасовок со сверстниками в детстве, Фрэнк никогда в жизни не испытывал и не применял насилия. У него задрожали руки. Он пытался ободрить себя: «Им меня не запугать!..»
Телефонный звонок, голос в трубке:
— Это кто, Шаллард? Говорит священник, ваш собрат. Фамилия значения не имеет. Я только хотел вас предупредить: вам бы лучше не выступать сегодня. У нас тут ребята грубые.
И тогда Фрэнк познал жаркую радость гнева…
Взглянув поверх графина с ледяной водой на столике, Фрэнк увидел, что зал, где должна состояться его лекция, наполовину пуст. В первых рядах сидели местные интеллигенты, большею частью серьезно заинтересованные и ужасающе бедные: молоденькая библиотекарша-еврейка с голодным взглядом; калека-портной; очкастый врач, сочувствующий радикалам, но такой отличный хирург, что его не пытались выжить из города… Затем пустые ряды, а дальше, в глубине зала, группа солидных, состоятельных и злобно ощерившихся горожан во главе с величественного вида мужчиной — либо актером, либо конгрессменом, либо популярным проповедником.
Когда Фрэнк, немного нервничая, начал лекцию, из группы респектабельных донесся негромкий ропот и шиканье.
Фрэнк говорил, что, посмеиваясь над «обезьяньим процессом» в Дейтоне, Америка недооценивает истинных размеров опасности, которую несет крестовый поход фундаменталистов. («Возмутительно!» — донеслись слова величественного мужчины.) Сейчас они прикидываются овечками, прикрываются фразами о добродетели. Но дайте им волю, и снова оживет инквизиция и опять начнется охота за ведьмами! Мы еще можем дожить до того, что увидим, как людей сжигают на кострах за отказ посещать протестантскую церковь.
Фрэнк привел слова одного фундаменталиста, утверждавшего, что сторонники теории эволюции — убийцы в буквальном смысле слова, так как убивают ортодоксальную веру, а потому их следует линчевать. Фрэнк процитировал и предложение Уильяма Дженнингса Брайана подвергать пожизненной ссылке за пределы страны всякого американца, который осмелится выпить хоть каплю спиртного.
— Вот как говорят эти люди, пока у них еще мало власти — мало до поры, до времени, — продолжал Фрэнк. — А теперь призовите на помощь свое воображение! Представьте себе, как они будут править страной, если у них будет эта власть; тогда они вынудят более умеренное полулиберальное духовенство действовать по их указке!
«Ложь!», «Ему надо заткнуть глотку!» — то и дело раздавалось из задних рядов.
Вдруг Фрэнк увидел, как в зал вошли человек десять дюжих парней — вошли и остановились наготове, выжидающе поглядывая в сторону группы состоятельных патриотов-христиан.
— Так, например, здесь, в вашем же городе, — продолжал Фрэнк, — есть некий слуга господень, который провозглашает Иудой каждого, кто с ним не согласен!
— Все! Хватит! — рявкнули в глубине зала, и тотчас же воинственно настроенные молодчики бегом устремились по боковому проходу, сжимая на бегу кулаки, с горящими злобой глазами, зубами, ощеренными, точно у свирепых псов. Фрэнк уже заранее чувствовал, как эти руки впиваются ему в горло. Их встретили и задержали на мгновение сторонники Фрэнка, сидевшие в передних рядах. Фрэнк увидел, как один из хулиганов сбил с ног калеку-портного и наступил на упавшее тело, пробиваясь вперед.
Фрэнк не ощущал страха, скорее, какую-то странную усталость.
— Ах, черт! — вздохнул он. — Надо ввязаться в драку, пусть убивают.
Он шагнул было вниз с эстрады. Председатель схватил его за плечо.
— Нет! Не ходите! Вас изобьют до смерти! А вы нам нужны! Идите сюда, сюда! Вот, в заднюю дверь…
Фрэнка вытолкнули в дверь; он очутился в полутемном переулке. У двери ждал автомобиль, рядом стояли двое.
— Давайте сюда, брат! — крикнул один.
Автомобиль был большой, «седан»; это было спасение, жизнь… Но когда Фрэнк уже занес ногу, чтобы сесть, его внимание привлек тот, что сидел за рулем. Он всмотрелся в остальных. У водителя вместо губ была только тонкая жестокая горизонтальная полоска поперек лица — рот палача… Еще двое: один — типичный содержатель пивной: закрученные усы, завитой кок на лбу; другой — сухопарый с безумными глазами.
— Кто вы такие? — спросил Фрэнк.
— Заткни пасть и лезь давай! — взвизгнул содержатель пивной, втолкнув его в автомобиль с такой силой, что Фрэнк упал на сиденье.
Тощий с безумными глазами влез за ним, и автомобиль рванулся с места.
— Говорили тебе, убирайся из города. Дали возможность уйти подобру-поздорову. Ну, а теперь тебя проучат как следует, проклятый безбожник! А может, еще, чего доброго, и социалист или И. Р. М. Дрянь такая! — прошипел владелец пивной. — Видишь вот это? — Он больно ткнул Фрэнка в бок револьвером. — Может, мы еще и оставим тебя в живых, если будешь держать язык за зубами и делать, что тебе велят, а может, и не оставим. Ничего, славно мы тебя покатаем! Подумай: то-то весело тебе будет, когда окажешься с нами один на один за городом! Тишь — тьма — благодать!
Он не спеша поднял руки и вонзил свои крепкие ногти Фрэнку в щеки.
— Вы за это ответите! — закричал Фрэнк.
Он рванулся с сиденья и почувствовал, как пальцы тощего фанатика — только два пальца с нечеловеческой силой сдавили ему шею, они впились так больно, что у Фрэнка потемнело в глазах, и тут кулак кабатчика едва не раздробил ему челюсть. Рухнув почти без чувств на переднее сиденье, он услышал, как кабатчик хихикнул.
— Теперь эта сволочь получит хотя бы слабое представление о том, какая нас скоро ждет потеха. Поглядим, как этот сукин сын у нас попляшет!
— Не ругаться! Босс что сказал? — оборвал его тощий.
— Подумаешь, «не ругаться»! Плевать! Я не ангелочек с открытки. Побывал в передрягах, дай боже! Но, черт побери, когда какой-то тип выдает себя за священника, а сам, понимаешь, разъезжает туда-сюда и насмехается над христианской религией — единственным спасением для таких отпетых, как мы, то, ей же богу, это самое время показать, что мы умеем постоять за что надо!
Кабатчик произнес этот монолог самодовольно — веселым тоном рыцаря справедливости, который рад случаю измываться над слабым во имя высокой морали, — и, невозмутимо подняв ногу, с силой наступил каблуком на подъем ноги Фрэнка.
Но вот облако боли немного рассеялось. Фрэнк сидел словно в оцепенении. Что будет делать Бесс и дети, если эти люди убьют его?.. Долго его будут бить, прежде чем наступит смерть?
Автомобиль свернул на проселочную дорогу, а с нее на межу, пролегающую, как показалось Фрэнку, через кукурузное поле. У раскидистого дерева машина остановилась.
— Вылезай! — приказал тощий.
Машинально Фрэнк, едва передвигая ногами, выбрался из автомобиля. Взглянул на луну. «В последний раз вижу луну, звезды, слышу голоса! Никогда больше не бродить по земле росистым утром…»
— Что вы собираетесь делать? — Он ненавидел их так сильно, что не чувствовал страха.
— Да так, голубчик, — с ужасающей игривостью отозвался шофер. — Прогуляешься с нами во-он туда, в поле…
— К черту! — возразил кабатчик. — Давайте лучше повесим: очень подходящее дерево! Можно на буксирном тросе.
— Нет, — сказал тощий. — Всыплем ему так, чтобы помнил, и пусть идет, расскажет своим дружкам-безбожникам, что в истинно христианских местах для них климат неподходящий. А ну, пошел, ты!
Фрэнк зашагал впереди в гробовой тишине. Тропа сбежала через поле к небольшой ложбинке. Шумно и весело стрекотали цикады, безмятежно светила луна.
— Стой, пришли! — скомандовал тощий и добавил: — Ну, готовься к приятным ощущениям!
Он положил свой карманный электрический фонарик на кочку, и при свете фонаря Фрэнк увидел, как он вытаскивает из кармана свернутую в кольцо черную кожаную плеть — плеть для мулов…
— В другой раз, — с расстановкой произнес тощий, — в другой раз пожалуешь сюда — убьем. И тебя и каждого предателя, подлеца и безбожника вроде тебя. Так и передай. А в этот раз еще убивать подождем. По крайней мере до смерти…
— А-а, брось болтать, давай ближе к делу! — сказал кабатчик.
— Ладно!
Кабатчик схватил Фрэнка за руки и скрутил их на спине, едва не сломав, и вдруг неслыханной, нестерпимой болью обожгла лицо Фрэнка ременная плеть, рассекая щеку до кости, и мгновенно хлестнула еще и еще… И мгла завертелась вокруг него кругами нечеловеческой боли.
X
Сознание мало-помалу возвращалось к нему. Над полем еле брезжил рассвет, насмешливо щебетали птицы. Единственным четким ощущением Фрэнка было желание, чтобы смерть как можно скорей избавила его от мук. Все лицо его пылало адской болью. Он не мог понять, почему так плохо видит, с трудом поднял руку, ощупал себе лицо. Вместо правого глаза — месиво слепой плоти. Вдоль челюсти — обнаженная кость.
Шатаясь, он побрел по тропинке через поле, спотыкаясь о кочки, падая, бормоча сквозь рыдания:
— Бесс… где же ты… Бесс!
Силы оставили его как раз у обочины шоссе — он рухнул на землю и остался лежать у дороги, как пьяный бродяга-нищий. Показался автомобиль, но, заметив бессильно приподнятую руку Фрэнка, шофер только поддал газу. Прикидываться пострадавшим — обычная уловка дорожных бандитов.
— О, боже, неужели никто мне не поможет! — простонал Фрэнк и внезапно захохотал глухо, неестественно. — Да-да, Филипп, я сказал «боже», наверное, это значит, что я добрый христианин!
Сотрясаясь от судорог смеха, он пополз по дороге. Коттедж. Свет в окне. Фермер за утренним завтраком. У Фрэнка вырвалось рыдание. Наконец-то!.. В ответ на стук фермер отворил дверь, поднял лампу и, едва взглянув на Фрэнка, с воплем ужаса захлопнул дверь.
Час спустя полисмен на мотоцикле обнаружил Фрэнка в канаве, в горячечном бреду.
— Еще один пьянчуга! — бодро отметил полисмен, опуская подпорку на заднем колесе мотоцикла, потом, наклонившись поближе и увидев наполовину спрятанное лицо Фрэнка, прошептал:
— О господи, боже милостивый!..
XI
Доктора утешили Фрэнка: да, правый глаз потерян совершенно, зато другой окончательно утратит зрение, пожалуй, только через год.
Бесс не вскрикнула, увидев его; она только прижала к груди дрожащие руки и замерла на месте.
Она секунду помедлила, прежде чем поцеловать то место, где прежде был его рот. Но голос ее звучал бодро:
— Пожалуйста, ни о чем не беспокойся. Я достану работу, как-нибудь проживем. Я уже говорила с генеральным секретарем Общества. И подумай, как удачно, что ребятишки уже подросли и смогут читать тебе вслух!
Ему будут читать вслух — до конца его дней…
Пришел Элмер. Элмер бушевал.
— Ну, Фрэнк, это неслыханно! Ничего более возмутительного я не встречал в жизни! Будь уверен, уж и разнесу я их с кафедры, этих негодяев, которые так с тобой разделались! Хотя бы даже это помешало мне набрать денег на мою новую церковь. Слушай, у нас здесь будет шикарнейшее здание — махина по последнему слову техники, влетит в полмиллиона долларов, свыше двух тысяч мест… Но мне-то никто рот не заткнет! Я буду клеймить этих мерзавцев таким позором, что они у меня на всю жизнь запомнят!
То были, насколько известно, последние слова, сказанные Элмером Гентри по этому поводу — будь то в частной беседе или публично.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
I
Преподобный Элмер Гентри сидел в своем дубовом, обитом испанской кожей кабинете огромной новой Уэллспрингской церкви.
Храм был построен из ярко-красного кирпича, отделан известняком. Готические окна, куранты на четырехугольной каменной колокольне, десятки учебных кабинетов для воскресной школы, спортзал, зал для общественных мероприятий со сценой и кинобудкой, электрическая плита на кухне, и над всем этим — вращающийся электрический крест и порядочный долг.
Впрочем, для погашения долга были приняты энергичные меры. Элмер оставил у себя в штате сборщика пожертвований, которого нанял еще во время кампании по сбору средств в строительный фонд. Имя этого крестоносца от финансов было Иммануил Навицкий, по слухам, отпрыск благородной католической польской фамилии, перешедший в протестантство. Он и вправду был самый ревностный христианин — кроме как, разве что, на еврейскую пасху. В прошлом он доставал деньги на постройку пресвитерианских храмов, постройку зданий ХАМЛ, конгрегационалистских колледжей и на множество других святых начинаний. Он составил картотеку на всех богатых людей города и творил с нею чудеса. Говорят, он первым из церковных дельцов додумался обращаться к евреям за пожертвованиями на строительство христианских храмов.
Да, Элмер мог со спокойной душою посвятить себя чисто духовным делам: Иммануил сделает все, чтобы погасить церковный долг.
Итак, он сидел в кабинете и диктовал мисс Бандл деловые письма. Ему повезло: брат мисс Бандл, староста его прихода, недавно скончался, так что скоро можно будет без особого труда отделаться от этой безвкусно одетой дамы.
Принесли визитную карточку: Лорен Латимер Додд, магистр искусств, доктор богословия, доктор права, ректор Эбернеси-колледжа — методистского духовного учебного заведения.
— Хм-м! — задумчиво промычал Элмер. — За деньгами явился. Это точно. Нет, этот номер не пройдет. За кого он нас принимает, черт побери! И вслух: — Идите же, мисс Бандл, зовите доктора Додда сюда. Замечательный человек! Выдающийся педагог! Вы знаете, конечно, — ректор Эбернеси-колледжа!
Бросив восхищенный взгляд на своего босса, у которого бывают такие знаменитые посетители, мисс Бандл со всех ног бросилась выполнять приказание.
Доктор Додд был пышущий румянцем мужчина с зычным голосом, значком Кивани-клуба[197] и рукопожатием, от которого трещали кости.
— Здравствуйте, брат Гентри, здравствуйте! Я так много слышал о ваших блистательных достижениях, что решился заглянуть к вам и отвлечь вас на минутку от работы! Какую вы создали великолепную церковь! Какой это для вас, должно быть, источник удовлетворения, гордости! Она… она великолепна!
— Спасибо, доктор! Очень рад вас видеть. Хм… Да. Так, стало быть, приехали посмотреть Зенит?
— Да, собственно говоря, разъезжаю по делам.
— (Ни цента не получишь, старый разбойник!) Навещаете бывших выпускников, должно быть?
— Отчасти. Видите ли, я…
— (Ни полцента, черт возьми! Скоро за мое жалованье возьмутся!)
— …хотел бы, с вашего разрешения, выступить с коротким словом на вашей воскресной службе и обратить внимание вашего славного прихода на ту большую работу, которая проводится в Эбернеси, и на нашу жестокую нужду. У нас сейчас как раз подобрался такой отличный состав, серьезные молодые люди и девушки… причем многие из наших юношей вольются в методистское духовенство. Но наша дотация так ничтожна, а тут еще расходы на новое спортивное поле. Хотя я рад заметить, что благодаря помощи наших друзей поле вышло превосходное, знаете, с прекрасным цементированным стадионом… Ну, а теперь у нас ужасающие финансовые затруднения. Достаточно сказать, что все химическое отделение ютится в двух комнатушках, в бывшем хлеву. И…
— Не могу, доктор. Невозможно. Мы еще не начинали выплачивать за эту церковь. Просить теперь у моих прихожан хотя бы один лишний цент! Нет, даже если бы речь шла о моей жизни. Вот, может быть, годика через два… Впрочем, откровенно говоря, — Элмер добродушно рассмеялся, — не понимаю, с какой стати уэллспрингским прихожанам жертвовать деньги колледжу, который такого низкого мнения об уэллспрингском пасторе, что даже не предлагает ему степень доктора богословия!
Святые отцы с абсолютно непроницаемыми лицами поглядели друг другу прямо в глаза.
— Разумеется, доктор, — продолжал Элмер, — мне предлагали эту степень, и не раз, но все, понимаете ли, маленькие, второстепенные колледжи. Мне как-то не слишком улыбалось соглашаться. Так что, видите, это вовсе не намек, что я хотел бы получить эту степень. Боже упаси! Просто я знаю, что моей пастве это было бы приятно. У прихожан появилось бы такое чувство, что Эбернеси-колледж для них как бы свой, родной.
— Простите мне невольную улыбку, — невозмутимо отозвался доктор Додд, — дело в том, что у меня к вам двойная миссия. Вторая ее часть состоит как раз в том, чтобы просить вас оказать Эбернеси честь, приняв от него звание доктора богословия!
Нет, они не подмигнули друг другу. Оставшись наедине с собою, Элмер с довольным видом потер руки: «А ведь, говорят, старичку Малону Поттсу „доктор богословия“ обошелся в шестьсот кусков! Ну, так и быть, милый ректор, годика через два начнем собирать деньги для Эбернеси, начнем!..»
II
Часовня Эбернеси-колледжа была полна народу. В первых рядах наставники в церковном облачении, удивительно похожие на кресла, покрытые чехлами. На эстраде рядом с ректором и старшими преподавателями знаменитости, чьи заслуги сегодня отмечались присвоением почетных степеней.
Кроме преподобного Элмера Гентри, в числе знатных гостей были: губернатор штата, который начал свою карьеру адвокатом по бракоразводным процессам, впоследствии перестроился и помог корпорациям бытового обслуживания прибрать к рукам водную энергию штата; мистер Б. Д. Свенсон, владелец автомобильного завода, пожертвовавший большую часть суммы на постройку футбольного стадиона Эбернеси-колледжа, и прославленная Ива-Эвалин Мерфи, писательница, лектор, художница, музыкантша и ученый садовод, которая была удостоена звания доктора литературы за создание (безвозмездно) нового гимна Эбернеси-колледжа:
Мы будем помнить о тебе везде, везде, везде! В горах, долинах и полях, на суше, на воде В устах звенит, в сердцах горит, Наш Эбернеси, пееее-е-есня о тебе!Глядя в лицо Элмеру, ректор Додд торжественно возвысил голос:
— …А сейчас нам предстоит честь объявить о присуждении степени доктора богословия человеку, который в соседнем с нами славном штате Уиннемак трудится, как никто другой, внедряя в массы истинно религиозное вероучение, приумножая могущество церкви, являя в своей деятельности самые высокие образцы красноречия и эрудиции, — человеку, вся жизнь которого — вдохновляющий пример самоотверженного служения делу!
Раздались дружные рукоплескания… И Элмер стал отныне «Преподобный доктор Гентри».
III
В Ротари-клубе вздохнули с облегчением. Им уж давно было неловко называть столь значительную персону просто: «Элм» — и теперь с чувством гордости, что его заслуги получили новое признание, его стали называть «Док».
Церковный совет устроил в его честь обед и увеличил ему жалованье до 7 500 долларов в год.
IV
Преподобный доктор Гентри первым из священников штата Уиннемак, и едва ли не первым в стране, стал транслировать свои проповеди по радио. Он подал эту идею сам. В то время в распоряжении единственной радиостанции Зенита, принадлежавшей Целебесской компании жевательной резинки, имелись для рекламирования знаменитой резинки «Джолли Джек» лишь местный джаз-оркестр да заштатные сопрано. За 50 долларов в неделю Уэллспрингская церковь купила себе право пользоваться станцией по воскресеньям с одиннадцати до двенадцати тридцати утра. Таким образом, Элмер увеличил свою аудиторию с двух до десяти тысяч человек, а года через два их уже было сто тысяч…
Восемь тысяч владельцев радиоприемников слушают Элмера Гентри…
Вот торговец контрабандным виски у себя дома, без пиджака, в алой шелковой рубашке, положил ноги на стол, слушает… Вот домик провинциального врача, соседи зашли послушать радио; аптекарь со своею толстухой-женой; бородатый директор школы… Миссис Шерман Ривз, супруга одного из самых богатых молодых людей Зенита, в особняке на Ройял-ридж в черном с золотом халатике слушает, покуривая сигарету… Капитан шхуны на озере Мичиган — за сотни миль от Зенита — тоже слушает в своей каюте… Фермерша в долине Индианы слушает радио, а ее муж в это время, презрительно фыркая, листая каталог Сирс-Робека[198]… Старичок пенсионер, бывший железнодорожный кондуктор, совсем хилый и очень набожный… Католический священник в больнице слушает, пряча усмешку… Старая дева-учительница, полубезумная от одиночества, тает, внимая мужественному голосу доктора Гентри… Сорок прихожан сельской церкви, слишком бедной, чтобы содержать священника, собрались в своей церквушке… Актер в своей уборной после изнурительной и бесконечной репетиции…
Слушают. Все слушают громоподобные речи преподобного доктора Элмера Гентри:
— …и я хочу вам сказать, что человек, снедаемый честолюбием, ставит славу мирскую выше славы небесной! О, если б я только мог помочь вам понять, что лишь смирение, лишь простая забота, доброта и нежная преданность воистину приносят сердцу отраду! Вот позвольте рассказать вам по этому поводу одну историю: помнится, жили как-то два ирландца, Майк и Пат…
V
Много лет Элмера, словно кошмар наяву, преследовал страх внезапно увидеть перед собою в аудитории саркастически усмехающегося Джима Леффертса. Это была бы драматическая, ужасная встреча. Вдруг Джим откроет рот, заговорит — и он, Элмер, точно по волшебству, в мгновение ока слетит с кафедры. Элмер был вовсе не уверен, что не произойдет именно так.
Но когда в одно воскресное утро он действительно увидел в третьем ряду Джима Леффертса, то вовсе не испугался. «Боже мой, да ведь это Джим Леффертс! Как поседел! Надо будет обойтись с ним полюбезнее».
После службы Джим подошел пожать ему руку. Теперь вид у него был не цинический, а просто усталый, а когда он заговорил невыразительным говорком жителя прерий, Элмер почувствовал себя рядом с ним человеком городским и светским и вообще персоной гораздо более важной, чем Джим.
— Здоров, Сорви-Голова! — сказал Джим.
— О-о! Кого я вижу! Старина Джим Леффертс! Ах, черт возьми! Страшно рад тебя видеть, мой мальчик! Какой ветер занес в нашу дыру?
— Навожу кое-какие справки в связи с иском одного клиента.
— Чем теперь занимаешься, Джим?
— Да вот, юрист в Топике.
— Ну, и как дела?
— Не жалуюсь. Конечно, ничего особенного… Вот побывал сенатором штата один срок…
— Ну да? Вот это здорово! А здесь долго думаешь пробыть?
— Да дня три.
— Слушай, надо бы зазвать тебя к себе пообедать… Да вот беда, черт! Клео, моя жена, — я, знаешь, женился — связала меня по рукам и ногам, наобещала и туда и сюда — женщины, сам понимаешь, я-то лично всегда с большей охотой посижу дома, почитаю… Но все же обязательно нам с тобой надо повидаться. Вот что: позвони мне домой, а? Номер найдешь в телефонной книжке. Или сюда, в церковь, ко мне в кабинет, ладно?
— Да-да. Конечно. Ну, рад был встретиться.
— И я, знаешь, чертовски рад, старина Джим!
Понуро, с поникшими плечами Джим побрел к двери Элмер смотрел ему вслед. Ха! И это ничтожество хотело помешать ему сделаться священником!.. Он оглядел свой зал: золотистой пирамидой громоздятся трубы органа; золотом, рубинами и аметистами горят цветные витражи. Стать юристом, как он, торчать в заплеванной, вонючей конторишке! Пф! А еще, понимаешь, издевался, пытался удержать, когда человек так ясно и определенно услышал Глас Божий. Ну, ничего, звони себе, обрывай телефон. Не обессудьте, Элмер Гентри будет в это время очень занят!
Джим не позвонил.
На третий день Элмер уже умирал от желания увидеться с ним, вернуть его дружбу. Но он не знал, где Джим остановился. Он искал Джима по всем большим отелям и не нашел.
Он никогда больше не встречал Джима Леффертса, а через неделю уже забыл его. Осталось только чувство облегчения, что нет больше страха перед саркастической усмешкой Джима, что рухнула последняя преграда, мешающая ему вполне уверовать в собственное величие.
VI
Летом 1924 года Элмер получил трехмесячный отпуск и вместе с Клео впервые посетил Европу.
Он слышал однажды, как преподобный доктор Дж. Проспер Эдвардс сказал: «В моих глазах американские священники делятся на две группы: те, кого могут пригласить выступить с проповедью в лондонской церкви, и те, которых никогда не пригласят». Сам доктор Эдвардс принадлежал к первой, почетной категории, и Элмер видел, какой почет снискал он себе тем, что читал однажды проповедь в Сити-Темпл. Не только зенитские, но даже и столичные церковные газеты намекали, что когда доктор Эдвардс был в Лондоне, все население Англии — от короля до последнего чернорабочего — сбежалось в храм, чтобы помолиться богу под его руководством, и будет вполне разумно, если Зенит и Нью-Йорк последуют примеру англичан.
Элмер предусмотрительно позаботился о том, чтобы его тоже пригласили. Он заставил епископа Тумиса написать в Лондон своим коллегам-везлеянцам, а Ригга и Уильяма Доллинджера Стайлса — своим деловым знакомым-диссидентам и за месяц до отъезда получил приглашение выступить в прославленной Бромптон-роуд Чэпел и, таким образом, отбыл, горя не только жаждой приключений, но и священным огнем носителя благой вести.
VII
Доктор Элмер Гентри разгуливал по палубе Скифии — колоритная, самоуверенная, мужественная фигура в синем костюме, фуражке яхт-клуба и белых парусиновых туфлях. Он шагал, размахивая руками и с пасторским благоволением поглядывая на своих спутников — конечно, таких же завзятых спортсменов, как и он сам.
Вот он остановился у шезлонгов, где сидела чета хрупких старичков — миниатюрная старая дама с голубыми жилками и ее супруг с тонкими руками и реденькой седой бородкой.
— Ну что, друзья любезные, как переносите плавание? — бодро рявкнул Элмер. — Вроде бы для вашего преклонного возраста неплохо?
— Да, благодарю вас! — ответила старушка.
Элмер потрепал ее по колену.
— Если могу чем-нибудь услужить, мамаша, только кликните — и я тут, — прогудел он. — Не стесняйтесь, заходите. Я, правда, особенно не распространялся об этом — неплохо, знаете, путешествовать, что называется, инкогнито, — но я священник, вот оно что, хоть и такой здоровенный малый, что не подумаешь. И помогать людям чем только можно для меня не просто долг, но и радость… Между прочим, по-моему, самая прелесть в океанском путешествии — это как раз возможность общаться с людьми, на досуге обмениваться мыслями, как считаете? Вы плывете за океан не первый раз?
— Да, но думаю, что последний! — ответила старая дама.
— Ну и хорошо, и чудесно! Я лично так полагаю, мамаша. — Тут Элмер похлопал ее по руке. — Мы кто? Американцы. Конечно, съездить разок-другой за границу — оно, может, и невредно: что еще так расширяет кругозор, как путешествие, верно я говорю? А все же у нас в Америке достигли такого уровня нравственной и материальной культуры, какой этим несчастным стареньким европейским странам и не снится. И в конечном счете подлинное счастье можно найти только в наших старых добрых Штатах, особенно когда речь идет о таких людях, как мы с вами, а не каких-нибудь там миллионерах, — эти-то, понимаешь, конечно, нахватают себе и замков и барахла и наймут кучу дворецких… Да, вот так-то. Ну ладно: стало быть, чуть чего надо, зовите, да погромче, договорились? Пока, друзья! Пошел вышагивать свои три мили!
Когда он скрылся из виду, хрупкая старушка сказала мужу:
— Фабиан, если эта личность заговорит со мной еще раз, я кинусь в воду! Гнуснейший предмет, какой я когда-либо видела в жизни! Скажи, милый… который раз мы плывем за океан?
— Да я, признаться, и счет потерял. В позапрошлом году был сто десятый.
— Не больше?
— Душенька, не будь так высокомерна.
— Но разве нет закона, который позволяет убить человека, если он назвал тебя «мамаша»?
— Дорогая, но ведь и герцог тебя так называет!
— Да, называет. Знаю. Именно это я в нем и не переношу! Милый, а как ты думаешь: это не слишком дорогая плата за свежий воздух, чтобы тебя называли «мамаша»? Когда это животное к нам подойдет снова, оно назовет тебя «папаша»!
— В первый и последний раз, душа моя!
VIII
— Ну что ж, — размышлял Элмер, — немного развлек старичков, хоть веселей им будет плыть. Черт, да это же самое важное — дать людям немного радости и веры, приободрить их на многотрудном жизненном пути.
Он проходил мимо кафе на открытом воздухе. За бледно-зеленым столом сидел сосед Элмера по салон-ресторану. С ним были еще какие-то трое, и перед каждым стаканчик виски с содовой.
— О, я смотрю, вы решили поддержать в себе бодрость духа! — милостиво заметил Элмер.
— Точно, а как же иначе, — отозвался его знакомый по салон-ресторану. — Присаживайтесь с нами, пропустим стаканчик!
Элмер сел. Над ним в почтительном ожидании склонился румяный официант-англичанин.
— Конечно, — подал голос Элмер — не мне, священнику, тягаться с такими крепкими спа-артивными ребятами, как вы, братцы. Разве что лимонадику хватить — это бы я еще, пожалуй, выдержал. — И, обращаясь к официанту: — Есть ли у вас что-нибудь в этом роде, приятель, или только сивуху держите для могучих мужчин?
Когда Элмер дал понять распорядителю, что не откажется председательствовать на концерте, распорядитель, весь в испарине от конфуза, объяснил, что, к величайшему сожалению, председательское место уже предложено достопочтенному Лайонелу Смиту…
IX
Нельзя сказать, чтобы Клео была еще более бесцветна и оттого более несносна, чем обычно, но она страдала морской болезнью, и Элмер понял, что совершил ошибку, взяв ее с собой. На пароходе он с ней не поговорил и часу. Здесь можно было встретить так много интересных людей, так пополнить свой интеллектуальный багаж, общаясь с ними. Взять хотя бы того пассажира из Китая, у которого он набрался идей по крайней мере для десятка проповедей о миссионерской работе! Или профессора из Хиггинского пресвитерианского института, который объяснил ему, что ни один современный ученый не признает теории эволюции, или хорошенькую журналистку, которая так нуждалась в утешении…
Но если на пароходе Клео и могла бы еще пожаловаться на отсутствие внимания к ней, то теперь, оставшись наедине с нею в купе поезда Ливерпуль — Лондон, Элмер с лихвой наверстывал упущенное, старательно отмечая невыгодные особенности чужой страны.
— Ну и ну! Эти англичане и в самом деле отстали от жизни! Подумать только, вместо пульмановских вагонов, где видишь всех попутчиков и можешь завести знакомства, настроили каких-то клетушек. Лишний пример того, насколько в этой стране еще сильны сословные предрассудки… Что-то не очень мне нравятся эти города. С виду-то ничего: коттеджи, увитые диким виноградом, и все такое, но не чувствуешь, что город растет, развивается, шагает вперед, как у нас в Америке. Я тебе вот что скажу — кстати, думается, еще никто не высказал эту мысль, можно бы использовать ее в проповеди, — заграничное путешествие приносит наглядную пользу хотя бы в одном: начинаешь еще больше ценить, что ты американец!.. А-а, вот, кажется, уже и Лондон! Гляди-ка, ну и копоть, а?.. Хо-хо-хо… Так вот что в Лондоне называется вокзалом! М-да, прямо скажем, ничего особенного! А уж паровозишки-то, смех! Да американский машинист постыдился бы водить такие игрушечные поезда! И на весь вокзал ни кусочка мрамора!
X
В отеле Савой их чемоданы внес в номер слуга — проворный, улыбчивый юнец с пресловутым английским румянцем во всю щеку.
— Послушай, друг, — сказал преподобный доктор Гентри, — и много ты здесь зашибаешь?
— Простите, сэр, я что-то не совсем понимаю, сэр.
— Получаешь, говорю, сколько? Платят ничего?
— Ах, вот что! О, мне платят очень прилично, сэр! Чем еще могу быть полезен, сэр? Благодарю вас, сэр.
— Приветливый посыльный, нечего сказать, — пожаловался Элмер, когда мальчик вышел, — да к тому же и английский язык не понимает! Н-да, я, конечно, рад побывать в старой Англии, но если тут все такие дружелюбные, как этот; представляю себе, с каким удовольствием мы вернемся домой. Да будь это наш американский малец, мы бы сейчас с ним добрый час проболтали, я бы хоть расспросил кое о чем… Ну, нечего тут стоять, поторапливайся! Надевай шляпку и пошли хоть взглянем на город.
Они зашагали по Стрэнду.
— Ого! — значительно молвил Элмер. — Видела? У полисменов-то ремешки под подбородком! Хм… хм… Вот это, правда, совсем не как у нас!
— Да, очень интересно! — отозвалась Клео.
— Но сама улица — очень так себе. Столько слышал — можно подумать, что-то замечательное, а магазинишки… да у нас в Зените сколько хочешь улиц, где магазины куда лучше, — а уж про Нью-Йорк и говорить нечего. Никакого размаха у этих иностранцев! Просто радуешься, что ты американец!
Осмотрев магазин Свон и Эдгар, они пошли к Сент-Джеймскому дворцу.
— Так, — сказал Элмер с видом знатока. — Здание, безусловно, старинное. Интересно, что это такое? Наверное, замок какой-нибудь. — И, обращаясь к проходящему полисмену: — Простите, капитан, вы не скажете, что это за здание? Вот это, кирпичное?
— Сент-Джеймский дворец, сэр. Вы американец, наверное? Здесь живет принц Уэльский, сэр!
— Да ну?! Слышала, Клео? Да, сэр, это, во всяком случае, стоит запомнить!
XI
Перед жиденькой аудиторией в часовне на Бромптон-роуд Элмера внезапно осенило.
С самого начала он задумал выдержать свою первую лондонскую проповедь в поэтическом духе. Он рассчитывал сказать о том, что первым склонит голову перед Богом — сильный человек, рыцарь в латах; сказать, что Любовь — это радуга на мрачном горизонте жизни, что это утренняя звезда, а также звезда вечерняя. Но в минуту гениального прозрения он сразу отбросил этот план. Нет! Им нужен американец — настоящий, отчаянный, с повадками первых поселенцев.
Таким он и предстал перед ними — от головы до пят. Он сказал.
— Братцы, — начал он. — Очень здорово с вашей стороны, что вы разрешили простому американцу приехать сюда и сказать вам свое слово. Но, я надеюсь, вы не ждете услышать речь оксфордского выпускника! Моя весть — и да поможет господь мне в слабости моей донести вам хотя бы ее, — моя весть такова: среди суровых поселенцев Америки, в убогих хижинах и непроходимых дебрях царит господь — точно так же, как царит он в вашем великолепном и могущественном городе. Сам я в настоящее время, хоть и отнюдь не по своей заслуге, состою пастором церкви, которая затмевает собою даже эту вашу прекрасную часовню. Но в глубине души я жду не дождусь того дня, когда генеральный инспектор отошлет меня снова в мою родную глушь, в… Позвольте же мне, в меру моих скромных возможностей, дать вам некоторое представление о той работе, которую я выполнял в дни молодости, дабы вы видели, как тесно связывает милость Божия ваш могучий город с безвестными и дикими просторами. Зеленым юнцом, не ведающим ничего, кроме того, что единственный настоятельный долг всякого священника — нести всем и повсюду благую весть искупления, я был пастором бревенчатой часовни в глухом селении под названием Шенейм. Объезжая верхом свой приход, усталый и голодный, приехал я под вечер к одинокой бревенчатой хижине одного из первых поселенцев, Барни Бейнса, и представился ему.
«Я брат Гентри, методистский священник», — сказал я.
Он пристально уставился на меня; из-под шапки всклокоченных волос диким огоньком сверкнули его глаза; он медленно произнес.
«Брат, — сказал он, — вот уж скоро год, как я не видывал чужого лица. Я очень вам рад!»
«Вам, наверное, было страшно одиноко, дружище?» — сказал я ему.
«Ну, нет, сэр, — говорит он. — Только не мне!»
«Да как же так?» — спрашиваю.
«Но ведь со мной все время был Христос!»
XII
Ему едва не зааплодировали.
Ему говорили потом, что он был неподражаем, его просили читать проповеди в часовне всякий раз, как он вновь приедет в Лондон.
«Ну, постойте же! — думал он. — Вот вернусь в Зенит, расскажу все это старому Поттсу и Хикенлуперу».
В автобусе на обратном пути в Савой Клео вздохнула:
— Ах, ты был изумителен! А я и не знала, что твой первый приход был в такой дикой глуши.
— А, пустяки, что там! Если ты настоящий мужчина, ты должен быть готов ко всему — и к хорошему и к плохому!
— Да, это верно!
XIII
Он стоял на углу Рю де ла Пэ, с нетерпением дожидаясь Клео, которая не могла оторваться от витрины парфюмерного магазина (ей и в голову не пришло бы попросить его купить ей дорогие духи: она была достаточно хорошо вышколена). Элмер обвел взглядом фасады зданий на Вандомской площади[199].
«Шика мало — простовато», — заключил он.
Бочком, воровато озираясь, к нему подсунулся тщедушный, замусоленный человечек, украдкой протягивая пачку открыток.
— Прелестные открыточки! — шепнул он. — Всего два франка штука…
— О-о! — протянул сообразительный Элмер. — По-английски говорите?
— Да-да. Я — на все языки!
И тут Элмер увидел верхнюю открытку и мгновенно ожил.
— Ух ты! Вот это да! Два франка штучка? — Он жадно вцепился в открытки.
…И в этот момент рядом с ним очутилась Клео.
— Пошел отсюда! — рявкнул Элмер, сунув человечку обратно пачку открыток. — Убирайся, пока я не позвал полисмена! Предлагать непристойные открытки — и кому? Служителю божию! Клео, эти европейцы — грязные люди!
С Дж. Э. Нортом он познакомился и близко сошелся на борту парохода уже на обратном пути — да-да, с тем самым Нортом, прославленным врагом порока, секретарем исполнительного комитета Национальной Ассоциации Оздоровления Искусства и Печати, которую в евангелическом мире любовно прозвали «Напап». Мистер Норт, хоть и ревностный пресвитерианин, не был священником, но ни один священник в Америке не преследовал порок столь яростно, не умел с таким искусством запугивать избирателей и, таким образом, заставлять конгрессменов придерживаться в области законодательной политики тех же разумных взглядов, что и он сам. На нескольких сессиях конгресса он пытался с помощью своих сторонников провести закон об учреждении федеральной цензуры над литературой, театром и кино. По этому закону всякий автор, осмелившийся хотя бы косвенно упомянуть о прелюбодеянии, высмеивать сухой закон или неуважительно отзываться о деятельности христианских сект и лиц духовного звания, должен был привлекаться к уголовной ответственности.
Законопроект всякий раз проваливался, но с каждой сессией получал все больше голосов…
Мистер Норт был немногословный и сухощавый джентльмен. Преподобный доктор Гентри понравился ему своей энергией, прямотой и деловым рвением, и новые друзья целыми днями вышагивали вдвоем по палубе или сидели и беседовали где придется, только не в курительной комнате, где глупцы одурманивают свой мозг пивом. Норт дал Элмеру возможность увидеть скрытые пружины нового и великого мира организованной борьбы с безнравственностью; запросто рассказывал о человеческих черточках лидеров этого мира — руководителей Лиги трезвости, Союза дня господня, Общества охраны порядка, Методистского комитета трезвости и Общественной морали — этих современных Иоаннов-Крестителей, вооруженных картотеками.
XIV
Он пригласил Элмера читать лекции от имени «Напапа».
— Нам нужны такие люди, как вы, доктор Гентри, — говорил мистер Норт, — люди с твердыми нравственными устоями и в то же время достаточно сильные физически, чтобы являть собою наглядный пример для несчастного заблудшего молодого поколения нашего страшного, отравленного алкоголем века, — пример того, что нравственность не менее, но более мужественна, чем безнравственность. А потом, я полагаю, и вашим прихожанам будет приятно, если их пастора время от времени будут приглашать в такие города, как Нью-Йорк и Чикаго, выступать на собраниях.
— О, я не ищу популярности! Я просто готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь нанести удар силам зла! — ответил Элмер. — Я буду счастлив сотрудничать с вами.
— Вы могли бы четвертого октября выступить в Детройтском отделении ХАМЛ?
— Видите ли, четвертое октября — день рождения моей жены, и у нас это всегда своего рода торжество… У нас, знаете, семейство старозаветное, мы домоседы и очень гордимся этим… Но Клео, конечно же, не допустит, чтобы хоть что-то помешало моим трудам во славу царства божия.
XV
Вот так-то, хоть с запозданием, Элмер пришел к великой идее, которой суждено было коренным образом повернуть весь ход его жизни и снискать ему вечную и немеркнущую славу.
Ни захудалый артиллерийский лейтенантик и писака корсиканец Бонапарт, впервые подумавший о том, что может стать повелителем Европы; ни Дарвин, впервые увидевший перед собой неясные очертания эволюционной теории; ни Паоло, понявший, что единственный светоч жизни во всей вселенной — Франческа; ни Ньютон, размышляющий об упавшем яблоке; ни Павел из Тарса[200], внезапно догадавшийся, что учение маленькой еврейской секты может стать новой религией для объятых сомнениями греков и римлян; ни Китс, начинающий писать «Канун св. Агнесы»[201], — никто из этих людей, вознесенных Великой Идеей от посредственности к гениальности, не достоин такого внимания, как Элмер Гентри из канзасского Парижа в ту минуту, когда он постиг цель, предначертанную для него небесным провидением.
Он расхаживал по палубе, вернее только его тело: душа его парила среди звезд. Да, он ходил по палубе в одиночестве, и была поздняя ночь, и когда он ясно увидел эту цель пред собой, он сжал кулаки — ему хотелось кричать на весь мир!
Он сольет воедино все организации, созданные в защиту нравственности в Америке, а там, быть может, и во всем мире, он будет главою этого объединения, сверхпрезидентом Соединенных Штатов, а когда-нибудь — диктатором мира!
Слить их всех воедино. Лигу трезвости, Женский христианский союз в защиту сухого закона — все прочие организации по борьбе с пьянством, «Напап» и все прочие общества по борьбе с пороком, доблестно добивающиеся установления цензуры над безнравственными романами, картинами, кинофильмами и драматическими произведениями. Лигу за запрещение табачных изделий. Ассоциации, добивающиеся законов, направленных против эволюционной теории. Ассоциации, ведущие самоотверженную борьбу против воскресного бейсбола, воскресного кино, воскресной игры в гольф, воскресной езды в автомобилях и прочих мерзостей, оскверняющих день господень, а также сокращающих число прихожан и сумму пожертвований. Братства борьбы с католицизмом. Общества, храбро требующие, чтобы упоминание имени господа всуе и непечатная брань карались законом. И все, все другие.
Всех — воедино. Они преследуют одну и ту же цель: привести жизнь в соответствие с общими идеалами основных ветвей христианской протестантской церкви. Разобщенные, они сравнительно слабы; объединившись, будут представлять тридцатимиллионную армию протестантов. Они станут располагать такими средствами и такими людьми, что уж не будут вынуждены заигрывать с конгрессом и органами местной власти, чтобы проводить законы в защиту нравственности. Они будут спокойно объявлять свою волю народным представителям — и получать все, чего пожелают.
И главою этой объединенной организации, некоронованным королем, человеком, к которому спешит по первому зову сам президент, к какой бы политической партии он ни принадлежал, — этим человеком, пожалуй, наиболее могущественной фигурой в истории — будет не кто иной, как американский чудо-витязь Элмер Гентри! Даже сам Наполеон, сам Александр Македонский не могли диктовать целому народу, как ему одеваться, что есть и пить, что говорить и думать. А он, Элмер Гентри, сможет и будет!
— Епископ? Это я-то?! Какой-нибудь Тумис? Дудки, черт возьми! Я буду повелитель Америки, а может быть, и всего мира! Как хорошо, что эта мысль пришла мне в голову теперь, когда мне еще только сорок три года! Сделаю! Добьюсь! — ликовал Элмер. — Итак, первым делом войти в доверие к этому Дж. Э. Норту, делать все, что он захочет, пока не придет время его сковырнуть и получить приход в Нью-Йорке, чтобы все знали, что я фигура первой величины… Бог мой, а Джим Леффертс еще пытался удержать меня от духовной карьеры!
XVI
— …И вот я стою, — рассказывал Элмер с кафедры Уэллспрингской церкви, — стою на Рю де ла Пэ в Париже, до краев полный сознанием огромной исторической ценности этих древних, исторических строений, и вдруг подходит ко мне какой-то человек, судя по всему, француз. Должен вам сказать, что для меня, разумеется, всякий соотечественник Жанны д'Арк и маршала Фоша[202] — мой друг, и когда этот человек сказал мне:
«Брат, хотите ныне вечером славно провести время?» — я ответил, хотя, по совести говоря, он мне сразу не слишком понравился по виду.
«Брат, — говорю ему я. — Это целиком зависит от того, что именно, по-вашему, значит „славно провести время“».
Говорил он, кстати, по-английски.
«Как — что! — говорит. — Ну, скажем, я бы мог повести вас в такие места, где можно встретить много хорошеньких девочек и хватить рюмочку доброго коньяку».
Мне оставалось только рассмеяться. Пожалуй, больше всего мне было просто жаль его. Я положил ему руку на плечо и сказал:
«Брат, боюсь, что не смогу пойти с вами! Дело в том, что я уже и сам наметил, как славно провести сегодня вечерок».
«Да ну? — удивился он. — И что ж это вы собираетесь делать?»
«А вот что, — ответил я. — Я возвращусь к себе в отель, пообедаю вместе с моей дорогой женой, а после, — говорю я ему, — после я намерен заняться тем, что едва ли показалось бы интересным вам и что я лично считаю великолепным времяпрепровождением! Я прочту вслух несколько глав из библии, помолюсь и лягу спать! А теперь, — говорю, — даю вам ровно три секунды, чтобы унести отсюда ноги; если же, по истечении этого срока, вы еще не скроетесь с глаз моих, то молиться сегодня на ночь мне придется о вашей душе!»
. Я вижу, что время мое уже почти истекло, но прежде чем кончить проповедь, я хочу сказать вам несколько слов от имени «Напапа» — нашей славной Национальной Ассоциации Оздоровления Искусства и Печати. Я рад сообщить вам, что секретарь исполнительного комитета этой организации мой дорогой друг доктор Дж. Э. Норт посетит нас в том месяце, и надеюсь, что вы все окажете ему самый горячий прием…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
I
Вот уже больше года по всему церковному миру шла молва, что нет оратора, который приносил бы больше пользы делу организаций по борьбе с безнравственностью, чем преподобный доктор Элмер Гентри из Зенита. Его собственная паства скорбела о том, что его так часто нет с нею, но вместе с тем и гордилась его успешными выступлениями в Нью-Йорке, Лос-Анжелосе, Торонто.
Поговаривали о том, что когда мистер Дж. Э. Норт в интересах своего частного дела (он был владелец эпсбургской газеты «Таймс-симитар») сложит с себя обязанности по «Напапу», секретарем исполнительного комитета вместо него будет избран доктор Гентри. Говорили также, что в Америке нет более ярого борца с так называемым либерализмом в богословии, а также с аморальным поведением в частной жизни.
Рассказывали, что доктор Гентри отказался выставить свою кандидатуру на должность епископа на Генеральной конференции Северной методистской церкви, которая предстояла через два года, то есть в 1928 году. Кроме того, было доподлинно известно, что он отклонил предложение занять пост ректора Свенсонского университета в Небраске.
Но, увы, столь же доподлинно известно было и то, что его, по всей вероятности, пригласят на место пастора Йорквильской методистской церкви в Нью-Йорке, где в числе прихожан имеются такие люди, как доктор Уилки Баннистер, решительный и убежденный фундаменталист, а вместе с тем и один из самых знаменитых хирургов Америки, нефтяной король, миллионер Питер Ф. Дербар и музыкальный клоун-эксцентрик Джекки Оукс. Епископ Нью-Йоркского округа был за то, чтобы это назначение получил доктор Гентри. Однако… дальше шли противоречивые толки. Одни утверждали, будто доктор Гентри еще не решил, принимать ли назначение в Йорквиль. Другие доказывали, что, наоборот, Йорквильский приход, — иными словами, доктор Баннистер еще не решил, приглашать ли доктора Гентри. Так или иначе, уэллспрингская паства надеялась, что ее пастырь, духовный наставник, ее друг и брат не покинет ее.
II
Уволив своего секретаря мисс Бандл, — презабавная была сцена, эта особа так смешно плакала, — Элмер сменил целую вереницу бездарнейших девиц, примерных дочерей методистской церкви, но никуда не годных стенографисток.
Что за злая ирония судьбы, думал он. Все уверены, что он наслаждается, греясь в лучах своей громкой славы, и никто не догадывается, что на самом деле ему чертовски не везет. Проклятый Дж. Э. Норт прикидывается лучшим другом, а сам все оттягивает свой уход из «Напапа». Доктор Уилки Баннистер, этот самонадеянный чурбан — воображает, будто смыслит в богословии больше священника, — тоже не торопится дать Йорквильскому приходскому совету указание пригласить Элмера. И потом эти секретарши! Невыносимо! Одна, видите ли, не нашла ничего лучшего, как прийти в ужас лишь оттого, что он один раз позволил себе сказать при ней «проклятье».
Никому, казалось, нет дела, что человек, которому предначертано стать диктатором Америки, вынужден терпеть все эти неприятности. Никто не знал, какие жертвы он приносит в своей борьбе за всеобщую нравственность.
А до чего ему надоело провинциальное и однообразное обожание этой Лулу Бейнс! Нет, если она хоть раз еще просюсюкает: «Ах, Элмер, ты такой сильный!» — он просто влепит ей затрещину!
III
В длинном хвосте прихожан, подходивших после утренней службы к преподобному доктору Гентри, чтобы пожать ему руку, благосклонное внимание пастора привлекла одна молодая особа.
Она была последней в очереди, и никто не слышал их недолгого разговора.
Если бы маркиз семнадцатого века вдруг превратился в девушку лет двадцати пяти, женственную до мозга костей, предельно обольстительную, но с надменно поднятой головой, тонким орлиным носом и властным взглядом, как и подобает высокородному маркизу, перед вами возникла бы та, что пожала Элмеру руку, со словами:
— Разрешите сказать вам, доктор: вы первый в моей жизни человек, который дал мне почувствовать, что религия — нечто реальное.
— Я вам весьма признателен, сестра, — произнес преподобный доктор Гентри, а Элмер добавил про себя: «А ты — ничего девочка, стоит познакомиться поближе!»
— Доктор Гентри, помимо желания высказать вам мое совершенно искреннее восхищение, я преследовала и откровенно корыстную цель, решив прийти и поговорить с вами. Меня зовут Хетти Даулер — мисс Даулер, увы. Кончила два курса Висконсинского университета. В прошлом году служила секретарем мистера Лейбенейма в Талахасской страховой компании, но его перевели в Детройт. Секретарь я очень неплохой. Кроме того, я методистка. Сейчас я в Центральном приходе, но собираюсь перейти в Уэллспрингский. Все это я говорю вот к чему: если случится так, что в ближайшие месяцы вам понадобится секретарь… Сейчас я временно устроилась стенографисткой в отеле Торнлей…
Они взглянули друг другу в глаза прямо, откровенно. Еще одно рукопожатие — но уже более крепкое.
— Мисс Даулер, с этой минуты вы мой секретарь, — сказал Элмер. — На формальности потребуется около недели.
— Благодарю вас.
— Разрешите подвезти вас домой?
— С большим удовольствием.
IV
Даже те вечера, что они проводили «за работой» в пустой церкви, были не так упоительно волнующи, как эти быстрые, озорные поцелуи в перерывах между приходом степенных посетителей.
Стремительно броситься через весь кабинет после ухода какой-нибудь заплаканной, едва передвигающей ноги вдовицы, поцеловать шелковистый висок, услышать шепот: «Милый, ты вел себя с этой старой наседкой просто изумительно! Ах, ты такая прелесть!» — в этом была теперь для Элмера вся жизнь.
Он часто проводил вечера в квартирке Хетти Даулер — уютных, белых с голубым комнатках в одном из новых отелей, с забавной кухонькой и электрическим холодильником. Стройная, грациозная, словно пантера, Хетти, свернувшись упругим клубком, лежала на крытой узорчатым шелком кушетке, а Элмер расхаживал взад и вперед, репетируя свои проповеди, останавливаясь, чтобы получить заслуженное одобрение — поцелуи.
У него вошло в привычку украдкой пробираться вниз. в буфетную, перед сном и звонить Хетти, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Когда она была нездорова и отлеживалась дома, он каждый час звонил ей из своего кабинета или наскоро писал записочки. Это ей нравилось больше всего. «Твои письма — просто очарование, — говорила она. — Такие забавные и милые…» И он писал ей своим корявым почерком: «Мой милый пупсик, моя птичка, киска и рыбка, я тебя обожаю, больше сказать нечего, ей-богу, а это самое повторяю шестьсот миллионов триллионов раз. Элмер».
Но — и он никогда не позволил бы себе полюбить ее, будь это иначе, ибо честолюбивое желание стать верховным блюстителем нравственности Америки было для него важнее, чем даже любовные услады с Хетти, — мисс Даулер была в то же время и великолепным секретарем.
Ей можно было диктовать с любой скоростью; она редко делала ошибки; по красоте расположения материала напечатанная ею страница была истинным произведением искусства; она записывала номера телефонов всех, кто приходил в его отсутствие; она умела очень хладнокровно и в высшей степени любезно выпроваживать идиотов, которые являлись досаждать преподобному доктору Гентри своими не стоящими внимания печалями. И она так удачно подсказывала темы для проповедей! За все эти долгие годы ни Клео, ни Лулу не дали ему ни одной идеи, заслуживающей чего-либо, кроме разве что стона изнеможения. А Хетти — да ведь это она набросала ему план проповеди «Суета светской славы», которая произвела такую сенсацию в Тервиллингер-колледже, куда Элмер прибыл по случаю присвоения ему степени доктора права, возложил венок на могилу покойного ректора Уиллоби Кворлса (фотография была во многих газетах) и вообще сделал неплохую рекламу — и себе самому и своей «доброй старой Alma Mater».
Ему казалось порой, что Хетти — иное воплощение Шэрон Фолконер.
Внешне они были очень непохожи — Хетти была стройней, ниже ростом, ее тонкие подвижные черты лица ничем не напоминали своеобразного продолговатого личика Шэрон; они и по складу характера были очень различны. Хетти, тоже веселая выдумщица в любовных делах, никогда не хандрила и не устраивала истерик. Вместе с тем обеим была свойственна та же жадность к жизни, та же неизменная страсть к своему возлюбленному. И то же поразительное умение обращаться с людьми.
Если что-либо и могло еще увеличить преданность Т. Дж. Ригга Элмеру и церкви, то это сделала Хетти. Инстинктивно разгадав, что это за важная персона, она и льстила ему, и кокетливо пикировалась с ним, и приучила его подолгу торчать в церковной конторе, хотя он отвлекал ее от дела и ей приходилось позже кончать работу. Ей оказалась по плечу задача и потруднее — она приручила самого Уильяма Доллинджера Стайлса, который никогда не был настроен к Элмеру так дружелюбно, как Ригг. Она говорила ему, что он Наполеон финансового мира. Она едва было не зашла даже слишком далеко в своем усердии — завтракала с ним вдвоем в ресторане. Элмер ревниво запротестовал, и Хетти мило согласилась никогда больше не встречаться со Стайлсом за стенами церкви.
V
Тяжелой и в общем-то даже не слишком красивой задачей было отделаться от Лулу Бейнс, которая с появлением Хетти стала окончательно ненужной.
Когда во вторник вечером, на другой день после его первой встречи с Хетти, Лулу, воркуя, впорхнула к нему в кабинет, Элмер с подавленным видом сидел за письменным столом, мрачно опершись подбородком на руки, и не встал ей навстречу.
— Что с тобой, милый? — пролепетала Лулу.
— Сядь-ка… нет, пожалуйста, не надо меня целовать! Садись вон туда, душа моя. Нам надо серьезно поговорить, — сказал преподобный доктор Гентри.
Такая маленькая, такая простенькая (хоть и принаряженная в новое платье), сидела она, дрожа, на уродливом стуле с прямой спинкой…
— Лулу, я должен сказать тебе нечто ужасное. Несмотря на всю нашу осторожность, Клео… миссис Гентри нас выследила. У меня просто сердце разрывается от отчаяния, но нам нельзя больше встречаться. И даже…
— Элмер, Элмер, любимый мой, пожалуйста!
— Ты должна взять себя в руки, дорогая! Надо найти в себе мужество и прямо взглянуть в глаза судьбе. И даже, как я начал говорить, боюсь, что раз уж у нее возникли страшные подозрения, тебе лучше не приходить больше в церковь.
— Но что она сказала, что она могла такого сказать? Я ее ненавижу! Ах, как я ненавижу твою жену! Нет-нет, я не собираюсь устраивать истерику, только… я ее ненавижу! Что она сказала?
— Да, понимаешь, вчера вечером она преспокойно заявляет… Можешь себе представить, до чего это меня поразило — как гром среди ясного неба! Приходит и говорит: «Что ж, завтра, наверное, у тебя опять свидание с этой особой, которая преподает на курсах кулинарии, так что придешь домой, как всегда, поздно!» Ну, я вывернулся кое-как, а она, оказывается уже собралась натравить на нас сыщиков!
— Ах ты, милый мой, бедный ты мой! Я тебя никогда больше не увижу! Неужели я допущу, чтобы тебя опозорили — теперь, когда ты добился такой славы, и как я ею гордилась!..
— Лулу, родная, неужели ты не понимаешь, что дело вовсе не в этом? Я мужчина, черт побери! Мне-то самому вся эта свора кляузников не страшна — я их живо поставлю на место. Речь идет о тебе. Если честно говорить, я боюсь, что Флойд убьет тебя, если узнает.
— Да, наверное… А не все ли равно? Все-таки легче, чем самой себя…
— Ну, знаешь, милочка, пожалуйста, без идиотских разговоров о самоубийстве! — Он вскочил на ноги и выпрямился перед нею во весь рост — внушительная, исполненная праведного негодования фигура. — Господь даровал нам жизнь для служения во славу его, и даже помышлять о самоубиении — значит идти наперекор воле божьей. Я даже и подумать не мог, чтобы ты была способна сказать такие греховные, нечестивые, преступные слова!
Несколько минут спустя она побрела из церкви — жалкая маленькая фигурка в потертом пальто поверх любовно надетого нового платья. Она стояла под дуговым фонарем в одиночестве, дожидаясь трамвая, поглаживая новую бисерную сумочку, которую так любила. Ведь это он в порыве великодушия подарил ее. Время от времени она вытирала глаза, сморкалась, бессмысленно и непрерывно бормоча: «Ах, милый, милый мой! Подумать только, я тебе причинила неприятности… Ах, мой любимый, дорогой мой!..»
Вскоре ее муж с удовольствием заметил, что она словно чудом утратила сразу все свои честолюбивые желания, так раздражавшие его, и ничего не имеет против того, чтобы проводить вечер за вечером дома, играя с ним в крибедж. Но он сердился, о чем многоречиво ставил ее в известность, что, возвращаясь домой, вечно заставал ее праздно сидящей в кресле, с застывшим лицом. И потом она совсем перестала следить за своей прической… Но жизнь есть жизнь, и постепенно Флойд привык, что Лулу по целым дням бродит по комнатам в капоте, неприбранная, и иногда от нее попахивает джином.
VI
По рекомендации Дж. Э. Норта Лига Субботнего Дня[203] поручила Элмеру возглавить борьбу против устройства в Зените киносеансов по воскресеньям.
«Для вас это будет отличной практикой, — писал мистер Норт Элмеру, — в особенности на тот случай, если вас изберут на мое место в „Напап“, — практикой, которая сослужит вам хорошую службу в те дни, когда вы будете диктовать свою волю не просто муниципальному совету, но конгрессменам и сенаторам».
Элмер знал, что верховные жрецы «Напапа» зорко следят за всеми его действиями, и он с воодушевлением возглавил кампанию против кино по воскресеньям. В штате Уиннемак существовал общераспространенный пуританский закон, запрещающий всякую платную работу по воскресным дням и, конечно, не распространяющийся на священников, а также музыкантов, лекторов, преподавателей, привратников и прочих помощников в святых делах, коих священнику благоугодно будет нанять на работу. Наряду с этим в штате Уиннемак существовало благословенное и столь же общераспространенное правило не обращать внимания на этот закон.
Элмер нанес визит местному шерифу, занятому и утомленному человеку, который приобрел свои познания в криминологии в шорной мастерской, и обменялся с ним любезным рукопожатием.
— Душевно рад познакомиться, преподобный отец, — сказал шериф. — Много читал о вас в газетах. Курите, пожалуйста.
Элмер уселся в внушительной позе, немного наклонившись вперед, положив локти на ручки кресла, сжав огромные кулаки.
— Благодарю. Не прикасаюсь к табаку, — зловеще отозвался он. — Вот что, Эделстайн, кто шериф этого округа, вы?
— Ха! Понятно!
— Ах, вот что! Ему понятно! В таком случае намерены ли вы принять меры к тому, чтобы закон штата о запрещении кинематографа по воскресеньям неукоснительно соблюдался?
— Полно, преподобный отец. Кому это надо, чтобы я настаивал на проведении его в жизнь?
— Кому? Как это — кому! Каким-нибудь двумстам тысячам граждан города, добрым прихожанам — а так больше никому. Банкирам, адвокатам, врачам — приличным людям. А кому надо, чтобы вы позволяли осквернять субботний день? Каким-нибудь двумстам тысячам иммигрантов — полякам, итальяшкам, жидам, безбожникам! Ну, вот что, Эделстайн! Либо вы хватаете их всех до последнего — владельцев кинотеатров, киномехаников, билетеров — весь этот подлый сброд, повинный в гнуснейшем неповиновении закону о запрещении кино по воскресеньям, либо я созываю массовый митинг всех добропорядочных граждан города, причем я буду говорить им не столько о хозяевах кино-заведений, сколько о вас, и тогда мы посмотрим, много ли у вас останется шансов на то, что вас снова изберут шерифом. Двести тысяч избирателей округа (и, между прочим, люди солидные, как раз те, что считают своим долгом голосовать) только и будут ждать случая с вами расквитаться…
— Слушайте, кто, по-вашему, хозяин в этом округе? Методисты, что ли, баптисты и пресвитериане?
— Безусловно!
— Послушайте — вы…
И все-таки, на основании свидетельских показаний преподобного доктора Элмера Гентри (под присягой) все лица, повинные в осквернении субботнего дня показом кинофильмов, три воскресенья подряд подвергались арестам (после чего сеансы по воскресеньям продолжались как ни в чем не бывало), а Элмер получил приветственные телеграммы от Лиги Субботнего Дня, от Дж. Э. Норта, доктора Уилки Баннистера из Йорквильской методистской церкви города Нью-Йорка, равно как и от сотни других выдающихся лиц духовного звания со всех концов страны.
VII
Не прошло и суток, как мистер Дж. Э. Норт известил Элмера о том, что он все-таки уходит в отставку через месяц и что, кроме Элмера, всего лишь два других святых мужа могут считаться конкурентами на его место.
А доктор Уилки Баннистер написал, что приходский совет Йорквильской методистской церкви, наблюдая за деятельностью Элмера в течение последних нескольких месяцев, пришел к решению ходатайствовать перед епископом о назначении его пастором при условии, что его будут не слишком отвлекать от церковных обязанностей посторонние дела.
Какая удача, что штаб-квартира «Напапа» помещалась в Нью-Йорке, а не в Вашингтоне в отличие от большинства святых союзов по кулуарной обработке законодателей!
Доктору Баннистеру и другим попечителям Йорквильской церкви Элмер написал, что хоть и будет числиться секретарем исполнительного комитета Национальной Ассоциации Оздоровления искусства и Печати (а разве это не честь для славного Йорквиля, если его пастор будет занимать столь высокий пост?), однако сможет на самом деле поручить всю работу по «Напапу» своим достойным помощникам и, не считая, быть может, одного дня в неделю, целиком посвятит всю свою энергию, свое время и свои молитвы тому, чтобы по мере своих слабых сил и способностей вести паству Йорквиля к добру и свету.
Мистеру же Дж. Э. Норту и членам попечительского совета «Напапа» Элмер написал, что хоть и будет номинально числиться пастором Йорквильской методистской церкви (а разве это не будет способствовать престижу их дела, если секретарь исполнительного комитета будет пастором одного из самых могущественных приходов Нью-Йорка?), однако сможет поручить все текущие дела своим достойным помощникам и, не считая, быть может, воскресных дней и изредка свадебных церемоний или панихид, целиком посвятить всю свою энергию и время тому, чтобы в меру своих скромных сил и способностей руководить эпохальной работой Национальной Ассоциации Оздоровления Искусств и Печати.
Обе эти благочестивые организации прислали ответ, что вполне удовлетворены его посланием и что теперь это вопрос нескольких дней, а там…
Послание же сочинила Хетти Даулер; правда, Элмер кое-где переставил запятые и поцелуями помогал Хетти печатать.
VIII
И надо же было так случиться, чтобы матушка Элмера именно в этот критический момент в жизни своего сына сочла нужным, не дожидаясь приглашений, приехать к нему погостить!
Встречая ее на вокзале, Элмер сиял. Конечно, приятно производить впечатление на великих мира сего — епископа Тумиса, Дж. Э. Норта или доктора Уилки Баннистера, — но все же с тех самых пор, как он себя помнил, истинной целью его жизни было заслужить одобрение матери и канзасского Парижа — то были его корни, истоки его существования. Какое наслаждение везти мать с вокзала в новеньком виллис-найте, показывать ей свою новую церковь, свою на редкость стильную квартиру, свою Клео в новом платье!
Но, прожив у Элмера всего два дня, миссис Гентри отвела сына в сторонку и решительно сказала:
— А ну, присядь-ка, сын, и не бегай по комнате. Мне нужно с тобой поговорить.
— Великолепно! С удовольствием! Только боюсь, что недолго, потому что…
— Элмер Гентри! Придержи язык, и довольно разыгрывать из себя знаменитость… Элмер, мой мальчик, я уверена, что не станешь нарочно делать зло. Но… мне не нравится, как ты обращаешься с Клео… А ведь она такая милая, славная женщина, и характер ровный, я благочестива…
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я думаю, ты понимаешь, что я хочу сказать!
— Ну вот что, мама! Да ладно, ладно, сяду и буду сидеть спокойно, но… поверь мне, все-таки: я не знаю, что ты хочешь этим сказать! Не я ли всегда был ей хорошим мужем, мирился с тем, что она совершенно неспособна быть приветливой с самыми влиятельными прихожанами… Холодна, как лед! Когда бывают гости к обеду — пусть это даже Ригг, самая важная фигура в приходе, — она и рта не раскроет! А со мной? Прихожу домой из церкви, вымотанный до предела, и как она меня встречает? Весело, радостно, с поцелуем? Как бы не так! Только войдешь в дом, сразу начинает пилить — и то я сделал не так и это, ну и я, конечно, естественно…
— Ах, сынок, мой маленький, родной мой, единственный, кто есть у меня на свете! Ты всегда так ловко умел найти себе оправдание! И когда таскал пирожки и когда вешал кошек или колотил других мальчишек… Сыночек, Клео страдает. Ты никогда не обращаешь на нее внимания, даже сейчас, когда здесь я, и ты стараешься обходиться с нею ласково для виду. Скажи, Элмер, что это у тебя за секретарша, которой ты все время названиваешь по телефону?
Преподобный доктор Гентри величественно поднялся с места и звучно произнес:
— Дорогая моя родительница! Я обязан тебе всем на свете. Но в минуту, когда меня наперебой добиваются одна из величайших в мире методистских церквей и одна из величайших в мире организаций по борьбе за всеобщую нравственность — в такой момент… знаешь, что, ма, я даже тебе не обязан отчитываться в своих поступках. Я ухожу наверх к себе в комнату…
— Вот-вот и это тоже: почему у вас отдельные комнаты?..
— …и буду молиться, чтобы ты поняла… Слушай-ка, ма! Пойми, наступит день, когда ты приедешь в Белый дом и будешь завтракать со мной и с президентом… А сейчас, ма, ради бога, не цепляйся ты ко мне, хватит того, что Клео цепляется все время!
И он действительно стал молиться. Он опустился на колени возле кровати и, блаженно прильнув пылающим лбом к прохладному покрывалу, забормотал:
— О. милый боже, я стараюсь тебе служить! Пожалуйста, сделай так, чтобы ма не думала, что я поступаю дурно…
Он вскочил.
— А, черт! — сказал он. — Эти женщины хотят сделать из меня комнатную собачку. К черту их! Нет!.. Маму — нет, только… Ах, дьявольщина, ничего, когда буду пастором Йорквиля, — тогда поймет! О, боже, почему нельзя, чтобы Клео умерла? Тогда бы я женился на Хетти!
А через две минуты он нашептывал Хетти Даулер в телефонную трубку из буфетной, пока кухарка, ворча, отбирала картофель в погребе:
— Милая, скажи мне что-нибудь хорошее, ну хоть что-нибудь!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
I
Через два дня после того, как миссис Гентри едва не восстановила сына против себя, Элмер расположился дома в кабинете, чтобы подготовить три или четыре проповеди, рассчитывая часов в одиннадцать быть уже в постели. Он вышел из себя, когда литовка-горничная сказала:
— Вас просит кто-то к телефону, доктор.
Но ярость его тотчас же улеглась — он услышал голос Хетти.
— Элмер? Это Хетти говорит,
— Да, да, доктор Гентри слушает.
— Фу, какой ты милый и смешной и такой важный! Наверное, эта литовская дылда подслушивает?
— Да.
— Слушай, милый, хочешь сделать мне приятное?
— Безусловно!
— Мне что-то так скучно одной сегодня! Ты что, работаешь, занят?
— Да, надо тут кое-что набросать к проповедям.
— Знаешь что? Захвати тот маленький справочник по библии и приходи работать ко мне, а я буду курить и смотреть на тебя. Ладно? Пожалуйста, дорогой… милый мой!
— Разумеется. Сейчас же выезжаю.
Клео и матери он объяснил, что его срочно вызвали к постели умирающей старой дамы, выслушал их сочувственно-восхищенные похвалы своей самоотверженности и торопливо удалился.
II
Элмер сидел рядом с Хетти на узорчатой кушетке под лампой стандартного образца и, поглаживая Хетти по руке, рассказывал о тон, как несправедливо относится к нему его мать. Внезапно дверь торжественно отворилась, и в комнату вошел худощавый мужчина с подергивающимся лицом и острым, цепким взглядом.
Хетти испуганно вскочила и замерла, прижав руку к груди.
— Что вам здесь надо? — взревел Элмер, тоже поднимаясь на ноги.
— Ш-ш! Тише! — умоляюще прошептала Хетти. — Это мой муж!
— Твой… — У Элмера вырвался крик, похожий на блеяние укушенной овцы. — Твой — кто? Но ведь ты не замужем?
— Замужем, будь оно все!.. Оскар, убирайся отсюда! Как ты смеешь так врываться!
Медленно, рассчитанным шагом, Оскар вошел в полосу света.
— Так, голубчики. Накрыл с поличным! — усмехнулся он.
— Да ты что, в самом деле? — гневно крикнула Хетти. — Это мой босс, пришел переговорить насчет одного дела по работе.
— Угу! Так точно… А я, между прочим, сегодня сунул кое-что горничной и забрал отсюда все его письма к тебе.
— Нет, неправда! — Хетти кинулась к своему письменному столу и застыла в отчаянии, глядя на пустой ящик.
Элмер угрожающе двинулся на Оскара.
— Довольно, с меня хватит! Давай письма и пошел отсюда, а не то вышвырну вон!
Оскар небрежно извлек из кармана револьвер.
— Заткни глотку, — сказал он почти ласково. — Вот какое дело, Гентри. Эта история должна бы влететь тебе тысяч в пятьдесят, но думаю, столько тебе не осилить, и все же имей в виду: на суде за то, что ты лишил меня расположения Хет, я назову именно эту сумму. А если хочешь уладить дело без суда, тихо, мирно, по-джентльменски, без грубостей, то я отпущу тебя и за десять тысяч — и без огласки, или, может, ты не боишься огласки, а, преподобный отец?
— Если вы вообразили, что сможете меня шантажировать…
— Вообразил? Да господи! Я точно знаю, что смогу! Так я зайду к тебе завтра в церковь часов в двенадцать дня.
— Меня там не будет.
— Рекомендую быть. Если ты готов поладить на десяти тысячах, — отлично! Никто не в обиде, и все довольны. Если же нет, то я даю указание своему адвокату — Мэнни Силверхорн, да было бы тебе известно, самый ловкий сутяга во всем городе — завтра же возбудить дело о совращении жены, да так, чтобы все вечерние газеты дали экстренные выпуски с подробностями. Пока, Хетти! Будь здоров, Элмер, дорогой! Тихо-тихо, Элмер. Осади. Только тронь — и дырка. Ну, всего наилучшего!
Разинув рот, Элмер смотрел вслед уходящему Оскару. Затем круто повернулся к Хетти.
Хетти торопливо подавила неосторожную улыбку.
— Боже, значит, и ты в этом замешана! — крикнул он.
— А ты что думал, нюня! Крепенько мы тебя прижали, а? Не отвертишься. Письма на суде будут звучать очень неплохо. Только не думай, пожалуйста, что такие деловые люди, как мы с Оскаром, стали бы тратить время на скрягу священника, дутого фанфарона, у которого на счету и десятки-то нет! Мы охотились на Уильяма Доллинджера Стайлса. Да жаль, он не такой простак, как ты! Когда я поехала с ним завтракать и попробовала залучить к себе, он меня отшил. Ну, а денежки-то мы все равно вложили в это дельце — вот мы и решили хоть покрыть расходы за твой счет да еще и получить немного сверх того, недотепа несчастный! И, будь покоен, не просчитались! А теперь — проваливай! Надоело слушать твою трескотню! Нет, милый, трогать меня не советую: Оскар ждет за дверью. Сожалею, что не смогу быть завтра в церкви: насчет вещичек и жалованья не беспокойтесь, я их еще днем забрала.
III
В полночь, едва дыша, Элмер звонил у дверей Т. Дж. Ригга. Он звонил отчаянно, без конца. Никто не отвечал. Тогда он встал под окнами и завопил:
— Т. Дж.!.. А Т. Дж.!
Одно окно наверху распахнулось, раздраженный голос, хриплый спросонок, негодующе произнес:
— Ну что еще надо?
— Сойдите скорей! Это я, Элмер Гентри! Нужно поговорить! Беда!
— Ладно. Иду!
Вот в дверях появилась комичная фигурка в длинной ночной рубашке, с сигарой во рту. Впустив Элмера в дом, Ригг повел его в библиотеку.
— Т. Дж., меня накрыли!
— Кто? Бутлеггеры?
— Нет. Хетти. Вы знаете — моя секретарша.
— Ага. Так. Понятно. Были с ней в хороших отношениях?
Элмер рассказал все начистоту.
— Ясно, — сказал Ригг. — В двенадцать Оскара встретим вместе. Надо оттянуть время, а там я что-нибудь устрою. Не волнуйтесь, И вот что, Элмер, может, и священнику не мешает хоть попробовать стать приличным человеком?
— Это мне хороший урок, Т. Дж.! Клянусь, никогда в жизни больше не свихнусь — даже не взгляну на женщину. Черт — вы всегда мне были верным другом, старина!
— Да люблю, понимаете, когда у тех, с кем я имею дело, все идет гладко. Чистейший эгоизм! Ладно, выпейте чего-нибудь! Сейчас не помешает.
— Нет! Хотя бы этот обет сдержу! Пожалуй, только он один и есть за душой… О, господи! И ведь только сегодня вечером думал, до чего я значительная и важная персона, что меня и рукой не достанешь.
— А из этого можно сделать проповедь — да вы, наверное, и сделаете!
IV
Просветленный, раз и навсегда исправившийся Элмер Гентри просуществовал не один день. Он молчал во время переговоров, состоявшихся назавтра в церковном кабинете между Оскаром Даулером, адвокатом Оскара — Мэнни Силверхорном и Т. Дж. Риггом. Говорили только Ригг и Силверхорн. (И Элмер с огорчением отметил, как дружески и шутливо держится Ригг с Силверхорном, о котором сам же высказывался в самых неметодистских выражениях.)
— Что ж, да, материал против доктора у вас имеется, — сказал Ригг. — Мы это признаем. И я согласен — он действительно стоит десять тысяч долларов. Но дайте нам хоть неделю, чтобы достать деньги!
— Договорились, Т. Дж. Значит, встречаемся здесь же через неделю, так? — сказал Мэнни Силверхорн.
— Нет, лучше у вас в конторе. Тут слишком много любопытных сестер. Так и шныряют.
— Идет.
Последовали самые сердечные рукопожатия, только Элмер не подал руки Оскару Даулеру.
— Ай-ай, Элмер! — насмешливо хрюкнул Даулер. — А ведь мы, можно сказать, близкие родственники!
Они ушли. Сломленный, несчастный Элмер жалобно взглянул на Ригга.
— Но как же, Т. Дж.? Мне никогда в жизни не набрать десять тысяч!.. Я и тысячи не скопил!
— Да гром вас разрази, в самом-то деле, Элмер! Вы что, вообразили, будто мы так-таки возьмем и выложим им десять тысяч? От силы полторы тысячи — вот во что это вам обойдется. Я дам взаймы. Пятьсот — ублажить Хетти и что-нибудь около тысячи — на сыщиков.
— То есть как это?..
— Сегодня в без четверти два ночи у меня был разговор с Питом Рисом, хозяином сыскного агентства. Я ему дал команду действовать. Несколько дней — и мы будем знать всю подноготную этих Даулеров. Так что — не тревожьтесь.
V
Элмер успокоился ровно настолько, чтобы не умирать от страха всю неделю, но явно недостаточно, чтобы расстаться с ролью смиренного христианина и нежного отца семейства. К изумлению и немалому замешательству своих детей, он каждый вечер играл с ними. Что же касается Клео, то его любовь к ней доходила почти до обожания.
— Милая моя, — сказал, он, — я вижу, что был… правда, тут не только моя вина: я был так поглощен работой!.. Но факт остается фактом — я был к тебе недостаточно внимателен и сейчас хочу, чтобы ты завтра вечером пошла со мною в концерт.
— Ах, Элмер! — расцвела Клео.
А раз он даже послал ей цветы.
— Вот видишь! — радовалась его мать. — Я так и знала: вам с Клео будет только лучше, если я с тобой потолкую кой о чем. Конечно, твоя мать, возможно, просто глупая, провинциальная старуха, но кто, как не родная мать, поймет сына? Я была уверена, что хоть ты и доктор богословия, но стоит мне завести с тобой этот разговор — и ты будешь по-другому смотреть на вещи!
— Да и разве не благодаря твоему воспитанию я стал христианином и священником? О, сколь многим человек бывает обязан благочестивой матери! — сказал Элмер.
VI
Мэнни Силверхорн был одним из лучших адвокатов по увечным делам в Зените. Сотни раз заставлял он трамвайную компанию платить компенсацию за причиненный ущерб людям, которым она не нанесла никакого ущерба, сотни раз он заставлял владельцев автомобилей платить за увечья людям, которых они и не думали увечить. Но при всех своих талантах Мэнни Силверхорн страдал одним недостатком: он любил выпить.
Обычно, даже напиваясь, Мэнни все же умел не болтать о порученных ему судебных делах, но на этот раз он напился в присутствии Билла Кингдома, репортера «Адвокат-таймс», а мистер Кингдом был еще более тонкий специалист по части перекрестного допроса, чем даже мистер Силверхорн.
Билл без особой симпатии заговорил о докторе Гентри. Мэнни злорадно ощерился:
— Ну, ничего, ничего, Билл, не волнуйся. Твой доктор Гентри получит свое! Ну и влип же он у меня! Надо думать, чрезмерный успех у дам ему влетит-таки в копеечку!
Билл сделал предельно равнодушное лицо.
— Да, брось болтать, Мэнни. Не валяй дурака. Никаких у тебя улик против Элмера нет и не будет. Чересчур он ловок для тебя. Не с твоим умишком, Мэнни, поймать такого парня!
— Что-о? Не с моим умишком?! Ну так вот что я тебе скажу…
Да, Мэнни был пьян. Но при всем при том Биллу понадобилось целый час дразнить его разговорами о том, насколько он уступает Элмеру в изворотливости, целый час расточать грубоватую, но сладчайшую лесть, целый час выказывать не слишком свойственную ему готовность угощать Мэнни за свой счет, пока наконец, доведенный до предела, Мэнни взвизгнул:
— Ах так? Ну, вот что, давай сюда присяжного стенографиста, и я все это ему продиктую!
И в два часа утра среди хаотического беспорядка номера Мэнни в отеле недовольный, но расторопный судебный репортер под диктовку Мэнни составил заверенное собственноручной подписью мистера Силверхорна заявление, что, если преподобный доктор Элмер Гентри откажется уладить дело частным порядком, ему будет предъявлен судебный иск на сумму пятьдесят тысяч долларов (поверенный со стороны истца — Иммануил Силверхорн) за то, что он, вступив в непростительно близкие отношения с Хетти Даулер, склонил ее к нарушению супружеского долга.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
I
Проснувшись в десять часов утра с головной болью, мистер Мэнни Силверхорн припомнил свою неуместную словоохотливость накануне, с тревогой развернул утренний выпуск «Адвокат-таймс» и облегченно вздохнул, убедившись, что его опрометчивый поступок сошел без последствий.
Однако на другое же утро и мистер Силверхорн и преподобный доктор Гентри почти в одну и ту же минуту заметили на первой странице «Адвокат-таймс» фотокопию документа, в котором адвокат Иммануил Силверхорн утверждал, что, если доктор Гентри не пойдет на мировую, мистер Оскар Даулер подаст на него в суд за то, что вышеозначенный доктор Гентри, как утверждает мистер Даулер, склонил его жену к нарушению супружеского долга, вступив с нею в преступную связь.
II
Шум, который подняли зенитские репортеры, преследовавшие Элмера от его собственного дома до дома Т. Дж. Ригга и дальше за город; подробности его карьеры в утренних и вечерних выпусках всех зенитских газет, намеки на его откровенную безнравственность и нечистоплотность, наконец, сознание того, что он утратил уважение своей паствы, — все это было не самое страшное. Страшней всего было то, что агентство «Ассошиэйтед пресс» раззвонило об этой истории по всей стране и что он получил телеграммы от доктора Уилки Баннистера из Йорквильской методистской церкви и от руководителей «Напапа» с вопросом, правда ли все это, и сообщением о том, что, пока не станут ясными все обстоятельства дела, они, разумеется, вынуждены воздержаться от каких-либо дальнейших переговоров.
III
При втором свидании Элмера с Мэнни Силверхорном и Оскаром Даулером присутствовала Хетти, а также Т. Дж. Ригг, который держался особенно сердечно.
Они сидели в кабинете Мэнни, а в ушах у них все еще стояли звучные высказывания Оскара по поводу неосмотрительности Мэнни.
— Ну ладно, перейдем к делу, — предложил Purr, — Вы готовы?
— Я лично — да, — буркнул Оскар. — А вы-то готовы? Где десять тысяч?
В кабинет Мэнни, оттолкнув протестующего мальчишку-рассыльного, вошел крупный и косолапый мужчина,
— Хэлло, Пит, — ласково сказал Ригг.
— Хэлло, Пит, — с беспокойством сказал Мэнни.
— Это еще кто, черт возьми? — сказал Оскар Даулер.
— О-о… Оскар! — шепнула Хетти.
— Ну, как, готова, Пит? — спросил Т. Дж. Ригг. — Кстати, друзья, разрешите представить: мистер Пит Рис, владелец сыскного агентства. Понимаете, Хетти, я рассудил, что если вы сумели обстряпать такое дельце, у вас, вероятно, довольно интересное прошлое. Интересное, а, Пит?
— Да так, ничего особенного. Среднее! — сказал мистер Питер Рис. — Скажите-ка, Хетти, почему в полночь двенадцатого января тысяча девятьсот двадцатого года вы уехали из Сиэтла?
— Не ваше дело! — взвизгнула Хетти.
— Не мое, да? Ну тогда, значит, это дело некоего Артура Л. Ф. Морриси — он как раз оттуда. Мистер Морриси был бы очень рад получить весточку о вас, узнать ваш теперешний адрес и теперешнюю фамилию. Ну, а что вы расскажете нам, Хетти, о том, как вы отбывали срок в Нью-Йорке за магазинную кражу?
— Катись ты к…
— Нет, нет, Хетти, — хихикнул Ригг. — Нельзя выражаться неприлично, не забудьте, что здесь сидит священник! Ну как, хватит с вас?
— Думаю, хватит, — устало кивнула Хетти. И в это мгновение Элмер снова любил ее, снова хотел ее утешить, приласкать. — Пошли, Оскар.
— Ну, нет, не пошли. Сначала подпишите-ка вот это, — сказал мистер Ригг. — Подпишете — получите двести долларов на выезд из города… который состоится еще до завтра или — да поможет вам бог! Не подпишете — отправитесь обратно в Сиэтл, где вас будут судить.
— Ладно, — сказала Хетти, и мистер Ригг прочел: «Настоящим добровольно и клятвенно заверяю, что все обвинения, прямо или косвенно возведенные мною и моим мужем на преподобного доктора Элмера Гентри, являются ложными, злоумышленными и абсолютно неосновательными. Я работала у доктора Гентри в качестве его секретаря. Мистер Гентри неизменно относился ко мне, как подобает истому джентльмену и христианскому пастору. Я же преднамеренно скрыла от него тот факт, что я замужем за человеком с уголовным прошлым.
Лица, заинтересованные в торговле спиртными напитками, а именно несколько самогонщиков, желающих причинить вред доктору Гентри как одному из самых ярых противников торговли спиртным, обратились ко мне, предложив мне деньги за то, чтобы я очернила репутацию доктора Гентри. Поддавшись минутной слабости, о которой я никогда не перестану сожалеть, я согласилась, и с помощью своего мужа составила подложные письма, якобы написанные мне доктором Гентри.
Причины, побудившие меня сделать это признание, таковы: я пришла к доктору Гентри, рассказала ему о том, что намерена предпринять, и потребовала у него денег, рассчитывая обмануть также и самогонщиков. Доктор Гентри сказал: „Сестра, я скорблю о том, что вы собираетесь совершить этот дурной поступок, но скорблю не о себе, ибо каждый христианин обречен нести свой крест, а о вашей душе! Поступайте же, как считаете нужным, сестра, но прежде, быть может, преклоним колена и помолимся вместе?“
Когда я услышала, как молится доктор Гентри, я внезапно раскаялась и, придя домой, собственноручно напечатала на машинке это показание, в котором, как я клятвенно заверяю, все правда, от слова до слова».
Когда Хетти и ее супруг скрепили документ своей подписью, Мэнни Силверхорн заметил:
— Боюсь, вы перегнули палку, Т. Дж. Слишком уж сладко, не похоже на правду. Хотя, наверное, вы умышленно решили представить Хетти дурочкой, которая будет разливаться соловьем в своем признании…
— Угадали, Мэнни.
— Что ж, может, так и надо. Ну-с, давайте-ка лучше мне эти двести долларов, а я позабочусь о том, чтобы эти птички улетели из города сегодня же вечером, и, пожалуй, тогда им тоже что-нибудь перепадет из этих двухсот.
— Можно, — сказал мистер Ригг.
— Можно так можно, — сказал мистер Силверхорн.
— Господи! — воскликнул Элмер Гентри и внезапно позорнейшим образом разрыдался.
Это было в субботу утром.
IV
Дневные выпуски газет вышли с признанием Хетти на первой полосе и радостными сообщениями о невиновности Элмера, подробным перечислением заслуг на поприще борьбы за чистоту нравов и гневными обвинениями в адрес торговцев спиртными напитками, подкупом заставивших несчастную, слабую, глупую женщину посягнуть на репутацию Элмера.
А в воскресенье, едва пробило восемь утра, как уже пришли телеграммы от Йорквильской методистской церкви и «Напапа» с поздравлениями, уверениями в том, что никто никогда не сомневался в его невиновности, и предложением места пастора в Йорквиле и должности генерального секретаря исполнительного комитета «Напапа».
V
Когда в газетах появились первые выпады против Элмера, Клео в гневе промолвила:
— О, какая гнусная, низкая ложь! Дорогой, ты ведь знаешь, что я всегда с тобой!
Но его мать пробормотала:
— Что из всего этого правда, Элми? Что-то уж мне не под силу сносить все твои фокусы…
И когда сейчас, за воскресным завтраком, он протянул им телеграммы, обе женщины жадно кинулись читать, едва не вырывая их друг у друга.
— Милый, я так рада и так горжусь тобой! — воскликнула Клео
А мать Элмера, совсем старенькая, согбенная, пробормотала с таким несчастным лицом:
— Прости меня, сынок! Я была не лучше, чем эта мерзавка Даулер!
VI
Да, но поверит ли ему паства?
Если прихожане встретят его насмешками, значит, он погиб, значит, он все-таки потеряет и Йорквильский приход и место в «Напапе». Об этом думал он за четверть часа до начала утренней службы, взволнованно расхаживая по своему кабинету, поглядывая в окно и отмечая — впервые без всякого удовлетворения, — что в набитую до отказа церковь все ломится народ — сотня за сотней.
Как тихо в его кабинете! Как ему недостает Хетти!
Он опустился на колени. Он не молился, он только думал — бессвязно, с немой мольбой. Но одна мысль стояла перед ним четко и ясно: «Я получил жестокий урок. Я никогда больше не взгляну ни на одну женщину! Да, я хочу возглавить все организации Америки по борьбе за нравственность — меня ничто не остановит, раз я получил „Напап“. Но отныне я буду сам исполнять все, чего требую от других. Никогда больше не споткнусь — никогда!»
Он остановился в дверях кабинета, глядя, как с пением выходят в зал хористы в длинных одеяниях. Он только сейчас ощутил до конца, как дорога ему стала его церковь. Как ему будет недоставать всего этого, если его паства отвергнет его, — этого хора, этой кафедры, песнопений, лиц, с обожанием обращенных к нему!
Пора. Откладывать нельзя.
Он должен выйти к ним.
Еле держась на ногах, преподобный доктор Гентри перешагнул через порог и очутился в зале. Две с половиной тысячи лиц, и каждое — вопросительный знак. Но вот они встают — и оглушительные, громоподобные раскаты приветственных криков. Две с половиной тысячи лиц, и каждое — сияющее лицо друга.
Не думая, не рассуждая, Элмер преклонил колена на амвоне, простер руки к пастве и зарыдал, и все они опустились на колени вслед за ним и рыдали и молились с ним вместе, а на улице за закрытой стеклянной дверью церкви сотни людей, увидев это, тоже упали на колени — на церковных ступенях, на тротуаре, вдоль всей улицы…
— О друзья мои! — вскричал Элмер. — Верите вы в мою невиновность, проникли вы в дьявольский умысел моих врагов? Пусть ваше «Аллилуйя» послужит мне залогом вашей веры!
И церковь загремела торжествующими звуками «Аллилуйя», и в наступившем священном молчании Элмер стал молиться:
— О боже, ты склонился с могучего трона и спас слугу твоего от козней наемников сатаны! Мы возносим благодарение тебе за то прежде всего, что ты вернул нам этим возможность продолжить служение делу твоему — и лишь ему одному! Не менее, но более ревностно, чем прежде, будем мы искать жизни чистой и праведной и наслаждаться свободой от всяческих искушений!
Он повернулся, чтобы подать знак хору, и в первый раз заметил среди хористов новое лицо — девушку с прелестными ножками и лукавыми глазами, с которой, безусловно, нужно будет познакомиться поближе. Впрочем, эта мысль была столь мимолетна, что не прервала победного звучания его молитвы:
— Позволь же мне, господи, посчитать этот день началом новой и еще более деятельной жизни, началом крестового похода за полное торжество морали, власти христианской церкви над всею страной. Дело твое, великий боже, едва только начато! Нам еще предстоит сделать наши родные Соединенные Штаты твердыней нравственности!
ПОСЛЕСЛОВИЕ. Когда «торгуют спасением»…
В апреле 1926 года в городе Канзас-сити произошло событие, о котором сообщили на следующий день многие газеты Соединенных Штатов. В одной из церквей города проводил богослужение человек, не имевший священнического сана: им был Синклер Льюис, который несколько месяцев находился в этом городе, был в дружеских отношениях с местным духовенством и выступал в церквах с проповедями. В тот памятный день Синклер Льюис обратился с амвона к господу богу с предложением, чтобы бог доказал свое существование, покарав его как грешника в течение ближайших 15 минут. Затем писатель снял с руки часы и предложил присутствующим вместе с ним удостовериться в могуществе всевышнего. По прошествии четверти часа небеса не разверзлись, и безбожник Льюис, оставаясь в полном здравии, сошел с паперти.
Этот эпизод вошел в историю американской общественной жизни под названием «льюисовский вызов богу». Впрочем, эта остроумная, эксцентрическая выходка Льюиса была лишь прелюдией к значительно более серьезному вызову, который он бросил религии и церковникам своим знаменитым романом «Элмер Гентри».
В том же самом 1926 году, когда Льюис уже работал над своим романом, критик Генри Менкен выпустил книгу «Предрассудки», в ней он сетовал на то, что американские писатели все еще проходят мимо «наиболее американского из всех американцев, истинного американца, злобного моралиста, каннибалоподобного христианина, тупого, толстолицего пуританина». «Этот очаровательный экземпляр, — продолжал Менкен, — еще ждет своего анатома». Таким «анатомом» оказался Синклер Льюис. И на этот раз он «угадал» тему, насущно важную для страны, где имеется более 250 религиозных организаций, около 300 тысяч церквей и столько же священников, где формула «Мы верим богу» объявлена национальным девизом и запечатлена даже на долларовых банкнотах.
Для Синклера Льюиса, писавшего в «Автопортрете» (1927) о своей «острой горячей, безжалостной ненависти к лицемерию, к тому, что американцы называют „трескотней“», — антиклерикальная тема была глубоко органической. Еще в 1919 году в письме к Элтону Синклеру в связи с выходом его книги «Выгоды религии» Синклер Льюис признавался: «Я все больше убеждаюсь в том, что наши традиционные религиозные системы находятся в числе самых злейших врагов прогресса. Я с улыбкой припоминаю, как лет десять тому назад мне говорили, что со временем я сумею изжить свою юношескую вражду к церкви; но на самом деле я чувствую, как негодование лишь крепнет с каждым годом».
Это негодование чувствуется уже в «Главной улице», где появляется пока еще намеченная беглыми сатирическими штрихами фигура злобного клерикала преподобного Эдмонда Зиттерела. Оно нарастает в «Бэббите», где пока еще находящиеся на втором плане образы священнослужителей вроде экс-боксера Майка Мондея и бродячей проповедницы мисс Мадж кажутся эскизами для будущих героев нового романа, а один из них, настоятель пресвитерианской церкви доктор Дрю, который «гордится своей репутацией дельца» и пишет в газете передовицы вроде «Доллары и здравый смысл в свете учения Христа», был вообще «переселен» Синклером Льюисом в роман «Элмер Гентри».
В Канзас-сити среди местных священников писатель встретил некоего Уильяма Стиджера, который стал «ассистентом» Льюиса и существенно помог ему в работе. Стиджер, не стесняясь, называл себя «аморалистом» и не раз переходил из одной религии в другую, сообразуясь с выгодой. Он сделался одним из прототипов Элмера Гентри, причем романист мог наблюдать его непосредственно в течение длительного времени и консультировался со Стиджером по специальным религиозным вопросам. Стиджер, в ту пору методистский священник, ввел Льюиса в тайны своего ремесла и, в частности, познакомил с новыми методами привлечения паствы: он считал полезным для возбуждения религиозного чувства сочетать торговую рекламу с музыкальным водевилем. Стиджер даже собирался обобщить свой опыт по этой части в книге, которую доверительно показал Льюису в рукописном виде. В ней имелись, в частности, следующие разделы: «Пища, Веселье и Вера», «Лозунги для спасения души», «Чем привлекательна реклама» и т. д. Стиджер стал применять механическую новинку — электрифицированный крест, что привело к увеличению числа прихожан в несколько раз.
Эти факты, да и многие другие, дали Льюису возможность остроумно осмеять подчинение религии бизнесу.
Деятельность Гентри на ниве рекламы действительно напоминает опыт Стиджера. Он чередует молитвы с пением веселых песен, вместе со своими прихожанами распивает яблочный напиток, дабы доказать его превосходство перед алкогольным, а однажды устанавливает на паперти обломки разбитого в катастрофе автомобиля, чтобы наглядно проиллюстрировать «безумство века»…
Изображая борьбу Элмера Гентри с «пороком», Льюис использовал факты из деятельности широко известного в США в конце 20-х годов баптистского проповедника Джона Р. Стрейтона, который, будучи ревностным членом так называемой «Антисалунной лиги», специализировался на разоблачении «порока» и в своих проповедях с таким знанием дела живописал картины «распущенности» и «греха», что собирал обычно внушительную аудиторию.
Прототипом Шэрон Фолконер послужила известная в 20–30-е годы американская бродячая проповедница Эйми Макферсон. Спустя семь лет после выхода «Элмера Гентри» два советских писателя Илья Ильф и Евгений Петров устами мистера Адамса так характеризуют устроенное ею «действо» по «спасению душ»: «Грубое шарлатанство, сдобренное жалкими остротами и довольно большой порцией эротики в виде хора молодых девушек в просвечивающих белых костюмах». Когда Эйми Макферсон на этом же собрании потребовалось собрать 100 тысяч долларов на постройку храма, она, как явствует из рассказа мистера Адамса, обратилась к присутствующим с предложением пожертвовать по одному центу с фунта своего тела, — что произвело впечатление как своей неожиданностью, так и сугубо практическим характером, столь понятным сердцу американцев. Любопытно, что Льюис выделяет в характере Шэрон Фолконер как раз черты хищного практицизма: она готова экономить деньги даже на жалованье своему любовнику.
В Канзас-сити Льюис мог наблюдать деятельность всевозможных церквей и сект: католической, протестантской, адвентистской, иудейской, методистской и др. Это позволило ему впоследствии показать, что буржуазная веротерпимость оборачивается на деле свободой религиозного обмана, ожесточенной конкурентной борьбой; священники из разных сект «продают» бога своим прихожанам, как рекламные агенты соперничающих торговых фирм.
Завязав знакомства в среде церковников, Льюис встречается с героями будущей книги в непринужденной обстановке — у себя дома. В такие часы его подвыпившие собеседники раскрывались и делали в порыве откровенности весьма любопытные признания. Эти встречи с обильными возлияниями дали Льюису неоценимый запас наблюдений, который он использовал в своей книге. Прав биограф Льюиса Марк Шорер, который пишет: «Особенность Льюиса состоит в том, что он гостеприимно распахивает перед всеми двери своего дома, и точно так же готов предоставить им страницы своего произведения».
В процессе подготовительной работы Льюис проштудировал около 200 книг по вопросам религии. Кроме того, он специально путешествовал по Америке, изучая быт бродячих проповедников. Так познакомился он с Эйми Макферсон. В июне 1926 года он писал одному из друзей: «…Я увяз с руками и ногами в романе о священниках». В декабре 1926 года рукопись была отправлена издателям, а в марте роман увидел свет. «Элмер Гентри» по общей композиционной схеме напоминал «Эроусмита», он также сочетал в себе роман-биографию с романом-обозрением, также представлял «историю молодого человека», но на этот раз антигероя. Вообще новый роман был своего рода «анти-Эроусмитом». И если Мартин наталкивался на сопротивление общества, то Элмер Гентри процветал.
В день появления романа Льюис сказал окружившим его репортерам: «В своей книге я описал только то, что видел».
Выход книги произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Ее шумно приветствовали одни и яростно осуждали другие. Клерикалы и реакционеры были буквально взбешены сатирой Льюиса в их адрес. В Бостоне роман был изъят из публичных библиотек. Автор одного из многочисленных анонимных писем, полученных Льюисом, предупреждал писателя, что «его место — на электрическом стуле». В прессе появились сообщения об участившихся разводах в среде священнослужителей: иные жены церковников не без оснований стали подозревать в своих мужьях повадки сластолюбивого Элмера Гентри. Евангелист Билл Сандей, иронически упомянутый в романе (да и в ряде других книг Льюиса), публично «причислил» его автора к «когорте сатаны».
Вокруг книги разгорелась критическая полемика. Английская писательница Ребекка Уэст в статье «Синклер Льюис представляет Элмера Гентри» характеризовала роман как «наиболее разочаровывающий из всех написанных талантливым писателем». Упомянутый Джон Роуч Стрейтон назвал роман «плодом беспомощного воображения» и оспаривал правдоподобие фигуры Элмера Гентри. Стрейтону отвечал в прогрессивном журнале «Мэссис» известный левый публицист Пакстон Гиббен, который в доказательство достоверности картины, изображенной в романе, привел многочисленные примеры безнравственности священников. Влиятельные критики либерального толка, такие, как Генри Менкен и Карл Ван Дорен, также приветствовали появление книги, а Герберт Уэллс назвал ее одним из ценнейших источников для изучения американской жизни. Многие рецензенты ставили Льюиса-антиклерикада в ряд с Рабле, Боккаччо, Вольтером, Батлером и Франсом.
Высокую оценку получил роман «Элмер Гентри» и в советской печати. М. Горький в письме к С. Н. Сергееву-Ценскому 20 октября 1927 года писал, что у американцев «происходит нечто новое; несмотря на существование „бюро цензуры“, которое весьма ревностно следит за тем, чтобы писатели не порочили благочестивую жизнь Америки, выходят ужаснейшие книги вроде недавно переведенного на русский язык романа Синклера Льюиса „Элмер Гентри“. Льюис изобразил американские церкви и церковников в виде отвратительном».
В «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле создал классическую сатиру на церковь, изобразив ее в виде аллегорического Звенящего острова, населенного прожорливыми и ленивыми птицами, все занятие которых состоит в том, чтобы «кричать и петь под непрекращающийся звон колоколов»: туда слетаются те, кто «не хотят или не умеют ничего делать».
Синклер Льюис, отказавшись от гротеска и фантастики, оставаясь на почве реальности и строгой фактической достоверности, изображает современный Звенящий остров на американский манер…
Церковь для Льюиса — оплот узаконенного паразитизма. Словно марионетки, появляются в его романе люди, умеющие лишь жонглировать штампами библейской фразеологии. Сам невежественный Элмер Гентри зазубривает 18 синонимов к понятию «грех» и настолько «профессионализируется», что может, не моргнув глазам, спросить семилетнего мальчика: «Разве ты не хочешь отказаться от своих пороков?»
Стремясь умалить сатирический пафос романа, некоторые критики попытались истолковать образ Фрэнка Шалларда как своего рода противовес Элмеру Гентри. На самом же деле этой фигурой Льюис лишь усиливал свою антиклерикальную критику. Шаллард — новый вариант положительного героя в творчестве писателя и один из самых трагичных его образов. Синклер Льюис показывает здесь судьбу прямодушного, способного, умного человека, попавшего, в сущности, против своей воли в лоно церкви. А такой человек — если он не Гентри, не Тумис, не Хикенлупер — не может мириться с бессмысленностью и ложью религиозных догматов, текстов, ритуалов, с самой сущностью веры. Бросая вызов церковникам, Шаллард жертвует своим благополучием. Так возникает в романе принципиально важная для Льюиса проблема гражданской совести, которая получит свое дальнейшее развитие в позднем романе «Кингсблад, потомок королей».
Но «Элмер Гентри» не просто антирелигиозный роман. Главный герой, этот современный американизированный Тартюф, вооруженный архиновейшими средствами уловления душ, заявляющий в своей заключительной проповеди о намерении сделать Соединенные Штаты «твердыней нравственности», вырастает в символ лицемерия господствующего класса, у которого освященные пуританизмом «идеалы» находятся в глубочайшем противоречии с невиданной по своему цинизму буржуазной практикой.
Как и Бэббит, Элмер Гентри появляется в других произведениях Льюиса: в книге «Человек, который знал Кулиджа», на страницах «Гидеона Плениша»; мы узнаем, что Гентри перебрался в Нью-Йорк и оттуда уже технически усовершенствованным образом — через посредство радио — льется на головы слушателей старая, знакомая еще по Тервиллингер-колледжу проповедь Гентри — «Любовь — утренняя звезда». В «Гидеоне Пленише» Элмер Гентри выходит на общеамериканскую арену, он ведущая фигура «среди современных апостолов обтекаемого евангелия» и директор-распорядитель Общества по Возвращению Заблудших Женщин на Путь Добродетели.
…В 1960 году американский сценарист и режиссер Ричард Брукс, личный друг Синклера Льюиса, осуществил, и с большим успехом, постановку фильма по роману «Элмер Гентри». Газета «Уоркер» назвала фильм «одним из лучших за многие годы», журнал «Сатердей ревью» характеризовал его как «блестящий».
Но не менее важно дальнейшее развитие антиклерикальной темы у Льюиса. Новое в его романах 30–40-х годов — это изображение того, как церковники смыкаются с крайней политической реакцией. Они опасней, страшней простых надувал и сластолюбцев выведенных в «Элмере Гентри». В романе «У нас это невозможно» могущественный Пол Питер Прэнг, «современный Савонарола», главарь Лиги Забытых Людей, мастер «громоподобных» радиопроповедей, с помощью своей демагогии способствует приходу к власти сенатора Уиндрипа. У Пола Питера Прэнга имеется прямой наследник отец Биттери из романа «Гидеон Плениш», вербующий из бывших членов Ку-Клукс-Клана армию «Евангельских джентльменов». Под стать Прэнгу и Биттери преподобный Джет Снуд из «Кингсблада, потомка королей» (1947), «страдающий великолепным отсутствием совести и кликушествующий в своей „Скинии Божьих Откровений“» насчет «международного заговора красных агентов, радикалов, евреев и черных выродков».
Антиклерикальная тема проходит сквозь все творчество Льюиса, безусловно, самого неутомимого после Твена критика религии в американской литературе. Целая галерея паразитирующих болтунов и шарлатанов, пробавляющихся бизнесом на ниве служения Христу, выведена в его романах. Они обрамляют фигуру Элмера Гентри, который возвышается над ними в своей полноте и законченности и уже начинает жить своей жизнью за пределами книги — в памяти читателей, как одно из лучших художественных созданий Синклера Льюиса.
Б. Гиленсон
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Уэбстер, Даниэль (1782–1852) — американский государственный деятель, юрист, известный оратор.
(обратно)2
Бичер, Генри Уорд (1813–1887) — американский священник, лектор и популярный общественный деятель.
(обратно)3
Депью, Чонси (1834–1928) — американский политический деятель, сенатор. Приобрел известность как специалист по застольным речам и острослов.
(обратно)4
Спринг (англ.) — источник, ключ.
(обратно)5
Ро, Эдвард (1838–1888) — американский пресвитерианский священник и второразрядный романист, популярный в мещанской среде.
(обратно)6
Суинберн, Олджернон (1837–1909) — видный английский поэт.
(обратно)7
Ингерсолл, Роберт (1833–1899) — американский писатель и лектор, известен своей критикой библии и религиозного ханжества. Его книга «Некоторые ошибки Моисея» содержала острые нападки на христианство.
(обратно)8
Пэйн, Томас (1737–1809) — деятель американской революции XVIII века, радикальный публицист и противник рабства. Автор памфлета «Век разума» (1794 г.), в котором стоял на позициях деизма и критиковал нелепости библии.
(обратно)9
Либби, Лора Джин (1862–1924) — американская писательница, автор слащаво-сентиментальных произведений, имевших большой успех.
(обратно)10
Кворл (англ.) — ссора, перебранка.
(обратно)11
«Второе обращение» — баптистский обряд.
(обратно)12
Даже в 1800 году ни одно молитвенное собрание… — 1800 г. считается началом деятельности методистской церкви в США.
(обратно)13
Трясуны — религиозная секта, распространенная в США и Канаде.
(обратно)14
Джефферсон, Томас (1743–1826) — автор «Декларации независимости», президент США (1801–1809).
(обратно)15
Эмерсон, Ралф Уолдо (1803–1882) — американский философ, аболиционист.
(обратно)16
Мак-Гаффи, Уильям (1800–1873) — американский священник и педагог; опубликованная им в 1836 году хрестоматия неоднократно переиздавалась и в прошлом веке была очень популярна в американской школе.
(обратно)17
Ник Картер — сыщик, герой многочисленных и популярных в США детективных романов, начавших выходить с 1890 года. В их создании принимала участие группа писателей.
(обратно)18
Джеймс, Джесси (1847–1882) — главарь банды гангстеров, совершивших в 70-е годы ряд сенсационных ограблений банков и железнодорожных составов. На Западе США бытовали многочисленные легенды, в которых Джеймс изображался «американским Робин Гудом».
(обратно)19
Зедекия (VI в до н. э.) — иудейский царь, плененный вавилонянами.
(обратно)20
История об Ионе и ките (библ.) — пророк Иона был проглочен китом за непослушание богу.
(обратно)21
Джеймс Блейн Леффертс — первое и второе имя даны Леффертсу в честь Джеймса Блейна (1830–1893) — американского государственного деятеля, кандидата в президенты от республиканской партии на выборах 1884 года.
(обратно)22
Сабеллианство — (от христианского теолога Сабеллия, III в. до н. э.) — учение одной из сект христианской церкви о триединстве бога.
(обратно)23
Адвентизм седьмого дня — учение одной из сект христианской церкви, верящей во «второе пришествие» Христа; адвентисты отмечают субботу вместо воскресенья как день «отдыха бога».
(обратно)24
Открытое причастие — здесь: разрешение на причастие лицам, которые не были крещены в соответствии с обрядностью баптистов.
(обратно)25
Пресуществление (библ.) — превращение хлеба и вина в тело Христово.
(обратно)26
«И черт может ссылаться на священное писание в своих целях» — перефразированные слова Антонио из комедии Шекспира «Венецианский купец».
(обратно)27
Пресвитерианство — разновидность кальвинизма; с XVII века получило распространение в Англии, а затем в США.
(обратно)28
«Ревью оф ревьюз» — издававшийся в Англии У. Т. Стедом журнал религиозно-филантропического и пацифистского направления.
(обратно)29
Гефсиманский сад (библ.) — место вблизи Иерусалима, куда любил уединяться Христос.
(обратно)30
Кэмпбеллиты — члены религиозной секты «Ученики Христа», разновидности баптизма, основанной пастором Александром Кэмпбеллом (1788–1866).
(обратно)31
Обераммергау — местечко а Баварии, получившее известность происходившими там в XVII веке театрализованными представлениями библейских эпизодов, связанных с жизнью Христа.
(обратно)32
«Атаназианец» — приверженец учения Атаназия (ок. 293–373) — патриарха Александрии, прозванного «отцом ортодоксии».
(обратно)33
«Бен-Гур» — исторический роман американского писателя Льюиса Уоллеса (1827–1905) из эпохи раннего христианства. Увидел свет в 1880 году, пользовался большим успехом. Был инсценирован для театра и экранизирован.
(обратно)34
Штат Уиннемак — название вымышлено Льюисом, образовано, по-видимому, в подражание индейским географическим названиям — Уиннепег и Потомак. Место действия ряда романов Льюиса.
(обратно)35
Смат — грязное пятно, непристойность.
(обратно)36
«Алая буква» — роман американского писателя Натаниэля Готорна (1804–1864).
(обратно)37
«Пиппа проходит» — драматическая поэма английского поэта Роберта Браунинга (1812–1889). Речь идет о картине, изображающей героиню поэмы.
(обратно)38
«Подражание Христу» — произведение немецкого богослова Фомы Кемпийского (1380–1471), проникнутое духом воинствующего католицизма и мистикой.
(обратно)39
Хаксли, Томас (1825–1895) — английский биолог, последователь Дарвина.
(обратно)40
Эразм Роттердамский (1466–1536) — великий нидерландский гуманист, ученый, писатель, автор знаменитого сатирического сочинения «Похвала глупости».
(обратно)41
Парсифаль — герой немецких и французских рыцарских романов, является олицетворением благородства и доблести.
(обратно)42
Смысл существования (франц.).
(обратно)43
Супралапсарианиэм — разновидность кальвинизма.
(обратно)44
Врожденное (лат.).
(обратно)45
Дела церковные (лат.).
(обратно)46
Англиканская церковь — государственная церковь в Англии. Реформационная по своему характеру, она занимает промежуточное место между католицизмом и протестантизмом.
(обратно)47
Индепенденты — религиозная секта, исходящая из того, что церковная община (или конгрегация) должна пользоваться в делах веры полной свободой. Иногда называется конгрегационалистской церковью.
(обратно)48
Первое послание к коринфянам — одна из глав библии.
(обратно)49
Педо-баптист — батист, крещенный в младенчестве.
(обратно)50
Плимутское братство — протестантская секта. Была создана в английском городе Плимуте в 1830 году, потом распространилась в США и других странах.
(обратно)51
Пророк Малахия (библ.) — его именем названа одна из книг библии.
(обратно)52
Чикагская всемирная выставка — состоялась в 1893 году.
(обратно)53
«Бьюла Лэнд» — «Земля радости», описана в знаменитой назидательно-аллегорической книге «Путь паломника» английского писателя Джона Беньяна (1628–1688).
(обратно)54
Хейл, Натан (1755–1776) — американский офицер, казненный англичанами по обвинению в шпионаже в начале войны за независимость. Национальный герой США.
(обратно)55
Райли, Джеймс Уиткомб (1849–1916) — американский либеральный журналист, поэт.
(обратно)56
Биллингс, Джош (1818–1885) — псевдоним Генри У. Шоу, американского юмориста.
(обратно)57
Джадсон, Адонирам (1788–1850) — американский баптистский миссионер.
(обратно)58
«Filioque» (лат.). — букв.: и от сына. Имеется в виду теологический спор о том, происходит ли дух святой только от бога-отца или от бога-отца и от бога-сына.
(обратно)59
Плавт, Тит Макций (250–184 г. до н. э.) — римский комедиограф.
(обратно)60
Алиса в стране чудес — популярная детская книга Льюиса Кэрролла (1832–1898).
(обратно)61
Евхаристия (церк.) — обряд, сопровождающий причащение.
(обратно)62
«Исход» — библейская книга, описывающая выход еврейского народа из Египта.
(обратно)63
Моисей (библ.) — освободитель и законодатель древнеиудейского народа.
(обратно)64
Ренан, Эрнест (1823–1892) — французский философ и историк религии. Приобрел известность своими работами по истории христианства, проникнутыми крайним субъективизмом. Биографическая книга «Иисус» — одно из его известных сочинений.
(обратно)65
Коу, Эдвард Бентон (1842–1914) — американский проповедник и писатель.
(обратно)66
Шмидт, Натаниэль (1862–1939) — американский востоковед, специалист по семитским языкам и литературам.
(обратно)67
Рождественский вечер (нем.).
(обратно)68
Тихая ночь, святая ночь (нем.).
(обратно)69
Вино, женщин и песни. Бедняга! (нем.).
(обратно)70
Надав и Авиуд — библейские персонажи.
(обратно)71
Шерман, Уильям Текумсе (1820–1891) — американский генерал, северянин, прославился своими победами в Гражданской войне.
(обратно)72
Епископальная церковь — одно из названий англиканской церкви.
(обратно)73
Муди, Дуайт Лимен (1837–1899) — американский евангелист, затем странствующий миссионер, проповедовавший «духовное обновление» и обращение к «истинному христианству»
(обратно)74
Смит, Джипси Родней (1860–1947) — английский евангелист.
(обратно)75
Джонс, Сэмюэль (1847–1906) — американский «гастролирующий» евангелист.
(обратно)76
Чапмэн, Уильбур Дж. (1859–1918) — американский евангелист и писатель.
(обратно)77
Сандей, Уильям (Билли) (1863–1935) — американский странствующий евангелист, бывший игрок в бейсбол; организовывал массовые митинги по «спасению» душ.
(обратно)78
Библия Гидеона — «Гидеон» — американская торговая фирма по распространению библии, главным образом в гостиницах и на железных дорогах.
(обратно)79
Эфес — древнегреческий город в Малой Азии.
(обратно)80
Винчестер — город, в котором находится один из старейших английских колледжей.
(обратно)81
Нью-Колледж — один из колледжей Оксфордского университета.
(обратно)82
Назареяне — одна из христианских сект, ее члены отказываются от военной службы, занятий политикой, от произнесения клятв и т. п.
(обратно)83
Бидервулф, Уильям (1867–1939) — американский странствующий евангелист.
(обратно)84
«Объединенные братья» — церковная секта, близкая к методистам; была основана Уильямом Оттербейном.
(обратно)85
Джоуитт, Бенджамен (1817–1893) — английский филолог, классик, известен своими переводами из Платона, Аристотеля, Фукидида.
(обратно)86
Эдвардс, Джонатан (1703–1758) — американский теолог.
(обратно)87
Ньюмэн, Джон (1801–1890) — английский теолог, выступал против англиканства и являлся одним из лидеров так называемого «оксфордского» движения, направленного на восстановление престижа римско-католической церкви.
(обратно)88
Броун, Томас (1605–1682) — английский писатель и врач.
(обратно)89
Теннисон, Альфред (1809–1892) — английский поэт, автор популярной поэмы «Королевские идиллии» на сюжеты Артуровских легенд
(обратно)90
Парк-Лейн — аристократическая улица в Лондоне.
(обратно)91
Екатерина Сиенская (1347–1380) — святая католической церкви, прославилась своим благочестием, борьбой за дело папства и мистическими видениями.
(обратно)92
Юнона — римская богиня, покровительница брака.
(обратно)93
Гера — в древнегреческой мифологии царица богов.
(обратно)94
Фригга — в древнескандинавской мифологии богиня любви, жена верховного бога Одина, покровительница браков.
(обратно)95
Иштар — богиня материнства и любви в ассирийской и вавилонской мифологии.
(обратно)96
Изида — богиня земли и ада в древнеегипетской мифологии.
(обратно)97
Астарта — женское божество плодородия, почитавшееся в Финикии; богиня брака и любви.
(обратно)98
Святая Анна — святая католической церкви, по преданию, мать девы Марии, которую она родила после 20-летнего бесплодия.
(обратно)99
Деметра — древнегреческая богиня земледелия и плодородия, сестра Зевса.
(обратно)100
Лакшми — богиня богатства в индийской мифологии.
(обратно)101
Озрик — имя придворного щеголя в трагедии Шекспира «Гамлет».
(обратно)102
Перси — воинственный феодал в исторической хронике Шекспира «Генрих IV».
(обратно)103
«Церковь господня» — течение в секте адвентистов седьмого дня, возникло в 80-х годах XIX века.
(обратно)104
«Везлеянские методисты» — течение в методистской церкви сторонников теолога и евангелиста Джона Везли (1703–1791).
(обратно)105
Бернар, Сара (1844–1923) — выдающаяся французская трагическая актриса.
(обратно)106
Ли, Роберт (1807–1870) — главнокомандующий армией южан в войне за освобождение негров.
(обратно)107
Порция — героиня комедии Шекспира «Венецианский купец», отличающаяся умом, решительностью и смелостью.
(обратно)108
Франческа — героиня V песни «Ада» Данте.
(обратно)109
Уилкокс, Элла Уилер (1855–1919) — американская журналистка и поэтесса. Ежедневно писала религиозно-нравоучительные стихи, составившие 20 томов.
(обратно)110
Трайн, Ралф Уолдо (1866–1958) — американский писатель, пользовался популярностью в мещанских кругах, известен своими книгами, посвященными воспитанию характера, силы воли и т. п.
(обратно)111
Новомодная теория эволюции — речь идет об учении Дарвина.
(обратно)112
«Сатердей ивнинг пост» — американский массовый журнал, рассчитанный на вкусы «среднего американца».
(обратно)113
Христианская наука — религиозная секта, основанная Мэри Бейкер Эдди (1821–1910), создавшей свою мистическую метафизическую систему.
(обратно)114
Новая Мысль — философско-религиозное течение, делающее упор на психический самоконтроль и самовнушение. Является разновидностью «Христианской науки».
(обратно)115
Христианские социалисты — религиозно-политическое течение, пытающееся примирить социализм с церковным вероучением.
(обратно)116
Безант, Анни (1847–1933) — английская последовательница теософии, религиозно-мистического учения.
(обратно)117
Тингли, Кэтрин (1852–1929) — американская теософка.
(обратно)118
«Бхагавад-Гита» — философская поэма, составляющая часть знаменитого древнеиндийского эпоса «Махабхарата».
(обратно)119
«Ким» — роман Р. Киплинга (1865–1936), изображавший в романтическом свете похождения английского шпиона в Индии.
(обратно)120
Розенкрейцеры — международный религиозный орден. В США существует с 1963 года; среди его членов были Франклин и Джефферсон.
(обратно)121
Унитарианство — религиозное течение, отрицающее идею триединства бога. В глазах правоверных церковников — либеральная доктрина.
(обратно)122
Хау, Эд (1853–1937) — американский писатель и журналист. Автор романа «История провинциального городка» (1884), содержащего критику провинциального застоя и убожества.
(обратно)123
Уотерсон, Генри (1840–1921) — американский журналист и политический деятель, член Конгресса. Участвовал в войне Севера и Юга на стороне южан.
(обратно)124
Хаббард, Элберт (1856–1915) — американский писатель и журналист, поставщик массового чтива.
(обратно)125
Американская Федерация Труда — реформистское профсоюзное объединение, созданное в 1881 году. Включало в себя в основном квалифицированных рабочих.
(обратно)126
Хэмлин, Леонидас; Эсбьюри, Фрэнсис — методистские епископы.
(обратно)127
Франциск Ассизский (1182–1226) — итальянский монах и проповедник, учредитель названного его именем нищенского ордена. Утверждал идеал аскетизма и альтруизма.
(обратно)128
Ездра — библейский персонаж, древнеиудейский проповедник.
(обратно)129
Елисей — один из библейских пророков, известен своей прозорливостью и чудесными исцелениями больных.
(обратно)130
Гарнак, Адольф (1851–1930) — немецкий протестантский теолог.
(обратно)131
Сандерленд, Джеймс (1834–1924) — американский теолог.
(обратно)132
Джеймс, Генри (1811–1882) — американский философ, автор многочисленных сочинений на морально-религиозные темы.
(обратно)133
Фрезер, Джеймс Джордж (1854–1941) — шотландский антрополог. Широкой известностью пользуется его труд «Золотая ветвь», исследование о происхождении культов, ритуалов, мифов и т. п.
(обратно)134
Эль Греко (1541–1614) — великий испанский живописец) создавал картины на библейско-мифологические сюжеты.
(обратно)135
Гофмановские рисунки — Гофман, Генрих (1824–1902) — немецкий живописец, известный своими полотнами на библейские темы.
(обратно)136
Маколей, Томас Баббингтон (1800–1859) — английский историк и политический деятель.
(обратно)137
Рескин, Джон (1819–1900) — английский теоретик искусства.
(обратно)138
Уорд, Хамфри (1851–1920) — английская писательница, автор популярного романа «Роберт Элсмер» (1888), в центре которого образ священника-филантропа.
(обратно)139
Черчилль, Уинстон (1871–1947) — американский писатель, автор исторических романов.
(обратно)140
Хедли, Артур (1856–1930) — американский экономист, президент Йельского университета, защищавший в своих трудах идею классового мира.
(обратно)141
Эпвортская лига — молодежная методистская организация. Названа по имени г. Эпворта в Англии, места, где родился Джон Везли, один из основателей методизма.
(обратно)142
«Дикси» — маршевая песня южан в период Гражданской войны между Севером и Югом.
(обратно)143
Браунинг, Роберт — английский поэт; разработал жанр драматического монолога, исповеди, исполненной тонкого психологизма.
(обратно)144
Меровинги — первая династия французских королей (V — VIII вв.) была основана Хлодвигом (481–511).
(обратно)145
Хант, Ли (1784–1859) — английский поэт-романтик, либеральный публицист.
(обратно)146
«Мод» — поэма английского поэта Теннисона (здесь речь идет о героине произведения).
(обратно)147
Мисс Манталини, Поль Домби, мисс Никклби, Малбери Хоук — персонажи романов Ч. Диккенса.
(обратно)148
Карлейль, Томас (1795–1881) — английский философ и публицист.
(обратно)149
Катон Старший (234–149 г. до н. э.) — римский писатель и политический деятель, оратор, пропагандист и горячий поклонник греческой литературы.
(обратно)150
Софокл (496–406 г. до н. э.) — древнегреческий драматург, автор трилогии о царе Эдипе.
(обратно)151
Симонидас Кеосский (556–468 г. до н. э.) — древнегреческий поэт, один из создателей торжественной лирики.
(обратно)152
Лоуэлл, Джеймс Рассел (1819–1891) — американский поэт, представитель так называемой «бостонской школы».
(обратно)153
Уитьер, Джон (1807–1892) — американский поэт, аболиционист.
(обратно)154
Ройс, Джошия (1855–1916) — американский философ, испытывал влияние немецкого идеализма, его система была пронизана религиозными идеями.
(обратно)155
Джеймс, Уильям (1842–1910) — американский философ и психолог, субъективный идеалист, один из создателей прагматизма.
(обратно)156
Бергсон, Анри (1859–1941) — известный французский философ идеалистического направления.
(обратно)157
Уотлс, Уоллес Д. (1855–1932) — американский банкир и писатель.
(обратно)158
Бок, Эдвард (1863–1930) — американский издатель и журналист, редактор женского журнала «Ледис хоум джорнэл».
(обратно)159
Непереводимая игра слов wreck («рек») — зд. зло; recreation («рекриэйшн») — отдых, развлечение; re-creation — сотворение заново, зд. возрождение.
(обратно)160
Кливленд, Гровер (1837–1908) — дважды был президентом США: в 1885–1889 и 1893–1897 годах.
(обратно)161
«Модернисты» — здесь: сторонники изменения некоторых церковных ритуалов и их приспособления к современной жизни.
(обратно)162
Савонарола, Джироламо (1452–1498) — итальянский монах, проповедник, получил известность своими страстными обличениями богатства и пороков католической церкви.
(обратно)163
Лэндсер, Эдвин (1802–1837) — английский художник-анималист.
(обратно)164
Бонэр, Роза (1822–1899) — французская художница-анималистка.
(обратно)165
Братство Чудаков — основано в Лондоне в 1745 году, имеет отделения в США, Канаде, Австралии и др. странах.
(обратно)166
Фор-минитмен — созданная в США в период первой мировой войны организация, члены которой способствовали продаже облигаций военных займов.
(обратно)167
Мандат на Армению — во время Версальской мирной конференции в 1919 году США требовали «мандата» на Армению с тем, чтобы фактически захватить эту республику.
(обратно)168
Громовержца штата Уиннемак — «Громовержцем» называют лондонскую газету «Таймс».
(обратно)169
«hoi polloi» (греч.) — зд. иностранцы.
(обратно)170
Игра слов: pray — молиться и prey — обманывать, которые звучат одинаково.
(обратно)171
Кентерберийский собор — выстроен в XII — XV вв. на месте первой христианской церкви в Англии. Архиепископ Кентерберийский коронует королей.
(обратно)172
Франк-масоны (или просто масоны) — тайная религиозная организация, исповедующая христианскую любовь к ближнему, взаимопомощь и т. п. Объединяются в ложи, внутри которых существует иерархия чинов, тайный обряд посвящения, строгая дисциплина. Римские папы не раз подвергали франк-масонов проклятиям за их учение о том, что люди всех религий достигнут загробного блаженства.
(обратно)173
«Нью-рипаблик» — американский журнал, основанный в 1914 году. В первые годы своего существования придерживался либеральной ориентации.
(обратно)174
Элиот, Джордж (1819–1880) — английская писательница, мастер реалистического бытоописательного романа, в котором сильны морализаторские тенденции.
(обратно)175
Индустриальные Рабочие Мира — организация американского пролетариата, сыгравшая большую роль в развитии профсоюзного движения и классовой борьбы в США. Возникла в 1905 году. Объединяла в основном неквалифицированных рабочих. Подвергалась преследованиям.
(обратно)176
Беспартийная Лига — пацифистская организация, возникшая в годы первой мировой войны, выступала с рядом общедемократических требований.
(обратно)177
Памятник Пилигримам — памятник в честь основателей первой колонии в Массачусетсе (1620).
(обратно)178
…Вестминстерское аббатство — церковь в Лондоне, построенная в XIII в., место захоронения английских королей.
(обратно)179
Бутлеггер — продавец спиртных напитков в период действия так называемого «сухого закона» в США.
(обратно)180
Gott weiss (нем.) — знает бог.
(обратно)181
Prediger (нем.) — проповедник.
(обратно)182
Най, Эдгар Уилсон (Билл) (1850–1896) — американский юморист.
(обратно)183
Филд, Юджин (1850–1895) — американский поэт и журналист.
(обратно)184
Брайан, Уильям Дженнингс (1860–1925) — американский политический деятель, юрист, один из лидеров демократической партии.
(обратно)185
Ланселот — благородный и мужественный рыцарь, герой романов из цикла короля Артура.
(обратно)186
Ротарианец — член основанного в 1905 году Клуба ротарианцев, в который входили дельцы, специалисты и состоятельные люди.
(обратно)187
Мак-Кинли, Уильям (1843–1901) — президент США от республиканской партии (1897–1901); проводил агрессивную внешнюю политику.
(обратно)188
Юнион-клуб — один из наиболее аристократических клубов в США.
(обратно)189
Шатоква — общественно-просветительная организация, устраивающая в летнее время выездные учебные сессии с чтением лекций, практическими занятиями и развлечениями; получила свое название от озера Шатоква в штате Нью-Йорк, где впервые были устроены занятия таких летних школ.
(обратно)190
Зороастризм — учение древнеперсидского мифического пророка Заратустры. Получило распространение в Иране, Индии, на Среднем Востоке.
(обратно)191
Фундаментализм — наиболее консервативное течение в протестантской церкви, придерживающееся всех библейских догматов.
(обратно)192
Деланд, Маргарет (1857–1945) — американская романистка, автор исторических романов из быта буржуазных слоев Пенсильвании.
(обратно)193
Этнология — наука, изучающая народонаселение, быт и культуру.
(обратно)194
«Этан Фроум» — семейно-психологический роман американской писательницы Эдит Уортон (1862–1937). Вышел в свет в 1911 году.
(обратно)195
«Тоно Бенге» — роман английского писателя Г. Уэллса (1866–1946). Вышел в свет в 1909 году и пользовался большим успехом в США.
(обратно)196
Дейтонский процесс. — В 1925 г. в г. Дейтоне состоялся позорный «обезьяний» процесс — суд над школьным учителем Джоном Скопсом, излагавшим теорию Дарвина о происхождении человека от обезьяноподобных предков. Дейтонский процесс явился одной из форм церковной реакции, развернувшей наступление в США в 10–20-е годы под знаменем фундаментализма.
(обратно)197
Кивани-клуб — международная организация бизнесменов, основанная в 1915 году.
(обратно)198
«Сирс-Робек» — американская фирма, высылающая на дом заказы.
(обратно)199
Вандомская площадь — площадь Парижа, на которой находится знаменитая Вандомская колонна, сооруженная в честь побед Наполеона.
(обратно)200
Павел из Тарса (библ.) — святой апостол; Тарс — город в Малой Азии, считается его родиной.
(обратно)201
«Канун св. Агнесы» — поэма Китса на любовный сюжет из средневековой жизни. Написана в 1819 году.
(обратно)202
Фош, Фердинанд (1851–1929) — маршал Франции, принимал участие в битвах на Марне (1914) и Сомме (1916), был главнокомандующим союзными силами (1918).
(обратно)203
Лига Субботнего Дня — организация, члены которой называют воскресенье субботой, по аналогии с праздничным днем в иудейской религии.
(обратно)


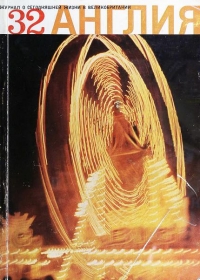
Комментарии к книге «Элмер Гентри», Синклер Льюис
Всего 0 комментариев