Герман Гессе Листки памяти
Когда я был школьником
Дважды за школьные годы был у меня учитель, которого я мог почитать и любить, чей высочайший авторитет я без строптивости признавал, учитель, которому достаточно было глазом моргнуть, чтобы я уже повиновался ему. Фамилия первого была Шмид, он преподавал в Кальвской латинской школе, другие ученики очень недолюбливали его и боялись за строгость, ехидство, дурной нрав и неумолимость. Важен стал он для меня тем, что в его классе (нам, ученикам, было по двенадцати лет) начинались занятия греческим. Мы, ученики маленькой полусельской латинской школы, привыкли к учителям, которых мы либо боялись и ненавидели, от которых увертывались, которым лгали, либо к таким, которых мы высмеивали и презирали. Властью они обладали, в этом сомнений не было, огромной, ничем не заслуженной властью, которой они часто страшно и бесчеловечно злоупотребляли – тогда еще частенько били по рукам и драли за уши до крови, – но эта учительская власть была только враждебной, ее только боялись и ненавидели. Что учитель может обладать властью оттого, что он стоит гораздо выше нас, что он олицетворяет духовность и человечность, что он заронил в наши души представление о каком-то высшем мире, – сколько ни было у нас в младших классах латинской школы учителей, ничего подобного мы еще не встречали. Мы знали нескольких добродушных учителей, облегчавших себе и нам скучное учение тем, что смотрели на все сквозь пальцы и глазели в окно или читали романы, пока мы списывали друг у друга какое-нибудь письменное задание. Знавали мы и злых, мрачных, бешеных учителей, которые драли нас за волосы и били по голове – один из них, совсем уж изверг, сопровождал свои нотации плохим ученикам тем, что тяжелым ключом от дома отбивал такт по голове провинившегося. Что бывают учителя, которых ученик слушает очарованно и радостно, ради которых он рад напрячься, которых даже за несправедливости и капризы прощает, которым он благодарен за открытие высшего мира и которых старается отблагодарить, – о такой возможности мы дотоле и знать не знали.
И вот я попал в четвертый класс к учителю Шмиду. Из двадцати пяти примерно учеников этого класса пятеро выбрали гуманитарные науки, нас называли «гуманистами» и «греками», и в то время, как остальной класс занимался такими мирскими предметами, как рисование, естествознание и тому подобное, нас пятерых учитель Шмид вводил в греческий язык. Учитель этот отнюдь не был популярен: это был болезненный человек с бледным, озабоченным и хмурым лицом, гладко выбритый, темноволосый, обычно настроенный на серьезный и строгий лад, и, даже когда он шутил, тон у него был саркастический. Что, собственно, вопреки общему мнению о нем класса, располагало меня к нему, не знаю. Может быть, это было впечатление его несчастности. Он прихварывал и выглядел страдальцем, у него была больная, хрупкая жена, которая почти никогда не показывалась, а в остальном жил как все наши учителя, в нищете. Какие-то обстоятельства, вероятно, болезнь жены, мешали ему поправить свои дела за счет пансионеров, и уже это придавало ему какое-то благородство по сравнению с другими учителями. А тут еще греческий. Мы, пять избранных, во всяком случае, казались себе среди соучеников чем-то вроде аристократии, нашей целью были высокие науки, а соученикам суждено было стать ремесленниками или коммерсантами; и вот, стало быть, мы начали изучать этот таинственный, древний язык, гораздо древнее, таинственнее и благороднее, чем латынь, язык, который изучают не для того, чтобы зарабатывать деньги или разъезжать по белу свету, а только для того, чтобы познакомиться с Сократом, Платоном и Гомером. Кое-что из этого мира было мне уже знакомо, ибо греческий и ученость были уже близки моим отцам и дедам, а по Швабовым «Преданиям классической древности» я давно уже был знаком с Одиссеем и Полифемом, Фаэтоном и Икаром, с аргонавтами и Танталом. А в нашей хрестоматии, которой мы с недавних пор пользовались в школе, среди сплошь довольно прозаических вещей одиноко, как райская птица, выделялось чудесное стихотворение Гёльдерлина, которое я понимал, правда, только наполовину, но в звучании которого было для меня что-то бесконечно приятное и соблазнительное, и тайную связь этого стихотворения с греческим миром я смутно чувствовал.
Легким наш учебный год этот господин Шмид отнюдь не делал. Он делал его даже весьма трудным, часто ненужно трудным. Он требовал многого, по крайней мере от нас, «гуманистов», и был не просто строг и часто жесток, но порой и очень своенравен; у него случались внезапные приступы гнева, и тогда мы все, в том числе я, не на шутку боялись его, как боятся рыщущей щуки мальки в пруду. Но это я уже знал по другим учителям. У Шмида я изведал нечто новое. Я почувствовал наряду со страхом благоговение, я узнал, что человека можно любить и почитать, даже когда он твой противник, даже когда он своенравен, несправедлив и ужасен. Порой, когда он бывал в мрачном настроении и глаза с его худого лица, из-под длинных черных волос глядели страдальческим, тяжелым и злым взглядом, мне невольно приходили на ум царь Саул и его омрачения. Но потом он отходил, лицо его разглаживалось, он писал на доске греческие буквы и рассказывал о греческом языке и греческой грамматике такие вещи, которые, чувствовал я, были больше чем обыкновенное менторство. Я влюбился в греческий язык, хотя и боялся уроков греческого, и некоторые греческие буквы, такие, как ипсилон, пси, омега, малевал, бывало, в своей тетради с самозабвенной одержимостью, словно какие-то магические знаки.
В тот первый гуманистский год я вдруг заболел. Это была болезнь, которой, насколько мне известно, сегодня уже не знают и не признают и которую тогда врачи называли «боль в конечностях». Меня пичкали рыбьим жиром и салициловой кислотой и какое-то время натирали мне колени ихтиоловой мазью. Я вовсю наслаждался болезнью, ибо при всем своем гуманистском идеализме слишком все же привык ненавидеть школу и бояться ее, чтобы не смотреть на более или менее терпимую болезнь как на подарок судьбы и избавление. Я долго лежал в постели, а поскольку стена у моей кровати была облицована окрашенной в белый цвет деревянной панелью, я начал расписывать эту приятную плоскость акварельными красками и написал на стене на высоте моей головы картину, которая должна была изображать семерых швабов и над которой очень смеялись мои брат и сестра. Но когда миновали вторая и третья неделя, а я все еще лежал больной, возникла забота, как бы мне, если это затянется, не слишком отстать в греческом языке. Одному из моих товарищей поручили оповещать меня об успехах класса, и тут обнаружилось, что господин Шмид с гуманистами продвинулись в греческой грамматике не на шутку. Это мне надо было теперь наверстать, и я, пред лицом семерых швабов, часами единоборствовал со своей ленью и с трудностями греческого спряжения. Иногда мне помогал отец, но, когда я выздоровел и смог встать, оказалось все же, что я сильно отстал, и сочли нужным, чтобы я взял несколько частных уроков у учителя Шмида. Он был готов дать их, и в течение короткого времени я через день приходил к нему на квартиру, где было сумрачно и невесело и где бледная, молчаливая жена Шмида боролась со смертельным недугом. Мне редко доводилось видеть ее, она вскоре после этого умерла. Часы в этой мрачной квартире проходили как заколдованные, переступив ее порог, я попадал в другой, нереальный, зловещий мир, я заставал этого досточтимого мудреца, этого наводящего страх тирана, каким знал его по школе, поразительно, до жути преображенным, я стал проницательным и понимал страдальческое выражение его худого лица, я страдал за него и страдал от него, ибо он большей частью пребывал в очень дурном расположении духа. Но дважды он выходил со мной погулять, побродить на свежем воздухе, без грамматики, без греческого, и во время обеих этих прогулок он был со мной мил и приветлив, не было ни сарказма, ни приступов гнева, он расспрашивал меня о моих увлечениях, о моих мечтах, и с тех пор я его полюбил, хотя он, как только начинался урок, начисто забывал, казалось, об этих прогулках. Жену его похоронили, и я помню, как участился тогда и стал резче тот характерный для Шмида жест, каким он смахивал назад со лба длинные волосы. Как учитель он был в то время довольно тяжел, и думаю, что из его учеников я был единственным, кто любил его, несмотря на его жестокость и непредсказуемость.
Вскоре после окончания этого годичного курса, который вел Шмид, я покинул родину и родную школу и впервые был отправлен в чужие края. Произошло это отчасти по причинам воспитательного характера, ибо я стал тогда трудным и очень непослушным ребенком, родители не справлялись со мной. Кроме того, мне надо было как можно лучше подготовиться к «земельному экзамену». Этот государственный экзамен, который проводился каждое лето для всей земли Вюртемберга, был очень важен: кто выдерживал его, получал вакансию в богословской «семинарии» и мог учиться на стипендию. Эта карьера была предназначена и мне. Несколько школ в земле специально занималось подготовкой к этому экзамену, и в одну из них отправили меня. Это была латинская школа в Гёппингене, где годами натаскивал учеников к земельному экзамену ректор Бауэр, знаменитый во всей земле старик, из года в год окруженный стайкой усердных учеников, которых к нему присылали из всех уголков земли.
В прежние годы ректор Бауэр пользовался славой грубого, бьющего учеников педагога; один старший мой родственник много лет назад учился у Бауэра, и тот жестоко мучил его. Теперь ректор был стар и слыл чудаком, к тому же учителем, который требует от своих учеников очень многого, но бывает с ними и весьма мил. Как бы то ни было, я изрядно боялся его, когда, держа за руку мать, после первого мучительного прощания с отчим домом, стоял в ожидании перед кабинетом знаменитого ректора. Думаю, мать сначала была совсем не в восторге от него, когда он вышел нам навстречу и ввел нас в свою келью, сгорбленный старик с растрепанными седыми волосами, с глазами чуть навыкате в красных прожилках, одетый в зеленовато-выцветшее, неописуемое платье старинного покроя, в очках, повисших на самом кончике носа; держа в правой руке длинную, достававшую почти до пола курительную трубку с большой фарфоровой головкой, он непрестанно вытягивал и выпускал в прокуренную комнату мощные клубы дыма. С этой трубкой он не расставался и во время уроков. Мне этот странный старик с его сгорбленностью, с его небрежной манерой держать себя, с его старой, заношенной одеждой, с его печально-пытливым взглядом, с его стоптанными туфлями, с его длинной дымящейся трубкой показался старым волшебником, на попечение которого я сейчас перейду. Может быть, окажется ужасно у этого запыленного, далекого от жизни старца, а может быть – чудесно, великолепно, во всяком случае, это было нечто особенное, это было приключение, это было событие. Я был готов, я рвался пойти навстречу ему.
Но сперва надо было выдержать ту минуту на вокзале, когда мать, поцеловав и благословив меня, села в поезд, и поезд ушел, и я впервые остался один в «мире», где мне следовало найти свое место и показать себя – но и по сей день, когда мои волосы начинают седеть, я этому так и не научился по-настоящему. На прощанье мать еще помолилась со мной, и, хотя с моей набожностью дело обстояло уже не блестяще, я во время ее молитвы и ее благословения торжественно поклялся в душе вести себя здесь, на чужбине, хорошо и не посрамлять мать. Надолго мне это не удалось, дальнейшие мои школьные годы принесли мне и ей тяжкие бури, испытания и разочарования, много горя и слез, много ссор и недоразумений. Но тогда, в Гёппингене, я свой обет более или менее исполнил и вел себя хорошо. Правда, не на взгляд пай-мальчиков и уж никак не на взгляд хозяйки, у которой я жил и воспитывался на полном пансионе вместе с другими четырьмя мальчиками и которой я не выказывал того почтения и послушания, каких она ждала от своих нахлебников. Нет, хотя в иные дни я очаровывал ее, добивался ее улыбки и расположения, в большой чести у нее я никогда не был, она была инстанцией, власти и важности которой я не признавал, и, когда она в один несчастный день, после какого-то пустякового мальчишеского проступка, призвала своего рослого и дюжего брата, чтобы он подверг меня телесному наказанию, я оказал ей и ее помощнику жесточайшее сопротивление, готовый скорее выброситься в окно или перегрызть ее брату горло, чем позволить ему, не имевшему, по моему мнению, такого нрава, произвести экзекуцию. Ему не удалось дотронуться до меня и пришлось удалиться несолоно хлебавши.
Гёппинген мне не понравился. «Мир», в который втолкнули меня, не пришелся мне во вкусу, он был гол и скучен, груб и убог. Тогда Гёппинген еще не был фабричным городом, как сегодня, но и тогда уже там высилось семьдесят или восемьдесят фабричных труб, и речушка была по сравнению с рекой моей родины пролетаркой, жалко пресмыкавшейся между кучами отходов, а что окрестности города очень красивы, мы почти не замечали, потому что отлучаться нам разрешалось лишь ненадолго, и на Гогенштауфен я поднялся только один раз. О нет, Гёппинген мне совсем не понравился, этот прозаический фабричный город не шел ни в какое сравнение с моей родиной, и, рассказывая о Кальве и тамошней жизни своим товарищам, как и я, томившимся на чужбине и в неволе, я приукрашивал и слагал поэмы тоски и бахвальства, за которые никто не мог призвать меня к ответу, ибо я был единственным в нашей школе кальвийцем. Вообще же были представлены почти все местности и города данной земли, в нашем классе было не более шести-семи гёппингенцев, все остальные приехали издалека, чтобы здесь, на проверенном трамплине, получить разгон для земельного экзамена.
Трамплин не подвел и наш класс, как уже множество других. В конце гёппингенского срока мы составили внушительное число успешно выдержавших экзамен, и я был среди них. Гёппинген не виноват в том, что ничего путного из меня не вышло.
Хотя этот скучный промышленный город, неволя под надзором строгой хозяйки и вся внешняя сторона моей гёппингенской жизни очень не нравились мне, все-таки это время (почти полтора года) было чрезвычайно плодотворно и важно для моей жизни. Те отношения между учителем и учеником, о которых я в Кальве получил представление у профессора Шмида, эта бесконечно плодотворная и притом такая тонкая связь между духовным вождем и способным ребенком достигла между ректором Бауэром и мною полного расцвета. Этот странный, страшноватый на вид старик с бесчисленными чудачествами и вывертами, так выжидательно и грустно глядевший из-за узких зеленоватых стекол, постоянно наполнявший дымом из своей длинной трубки наш тесный, переполненный класс, стал для меня на некоторое время вождем, примером, судьей, полубогом. Наряду с ним у нас было еще два учителя, но их для меня как бы не существовало; они исчезали как тени, словно у них было на одно измерение меньше, за любимой, внушавшей страх и почтение фигурой старика Бауэра. И так же исчезала столь малосимпатичная мне гёппингенская жизнь, исчезали даже мои тогдашние дружбы с однокашниками и делались неважными рядом с этой главной фигурой. В то время, хотя это был расцвет моего отрочества и даже появились первые предвестья и предчувствия половой любви, школа, это вообще такое безразличное, такое презираемое учреждение, была больше года поистине центром моей жизни, вокруг которого вертелось все, даже сны, даже мысли во время каникул. Меня, который всегда был восприимчивым и склонным к критичным суждениям учеником и отчаянно сопротивлялся всякой зависимости и подчиненности, этот таинственный старик пленил и совершенно обворожил просто тем, что апеллировал к самым высшим моим стремлениям и идеалам, как бы не видя моей незрелости, моих дурных привычек, моей неполноценности, что он предполагал во мне самое высокое и смотрел на верх усердия как на нечто само собой разумеющееся. Ему не требовалось много слов, чтобы выразить похвалу. Когда он говорил по поводу латинской или греческой работы: «Это ты славно сделал, Гессе», я бывал несколько дней счастлив и окрылен. А когда он однажды, на ходу, не глядя на меня, шепнул мне: «Я не совсем доволен тобой, ты мог бы сделать больше», я страдал и старался изо всех сил снова умиротворить полубога. Часто он говорил со мной по-латыни, переводя мою фамилию – «Хаттус».
Никак не могу сейчас сказать, насколько это ощущение совершенно особенных отношений разделяли мои соученики. Во всяком случае, несколько предпочтенных, мои ближайшие товарищи и соперники, явно, как и я, находились под очарованием старого ловца душ и в то время так же, как я, принимали благодать призванности, чувствовали себя посвященными на нижних ступенях святилища. Пытаясь психологически понять мою юность, я нахожу, что самое лучшее и действенное в ней – это при всех мятежах и дезертирствах способность к благоговению и что моя душа ликовала и расцветала тогда, когда могла чтить, боготворить, стремиться к высоким целям. Это счастье, начатки которого понимал и пестовал уже мой отец, которое чуть не увяло при неодаренных, средних, равнодушных учителях и вновь несколько ожило при желчном профессоре Шмиде, получило полное развитие при ректоре Бауэре – в первый и в последний раз в моей жизни.
Если бы наш ректор не сделал ничего другого, а только заставил отдельных идеальных учеников влюбиться в латынь и греческий и внушил им веру в духовное призвание и ответственность за него, одно это было бы уже чем-то большим и заслуживало бы благодарности. Но характерной и редкой особенностью этого учителя была его способность не только выявлять среди своих учеников наиболее одаренных духовно и давать их идеализму опору и пищу, но отдавать должное и возрасту своих учеников, их мальчишеству, их страсти к игре. Ибо Бауэр был не только почтенным Сократом, он был, кроме того, искусным и очень оригинальным педагогом, умевшим снова и снова подслащивать своим тринадцатилетним мальчишкам ученье в школе. Этот мудрец, так талантливо преподававший нам латинский синтансис и греческую морфологию, был, кроме того, мастер на педагогические выдумки, приводившие нас, мальчиков, в восторг. Надо иметь понятие о суровости, косности и скуке тогдашней латинской школы, чтобы представить себе, каким свежим, оригинальным и гениальным казался этот человек среди касты сухих чиновников. Сама его внешность, вызывавшая поначалу критику и смех, становилась вскоре орудием авторитета и дисциплины. Из своих странностей и причуд, вот уж, казалось бы, не способствовавших поддержанию его авторитета, он создавал новые вспомогательные средства воспитания. Так, например, его длинная курительная трубка, ужаснувшая мою мать, уже очень скоро стала для нас, учеников, не смешной или тягостной принадлежностью, а своего рода скипетром и символом власти. Кому выпадало подержать трубку, кому он доверял выколотить ее и привести в порядок, тому завидовали как любимцу. Были и другие почетные должности, которых мы, ученики, всячески домогались. Существовала должность «ветрогона», которую я какое-то время с гордостью исполнял. Ветрогон должен был ежедневно смахивать пыль с ректорского пульта – двумя заячьими лапками, лежавшими на пульте вверху. Когда меня однажды лишили этой должности, передав ее другому ученику, для меня это было тяжкое наказание.
В зимний день, когда мы сидели в жарко натопленном и прокуренном классе, а за замерзшими окнами светило солнце, наш ректор мог вдруг сказать: «Ребята, здесь вонь стоит страшная, а на дворе светит солнышко. Ну-ка, пробегите наперегонки вокруг дома, только сначала откройте окна настежь!» Или в пору, когда мы, кандидаты на земельный экзамен, были перегружены специальными работами, он неожиданно пригласил нас наверх, в свою квартиру, и там мы увидели в особой комнате огромный стол, а на нем множество коробок с оловянными солдатиками, которых мы разделили на армии и выстроили в боевые ряды, а когда началось сражение, ректор пускал в батальоны торжественные клубы дыма из своей трубки.
Прекрасное проходит, и прекрасные времена долго не длятся. Вспоминая о гёппингенском времени, о единственном коротком периоде моего учения, когда я был хорошим учеником, чтил и любил учителя и всерьез отдавался делу, я неизменно возвращаюсь памятью к летним каникулам 1890 года, которые я провел дома, у родителей в Кальве. На каникулы нас не обременили никакими школьными заданиями. Зато ректор Бауэр обратил наше внимание на «Правила жизни» Исократа, помещенные в нашей греческой хрестоматии, и сказал нам, что в прежние времена кое-кто из лучших его учеников выучивал эти правила наизусть. На усмотрение каждого предоставлялось, последовать этой подсказке или нет.
От тех летних каникул у меня осталось в памяти несколько прогулок с отцом. Мы проводили иногда послеполуденные часы в лесах вокруг Кальва; среди старых пихт было вдоволь черники и малины, а в просеках цвел дербенник и летали летние бабочки, адмиралы и вакессы. Сильно пахло смолой и грибами, и случалось видеть косуль. Я бродил с отцом по лесу, и мы устраивали привалы где-нибудь среди вереска на опушке. Иногда он спрашивал меня, насколько я продвинулся с Исократом. Ибо каждый день я сидел над книгой и учил наизусть эти «Правила жизни». И поныне начальная фраза Исократа – единственный кусок греческой прозы, который я знаю наизусть. Эта исократовская фраза да несколько гомеровских стихов – последние остатки всей школьной греческой учености, которые у меня сохранились. Кстати сказать, одолеть «Правила» целиком мне не удалось. Дело не пошло дальше нескольких десятков фраз, которые я выучил наизусть, некоторое время держал в уме и когда угодно мог повторить, пока они с годами не потерялись и не пошли прахом, как все, чем когда-либо обладает и что считает своим достоянием человек.
Сегодня я уже не знаю греческого, да и из латыни большая часть давно утрачена – я бы начисто все забыл, если бы не был жив до сих пор и не был бы до сих пор моим другом один из моих гёппингенских товарищей. Время от времени он пишет мне латинские песни, и, когда я читаю их, пробираясь через прекрасные классические конструкции фраз, мне снова слышится запах садов юности и курительной трубки старого ректора Бауэра.
Вселяясь в новый дом
Вселиться в новый дом – значит не только начать что-то новое, но и покинуть что-то старое. И, вселяясь теперь в новый дом, я могу быть от души благодарен другу, чьей доброте я этим домом обязан, могу с благодарностью и с новым дружеским чувством вспомнить его и других друзей, которые помогли довести дело с домом до конца и обставить его. Но сказать что-либо об этом новом доме, описать его, восхвалить, воспеть я не в состоянии, ибо где взять слова и как петь при первом шаге во что-то новое, как осмелишься хвалить день, когда до вечера еще далеко? Справляя новоселье, мы можем лелеять в душе какие-то пожеланья и просить наших друзей, чтобы и они тоже хранили в своей душе эти тихие пожеланья. Однако сказать что-либо о самом доме, по-настоящему рассказать о нем, высказать свое отношение к нему как к чему-то пережитому – это я смог бы лишь через какое-то время.
Но при нашем вселении в новый дом я могу и должен вспомнить те другие дома, что давали пристанище мне в прежние эпохи моей жизни и защищали мою жизнь и мою работу. Каждому из них я благодарен, каждый из них сохраняет для меня бесчисленные воспоминания, и каждый в моей памяти придает времени, когда я жил в нем, какой-то собственный облик. И подобно тому, как на редком семейном празднестве сперва тревожат тень прошлого и поминают умерших, я хочу сегодня вспомнить всех предшественников нашего прекрасного дома, пробудить в себе их образ и поведать о них друзьям.
Хотя вырос я в характерных старых домах, я в молодости был все же слишком неразвит, а главное – слишком занят собой, чтобы уделять много внимания и любви домам и квартирам, где я жил. Правда, мне было вовсе не безразлично, как выглядит мое жилье, но во внешности моей комнаты мне всегда бывало важно только то, что привнес в эту внешность я сам. Интересовали и радовали меня не размеры помещения, не его стены, углы, высота, цвета, полы и так далее, интересовало меня лишь то, что сам я доставил в данную комнату, что сам я расставил, развесил и разложил в ней.
То, как пытается украсить и выделить свою первую отдельную комнату двенадцатилетний мечтательный мальчик, не имеет ничего общего со вкусом и нарядностью: побуждения к этому украшательству лежат гораздо глубже, чем какой-то там вкус. Так и я в двенадцать лет, впервые, к своей гордости, получив в просторном отцовском доме отдельную комнату, совершенно не пытался как-то разделить и подчинить себе это большое, высокое помещение, придать ему красоту и уютность цветами или расположением мебели и думать не думал о том, как расставить кровать, шкафы и так далее, а все свое внимание направил на те несколько вещей в комнате, которые были для меня не предметами домашнего обихода, а святынями. Важнейшей из этих вещей была моя конторка, мне давно хотелось иметь конторку, и вот я ее получил, а в этой конторке в свою очередь важнее всего было пустое пространство под крышкой, где я старался устроить арсенал более или менее тайных трофеев, сплошь предметов, ни на что не нужных и не покупных, имевших лишь для меня одного мемориальную, а отчасти и магическую ценность. Среди них были маленький звериный череп неведомого мне происхождения, засушенные листья деревьев, заячья лапка, осколок толстого зеленого стекла и много других таких вещей. Они хранились в темноте своего укрытия под крышкой конторки, мои сокровища и мои секреты, их никто не видел, о них никто не знал, кроме меня, и они были мне дороже всякого другого имущества. Наряду с этим тайником ценилась и верхняя плоскость конторки, и тут была уже не сокровенная, не интимная сфера, тут дело уже не обходилось без украшательства, щегольства, да и бахвальства. Тут я не скрывал и не прятал, а выставлял напоказ и хвастался, тут требовались великолепие и красота, кроме букетов цветов и кусков мрамора, здесь можно было увидеть фотографии и другие картинки, и пределом моих мечтаний было поставить здесь какую-нибудь скульптуру, все равно какую, но трехмерное произведение искусства, какую-нибудь фигуру или голову, и желание это было таким сильным, что я однажды украл одну марку и за восемьдесят пфеннигов купил бюстик молодого кайзера Вильгельма из обожженной глины, массовое изделие, не представляющее никакой ценности.
Кстати сказать, эта мечта двенадцатилетнего не покинула меня и в двадцать лет, и среди первых вещей, которые я купил на собственный заработок, поступив в Тюбингене учеником в книжную лавку, был белоснежный гипсовый слепок с праксителевского бюста Гермеса. Сегодня я, вероятно, не потерпел бы его ни в какой комнате, но тогда я еще почти так же сильно, как в детстве со своим глиняным бюстом кайзера, чувствовал первобытное волшебство скульптуры, физического, осязаемого, ощутимого подражания природе. Существенно мой вкус, таким образом, вряд ли улучшился, хотя, конечно, Гермес был более благородной скульптурой, чем тот бюст кайзера. Должен также сказать, что тогда, в те четыре тюбингенских года, я все еще был очень равнодушен к дому и комнате, где мне довелось жить. Моей тюбингенской комнатой на Герренберштрассе была все четыре года та же, какую сняли мне родители при моем поступлении в книжную лавку, – скучная, унылая комната на первом этаже некрасивого дома на тоскливой улице. Восприимчивый ко всякой красоте, я совершенно не страдал от такого жилья. Да, собственно, я и не «жил» там, ибо с раннего утра до вечера находился в лавке и, возвращаясь домой обычно уже затемно, не хотел ничего, кроме одиночества, свободы, чтения и собственной работы. И «красивой» комнатой я считал тогда не красивое помещение, а украшенное. А на украшения я не скупился. Частью в виде больших фотографий, частью в виде маленьких вырезок из иллюстрированных журналов или издательских каталогов к стенам было приколото более сотни портретов людей, которыми я почему-либо восхищался, и собрание это в те годы постоянно росло: прекрасно помню, как со вздохом, довольно дорого заплатил за фотографии молодого Герхарда Гауптмана, чью «Ганнеле» я тогда прочел, и за два портрета Ницше; один был известный, с большими усами и со взглядом немного снизу вверх, другой был снимком с написанного маслом портрета, где Ницше, больной, с погасшим, отсутствующим взглядом, сидел в кресле-каталке. Я часто стоял перед этой фотографией. Кроме того, был, стало быть, Гермес, и была еще самая большая репродукция портрета Шопена, какую мне удалось достать. Кроме того, половина стены над диваном была по-студенчески украшена симметрично развешанными трубками для курения. Конторка имелась у меня и здесь, и в ее темном вместилище все еще были волшебство, тайна, сокровищница, все еще были прибежище, уход от скучного окружающего мира в магическое царство; только теперь всем этим были уже не череп, заячья лапка, пустые внутри конские каштаны и стекляшки, а мои стихи, фантазии и сочинения в тетрадях и на множестве отдельных листов.
Из Тюбингена я, двадцати двух лет, приехал осенью 1899 года в Базель, и только там у меня появилось серьезное, живое отношение к изобразительному искусству; если мое тюбингенское время, насколько я располагал им, было посвящено исключительно литературным и интеллектуальным завоеваниям – прежде всего Гёте, а потом Ницше, которыми я занимался упоенно, как одержимый, – то в Базеле у меня открылись и глаза, я стал внимательным, а вскоре и сведущим созерцателем архитектуры и произведений искусства. Узкий базельский круг, принявший меня тогда и просвещавший, был весь пропитан влиянием Якоба Буркхардта, который незадолго до того умер и кому во второй половине моей жизни суждено было постепенно занять то место, что раньше принадлежало Ницше. В базельские свои годы я как раз и сделал первую попытку жить со вкусом и достойно, сняв оригинальную, красивую комнату в старом базельском доме, комнату с большой старинной кафельной печью, комнату с прошлым. Но мне с ней не повезло; комната была замечательная, но она никогда не прогревалась, хотя старинная печь пожирала массу дров, а под окнами с трех часов утра через такую спокойную с виду улицу с адским грохотом, отнимая у меня сон, катились по булыжной мостовой от Альбанских ворот повозки молочников и рыночных торговцев; не выдержав, я через некоторое время убежал из этой комнаты в современное предместье.
И только теперь начинается та пора моей жизни, когда я жил уже не в случайных и часто менявшихся комнатах, а в домах и когда эти дома становились милыми мне и важными для меня. За время от моей первой женитьбы в 1904 году и моего вселения в Каза-Бодмер в 1931 году я жил в четырех разных домах и один из них построил сага. Все они вспоминаются мне сегодня.
В некрасивый или хотя бы лишь безразличный мне дом я теперь бы не въехал; я видел много предметов старинного искусства, был дважды в Италии, да и вообще моя жизнь сильно изменилась и обогатилась: бросая свою прежнюю профессию, я решил жениться и постоянно жить в будущем в деревне. В этих решениях, как и в выборе мест и домов, где мы потом жили, моя первая жена принимала большое участие. Полная решимости жить простой, сельской, здоровой жизнью с минимальными потребностями, она, однако, придавала большое значение тому, чтобы при всей простоте жить очень красиво, то есть в красивых местах, с красивым видом и в красивых, то есть в самобытных, проникнутых достоинством, не в безликих домах. Ее идеалом был полукрестьянский-полубарский сельский дом с покрытой мхом крышей, просторный, под очень старыми деревьями, по возможности с шумящим колодцем у ворот. У меня у самого были совершенно сходные представления и желания, да и вообще я пребывал под влиянием Мии в этих делах. Поэтому то, чего нам следовало искать, было как бы предопределено. Сперва мы вели поиски по красивым деревням близ Базеля, затем, после первой моей поездки к Эмилю Штраусу в Эммисхофен, в поле нашего зрения вошло Боденское озеро, и наконец, когда я сидел дома в Кальве у отца с сестрами и писал «Под колесами», жена обнаружила баденскую деревню Гайенхофен на Унтерзее, а в ней пустующий крестьянский дом на маленькой тихой площади напротив часовни. Я был согласен, и мы сняли дом за сто пятьдесят марок в год, что нам самим в то время показалось дешево. Там в сентябре 1904 года мы стали устраиваться, поначалу с разочарованиями и трудностями, с долгим ожиданием мебели и кроватей, которые должны были прибыть из Базеля и которых мы день за днем ждали с каждым утренним пароходом из Шафхаузена. Потом дело двинулось, и наш энтузиазм рос. Грубые стропила в комнатах верхнего этажа мы выкрасили в темно-красный цвет, в обеих нижних комнатах, самых красивых в доме, стены были облицованы некрашеными еловыми досками, а рядом с солидной печью имелась так называемая «хитрость»: кусок стены над грубой скамьей был там покрыт зелеными старыми изразцами, которые нагревались, когда в кухне горела плита. Здесь было любимое место нашей первой кошки, красивого кота Гаттамелаты. Таков был мой первый дом. Снимали мы, собственно, только половину дома, другая половина состояла из амбара и сарая, которые крестьянин оставил за собой. Жилая часть этого фахверкового дома состояла внизу из кухни и двух комнат, большая из которых с большой изразцовой плитой служила нам гостиной и столовой, вдоль половины стены шли грубые деревянные скамьи, там было тепло и уютно между деревянными стенками. Меньшую комнату рядом занимала жена, там стояли ее пианино и письменный стол. Примитивная лестница из досок вела наверх. Там, соответствуя гостиной внизу, имелась большая комната с двумя окнами под углом друг к другу, из которых видны были части озерного пейзажа за часовней; это был мой кабинет, здесь стоял большой письменный стол, сделанный по моему закону, единственная вещь, до сих пор сохранившаяся у меня от того времени, стояла здесь опять-таки и конторка, и все стены были уставлены книгами. При входе надо было помнить о высоком пороге, кто забывал о нем, ударялся головой о низкую притолоку, это случалось со многими. Молодому Стефану Цвейгу пришлось даже, когда он был у нас, прилечь на четверть часа и прийти в себя, чтобы обрести дар речи, он вошел быстро и энергично, и я не успел предупредить его насчет порога. Радом на этом этаже были еще две спальни, а над ними большой чердак. Сада при этом доме не было, была только маленькая лужайка с двумя-тремя фруктовыми деревьями, еще я вскопал грядку вдоль дома и посадил кусты смородины и немного цветов.
В этом доме я прожил три года, за это время явился на свет мой первый сын и возникло много стихов и рассказов. В «Книге зарисовок» и еще кое-где есть описания нашей тогдашней жизни. Нечто, чего ни один из позднейших домов дать уже не мог, делает этот крестьянский дом милым мне и уникальным: он был первым! Он был первым прибежищем моего молодого супружества, первой законной мастерской моей профессии, здесь впервые у меня было чувство оседлости и именно поэтому иногда чувство плененности, скованности границами и порядком; здесь я впервые загорелся красивой мечтой – создать и обрести в месте, которое выбрал сам же, подобие родного угла. И это делалось скудными и примитивными средствами. Гвоздь за гвоздем вбивал я собственноручно в этих комнатах, и гвозди были не покупные, а из ящиков, оставшихся от нашего переезда, я один за другим выпрямлял их на каменном пороге нашего дома. Зияющие щели в верхнем этаже я зашпаклевал паклей и бумагой и закрасил красной краской, я боролся с сухостью и тенью из-за нескольких цветков на скверной почве у стены нашего дома.
Благоустраивался этот дом с прекрасным пафосом молодости, с чувством глубочайшей ответственности за то, что мы делаем, и с чувством, что это на всю жизнь. Потому-то мы и попытались вести в этой крестьянской хижине сельскую, открыто-простую, естественную, не городскую и не модную жизнь. Мысли и идеалы, которыми мы тут руководствовались, были так же сродни рёскиновским и моррисовским, как и толстовским. Отчасти это получилось, отчасти не удалось, но мы оба относились к этому с полной серьезностью, делая все добросовестно и от души.
Две картины, два события каждый раз ярко и свежо встают в моей памяти, когда мне напоминают об этом доме и о первых гайенхофенских годах. Первая картина – теплое, сияющее летнее утро, утро моего двадцать восьмого дня рождения. Я рано проснулся, разбуженный и чуть ли не испуганный какими-то странными звуками, подбежал в одной рубашке к окну, и под нашим окном оказался сельский духовой оркестрик, собранный моим другом Людвигом Финком из нескольких соседних деревень, играли марш и хорал, и рожки, и клапаны кларнетов сверкали на утреннем солнце.
Это одна картина, возникающая передо мной при воспоминании о том старом доме. Другая тоже связана с моим другом Финком. На сей раз меня тоже разбудили, но дело было среди ночи, и под окном стоял не Финк, а наш друг Бухерер, который сообщил мне, что домик, купленный Людвигом Финком и только что благоустроенный им для его молодой жены, горит. Мы молча прошли туда через деревню, на небе стояло красное зарево, и маленький сказочный домик, только что выстроенный, покрашенный и благоустроенный, сгорел на наших глазах до последней щепки, а хозяин совершал свадебное путешествие, приехать и ввести в дом жену он должен был завтра. Когда пепелище еще дымилось и тлело, нам пришлось отправиться в путь, чтобы встретить друга и сообщить ему и его жене о случившейся беде.
Прощались мы с нашим крестьянским домом медленно и легко, ибо решили построить теперь собственный дом. На то были разные причины. Во-первых, благоприятствовали наши внешние обстоятельства, и при той простой и экономной жизни, которую мы вели, деньги откладывались ежегодно. Затем мы уже давно мечтали о настоящем саде и о более открытом и высоком месте с более широким обзором. К тому же моя жена много болела, и был ребенок, и такие роскошные приспособления, как ванна и ванная колонка, уже не казались нам совершенно ненужными, как три года назад. И если, думали и говорили мы, наши дети растут в деревне, то им лучше и правильнее расти на собственной земле, в собственном доме, в тени собственных деревьев. Не помню уж, как мы обосновывали себе эту мысль, помню только, что дело это было для нас действительно серьезное. Может быть, за этим не крылось ничего, кроме буржуазной домовитости, хотя мы оба никогда особенно ею не отличались – но под конец нас испортили тучные годы; или же тут маячил и этакий крестьянский идеал? Я, правда, в своем крестьянском идеале никогда не был уверен, и тогда тоже, но благодаря Толстому, да и благодаря Иеремии Готхельфу, подогреваемые довольно сильным тогда в Германии движением за бегство из городов в сельскую жизнь, эти красивые, но неясно сформулированные догматы веры все-таки жили в наших головах, как то и выразилось в «Петере Каменцинде». Не помню теперь точно, как я тогда понимал слово «крестьянин». Сегодня, во всяком случае, я, пожалуй, ни в чем так не уверен, как в том, что я – прямая противоположность крестьянина, а именно (по природе своей, по типу) кочевник, охотник, человек неоседлый, индивидуалист. По сути-то я и тогда, наверно, думал не намного иначе, чем сегодня, но вместо антитезы «крестьянин – кочевник» я видел и формулировал тогда антитезу «крестьянин – горожанин» и крестьянскую жизнь понимал не только как отдаленность от городов, но прежде всего как близость к природе и надежность, которой и отличается жизнь, руководствующаяся не силлогизмами, а инстинктами. Что мой сельский идеал и сам был лишь силлогизмом – это мне не мешало. Ведь наши склонности всегда обладают удивительной способностью маскироваться мировоззрением. Ошибка моей гайенхофенской жизни была не в том, что я неверно думал о крестьянскости и так далее, а в том, что своим сознанием я отчасти хотел и добивался чего-то совсем другого, чем то, к чему инстинктивно стремился. В какой мере я подчинялся при этом идеям и желаниям моей жены Мии, сказать не могу, но в те первые годы ее влияние, как я лишь задним умом вижу, было сильнее, чем я это признал бы тогда.
Словом, было решено купить землю и строиться. Архитектор Гиндерман, с которым мы подружились еще в Базеле, был к нашим услугам, родители жены дали взаймы большую часть нужной для строительства суммы, землю везде можно было купить задешево, квадратный метр стоил, кажется, два-три грошена. И на своем четвертом бодензейском году мы купили участок земли и построили на нем красивый дом. Мы выбрали место далеко на отшибе с открытым видом на Унтерзее. Видны были швейцарский берег, остров Рейхенау, башня кафедрального собора в Констанце, а за ними вдалеке горы. Дом был удобнее и больше покинутого, было место для детей, прислуги, гостей, встроили шкафы и ящики, а воду не нужно было больше носить от колодца, в доме имелся водопровод, а в подвале – погреб для вина и фруктов и темная комната для фотографии, которой занималась жена, и еще было много всяких красивых и приятных приспособлений. Когда мы вселились туда, хватало также забот и огорчений: выгребная яма часто засорялась, и в кухне, грозя разлиться, застревала в стоке вода, а я с призванным на помощь строителем лежал на животе перед домом и прутьями и проволокой ковырялся во вновь отрытых сливных трубах. Но в целом дом оправдал себя и доставлял нам радость, и, хотя наш каждодневный быт оставался таким же простым, как прежде, было много всякой роскоши, о которой я и мечтать не смел. В моем кабинете были встроены книжные полки и большой шкаф для папок. На всех стенах теснились картины, у нас было теперь много друзей-художников, что-то мы покупали, что-то получали в подарок. В комнатах уехавшего Макса Бухерера жили теперь каждое лето два мюнхенских художника, Блюмель и Реннер, которых мы любили и с которыми я дружу по сей день.
Особенно роскошным и изысканным было отопление моего кабинета, мною придуманное: здесь стояла большая зеленая изразцовая печь, долго удерживавшая тепло, которую можно было топить углем. У нас было с ней много хлопот, и во время строительства мы однажды отослали обратно на фабрику целый фургон изразцов, потому что они были не совсем того прекрасного зеленого цвета, какой я имел в виду и заказал. Но именно эта печь показала мне теневые стороны всяких удобств и технических изысков: топилась печь хоть и хорошо, но при небольшом фене в ней скапливались газы, и, освобождаясь от них, она иногда взрывалась со звуком, который я и сейчас слышу, комната вдруг наполнялась каменноугольным газом, дымом и сажей, надо было срочно выгребать жар и тушить, а потом шагать два часа в Радольфцель за печником и на несколько дней попрощаться с отоплением и кабинетом. Случалось это три или четыре раза, и дважды я сразу же после этой беды уезжал, едва раздавался злосчастный выстрел и комната моя наполнялась чадом, я укладывал вещи в сумку, убегал, вызывал в Радольфцеле печника и ехал оттуда в Мюнхен, где мне как соиздателю журнала все равно нужно было побывать по делам. Эти эскапады были все же редкими исключениями.
Едва ли не важнее дома стал для меня сад. Собственно сада у меня никогда еще не было, а из моих сельских принципов само собой следовало, что разбивать, сажать и возделывать его я должен был сам, и я много лет это и делал. Я построил в саду сарай для дров и садовых инструментов, разметил вместе с одним советчиком, крестьянским сыном, дорожки и грядки, посадил деревья, каштаны, липу, катальпу, буки в виде живой изгороди, много кустов ягод и прекрасных плодовых деревьев. Плодовые деревца обгрызли зимой и погубили зайцы и косули, все остальное росло недурно, и у нас было тогда в избытке клубники и малины, цветной капусты, горошка и салата. Еще я развел георгины и устроил длинную аллею, где по обе стороны дорожки росли сотни подсолнечников необыкновенной величины, а у их ног тысячи настурций всех оттенков красного и желтого цвета. Не менее десяти лет, в Гайенхофене и Берне, я один и собственноручно сажал себе овощи и цветы, удобрял и поливал грядки, пропалывал дорожки, пилил и колол дрова в большом количестве. Это было прекрасно и поучительно, но в конце концов превратилось в тяжелое рабство. Играть в крестьянина было славно, пока это было игрой; когда это переросло в привычку и обязанность, радость ушла. Гуго Балль, на основании моих очень скупых свидетельств, хорошо пояснил в своей книге смысл этого гайенхофенского обходного пути – хотя и суховато и не совсем справедливо в отношении нашего друга Финка. Тут было больше тепла, больше невинности и игры, чем он заставляет предполагать.
Сколько сильно, впрочем, наша душа обрабатывает картину окружающего мира, искажает или, вернее, поправляет ее, под каким сильным влиянием изнутри находятся картины нашей жизни, когда мы их вспоминаем, – это посрамляюще ясно показывают мои воспоминания о втором гайенхофенском доме. Я и сегодня донельзя точно представляю себе сад этого дома, а в самом доме ясно вижу со всеми подробностями мой кабинет и его просторный балкон, я до сих пор могу сказать, на каком месте стояла там каждая книга. Зато другие комнаты представляю себе сегодня, через двадцать лет после того, как я покинул этот дом, уже удивительно нечетко.
Итак, мы устроились и обосновались прямо-таки на всю жизнь, мирно стояло у входа в наш дом единственное большое дерево на нашем участке, старая, могучая груша, под которой я соорудил из планок скамейку, прилежно возделывал я свой сад, сажал, украшал, и уже мой старший сынок ходил за мной по саду, играя своей детской лопаточкой. Но вечность, на которую мы строили, длилась недолго. Я исчерпал Гайенхофен, жить мне там стало невмоготу, я часто теперь уезжал на короткие сроки, мир кругом был так широк, и в конце концов поехал даже в Индию летом 1911 года. Нынешние психологи, люди нахальные, называют такие вещи «бегством», и, конечно, в числе прочего было тут и оно. Но это была и попытка создать дистанцию, оглядеться. Летом 1911 года я поехал в Индию и вернулся оттуда в самом конце года. Но всего этого было мало. Со временем к замалчиваемым внутренним причинам нашего недовольства прибавились и внешние, которые мужу и жене легко обсудить: родились второй и третий сын, старший достиг школьного возраста, жена порой тосковала по Швейцарии и по близости города, по друзьям и по музыке, и постепенно мы привыкли считать наш дом подлежащим продаже, а нашу гайенхофенскую жизнь – эпизодом. В 1912 году дело решилось, нашелся покупатель для дома.
Местом, куда мы теперь хотели переехать, был Берн. Правда, переехать мы хотели не в самый город, это показалось бы нам предательством наших идеалов, мы хотели подыскать какой-нибудь деревенский дом близ Берна, что-нибудь вроде той чудесной старой усадьбы, где уже несколько лет жил мой друг Альберт Вельти, художник. Я не раз навещал его в Берне, и его красивый, слегка запущенный дом с усадьбой далеко за чертой города очень мне нравился. И если жена и так-то, по воспоминаниям молодости, очень любила Берн, Бернский кантон и старые бернские имения, то для меня, когда я выбирал Берн, имело большое значение и то, что там будет такой друг, как Вельти.
Но когда час настал и мы действительно перебрались с Боденского озера в Берн, все выглядело уже опять иначе. За несколько месяцев до нашего переезда в Берн мой друг Вельти и его жена умерли почти подряд, я был на его похоронах в Берне, и тут оказалось, что раз уж мы решили переезжать в Берн, то лучше всего взять на себя права на дом Вельти. Мы внутренне сопротивлялись этой преемственности, слишком сильно пахло там смертью, мы искали другого пристанища близ Берна, но не находилось ничего, что нам понравилось бы. Дом Вельти не был его собственностью, он принадлежал одной бернской патрицианской семье, и мы сняли его с кое-какой домашней утварью и немецкой овчаркой Вельти, которая тоже осталась у нас.
Дом на Мельхенбюльвеге близ Берна, выше замка Виттигхофен, по сути, во всем отвечал нашему старому, все более с базельских времен укреплявшемуся представлению об идеальном доме для людей нашего типа. Это был загородный дом в бернском стиле, с круглым бернским фронтоном, неправильность которого как-то особенно украшала его, дом, самым приятнейшим образом и словно бы специально для нас соединявший крестьянские и барские черты, наполовину примитивный, наполовину изысканно-патрицианский, дом семнадцатого века, с пристройками и переделками эпохи ампира, среди почтенных, очень старых деревьев, целиком в тени огромного вяза, дом, полный дивных закоулков и уголков, и Уютных, и жутковатых. К особняку примыкал большой Участок земли с хижиной, они были сданы арендатору, от которого мы получали молоко для дома и навоз для сада. К нашему саду, разбитому с южной стороны дома и спускавшемуся двумя строго симметричными террасами с каменными лестницами, относились прекрасные плодовые деревья и еще, в двухстах шагах от жилья, так называемый «боскет», рощица из нескольких десятков буков, расположенная на холме и господствовавшая над местностью. За домом шумел красивый каменный колодец, с большой южной веранды, обвитой огромной глицинией, открывались за соседней окрестностью и множеством лесных холмов горы, цепь которых от Тунского предгорья до Веттерхорна, с большими горами группы Юнгфрау посередине, видна была целиком. Дом и сад довольно похоже описаны в моем фрагменте романа «Дом мечтаний», а заглавие этого незаконченного произведения напоминает о моем друге Альберте Вельти, который назвал так одну из самых замечательных своих картин. И внутри этого дома тоже было много всяких интересных и ценных вещей: старинные изразцовые печи, мебель, облицовка, изящные французские часы с маятником под стеклянными колпаками, старые высокие зеркала с зеленоватым стеклом, отражаясь в которых ты походил на портрет предка, мраморный камин, в котором я неукоснительно разводил огонь осенними вечерами.
Словом, все было так, что лучше и придумать нельзя, – и тем не менее все было с самого начала омрачено и злосчастно. То, что наша новая жизнь началась со смерти обоих Вельти, было как бы предзнаменованием. Однако на первых порах мы наслаждались прелестями дома, неповторимым видом, закатами над Юрой, хорошими фруктами, старым городом Берном, где у нас были какие-то друзья и возможность слушать хорошую музыку, только все было немного грустно и приглушенно; лишь несколько лет спустя жена как-то сказала мне, что в этом старом доме, от которого она сразу же, казалось, пришла, как и я, в восторг, она часто испытывала страх и подавленность, даже что-то вроде боязни внезапной смерти и призраков. Исподволь нарастал тот нажим, что изменил и отчасти уничтожил мою прежнюю жизнь. Пришла через неполных два года после нашего переезда мировая война, пришел конец моей свободе и независимости, пришел тяжелый нравственный кризис из-за войны, вынудивший меня перестроить все свое мышление и всю свою работу, пришла многолетняя тяжелая болезнь нашего младшего, третьего сына, пришли первые предвестья душевной болезни жены – и в то время как на службе я из-за войны надрывался, а нравственно все больше отчаивался, медленно рушилось все, что было дотоле моим счастьем. На исходе военных лет я часто сидел в темноте, без керосина в нашем не имевшем электрического освещения доме на отшибе, деньги наши таяли, и наконец, после длительной скверной поры, разразилась болезнь жены, она подолгу находилась в лечебных учреждениях; в запущенном, слишком большом бернском доме вести хозяйство стало невмоготу, мне пришлось отдать детей в пансионы, я месяцами пребывал в опустевшем доме совершенно один с не бросившей нас прислугой и давно уехал бы, если бы это позволяла сделать моя военная служба.
Наконец, когда и эта служба весной 1919 года кончилась и я опять стал свободен, я покинул этот заколдованный бернский дом, прожив там почти семь лет. Расставаться с Берном мне было, впрочем, уже нетрудно. Мне стало ясно, что у меня есть только одна нравственная возможность существования – поставить на первое место среди всего другого свою литературную работу, жить только в ней и не принимать больше всерьез ни краха семьи, ни безденежья, ни каких-либо других обстоятельств. Если это не удастся, я пропал. Я поехал в Лугано, пробыл несколько недель в Соренго и вел поиски, пока не нашел в Монтаньоле Каза-Камуцци, куда и перебрался в мае 1919 года. Из Берна я перевез только свой письменный стол и книги, вообще же жил с взятой напрокат мебелью. В этом последнем из моих прежних домов я прожил двенадцать лет, первые четыре года целиком, а затем только в теплое время года.
Этот прекрасный чудесный дом, с которым я теперь расстаюсь, много для меня значил и был во многих отношениях самым оригинальным и красивым из всех, что когда-либо принадлежали мне или были моим жильем. Правда, здесь ничего не принадлежало мне, да и жильем моим был не дом, а снятая мною маленькая квартира из четырех комнат, я не был уже хозяином дома и отцом семейства, у которого есть и дом, и дети, и слуги, который зовет свою собаку и ухаживает за своим садом; я был теперь маленький прогоревший литератор, потрепанный и немного подозрительный чужак, который питался молоком, рисом и макаронами, донашивал свои старые костюмы до полного обветшания и осенью ужинал принесенными из леса каштанами. Но эксперимент, в котором тут заключалось дело, удался, и, несмотря на все, что и эти годы делало трудными, они были прекрасны и плодотворны. Словно проснувшись после кошмарных снов, длившихся долгие годы, я упивался свободой, воздухом, солнцем, одиночеством, работой. В то же первое лето я написал подряд «Клейна и Вагнера» и «Клингзора» и настолько расправил этим свою душу, что смог следующей зимой начать «Сиддхартху». Я, значит, не погиб, я еще раз собрался с силами, я еще был способен к работе, к сосредоточенности; годы войны не погубили меня духовно, как я почти боялся. Материально я не смог бы пережить эти годы и не смог бы выполнить свою работу, если бы не постоянная помощь многочисленных друзей. Без поддержки со стороны винтертурского друга и милых сиамцев ничего не вышло бы, и особенно большую дружескую услугу оказал мне Куно Амьет, взяв к себе моего сына Бруно.
И вот, стало быть, последние двенадцать лет я прожил в Каза-Камуцци, тот дом и сад фигурируют в «Клингзоре» и других моих сочинениях. Десятки раз я писал этот дом красками и рисовал, вникая в его затейливые, причудливые формы; особенно в два последних лета, на прощанье, я с балкона, из окна, с террасы рисовал разные виды, запечатлев множество удивительно красивых уголков и каменных кладок в саду. Мое палаццо, подражание охотничьему замку в стиле барокко, рожденное капризом одного тессинского архитектора лет семьдесят пять назад, имело, кроме меня, еще ряд жильцов, но никто не задерживался так надолго, как я, и думаю, что никто так не любил его (и не потешался над ним), как я, и никому оно не стало, как мне, вторым родным домом. Возникшее в расточительно-веселом строительном раже, в сладострастном преодолении больших неудобств участка, это полуторжественное-полупотешное палаццо предстает с разных точек совершенно по-разному. От портала помпезно и театрально идет вниз царственная лестница, она ведет в сад, который, спускаясь множеством террас с лестницами, откосами и стенами, теряется в обрыве, и в саду этом все южные деревья представлены старыми, большими, роскошными экземплярами, вросшими друг в друга, заросшими глициниями и клематисом. От самой деревни дом почти скрыт. Снизу из долины, возвышаясь своими ступенчатыми фронтонами и башенками над тихими опушками, он выглядит совсем как сельский замок какой-нибудь эйхендорфовской новеллы.
Многое за двенадцать лет изменилось и здесь, не только в моей жизни, но и в доме и в саду. Великолепный старый церцус внизу в саду, самый высокий из всех, какие я видел, который из году в год так пышно цвел с начала мая чуть ли не до середины июня, а осенью из-за своих красно-фиолетовых стручков имел такой экзотический вид, пал жертвой бури в одну осеннюю ночь. Большую магнолию Клингзора у самого моего балкончика, огромные мертвенно-белые цветки которой чуть ли не залезали в комнату, срубили однажды в мое отсутствие. Как-то я после долгого перерыва вернулся весной из Цюриха – и моей старой доброй входной двери как не бывало, а то место, где она была, замуровано, я оцепенело стоял как во сне, не найдя входа: произвели небольшую перестройку, ничего мне не сказав. Но ни одна из таких перемен не заставила меня разлюбить этот дом, он был больше моим, чем какой-либо из прежних, ибо здесь я не был супругом и отцом семейства, здесь был дома лишь я один, здесь я боролся в тоскливые, суровые годы после великого краха, боролся на позиции, которая часто казалась мне совсем безнадежной, здесь я много лет наслаждался глубочайшим одиночеством и страдал от него же, сотворил много сочинений и картинок, утешительных мыльных пузырей, и сросся со всем так, как с юности не срастался ни с каким другим окружением. В знак благодарности я довольно часто рисовал и воспевал этот дом, всячески стараясь ответить ему на то, что он дал мне и чем он был для меня.
Останься я в своем одиночестве, не найди я еще раз товарища по жизни, я так и не покинул бы, наверно, дом Камуцци, хотя во многих отношениях он был неудобен для стареющего и уже не очень здорового человека. В этом сказочном доме я отчаянно мерз и терпел всякие другие лишения. Поэтому в последние годы время от времени возникала, но никогда не принималась по-настоящему всерьез мысль – не переехать ли все-таки, не купить ли, не снять ли или даже не построить ли дом, где у меня было бы удобное и здоровое пристанище на старости лет. Это были желания и мысли, не более.
И вот дивная сказка сбылась: весной 1930 года мы сидели как-то вечером, болтая, в цюрихском «Ковчеге», и речь зашла о домах и строительстве, и были упомянуты желания, время от времени у меня возникавшие. Вдруг друг Б. засмеялся, глядя на меня, и воскликнул: «Вы получите дом!»
И это тоже, показалось мне, была шутка, славная шутка вечером за вином. Но шутка превратилась в действительность, и дом, о котором мы тогда для забавы мечтали, стоит, до жути большой и прекрасный, и отдан мне в распоряжение пожизненно. Снова начинаю устраиваться, и снова это делается «на всю жизнь», и на сей раз гак оно, наверно, и будет.
Написать его историю придет еще время, она едва началась. Сегодня на очереди другое. Содвинем стаканы, поглядим в глаза добрым, готовым прийти на помощь друзьям и поблагодарим их. Давайте выпьем за них и за новый дом.
Посещение Вильгельма Раабе
Я знал не очень многих знаменитых людей, да и в большинстве эти знакомства оставались поверхностными, я не искал их, и они мало что для меня значили. В молодости, когда я еще испытывал восторженное желание увидеть тех, кого почитал, и приблизиться к ним, мне никак не представлялся случай исполнить его и для меня бывало уже счастьем, я уже чувствовал себя награжденным и немного посвященным, когда, например, видел на подмостках и слышал из зала прославленного музыканта, скрипачей Сарасате и Иоахима, например. А когда с годами такие случаи могли бы представиться, я еще много лет робел и не решался навестить, к примеру, какого-нибудь знаменитого писателя, отрекомендоваться его коллегой и пристать к нему с профессиональным разговором. А позднее, когда и эта робость прошла или уменьшилась, пропал вместе с другими свойствами молодости и энтузиазм для подобных встреч. Не так много было мужчин и женщин, чьи имена я знал бы издали, с кем жаждал бы познакомиться лично. Кое-кто все-таки имелся. Например, в годы, когда я в Мюнхене бывал на правах друга и сотрудника в редакции «Симплициссимуса» и в издательстве Альберта Лангена, я не раз втайне желал, чтобы там как-нибудь появился Кнут Гамсун и мне довелось бы увидеть его. Но таких желаний было мало, да и эти немногие не сбылись. Я никогда не любил публичности, и мне никогда не было приятно жить в таком окружении, где меня знают как некое имя, некую марку: я всегда стремился жить как можно более частной жизнью и потому никогда не присутствовал ни на каких сборищах «знаменитостей», будь то салон, клуб, бал или банкет; мне было легко уклоняться от этого, я ведь жил всегда далеко в глуши.
Вопреки этим склонностям я в прежние годы, особенно перед войной, чуть ли не ежегодно один-два, а то и три раза поддавался на уговоры и соглашался выступить перед публикой. Делал я это отчасти из желания поездить и потребности в перемене: казалось очень приятным в каком-нибудь прекрасном городе, в Кёльне или Вене, в Страсбурге или Праге, заработать деньги на поездку таким небольшим трудом, как выступление, а заодно и пригубить чашу известности, быть в течение одного вечера почетным гостем. Это бывало часто весьма славно, и я повидал при этом много прекрасных городов, но в целом никакой радости от этого не испытывал: обычно наступало что-то вроде похмелья, я понимал, что совесть моя нечиста. Вот вроде бы и ничего не нарушил, но сделал что-то противное своей природе, пытался приспособиться, а это ведь никогда не кончается удачей. Но все-таки какой-то приятный привкус от этого у меня оставался.
В одну из таких поездок, в 1909 году, я, стало быть, нанес все-таки визит человеку, которого много лет искренне чтил и любил. Я ездил выступать в Брауншвейг и, принимая приглашение, уже знал, что в Брауншвейге живет старик Вильгельм Раабе, и втайне лелеял надежду, что, может быть, увижу его. И вот я был в Брауншвейге, был принят любезными людьми, и, прежде чем я решился спросить, нельзя ли повидать Раабе, там сочли само собой разумеющимся, что я навещу его. Но было одно затруднение: с Раабе обычно встречались в его пивной, а сейчас он был простужен и не выходил. Но о моем желании приветствовать его ему сообщили, и он пригласил меня посетить его на дому во второй половине следующего дня.
Я ходил по чудесному старому городу, отдыхал в промежутках в своей гостинице и все время, со смесью радости и смущения, думал о более чем семидесятилетнем писателе, которого скоро увижу. Я думал о том, что он, собственно, для меня значит и каково, собственно, мое к нему отношение. В юности я прочел его книгу, наполовину понравившуюся мне, наполовину – нет, в ней было что-то витиеватое, почти чудаковатое, вызывавшее у меня то восхищение, то изумление, и что-то северно-немецкое, чуждое мне, и что-то бюргерски-патриотическое, чего я тогда отнюдь не отвергал, но что немного напоминало мне взгляды наших учителей. Потом я забыл его, я открыл Готфрида Келлера, а сразу затем Шторма, а потом Конрада Фердинанда Мейера, которые все уже умерли, но показались мне гораздо современнее и важнее, чем Раабе. Но потом замечание одного друга снова привело меня к чтению Раабе; к тому времени я уже начитался Жан Поля, и теперь, прочитав за несколько лет более десятка книг Раабе, проникся глубоким уважением к этому человеку, единственному действительно поэтическому живописцу Германии между 1850 и 1880 годами, мечтательному сочинителю и упорному критику, строгому и добросердечному любителю своего народа. И еще большее впечатление, чем эти достойные качества, произвели на меня его подспудный юмор, его упорные пристрастия и игры, его приверженность к околичностям и длиннотам, его любовь к странным и трудным характерам, его знание людей. За этой остротой и насмешливостью скрывались, казалось, большая вера, большая любовь к людям. И теперь мне предстояло увидеть этого старого писателя, почти столь же старого, как мои деды, написавшего «Абу Тельфана», «Летопись Птичьей слободы», того, чья «Воробьиная улица» стояла среди книг моей матери уже тогда, когда я научился читать и едва стал разбирать заглавия книг. Почтение к старости и так-то вошло у меня в привычку, то ли меня воспитали в нем, то ли оно было в крови у меня; но к этому почтению прибавлялось еще что-то особое, что выразить можно примерно так: уже с конца юности у меня было такое невысказанное и несколько неясное чувство, что я еще в детстве увидел вечернюю зарю, остаток эпохи, которая с каждым днем уходила все дальше и исчезала. Отчасти, наверно, чувство это находило пищу в некоторых речах моих родителей, дедов и бабок (хотя я и позволял себе вовсю критиковать эти речи), отчасти же оно возникало, по-видимому, оттого, что уже в детстве я видел, как захватывает нашу местность быстро растущая промышленность, во всяком случае, из всех чувств, с какими я думал о Раабе, ни одно не было столь сильным, как то, что он принадлежит к поколению моих дедов и, как они, обладает чем-то таким, воплощает собой что-то такое, чего у нас, младших, нет или что в нас разжижено и наполовину исчезло, несколько другой тип человека, веры, рыцарственности. А Раабе был ведь не просто стариком, принадлежавшим к этому вымершему типу, он был одним из чистейших его представителей, одним из его живописателей и создателей.
Настал час, я пришел в дом Раабе; уже совсем завечерело и смеркалось. Дома я уже не помню, помню только комнату, куда меня провели по лестнице. Там в сумраке кто-то очень высокий, худой зажигал маленькую керосиновую лампу; он повернулся ко мне, по портретам я узнал лицо Раабе, однако же, оно было другим, не таким, как на портретах. Узкая, в длинном халате, высилась его мирная и в то же время торжественная фигура, а с ее высоты на меня взирало старое, в морщинах, насмешливо-умное лицо, очень приятное и приветливое, и все-таки лисье, хитрое, лукавое, серьезное, дряхлое лицо мудреца, насмешливое без ехидства, знающее, но доброе, умудренное возрастом, но, по сути, без возраста, что подчеркивалось и прямизной фигуры, лицо совсем другое и все же схожее с лицом моего деда, из той же эпохи, той же терпкой спелости, почти такой же величавости и рыцарственности, которую смягчала, мелькая, богатая игра старого, испытанного юмора.
Он говорил тихо, сказал, что рад меня видеть, намекнул, что приблизительно знает, кто я, и предложил мне сесть. Сам он тоже сел, но вскоре встал, прошелся, поправил что-то в лампе, и таким он поныне остался в моей памяти – маленькая, сумрачная комната, книги на столе, книги у стен, он стоит, очень высокий и прямой, и смотрит на меня сверху вниз мягкими, очень умными глазами. Он показал мне книгу, лежавшую на столе, которую он как раз читал: это был том воспоминаний Морица Буша, он спросил, знаю ли я что-нибудь об этом, заговорил о Бисмарке, но, быстро заметив мою неосведомленность и поняв, что даже «Мыслей и воспоминаний» я не прочел целиком, с улыбкой отставил эту тему. С улыбкой стоял он, свет лампы тек по нему вверх, и его мягко светившееся лицо одиноко маячило перед полутемными рядами книг.
Я уже давно испытывал любовь к этому старику и теперь был бы не прочь сказать ему, как хорошо знаю многие его книги и как чту его, но это такому хитрому, все уже знающему, старому, достопочтенному волшебнику не так-то легко сказать, еще не будучи произнесено, каждое слово поклонения кажется себе угаданным и высмеянным и застревает во рту. Но об «Абу Тельфане» я все-таки сказал и, по-моему, еще о «Топи». В промежутках он спрашивал меня о том о сем, о моей поездке и довольно подробно о моей семье. Я пришел к нему с одним вопросом, с одной просьбой, но лишь к концу своего визита набрался духу и выложил ее. Мне, сказал я, известно, что он почти сорок лет назад долго жил в Штутгарте, он наверняка знал там Эдуарда Мёрике, так не может ли он мне что-нибудь о нем рассказать.
– О да, Мёрике! – улыбнулся он. – Не очень-то я его любил, по правде говоря.
Я сказал, что сожалею об этом и что я о Мёрике чрезвычайно высокого мнения и многое отдал бы за то, чтобы успеть познакомиться с ним. Да, конечно, сказал Раабе, он вполне понимает меня, и Мёрике был несомненно настоящий, истинный писатель, спору нет; но что касается личных отношений с коллегами, то и в Штутгарте, и в других местах он, Раабе, знал людей, которые были ему все же приятнее. Он был очень нежный и чудаковатый человек, этот Мёрике, сущий недотрога; иногда, будучи чем-нибудь или кем-нибудь раздражен, он просто укладывался в постель и несколько дней не показывался. Нежный человек и несколько мягкий в отношении самого себя – таков он, пожалуй, был. Раабе улыбался про себя, и я с любопытством глядел на него, ясно чувствуя, что вот сейчас он очень ярко вспоминает Мёрике, видит его перед собой, и я многое отдал бы за то, чтобы увидеть картину, вставшую сейчас у него перед глазами. Но видел я только его улыбку, его снисходительную улыбку по поводу Мёрике, тонкого поэта, чудаковатого коллеги, изнеженного шваба. Я видел: между этими двумя писателями дружбы, общения, игры было не больше, чем между Келлером и Мейером в Цюрихе. Я видел или воображал, что вижу: он любил Мёрике еще меньше, чем то высказывал, он, в сущности, терпеть его не мог, но, щадя меня, молодого поклонника Мёрике, не мог сказать это напрямик.
Когда я уходил, а он стоял наверху на лестнице, и так-то рослый, а из-за моего почтения еще огромнее, я, спускаясь, еще не раз поглядывал на него с любовью и восхищением, на того, чья красивая, продолговатая рука написала «Летопись Птичьей слободы» и «Мельницу Пфистера»: прощание далось мне нелегко. На улице уже совсем стемнело, вечером меня ждали в пивной Раабе его всегдашние собутыльники. До условленного часа я бродил по улицам, сидел у себя в номере, пытаясь припомнить все, что он говорил, удивляясь и ужасаясь тому, что уже сейчас, когда слова нашего разговора едва умолкли, я многое из него забыл. Он живо говорил об одном месте в воспоминаниях Бисмарка, но материя эта была мне чужда, я уже сейчас не мог воспроизвести его слова или хотя бы их смысл.
Раабе пригласил меня навестить его снова. Мне потом часто хотелось этого, но я никогда больше не бывал в Брауншвейге. Тогда я должен был поехать еще в один город, я выступил там с чтением, был представлен множеству людей, меня сопровождали и выспрашивали представители прессы, приглашали в разные дома, мне присылали цветы в гостиницу, и все эти почести больше смущали меня, чем радовали. И все время я думал о старом Вильгельме Раабе – с почтением и со стыдом. Ибо подобно тому, как этот старик своим нравом, своими книгами, своим взглядом и словом представлял и еще на короткий срок сохранял самое лучшее из уходящего, исчезнувший тип ума, образования, характера, что-то полусвятое и полуотсталое, так и его слава, его тип известности и знаменитости был совсем иного, более благородного, более безобидного, более невинного и вместе с тем более почтенного рода, чем наша модная знаменитость. Нашего брата каждую неделю приглашало какое-нибудь общество выступить в каком-нибудь городе, нам то и дело присылали газетные вырезки, все газеты и журналы добивались от нас статей, все издатели хотели нас напечатать, все иллюстрированные издания – поместить наш портрет. Можно было от этого защищаться, можно было частично уклоняться, но везде, где этому миру, в котором знаменитости фабрикуются, ты протянул хотя бы мизинец, тебе казалось потом, что над тобой как-то надругались и что ты совершил какой-то промах. Нет, слава Раабе была чем-то совсем иным. Медленно, без внезапных громких успехов, он в ходе десятилетий стал знаменит благодаря длинному ряду книг, благодаря замечательному честному, цельному и самобытному образу жизни – да и само слово «знаменитый» звучало в связи с его именем совсем по-другому. Ведь в действительности, я это прекрасно знал, в литературе и критике нашего времени было очень мало места для Раабе и его славы; о нем мало что знали, и из фельетонных редакторов, забрасывавших меня предложениями, его не читала и десятая часть. Опекать его славу предоставили его брауншвейгской компании и нескольким довольно старомодным провинциальным журналам, издатели тоже не дрались из-за него, многие лучшие его книги переиздавались за десять – двадцать лет всего лишь один-два, от силы три раза, только две из них были распространены в большей мере. Еще опекали его славу его читатели, община главным образом уже пожилых, не читавших современных журналов людей, чье мышление, чьи взгляды я тогда наверняка нашел бы отсталыми. А разве сегодня дело обстоит иначе? Нет, ничего не изменилось – то есть для меня-то все изменилось, и сегодня я тоже прекрасно знаю, что такое слава и успех, и что наша сегодняшняя разновидность славы относится не к людям и не к их творчеству, а к рекордным тиражам, моде, успеху, и что автору, вчера еще очень знаменитому и обласканному, будут уже послезавтра возвращать его стихи за, увы, непригодность те же редакции, что вчера осаждали его просьбами о сотрудничестве. Все это я теперь знаю и уже постепенно приближаюсь к той точке, когда такие вещи принадлежат прошлому и на них смотришь бесстрастно. Но говорить я хотел не об этом, а о Раабе и об особом характере его славы, о том, что она с тех пор, по сути, нисколько не изменилась. Сегодняшние газеты и сегодняшняя литературная биржа знают о Раабе так же мало, как знали о нем тогда, лет двадцать пять назад. Его время от времени, с каким-то маленьким разграничением, называют в связи с Готфридом Келлером. У него есть круг почитателей, несколько раз выходил раабевский календарь; но у всех этих знаков почтения к давно умершему была какая-то локальная, провинциальная окраска. Для нынешних литературных людей Раабе принадлежит как бы к разделу «старинное национальное искусство». Однако за годы, прошедшие после моего брауншвейгского визита, успело кануть в прошлое и бесследно исчезнуть из памяти множество повествователей и драматургов, каждый из которых во время своего апогея был во сто раз знаменитее и удачливей, чем Раабе, а Раабе, хотя он никогда не интересовал массу, занимает свое прочное место и пользуется той тихой славой, что приходит намного позднее успехов. Его коллега Мёрике, которого он недолюбливал, испытал это в еще большей степени: «успеха» у него вообще не бывало, он умер в почете, но отнюдь не знаменитым или превозносимым, да и смерть его не была замечена, и так шли годы и десятилетия, и когда потом все-таки разнесся слух, что жил в Швабии один маленький священник и учитель женской гимназии, который писал бессмертные стихи, и когда Мёрике вошел в ряд принимаемых всерьез больших поэтов, тогда ему, окажись он еще жив, было бы уже лет сто.
Этой степени славы Раабе еще не достиг. История литературы говорит о нем с уважением, она знает его, она приняла его к сведению; но уникальность и глубина его творчества, истинное чудо его личности и его слова все еще, по сути, не познаны, не распознаны как вечная ценность, из его современников, например, Шторм, да и Фонтане вошли в учебники литературы, хрестоматии и т. п. увереннее и прочнее, чем он. Когда-нибудь, может быть, с ним произойдет то же, что с Мёрике, которого он знал как обидчивого, нежного господина и не очень-то жаловал и которого мир затем объявил одним из великих поэтов. Его, может быть, все-таки еще распознают: он претендует на это, ибо обладает тем смущающим критику излишком, тем добавочным измерением, которые с таким трудом укладываются в систему, а со временем все же большей частью получают признание. Конечно, он не может войти в антологии, как Мёрике; его славу нельзя будет подтвердить цитатами из стихов, познать его всегда будет несколько труднее, он написал много и очень разное, его читателю нужно время, нужно терпение, нужно медленно вникать в него – иначе никогда не проникнуть в глубины этого творчества. Но на примере его предшественника Жан Поля видно, что и такое творчество бывает очень жизнестойким и что писатель, по поводу которого каждый университетский профессор литературы тридцать лет подряд морщил истлевший тем временем нос, может быть снова увешан всеми венками славы. Хорошо, что этих строк о нем он не может прочесть. Да я и не написал бы их, будь он жив. Как насмешливо-умно, как несказанно хитро прищурился бы он и, полузакрыв глаза, посмотрел на меня сверху вниз!
Маленькое послесловие
В моем рассказе одно место следует считать сомнительным, поскольку основано оно, по-видимому, на ошибке памяти – то ли моей, то ли Раабе. Раабе, как я позднее обнаружил, много раз ясно свидетельствовал, что не знал Мёрике лично.
Во время моего визита Раабе было лет шестьдесят восемь, а от моего визита до написания мемуарной заметки прошло опять-таки примерно двадцать четыре года. Отчего бы ни возникла эта ошибка, пусть читатель исправит ее. Что касается других высказываний Раабе о Мёрике, то за надежность моей памяти могу поручиться. Его мнение о Мёрике основывалось, таким образом, не на личном знакомстве, а на слухах.
Из воспоминаний об Отмаре Шёке
Я охотно принимаю предложение записать некоторые воспоминания о встречах с Отмаром Шёком. Только я плохой мемуарист, ибо у меня нет для этого одного очень важного дара – надежности памяти. Память моя недурно сохраняет какие-то подробности, но вся история отношений в своей непрерывности от нее ускользает: я сохраняю картины, но забываю их время, то есть их даты и последовательность.
Знакомством с Шёком я обязан нашему другу Альфреду Шленкеру в Констанце. Тогда Шёку было едва ли за двадцать, в Цюрихе поставили его «Ямщика», посвященного моему другу Альберту Вельти, и я еще многое помню из этого милого юношеского сочинения, которого не слышал лет уже двадцать пять. Сольные партии пел тогда тенор Флюри, я познакомился с ним на том представлении, а потом несколько лет часто встречал его в ближайшем. окружении Шёка. Он мне не особенно понравился, но ямщика он пел великолепно, а милая проникновенность и невинная мелодичность этого произведения, вместе с текстом Ленау и посвящением Вельти, сразу же покорили меня своей романтической и идиллической стороной. Эта музыка была близка мне, как Шуберт, и, хотя в то время я уже носил в себе немало проблематичного, именно музыка не была тем искусством, где я искал подтверждения своих проблем. В музыке я был скорее консервативен, как большинство поэтов, а к музыкальной романтике у меня тогда было к тому же еще юношески-влюбленное отношение, которое я утратил лишь много позже. И первое произведение Шёка, мною услышанное, показалось мне еще менее проблематичным и еще более оторванным от времени, чем оно было в действительности; сказались и почти десять лет, на которые я был старше Шёка, и потому в первый момент, хотя я сразу же проникся к нему симпатией и почувствовал его силу, я увидел его сплошь с этой невинной стороны. Так продолжалось, впрочем, недолго, и уже после нескольких встреч в наших беседах главенствовала одна возлюбленная, демоническая тень, к которой мы оба пылали любовью и о которой говорили то и дело, – Гуго Вольф.
В те годы моей довольно отшельнической и сознательно враждебной городу жизни на Унтерзее я, правда, не оставался без музыки, моя жена много и хорошо играла на пианино, но у меня не было друга-музыканта, с которым можно было бы не только говорить о музыке, но который мог бы, обобщая, сокращая, а при случае объясняя, исполнять мне музыкальные произведения всякого рода. Шёк, с которым я быстро и горячо подружился, умел это делать таким универсальным и притом таким восхитительным образом, что ничего подобного я и до сих пор, несмотря на множество знакомых музыкантов, не встречал ни разу. И годами он был для меня привратником и хранителем сокровищ мира, который мне иначе никак не довелось бы столь непосредственно и свободно обозревать. Любой друг благодарно вспоминает такие часы, когда Шёк у себя дома или на каком-нибудь трактирном пианино исполнял ему «Фигаро», «Волшебную флейту», россиневского «Цирюльника» или «Коррехидора», а то и «Летучую мышь» или песни Шуберта и Вольфа, давая легким намеком все голоса, подчеркивая характерные темы, намекая даже на оркестровку, словом, взглядами и жестами рассказывая и в то же время объясняя ход каждого произведения. Очень большая часть того, что я из хорошей музыки в те годы ближе узнал и из чего составил себе представление о существе музыки, пришла ко мне из этого источника. Многие произведения, которые в театре или концертном зале мне привелось слышать лишь один-два раза за жизнь, я слышал от него снова и снова, особенно нашего тогдашнего любимца, «Коррехидора». От потребности отблагодарить за дары делом я в те первые годы нашей дружбы написал даже для Шёка текст романтической оперы и не жалею ни о том, что сделал это, ни о том, что мой текст ему не понадобился.
Шёк часто навещал меня в моей деревне на Унтерзее, и, когда мы, очень много времени спустя, нет-нет да вспоминали в разговоре те его приезды, у него иногда при мысли о той поре появлялось мечтательно-просветленное выражение лица. «Тогда, – говорил он задумчиво, – у тебя всегда бывало меербургское в погребе, чудесное вино, помнишь?» Верно, мы выпили вместе не одну кружку этого меербургского. Я и сейчас еще вижу, как Шёк в те гайенхофенские вечера вставал в паузах беседы с лавки у стены и шел в соседнюю комнату к пианино, чтобы сыграть какую-нибудь песню Вольфа или новую собственную, а то и штраусовский вальс.
В предвоенные годы я привык каждую весну ездить ненадолго в Италию, и в этих моих поездках, обычно в верхне-итальянские или тосканские городки, Шёк участвовал. Однажды мы провели несколько дней – кроме Шёка и меня, там был еще художник Фриц Видман – в citta alta[1] в Бергамо и по вечерам сиживали в маленьком, довольно обшарпанном кафе, хозяин которого был музыкант. В этом сумрачном трактире стояло старое, видавшее виды четырехугольное пианино с дребезжащим звуком и несколькими лопнувшими струнами, к тому же сильно расстроенное. На этом пианино Шёк играл нам добрые половины опер или целые оперы, семья хозяина слушала его восхищенно; однажды захотелось испробовать этот инструмент и нашему спутнику Видману, он сел за него и храбро ударил по клавишам, но сразу же в ужасе отскочил, я тоже попробовал, взял несколько нот, но совершенно невозможно было извлечь из этой развалины хоть какое-то подобие звука. А Шёк все-таки умудрялся играть нам на ней, он заколдовывал эту штуковину, он вызывал духи мастеров, и под его руками славный старый ящик делался опять фортепиано и исполнял Россини и Верди, поражая и приводя в восторг даже своего старого хозяина, бывшего музыканта. Вот пример шёковской силы внушения; сломанное ли пианино завораживал он или слушателей – как бы то ни было, волшебство удавалось.
В другой поездке, тогда с нами был Фриц Брун, мы увидели, как молодой Шёк победоносно заколдовал еще один аппарат. Это было в Орвьето. Мы осмотрели собор и Синьорелло, спустились в самый низ Поццо ди Сан Патрицио и теперь отдыхали в кафе на пьяцце. Там стояла какая-то занятная машина, механическая лотерея. В этом автомате были щелки для опускания двадцатираппеновых монет. В зависимости от выбора отверстия можно было, если повезет, получить за одну монетку две или пять, или десять, или даже двадцать и сорок таких же. Большие цифры выпадали, конечно, соответственно реже, и присутствовавшие завсегдатаи уверяли нас, что иные из них уже выигрывали пять, десять, а то даже и двадцать, хотя, конечно, делать ставку на двадцать было довольно рискованно. Сорок, говорили они, тоже однажды выпало, но человек разумный ставить на этот номер, конечно, не будет. Мы постепенно заинтересовались, оторвались от своего вермута и стали рассматривать аппарат, наконец разменяли два-три франка и принялись вталкивать в пасть машины наши монетки, которые она с аппетитом пожирала, а однажды даже изрыгнула две или пять. Тут Шёк заявил, что, играя, надо идти на все, поставил на сорок, опустил монету и нажал кнопку. Машина загрохотала, и в плошку, похожую на раковину, и за ее края в кафе хлынули водопадом монеты, сорок штук. Хозяин вскочил, гости остолбенели. Шёк обеими руками собрал монеты и рассовал их по карманам. Мы расхохотались и поздравили его, заказали еще вермута, и, прежде чем покинуть кафе, он еще раз в шутку опустил в прорезь монету, поставив на сорок, и аппарат с громыханьем изверг снова сорок монет. На следующее утро мы пришли снова, и Шёк в третий раз сделал то, чего ни один разумный человек не сделает, и еще раз выиграл сорок монеток. Теперь пора было уезжать, завсегдатаи кафе и соседи забеспокоились. По дороге на вокзал какой-то незнакомец вежливо дотронулся до моего рукава, указал на шагавшего впереди Шёка и шепотом спросил: «Скажите, не этот ли молодой блондин выиграл три раза по сорока?» […]
Как-то Шёк проводил лето в уединенном маленьком пансионе в горах под Цюрихом, и я однажды навестил его там. Шли дожди, выходить на воздух случалось редко.
В доме была девочка-школьница, Шёк был очень расположен к ней и уделял ей много внимания, показывал ей разные мелодии, я слышал, как он разучивал с ней на два голоса песню «А чьи овечки лучше?». […]
Там я узнал моего друга и как художника. Я, правда, давно знал, что он иногда пишет красками, и нисколько этому не удивлялся, ибо в доме его отца это было не диво, да и в поездках мы часто и много говорили о живописи. Теперь он говорил мне о ней и на лоне природы, то есть мы, бывало, рассматривали какую-нибудь местность с точки зрения того, как ее передать живописью, и тут, как во всем, Шёк отталкивался не от теорий и мыслей, а от чувственного. Он любил говорить о заманчивости и муке, которые заключены в поисках какого-то оттенка; а однажды, говоря о том, какое, наверно, чувственное наслаждение доставляло итальянским мастерам фресок писание по свежей штукатурке, он сопровождал эти слова взмахами руки, словно бы клавшей широкий и сочный мазок, и одновременно причмокивал, словно слышно было, как жадно впитывает штукатурка краску. Здоровым и радостным гениям дана способность выражать многое из того, что они хотят выразить, именно такими средствами, в этом состоит большая доля их обаяния, и у Шёка кульминацией разговора нередко бывал как раз тот момент, когда не поддающееся слову передавалось мимикой или звуковой живописью. Я ценю такие блестки, они покоряют меня, как всех; но Шёк поражал и подкупал меня всегда не самим этим умением, а той мерой, какую он, пользуясь им, соблюдал. Помимо первой симпатии привлекала меня к Шёку снова и снова не наивная чувственная гениальность его ощущений и его манеры их выражать – это удавалось и другим, особенно женщинам это часто удавалось чудесно, а еще лучше удавалось это способным животным. Нет, восхищали меня в Шёке и заставляли так высоко его ставить соседство и напряженность противоположностей в его натуре, сочетание силы со способностью к страданию, вкус к самым наивным радостям наряду со вкусом к духовному, большая и небезболезненная тонкость личности, чувственная мощь в союзе, а то и в борьбе с мощью духовной. Этот человек умел не только великолепно музицировать и играючи вживаться во все другие искусства, не только очаровывать женщин и с наслаждением участвовать в каком-нибудь званом ужине (даже в три часа ночи, после обильного ужина и множества стаканов вина, он мог с зажженной сигарой во рту пройтись через весь зал на руках!) – нет, он умел и отдавать себе отчет в своих способностях, в своих конфликтах и проблемах, он мог иногда (это звучит смешно, но это так) именно думать, а это у артистов такая же редкость, как и у прочих людей. То, что душевно-чувственное начало было в нем в конечном счете все же сильнее духовного, что сознание никогда у него всерьез не мешало инстинкту и уж подавно не перевешивало его, – это тоже признак его здоровья и его силы, он ведь музыкант, не философ. Но он обладал способностью к большой тонкости, к одиночеству, к отвлеченности, к страданию про себя, он был не только славный, очаровательный малый, которого больше любят, чем принимают всерьез, и не только музыкант, но и творец. Все это делало нашу связь постоянно живой, и если мы порой и сердились друг на друга, то наше взаимотяготение вскоре возникало между нами опять.
Но я отвлекся, я хотел сказать еще кое-что о шёковской живописи. В тех разговорах он был сторонником величайшей деликатности и тщательности в поисках оттенков и отклонял ребяческую или экспрессионистскую бесцеремонность резких, почти несмешанных красок. «Смотри, – говорил он, – там вдали ты видишь предгорье с освещенными лугами. Они кажутся зелеными, правда? Они и есть зеленые, но в бесконечном разжижении, и видим мы их, собственно, не такими уж и зелеными, но мы знаем: луга зеленые, а потому и видим их зелеными». Тут он наклонялся, срывал листок какого-нибудь лугового растения и закрывал им часть вида. «Вот это зеленый цвет! – восклицал он. – Гляди, как бьет в глаза! Рядом с ним эта даль почти бесцветная». Он считал большим наслаждением подбирать на палитре оттенки, пока не наступит момент, когда они совпадут точь-в-точь.
С давних лет у меня есть два пейзажа Шёка, две крошечные, написанные маслом картинки. За все эти годы они не потеряли для меня прелести и ценности, и не раз бывало, что навещавшие меня художники, которые без особого любопытства рассматривали картины на моих стенах, вдруг оживлялись и спрашивали имя художника, увидев какую-нибудь из этих картинок. Одна из них, очень ранняя, поражает каким-то странным звучанием и ставит перед собой какую-то особую задачу: это пейзаж, глубоко врезающаяся в горы альпийская долина под вечер, большей частью уже в тени, и в этом молчаливом пейзаже царит совершенно особенный свет: на нескольких вершинах и на части переднего плана еще светит солнце, а на небе над еще тепло освещенными верхушками скал уже взошла перевалившая за половину луна; ее холодная белизна еще составляет контраст всем краскам земли, но уже делает небо холоднее и влияет на тени. Эта крошечная картина – ее можно счесть в зависимости от желания и наивной и изысканной – заставила задуматься уже не одного зрителя. И когда мне, долгие годы отделенному от Шёка пространством, а того пуще его уже более чем гениальной ленью писать письма, когда мне вдруг не хватает его или когда я снова бываю разочарован отсутствием какого бы то ни было ответа, я по привычке смотрю на одну из его картин и при этом представляю себе его.
Вторая его картина, висящая у меня, осталась от того лета в горах под Цюрихом, это вид на Швейцарию, под хмурым серым небом в дожде царит то настроение, которое Готфрид Келлер описал так:
Тихий дождливый день, Мягкий, хмурый и все же такой ясный, Что через сумрак может прорваться Белое, странное солнце.Темному лесу на переднем плане составляет контраст бледная ясность уходящего вдаль простора, ярко и все же устало освещенного лучами белого, странного солнца, вдалеке, на фоне светлой полоски неба, воздушно, но ясно высятся оба Митена. Эта картина – тоже целая поэма, она мала, как и та, другая, но, хотя она написана кончиком тонкой кисти, письмо полно свободы и игры, лишено робости.
Обе картины неотъемлемы для меня от образа моего Друга, как и его почерк, как некоторые шутки и острые словечки, торопливо написанные с дороги на открытке с видом. Как-то он был в Лукке и прислал мне оттуда открытку, не написав на ней ничего, кроме первой фразы из «Мраморной статуи» Эйхендорфа.
И тут мы касаемся темы писателей. Это большая тема, но сегодня я не смогу рассказать об этом. Я не раз говорил с Шёком о писателях и их сочинениях, чаще всего о текстах его песен, и должен заметить, что его чуткость к литературе и его суждения о ней часто радовали меня, подтверждая мое мнение, и ни в одном важном пункте не разочаровывали.
Прибавлю еще один, последний листок к этим воспоминаниям. Это было в апреле 1916 года, в разгар мировой войны, я принял приглашение прочитать лекцию в Винтертуре и отправился туда; из Берна, где я тогда жил, я поехал в Цюрих, собираясь вечером двинуться дальше к друзьям в Винтертур и переночевать там, лекция была назначена на следующий день. В Цюрихе у меня были всякие дела, Шёка я в тот раз не мог навестить. Для меня началось уже то страшное время, когда я не выносил соприкосновений с прекрасным, прежде всего с музыкой. Брун в Берне часто очень досадовал на меня, когда приглашал меня на концерт, а я уклонялся. Но музыка была для меня тогда самым сильным, самым непосредственным напоминанием обо всем нежном, прелестном, священном, о чем мир теперь и знать не желал. Войну я кое-как еще выносил, потому что нашел в ней место, где мог воображать, что отстаиваю человечность и помогаю лечить раны; но музыки я уже не выдерживал, несколько музыкальных тактов начисто разрушали весь порядок, всю дисциплину, которые я силился соблюдать, и будили нестерпимое желание убежать из этого мира и от этой войны.
Усталый, недовольный своей поездкой и своей затеей, я к вечеру явился на цюрихский вокзал, чтобы взять свой чемоданчик и поехать дальше. Я пришел рано и некоторое время слонялся без дела по вокзалу, немного довольный, что проведу хотя бы вечер у очень милых друзей, но куда более подавленный, чем довольный. Подавляло многое, подавляло мир, Швейцарию, мою собственную маленькую жизнь, война оставила мне мало что, особенно мало что от смысла моей жизни и моих дел, мы дышали ядом вместо воздуха, пили горе и страх вместо воды, ели тоску вместо хлеба. Итак, я слонялся, предаваясь своим бесполезным мыслям, как вдруг почувствовал, что на плечо мне легла чья-то рука, я встрепенулся и увидел перед собой Шёка. Он приветливо спросил меня, вправду ли я собираюсь уехать, ведь лучше остаться на вечер в Цюрихе и провести его с ним. Я засмеялся и сказал, что об этом и думать нечего, меня ждут в Винтертуре, и поезд мой скоро пойдет.
Тут он как-то значительно посмотрел на меня и сказал с большой, проникновенной сердечностью: «Нет, нет, не уезжай в Винтертур, нам надо с тобой поговорить».
В этот миг я ощутил, что меня ждет что-то особенное и скверное, я почувствовал, как во мне растет какая-то тоска, какой-то холод, которых я сам не понимал, и сказал: «В чем дело? Скажи мне сейчас».
И тогда он тихо сказал: «Знаешь, твой отец умер».
Я ничего не подозревал, известие это было совершенно неожиданно. Сразу после моего отъезда оно пришло в Берн, моя жена передала его Шёку, и он уже несколько часов искал меня.
Я не поехал в Винтертур, а поскорей вернулся в Берн, ибо поехать в Германию и еще раз увидеть отца перед похоронами было тогда непросто, мешали война, закрытая граница и множество маленьких и больших препон. Но в тот миг, когда надо было вынести первый испуг и первую боль, со мною рядом был друг. За это я был благодарен ему, и благодарен поныне.
Воспоминания о Гансе
К незабываемым мгновениям жизни принадлежат и те немногие, когда человек словно бы взглядывает на себя со стороны, внезапно замечая в себе черты, которых вчера еще вроде бы не было или он не знал их за собой: мы испытываем легкий шок и испуг, обнаружив, что вовсе не остаемся всю жизнь одинаковыми, неизменными, каковыми себя по обыкновению считаем; миг – и рассеиваются чары этого сладостного обмана, и мы видим, как изменились – выросли или высохли, расцвели или увяли, к ужасу своему или удовлетворению мы постигаем, что и сами вовлечены в бесконечный поток развития, изменений, непрестанно истлевающей бренности; о существовании сего потока мы отлично осведомлены, но почему-то всегда исключаем из него себя самих и некоторые свои идеалы. И если б не возвращались мы к своей спячке, если б эти мгновения пробуждения длились не секунды или часы, а месяцы или годы, мы не смогли бы жить, просто не выдержали бы; к тому же большинство людей, по-видимому, и не догадываются об этих мгновениях, об этих секундах пробуждения, а живут себе всю жизнь в башне своего якобы неизменного «я», как Ной в ковчеге, видят, как проносится мимо поток жизни, он же поток смерти, видят, как уносит он незнакомцев и друзей, кричат им вслед, оплакивают их и верят, что сами-то они навсегда останутся на твердом уступе, на берегу, откуда будут вечно взирать на мир, не подвластные потоку, не умирая вместе со всеми. Всякий человек – эпицентр мира, вокруг всякого человека мир, как кажется, послушно вращается, и каждый день всякого человека есть конечная, высшая точка мировой истории; позади увядшие и сгинувшие в тысячелетиях народы, впереди и вовсе ничего, а весь чудовищно громоздкий механизм мировой истории, как представляется, служит одному лишь настоящему моменту, пику современности. Человек примитивный воспринимает любое посягательство на это ощущение – ощущение того, что он эпицентр, что он пребывает на берегу, в то время как прочих увлекает поток, – как угрозу себе, он отказывается от пробуждения и вразумления, он воспринимает всякое прикосновение действительности и вообще разум как нечто враждебное и ненавистное; ожесточенный инстинкт отвращает его от тех, кого как недуг поражает прозрение, – от ясновидцев, философов, гениев, пророков, одержимых.
Таких мгновений пробуждения или прозрения, как я теперь вспоминаю, немного наберется и в моей жизни, и почти все они потом растворялись в потемках памяти, засыпались пылью времен. Однако некоторые из них, пришедшиеся на юные годы, оказались ярче других. Разумеется, когда подобные предостережения посылались мне позже, я был умнее, опытнее, более способен на глубокомысленные или связно выраженные умозаключения, но само переживание, само биение пульса в эти моменты пробуждения в юности было сильнее и внезапнее, больше потрясало душу и сердце. И если вдруг теперь к человеку восьмидесяти лет подступит архангел и заговорит с ним, то престарелое сердце забьется с не меньшим смущением и блаженством, чем оно билось когда-то в груди юноши, впервые поджидавшего вечерком у калитки какую-нибудь Берту или Элизу.
То душевное событие, о котором я теперь вспоминаю, длилось не минуты даже – секунды. Но в секунды пробуждения или прозрения видится многое, и, когда вспоминаешь или пишешь о них, тратишь времени – как и на описание сна – намного больше, чем длилось само событие.
Случилось это в отчем доме в Кальве, в рождественский вечер, в празднично убранной «красивой комнате». На высокой елке горели свечи, а мы только что допели вторую песню. Миг самый торжественный уже миновал. Евангелие отчитали, то есть это отец, встав с Евангелием в руках перед елкой, выпрямившись во весь рост, наполовину прочел, а наполовину продекламировал наизусть строфы из жизнеописания Иисуса: «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего…»
То была сердцевина нашего праздника, его сокровенная суть: торжественно звучал взволнованный голос отца, мы замерли вокруг елки, зачарованно поглядывая в угол комнаты, где на полукруглом столе посреди бутафорских скал и болот был воздвигнут град Вифлеем; нас переполняло радостно-нетерпеливое ожидание скорой раздачи подарков, но притом что-то и омрачало настроение, как во время всякого праздника, когда сознание такого противоречия между нашим миром и царством Божьим, между радостью земной и небесной немного все портит, но и как-то возвышает и облагораживает душу. Правда, на Рождество Господа нашего Иисуса противоречие это не было таким сильным, как на Пасху, тут радость была не только дозволена, но вроде как и вменялась в обязанность; все же в ней престранным образом смешивалось слишком уж разное: и что в вифлеемском хлеву родился Иисус, и что на елке горят свечки и пахнет пряниками и марципанами, выпеченными в виде звезд, и что сердце так нетерпеливо прыгает, желая поскорее узнать, в самом ли деле на столе лежит то заветное, чего ждешь не одну неделю. Что поделать, все это тоже относится к празднику – робкое смущение с едва уловимым привкусом не совсем чистой совести, так же как свечи и песни. Когда в доме праздновался чей-нибудь день рождения, то торжества всегда начинались с песни, в которой содержался вопрос-сомнение:
Да и радость ли это — Родиться на свет человеком?Радость, конечно, радость, несмотря ни на что, и ребенком я просто не замечал этого знака вопроса, будучи убежден, что «родиться на свет человеком» дело куда как приятное, особенно когда у тебя день рождения. Вот и сегодня, в день рождения Христа, все мы были в радостном настроении.
Евангелие прочитали, вторую песню спели, и, еще пока пели, я успел разглядеть на краешке стола то место, где лежали предназначенные мне презенты. И вот настал миг, когда каждый направился к своим подаркам, матушка вела служанок к предназначенному для них месту. В комнате стало тепло, воздух полнился трепетанием свечей, запахами воска и смолы да сильным ароматом печений. Служанки оживленно перешептывались, ощупывая свои подарки и показывая их друг другу, младшая сестра моя при виде своих издала истошный вопль ликования. Было мне тогда лет тринадцать или четырнадцать.
Я, как и все, отвернувшись от елки и встав лицом к подаркам, отыскал глазами свои и двинулся к ним. На пути моем был мой младший брат Ганс, стоявший у низенького столика с подарками для малышей и разглядывавший то, что ему досталось. Скользнул взглядом по его подаркам и я: самым роскошным из них был набор керамической посуды – забавные лилипутские тарелочки, кувшинчики, чашечки, смешные и трогательные в своей изысканной малости – каждая вещица была меньше наперстка. Вот над этим карликовым сервизом, вытянув шею, и стоял мой братец, и, проходя мимо, я на секунду задержал взгляд на его личике – совсем еще детском, он был пятью годами младше меня, – и вот в течение полувека, которые истекли с тех пор, лицо его не раз представало мне именно таким, каким открылось в ту минуту: то был тихо сиявший счастьем и радостью, озаренный легкой полуулыбкой, просветлевший и зачарованный детский лик.
Вот, собственно, и все впечатление. Оно улетучилось, едва я прошел мимо к своим подаркам и погрузился в их созерцание, однако, что я в тот раз получил, не помню, тогда как Гансовы горшочки врезались мне в память навсегда. Сердце хранит их образ – в нем что-то шевельнулось и вздрогнуло, как только взгляд мой остановился на личике брата. Первым движением сердца была сильная нежность к малышу Гансу, смешанная, однако, с ощущением дистанции, некоего превосходства, ибо блаженное просветление при виде глиняных безделушек, которые можно было за гроши купить в любой лавке, казалось мне хоть и милым и трогательным, но слишком уж детским. Однако следующий же удар сердца нагнал противоположные чувства, то есть в ту же секунду явилось во мне и презрение ко всем этим чашечкам и кувшинчикам, как к чему-то недостойному, чуть ли не пошлому, а еще более недостойным представилось мне мое чувство превосходства над малышом, который способен был на такую самозабвенную радость и для которого Рождество, чашечки и все прочее обладало еще волшебной силой, непререкаемой, как святыня. А я все это уже утратил – вот в чем был главный смысл события, вот что будоражило и пугало: во мне зародилось представление о прошлом! Ганс был ребенком, а я вдруг узнал, что я не ребенок больше и никогда им не буду! Гансу его столик с подарками представлялся райскими кущами, а я не только не чувствовал больше ничего подобного, но с гордостью осознавал, что слишком вырос для этого, – с гордостью, но и почти с завистью. Я смотрел теперь на своего братца, который только что был со мной одно, как бы со стороны, сверху вниз, критически и в то же время стыдился того, что мог таким образом относиться к нему и его глиняной посуде, колеблясь между сочувствием и презрением, между превосходством и завистью. Один лишь миг создал эту дистанцию, вырыл эту глубокую пропасть. Я вдруг увидел и понял: я больше не ребенок, я старше и умнее Ганса, но и – во мне больше холодности и зла.
Ничего не случилось в тот рождественский вечер, кроме того, что проклюнулась во мне толика взрослости, причинив некую боль, что сомкнулось в процессе становления моего «я» одно из тысячи колечек, но на сей раз, в отличие от многих прочих, произошло это не в темном неведении – на какое-то мгновение сознание мое проснулось и запечатлело этот миг; я не понял еще, но противоречия моих ощущений мне уже отчетливо намекнули, что нет роста без умирания. Словно лист упал с древа в тот миг, отвалилась сухая чешуйка. Все это происходит во всякий час нашей жизни, ибо несть конца становлению и увяданию, да только крайне редко сознание наше бодрствует, замечая все это. С той секунды, как я увидел озаренное восторгом лицо брата, я узнал о себе и жизни целую бездну такого, о чем и не догадывался, еще входя в комнату с ее праздничными ароматами или распевая вместе со всеми рождественскую песню.
Я потом часто вспоминал обо всем этом, всякий раз удивляясь тому, насколько точно уравновешены были в памятном переживании противоположные чувства: возросшему самосознанию соответствовало смутное чувство вины, чувству повзросления – чувство утраты, превосходству – терзания отягченной совести, насмешливой отстраненности от младшего брата – потребность просить у него прощения за это, воздавая должное его невинности. Звучит все это как-то очень уж запутанно и непросто, но в моменты пробуждения мы и на самом деле менее всего просты, перед лицом голой истины мы всегда теряем уютное чувство безусловной веры в самих себя, теряем уверенность, свойственную спокойной совести. В такие моменты человек способен убить скорее себя, чем кого-либо другого. В такие моменты человек особенно уязвим, ибо ничем не защищен от вторжения истины, а научиться любить истину, воспринимать ее как жизненную необходимость – для этого потребно многое, ведь человек, в конце концов, существо смертное и по одному этому глубоко враждебен истине, которая, увы, никогда не бывает такой, какой нам желалось бы ее видеть, она всегда неподкупна и неумолима.
Так и мне открылась она в ту секунду пробуждения. И пусть я мог забыть о ней секунду спустя, пусть мог потом сгладить и приукрасить ее по общелюдскому обыкновению. Все же какая-то яркая вспышка или, скорее, трещина на гладкой поверхности жизни, какой-то испуг или предостережение в памяти запечатлелись. И хранятся в ней в чистом виде, без приукрашиваний и перетолковываний: испуг, вспышка.
Сам еще почти ребенок, я вдруг воочию увидел перед собой свое увядшее детство – в личике брата, это было явление, а те размышления и умозаключения, которым я предавался в последующие часы и дни, были как сползающая с него шелуха. Само же явление было по крайней мере прелестным и милым, ведь то, что я увидел и от чего разверзлась на какой-то момент моя душа, было картинкой чудесной и в краткости своей благородной – мне предстала сама просветленность детского лика вообще. И все же, повторяю, действие этой картинки можно сравнить со вспышкой или испугом, всегда сопутствующим такому мигу пробуждения, ибо у истины миллионы ликов, но сама истина одна. Мне показали, что малышка Ганс обладает чем-то прекрасным и драгоценным, что я утратил, чего я лишился, что было, может быть, самым лучшим и единственно важным во мне, ибо восторжествует некогда детская благость, а взрослым будет заповедано у врат Царства Божьего: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети…» Я утратил невинность и счастье и заметил это лишь потому, что увидел их в глазах другого человека. Этот опыт принес мне знание: чем мы владеем, того не замечаем, о том даже не ведаем. И я был ребенком, не зная об этом, а теперь вот прозрел. В лучистых, нежно озаренных улыбкой глазах я узрел счастье, которое даровано только тем, кто ничего не знает об этом. Оно выглядело лучезарным и неотразимо обаятельным, это счастье. Но в нем было и нечто, над чем можно было посмеяться, почувствовать свое превосходство, в нем была детскость, которую я склонен был рассматривать как наивность, почти как глупость. Оно, это счастье, вызывало зависть, но и насмешки, и если обладать им я больше не мог, то уж насмешки и критика оставались при мне. Ученики Спасителя, должно быть, так же иной раз смотрели на прославляемых им детей, как я на Ганса, то есть с завистью, но и с насмешкой. Они чувствовали себя взрослыми, умными, опытными, знающими, они чувствовали свое превосходство. Да только взрослость, ум, чувство превосходства не дают счастья и не сулят блаженства и не вводят в Божие царство.
Вот тот осадок горечи, что остался во мне после этой вспышки пробуждения. Но эта горечь была еще не вся. Устыжающий урок заключал в себе мораль для меня самого, но была и другая мораль – для всех: она язвила душу в первый момент не так сильно, но зато и действовала глубже – такова уж природа истины, всегда неприятной и непреклонной. А дело было в следующем: ведь и то счастье, которым обладал Ганс и которым так светилось его лицо, ведь и оно не было долговечным, ведь и ему суждено было увянуть, пропасть, ведь и я им владел, да утратил, так будет и с Гансом, владеющим им теперь. И оттого, что я это знал, я испытывал к Гансу – помимо зависти и насмешки – еще и жалость. Жалость не обжигающую и порывистую, но кроткую, щемящую, какую можно почувствовать к цветам на лугу, обреченным секире косца.
Повторяю: разумеется, те понятия, с помощью которых я пытаюсь описать и истолковать то, что происходило в моей душе, тогда еще не были мне доступны. Я еще не умел анализировать свои состояния, хотя приступил к этому в тот же вечер и продолжаю заниматься этим до сих пор, вплоть до того момента, как сел писать об этом. Многие мои мысли по этому поводу возникли, надо полагать, значительно позднее, например мысль о смерти, которой у меня тогда наверняка не было. Конечно, при виде улыбающегося брата у меня мелькнула мысль о том, что все проходит, но текучесть и смерть в глазах ребенка далеко не одно и то же. Что мое детство не вечно, что лучшее в нем уже навсегда отошло – все это миг пробуждения сказал мне достаточно внятно, как сказал и другое: что и братец мой потеряет все это, что общий закон распространяется и на него. Но о том, что закон этот именуется смертью, у меня понятия еще не было, потому что о смерти я еще ничего не знал и в нее не верил. О бренности же мне было хорошо известно из наблюдений природы и чтения поэзии; то, как падают листья, я наблюдал уже достаточно часто. А что всякое «пробуждение», всякое соприкосновение с действительностью и ее законами означает, среди прочего, и соприкосновение со смертью – этого я еще не знал, хотя уже как-то по-своему, с содроганием души, догадывался.
Когда я начинал эти заметки, то хотел лишь воскресить в воображении тот миг Рождества в отчем доме, о котором я уже рассказал, и сделать это письменно, потому что, когда пишешь, те же самые мысли или события душевной жизни предстают вдруг в ином свете, являют новые стороны, вступают в новые связи. Теперь, однако, я вижу, что то маленькое событие хоть и стоит во всей своей отчетливости перед моим внутренним взором, как если бы случилось вчера, но другим людям, посторонним, крайне трудно дать о нем представление. Даже если бы я был великим писателем, я бы не смог так описать сияние счастья и невинности на личике моего брата, чтобы это описание стало чем-то значительным и для другого, для читателя. Ведь если и есть смысл делиться этим воспоминанием, то вовсе не ради того, чтобы поярче описать сияющее лицо Ганса, а ради того, чтобы сообщить, что было со мной самим. Просияв, Ганс, сам того не ведая и так и не узнав об этом, дал мне повод пережить маленькую драму потрясенного пробуждения. И тут я неожиданно делаю открытие: мой маленький брат Ганс отнюдь не впервые дает мне, сам того не подозревая, повод пережить подобную драму. Чтобы справиться с воспоминанием о рождественском вечере, я не должен рассматривать его изолированно, отдельно, но должен – рискуя и в этом случае говорить больше о себе самом, чем о нем, – дать более развернутую характеристику брата и его жизни. Я не настолько художник, чтобы создать законченный образ брата, к тому же это значило бы, что я самому себе внушил, будто до конца узнал и понял его. Тем не менее я прожил с ним немалую часть жизни, нас сближали и общая кровь, и кое-какие семейные обыкновения, и, хотя окончательной близости между нами так и не возникло, я все же очень любил его. Попытаюсь, таким образом, осветить его жизнь в меру своего понимания очевидца. То будет совсем небольшая часть его биографии, известной мне лишь в общих чертах; тем не менее самое существенное в ней, пожалуй, не ускользнет от моего внимания, поскольку, хотя мы утратили близость, став взрослыми, наши жизненные пути в их решающие моменты странным образом перекрещивались, и как ни отличалась его жизнь от моей, она все же имела значение для меня, а бывало и так, что мне мерещилось в ней лишь слегка измененное зеркальное отражение моей собственной жизни.
Крестили Ганса не под его именем, его настоящее, данное церковью имя было, как и у нашего отца, Иоганнес. Ни одному человеку не пришло бы в голову назвать нашего отца Гансом; Иоганнес – вот было самое подходящее для него имя, излучавшее достоинство и авторитет и в то же время не лишенное обаятельного величия. Иоанном, как-никак, звали и евангелиста-гностика, любимого ученика Иисуса. В этом имени сошлись благородство, нежность, духовность. И, напротив, никому не пришло бы в голову назвать нашего Ганса Иоганнесом. Он был именно Ганс – свой, близкий, милый добряк, в нем ничего не было недоступного и загадочного, как в Иоганнесе, его отце, а потому его всю жизнь и звали просто Гансом, как это водится иной раз среди мирных обывателей. И все-таки он не совсем сросся со своим именем и не настолько лишен был загадки, как это казалось. Тайна жила и в нем, как было в нем и что-то от благородства его отца, что-то рыцарское, донкихотское.
Он был среди нас, братьев и сестер, самым младшим, как младшенького его все любили, опекали, но подчас и задирали; хлопот родителям он не доставлял никаких, разве что в тот единственный раз, когда в четыре года пропал. Жили мы тогда на самой окраине Базеля, там, где за Шпаленрингом и старинной эльзасской железной дорогой город переходит в предместья. И вот однажды малыш отправился гулять один, ушел далеко от дома, пересек железнодорожное полотно и отправился бродить по городским улицам, где его за первым же поворотом ждал неизведанный, интересный мир, в который он устремился с большим любопытством. Где-то он встретил детишек своего возраста, присоединился к ним, стал играть в их игры, научил их, уж верно, своим, потому как всякие игры были его настоящим призванием, неизменным на протяжении всей его жизни. Он понравился своим новым товарищам, соблазнив, по-видимому, и их свободой от заведенного в мире порядка – играли они до темноты, пока за ними не пришли родители и не увели их домой. Ганс отправился с ними, и, поскольку дети не хотели с ним расставаться, а их родителям он тоже приглянулся, его оставили сначала на ужин, а потом и на ночь – он хоть и знал свое имя, но не знал, где живет. Мы провели ту ночь без Ганса, его не было, он исчез, может, упал в Рейн, а может, его украли, во всяком случае, что-то, видно, стряслось, и родители были в панике. Утром любезные хозяева, приютившие Ганса, сообщили о малыше в полицию, и, поскольку там уже знали о его исчезновении, за ним немедленно приехали. Незнакомое семейство отзывалось о мальчике с большой похвалой, особенно о том, как он молится за столом и перед сном. Было похоже, что и сам он неохотно расстается с ними. Мы же очень обрадовались, что он снова с нами, и всем с гордостью рассказывали о том, какой у нас необыкновенный брат и какие с ним приключаются истории.
Лишь годы спустя, когда мы уже переехали в Кальв к деду и Ганс поступил в гимназию, с ним снова возникли проблемы. Эта гимназия, которая немало крови попортила и мне, для него стала просто источником трагедии, хотя и совсем иначе и по другим причинам. Когда я позднее, начав писательскую карьеру, излил по поводу подобных школ накопленную желчь в повести «Под колесами», то материалом мне послужило не только собственное учение, но и мытарства брата. Ганс был полон благих порывов, он был послушен, был готов уважать старших, но Учеником он был неважным, многие предметы давались ему с трудом, а поскольку в нем не было ни простодушной флегмы, с какой иные сносят унижения и наказания, ни одержимости тех, кто ожесточается, то он оказался в категории учеников, которых особенно ненавидят учителя, то есть дурные учителя, которых они постоянно шпыняют, мучают, травят. Дурных учителей в гимназии обнаружилось великое множество, один же из них, настоящий дьявол в неказистой плоти, просто довел Ганса до отчаяния. Среди прочего у этого господина была привычка во время опроса придвигаться к ученику с угрожающим видом вплотную, рычать и рявкать на него как на жертву, а когда напуганный школяр терялся и, естественно, начинал заикаться, учитель начинал нараспев повторять свой вопрос по многу раз, выстукивая ритм железным ключом от дома на голове опрашиваемого. Позднее брат рассказывал мне, что целых два года этот маленький тиран не только мучил его днем, но и преследовал в ночных кошмарах. Нередко Ганс приходил из школы с жуткими головными болями и в смертельном страхе. Свидетелем его самых ужасных школьных мытарств я не был – не жил в это время с родителями, в свою очередь доставляя им немало хлопот.
Спустя много лет Ганс уверял меня, что отец воспитывал его в большей строгости, чем меня. Может, он и обманывался, но, скорее всего, был прав: младшему брату, конечно же, приходилось расплачиваться за те педагогические ошибки, что были совершены в отношении меня. Впрочем, и мне в детстве пришлось хлебнуть немало, несмотря на неисчерпаемую любовь матушки и по-рыцарски тактичную и нежную натуру отца. Строгими и жесткими были не они, а принцип. То был пиетистский христианский принцип, согласно которому человек от природы погряз во зле и зло это должно быть искоренено, дабы человек сподобился Божией милости и спасения души в христианской общине. Соответственно этому нас и воспитывали, и хотя родители наши были люди мягкие и нас любили, так что всяких спартанских ограничений, а тем паче телесных увещеваний на нашу долю выпало немного, не то что на долю наших школьных товарищей, отцы которых – вовсе не христиане и не идеалисты – были скоры на расправу и чуть что сажали детей под замок, тем не менее жизнь наша подчинялась суровому закону недоверия к молодому человеку, к его естественным наклонностям, стремлениям, потребностям и задаткам, закон этот вовсе не склонен был потакать нашим врожденным, совершенно особенным способностям и талантам, а тем более поощрять их. Правда, тем пространством, на котором довлел над нами этот закон, было не узилище и не аскетически строгое учебное заведение, но родительский дом, полный любви, согласия, знаний, духовности и всяческой культуры; помимо упомянутого закона в нем обитало множество прелестных, милых, живых и затейливых привычек, обыкновений, игр и занятий; в нем пели и музицировали, рассказывали сказки и читали книжки, выращивали в саду цветы и всей семьей затевали по вечерам игры, отчасти придуманные отцом, совершали прогулки и вылазки на природу, к цветам и деревьям, украшали комнаты по праздничным дням. И верховодили при этом родители, являвшие почтенные образцы христианского образа жизни, не святые, нет, но живые, одаренные, оригинальные, душевные люди, обладавшие многими замечательными умениями – оба складно рассказывали и отменно писали письма, а матушка иной раз и стихи, отец любил науку, в особенности немецкий и иностранные языки, он изобретал всевозможные игры в слова, придумывал загадки и каламбуры. Вопреки закону, вопреки постоянному противостоянию невиновности и совестливости жизнь в нашем доме была полной и разнообразной, в ней не было ни мрака, ни скуки. Размолвки и конфликты, конечно, бывали, закон отбрасывал свою тень, но были и праздники, и веселье, и в гостях никогда не было недостатка.
Из богатств этой жизни, всякий день которой начинался и кончался чтением Библии, песнопением и молитвой, каждый из нас, детей, черпал свое. Можно предположить, что брат мой Ганс, с его и без того подорванной в гимназии верой в собственные способности, чувствовал себя не очень-то уютно в атмосфере культа науки и искусств, царившей в нашем доме. Можно предположить, что он воспринимал отца и деда, посвященного в тайны индологии, обращавшегося иной раз к посещавшим его юным коллегам – пугая и восхищая их в одно время – с приветствиями на санскрите, – что он воспринимал их, а также многих их друзей и посетителей как некий постоянный укор, как людей, которые слишком искушены были в латыни, древнегреческом и древнееврейском, чтобы оставалась хоть какая-то надежда сравняться когда-либо с ними, раз уж школьные латынь с арифметикой давались с таким превеликим трудом. Я не знаю этого наверное, я только предполагаю. Смятенная и уязвленная душа Ганса искала отдохновения в иных местах нашего дома и находила их в музицировании и оживленных играх, доставлявших ему искреннюю радость и не угрожавших разбуханию в нем комплекса неполноценности. В пение он вкладывал всю свою душу, отдавался ему целиком, всем сердцем, и это счастье оставалось с ним до конца его жизни. И в играх он нередко бывал одержим и не реже того находчив. То были не те, любимые обывателями сидячие игры, в которых требуется превзойти противника в бдительности, внимательности, выдержке и комбинаторике, дабы посрамить его и посмеяться над ним, не те игры, во время которых партнеры зависают напротив друг друга над досками и фигурами, наморщив лбы и погрузившись в тяжкую думу, – не их любил Ганс и не ими владел виртуозно. Он отдавал предпочтение играм, которые нужно придумывать самому. В игре этот тихий и скорее робкий мальчик полностью забывал себя, вернее, становился самим собой; забывая о школе и обо всем на свете, он расцветал и бывал гениален. Всякий незаурядный ребенок нуждается в том, чтобы уйти на время из мира навязанных ему полупонятных – или совсем не понятных – законов и правил в собственный, придуманный им мир, где ему все понятно; для Ганса же речь иногда шла о большем – о самой жизни: чтобы не пропасть в созданном Богом и принятом взрослыми мировом порядке, чтобы не погибнуть в его жерновах, нужно было создать себе свой собственный мир и порядок.
Были игры, для которых требовалось много места и времени, и были такие, в которые нельзя было играть без различных приспособлений – фигур, мячей и так далее. Были, однако, и другие игры, разыгрывавшиеся, так сказать, в сознании самого игрока, в них можно было играть в любом месте и в любое время, даже на глазах у ничего не подозревавших учителей и родителей. Можно было, например, идти в школу, если, конечно, не опаздываешь, в каком-то определенном ритме, под неслышимую музыку, можно усложнить и орнаментировать этот путь посредством особых правил и ограничений, запрещая себе, скажем, ступать на определенные камни мостовой или участки тротуара, вводя дозволенные и недозволенные переходы. Дорога в школу превращалась таким образом подчас в сольный танец или выписывание геометрической фигуры. На уроках этот танец потом можно было продолжить, слегка барабаня пальцами по скамье или занимаясь ритмической дыхательной гимнастикой. Можно было еще наметить какое-нибудь слово и условиться с кем-либо из товарищей: как только учитель произнесет это слово, то это будет значить «я осел». Потом, когда слово произносилось, то есть когда учитель признавался в своей принадлежности к ослиной породе, достаточно было только перемигнуться с товарищем, чтобы разорвать мертвую скуку школьного урока, насладиться тайным триумфом.
Но больше всего мы любили шарады и театр. Сцены у нас никогда не было, и мы не разучивали пьесы наизусть, но все-таки сыграли немало ролей – иногда перед своими братьями и сестрами, чаще наедине. Иной раз мы настолько вживались в свои роли, что не расставались с ними неделями. Едва оканчивались уроки, молитва или обед и мы оставались наедине с Гансом, как мы тут же снова превращались в разбойников, индейцев, волшебников, китобоев, заклинателей духов. Когда находилось хоть несколько зрителей, мы всего охотнее играли волшебников. Я был магом, Ганс – моим учеником и ассистентом. Подобные представления лучше всего удавались по вечерам, отчасти потому, что и мы сами, и зрители наши только к вечеру обретали соответствующее настроение, отчасти и потому, что темнота была нашим лучшим союзником при проделывании разного рода фокусов. В нашем большом старом доме был зал с балконообразной галереей для оркестрантов наверху: в минувшем веке в нем танцевали, мы же приспособили его для представлений. Зрители – дети и служанки – сидели на низенькой скамье и нескольких сундуках в одном конце зала, в другом его конце находился я, чародей, рядом со мной был столик, на котором лежали все мои атрибуты волшебства и стояла керосиновая лампа. Ганс, ученик мой и помощник, выполнял мои команды, помогая мне в тайных манипуляциях. Мы с ним пользовались длинными и торжественными формулами заклинаний, которые я не уставал всякий раз удлинять, что и составляло для нас главное удовольствие; произнося скороговоркой или с рыком эти формулы и восклицания, мы погружались в таинственную атмосферу отважных магических предприятий и могли бы удовольствоваться одним этим. Однако публике этого было мало, она желала, чтобы мы не ограничивались декламацией, псалмопением или произнесенными шепотом заклинаниями, хотя иная маленькая кузина или соседская дочка уже и от этого приходила в экстаз или испытывала смертный ужас; от нас ожидали, что мы что-нибудь и покажем. Когда я в фантастической одежде и в остроконечном бумажном колпаке стоял в нешироком круге света от лампы и ронял в темноту свои заклинания и призывы, обращенные к духу или дьяволу, и когда наконец что-то во тьме начинало медленно и словно бы нерешительно, маленькими толчками придвигаться ко мне – например, поскрипывая и погромыхивая об пол, двигался в моем направлении какой-нибудь стул или табурет (это Ганс тянул его на веревке), – то все мы становились как зачарованные, а кое-кто из зрителей испускал и вопль ужаса. Однажды, отдавшись декламации и целиком войдя в роль мага, я приказал своему помощнику Гансу посветить мне. Он схватил тяжелую лампу и, покачнувшись, застыл с нею на месте. Я в нетерпении заорал громовым голосом: «Как, ты медлишь, злосчастный? Подай ее сюда, ничтожный червь!» Этот окрик так ошеломил бедного Ганса, что он выронил зажженную лампу и мы чуть было не спалили и зал, и весь дом и чуть было не сгорели сами.
В общем и целом отношения мои с Гансом были вполне нормальными, обыкновенными между братьями, и мне не в чем себя упрекнуть. Не все шло гладко и ладно, случались и ссоры, и потасовки, и ругань: я был намного старше, а стало быть, сильнее. Ганс был по сравнению со мной мальчиком хлипким, и с этим уж ничего нельзя было поделать. И все же, когда я вот так вспоминаю о Гансе и той нашей поре, перед глазами нет-нет да встанет картина, словно бы уличающая приятность этого воспоминания во лжи.
Картина эта на всю мою жизнь врезалась в память с такой же резкостью и отчетливостью, как и та, другая, с восхищенным Гансом под елкой на переднем плане. Я вижу, как Ганс стоит передо мной, вобрав голову в плечи, оттого что я в ярости замахнулся на него. На его безмолвном лице застыли беззащитность и страдание, в глазах – упрек. Еще одно событие и – пробуждение! Тот укоризненный взгляд глубоко поразил меня, хотя и не успел удержать мою руку. Кулак мой опустился на его плечо, и я в смятении убежал прочь, словно сразу очнувшись. Воздевал кулак я в полной уверенности в своей правоте, с чувством господина, оскорбленного неповиновением слуги, с чувством справедливого возмущения, весь охваченный гневом, воинственным пылом, воздевал решительно, без колебаний, – а опускал его уже с разладом в душе, с отягченной совестью, стыдясь своего гнева и учиненного насилия, вспоминая о других таких же случаях, когда я злоупотребил своим превосходством в возрасте и силе. В глазах брата моего Ганса, в этом взгляде, который мне так хотелось забыть, но никогда не удавалось, я опять столкнулся с правдой жизни, прочитав в этом страдании и этой беспомощности такое обвинение, что вся моя картинная ярость и уверенность в себе разом исчезли и я испытал еще одно ужасное пробуждение: впервые в жизни я почувствовал, нанося удар, боль и унижение того, кого били, и в глубине души пожелал, чтобы он не сносил все молча, но взорвался бы и дал мне отпор.
Вот те два портрета Ганса, что врезались мне в память со времен его детства, и только они сохранились в ней из тысяч других: Ганс – дитя, пришедшее в восторг из-за глиняных рождественских пустячков, просиявшее над ними, будто ангел, и Ганс – мальчик, с немым укором в глазах ожидающий моего удара. В те часы, когда я склонялся к тому, чтобы смотреть на свою жизнь как на цепь ошибок и неудач, оба лика моего брата неизменно вставали перед моим внутренним взором: дитя сияющее и дитя страдающее, а рядом возникал и я – в сознании своего превосходства в возрасте и силе, но и в корчах стыда и раскаяния.
Не думаю, чтобы когда-нибудь после этого я еще бил Ганса. Потому и сохранились в памяти те мгновения, что были чем-то из ряда вон выходящим; ведь вообще-то мы жили хорошо и дружно, лучше, чем многие другие братья. И все же то мгновение, в которое я ударил Ганса, открыло мне больше правды о жизни, чем все прочие проведенные с ним месяцы и годы. Зла и вины во мне было не больше, чем в ком-нибудь еще, я знавал многих, кто жил припеваючи, совершив и куда более тяжкие грехи; но у меня открылись глаза, то мгновение показало мне, как устроена жизнь, как мы, люди, живем, как большой и сильный всегда притесняет слабого, как слабые всегда терпят поражение и вынуждены терпеть и как все-таки превосходство и право сильного оказываются несостоятельными, а правда – на стороне тех, кто терпит; как легко и тупо совершается несправедливость, но и как один только взгляд жертвы может иной раз покарать того, кто эту несправедливость совершает.
Меж тем пора, когда я играл хоть какую-то роль во всякий день жизни брата, миновала. Я уехал в другой город и возвращался домой только по праздникам и на каникулы. Я отдалялся от Ганса, у меня появились друзья среди сверстников, а еще больше среди тех, кто был постарше; у Ганса также были свои школьные заботы и свои друзья, и однажды, поскольку я бросил занятия музыкой, он получил мою скрипку и стал прилежно разучивать гаммы. О его школьных тяготах я тогда вряд ли что-нибудь знал, о них он мне рассказал много позже. Для меня он оставался ребенком, был лишь символом моего собственного детства, даже тогда, когда его давно уже поглотили неприятности и заботы. На каникулах, бывших всякий раз как приятное возвращение в мир детства, какая-то смутная сила заставляла меня снова затевать игры детских лет, и тогда Ганс опять становился моим партнером, и порой казалось, что минувших лет как не бывало. Мы снова принимались играть – в обычные игры, с мячом или битой, и в наши собственные, нами придуманные. И чем старше я становился, чем дальше в будущее простирались мои планы, тем больше ценил я Ганса как мастера игры. Он все еще был способен целиком предаваться игре, уходить в нее с головой, всеми своими помыслами и побуждениями, нисколько не заботясь о вещах более «серьезных» и «важных», игра захватывала его всего, без остатка.
Тот Ганс, каким я тогда его знал, играя с ним по целым дням на каникулах, казался мне цельным, законченным Гансом, однако то была лишь половина его, повернутая в светлую сторону жизни, которая в то время была уже намного тяжелее, чем я мог себе представить. Правда, я знал, что в гимназии ему приходится тяжко, но как-то не задумывался об этом, не вникал толком, да и не до того мне было – хватало собственных сложностей, планов, надежд.
Гимназические годы Ганса близились к концу, чему он был очень рад, не меньше радовались и родители. Вопрос был только в том, какую же ему избрать дорогу. Гимназия утомила его, от умственных, интеллектуальных занятий он явно отлынивал, поэтому уместным представлялось освоить какое-нибудь ремесло; однако его увлечение музыкой и вообще возвышенными предметами, его происхождение – он был все же из образованной, ученой семьи – все это заставляло подумать, стоит ли так рано выпускать его в жизнь, приспособив к делу, которое впоследствии, быть может, не удовлетворит его. Положение оказалось крайне затруднительным, и уже тогда стало ясно, что нашему Гансу нелегко будет найти себе путь и выбрать место в жизни. Должно быть, матушка прочла не одну молитву, исписала не один лист бумаги, рассылая озабоченные письма, а вся семья провела не один совет, прежде чем решились отдать Ганса в ученики к торговцу. То была, как выразился отец, профессия «практическая», ею можно было заниматься как простым ремеслом, так сказать, на уровне магазина, но в недрах ее таилось и что-то вроде теории и науки – всякие там архивы, канцелярии, бюро, из которых выходили и взбирались вверх по служебной лестнице служители Меркурия, становясь иной раз почтенными министрами, а то и королями мировой торговли. До этого, однако, было еще далеко, дело покуда свелось к работе попроще; Ганс стал подручным в магазине, учась таскать тюки, вскрывать и заколачивать ящики, лазить по приставной лестнице и обращаться с весами.
Теперь и для него, казалось, детство кончилось навсегда. Гимназия выпустила его из своих когтей, но он тут же попал в новую кабалу, из которой уже не смог выбраться до конца своей жизни. Он выбрал профессию, которая не доставляла ему ни малейшей радости, к которой он не испытывал влечения, для которой он не обнаруживал достаточной сноровки; он непрестанно стремился ей соответствовать, но ничего у него не получалось, так что в конце концов ему пришлось примириться с нею как со своей горькой и неизбывной судьбой.
Мне известны не все этапы жизни Ганса, хотя связь между нами не прерывалась. И сколько бы я ни пытался разобраться в этой жизни и ее понять, дело неизбежно сведется к упрощенной схеме. Были опыты смены мест и характера работы, что-то не клеилось, бросалось, потом следовал новый приступ. Закончив учение, Ганс очутился в солидном магазине в соседнем городе, потом он счел необходимым поосновательнее освоить всю формальную методику своей профессии, то есть бухгалтерию, с этой целью учился на курсах при торговых школах, затем снова работал в разных местах, потом были еще курсы стенографии и английского языка, под конец он служил торговым агентом и клерком на различных индустриальных предприятиях. Нигде он не приживался, не пускал корни, нигде работа, хоть он и относился к ней добросовестно и серьезно, не заинтересовывала его по-настоящему и не доставляла удовольствия: нередко, размышляя о себе и своей жизни, он приходил в отчаяние. Но с ним оставалась его музыка, его скрипка, он находил себе товарищей по пению; на протяжении многих лет жизнь ему скрашивало общение с его сердечнейшим другом, кузеном, с которым он регулярно обменивался письмами и встречался на каникулах. Однажды – Гансу тогда еще не было тридцати и он работал на какой-то фабрике в Шварцвальде – его так допекло, что он совсем бросил работу, попросту сбежал, и мы все были в тревоге и страхе за него. Я как раз недавно женился и жил в деревне на берегу Боденского озера, вот и пригласил его к себе отдохнуть. Он приехал, вид у него был гораздо более измученный и отчаянный, чем он хотел признавать; помогая ему распаковывать чемодан, я обнаружил в нем револьвер. Он смущенно засмеялся, я тоже, потом все-таки забрал у него эту штуку на хранение до его отъезда. Сошлись мы в тот раз с ним совершенно по-братски, он пробыл у меня несколько недель, окреп и повеселел, стал снова подумывать о работе. И все же я теперь думаю, что какая-то неясность в наших отношениях появилась уже тогда, какой-то холодок отчуждения пробежал, чтобы только увеличиваться с годами – без всякой нашей на то вины.
Моя жизнь складывалась тоже не лучше, чем у брата, непросто и негладко; трагедию ученичества довелось испытать и мне, я тоже, хоть и по другим причинам, взбрыкнул и бросил намеченный путь, к немалому удивлению и огорчению родителей; я вообще походил на брата тем, что все осложнял себе сам и легко склонялся к тому, чтобы восхищаться другими, их волей и достижениями, и сомневаться в себе самом. Оба мы были из породы лишних людей. Но я постепенно, сначала смутно и неуверенно, потом все энергичнее и целеустремленнее выходил на тот путь, о котором мечтал с мальчишеских лет. Даже когда я после тяжелых препирательств с родителями все же подчинился им и поступил учеником к книготорговцу, чтобы овладеть хоть какой-нибудь профессией, то сделал это с расчетом приблизиться к своей цели, то есть это был маневр или временный компромисс. Я стал продавцом книг, чтобы прежде всего обрести независимость от родителей и показать им, что при нужде сумею проявить волю и чего-то в обывательском смысле достичь; но с самого начала я смотрел на эту затею как на трамплин или окольный путь, ведущий к поставленной цели. И в конце концов я цели достиг, освободившись сначала от родительской опеки, а потом и от предварительной профессии, – я стал писателем и мог с этого жить, я помирился со стариками и со всем обывательским миром и был ими признан. Я женился, поселившись вдали от всех городов в красивой местности, жил, как душе моей было угодно, наслаждаясь природой и книгами, а что до проблем и трудностей, которых вдоволь и в такой добровольно избранной жизни, то в то время они еще не открылись мне в полной мере. Для гостившего у меня Ганса, с которым мы гуляли по окрестностям или плавали на лодке по озеру, я был человеком состоявшимся, жизнь которого удалась. Он же, как ему казалось, не состоится никогда, и жизнь его никогда не удастся. Обреченный заниматься Делом, в котором он заведомо ничего не достигнет, убежденный в собственной несостоятельности, не верящий в свои силы, безнадежно застенчивый с женщинами, не лелеющий в сердце никакой мечты, на осуществление которой он мог бы надеяться, Ганс полагал, что между нами пропасть; я-то этой пропасти долго не замечал, но с годами она углубилась настолько, что не могла не бросаться в глаза и мне.
Разумеется, и в его душе жил идеальный образ истинной жизни и настоящего счастья, но желаемое не проецировалось на будущее, оно было обращено в прошлое, в потерянный рай детства. Он привык к тому, что он в семье самый младший и меньше всех знает, школа еще больше внушала ему сознание его малости, на службе его легко обходили те, в ком было хоть сколько-нибудь твердости и веры в себя. Что касается внешней стороны жизни, то он научился с годами подчиняться необходимости и по крайней мере зарабатывать себе на хлеб, но его жизнь внутренняя вся была повернута в сторону детства, к миру игр и мечтаний, и песен, и беспричинного смеха, и бесцельных прогулок, к миру безвинному, полному эмоций, не знающему борьбы.
Он снова устроился на работу, снова стал заниматься английским, играть на скрипке, петь в хоре. Помимо музыки, было и еще нечто, благодаря чему он мог жить, отдыхать, парить, раскрепощаться и расцветать, – то было общение с детьми. Где бы он ни жил и ни работал, стоило в пределах его досягаемости оказаться каким-нибудь приятелям, у которых были дети, как можно было с уверенностью предположить, что он проводит у них все воскресенья, что он всегда готов играть с детьми, что он, товарищ и дядя в одном лице, всегда готов разделить и понять любые их желания и капризы. Они очень любили его, эти малыши и подростки, с которыми он занимался музыкой или разыгрывал шарады, которых вводил в свой поистине поэтический мир игр, они накрепко привязывались к нему, вовсе не догадываясь о том, что их дядя и друг был человеком разочарованным и нередко озлобленным. Он, конечно, и сам страстно желал иметь детей. Но тут было много препятствий. На что бы он мог содержать жену, одевать ее и кормить, платить за квартиру? Чтобы одолеть все это, надо было принадлежать к тем, кто бодро продвигается вверх по служебной лестнице. К тому же женщины так неприступны или так разочаровывают, да и как можно давать гарантии какой-нибудь из них, что она всю жизнь будет обеспечена и счастлива, когда и в себе самом-то ничуть не уверен? В иные годы мы виделись крайне редко, жили далеко друг от друга, писали разве что ко дню рождения. Если выходила у меня книга, я посылал ему, он всегда благодарил, однако ни разу не высказал своего мнения, я так и не знаю, понравилась ли ему хоть какая-нибудь из них. За три года до войны он попробовал еще раз поменять место жительства, в последний раз в своей жизни. Он нашел работу в небольшом городишке в кантоне Ааргау, а я годом позже переехал в Берн, и мы оказались поблизости; он несколько раз приезжал к нам в воскресенье на велосипеде, сидел с нами в беседке, играл с нашими мальчиками, мы вспоминали Базель и Кальв, наш родительский дом. Ганс работал теперь на большой фабрике, отсиживал в качестве письмоводителя в одном из многочисленных бюро, жаловался подчас на скуку пустых длинных дней, рассказывал о родственниках в Цюрихе, у которых он проводил воскресенья, играл с детьми. Как-то в начале войны я заговорил с ним о политике, он только слушал и кивал, в газеты он заглядывал редко и никакой партии не сочувствовал. Впечатление он оставлял странное: с одной стороны, он все еще был мальчиком, мальчиком Гансом, душевный восторг которого я когда-то наблюдал под елкой, с которым я когда-то играл и которого однажды, со зла, ударил, а он только с укором посмотрел на меня; с другой стороны, он был обыкновенным скромным обывателем, который говорил приятным баском, имел привычку держать голову наклоненной чуть вперед и с душевным унынием исполнял работу единственно куска хлеба ради – мелкий служащий, терпеливый труженик.
Все же, помимо скрипки и воскресных игр или прогулок с цюрихскими племянниками, были у него и другие резервы для обновления души и поддержания бодрости Духа. Он был не только сердцем ребенок, он сохранил и прежнюю благочестивую набожность, в двойном смысле этого слова: он был чист сердцем, преисполнен самой почтительной любви к людям и мировому порядку; и он был исправным христианином, членом общины. Он смирился с тем, что не сумел вписаться в мир гешефта и службы, что так и остался человеком маленьким, подчиненным; он смирился со своей судьбой, а в те минуты, когда она казалась ему совсем уж невыносимой, жаловался на себя самого, а не на Бога, не на мир, порядки или начальников. Он был совершенно аполитичен и не позволял себе критиканства, аскетом или абстинентом он не стал, но скромник был крайний и денег не транжирил, потому что они доставались ему с трудом. Вечер или два в неделю он пел в церковном хоре, разучивал старые хоралы и новые песни; в церкви им дорожили, на него полагались.
Во время войны Гансу жилось, по видимости, легче, чем мне. Политика его не волновала, жил он скромно, но надежно, а миром, как он видел, правили не министры и генералы, но Господь Бог. Однажды во время войны все мы, братья и сестры, собрались еще раз – хоронить отца. Снова мы были все вместе, хоть и не в старом родительском доме, но все же вокруг отца, и, несмотря на печаль тех дней, могли вдоволь наговориться и сблизиться, как в детстве, чтобы разделить скорбь, но и счастье нашей близости.
К концу войны от той беззаботной свободы, которой я привык наслаждаться, не осталось и следа. Домашний кабинет мне пришлось сменить на казенное бюро, о благосостоянии не могло быть и речи, мое рабочее и упоительно праздное затворничество кончилось, корчи и судороги мира вновь настигли меня, и даже музыка, всегда служившая мне последним и сокровеннейшим утешением, сделалась вдруг невыносимой. Ко всему прочему, тяжело заболела моя жена, я вынужден был расстаться с детьми, казалось, все рушится, и дом и жизнь моя опустели, и я с ужасом ждал, что будет. Как раз в это время, осенью 1918 года, пришло письмо от Ганса, которым он приглашал меня на свадьбу. Он обручился, луч света упал на его жизнь, он еще раз хотел испытать, дастся ли ему счастье.
Мне выпала роль представлять на свадьбе наше семейство, все прочие его члены остались в Германии, граница была закрыта, и это разделяло надежнее, чем двадцать градусов широты. Откликнуться на этот зов было трудно, я был завален работой, лихорадочные и изматывающие годы войны превратили меня в человека робкого и издерганного, еще способного на то, чтобы в силу необходимости заполнять свои дни поденной работой и в ней находить забвение, но давно уже не способного предаваться радости и веселью, а тем более участвовать в каком-нибудь торжестве. Все это, впрочем, на один день можно было бы еще как-нибудь превозмочь, но эта свадьба внушала мне опасения не только из-за меня самого. Мое семейное счастье только что окончательно рухнуло, и мне казалось, что в тысячу раз лучше было бы, если б я вообще не женился; в горячке памяти я снова перебирал в уме все те колебания, которые сопровождали мое решение жениться четырнадцать лет назад и не оставляли меня вплоть до самой свадьбы. Нет, присутствие мое на свадьбе Ганса не принесет ему счастья. Ничего путного не могло выйти из его, как и моей, попытки жениться, то есть взять на себя обычную роль бюргера, на это мы с ним не годились, наш удел – быть отшельником, каким-нибудь ученым или художником, скорее схимником-пустынножителем, чем супругом и отцом. Слишком много было в свое время потрачено сил на то, чтобы, как выражалась педагогика того времени, «сломать волю» в нас, детях; в нас и на самом деле что-то сломали и покорежили, но только не волю, не то самовитое, врожденное, неистребимое, что сделало нас изгоями и чудаками.
В то же время об отказе и отговорках нечего было и думать. Как я ни был издерган и подавлен собственным несчастьем, я все же отдавал себе отчет в том, насколько было бы нелепо и несправедливо не пожелать от всего сердца счастья брату, не порадоваться вместе с ним, а омрачить его радость своим отсутствием, в какой-то мере отказать ему в своем участии и благословении. На собственном печальном опыте я знал, сколь незавидна участь брачующегося, когда он вынужден в одиночку, без поддержки семьи противостоять взыскательной родне невесты. Поэтому я, облачившись в черное, отправился в Ааргау, где, однако, вскоре устыдился собственной ипохондрии, потому что взору моему предстала трогательная картина: счастливый, тихий и застенчивый брат рядом со своей нежной и серьезной невестой, к тому же сестры невесты вкупе со своими мужьями оказались людьми очень милыми и мне приглянулись; то было крепкое, высокорослое племя людей, и еще прежде, чем мы все отправились праздновать в дом тестя, в расположенную неподалеку деревню, я успел порадоваться за Ганса и подумать, что ему по-настоящему повезло. Для меня то была первая радость за долгие месяцы, а тот сельский, здоровый и безмятежный мир, в который я окунулся, был, мнилось, за тысячи верст от всех войн, революций и прочих исторических потрясений. Ладное и веселое торжество не только успокоило меня, но и доставило удовольствие, а сознание, что мой брат после стольких метаний и неудач наконец-то обрел уют и покой, благотворно действовало на мои нервы. Единственное, что мне не понравилось и что я, как и все, похвалил только из вежливости, была городская квартира новой четы – на первом этаже и с окнами на шумную улицу.
Сразу затем наступила пора, когда мне было не до Ганса. Последние месяцы войны, революция поселили столько тревог и забот в моем одичало-таинственном доме, что жизнь моя, казалось, замерла и застыла. Только весной мне наконец удалось собраться с силами и, прихватив с собой книги, старый письменный стол и кое-какие памятные пустяки, попытаться начать новую жизнь на новом месте. Ганс же превратился в добропорядочного семьянина, довольного тем, что после скучного рабочего дня его ждет его маленькая родина. У него появилось двое сыновей, и таким образом он в своей собственной маленькой квартирке обрел наконец то, ради чего много лет обивал по воскресеньям пороги чужих домов.
Прошло года четыре или чуть больше со дня свадьбы Ганса, когда однажды мне пришлось остановиться на несколько дней в городе, где он жил. Уже второй десяток лет он корпел все на той же фабрике и в той же должности, годы перемен для него давно миновали. Вот только квартиру, которая мне тогда не понравилась, он за это время сменил: сам он, как я нашел, стал спокойнее и несколько постарел – забот, конечно, хватало. Вскоре после женитьбы – Ганс мне, правда, этого не рассказывал, я узнал об этом позднее – начальник бюро, в котором он работал, вызвал Ганса к себе и стал вежливо внушать ему, что он хоть и много лет работает на одном месте, выказав себя работником исполнительным и надежным, но что функции его очень уж незначительны, а поскольку у него теперь семья, он не вправе и далее игнорировать определенную иерархию служащих фабрики, в которой он, Ганс, удовлетворялся доселе одной из нижайших ступеней. Человек с нормальными способностями и желаниями обычно стремится наверх, где учатся не только повиноваться, но и приказывать, где, так сказать, не только тебя подвергают контролю, но где и ты сам должен контролировать других. Дорога наверх не закрыта для служащего, который всегда был на хорошем счету, а теперь вот женился, ему следует лишь поставить перед собой таковую цель, стремясь принести больше пользы, что, разумеется, не останется без дополнительного вознаграждения. Вот ему, Гансу, и предлагают некий пробный срок, чтобы испытать себя на более ответственной и лучше оплачиваемой работе. Руководство выражает надежду, что он будет рад такой возможности и выдержит испытание. Милейший Ганс почтительно выслушал все это, робким голосом задал несколько вопросов и потом испросил некоторое время, чтобы подумать. Начальник, немало подивившись такой нерешительности, некоторое время, однако, дал, и Ганс вернулся на свое рабочее место. Несколько дней после этого он был до крайности озабочен и погружен в себя – взвешивал свое решение. По истечении уговоренного срока он явился к начальнику и просил оставить его на прежнем месте. Обо всем этом он рассказал своей жене, убедив ее в том, что не мог поступить иначе. Сил, однако, потратил при этом немало. С тех пор никто не делал ему никаких заманчивых предложений, и он навсегда остался на своем скромном месте за пишущей машинкой.
В то время я еще ничего не знал об этом. Я несколько раз побывал у Ганса, как-то в воскресенье ходил с ним и его семейством в лес, принимал Ганса и у себя в отеле, где мы всласть наговорились за ужином. Мне захотелось взглянуть и на то место, где работал Ганс. Но туда не пускали. Ганс стал испуганно отнекиваться, а сторож у фабричных ворот, когда я туда явился, меня не пустил. Пришлось, чтобы получить хоть какое-то представление о таинственной повседневности брата, занять пост у ворот.
Я пришел к ним перед обеденным перерывом, чтобы увидеть, как он выходит, и пройтись вместе с ним. Ворота были огромны, как в каком-нибудь замке, сразу за ними помещалась будка сторожа, поглядывавшего в окошко на улицу. Три дороги вели от ворот к самой фабрике, представлявшей собой целый городок из зданий, двориков, труб. Дорога посередине была проезжей, слева и справа – для пешеходов. Я стоял у ворот и ждал, разглядывая пустынное троедорожие и административное здание, думая о том, что в одном из просторных его помещений за одной из многочисленных машинок изо дня в день, из года в год сидит мой брат и пишет письма. Мир, представший моим взорам, был серьезен, строг и несколько мрачен, и стоило мне вообразить, что и я всю мою жизнь дважды в день – утром и после обеда – должен был бы входить в эти ворота, идти по этой дороге к одному из этих больших неприветливых зданий, получать там в бюро приказы и распоряжения, писать потом письма и счета, как я тотчас вынужден был признать, что я на это попросту неспособен. То есть представить себя на месте владельца фабрики, ее директора или главного инженера, на месте человека, обозревающего всю эту машинерию целиком и управляющего ею, я еще мог, но быть мелким служащим или рабочим, не иметь представления обо всем производственном цикле, выполнять одну и ту же операцию или писать под диктовку одни и те же письма – нет, это уже походило на кошмар. Я напряженно вглядывался в фабричные ворота, думал о Гансе, вспоминал, какое тихое, просветленное, сияющее лицо было у него в тот бесконечно далекий рождественский вечер, и сердце мое сжималось.
Потом я увидел, как вдали, между зданий, что-то зашевелилось, показались люди, их становилось все больше, они приближались к воротам, ко мне, а когда первые из них прошли мимо и скрылись в улочках города, из ворот хлынул мощный и непрерывный людской поток, его темная масса изливалась порциями и протекала мимо меня; людей было много – сотни, тысячи, они заполнили обе пешеходные дороги, а посередине ехали сотни велосипедов и мотоциклов, изредка попадались и автомобили. Тут были и мужчины, и женщины, хотя мужчин бы по намного больше, немало и совсем молодых парней с непокрытой головой, попадались разбитные и веселые говоруны, но редко, большинство понуро и молча брело в том темпе, который задавала толпа. Поначалу я еще пытался всматриваться в лица в надежде увидеть Ганса, но, поскольку людей на всех трех дорогах становилось все больше и больше и в сплошном потоке лиц нельзя было разглядеть какое-либо отдельное, я вынужден был просто стоять посреди потока, отказавшись от поисков брата. Так простоял я, наблюдая, около четверти часа, пока поток не иссяк и дороги не опустели, замерев в ожидании возвратного нашествия.
Впоследствии во всякий мой приезд в этот город я всегда наблюдал сей обеденный анабазис; иной раз мне удавалось выловить в потоке Ганса, иногда он окликал меня, а случалось, что, как и в первый раз, я уходил ни с чем. И каждый раз стоять так было для меня и мукой, и поучением. Когда я отыскивал в толпе брата, видел, как он бредет, слегка склонив голову, меня охватывала горькая, бесполезная жалость к нему. А когда и он замечал меня и с милой улыбкой на тихом лице протягивал руку, он вдруг казался мне старше и умудреннее меня. Его принадлежность к этим тысячам, его походка ко всему притерпевшегося человека и чуть усталое, но по-прежнему милое, научившееся терпению лицо придавали брату, которого я и в зрелые годы продолжал считать ребенком, печать некоего печального достоинства, некоей посвященности и испытанности, которая умаляла и устыжала меня.
Хотя я лучше знал теперь, как он живет, проводя дни на фабрике, а вечера в кругу семьи, я все же не удержался от попыток дать ему представление и о моей жизни, ввести его, что называется, в свой круг. Он ведь очень любил музыку и сам был музыкантом, вот я и решил, раз уж он слышать не хотел ни о литературе, ни о философии, ни о политике, по крайней мере послушать с ним хорошую музыку, перетащить его на воскресенье или хотя бы на вечер из его обывательской среды в нашу богемную, взять его с собой в Цюрих на оперу, ораторию или симфонический концерт, а вслед за тем заглянуть на несколько часов к моим компанейским друзьям, музыкантам. Раз пять предпринимал я эти попытки, приглашал его со всею настойчивостью и сердечностью, но он ни единожды не поддался на уговоры, и, разочарованный, я в конце концов сдался. Ганс не хотел ничего этого, и все тут, не тянуло его ни в оперу, ни на концерт, ни к моим друзьям. Я же к тому времени успел забыть, какими невыносимыми казались мне на третьем или четвертом году войны и музыка, и компании, и любое напоминание об искусстве, успел забыть, что я еще мог тогда кое-как влачить существование, если напрочь забывал обо всех этих драгоценных вещах, но стоило мне в досужую минуту услышать хоть несколько тактов Шуберта или Моцарта, как я был готов разрыдаться. Я все это забыл или не чувствовал, не понимал, что и брат мой теперь должен был испытывать нечто подобное, что вся его недюжинная стойкость в служебных передрягах может вмиг развеяться под натиском музыкального дурмана при звуках «Волшебной флейты» или «Квартета с гобоем». Мне было досадно, что Ганс отклонил все мои приглашения, было искренне жаль, что он устоял против соблазна, решив довольствоваться своей размеренной жизнью, не желая всех этих поздних возвращений и шумных застолий с людьми, перед которыми явно тушевался. К этому мы больше не возвращались. Потом я узнал, да и сам мог заметить, что Ганс не любил, когда его расспрашивали о брате-писателе. Он любил меня и во все эти годы был искренне привязан ко мне, но мои писательские занятия, мои дружеские связи в художнических кругах, мой интерес к философии, искусству, истории – все это тяготило его, от всего этого он уберегал себя, вежливо, но настойчиво отказываясь участвовать во всем этом.
Я неизбежно задумывался о нашем расхождении, от которого страдали мы оба: нередко бывало, что, встретившись через год или два и обменявшись сведениями о здоровье и родственниках, мы убеждались, что нам больше не о чем говорить. О причинах этих затруднений я теперь могу только догадываться. Видимо, брат чувствовал себя скованно в моем присутствии, вот ему и хотелось казаться большим обывателем, равнодушным ко всему на свете, чем это было на самом деле. Ибо среди своих друзей, как мне потом стало известно, он слыл человеком вовсе не скучным, напротив, считался славным товарищем и интересным собеседником, который мог удивить причудливой игрой фантазии и ума. Похоже на то, что я для него так и остался на всю жизнь старшим братом, которого все считали более развитым и умным, что я воплощал для него частицу того интеллектуального мира, с которым он не поладил ни дома, ни в школе. В нем, как и во мне, были задатки художника и рассказчика; он видел, что во мне эти задатки привели к овладению престижной профессией, я стал в области духа своим, специалистом, а у него же все это осталось на уровне любительской и случайной игры, сохранившей невинность и безответственность детства. Однако такое объяснение – с помощью одной только психологии – меня не устраивает. В жизни брата большую роль играла ведь и религия. Она имела значение и для меня, и корни, происхождение этого у нас обоих были одни. Но если я в юности был сначала вольнодумцем, потом пантеистом, увлекался различными древними системами теологии и мифологии и, постепенно мирясь с христианским вероисповеданием, все же сберег и свою уединенную созерцательность, то Ганс сохранил веру своих родителей или вернулся к ней после некоторых колебаний, он был набожен не только в мыслях или сердце, но и в обхождении с единоверными товарищами по общине. Сомнения, как я знаю, охватывали и его, по временам авантюрные взгляды его имели мало общего с общепринятыми догматами веры, но сама вера была составной частью его повседневной жизни; в течение многих лет и до самой своей смерти он был истовым членом общины, исправно посещал церковную службу, ходил к причастию.
Вот эта набожность вместе с чувством ответственности за жену и детей и давала ему силу терпеливо сидеть на своем явно неудачном и безрадостном месте в жизни практической. И оба эти фактора удерживали его от отчаяния. Он не забивал себе голову мыслями об автомобилях и виллах, принадлежавших директорам фабрик, не сравнивал их доходы со своим жалованьем и не терял внимательной чуткости к окружающим. Работу свою он делал без охоты, но старательно и послушно, а когда вечером в потоке людей покидал фабрику, то тут же забывал и думать о ней, дома, во всяком случае, речь о ней не заходила. Тут был другой мир – хлопот и болезней, денежных и школьных проблем, но и пения и музыки, вечерних молитв, церковной службы по воскресеньям, прогулок с мальчиками в лес, куда он непременно прихватывал песенник. Как-то раз при встрече он пожаловался на перемены в бюро, на грубость нового начальника. С помощью друзей мне тогда удалось уладить конфликт. Казалось, все у него обстоит в меру благополучно. Однако, когда, бывало, я, оказываясь в его городе, подходил в обеденный час к фабричным воротам и встречал его, он нередко выглядел очень уж постаревшим и каким-то погасшим, смирившимся и усталым. А когда на фабрике стало хуже с работой, когда начались увольнения и понижения зарплаты, а ему в это время стали отказывать глаза, утомленные многочасовой ежедневной работой – в зимних сумерках, при скудном электрическом освещении, – то мне приходилось видеть его и в весьма подавленном состоянии.
А теперь мне остается рассказать о нашей последней встрече.
Я опять приехал в город на несколько дней; стоял ноябрь; жил я все в том же отеле, где не раз останавливался на протяжении последних лет и не раз беседовал с Гансом. Чувствовал я себя неважно, и, когда отправился к фабричным воротам, мне вдруг пришло в голову, что я уже достаточно много простоял здесь в ожидании брата, много времени отдал вылавливанию его в сером людском потоке, много раз проехался между этим городом и своим Тессином и было бы вовсе не жаль, если б всему этому наступил конец. Приеду ли я сюда по своим делам еще пять или десять раз, напишу ли еще одну, две книги или совсем ни одной – все это вдруг стало мне совершенно безразлично, я устал в тот год и был болен и не очень радовался тому, что еще жив. Поджидая брата, я раздумывал, стоит ли показываться ему в таком виде, в минуту слабости и хандры, не лучше ли нам повидаться в другое, лучшее время. Но тут покатились уже первые волны обеденного людского потока, и я остался, отыскал Ганса глазами, помахал ему, он подошел и, как всегда, долго тряс мою руку, и мы отправились вместе с ним в город, забрели там в какой-то тихий тупичок и стали прохаживаться взад-вперед. Ганс все выспрашивал у меня что-то о моих делах, но я был немногословен, помня о том, что обеденный перерыв короток и что его еще дожидаются дома обед и жена. Мы договорились встретиться у меня в отеле и вскоре расстались.
Точно в условленный час Ганс пришел ко мне в номер и после нескольких общих слов, помявшись, заговорил вдруг сдавленным голосом о том, как тяжко ему теперь приходится в бюро – настолько, что вряд ли он выдержит долго; глаза у него болят все сильнее, и сам он чувствует себя все хуже, а на работе не на кого опереться, одна молодежь, нашептывающая на него начальству, так что при следующем сокращении его могут и уволить. Я испугался – как-никак не слыхивал такого от него уже много лет. Спросил, не случилось ли чего-нибудь. Случилось, признался он, он совершил одну маленькую оплошность. Ему нагрубил какой-то коллега, и он не выдержал, вспылил, наговорил лишнего: что все они, мол, против него и что ему на это плевать, пусть увольняют, да поскорее, он сыт по горло.
Ганс мрачно смотрел в одну точку.
– Дорогой мой, – сказал я, – ведь это все пустяки! Когда это было, вчера или сегодня?
– Да нет, уже несколько недель прошло, – отвечал он тихим голосом.
Я опять испугался. Было ясно, что душевное здоровье Ганса расстроено. Так досадовать и удручаться из-за таких мелочей! По неделям испытывать страх из-за одного неосторожного слова! Я объяснял ему: если бы начальство отнеслось к его словам серьезно и действительно намеревалось бы его уволить, то оно давно бы это сделало. Долго убеждал его, что ничего необыкновенного нет в том, что молодые коллеги относятся к нему без особой почтительности, пусть вспомнит, какими мы сами были в молодости, как потешались над серьезностью и педантизмом тех, кто постарше. И со мной такое бывает, когда я общаюсь с молодыми людьми, – чувствуешь себя как ржавый гвоздь и сам себе кажешься скучным, а молодые, как только это заметят, тут же начинают подтрунивать и всячески подчеркивать, что мы, старичье, никуда не годимся. И так далее… Прочитал ему целую лекцию, чтобы утешить и подбодрить. И Ганс вроде поддался на уговоры. Он даже признал, что с молодыми коллегами отношения его не так уж и плохи, но вот с работой он больше не справляется, сил уже не хватает, а радости она не доставляла ему никогда. Как я думаю, спросил он, не поискать ли ему работу в другом месте, не помогу ли я ему в этом, у меня ведь столько кругом друзей и знакомых.
И это тоже меня поразило. Я, конечно, всегда был готов сделать для него все, что в моих силах, и мне по-своему было даже приятно, что он обращается ко мне с такой просьбой, но в то же время я понимал, насколько такая просьба для него тяжела. Видно, дела его совсем уж из рук вон, коли он обращается ко мне. Он, по всей вероятности, хотел любой ценой вырваться отсюда, жизнь здесь стала для него невыносимой. Но, с другой стороны, откуда тогда этот чудовищный страх перед увольнением?
Я снова пытался успокоить его. Обещал прежде всего сделать все, что возможно; раз он действительно не может оставаться на старой работе, мы подыщем ему другую, но он и сам знает, как с этим теперь непросто, людей ведь увольняют повсюду. Во всяком случае, неразумно бросать свое место прежде, чем найдется другое, ведь у него жена и дети. С этим он согласился, напоминание о семье сразу его урезонило, было даже похоже, что он сожалеет, что завел этот разговор. Но я настоял на том, чтобы он выговорился до конца, чтобы сказал, чего он хочет. Тут он признался, что не хочет ничего другого, как только вырваться из бюро, а куда – ему все равно, лишь бы прочь отсюда. Он знает, как теперь трудно найти место, но он согласился бы меньше получать, лишь бы поменьше и работать. Он, кстати, вовсе не держится за должность письмоводителя или секретаря, может быть, даже с большей охотой он стал бы сторожить склад или подметать пол, выносить мусор, разносить почту или что-нибудь в этом роде.
Позвонили к ужину. Взволнованный его бедами, я еще раз попытался утешить его, напомнив, что ему и прежде часто казалось, будто он в тупике, а выход все-таки находился. Предложил ему встретиться и обсудить все еще раз, пока я в городе, и, если надумаем что-нибудь определенное, я употреблю все усилия, чтобы помочь ему. Он, просияв, согласился. Мы сели за столик, выпили за ужином по бокалу вина, опять вспомнили старое, Ганс развеялся и повеселел. В холле была доска, расчерченная для настольных игр, мы уселись поудобнее и попытались припомнить старые игры – «мельницу», «дамки», «волки и овцы». Игровой навык мы оба утратили, но сам вид полей и фигур, движения рук при ходе, попытки вспомнить правила игры чудесным образом перенесли меня в детство, так что вспомнились вещи, о которых не думалось десятки лет; запах нашего дубового стола в базельском доме, служившего и для игр, и для трапез, массивные железные шарниры, которыми он крепился, белый овечий пух внутри стеклянного шарика, которым я тогда владел, надпись на внутренней стороне футляра от маленькой гармоники «Strasbourg – Rue des enfants»,[2] над которой я ребенком долго ломал себе голову, разгадывая ее значение, получалось что-то вроде «Рюшки инфанты». О милый, далекий, лучезарный мир, о первобытный лес детства! А взглянув на проигравшего брата, лицо которого искривила лукавая мальчишеская гримаса досады, я понял, что и он весь во власти этого волшебства. Каким ароматом давно прошедших времен пахнуло на нас! И как только могло случиться, что из нас двоих, пребывавших когда-то в благоухающем раю, получились вот эти два стареющих господина, поигрывающих в гостиничном холле, чтобы хоть как-то забыть на время о своих горестях!
Простился Ганс, как всегда, рано, а я поднялся к себе в номер и еще не успел лечь в постель, как настроение радужной легкости, скрасившей наш последний совместный час, улетучилось. Игра и ужин забылись, в ушах стоял только сдавленный голос Ганса, жаловавшегося на свои невзгоды и страхи. Таких речей я не слышал от него уже много лет. На сей раз, по всему чувствовалось, дело обстояло серьезнее, жизнь брата вступила в полосу тяжелого кризиса. А с какой затравленностью и страхом говорил он о своих молодых коллегах, будто и впрямь вся его жизнь зависела от них! Нерассуждающий ужас, мания преследования чувствовались в каждом слове. А эти метания между страхом перед увольнением и страстным желанием уволиться и удрать! Орудовать тряпкой вместо пишущей машинки – это я как раз мог понять, и я предпочел бы мести пол и разносить почту, чем писать деловые письма и счета. Это желание, думалось мне, не было болезненным, напротив, оно оставляло надежду на то, что душевное здоровье его еще поправимо. Я стал размышлять, у кого бы из моих знакомых можно было бы справиться о таком месте для Ганса. Но среди них не было никого, кто бы и сам не увольнял людей, кому не составляло трудностей поддержать даже старых своих служащих, обремененных семьей. А если, паче чаяния, все же удастся пристроить его, то сколько он продержится на новом месте, где у него не будет такой мощной моральной поддержки, как двадцать отработанных на одном месте лет? Но уйдет он или останется, все равно он будет вынужден вести изнурительную борьбу со своим старым врагом – сомнением в себе, безнадежным страхом перед сложностью и жестокостью мира. Так я лежал и мучительно думал полночи, пока глаза мои не смежило от усталости; последним, что в них стояло, было выплывшее из детства лицо моего брата, которого я только что ударил. С этим видением я и заснул.
На другой день на меня свалилось много неожиданных дел, пришлось писать много писем и сидеть у телефона; такая суета продолжалась потом еще несколько дней, а когда я наконец снова увидел Ганса, мы были не одни, к тому же он показался мне не таким подавленным и нервозным, как в тот вечер. Дни мои были заполнены визитами и приемами. Однако беспокойство о брате не отпускало меня, я твердо решил уехать не прежде, чем еще раз обсужу с ним все и постараюсь помочь. Может быть, впечатление неблагополучия и кризиса, которое оставлял брат, в иное время и не нашло бы во мне чуткого отклика, но тут я и сам находился в сходном состоянии. Угрозы моему существованию, которые я ощущал как извне, так и внутри себя, обострили мое внимание к подобным реакциям у других людей, да и обычно скрытный брат так разоткровенничался со мной, вероятнее всего, потому, что как-то почувствовал эту нашу близость.
В эти трудные дни настал для меня и момент радости, когда на воскресенье, как и было условлено, ко мне приехали оба моих сына. Приехали они в субботу, и я просил их после обеда отправиться со мной к дяде, надеясь, что такой неожиданный визит подействует на него благотворно. Принимали нас в лучшей комнате, дома оказались все – и Ганс с женой, и один из его мальчиков, а вместо второго у них жил его ровесник, гимназист из французской Швейцарии, приехавший совершенствоваться в немецком, его родители на это же время приютили Гансова сына. Мои сыновья разговорились с мальчиками, а я сел рядом с Гансом на диване. Ганс, как всегда, любезно выслушивал нашу болтовню, но было заметно, что он страшно устал после трудовой недели и даже несколько раз подавил зевок. Выглядел он в своей усталости каким-то размягченным и безмятежным, не выказывал ни недовольства, ни муки; его немного знобило, несколько раз он вставал и подходил к потухшей печи погреть руки на дымоходе. И когда спустя час мы поднялись и стали прощаться, он стоял у печи, прислонив обе руки к дымоходу, слегка склонившись вперед, с лицом усталым, но приветливым. Мы подали друг другу руки. Таким я его и запомнил: усталый, чуть подрагивающий от озноба, стоит он у печки, явно дожидаясь того часа, когда можно будет лечь в постель.
У меня не возникло предчувствия, что я вижу его в последний раз. Более того, этот самый рядовой родственный визит, в продолжение которого речь по обыкновению идет о пустяках, усыпил мою тревогу на его счет. Та благопристойность, с которой он пытался скрыть, что устал и хочет спать, то, как он тихо и по-субботнему расслабленно стоял у печки, – все это подействовало на меня завораживающе, в этот вечер я видел перед собой не Ганса, детское личико которого пылало обвинением, не Ганса в сером потоке фабричных и не Ганса, путано жалующегося мне сдавленным голосом на свои невыносимые обстоятельства; сегодня передо мной был Ганс повседневный, вернее, субботний, – уютно расслабившийся На своем диване отец семейства, учтиво, хоть и несколько смущенно принимающий нежданных визитеров; было видно, что его ждет постель, а там и воскресный отдых, что он рад этому, как я рад тому, что проведу завтрашний день вместе с сыновьями. Ничто не предупредило меня о серьезности его положения, не заставило пригласить его к себе уже на послезавтра, чтобы обсудить с ним его дела. Мы трое ушли в хорошем настроении и прекрасно провели остаток вечера и следующий день.
Через несколько дней, утром – я в шлепанцах и халате сидел после утренней ванны у себя в номере за письменным столом и писал письма, – в дверь постучали; пришли сообщить, что внизу меня ожидает некий пастор. Я подосадовал было, что мне помешали, но потом решил, что еще успею заняться письмами. Оделся и спустился вниз. За подшивками журналов меня дожидался некто с седой бородой, а при одном взгляде на него я понял, что это не визит вежливости. Он представился: оказалось – пастор общины, к которой принадлежал мой брат. Затем он спросил, не был ли Ганс у меня сегодня, и тут я сразу понял, что случилось что-то неладное, грудь мою так и сдавило тисками. Сегодня утром, несколько ранее обычного и, несмотря на прохладную погоду, без пальто, Ганс ушел из дома, а спустя час из бюро прислали узнать, почему он не явился на работу. Я рассказал пастору о наших разговорах с Гансом, о его жалобах. Он знал все – и гораздо больше моего. Страх увольнения за необдуманные слова был манией: еще до разговора со мной Ганс ходил к начальнику, и тот заверил его, что он сохранит свое место. Ганс то ли забыл об этом, когда был у меня, то ли не захотел этому верить. Я стал рассказывать пастору о детстве Ганса, он часто кивал головою – он хорошо знал Ганса и полностью разделял мои опасения. Правда, мы оба надеялись, что наихудшие наши предположения не сбудутся – для жены Ганса это было бы слишком жестоким ударом. Мы склонялись к тому, что Ганс, вероятно, в припадке меланхолии сбежал куда-нибудь в лес, чтобы как-то выразить свой протест против служебного угнетения; набегавшись и устав, он вернется. На том мы пока и расстались, и я поспешил к жене Ганса. Ум мой был в смятении, но инстинкт подсказывал не только внушать ей слова ободрения, но и самому верить в то, что все обойдется. Я уповал на детское начало в Гансе, на его веру; как безропотно принимал он политические обстоятетьства и социальный порядок – даже когда становился их жертвой, – так признавал он и власть порядка, заведенного Богом, и не станет задувать свечу своей жизни. Он оставит свою душевную усталость и отчаяние в полях и лесах, побродит там день или два, до полного изнеможения, а потом вернется – сгорая, вероятно, от стыда и смущения и ожидая утешения, но цел и невредим. То есть физически невредим, в том, что душа его повреждена, мы оба не сомневались, жена его была уверена в этом даже больше, чем я. Она сообщила мне немало тягостных подробностей о его поведении в последнее время, и эти подробности не оставляли сомнений, что так оно и есть. Недавно, мучимый кошмарами, он так страшно закричал ночью, что разбудил весь дом. На днях ему почудилось, что плачет соседка, и он, указывая в сторону ее дома, сказал жене: «Видишь, как ужасно плачет госпожа Б. Это она нас жалеет, знает, что меня скоро уволят и нам нечего будет есть». Жена подтвердила, что заверения начальства в том, что Гансом довольны и не собираются его увольнять, успокаивали его лишь на короткое время – он им не верил.
Вчера, перед сном, он не стал сам читать молитву, а попросил ее это сделать. Произносил вслух только «аминь». Сегодня утром встал раньше обычного и ушел, когда она еще была в постели. Потом она заметила, что он ушел без пальто. Невозможно и представить себе, чтобы он мог причинить ей такое горе, разве что в помешательстве, ведь он был всегда таким чутким мужем.
Я пришел потом снова, о Гансе все еще не было ни слуху ни духу, тут мы стали раздумывать с ней, не сообщить ли о его исчезновении полиции. В конце концов решились на это. Днем его сын объездил на велосипеде всю округу, кричал и звал его. Как раз в тот день, после нескольких теплых и дождливых дней, ударил легкий морозец. Вечером, когда я возвращался в отель, пошел легкий снежок, в сером вечернем свете закружились неторопливые снежинки. Мне было холодно, сердце мое сжималось при мысли о Гансе; ночь ему и нам предстояла ужасная. В квартире брата всю ночь горел свет, чтобы он мог сориентироваться, если будет плутать во тьме; кто-нибудь из семьи постоянно дежурил в натопленной комнате на тот случай, если он придет. С женой брата сидела одна из ее сестер, хотя та и сама стойко переносила несчастье.
Ночь прошла, свет выключили, наступил тусклый холодный день – второй без Ганса. Я опять побывал у его домашних, приехала моя жена, мы сидели в отеле, кое-как коротая время. Тут явился визитер, молодой поэт, с которым мы в последнее время переписывались и который изъявил желание со мной познакомиться. Для знакомства время вышло малоблагоприятное, уже вторые сутки мы то напряженно ждали известий, то суетились, то подолгу висели на телефоне, и я уже потерял всякую надежду. Мы спустились в холл – сейчас нам было, конечно, не до светских разговоров, но, с другой стороны, мы были и рады отвлечься, принимая человека, стихи которого недавно с удовольствием прочитали. Он приехал из Цюриха, прихватив с собой рукопись книги, которую должны были печатать, и приветы от нашего общего знакомого; сам поэт понравился нам так же, как прежде его стихи. Но не просидели мы с ним и получаса, как сквозь стеклянную дверь я увидел, что к гостинице с печальным видом приближается человек с седой бородой. Я быстро встал и направился пастору навстречу, он пожал мне руку со словами: «Сообщили, что вашего брата нашли». Я взглянул на него и все понял. «Его больше нет в живых», – сказал пастор. Полиция нашла его в поле, около самой дороги и не так уж далеко от дома. Старого револьвера у него давно уже не было, но хватило и перочинного ножика.
Когда семнадцать лет назад Ганс женился, я, самый большой нелюдим и бирюк среди всех сестер и братьев, вынужден был в единственном числе представлять нашу семью на его свадьбе. Согласился я на это крайне неохотно, испытывая глубокое недоверие ко всему, что принято понимать под семьей, браком, счастьем, и все же в тот день я с большой силой ощутил кровное родство с братом и вернулся с этой свадьбы, радуясь за него и почерпнув сил для собственной жизни. Все это повторилось на ею похоронах. И на сей раз никому из братьев и сестер не удалось приехать, и теперь мне казалось, что на всем свете нет более неподходящего человека, чем я, чтобы представительствовать у гроба за брата и свата, за некую родовую общность. И теперь, как тогда, я с большим внутренним сопротивлением взял на себя эту роль, и опять все вышло совершенно иначе, чем я ожидал.
Был последний день ноября. Снег уже снова растаял, в холодном утреннем тумане накрапывал дождь, у вырытой ямы блестела мокрая глина. В гробу с застывшей улыбкой лежал Ганс. Вот гроб закрыли и опустили в могилу. Мы стояли под зонтиками на примятом газоне, с похоронной процессией на сельское кладбище пришло довольно много людей. Церковный хор, в котором Ганс пел столько лет, был в полном составе, в память о нем исполнили прощальный хорал, затем к могиле подошел седобородый пастор, и если о хоре можно сказать, что он пел прекрасно, то прощальное слово пастора было прекрасным вдвойне, и не имело значения, что я не вполне разделял его и Гансову веру. Торжество было, конечно, печальное, но все же теплое и достойное. Людей было много, некоторые плакали, всех их я видел впервые, но Ганса они знали и любили, многие из них на протяжении долгих лет были ближе к нему и больше значили для него, чем я, и все же я был единственный его родственник, единственный, кто хранил в своей памяти детские годы покойного, прошел с ним начальный отрезок пути, который становился для меня тем явственнее, чем он дальше отодвигался во времени. Приехала и наша кузина из Цюриха, в доме которой Ганс когда-то проводил свои воскресенья, а из детей, для которых он был тогда добрый дядя и товарищ по играм, двое, давно уже взрослые люди, стояли возле меня у могилы. Все мы долго оставались недвижны и после того, как пастор в последний раз произнес «аминь». Сколько человек вокруг меня говорило о своей любви к Гансу, о том детском очаровании, которым он всех щедро одаривал. Количество таких признаний поразило меня, я вдруг понял, что если мне и выпало счастье больше любить свою профессию, служить более благородному делу, чем мой брат, то я все-таки заплатил за это частью собственной жизни, может быть, слишком Дорого заплатил, потому что нельзя мне было надеяться, что и моя могила соберет столько любящих сердец; как могила брата, на которую, прощаясь, я бросил последний взгляд. Похороны, которых я немного побаивался, прошли, как ни странно, очень гладко и были, как это ни странно звучит, по-своему прекрасны. Поначалу я смотрел на гроб не без того чувства зависти, с которым старики иной раз смотрят на того, кто уже обрел покой. Теперь это чувство погасло. На душе были мир и согласие, я знал, что братец мой упокоен, я убедился, что и сам я оказался не на чужом месте; я бы многое потерял, если б не был вместе со всеми в эти грустные дни и не стоял вместе со всеми у этой могилы.
Воспоминание об Андре Жиде
Мое первое знакомство с творчеством Андре Жида состоялось благодаря переводам Феликса Пауля Греве, выходившим между 1900 и 1910 годами в издательстве Брунса в Мюнхене. Тут была «Узкая дверь», живо напомнившая мне при своей, правда, более гугенотской окраске, благочестивую атмосферу моего детства, которая меня – а я уже много лет вел с ней спор – в такой же мере привлекала, как и отталкивала. Затем тут был «Имморалист», понравившийся мне еще больше. Эта книга была посвящена его другу Анри Геону, одному из тех близких друзей, чей переход в другую веру причинил ему позднее такую боль. А кроме того, тут был совсем тоненький томик, которому переводчик оставил его французское название: «Poludes»,[3] замечательная, своенравная, строптивая, по-юношески манерная книжка, которая смущала меня и дурачила, то очаровывая, то зля, а в последующие годы, когда я опять отошел от Жида и почти забыл его, подспудно жила во мне. Между тем в мой литературный мирок ворвалась войной 1914 года мировая история, справляться надо было с проблемами совсем другими, чем прежние, проблемами страшными, смертельными. Но вскоре после войны, в начале моей тессинской жизни, вышла книга Э.Р. Курциуса «Литературные пионеры новой Франции», ее послесловие было помечено ноябрем 1918 года, и, поскольку я в годы войны подружился с Ролланом, а незадолго перед тем познакомился с Гуго Баллем, занимавшимся Пеги и Леоном Блуа, и очень симпатизировал попыткам сближения французской интеллигенции с германской, чтение этой прекрасной книги пало на благодатную почву, я раздобыл книги Пеги и Сюареса, но прежде всего сразу вспомнил Андре Жида, причем не только с любопытством и ученической любознательностью, а с желанием пересмотреть и поправить мое отношение к этому автору, оставшемуся в моей памяти таким обаятельным и двуликим, и я тут же с увлечением перечитал его «Имморалиста» и его «Poludes». В это время, пробудившись, благодаря книге Курциуса, возникла и окрепла моя любовь к этому писателю-соблазнителю, который к своим, так похожим на мои проблемам подходил совершенно по-другому и в котором мне по-прежнему нравились и казались поразительно близкими благородное своенравие, упорство и неукоснительный самоконтроль неутомимого правдоискателя. Я читал все его сочинения, какие удавалось достать, а со временем перечел чуть ли на все дважды и трижды.
При всей этой увлеченности современником, обладавшим для меня такой притягательной силой, мне никогда и в голову не пришло бы, что этот коллега в Париже тоже знает обо мне, а то даже и что-то мое прочел. Из написанного мною мало что вышло во французском переводе, и это немногое не нашло никакого отклика – как и в Англии. Так оно пока и оставалось. Но однажды, в 1933 году, случилась великая, неожиданная радость – короткое письмо от Жида. Вот оно:
Depuis longtemps je désire vous écrire. Cette pensée me tourmente que l'un de nous puisse quitter la terre sans que vous ayez su ma sympathie profonde pour chacun des livres de vous que j'ai lu. Entre tous «Demian» et «Knulp» m'ont ravi. Puis le délicieux et mystérieux «Morgenlandfahrt», et enfin votre, «Goldmund», que je n'ai pas encore achevé – et que je déguste lentement, craignant de l'achever trop vite.
Les admirateurs, que vous avez en France (et je vous en recrute sans cesse de nouveaux) ne sont peut-átre pas encore très nombreux, mais d'autant plus fervents. Aucun d'eux ne saurait кtre plus attentif ni plus ému que
André Gide.[4]Я от души поблагодарил его, но переписки у нас не вышло, мы оба были уже недостаточно молоды и достаточно заняты и довольствовались литературными дарами и приветами при случае. Но той неожиданной радостью дело не кончилось. Прошло четырнадцать лет после того письмеца, и однажды весной, после полудня, наша кухарка сообщила, что у двери дома три посетителя, двое мужчин и молодая дама. Она передала карточку, это были Андре Жид с дочерью и ее мужем. Я страшно обрадовался и в то же время немного испугался, ибо был небрит и на мне был мой самый старый костюм для садовых работ. Заставлять долго ждать таких гостей я не мог, я выбрал бритье, никогда я так стремительно не справлялся с этой задачей. И явился в потрепанной одежде в библиотеку, где с гостями уже сидела моя жена. Тут я и увидел его, первый и единственный раз, он был меньше ростом, чем я его представлял себе, да и старше, тише, спокойнее, но в серьезно-умном лице со светлыми глазами и выражением одновременно испытующим и созерцательным было все, что намечали и обещали немногие известные мне фотографии. Он представил меня своей красивой, недавно вышедшей замуж дочери и познакомил с зятем, у которого было дело ко мне: он переводил «Паломничество в Страну Востока» и хотел обсудить со мной несколько сомнительных выражений и трудных мест. Все трое были приятными и милыми гостями, но доминировал и привлекал к себе наше внимание, конечно, отец. В комнате, однако, мы находились не только впятером, на полу стояла большая мелкая корзинка, а в ней лежала наша кошка с котенком, ему не было и двух недель, лежа рядом с матерью, он то спал, то сосал, то еще неуклюжими, но энергичными движениями пытался исследовать и обойти окружающий мир, снова и снова карабкаясь слабыми лапками по вздутостям и впадинам подушки к краю корзины, перелезть через который он был еще неспособен.
Мы сидели, пили чай, говорили о путешествии в Страну Востока, о книгах и авторах, оба литератора смеялись, когда я объяснил им этимологию слова «Монтагсдорф», которую хотел узнать зять. Но с большей увлеченностью и теплотой, чем об этих вещах, говорил Жид о кусте, цветение которого он видел накануне в Понте Треза, он описал куст подробно и страстно и был явно разочарован, когда я не смог сказать, как этот куст называется.
Оживленно справлялся Жид и о моем самочувствии, он знал, что я страдаю от боли в суставах, а временами от ишиаса. В ходе разговора я захотел принести что-то из соседней комнаты, моей мастерской, чтобы ему показать. Когда он увидел, что мне трудно вставать из-за боли в спине, лицо его приняло полусочувственное, полуразочарованное или брезгливое выражение, такое же, наверно, как когда кто-нибудь из его бывших однокашников и товарищей юности возвращался в лоно церкви. По крайней мере мне так показалось.
Оживленно и интересно шла беседа, которую он вел без труда, ни на секунду не возникало впечатления, что он не полностью сосредоточен на разговоре. И все же полностью сосредоточен он не был. Моя жена, наблюдавшая за многочтимым гостем не менее внимательно, чем я, может подтвердить: в те полтора или два часа, что он сидел на диване, спиной к большому окну и к Дженерозо, его пытливые, любопытные, влюбленные наперекор всякой серьезности в жизнь глаза возвращались независимо от разговора к корзинке с кошками, матерью и ее детенышем. С любопытством и удовольствием следил он за ними, особенно за котенком, когда тот поднимал головку и едва прозревшими глазами удивленно разглядывал большой неведомый мир, когда, спотыкаясь, с трудом пробирался к краю корзинки, отваливался и, вытянув туловище, на нетвердых ножках полз назад к матери. Это был тихий взгляд управляемого и привыкшего к обществу, благовоспитанного лица, но в его взгляде, в упорстве, с каким он вновь и вновь возвращался к своей цели, чувствовалась та великая сила, которая правила его жизнью, гнала его в Африку, в Англию, в Германию и Грецию. Этот взгляд, эта великая открытость, тянущаяся к чудесам мира, был спокоен к любви и состраданию, но был совершенно не сентиментален, при всей увлеченности в нем была какая-то объективность, его первопричиной была жажда познания.
В год моего семидесятилетия Жид что-то написал обо мне, немецкий вариант появился в «Нойе цюрхер цайтунг». Затем вышло французское «Паломничество в Страну Востока», и к нему он написал небольшую заметку, которую можно найти среди статей его последней книги. Я давно обязан был поблагодарить его за это. Наконец, за несколько недель до его смерти, я собрался написать ему письмо, о котором не знаю, успел ли он его прочесть. Да это и неважно, но я рад, что я его успел написать. Вот это письмо:
Монтаньола, январь 1951
Дорогой, глубокоуважаемый Андре Жид!
Ваш новый переводчик Люсберг прислал мне Ваши «Осенние листья», я прочел уже большую часть этих воспоминаний и размышлений и счел бы теперь некрасивым и неправильным благодарить того за его дар, прежде чем пошлю Вам наконец снова привет и благодарность.
Мне давно следовало бы это сделать, но я уже долгое время живу в покорной усталости, а это не то состояние, в каком посещают старших и почитаемых. Но усталость может ведь продлиться и до конца, а мне все же хочется до того еще раз заверить Вас в моей неизменной, а в последние годы еще возросшей благодарности и симпатии.
Люди нашего склада стали теперь, так кажется, редкостью и начинают чувствовать себя одинокими, вот почему это счастье и утешение знать Вас еще как любителя и защитника свободы, личности, своенравия, индивидуальной ответственности. Большинство наших более молодых коллег и, к сожалению, очень многие из нашего поколения стремятся к совсем другому – к единомыслию, будь то римское, лютеранское, коммунистическое или какое-либо еще. Нет уже числа тем, кто довел это единомыслие до самоуничтожения. С каждым поворотом прежнего товарища к церквам и коллективам, с каждым отступничеством коллеги, который слишком устал или отчаялся, чтобы оставаться отвечающим за себя одиночкой, мир становится для нашего брата беднее, а дальнейшая жизнь труднее. Думаю, что то же самое происходит и с Вами.
Примите же еще раз привет от старого индивидуалиста, не собирающегося подключаться ни к одной из больших систем.
Некролог (Написан для торжественной программы парижского радио, посвященной памяти Андре Жида)
Когда коллега, который был образцом, мастер слова, покидает нас после долгой жизни и богатого урожая благородных творений, причины для скорби, собственно, нет. Ушло смертное, остается нетленное. Товарищ, еще только что достижимый, от которого могло прийти письмо сегодня или завтра, исчез и уже не дает ответа, но он не превратился в ничто, он продолжает существовать в плеяде, к которой принадлежат Монтень, Вольтер, Флобер. Вот утешение, имеющееся у нас наготове при смерти многочтимого и любимого мастера, хорошее утешение, оно еще подтвердится. Но в час, когда нас постигает такая утрата, сердце говорит другим языком, оно знать не желает о мудрости, оно настаивает на своей любви, а потому и на своем праве на скорбь и печаль. Так было со мной, когда до меня дошла весть о смерти многочтимого друга: пропала какая-то частица света, какая-то частица тепла, какая-то частица жизни и радости, мир стал на какую-то тень тусклее, существованье на сколько-то холодней и бедней. Да, остались книги, творения, а с ними – память о личности – по возможности вновь обменяться мыслями с теперь бессмертным, надежды еще раз увидеть его умное, сколь же нервное, столь и спокойное лицо – их не стало. Прежде чем мы, знавшие его и любившие, присоединим его имя к вечным для нас именам, нам суждены горестное прощание и гнетущая боль.
Немного среди моих современников и сверстников людей, чей уход вызвал бы у меня подобные чувства, очень мало людей, которые были бы мне так близки и столько для меня значили. Есть умы, чье величие и бессмертие состоят в том, что они как бы не принадлежат своему времени и окружению, они словно бы не конкретные лица, а часть объективного и вневременного духа, таковы многие религиозные писатели, кажется, что их родина – это некий твердый, надежный мир истинного и законного. К ним Андре Жид не относится. Он личность до мозга костей, до вывертов, до разнузданности, индивидуум, принужденный в одиночестве бороться и защищаться от опасной загадочности и проблематичности мира, то и дело вынуждаемый богатством своего воображения и чувствительностью своей интеллектуальной совести вновь подвергать сомнению и испытывать на прочность даже законное с виду и непреложное. Он вышел из строгой, хорошей школы совести, и некоторые ранние его произведения – чистейшее из них, пожалуй, «Узкая дверь» – с проникновенной и мучительной верностью показали и сберегли для потомства эту гугенотскую благочестивость с пуританским оттенком. Здесь все дышит запахом пасхального дня ранней весны, запахом, в котором есть такая же доля первых крокусов и фиалок, как и сладостно-горьких образов Страстной недели.
Развитие Жида шло в основном путем освобождения от этого благочестивого мира веры и образов, это был путь сверходаренного человека, воспитанного слишком строго и узко, который уже не выносит этой узости и знает, что его ждет мир, но не склонен поступаться приобретенной благодаря такому воспитанию чуткостью совести. Правда, его стремление к свободе относится не только к духовной сфере; настаивают на своем праве и чувства, и в бунте чувство против контроля и опеки – источник и объяснение того налета «enfant terrible», той радости разоблачать и обнажать, радости застигать благочестивых на месте их благочестиво прикрытых пороков и вожделений, словом, той доли ехидства и агрессивной мстительности, которая, несомненно, входит в образ этого писателя и, несомненно, для многих его читателей есть самое очаровательное и соблазнительное в нем. Но сколь ни важна была эта движущая сила в жизни Андре Жида, сколь ни манило, ни соблазняло его разоблачать праведников и дурачить обывателя, в этом благородном уме рвется расцвести и созреть нечто большее, чем способность и охота смущать или шокировать своих читателей. Он находился на опасном пути всякого гения, который, вырвавшись из уже невыносимых для него традиции и морали, чувствует себя перед миром невыразимо одиноким, лишенным путеводной нити, и на более высоком уровне снова ищет компенсации за утраченную защищенность, ищет образцов или норм, способных поправить и исправить слишком чреватое опасностями отщепенство индивидуума. Вот мы и видим, что он всю жизнь деятельно дружил с естественными науками, видим, что мир культур, языков и литератур он исследовал с упорством и прилежанием, вызывающими у нас изумленье и восхищенье. В этой пожизненной, тяжкой, рыцарской борьбе он обрел новую разновидность свободы, свободы от догм и сообществ, но в постоянном служении правде, в постоянном стремлении к познанию. В этом он истинный брат великого Монтеня и того автора, который написал «Кандида». Всегда было тяжело служить правде в одиночку, когда ты не защищен ни религиозной системой, ни церковью, ни сообществом. Рыцарственно и образцово шел Андре Жид этим тяжелым путем.
И теперь, когда ему уже не тяжело и его уже не могут тяготить ни наше непонимание, ни наше восхищение, он нашел и сообщество, которое принимает его с готовностью и без малейшего ущерба его свободе, сообщество тех великих собратьев, что уже так давно предшествовали ему и все-таки живы и ныне.
Траурный марш Памяти одного товарища юности
Кажется, где-то в «Игре в бисер» говорится о личных ассоциациях, в частности о связи определенных тактов музыкального произведения со столь же точно определенными личными ощущениями. Недавно, слушая в час отдыха радио, я невольно вспомнил об этом. Я слышал, как один молодой пианист играл Шопена, и слушал его и Шопена так, как слушают музыку при физической усталости, невнимательно, немного рассеянно и пассивно, больше наслаждаясь звучанием, чем следя за линиями конструкции. Исполнялся и знаменитейший из этюдов Шопена, пьеса, которую я люблю меньше большинства Других сочинений этого мастера, поэтому мое внимание еще больше ослабело и почти уснуло. Но тут пианист сыграл первый такт траурного марша, и я вдруг, словно от внезапного толчка, проснулся, но проснулся не в направлении наружу, не для того, чтобы заново предаться музыке, а в направлении внутрь себя, в страну воспоминаний. Ибо траурный марш Шопена принадлежит для меня к произведениям, с которыми ассоциативно слито десятилетиями какое-то событие, неизменно воскресающее, как только услышу их.
Когда я услыхал этот марш впервые, не могу вспомнить, хотя в те юные годы Шопен был моим любимым музыкантом. До двадцатилетнего возраста я, кроме ораторий в церкви и нескольких песенных концертов, слышал только домашнюю музыку, а в ней Шопен, наряду с бетховенскими сонатами, Шуманом и Шубертом, был в числе предпочитаемых композиторов; печально-сладостные мелодии некоторых его вальсов, мазурок и прелюдов я еще мальчиком знал наизусть. Траурный же марш я хоть, вероятно, и слышал, но не пережил. Пережить его довелось позже, в мои тюбингенские годы книжной торговли. Однажды я стоял в хекенхауэровской лавке, расставляя стопки тейбнеровских классиков в алфавитном порядке, и день этот был особый: хоронили одного студента, но не какого-то там, а моего маульброннского однокашника, студента, стало быть, которого я знал с детства, да и здесь, в Тюбингене, мы иногда виделись и разговаривали. Со времени смерти дедушки Гумперта, лет шесть или семь, такого больше не случалось, чтобы призрачная рука смерти находила добычу рядом со мной, уносила душу из моего близкого окружения, и хотя до этого бедного студента мне было куда меньше дела, чем тогда до моего деда, только теперь я стал достаточно тонок и чувствителен, чтобы ощутить леденящий холод небытия и воспринять случившееся не только как сенсацию. Когда я накануне узнал о смерти своего бывшего однокашника Эберхарда, я почувствовал собственной кожей холодную руку друга Хайка, или, может быть, ее тень, в первый раз я воспринял чью-то смерть не только как утрату или как чужую судьбу, а как тот, кого это тоже касается, как сопричастный. Вдобавок и кончина нашего Эберхарда не была обыкновенна, он погиб не от воспаления легких или от тифа, а от того, что наложил на себя руки, застрелился. В мирном Тюбингене в то время, в конце прошлого века, похороны студента были редким, потрясавшим весь город событием, а уж самоубийство студента и подавно. Да и университет и студенчество были тогда еще живыми содружествами с сильным духом единства и нерушимыми законами и обычаями: если хоронили студента, то на кладбище его провожали не только его друзья или товарищи по объединению, в похоронах участвовало и множество студентов и горожан, не знавших покойного, и для всех студенческих союзов было делом чести отрядить делегатов на панихиду.
И вот я стоял в хекенхауэровской лавке с греческими авторами в руках, а мыслями с Эберхардом и в ожидании похоронной процессии, когда с соседней улочки донеслась и стала медленно приближаться патетически-грустная духовая музыка. Уже и старшие мои коллеги услыхали ее за своими конторками в задней комнате лавки и выходили на улицу, я вышел следом за ними, и вот мы стояли, глядя, как медленно, медленно приближается, колыхаясь, процессия, впереди черный катафалк с увенчанным гробом, за ним, в празднично-торжественном шествии, уполномоченные корпораций при полном параде, в шапочках, лентах, сапогах с отворотами и с опущенными шпагами, и в таком же виде корпоранты, а затем другие студенческие союзы, посредине городской оркестр, длинная, пышнокрасочная процессия, над которой траурным знаменем развевалась и колыхалась эта тяжелая, грустная, блистательно скорбная музыка Шопена, эти патетические такты марша, которые мне еще много раз в жизни суждено было слышать, и уже никогда без мучительно нахлынувшего воспоминания об этом часе. Между стенами домов и могучим, высоким зданием монастырской церкви волны духовой музыки сливались и смешивались в нестройный гул, и, когда я думал о бедном самоубийце, хоть и малознакомом, но удивительно приятном мне человеке, меня несколько отвлекало и огорчало поведение моих коллег и многих других зрителей, которые обступили площадь и заполнили все окна, зрителей, чьи лица выражали, как мне казалось, не боль и не благоговение, а только праздное любопытство. Медленно, медленно, а для меня все-таки слишком быстро, проплыла и скрылась процессия, а прекрасная и страшная похоронная музыка еще долго доносилась из ущелий Улиц, где потонуло зрелище, и мне было мучительно тошно возвращаться из высокой строго-великолепной сферы торжества в лавку и пыльную обыденность.
Уже в те дни, и позже каждый раз снова, когда эта пылающая сладострастьем скорби музыка напоминала мне дорогого Эберхарда, я поражался, как мало я о нем действительно знал и как все же дорого и важно было мне это немногое. То и дело, с многолетними перерывами, я вытягивал нить моих воспоминаний о нем и каждый раз удивлялся тому, сколь коротка эта нить. У меня были однокашники, к которым я относился довольно-таки безразлично, но о которых у меня сохранилось много всяких воспоминаний: школьнические истории, забавные словечки, клички, приключения во время школьных походов или игры в индейцев. С Эберхардом было все наоборот: кроме одного, незабываемого, впрочем, случая в маульброннском лекционном зале, с ним не связано никаких школьных событий: не знал я также, хорошо ли он учился или плохо, занимался ли музыкой или имел какие-то другие личные интересы, не рассматривал я сознательно и его почерка. Тем не менее что-то во мне знало о нем так много, что при известии о его добровольной смерти я хоть и испытал боль и сострадание, но не удивился.
Тому его образу, который я хранил в себе, эта смерть не противоречила, она даже подходила к нему, я нашел ее адекватной его жизни и с долей преувеличения мог бы сказать, что, в сущности, ждал ее. И этот образ по имени Эберхард отнюдь не был расплывчатым, неполным, он был точным и определенным, столь же точным и еще определеннее, чем образы товарищей, с которыми я дружил и был связан множеством разговоров и общих впечатлений. Эберхард, которого я знал – или полагал, что знал, – с маульброннского детства и чей облик, чье лицо хорошо помню и спустя шестьдесят и более лет, принадлежал в нашей стайке из сорока с лишним семинаристов к тем, кто казался старше своего возраста. Большинство из нас выглядело ровесниками, это были четырнадцатилетние мальчики. Иные, хотя они ничуть не были моложе, выглядели из-за своего малого роста или детских физиономий нашими младшими братьями, а кое-кто с виду превосходил нас годами, казался более зрелым и взрослым.
К ним принадлежал Эберхард. Я вижу его довольно рослым, худым и несколько угловатым, с костистым лицом, на вид замкнутым, застенчивым и недетским, казалось, что природная застенчивость и отчужденность отделяет, отдаляет его от других. Это выражалось в его манере держать себя, несвободной, неестественной, натужной манере, и еще больше в его взгляде. Его взгляд при такой на редкость напряженной манере держать себя мог бы показаться робким, но робким он не был, в чувстве собственного достоинства у него не было недостатка – нет, он был не робким, а лишь несколько застенчивым и недетским, очень отчужденным, очень уклончивым, всегда настороже перед назойливостью мира, к которому этот молодой, серьезный человек не подходил, с которым он не мог и не хотел сжиться. Тогда, когда мы были еще детьми, я видел и ясно чувствовал все эти знаки, но не истолковывал их и не сомневаюсь, что иной раз и я, как мы все, обижал, сердил или пугал этого застенчивого оригинала в его одиночестве и скрытности. Конечно, я делал это не сознательно и не нарочито, ибо хорошо помню, что одиночество и оборонительную напряженность этого тихого человека воспринимал просто как нечто странное и неприятное, но и как нечто достойное уважения. Беззащитный с виду, он был, как облаком или аурой, окутан своей необычайностью и впечатлительностью, в которой было и какое-то возвышающее благородство.
Теперь надо поведать и единственную небольшую историю, известную мне об Эберхарде. Вся тогдашняя маульброннская профессура наблюдала и без конца вспоминала эту историю; принадлежа к множеству анекдотов, связанных с фигурой нашего эфора, она сохранилась и то и дело рассказывалась из-за этого человека. Лишь после смерти нашего соученика эта школьная история, поначалу только смешная, приобрела какую-то серьезность и жутковатость.
Наш эфор, директор семинарии, считался хорошим гебраистом и был человек разносторонне одаренный и интересный, неважный, правда, директор и воспитатель и нрава, к сожалению, ненадежного, но любопытный, а порой и обаятельный собеседник, краснобай и актер, умевший с одинаковым блеском строить из себя и шармера, и неприступную твердыню или оскорбленное величие. Мы, ученики, ценили и собирали его словечки и перлы, они прямо-таки напрашивались на имитацию, и многие из них десятки лет пользовались славой среди швабских гуманистов как кафедральная классика. Так, однажды, на лекции по древнееврейскому языку, со страстным пафосом читая в оригинале историю о грехопадении, он при возгласе Ягве, означающем в переводе «Адам, где ты?», в филологическом раже самозабвенно воскликнул: «Как же могло это «дагеш» forte implicitura[5] прозвучать в божественных устах, молодые друзья!»
Итак, этот занятный человек, любивший порой играть здоровяка и молодца, каким он отнюдь не был, вел у нас однажды очередное занятие. Пружинисто расхаживая между кафедрой и доской, он бросал на нас то доброжелательные, то осуждающие взгляды, у него были очень выразительные глаза, и он радовался своему могуществу и великолепию. Вдруг его взгляд остановился на ученике Эберхарде, тот сидел согнувшись, с отсутствующим видом, полузакрыв глаза, погруженный в себя, то ли он устал и дремал, то ли был очень занят какими-то мыслями, не имевшими никакого отношения ни к школе, ни к древнееврейскому. Этот великий лицедей тут же начал роскошную мимическую игру, его лицо выразило удивление, легкое неудовольствие, полувеселье, он пружинисто, легкой походкой приблизился к замечтавшемуся и вдруг металлическим голосом и тоном полушутливым-полунедовольным окликнул его: «Эберхард! И вы хотите быть немецким юношей? Вы сидите тут как растоптанный лесной цветок». Мы все с веселым любопытством повернулись в их сторону и увидели, как Эберхард встрепенулся, выпрямился, смущенно моргая, овладел собой и посмотрел на мимиста покорным, беспомощным взглядом. Как я уже сказал, этот случай показался всем или почти всем смешным, мы были склонны счесть забавными и потешными не только эфора и его спектакль, но и испуганного мальчика. Лишь много лет спустя, после смерти нашего товарища, большинство из нас увидело все это в другом свете, то же произошло и со мной, и с годами эта излюбленная забавная история все больше приобретала для меня какую-то жутковатость и аллегоричность, тщеславный герой кафедры становился постепенно символом всякой власти и агрессивной активности, а тот, другой, воплощал всю потерянность и беззащитную слабость мечтателя или мыслителя, одиночки и отщепенца. Это было столкновение мира и души, грубой действительности и мечты. Противоположность, непревзойденно и незабываемо представленная Жан Полем в сцене, где после страшной ночи во флецской гостинице драгун с возгласом: «Как изволили почивать, господин свояк?» – хлопает по плечу военного священника Шмельцле.
Других, связанных с Маульбронном воспоминаний об Эберхарде у меня нет. Мы были однокашниками лишь несколько месяцев, я досрочно покинул монастырскую школу и только несколько лет спустя, служа в книжной лавке в Тюбингене, снова встретил там своих соучеников – уже студентами. Нашел я среди них и Эберхарда, но сблизиться нам не довелось. Все же несколько раз я встречал его на улице, мы приветливо здоровались, обменивались несколькими словами и шли дальше. Один только раз мы поговорили немного дольше. Он спросил меня о моих интересах и занятиях, я обрадованно отозвался на это и стал рассказывать ему о своем чтении, о своих занятиях Гёте и Новалисом, слушал он вежливо, но с тем прежним взглядом из дальней дали, который не изменился за эти несколько лет и говорил мне, что мои слова доходят только до его ушей. Больше нам встречаться не случалось, но участливое отношение, почти любовь к нему у меня остались. Его отщепенство, одиночество и ранимость вызывали у меня что-то вроде сочувствия, они были понятны мне вне, ниже или выше рационального, потому что как догадка, как возможность были и во мне тоже. Я был, правда, совсем другого нрава, чем он, переменчивее, подвижнее, да и веселее, общительнее, расположеннее к игре, но одиночество и сознание своей отчужденности от других были хорошо знакомы и мне. Это стояние на краю мира, на границе жизни, эта потерянность, этот пристальный взгляд в никуда или в потусторонность – все это, казавшееся частью натуры Эберхарда и постоянной его основой, в какие-то часы и мгновения ставило и для меня жизнь под вопрос, отравляло ее. Там, где он, казалось, стоял или ютился всегда, каждый день, мне уже как-никак тоже приходилось бывать. Только мне всегда удавалось с облегчением возвращаться к привычному и размеренному, где жилось проще.
Вот какие воспоминания, картины, мысли и чувства так мучительно всколыхнули мне душу, когда я, оглушенный траурным маршем, глядел, как исчезает гроб печального моего товарища, а за ним длинное, торжественное шествие, и они с тех пор охватывали меня каждый раз, когда я слышал эту музыку. Она всегда неукоснительно вызывала во мне образ нашего Эберхарда, с его нетвердым, чуть судорожным наклоном головы и плеч, с его прекрасными, грустными чертами лица и соскальзывающим в пустоту, беспомощно кротким взглядом. Вопреки своему обыкновению я никогда не собирал сведений о его короткой тяжелой жизни, полагая, что знаю самое важное. Но через много, очень много лет мое знание дополнилось еще кое-чем. Мне попался портрет одного выдающегося, умершего молодым писателя, к которому я относился с такой же смесью любви и сочувствия, понимания и отчужденности, как к своему маульброннскому товарищу. Красивое, грустное юношеское лицо со скорбным взглядом было поразительно похоже на лицо Эберхарда. Звали этого грустно глядевшего, умершего в молодости писателя Франц Кафка.
Друг Петер
28 марта Петеру Зуркампу исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в одной из франкфуртских больниц, смертельно больной. Я подарил ему свое последнее стихотворение «Утренний час», украшенное акварельной картинкой. Он показывал мой подарок навестившим его друзьям, выпил с ними глоток шампанского. Через три дня, утром 30 марта, он умер. Я потерял самого верного своего друга и самого незаменимого.
Когда у тебя умирает друг, тогда только и видишь, в какой степени и с каким особым оттенком ты любил его. Ведь есть же много степеней и много оттенков любви. И обычно тогда выясняется, что любовь и знание – это почти одно и то же, что человека, которого ты больше всего любил, ты и знаешь лучше всего. Степень боли, испытываемая в момент потери, не имеет решающего значения, она слишком зависит от нашего сиюминутного состояния. Есть времена, дни, часы, когда мы согласны с бренностью, с законом увядания и умирания, и тогда весть о чьей-то смерти мы принимаем так, как принимает осенью дерево дуновение ветра: оно слегка вздрагивает и чуть вздыхает, роняет горсть высохших листьев и вновь погружается в свою дремоту. В другой час боль из-за той же смерти обожгла бы, как огонь, ударила бы, как топор. Кроме того, одно дело, когда чья-то смерть поражает нас, другое – когда мы ее ждали, часто боялись, часто заранее представляли себе. Так было с другом Петером. На протяжении многих лет близкие любили его как страдальца, находящегося в большой опасности, постоянно пребывающего рядом со смертью. Сколько бы жизни и энергии ни излучал он в оживленном, порой страстном разговоре – когда мы потом видели, как он осторожно, явно больной, шагал перед домом, слегка наклонившись вперед, высокий, с вяло повисшими руками, с неподвижным лицом, глядя усталыми глазами куда-то вперед, или когда среди взволнованной речи на него нападал кашель, так всех нас пугавший, ужасный, лающий, сотрясающий тело кашель, при котором его милое лицо искажалось и багровело, когда он медленно и с усилием поднимался со стула и покидал нас с прощальным жестом, – все становилось ясно, и при каждом прощании мы опасались, что оно – последнее.
Поэтому весть о кончине Петера не поразила и не испугала меня. Боль не пронзила, не обожгла, она не поторопилась, она и сейчас не испытана до конца. Но очень скоро образ друга претерпел во мне то превращение, то укрепление, то преображение, которое происходит лишь с образами очень дорогих и очень важных нам завершенностей, которое, собственно, только и придает в нашей памяти, в картинной галерее нашей души завершенность умершим. Ведь мы же знаем немало умерших, которых завершенными никогда не чувствуем и не называем. Мой друг годами находился на краю жизни и не раз отступал для меня на то расстояние, на которое вообще-то уводит наших любимых лишь смерть. Затем он опять возвращался с этого расстояния, с высоты обреченного на смерть в будни живущих и действующих, возвращался с высоты преодолевшего в атмосферу мгновенья и случая. Но теперь, когда возможности такого возвращенья не стало, я увидел и ощутил, что Петер давно уже принадлежал для меня больше к завершенным, сверхреальным (не хочу говорить – «преображенным»), чем к тем, кто жил на одном уровне со мной. Тут играло известную роль то, что я знал в пору его великого испытания, – ведь в самое мрачное время Германии он был приговорен к смерти и, как Достоевский, чуть не казнен. Вдобавок его безнадежная болезнь.
Да, при каждом прощании мы глядели друг на друга в глаза с невысказанными вопросами: «Увидимся ли еще?» и «Кто из нас уйдет первым – ты или я?» Но в глубине души я все-таки всегда видел его, куда более молодого, более близким к смерти, чем себя. Более молодой и часто такой юный на вид, чуть ли не мальчик, он был из нас двоих серьезней и старше. Из двух тональностей и позиций, попеременно определявших его смелую, почти авантюрную жизнь, верх одержала пассивная и смиренная. Ведь вся его жизнь прошла между двумя полюсами – смелой активностью, стремлением к творческой и воспитательной деятельности и тоской по уединению, тишине, защищенности.
После мук Петера Зуркампа в тюрьме и концентрационном лагере, мук, от которых он избавился лишь благодаря случайности, в сумятице германского провала, его здоровье, сильно пострадавшее уже в первую войну, было загублено, сердце никуда не годилось, а от легких остались ошметки. Если он тем не менее много лет не просто влачил дни, а жил интенсивно и совершал большие дела, то тут дала себя знать наследственная крепость старой крестьянской породы. Даже когда индивидуум, в сущности, износился и истощился, стойкая наследственность давала еще тени опору и позволяла ей выносить почти невероятное напряжение.
Этот запас стойкости, близости к земле, любви к порядку и терпеливой силы всю жизнь спорил с его индивидуальным темпераментом и характером, заставившим его отказаться от отцовского, крестьянского наследства, покинуть родной край, часто менять профессии и в качестве учителя, солдата, офицера, театрального деятеля, издателя и писателя самостоятельно и независимо завоевывать мир. Когда он возвращался в отцовскую усадьбу в гости, как он описал это в одном образцово прекрасном прозаическом отрывке, он оказывался там чужим, его там совершенно не понимали. Зато когда он сидел, беседуя, напротив какого-нибудь взволнованного молодого литератора, какого-нибудь нервного дельца, режиссера или актера, уже один его степенный ольденбургский говор действовал укрощающе, успокаивающе, урезонивающе, и в хорошие часы от него прямо-таки веяло терпеливо-упрямой крестьянской мудростью его отцов.
Его радость от чтения и писания в последние годы очень пострадала и почти умерла под гнетом постоянной служебной перегрузки. Зато страсть его к воспитательству и страсть к театру оставалась жива до конца. Его пламенный интерес к сцене, к приданию литературе зримости и слышимости был столь же родствен созидательной страсти воспитателя, как и созидательной страсти издателя выпускать прекрасное, чтобы оно было как можно убедительнее, проще, долговечнее.
В нашей дружбе, как во всякой другой, была основа родства, сходства задатков и отношения к миру: у обоих нас были восприимчивость и своенравие художника, сильная потребность в независимости, обоим предки дали в наследство четкую, строгую упорядоченность и нравственность, которая тайно, но мощно продолжала оказывать свое действие и после прорыва из нее на свободу. Но как и в каждой дружбе, были также, поверх этой общей основы, различия, которые как раз и подогревали снова и снова интерес и любовь. Каждый из нас обладал особенностями, склонностями и привычками, которые другому всегда хотелось осуждать, хотя в то же время казались ему привлекательными, забавными или трогательными. Но было между нами взаимоуважение, не допускавшее иной критики, чем дружеская и бережная. Когда Петер познакомился со мной, я был старшим, преуспевшим, которого он читал еще в детстве, а позднее, на решающем переломе его карьеры после войны, когда он колебался между полной разочарованностью и нерешительной готовностью начать сначала, я был самой крепкой его опорой. Я же чтил в нем еще больше, чем даровитого издателя и писателя, страстотерпца и героя, вынесшего бесконечно больше страшного и враждебного, чем я и кто-либо из других моих друзей.
Друга Петера много любили, его обаяние было велико, причем не только тогда, когда он сознательно пускал его в ход. И в его мрачные самоубийственные часы, когда его ругали или когда его очень хотелось выругать, его нельзя было не любить. Особенное удовольствие мне доставляло видеть его за работой, утром в моей библиотеке или на террасе. Свои бумаги, оттиски, перья и карандаши он раскладывал перед собой на столе с такой аккуратностью, в таком порядке и сидел над работой так тихо, внимательно, сосредоточенно, погруженно, как какой-нибудь Иероним. Много бы отдал я за то, чтобы увидеть это еще раз.
После его смерти я получил от друзей, коллег и читателей множество участливых писем, самое лучшее – от Рудольфа Александра Шредера. Было прислано мне также немало газет и некрологов; все воздавали хвалу и образцовому издателю, и храброму борцу-страстотерпцу ужасного времени. Гораздо меньше говорили о его писательском творчестве, увы, слишком мало и слишком неосведомленно! Его литературное наследие не очень объемисто. Мы, его авторы и друзья, издавали его «Избранное» красивым двухтомником – дважды, к его шестидесятилетию и шестидесятипятилетию, – это был славный праздничный подарок, доставивший ему радость. Но оба эти тома вышли маленьким, не поступившим в продажу тиражом, поэтому перепечатанные в них работы вам недоступны, если вы не обладатель старых годовых комплектов «Нойе рундшау».
Но, к счастью, нам удалось заставить Зуркампа выпустить несколько его лучших и наиболее поэтических произведений в 1957 году красивым и общедоступным изданием. Я тогда многим из вас подарил эту милую книжечку. Она озаглавлена «Мундерло» – по названию романа, который Зуркамп начал писать в конце 1944 года, находясь в предварительном заключении по политическому обвинению. Он остался фрагментом, но сто примерно страниц этого значительного произведения, повествующие о жизни Петера, когда он был молодым сельским учителем, милее мне, чем многие знаменитые книги нашего времени и чем многие авангардистские книги, которым Петер с трогательным рвением посвятил себя как издатель. И еще есть в этом драгоценном томе несколько прозаических работ, которые я считаю просто классическими и включил бы в каждую немецкую хрестоматию, особенно «Гость» и «Яблоневый сад». Лучшей прозы в наше время никто не писал.
Нетрудно как-то воздать должное трудам человека, работавшего преимущественно у всех на виду. Куда более скрытным и доступным, по сути, лишь любящей догадливости остается то, что он выстрадал. Чем больше и глубже страдание, тем меньше станет он о нем говорить. Из множества ужасных вещей, которые выпали ему на долю, Петер кое о чем рассказывал близким друзьям, рассказывал весело и невозмутимо, например о гибели его прекрасного и любимого берлинского дома во время ночной бомбежки или фантастическую одиссею его возвращения из заключения. Это были страдания, потери, испытания, которые он перенес, с которыми справился, к самым же страшным своим впечатлениям и мукам в гитлеровском аду он прикасался словом редко и робко, туда за ним могло следовать лишь воображение сочувствующей любви. О тяжелых физических страданиях его последних лет мы знаем.
Но это было не все. Он, которого так любили, которому так легко удавалось сохранять свой авторитет, все годы после последней войны жил в большом одиночестве, без семьи, без уюта и ухода, в лишь отчасти желанной аскетической примитивности, в отчаянно упрямой заброшенности. И этой уединенности и покинутости, этой внешней бездомности соответствовала бездомность внутренняя, которой мы раз-другой лишь ощупью коснулись в очень доверительном разговоре. Он прошел через жуткую историю Германии, через хвастливые «великие времена», через войны, поражения, революции, варварство, разруху и под конец восстановление; в целеустремленной, преуспевающей, американизированной Германии он сам тоже строил, тоже колдовал, тоже имел успех, и все-таки с каждым днем он все зорче видел своими голубыми печальными глазами насквозь эту ярмарку придания, забывчивости, карьеризма и мании величия, он давно уже не верил во внутреннюю действительность, в подлинность мира, в котором он жил и играл важную роль, ему не делалось в этом мире тепло и удобно, и он, так любивший жизнь, так, казалось бы, годившийся для того, чтобы наслаждаться жизнью, умер в конце концов наверно, с радостью, что бросает эту канитель.
Позволю себе огласить одну фразу из письма Р. А. Шредера: «В каком одиночестве довелось Зуркампу выстрадать земной ад своих последних, мучительных лет, вновь и вновь находя мужество для доброжелательной, великодушной, достойной даже в ее заблуждениях манеры держать себя».
Когда я где-нибудь в разговоре или при чтении встречаю ставшую штампом фразу об «истинной», или «подлинной», или «тайной» Германии, я вижу высокую, худую фигуру Петера. И Шредер тоже этого поля ягода.
Одному музыканту
Некоторое время назад Вы прислали мне славную книжечку «Musica domestica» Эриха Валентина. Она доставила мне много увлекательных часов, за которые я благодарен Вам и автору. Первая же глава со множеством часто таких восхитительно замысловатых заглавий музыкальных публикаций XVII века пленила меня и напомнила мне классическую фразу Анатоля Франса: никакую книгу он не читает с таким интересом и удовольствием, как каталог букинистической лавки. Приятно колеблясь между ученостью и популярностью, собрав на крошечном пространстве уйму знаний и изысканий и как бы пробираясь через них вброд, она не только показывает читателю со средней историко-музыкальной подготовкой историю понятия «musica domestica», или «домашняя музыка», и его метаморфозы вплоть до нынешнего значения этих слов, она еще и берет нас с собой на экскурсию по весьма внушительной, несмотря на ее относительную молодость, литературе по истории музыки и толкованию музыки; читателю походя напоминают почти все книги такого рода, которые он когда-либо читал или перелистывал. Развлекало меня также, конечно, и немного польстило мне стремление осветить наряду с ролью музыканта и роль его слушателя, оценить ее выше, чем обычно, возвысить всего лишь наслаждающегося и ничего не умеющего до участника и знатока, повысить ранг лежащего на кушетке слушателя радио и пластинок. Многие, с большим или меньшим правом, услышат это к великому своему удовольствию. Ободренный таким повышением ранга, я попытаюсь потом передать Вам и одно новое свое приятное радиовпечатление.
Впрочем, слушать радио и граммофон я стал лишь в старости, и, оглядывая свои музыкальные впечатления, я вижу, что главное место занимает не транслированная и не консервированная музыка и не она сделала из меня любителя, а в иных областях и средней руки знатока. Нет, годам моего одинокого вбирания в себя музыки в собственной комнате предшествовали десятилетия многосоткратного участия в публичных концертах, оперных вечерах, фестивалях и торжественных исполнениях церковной музыки в «надлежащем» и почтенном месте, в концертных залах, театрах, церквах, в обществе равнорасположенных и сходно настроенных реципиентов, чьи задумчиво слушающие, благоговейно внимающие, часто озаренные изнутри и отражающие красоту услышанного лица занимали меня в течение нескольких тактов порой даже больше, чем слушанье как таковое. Десятки лет я ни разу не мог, слушая заключительный хор «Страстей по Иоанну», не вспомнить исполнение под управлением Андреэ в цюрихской «Тонхалле»: на стуле передо мной сидела пожилая женщина, на которую я во время всего концерта не обращал внимания. Когда отзвучал последний хор и публика начала расходиться, когда Фолькмар положил свою палочку и я тоже, со знакомым сожалением и нежеланием прощаться, приготовился к возвращению в текущую жизнь, эта женщина передо мной медленно поднялась, застыла на миг перед уходом, и, когда она немного повернула голову, я увидел, как по ее щеке катятся слезы, одна за другой.
Но не только при случайном взгляде на восторженную соседку наряду со слухом активизировалось и одарялось зрение: на концерте Генделя или Вивальди я и глазами видел, например, торжественную или скачущую или порывистую поступь струнных в подвижных параллелях смычков, в тяжелой пилке басовых инструментов. Я видел дирижера, солистов, и не раз это бывали мои друзья и близкие знакомцы. Дружба и встречи с композиторами, дирижерами, виртуозами, певцами и певицами были неотъемлемой частью моей музыкальной жизни и моего музыкального воспитания, и, вспоминая сегодня особенно яркие по впечатлению концерты на фестивалях или в церквах, я не только вновь слышу эту музыку с особым настроением и темпераментом тех часов, нет, я вижу также трогательный облик Дину Липатти, аристократический облик Падеревского, пластичного Сарасате, сияющие глаза Шёка, спокойную барственность дирижерской манеры Рихарда Штрауса, фанатизм Тосканини, нервность Фуртвенглера, вижу самозабвенно застывшее над клавишами милое лицо Бузони, вижу Филиппи в оратории в позе весталки, Дуриго с широко раскрытыми глазами в конце песни о Земле, плотную мальчишескую голову Эдвина Фишера, цыгански-резкий профиль Ганса Губера, прекрасный размах рук Фрица Бруна в каком-то анданте и десятки, и сотни других благородных и дорогих обликов, лиц и жестов. Всего этого нет, когда слушаешь радио, а телевидение я знаю лишь понаслышке.
К двум местам книги Валентина я хочу сделать короткие замечания, чтобы Вы передали их автору. Одно место – цитата из Мёрике, где тот слушает пенье Штраус. Штраус – это, несомненно, знаменитая оперная певица Агнесса Шебест, несчастливо вышедшая замуж за Д.Ф. Штрауса, еще более знаменитого автора «Жизни Иисуса». Душераздирающую историю этого брака можно узнать из переписки Штрауса с Фр. Т. Фишером доскональнее, чем хотелось бы.
Другое место, по поводу которого я кое-что заметил бы и где кое-что поправил бы, касается моего друга и покровителя Г. К. Бодмера. У Валентина написано: «Цюрихский врач Г. К. Бодмер был специалист по Бетховену». Сказано слишком мало, да и отчасти неверно. Мой друг Бодмер не был ни врачом, ни специалистом в какой-либо области. Правда, в возрасте тридцати шести лет он начал изучать медицину, сдал все экзамены и получил звание доктора, но никогда не занимался врачебной деятельностью профессионально. В молодости он изучал музыку и, наверно, стал бы охотней всего дирижером, всю жизнь он дружил со многими выдающимися музыкантами и был крупным музыкальным меценатом, к тому же он за несколько десятков лет собрал одну из самых больших и ценных бетховенских коллекций, которую со свойственной ему королевской щедростью завещал Бетховенскому архиву в Бонне. Но специалистом он никогда не был, для этого его кругозор был слишком широк, и, хотя самой большой и самой восторженной его любовью был Бетховен, он хорошо знал всю новейшую историю музыки и горячо любил некоторых современников, в частности Малера.
Но я обещал еще рассказать Вам об одном новом радиовпечатлении.
Это был шопеновский вечер, устроенный китайцем по имени Фу Цзонг, чье имя мне встретилось тут впервые, и о его возрасте, школе и личности мне ничего не известно. Меня заинтересовала прекрасная программа, и, конечно, меня сильно привлекла удивительная возможность послушать, как играет Шопена, величайшую любовь моей юности, именно китаец. Так вот, играл он замечательно. Я слышал, как играли Шопена старик Падеревский, чудо-мальчик Рауль Кошальский, Эдвин Фишер, Липатти, Корто и многие другие большие пианисты. Играли его по-разному, холодно-корректно, или томно, или броско, или капризно и своевольно, подчеркивая то прелесть звучания, то разнообразие ритмики, то набожно, то фривольно, то боязливо, то тщеславно, часто это бывало великолепно, но лишь изредка соответствовало моему представлению о том, как надо играть Шопена. Эту идеальную манеру я представлял себе, конечно, точно такой, в какой должен был играть сам Шопен. Много бы я отдал за то, чтобы послушать какую-нибудь его балладу в исполнении Андре Жида, который, как пианист, всю жизнь усиленно занимался Шопеном.
Так вот, неизвестный китаец уже через несколько минут снискал мое уважение, а вскоре и мою любовь, он был совершенно под стать своей задаче. Высочайшее техническое совершенство я заранее предполагал, этого можно было уверенно ждать от китайского терпения и китайской ловкости. И действительно, виртуозная техника была налицо, ни Корто, ни Рубинштейн не смогли бы тут достичь большего. Но это было не все. Услыхал я не тллько мастерскую фортепианную игру, а Шопена, настоящего Шопена, от этого веяло Варшавой и веяло Парижем, Парижем Генриха Гейне и молодого Листа, от этого пахло фиалками, дождем на Майорке и изысканными салонами, это звучало грустно и звучало экстравагантно, ритмы различались с такой же чуткой тонкостью, как и динамика. Это было чудо.
Только мне очень хотелось бы увидеть этого одареннейшего китайца и воочию. Возможно, что его манеры, его движения, его лицо дали бы мне ответ на вопрос, возникший у меня после передачи, а именно: понял ли этот одаренный человек европейскость, польскость, парижскость, грусть и скепсис этой музыки изнутри или же у него был учитель, товарищ, наставник, образец, чью игру он имитировал со всеми нюансами и заучил наизусть? Мне хотелось бы еще много раз и в разные дни послушать, как он играет ту же программу. Если все было настоящим золотом, если Фу Цзонг был действительно таким музыкантом, каким я очень склонялся его считать, то каждое новое исполнение должно было, пусть в мельчайших примерах, отличаться чем-то новым, уникальным, индивидуальным и не могло быть только еще одним прокручиванием великолепной пластинки.
Что ж, может быть, мой вопрос когда-нибудь и получит ответ. Вопрос этот не мешал мне во время концерта, он возник лишь потом. И, слушая его игру, я мгновеньями почти видел этого человека с Востока, не подлинного, конечно, Фу Цзонга, а того, которого я вообразил, придумал, выдумал. Он походил на персонажа Чжуан-цзы из «Цзиньгу цигуана», а игру его, казалось мне, выполняла та призрачно-уверенная, совершенно свободная, набожно направляемая дао рука, которой художники в Древнем Китае водили кисточку с тушью, чтобы в картине и письменах приблизиться к тому, в чем в счастливый час угадывается смысл жизни и мироздания.
Примечания
1
Верхний город (итал.).
(обратно)2
Страсбург – Детская улица (франц.) – адрес фирмы.
(обратно)3
«Болота» (франц.).
(обратно)4
Я давно хочу написать Вам. Меня мучит мысль, что один из нас Может покинуть этот мир и Вы так и не узнаете о моей глубокой симпатии к каждой из Ваших книг, которые я прочел. Особенно восхитили меня «Демиан» и «Кнульп». Затем это прелестное и таинственное «Паломничество в Страну Востока» и, наконец, Ваш «Златоуст», которого я еще не закончил и медленно смакую, боясь прочесть слишком быстро.
Ваши поклонники во Франции (а я непрестанно набираю Вам новых) еще, может быть, не очень многочисленны, но тем восторженнее. Нет среди них более внимательного и растроганного, чем
Андре Жид (франц). (обратно)5
Вероятно, вставленное (лат.).
(обратно)

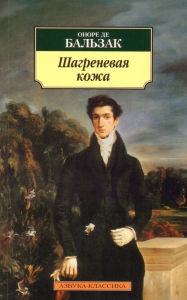
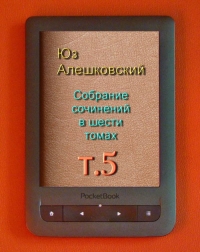
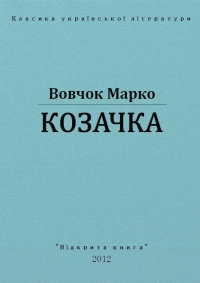
Комментарии к книге «Листки памяти», Герман Гессе
Всего 0 комментариев