Марк Твен ЖИЗНЬ НА МИССИСИПИ
Все же бассейн Миссисипи — это остов нации. Все другие районы страны — только члены, важные не столько сами по себе, сколько своим отношением к остову. Не считая района Великих озёр и 300 000 квадратных миль Техаса и Нью-Мексико, которые, по многим соображениям, тоже можно отнести к этому бассейну, он занимает площадь около 1 250 000 квадратных миль. По протяженности долины Миссисипи вторая по величине река в мире, уступающая только Амазонке. Долина ледяной Оби приближается к ней по протяженности; затем по величине и обжитости следует Ла-Плата, бассейн которой но площади равен примерно восьми девятым бассейна Миссисипи; потом следует Енисей с площадью в семь девятых; Лена, Амур, Хуанхэ, Янцзыцзян и Нил — по пяти девятых; Ганг — меньше половины; Инд — меньше одной трети; Евфрат — в одну пятую, и Рейн — в одну пятнадцатую площади бассейна Миссисипи. Он занимает пространство, большее, чем вся Европа без России, Норвегии и Швеции. В нем уместилось бы четыре Австрии, пять Германий или Испаний, шесть Франций, и десяток Британских островов или Италий.
Представление о других речных бассейнах совершенно бледнеет, когда мы сравниваем Миссисипи с бассейнами рек Западной Европы либо даже с более пригодными для сравнения бесплодными долинами великих рек Сибири, высоких плато Центральной Азии или же огромными по размаху пространствами болотистой Амазонки. Ширина долины, высота ее пад уровнем моря и количество осадков — все это в сочетании представляет благоприятные условия для интенсивного роста населении по всему бассейну Миссисипи. Нет лучшего места на земном шаре для жизни цивилизованного человека![1]
Глава I. РEKA И ЕЕ ИСТОРИЯ
О Миссисипи действительно стоит почитать. Это не обыкновенная река, а река, замечательная во всех отношениях. Считая вместе с Миссури, ее главным притоком, это самая длинная река в мире — четыре тысячи триста миль. И можно с уверенностью сказать, что это также самая извилистая река в мире, так как на одном участке своего течения она, извиваясь, тянется на тысячу триста миль там, где по прямой всего шестьсот семьдесят пять миль. Она несет в три раза больше воды, чем река Святого Лаврентия, в двадцать пять раз больше, чем Рейн, и в триста тридцать восемь раз больше, чем Темза. Ни у одной реки нет такого огромного бассейна: она получает воду из двадцати восьми штатов и территорий; из Делавэра, лежащего на берегу Атлантического океана, и со всего пространства между этим штатом и штатом Айдахо, расположенным на склонах тихоокеанского водораздела, а ведь между этими двумя штатами — сорок пять градусов долготы! Миссисипи принимает и несет в залив воду пятидесяти четырех больших притоков, по которым могут ходить пароходы, и нескольких сотен рек, по которым могут пройти плоты и баржи. Площадь ее бассейна равняется территориям Англии, Уэльса, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Италии и Турции вместе взятым; и почти весь этот обширный край плодороден, а особенно плодородна долина самой Миссисипи.
Еще замечательна эта рока тем, что, вместо того чтобы к устью расширяться, она становится уже, и глубже. От слияния с Огайо до места, расположенного на полпути к морю, ее ширина в полноводье равняется в среднем одной миле; от этого места до моря ширина ее неуклонно уменьшается: у «Проходов», выше устья, она немного больше полумили. При впадении Огайо глубина Миссисипи равняется восьмидесяти семи футам и, постепенно увеличиваясь, достигает у самого устья ста двадцати девяти футов.
Колебания уровня воды в реке тоже примечательны — не в верхнем течении, а в нижнем. До Натчеза (триста шестьдесят миль выше устья) подъем воды в полноводье почти одинаков — около пятидесяти футов. Но у Байа-Ла-Фурш река подымается только на двадцать пять футов, у Нового Орлеана — только на пятнадцать, а непосредственно перед устьем — лишь на два фута с половиной.
Статья в новоорлеанском «Таймс-Демократе», основанная на работах опытных инженеров, утверждает, что река ежегодно приносит в Мексиканский залив четыреста шесть миллионов тонн ила, это заставляет вспомнить грубое прозвище, данное Миссисипи капитаном Марриэтом — «Великая Клоака». Если бы эту грязь уплотнить, вышел бы массив площадью в квадратную милю и вышиной в двести сорок один фут.
Отложения ила постепенно наращивают сушу, — но именно постепенно: за двести лет, прошедшие с тех пор, как река вошла в историю, берега продвинулись в море меньше чем на одну треть мили.
Ученые думают, что устье находилось прежде у Батон-Руж, там, где кончаются холмы, и что двести миль суши между этим местом и заливом были созданы рекой. Простой подсчет дает нам возможность без труда определить возраст этой части страны: ей сто двадцать тысяч лет. Так что она еще просто щенок по сравнению со всеми остальными участками реки.
Еще замечательна Миссисипи своей склонностью делать громадные прыжки, прорезая узкие перешейки и этим способом выпрямляя и укорачивая свое русло. Не раз она сокращала свой путь на тридцать миль одним прыжком. Такие изменения русла имели любопытные последствия: многие приречные города бывали отброшены далеко вглубь, перед ними вырастали песчаные дюны и леса. Город Дельта раньше находился на три мили ниже Виксберга. Недавний поворот русла в корне изменил положение, и Дельта стоит теперь выше Виксберга на две мили.
Оба эти приречные города отодвинулись в глубь страны вследствие перемены русла. Такие перемены вносят путаницу в границы и законоподчиненность: сегодня, например, человек живет в штате Миссисипи, а ночью происходит перемена русла, и назавтра он видит, что сам он и земля его находятся на другом берегу реки, в границах и иод властью законов штата Луизиана. Случись такое изменение в верховьях реки в старину, оно смогло бы перебросить раба из Миссури в Иллинойс и сделать его свободным.
Миссисипи изменяет свое течение не только на отдельных участках: вся целиком оиа постоянно меняет русло и отступает то в одну, то в другую сторону. Около Хард-Тайме река течет на две мили западнее, чем прежде, благодаря чему эта местность находится теперь совсем не в Луизиане, как раньше, а на другом берегу реки, в штате Миссисипи. Почти вся тысяча триста миль старого русла Миссисипи, по которой Ла Саль плыл в своих каноэ двести лет тому назад, превратились теперь в твердый, сухой грунт. Местами река течет справа от своего старого русла, местами — слева от него.
Ил Миссисипи наращивает сушу близ устья крайне медленно, так как волны залива мешают этому, но ближе к верховьям, в более защищенных районах, этот процесс совершается довольно быстро. Например, тридцать лет тому назад остров Пророка занимал площадь в тысячу пятьсот акров; с тех пор река прибавила к нему еще семьсот.
Но сейчас довольно рассказывать о прихотях этой мощной реки, — ниже я приведу еще несколько таких примеров.
Оставим физическую историю Миссисипи и поговорим об ее, так сказать, «исторической» истории. В каких-нибудь двух коротких главах мы можем бегло проследить эпоху медленного ее становления, в следующих двух — ее вторую эпоху, эпоху пробуждения, а во многих других — эпоху ее расцвета и полного пробуждения; в остальной части книги мы расскажем о ее сравнительно спокойной жизни сейчас.
Говоря о нашей стране, люди и книги так привыкли употреблять термин «новый» и злоупотреблять этим термином, что у нас с раннего детства создается стойкое представление, будто в ней нет ничего древнего. Мы, конечно, знаем, что в истории Америки есть несколько сравнительно древних дат, но цифры сами по себе не дают нашему уму ни верной картины, ни определенного понимания того отрезка времени, на который они указывают. Сказать, что де Сото, первый из белых, увидевший реку Миссисипи, увидел ее в 1542 году, — значит, констатировать факт, не поясняя его. Это будет похоже на попытку дать понятие о солнечном закате, пользуясь астрономическими измерениями и перечисляя цвета под их научными наименованиями. В результате мы получили бы голые данные о солнечном закате, но никакого заката себе не представили. Лучше было бы написать с него картину.
Дата «1542» сама по себе ничего не говорит — или говорит очень мало. Но, сгруппировав вокруг нее некоторые памятные исторические даты и факты, мы придадим ей перспективу и окраску и тогда поймем, что это одна из американских дат весьма почтенного возраста.
Например, в тот момент, когда белый человек впервые увидел Миссисипи, прошло меньше четверти столетия со времени поражения Франциска I при Павии, смерти Рафаэля, смерти Баярда— «рыцаря без страха и упрека», изгнания рыцарей-госпитальеров турками из Родоса и вывешивания девяноста пяти тезисов — акта, которым началась Реформация. Когда де Сото глядел на реку, имя Игнатия Лойолы еще не было всем известно, орден иезуитов существовал какой-нибудь год; краски Микеланджело еще не высохли на «Страшном суде» в Сикстинской капелле; Мария, королева Шотландская, еще не родилась, — она должна была появиться на свет в том же году, Екатерина Медичи была ребенком, Елизавете Английской еще не было десяти лет; Кальвин, Бенвенуто Челлини и император Карл V были на вершине своей славы, и каждый творил историю на свой лад; Маргарита Наваррская писала «Гептамерон» и несколько религиозных книг, — первый жив и поныне, остальные забыты, ибо остроумие и нескромность иногда лучше сохраняют литературные произведения, чем святость; распущенные придворные нравы и нелепые рыцарские обычаи были в полном расцвете, а поединки и турниры являлись обычным времяпрепровождением титулованных знатных дворян, лучше умевших драться, чем писать; жены их в это время страстно увлекались религией и занимались тем, что делили своих отпрысков на наследников, получающих полный титул по наследству, и наследников, получающих его по жалованным грамотам. Поистине, религия всюду была в необычайном расцвете; созывался Трпдентский собор; испанская инквизиция поджаривала, пытала и жгла без помехи; в других странах Европы огнем и мечом убеждали народы жить благочестивой жизнью; и Англии Генрих VIII уничтожил монастыри, сжег Фишера и еще одного или двух епископов и успешно приступил к созданию английской Реформации и своего гарема. Когда до Сото стоял на берегах Миссисипи, оставалось еще два года до смерти Лютера, одиннадцать лет до сожжения Сервета, тридцать лет до Варфоломеевской ночи; сочинения Рабле еще не были напечатаны; «Дон-Кихот» еще не был написан; Шекспир еще не родился; и оставалась еще сотня долгих лет до того дня, когда англичане услышали имя Оливера Кромвеля.
Несомненно, открытие Миссисипи — факт, достойный упоминания; дата эта значительно смягчает и затушевывает сверкающую новизну нашей страны, придавая ей в высшей степени почтенный налет седой древности.
Де Сото только бегло осмотрел реку; вскоре он умер и был похоронен в ней своими патерами и солдатами.
Можно было ожидать, что эти патеры и солдаты, по тогдашней испанской привычке, в десять раз преувеличат размеры реки и тем самым побудят других искателей приключений немедленно отправиться на ее исследование. Однако рассказы их, когда они вернулись домой, особого любопытства не возбудили. Белые не возвращались на Миссисипи в течение многих лет, которые кажутся немыслимо долгими в наши полные энергии дни. Можно до известной степени «ощутить» этот промежуток, разделив его следующим образом: после того как де Сото поглядел на реку, прошло приблизительно четверть века, и затем родился Шекспир, прожил немногим более полувека и умер; и лишь когда он пролежал в земле значительно больше половины столетия, — лишь тогда второй белый человек увидел Миссисипи. В наши дни мы не допускаем, чтобы сто тридцать лет проходило в праздности, после того как мы увидели чудо. Если бы кто-нибудь открыл речонку в какой-нибудь области по соседству с той, гдо находится Северный полюс, Европа и Америка тотчас же снарядили бы туда пятнадцать дорогостоящих экспедиций — одну, чтобы исследовать речку, а остальные четырнадцать, чтобы охотиться друг за другом.
В течение более чем ста пятидесяти лет белые колонисты селились на нашем Атлантическом побережье. Эти люди имели самую непосредственную связь с индейцами: на юге испанцы грабили индейцев, резали, порабощали их и обращали в христианство; севернее — англичане снабжали их четками и одеялами за мзду, а цивилизацию и виски добавляли в придачу; в Канаде их самыми элементарными способами приобщали к цивилизации французы, — миссионерствуя среди них, они привлекали целые племена сначала в Квебек, а потом в Монреаль, чтобы скупать у них меха. Эти разнообразные группы белых совершенно неизбежно должны были тогда же услышать об огромной реке Дальнего Запада; и действительно, они смутно слыхали о ней, но так смутно и неопределенно, что о ее пути, размерах и местоположении даже трудно было догадаться. Самая таинственность объекта должна была бы разжечь любопытство и вызвать тягу к исследованию, но этого но случилось. По-видимому, никому дела не было до реки — в ней никто не нуждался, никто ею не интересовался; так что в течение полутора столетий на Миссисипи не было никакого спроса, и никто ее не тревожил. Де Сото, найдя ее случайно, не знал, что ему с ней делать, и поэтому не оценил ее и даже не обратил на нее особого внимания.
Наконец француз Ла Саль задумал отыскать эту реку и исследовать ее. Всегда случается, что, когда у кого-нибудь возникнет важная, но бывшая до него в пренебрежении идея, со всех сторон появляются люди, захваченные той же страстью. Так произошло и в данном случае.
Сам собою напрашивается вопрос: почему этим людям теперь понадобилась река, после того как пять предыдущих поколений в ней не нуждались? Очевидно, потому, что теперь считалось, что ее сумеют использовать: возникло мнение, будто Миссисипи впадает в Калифорнийский залив и, таким образом, сокращает путь из Канады в Китай. Раньше же предполагали, что она впадает прямо в Атлантический океан.
Глава II. РЕКА И ЕЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Ла Саль смиренно ходатайствовал о некоторых высоких привилегиях, которые и были милостиво дарованы ему Людовиком XIV, чьи заслуги столь преувеличивают. Главной из них была привилегия производить исследования где угодно, строить форты, захватывать материки, преподносить их королю и нестп расходы из собственных средств, получая взамен те или иные ничтожные преимущества — такие, например, как монополию на бизоньи шкуры. Ла Саль потратил несколько лет и чуть ли не все свои деньги на опасные и трудные странствования между Монреалем и фортом, выстроенным им на Иллинойсе, прежде чем ему удалось как следует подготовить экспедицию для того, чтобы можно было отправиться на Миссисипи.
А тем временем другим экспедициям более посчастливилось: в 1673 году купец Жолие и священник Маркет прошли через всю страну и достигли берегов Миссисипи. Они шли через Великие озера, а от Грин-Бей плыли на челноках но рокам Фокс и Висконсин. В день праздника непорочного зачатия Маркет дал торжественный обет, что если святая дева позволит ему открыть великую реку, то он назовет ее в честь этого дня «Зачатием». Он сдержал свое слово.
В те времена все исследователи путешествовали с целой свитой духовных лиц. У де Сото их было двадцать четыре; с Ла Салем их было тоже достаточно. У экспедиций часто не бывало мяса, им не хватало одежды, но у них всегда имелся весь необходимый реквизит для мессы. Они всегда готовы были, по словам одного простодушного летописца того времени, «внушать дикарям представление об аде».
17 июня 1673 года каноэ Жолие, Маркета и их пяти спутников дошли до слияния Висконсина с Миссисипи. Мистер Паркман говорит: «Широкий и быстрый поток преграждал им путь, проносясь у подножия величавых высот, покрытых густыми лесами». Он продолжает: «Повернув к югу, они поплыли вниз по течению в уединении, нигде не нарушаемом присутствием человека».
Огромный сом, столкнувшись с капоэ, испугал Маркета. И немудрено, так как индейцы его предупредили, что он пустился в безумно смелое и даже роковое путешествие, ибо в реке живет злой дух, «рев его слышится издалека, а сам он способен затянуть их в пучину, в коей обитает». Я видел на Миссисипи сома длиной более шести футов и весом в двести пятьдесят фунтов; если рыба Маркета была такой же — он имел все основании думать, что ему явился злой дух реки.
«Наконец начали появляться бизоны, пасущиеся стадами в огромных прериях, расстилавшихся тогда по берегу реки. Маркет описывает свирепый и тупой взгляд старых быков, смотревших на пришельцев из-под косматой гривы, почти застилавшей им глаза».
Путешественники продвигались осторожно. «Ночью выходили на берег и разводили костры, чтобы приготовить себе ужин; затем тушили огонь, снова садились в лодки, отплывали подальше и становились на якорь посреди реки, держа одного человека на страже до утра».
Так шли они изо дня в день, из ночи в ночь и в течение двух недель не видели ни одного человеческого существа. Река была тогда пустынна и безлюдна. Да и теперь она такая почти на всем своем протяжении.
Однако недели через две они набрели на следы человеческих ног, отпечатавшихся на иле западного берега, и пережили то, что некогда испытал Робинзон Крузо; до сих пор при чтении таких описаний мурашки пробегают по телу. Путешественников предупреждали, что речные индейцы так же свирепы и безжалостны, как и злой дух реки, и что они уничтожают всех пришельцев, не дожидаясь никакого к тому повода. Несмотря на это, Колие и Маркет пустились в глубь страны, чтобы отыскать тех, кто оставил следы. Вскоре они нашли этих людей. Путешественников встретили гостеприимно и хорошо угостили, если можно назвать гостеприимной встречей такую, когда индейский вождь снимает с себя последний лоскут, для того чтобы показаться в лучшем виде, и если обильное угощение рыбой, кашей и всякой живностью, включая собаку (причем индейцы засовывают вам в рот эти кушанья пальцами без перчаток), можно назвать хорошим угощением. Утром вождь и шестьсот его одноплеменников проводили французов до реки и дружески с ними распрощались.
На скалах, над нынешним городом Олтоном, они нашли несколько грубых и фантастических рисунков, исполненных индейцами, и описали их. Немного ниже «поток желтого цвета бешено мчался наперерез спокойным синим водам Миссисипи, кипя и вздымаясь и унося в своем беге ветки, бревна и вырванные с корнем деревья». Это было устье Миссури, «этой необузданной реки», которая, «спускаясь после стремительного бега по огромным неизвестным и диким просторам, изливала мутные воды в лоно своей кроткой сестры».
Затем они миновали устье Огайо, прошли тростниковые заросли, сражались с москитами, плыли изо дня в день в глубокой тишине по пустынной реке, дремля в скудной тени сооруженных кое-как навесов и изнемогая от жары.
Они встретились и обменялись любезностями еще с одним племенем краснокожих и наконец (примерно через месяц пути) достигли устья Арканзаса, где целое полчище индейцев с воинственными криками бросилось им навстречу, явно намереваясь их истребить. Но они воззвали к святой деве, и вместо боя устроено было празднество с приятными беседами и веселыми плясками.
К этому времени они уже убедились, что Миссисипи не впадает ни в Калифорнийский залив, ни в Атлантический океан, и, предположив, что она впадает в Мексиканский залив, повернули обратно и доставили эту великую весть в Канаду.
Но предположить еще не значит доказать. Добыть доказательство предстояло JIa Салю. Одна неудача за другой задерживали его самым досадным образом, но наконец к исходу 1681 года он свою экспедицию снарядил. Глухой зимой он и его помощник Анри де Тонти, сын Лоренцо Тонти, изобретшего тонтину, пустились вниз по Иллинойсу в сопровождении восемнадцати привезенных из Новой Англии индейцев и двадцати трех французов. Они двинулись гуськом по замерзшей реке и шли, таща за собой каноэ на полозьях.
На озеро Пеория путешественники встретили разводья, прошли оттуда на веслах до Миссисипи и повернули каноэ на юг. Они пробирались между плавучими льдинами мимо устья Миссури, мимо устья Огайо и «среди пустынных прибрежных болот 24 февраля высадились на берег у третьего утеса Чикасо»; здесь они остановились и построили форт Прюдом.
«И снова, — рассказывает мистер Паркман, — они сели в каноэ, и с каждым шагом их отважного продвижения рассеивалась таинственность этого нового обширного мира. Они вступали все дальше в царство весны. Солнечный свет, подернутый дымкой, теплый и сонный воздух, нежная листва, распускающиеся цветы говорили о пробуждении природы».
День за днем плыли они по величественным изгибам реки, в тени густых лесов и в один прекрасный день прибыли к устью Арканзаса. Сначала индейцы встретили их, — как когда-то Маркета, — грохотом военных барабанов и грозно поднятым оружием. Святая дева уладила дело для Маркета; трубка мира оказала ту же услугу Ла Салю. Белые и краснокожие обменялись рукопожатиями и развлекали друг друга в течение трех дней. Затем, на удивление дикарям, Ла Саль водрузил крест с гербом Франции и завладел всей страной для короля — беззастенчивый обычай того времени, — меж тем как патер набожно освятил этот грабеж пением псалмов. В целях спасения дикарей патер объяснил им «знаками» таинства веры и тем самым взамен отнятого у них царства земного обещал им царствие небесное. Знаками же Ла Саль выманил у этих простодушных детей лесов признание верноподданства Людовику Гнилому — там, за океаном. И никто не улыбнулся этой чудовищной иронии.
Все эти события разыгрались на месте будущего города Наполеона в Арканзасе, и там же, на берегах великой реки, воздвигнут был первый крест завоевателей. На том же месте — на месте будущего города Наполеона в Арканзасе — окончилось путешествие Маркета и Жолие. Когда де Сото впервые бросил мимолетный взгляд на реку еще в те подернутые дымкой давности времена, он стоял на том же месте — на месте будущего города Наполеона в Арканзасе. Таким образом, три из четырех знаменательных событий, связанных с открытием и исследованием могучей реки, произошли случайно на одном и том же месте. Это в высшей степени любопытная случайность, если надпей призадуматься. Франция мгновенно похитила всю обширную область на месте расположения будущего города Наполеона; а сам император Наполеон со временем вернул эту область и восстановил в правах — правда, не истинных владельцев, а их белых наследников — американцев.
Путешественники продолжали плавание, приставая то тут, то там; «проходили мимо мест, ставших впоследствии историческими: мимо будущего Виксберга и Великого залива»; посетили в области Теш одного значительного индейского монарха, столица которого была прочно выстроена из обожженного на солнце самана, — и эти дома были лучше многих, выстроенных там теперь. В доме вождя был зал для аудиенции площадью в сорок на сорок футов; в нем он, окруженный шестьюдесятью стариками, облаченными в белые одежды, торжественно принял Тонти. В городе был храм, обнесенный глиняной стеной; стена была украшена черепами врагов, принесенных в жертву солнцу.
Путешественники посетили индейцев племени натчез, близ местоположения нынешнего города того же названия, где они нашли «религиозный и политический деспотизм, привилегированный класс, ведущий свою родословную от солнца, храм и священный огонь». Им, вероятно, показалось, что они вернулись домой, здесь им было совсем как дома, с одним только преимуществом — тут не было Людовика XIV.
Быстро промчалось еще несколько дней; Ла Саль стоял в тени водруженного им креста, у слияния вод Делавэра, Итаски, вод, стекающих с горных хребтов у побережья Тихого океана, и вод Мексиканского залива. Его задача была выполнена, чудо совершено. Мистер Паркман заканчивает свой увлекательный рассказ, такими словами:
«В этот день королевство Франции получило дарственную на изумительные владения. Плодородные долины Техаса, обширный бассейн Миссисипи — от ее ледяных северных истоков до знойных берегов Мексиканского залива, от лесистых хребтов Аллеганской цепи до голых вершин Скалистых гор; край саванн и лесов, сожженных зноем пустынь и покрытых свежей травой прерий, край, орошаемый тысячью рек и населенный тысячами воинственных племен, перешел под скипетр версальского султана; и все это свершилось по воле человека, чей слабый голос не был бы услышан и в полумиле».
Глава III. КАРТИНКИ ПРОШЛОГО
Казалось бы, река в это время стала уже вполне годной для освоения. Но нет: берега ее заселялись спокойно и неторопливо; и освоение Миссисипи поглотило столько же времени, сколько открытие ее и обследование. Прошло семьдесят лет от экспедиций до появления на берегах реки сколько-нибудь значительного белого населения и еще пятьдесят лет до начала на ней торговли. Со времени обследования реки Ла Салем до того времени, когда стало возможным назвать ее проводником чего-то вроде регулярной и оживленной торговли, семь королей сменились на троне Англии, Америка стала независимой страной, Людовик XIV и Людовик XV успели сгнить и умереть, французская монархия была сметена алой бурей революции, и уже заговорили о Наполеоне. Право, в те дни люди не торопились жить.
Вначале товары возили по реке на больших баржах — плоскодонных и широконосых. Они шли под парусами и сплавом с верховьев до Нового Орлеана и сменяли там груз, после чего их томительно долго тащили обратно либо бечевой, либо при помощи шестов. Рейсы вниз по течению и обратно иногда отнимали до девяти месяцев. Со временем торговое движение увеличилось, и целая орда отчаянных смельчаков получила работу; это были неотесанные, необразованные, но храбрые малые, переносившие невероятные трудности со стойкостью истых моряков; страшные пьяницы, необузданные гуляки, завсегдатаи злачных мест вроде «Нижнего Натчеза» тех дней, отчаянные драчуны, все до одного бесшабашные, неуклюже-веселые, как слоны, ругатели и безбожники; транжиры — когда при деньгах, и банкроты — к концу плавания, любители дикарского щегольства, невообразимые хвастуны, а в общем — парни честные, надеятаые, верные своему слову и долгу, нередко рисовавшиеся своим великодушием.
Но вот стали появляться пароходы. Впрочем, в течение пятнадцати-двадцати лет эти люди все еще водили свои баржи вниз по течению, а пароходы обеспечивали все движение вверх по реке; баржевики продавали свои суда в Новом Орлеане и возвращались домой палубными пассажирами на пароходах.
Вскоре, однако, количество пароходов настолько увеличилось и скорость их так возросла, что они оказались в состоянии полностью обслуживать всю торговлю; плавание прежним способом прекратилось навсегда. Баржевики поступили на пароходы — кто палубным матросом, кто помощником капитана, а кто лоцманом; если же человек не мог пристроиться на пароход, он поступал на угольную баржу в Питсбурге или на плоты, сплавлявшиеся из лесов, от истоков Миссисипи.
В дни расцвета пароходства вся река была усеяна угольными баржами и бревенчатыми плотами. Их вели орды отчаянных смельчаков, которых я пытался описать выше. Помню, когда я был мальчиком, флотилии мощных плотов из года в год скользили мимо Ганнибала; в каждом плоту — целый акр белых пахучих досок, команда человек в двадцать, а то и больше, три-четыре шалаша, разбросанных на просторном плоту для защиты от непогоды; помню грубые повадки и потрясающий лексикон многочисленной команды, обычно состоявшей из отставных баржевиков или их преемников, старавшихся во всем подражать им; помню все это потому, что мы обычно проплывали с четверть или треть мили, чтобы добраться до плота, а потом влезали на него — прокатиться.
Чтобы дать представление о разговорах и быте плотовщиков, показать эту жизнь на плотах — жизнь, исчезнувшую и почти забытую, я здесь вставлю главу из книги, над которой урывками работал в течение пяти-шести лет; может быть, и кончу ее еще лет через пять-шесть. Это история жизни простого деревенского парнишки, Гека Финна, сына местного пьяницы, которого я знал, когда жил там, на Западе. Он удрал от преследований отца и от преследований доброй вдовы, которая хотела сделать из него чистенького, правдивого, благонравного мальчика; с ним сбежал также Джим, чернокожий невольник этой вдовы. Они находят обломок старого плота (вода высока, и стоит летнее затишье) и плывут по ночам, скрываясь днем в прибрежном ивняке, плывут в Каир, откуда негр хочет пробраться в «свободные» штаты. Но в тумане они проплыли мимо Каира, сами того не заметив. Постепенно они начинают понимать, что случилось, и негр уговаривает Гека Финна не мучиться больше сомнениями, а просто подплыть к большому плоту, виднеющемуся на недалеком расстоянии впереди, залезть на него под покровом темноты и из подслушанных разговоров добыть все нужные сведения.
«Но вы понимаете, что молодежь ждать не любит, особенно когда не терпится узнать что-нибудь. Поговорили мы, поговорили, и наконец Джим сказал, что ночь очень темная и что невелик риск доплыть до большого плота, залезть на него и подслушать, — они наверняка будут говорить о Каире, рассчитывая, может быть, сойти на берег поразвлечься или, во всяком случае, послать туда лодки для покупки виски, свежего мяса или еще чего-нибудь. Джим был хоть и негр, но удивительно толковый малый: когда нужно, он всегда мог придумать хороший выход.
Я встал, скинул свои лохмотья, прыгнул в воду и поплыл на огонь, горевший на плоту. Приблизившись, я стал плыть медленнее и осторожнее. Но все было в порядке: у весел — ни души. Я проплыл вдоль плота, прямо до костра, горевшего посредине, затем вылез на плот, пополз потихоньку и спрятался в связках гонта, лежавших на подветренной стороне. У костра сидело тринадцать человек,—наверно, это и были вахтенные; вид у них был здорово свирепый. У них был кувшин и оловянные кружки, и кувшин все время ходил по кругу. Один из матросов пел, вернее — орал песню, — и песню не из пристойных, во всяком случае не для гостиной. Он завывал в нос и долго тянул последнее слово каждого куплета. Пропоет строчку, остальные подхватят и заорут, как индейцы в бою, а потом он опять затянет другой куплет. Песня начиналась так:
Жила у нас красотка, Был муженек у ней, Его она любила крепко, А друга — во сто раз нежней. Споем — трурилу, рилу-рилу, Труту-ри-лу-ри-лей, Его она любила крепко, Но друга во сто раз сильней…И так без конца — четырнадцать куплетов. Выходило у него неважно, и когда он начал следующий куплет, один из сидевших высказал догадку, что именно от этой песни околела старая корова; другой сказал: «Дай передохнуть!»; а третий посоветовал ему вообще прогуляться. Они изводили его, пока он не взбесился, вскочил да как начал крыть всю компанию, крича, что может оттузить любого из этих воров.
Все они собрались на него налететь, но тут самый здоровенный из них вскочил и говорит: «Сидите, где сидели, джентльмены. Дайте его мне: он мне как раз по зубам!»
И он трижды подпрыгнул, щелкая каблуками при каждом прыжке, потом сбросил свою изодранную в клочья овчинную куртку и прокричал: «Сидите смирно, пока я его не отделаю! — Сбросил свою истрепанную шляпу и снова прокричал: — Сидите смирно, пока не кончатся его страдания!»
И, подпрыгнув, снова щелкнул каблуками и завопил: «У-ух! Я настоящий старый убийца, с железной челюстью, стальной хваткой и медным брюхом, я трупных дел мастер из дебрей Арканзаса! Смотрите на меня! Я тот, кого прозвали «Черной Смертью» и «Злой Погибелью!» Отец мой ураган, мать — землетрясение, я сводный брат холеры и родственник черной оспы с материнской стороны. Смотрите на меня! Я проглатываю на завтрак девятнадцать аллигаторов и бочку виски, когда я в добром здоровье, или бушель гремучих змей и мертвеца, когда мне нездоровится. Я раскалываю несокрушимые скалы одним взглядом и могу перереветь гром! У-ух! Отойди все назад! Дайте моей мощи простор! Кровь — мой излюбленный напиток, и стоны умирающих — музыка для моего слуха! Обратите иа меня ваши взоры, джентльмены, и замрите, затаив дыхание, — вот я сейчас выйду из себя!»
При этих словах он тряс головой, свирепо озирался, топчась на месте и засучивая рукава, потом вдруг выпрямлялся и, колотя себя кулаком в грудь, выкрикивал: «Взгляните на меня, джентльмены!» Окончив свою речь, он снова трижды подпрыгнул, щелкая каблуками, и заревел вовсю: «У-ух! Я самый кровожадный на свете из всех сыновей дикой кошки!»
Тогда тот, который начал ссору, нахлобучил свою старую шляпу на правый глаз, потом наклонился вперед, скрючив спину и выпятив корму, то выставляя, то пряча кулаки, и так прошелся по кругу раза три, пыжась и тяжело дыша. Потом вдруг выпрямился, подпрыгнул трижды, щелкая в воздухе каблуками (за что ему громко заорали «ура»), и тоже стал выкрикивать: «У-ух! Склоните головы и падите ниц, ибо приблизилось царство скорби! Держите меня, не пускайте — я чувствую, как рвутся из меня силы! У-ух! Я — сын греха, не давайте мне воли! Эй, хватайте закопченные стекла, вы все! Не рискуйте смотреть на меня простым глазом, джентльмены! Когда я хочу порезвиться, я сплетаю меридианы и параллели вместо сети и ловлю китов в Атлантическом океане! Я почесываю голову молнией и убаюкиваю себя громом! Когда мне холодно, я подогреваю Мексиканский залив и купаюсь в нем, а когда жарко — обмахиваюсь полярной бурей; захочется пить — хватаю облако и высасываю его, как губку; захочется есть — обгладываю земной шар, и голод ползет за мной по пятам. У-ух! Склоните головы и падите ниц! Я накладываю ладонь на солнце — и на земле наступает ночь; я откусываю ломти луны и ускоряю смепу времен года; только встряхнусь — и горы рассыпаются. Созерцайте меня через кусок кожи — не пробуйте взглянуть простым глазом! Я человек с каменным сердцем и лужеными кишками! Избиение небольших общин для меня минутное развлечение; истребление народов — дело моей жизни! Необъятные просторы великой американской пустыни принадлежат мне: кого убиваю — хороню в собственных владениях! — Он снова подпрыгнул и трижды щелкнул каблуками в воздухе (за что его снова приветствовали воем «ура!»), потом остановился и проревел: — У-ух! Склоните головы и падите ниц, ибо на вас идет любимое Детище Напасти!»
Тогда другой, тот, кого звали Бобом, снова стал пыжиться и пыхтеть; в свою очередь Детище Напасти стал хвастаться еще пуще прежнего, а потом они принялись наскакивать друг на друга, тыча в лицо друг другу кулаками, вопя и рыча, как индейцы. Потом Боб нелестно обозвал Детище, Детище — Боба; Боб стал осыпать Детище самыми отборными ругательствами; тот ему ответил потоком гнуснейших проклятий; Боб сбил с противника шляпу, тот поднял ее и в свою очередь отшвырнул футов на шесть истрепанную шляпу Боба. Боб пошел поднять ее и сказал, что, мол, он так этого не оставит, потому что он, Боб, — человек, который ничего не прощает и не забывает, и что лучше бы Детищу поостеречься, потому что подходит время, — он клянется в том своей жизнью, — подходит час, когда Детищу придется расплачиваться с ним всей кровью собственного тела. Ну что ж, говорит Детище, никто с таким удовольствием, как он, не ждет этого часа, по пока что он честно предупреждает Боба, что лучше тому никогда не попадаться на его пути: он до тех пор не будет знать покоя, пока не искупается в его крови, такой уж у него характер, а сейчас он щадит Боба только ради его семьи, если она у него имеется.
И оба они стали отступать друг от друга, рыча и тряся головами и похваляясь тем, что они когда-нибудь сделают друг с дружкой. Но тут вдруг вскакивает черноусый малый и говорит: «А ну-ка, валите сюда, цыплячьи печенки! Я вас, трусы вы этакие, разделаю!»
И он их действительно разделал. Он схватил их, стал трясти и лупить ногами, швыряя их наземь и снова сваливая, прежде чем они успевали подняться. Ей-богу, но прошло и двух минут — и они заскулили, как щенки, а вся орава вопила, гоготала и хлопала в ладоши, выкрикивая: «Ну-ка, отчаливай, трупных дел мастер!», «Ага! Бери его, Детище Напасти!», «Молодчага, маленький Дэви!» —Ну прямо сущий ад стоял! У Боба и у Детища носы были в крови и синяки под глазами, когда они наконец вырвались. Маленький Дэви заставил их признать, что они подлецы и трусы и недостойны есть с собакой или пить с иегром. Потом Боб и Детище очень торжественно пожали друг другу руки и сказали, что всегда друг друга уважали и охотно забудут прошлое, после чего они обмыли физиономии в реке. Но тут прозвучала команда — приготовиться к повороту, и одни пошли вперед, а другие — к корме, чтобы взяться за весла.
Я лежал тихо и ждал минут пятнадцать, покуривая трубку, забытую кем-то из них около меня. Когда поворот был пройден, они опять сгрудились у костра и снова стали болтать и петь. Потом один достал старую скрипку и заиграл, другой стал пританцовывать и подпевать, а тут и остальные пустились в настоящую хорошую пляску, как, наверно, плясали в старину. Но у них не надолго хватило пороху, и они понемногу снова собрались вокруг кувшина.
Они запели песню с забористым припевом: «Эй развеселая жизнь на плоту!», потом стали говорить о разных породах свиней и о всяких их привычках, потом о женщинах и всяких их штуках, и о том, как лучше тушить пожары, и что надо бы сделать с индейцами, и о том, чем занимается король и много ли он зарабатывает, а потом — как заставить котов подраться, а потом — что делать, если у человека припадок, а потом — насчет разницы между рекой с чистой водой и с водой илистой. Человек, которого они звали Эд, сказал, что мутная вода Миссисипи куда полезнее для питья, чем прозрачная вода Огайо, он сказал, что если дать пинте желтой воды из Миссисипи отстояться, то на дне окажется осадок от полдюйма до трех четвертей дюйма толщиной — смотря но тому, в какое время взята вода; но эта отстоявшаяся вода ничуть не лучше, чем вода из Огайо, — эту воду нужно всегда перемешивать и, если ила в ней мало, надо всегда держать его под рукой и заправлять им воду до нужной крепости.
Детище Напасти подтвердил это; он сказал, что грязь действительно очень питательна и что человек, пьющий воду из Миссисипи, может, коли захочет, у себя в желудке вырастить кукурузу. Он заявил: «Поглядите на кладбища — и вам все станет понятно. В Цинциннати на кладбище деревья растут препаршиво, зато в Сент-Луисе они достигают восьмисот футов. А все от воды, которую покойники пили при жизни. Труп из Цинциннати ничуть не удобряет землю».
Заговорили о том, что воды Огайо не любят смешиваться с водами Миссисипи. Эд сказал, что если в Миссисипи подъем воды, а в Огайо вода стоит низко, то миль на сто, а то и больше, вдоль всего восточного берега Миссисипи идет полоса прозрачной воды, тогда как за этой полосой, чуть отойдешь на четверть мили от берега, — вода густая и желтая. Потом они стали говорить, что делать, чтобы табак не отсырел, а потом заговорили о привидениях и рассказали всякие случаи, когда люди видели привидения и духов. Но тут вмешался Эд:
— А почему же вы не рассказываете о том, что видели сами? Давайте-ка, я расскажу про себя. Пять лет назад я служил на плоту — таком же большом, как этот. Была ясная, лунная ночь, и я стоял на вахте у переднего весла, а со мной стоял напарником один человек, Дик Олбрайт; и вот, подходит он ко мне, зевает, потягивается, потом нагибается через край плота, моет лицо в реке и опять ко мне подходит, подсаживается, вынимает трубку; но не успел он ее набить, как поднял голову, взглянул и говорит:
— Эй, глянь-ка туда, не ферма ли то Бука Миллера вон там, у поворота?
— Ну да, — говорю я, — конечно; а что?
Он кладет свою трубку, опускает голову на руки и говорит:
— А я думал, что мы уже прошли ее.
— Я тоже думал так, — говорю я, — когда заступил на вахту (мы стояли по шесть часов, а шесть часов свободных), но мне ребята сказали, — говорю, — что плот уже с час как почти не двигается, хоть с виду, — говорю, — он будто идет как полагается.
Дик чего-то застонал и говорит:
— Я раз уже видел такую штуку с плотом, а теперь, — говорит, — мне сдается, что течение малость ослабело у этой излучины за последние два года.
И он встал раз, потом еще раз и все оглядывается, смотрит на воду. Я, по правде сказать, тоже встал за ним и начал оглядываться. Всегда как-то начинаешь делать то, что другой делает, хоть, может быть, и смысла в этом никакого нет. И вот вижу я, мелькает что-то черное по правому борту и плывет за нами. И он, вижу, тоже туда смотрит. Я и спрашиваю:
— А что это такое?
А он этак сердито:
— Да ни черта, просто старый пустой бочонок.:
— Пустой бочонок! — говорю я. — Да что ты, — говорю, — неужто у тебя глаз получше подзорной трубы? Откуда ты знаешь, что это пустой бочонок?
А он говорит:
— Ну, не знаю, показалось, что бочонок, а может, и не бочонок.
— Да, — говорю, — может, и бочонок, а может, и что-инбудь совсем другое. Разве на таком расстоянии можно сказать наверняка, что там такое?
Делать нам было нечего, мы и стали следить за этой штукой.
Вдруг я и говорю:
— А взгляни-ка, Дик Олбрайт, сдается мне, что эта штуковина нас догоняет!
Он ни слова не сказал. А штука эта подплывала да подплывала, и я даже решил, что это собака, которая выбилась из сил. Ну а когда мы вошли в излучину, эта штука оказалась в широкой полосе лунного света, — и, честное слово, это действительно был бочонок! Вот я и говорю:
— Дик Олбрайт, как ты узнал, что это бочонок, когда он был на расстоянии полумили?
— Не знаю, — говорит.
— Ты скажи мне, Дик Олбрайт, — говорю.
— Ну, — говорит, — я просто знал, что это бочонок; я его раньше видел, и многие его видели; говорят, это заколдованный бочонок.
Позвал я всех ребят, подошли они ко мне, и я им рассказал, что мне говорил Дик. А бочонок плыл сбоку и уже больше нас не нагонял. Так он и плыл футах в двадцати от нас. Кто-то хотел его выудить, но остальные не захотели: Дик Олбрайт сказал, что тем, кто с бочонком баловался, он приносил несчастье. Вахтенный начальник объявил, что не верит в это. Он сказал, что, по его мнению, бочонок догоняет нас просто потому, что попал в струю. А постепенно, говорит, бочонок отстанет.
Ну, заговорили мы о другом, и песню спели, и снова замолчали, а вахтенный опять велел запеть; но тут стали сгущаться тучи, а бочонок все торчит на старом месте, и песня как-то нас не веселила, — так ее и не допели: никто не поддержал, она и замерла сама собой. Сначала все молчали, а потом сразу заговорили, и один парень отпустил какую-то шутку, но никто даже не рассмеялся, да и сам он собственной шутке не рассмеялся, а уж это — случай редкий. Все мы мрачно уселись, стали следить за бочонком, и было нам здорово не по себе. И тут вдруг надвинулась тьма и тишина; потом начал завывать ветер, молния засверкала, гром заворчал. И скоро разразился настоящий шторм. А один человек среди всей этой бучи побежал на корму, упал и вывихнул себе ногу, так что подняться не мог. Стали тут ребята покачивать головой: каждый раз, как вспыхивала молния, бочонок был тут как тут; и синие огоньки мигали около него. Мы все время за ним следили. К рассвету он наконец исчез. Когда рассвело совсем, мы его уже нигде но видели и не особенно огорчились, по правде сказать.
Но на следующий день, часов этак в половине десятого, когда песни и веселье были в полном разгаре, смотрим — опять он появился на прежнем месте, но правому борту. Кончилось наше веселье. Все стали серьезные, никто не говорил, никого с места не сдвинуть — сидят и мрачно смотрят на бочонок… Снова надвинулись тучи. Когда вахта сменилась, свободная смена не пошла спать и осталась. Буря бушевала и ревела всю ночь; и в эту ночь другой парень оступился, вывихнул себе ногу и слег… К утру бочонок исчез, и никто не видел, как он уплыл.
На третий день все были трезвые, словно пришибленные. И не то что трезвы оттого, что не пили: наоборот— все молчали, но пили больше, чем всегда, только не в компании, а так — отойдет человек в сторону и в одиночку выпьет.
С наступлением темноты свободная смена опять не ушла; и никто не пел, никто не разговаривал, ребята даже не расходились по плоту, а как-то жались друг к другу и часа два сидели в полном молчании — уставятся в одну точку и изредка вздыхают. И вот бочонок опять явился. Он опять стал на свое старое место. Он стоял там всю ночь. Никто не спал. Снова после полуночи начался шторм. Темно было хоть глаз выколи, дождь полил как из ведра, замолотил град, гром грохотал, и рычал, и ревел, ветер превратился в ураган, а молнии так ослепительно заливали небо над нами, что весь плот был виден, как днем; река, вся белая, как молоко, бесновалась на мили вокруг, насколько глаз хватал. А этот бочонок, как прежде, покачивался рядом. На повороте капитан велел ребятам стать на кормовые весла, но никто не захотел туда идти: «Довольно, говорят, с нас вывихнутых ног». Никто даже не согласился бы и просто пройти к корме. И тут вдруг небо с грохотом раскололось пополам, и молния убила двоих из кормовой вахты на месте, а двоих покалечила. И хотите знать, как покалечила? Вывихнула им ноги!
На исходе ночи, между двумя вспышками молнии, бочонок исчез.
За завтраком никто не дотронулся до еды. А потом все разбрелись кучками по двое и по трое и тихо переговаривались. Но никто не подходил к Дику Олбрайту. Все его сторонились… Стоило ему подойти к ним, как они расходились в разные стороны, подальше от него, никто не хотел стоять с ним на веслах. Капитан поднял все лодки на плот, к своему шалашу, и не позволил даже свезти покойников на берег и зарыть в землю; он подозревал, что тот, кто сойдет на берег, уже не вернется, — и он был прав.
Когда пришла ночь, стало ясно, что, если этот бочонок вновь появится, беды не миновать. Все люди роптали, многие хотели убить Дика Олбрайта за то, что он видел бочонок во время других рейсов, — всем казалось, что тут дело нечисто. Некоторые хотели высадить Дика на берег; другие говорили: «Давайте высадимся на берег всем скопом, если этот бочонок появится».
Ропот и разговоры еще продолжались среди людей, кучками толпившихся на носу и подстерегавших бочонок, как вдруг — не угодно ли — опять он появляется. Плывет медленно, но неуклонно и снова занимает старое место. Стало так тихо, что, упади в этот миг булавка, — мы бы услышали. Тут выходит капитан и говорит:
— Слушайте, ребята, не будьте вы олухами и сосунками! Я не желаю, чтобы этот бочонок увязался за нами до самого Нового Орлеана, да и вам это ни к чему; так вот: как нам лучше от него избавиться? Сжечь — и дело с концом! Вот я его сейчас и втащу на борт, — говорит.
И не успел нпкто слова вымолвить, как он прыгнул в воду.
Подплыл он к бочонку, и когда стал возвращаться, толкая его перед собой, все шарахнулись в сторону. Но наш старик втащил бочонок на плот и выбил крышку, и… там оказался ребенок! Да, сэр, совершенно голый ребенок! И это был ребенок Дика Олбрайта; он его признал и сразу покаялся.
— Да, — сказал оп, наклоняясь над ним, — да, это мое дорогое, оплаканное мною дитя, мой погибший, несчастный, усопший Чарльз-Уильям Олбрайт.
Олбрайт мог заворачивать слова и поцветистее, когда ему хотелось, и так без запинки перед вами и выкладывать. И он рассказал, что жил здесь, у этой излучины, и как-то ночью он прижал оравшего ребенка, не желая его убить (врал, вероятно), а потом испугался и спрятал его в бочонок, а сам, пока жена не пришла домой, бежал на Север и стал гонять плоты; и вот уже третий год бочонок преследует его. Он сказал, что несчастья всегда начинались с малого и продолжались, пока четырех человек не убивало; а потом, мол, бочонок уже больше не появлялся. Он сказал, что если бы ребята переждали еще хоть одну ночь… — и еще что-то хотел добавить, однако с ребят и этого было достаточно. Они стали спускать лодку, чтобы свезти его на берег и там линчевать. Но он вдруг схватил дитя, прижал его к груди и, заливаясь слезами, прыгиул в воду. И уже больше мы не видели на этом свете ни его, несчастного страдальца, ни Чарльза-Уильяма.
— Кто заливался слезами? — спросил Боб. — Олбрайт или младенец?
— Ну конечно Олбрайт; разве я вам не сказал, что ребенок был мертвый? Ведь он уже три года был мертв, как же он мог плакать?
— Ну, мог он плакать или не мог, это не важно, но вот как он мог сохраняться столько времени? — спросил Дик. — Вот ты мне что объясни!
— Не знаю как, — сказал Эд. — Сохранился — вот и все, что мне известно.
— А что жо они сделали с бочонком? — спросил Детище Напасти.
— Да просто швырнули в воду, он и пошел ко дну, как кусок свинца.
— Скажи, Эдуард, а похоже было, что ребенок задушен? — спросил один.
— А волосики у него вились? — спросил другой.
— А какая марка была на бочке, Эди? — полюбопытствовал парень, по имени Билл.
— А можешь ли ты подтвердить все это документами, Эдмунд? — спросил Джимми.
— Скажи, Эдвин, а не ты ли тот парень, которого убило молнией? — спросил Дэви.
— Он? Нет! — Он — оба тех парня, которых убило молнией, — сказал Боб.
И тут все просто взвыли.
— Слушай, Эдуард, не принять ли тебе пилюлю? Вид у тебя неважный, ты что-то побледнел! — сказал Детище Напасти.
— Ну-ка, Эди, не стесняйся, — говорит Джим, — давай сюда, — ведь у тебя, наверно, припрятан кусок от того бочонка для вящего доказательства. Покажи нам хоть дырку от пробки, что тебе стоит? Мы тогда сразу поверим.
— Слушайте, ребята, — говорит Билл, — давайте поделимся. Нас тринадцать человек. Я берусь проглотить тринадцатую часть этой брехни, если вы справитесь с остальным.
Эд совершенно вышел из себя, послал их всех в одно место, которое определил очень ясными словами, и побрел на корму, бормоча ругательства, а остальные, издеваясь, так вопили ему вслед, так орали и гоготали, что их было слышно за милю.
— Ребята, давайте по этому поводу разрежем арбуз, — сказал Детище Напасти, стал шарить между связками гонта, где я лежал, и наткнулся прямо на меня. Я был теплый, мягкий и голый; он только охнул: «Ох!» — и отскочил.
— Тащите сюда фонарь или лучину, ребята: тут змея толщиной с корову!
И вот они притащили фонарь, столпились и стали меня разглядывать.
— Ну, вылезай, бродяга! — сказал один.
— Ты кто такой? — спросил другой.
— Ты зачем сюда влез? Живо отвечай, не то полетишь за борт.
— Тащите его, ребята! Тяни его за ноги!
Я взмолился о пощаде и вылез, весь дрожа. Они с удивленном оглядели меня, и Детище Напасти сказал:
— Ишь проклятый воришка! Помогите, ребята, давайте бросим его в воду.
— Нет, — сказал Большой Боб, — давайте сюда горшок с краской: выкрасим парня с головы до ног в голубой цвет, а потом уж можно его выбросить.
— Здорово! Правильно! Ну-ка, Джимми, сбегай за краской!
Когда принесли краску и Боб, взявшись за кисть, уже собрался приступить к делу, а другие покатывались со смеху и потирали руки, я заплакал, — и это, очевидно, как-то подействовало на Дэви.
— Эй, стойте! — сказал он. — Ведь он совсем щенок. Я сам выкрашу того, кто его тронет.
Я взглянул на них; кто-то заворчал, но Боб положил кисть, и никто до нее но дотронулся.
— Иди сюда, к огню, и говори, зачем ты здесь? — сказал Дэви. — Ну, сядь сюда и рассказывай о себе. Ты долго тут просидел?
— Не больше четверти минуты, сэр! — ответил я.
— Как же ты так скоро высох?
— Не знаю, cэp, это я всегда такой…
— Ах, вот оно что! А как тебя зовут?
Я не собирался назвать себя и, не зная, что сказать, брякнул:
— Чарльз-Уильям Олбрайт, сэр.
Как они загоготали! И до чего я был рад, что так ответил, может от смеха они станут добрее.
Когда они отсмеялись, Дэви сказал:
— Нет, это не подойдет, Чарльз-Уильям. Ты бы не мог так подрасти за пять лет: ведь ты был младенцем, когда тебя вытащили из бочки, и к тому же мертвым. Ну-ка, рассказывай правду, и тебя никто не тронет, если ты ничего дурного не задумал. Как тебя зовут взаправду?
— Алек Гопкинс, сэр. Алек-Джеймс Гопкинс.
— Ну, Алек, откуда ты сюда явился?
— С торговой баржи, сэр. Она стоит там, за мыском. Я на ней и родился. Панаша всю жнзнь здесь торгует, он велел мне сюда переплыть, потому что хочет попросить кого-нибудь из вас поговорить с некиим мистером Джонасом Тернером, в Каире, и сказать ему…
— Ну, знаешь…
— Да, сэр, это сущая правда, папа сказал…
— Рассказывай своей бабушке!
Все расхохотались; и когда я снова хотел что-то сказать, они перебили меня и остановили.
— Послушай-ка, — сказал Дэви, — ты, видно, с перепугу плетешь всякую чушь. Говори честно: ты действительно живешь на барже или это вранье?
— Да, сэр, на торговой барже. Она там, за мыском. Только я на ней не родился. Это наш первый рейс.
— Вот, теперь он заговорил. А зачем сюда залез — воровать?
— Нет, сэр, нет. Я просто хотел прокатиться на плоту. Все мальчишки так делают.
— Да, это я знаю. А почему спрятался?
— Ну, ведь иногда мальчишек гонят…
— И правильно, не то еще украдут что-нибудь. Слушай, если мы тебя сейчас отпустим, даешь слово никогда больше не впутываться в такие дела?
— Клянусь, не буду, хозяин! Поверьте, не буду!
— Ну, ладно, берег совсем близко. Прыгай в воду и не валяй больше дурака. Черт возьми, малый, другие плотовщики так бы тебя отдубасили, что на тебе живого места бы не осталось.
Я не стал ждать прощальных поцелуев, нырнул в воду и что было сил поплыл к берегу. Когда Джим подгреб ко мне, большой плот уже исчез за мысом. Я влез на свой плот и был страшно счастлив, очутившись наконец дома».
Мальчик не получил тех сведений, за которыми отправился, но его приключение дало нам возможность заглянуть в быт исчезнувших ныне плотогонов и баржевиков, которых мне хотелось обрисовать в этой главе моей книги.
Теперь перейду к той стороне жизни на Миссисипи, которая в эпоху расцвета пароходства заслуживает, по моему мнению, наибольшего внимания, а именно: к великому лоцманскому искусству, там процветающему. Я полагаю, что нигде в мире ничего похожего не найти.
Глава IV. МАЛЬЧИШЕСКИЕ МЕЧТЫ
Когда я был мальчиком, у моих товарищей, в нашем городишке[2] на западном берегу Миссисипи, была одна неизменная честолюбивая мечта поступить на пароход. Обуревали нас и другие стремления, но они скоро проходили. Когда у нас побывал цирк, мы загорелись желанием стать клоунами; после первого появления в нашей местности негритянской бродячей труппы нам мучительно хотелось испытать и такую жизнь; а иногда мы надеялись, что господь бог, если только мы будем живы и будем хорошо вести себя, дозволит нам стать пиратами. Но все эти увлечения постепенно проходили, и неизменной оставалась только мечта попасть в состав пароходной команды.
Раз в день крикливо разукрашенный пароходик подходил снизу, из Сент-Луиса, а другой сверху — из Киокака. До этих событий день был наполнен чудесным ожиданием, а потом становился пустым и скучным. Да и не только мальчишки, — весь поселок чувствовал это. И сейчас, много лет спустя, я представляю себе те далекие времена совершенно живо: белый городок дремлет под утренним летним солнцем; пустынные или почти пустые улицы; один-два приказчика сидят у дверей лавок на Уотер-стрит; их плетеные стулья прислонены к стене, подбородки опущены на грудь, шляпы нахлобучены. Они спят, а около них лежат грудой стружки с палочек: ясно видно, какая работа утомила их; свинья с выводком поросят бродит по тротуару и с успехом промышляет арбузными корками и семечками; небольшие штабеля товаров одиноко лежат у края пристани, кучи полозьев для спуска грузов на пароходы навалены у откоса выложенного камнем причала, и в тени их спит вонючий городской пьяница. Несколько плотов стоят здесь же, но некому слушать, как мирно плещутся о них волны. Огромная Миссисипи, величавая, великолепная Миссисипи, в милю шириной, катит свои воды, сверкая на солнце; на другом берегу — густой лес. Два мыса — и сверху и снизу по течению — замыкают зеркало реки, превращая ее в озеро, тихое, сверкающее и пустынное. Но вот над одним из отдаленных мысов появляется струйка темного дыма; тотчас же негр-возчик, знаменитый своим острым зрением и громовым голосом, подымает крик: «Пароход иде-еет!» — и все меняется! Городской пьяница начинает шевелиться, приказчики просыпаются, разносится дпкий грохот тележек, из каждой лавки, из каждого дома высыпают люди, и мертвый город вмиг оживает и приходит в движение. Подводы, тележки, мужчины, мальчишки несутся со всех концов к общему центру — к пристани. И, собравшись там, все всматриваются в приближающееся судно, будто это чудо, которое они видят впервые. И действительно, на пароход приятно смотреть. Длинный и остроносый, он изящен и аккуратен. У него две высокие вычурные трубы, и между ними висит золоченая эмблема. Нарядная лоцманская рубка, вся застекленная, с золочеными украшениями, возвышается за ними над верхней палубой. Кожухи над колесами пышно расписаны, и золотые лучи расходятся над названием парохода. Все три палубы окружены белыми чистыми поручнями; гордо вьется флаг на флагштоке; двери топок открыты, и из них бойко пышет пламя. На верхней палубе черно от пассажиров; капитан стоит у большого колокола, спокойный и внушительный, предмет всеобщей зависти; из труб валят, расплываясь, огромные клубы черного-пречерного дыма — нарочитая роскошь, достигаемая посредством нескольких поленьев смолистой сосны, подброшенных в топку перед самым приходом в город; команда собралась на баке, широкие сходни выступают далеко за борт, и палубный матрос, на зависть всем, живописно стоит на самом их конце, держа свернутый канат. Пар с визгом устремляется через предохранительный клапан; капитан поднимает руку, колокол звонит, колеса останавливаются, затем дают задний ход, пеной взбивая воду, и пароход замирает у пристани. Сразу начинается та суматоха, которая бывает, когда высадка и посадка, погрузка и выгрузка производятся одновременно. А каким ревом, какой руганью помогают матросы этой суматохе! Через десять минут пароход опять в пути, флаг спущен, и черный дым не валит из труб. Еще десять минут — и город затихает, а городской пьяница снова крепко засыпает у груды полозьев.
Отец мой был мировым судьей, и я считал, что он властен над жизнью и смертью всех людей и может повесить любого, кто его обидит. В общем, это и меня достаточно возвышало, но все-таки желание попасть на пароход вечно томило меня. Сначала я хотел быть юнгой, чтобы можно было выскочить на палубу в белом переднике и стряхнуть за борт скатерть с той стороны, с которой меня могли увидеть все старые друзья; потом меня больше стала привлекать роль того палубного матроса, который стоял на сходнях со свернутым канатом, потому что он особенно бросался в глаза. Но все это были только мечты — слишком прекрасные, чтобы стать реальными. Как-то один из наших мальчиков исчез. О нем долго ничего не было слышно. И вдруг он вернулся учеником механика, «подручным» на пароходе! Это событие окончательно подорвало мою веру в то, чему нас учили в воскресной школе. Ведь этот мальчишка был весьма неблагочестив, не мне чета; и вот он оказывается вознесенным на вершину славы, в то время как я пребываю в печали и безвестности. В своем величии этот парень был совершенно лишен великодушия. Он всегда припасал какой-нибудь ржавый болт, чтобы чистить его именно тогда, когда судно стояло в нашем городке, и тер его, усевшись у поручней, — там, где мы все могли его созерцать, завидовать ему и ненавидеть его. А когда пароход становился на отстой, парень приходил домой и разгуливал в самом промасленном, самом грязном своем платье, чтобы никто не забывал, что он служит на пароходе. В разговоре он постоянно ввертывал пароходные термины, притворяясь, будто до такой степени привык к ним, что забывает, как они непонятны для людей обыкновенных. Он с таким непринужденным видом говорил о «бакборте» лошади, что мы невольно проклинали его. Он всегда говорил о Сент-Луисе, как старожил, иногда мимоходом упоминая, как он «проходил по Четвертой улице» или «шел мимо Клуба плантаторов». Рассказывая о каком-то пожаре, когда он здорово поработал насосом на старухе «Миссури», он начинал завираться до того, что высчитывал, сколько примерно городов, величиной с наш, сгорело в тот день. Из наших мальчиков двое или трое считались выдающимися личностями, так как они один раз побывали в Сент-Луисе и имели смутное представление о тамошних чудесах; но дни их славы кончились. Они погружались в робкое молчание и ловко смывались, когда приближался бесцеремонный и безжалостный ученик механика. У этого пария бывали деньги, и волосы его лоснились от помады; он носил дешевые серебряные часы на броской медной цепочке, кожаный пояс и ходил без подтяжек. Если когда-либо существовал человек, которым искренне восхищались и которого притом ненавидели его товарищи, то это был именно этот юнец. Ни одна девушка не могла устоять перед его чарами. Он затмевал всех ребят городка. Когда его пароход наконец взорвался, мы все почувствовали такое спокойствие и удовлетворение, какого не знали уже давным-давно. Но когда он на следующей неделе вернулся домой, живой и знаменитый, в ореоле героя, и появился в церкви, весь исцарапанный и перевязанный, и все на него глазели с восхищением, мы решили, что пристрастие провидения к этому недостойному гаду достигло такой степени, что уже само провидение подлежит нашей критике.
Карьера этого человека могла дать только один результат, что вскоре и обнаружилось. Мальчики один за другим стали уходить на реку. Сын священника стал механиком, сыновья доктора и почтмейстера — пароходными кассирами, сын оптовика-виноторговца сделался буфетчиком на пароходе, а четверо сыновей самого крупного торговца и два сына судьи округа стали лоцманами. Положение лоцмана было самым блестящим. Лоцман, даже в те времена, когда оклады были мизерными, получал царское жалованье — от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти долларов в месяц, без вычетов за стол. Его двухмесячный оклад равнялся годовому жалованью пастора. И вот, некоторые из нас были просто безутешны. Мы не могли устроиться работать на реке, вернее — наши родители не пускали нас.
В конце концов я просто убежал. Я сказал себе, что ни за что не вернусь домой, пока не стану лоцманом и не смогу вернуться озаренный славой. Но мне это как-то не удавалось. Я робко пробирался на палубы пароходов, которые бок о бок, как сардинки, стояли у длинных причалов Сент-Луиса, и очень смиренно спрашивал, как я могу поговорить с лоцманом; по встречали мепя очень неприветливо, и я выслушивал довольно резкие ответы судовых клерков и помощников капитана. Приходилось до поры до времени терпеть такое обращение, но я успокаивал себя мечтами о том, как я стану прославленным и уважаемым лоцманом и у меня будет столько денег, что я смогу убить нескольких помощников и клерков и откупиться за это деньгами.
Глава V. Я ХОЧУ СТАТЬ ЛОЦМАНСКИМ УЧЕНИКОМ
Прошло несколько месяцев, и надежды мои поневоле мало-помалу угасли. Я видел, что все мои честолюбивые замыслы пошли прахом. Но возвращаться домой было стыдно. Я жил в Цинциннати и вырабатывал план новой карьеры. Я читал отчет о последнем исследовании реки Амазонки экспедицией, посланной по заданию нашего правительства. Там говорилось, что экспедиция из-за всяческих трудностей не вполне обследовала местность, расположенную в верховьях реки, примерно за четыре тысячи миль от ее устья.
Только тысяча пятьсот миль отделяли Цинциннати от Нового Орлеана, где я, без сомнения, мог попасть на подходящий корабль. У меня оставалось тридцать долларов: я решил завершить исследование Амазонки. Раздумывать дольше я не стал. Детали всегда были моим слабым местом. Я уложил чемодан и взял билет на допотопную посудину под названием «Поль Джонс», отправлявшуюся в Новый Орлеан. За шестнадцать долларов ветхая и потускневшая роскошь «салона» была предоставлена мне почти что в единоличное пользование, так как пароходу нечем было привлечь внимание более рассудительных путешественников.
Когда мы наконец пустились в путь и поползли вниз по широкой Огайо, я почувствовал себя в корне обновленным и стал предметом собственного восхищения. Я — путешественник! Никогда еще ни у одного слова но было такого чудесного привкуса! Меня охватило восторженное чувство человека, отправляющегося в таинственные страны, в далекие края; я испытывал подъем, какого с тех пор не запомню. Я был в таком повышенном настроении, что все низменные чувства исчезли, и я с моих высот жалел тех, кто не путешествовал, сочувствуя им и почти не презирая их. Но все же на остановках у поселков и сплавных затонов я не мог не стоять вразвалку у поручней пияшей палубы, наслаждаясь завистью деревенских мальчишек на берегу, Если мне казалось, что они меня не замечают, я начинал чихать, чтобы привлечь их внимание, или занимал такую позицию, откуда им невозможно было не видеть меня. И как только я замечал, что они на меня смотрят, я начинал зевать и потягиваться, всячески показывая, до чего надоело мне путешествовать.
Я ходил все время без шляпы и выбирал места, где мог подвергаться действию ветра и солнца: мне очень хотелось стать бронзовым и обветренным, как старый путешественник. И уже к концу второго дня я испытал радость, наполнившую мое сердце живейшей благодарностью: я увидел, что кожа на моей шее и на руках стала лупиться и шелушиться. О, если бы наши девочки и мальчики видели меня сейчас!
Мы пришли в Луисвилл в срок — по крайней мере подошли к нему довольно близко, ибо крепко и основательно застряли на камнях среди реки и просидели там четыре дня. Я уже начал чувствовать себя членом семьи на пароходе, чем-то вроде малолетнего сына капитана и младшего брата команды. Невозможно выразить, как я гордился своим величием, как росло и крепло во мне горячее чувство к этим людям. Откуда мне было знать, до какой степени гордые пароходчики презирают такого рода чувства у обитателей суши! Особенно я мечтал, чтобы на меня обратил хоть чуточку внимания рослый и вспыльчивый помощник капитана, и я все время был наготове, чтобы оказать ему какую-нибудь услугу. Наконец миг настал. На баке шла суета и беготня — там устанавливали новую подъемную стрелу, и я пошел туда и путался у всех под ногами, вернее — старался не путаться. Когда помощник, ни к кому, собственно, не обращаясь, вдруг прогремел, чтобы принесли ему ворот, я подскочил и сказал: «Скажите мне, где он лежит, — я сейчас принесу».
Если бы тряпичник предложил выполнить дипломатическое поручение императора всероссийского, тот, наверно, удивился бы меньше, чем старший помощник. Он даже ругаться перестал. Он остановился и выпучил на меня глаза. Прошло не меньше десяти секунд, прежде чем он опомнился. Затем он выразительно сказал: «Ну и чертовщина, будь я проклят!..» — и вернулся к своему делу с видом человека, который столкнулся с задачей абсолютно неразрешимой.
Я тихо смылся и остаток дня провел в полном одиночестве. Я не пошел обедать и воздерживался от ужина, покуда остальные не кончили. Я уже больше не чувствовал себя членом пароходной семьи, как раньше. Но бодрость постепенно вернулась ко мне, когда мы снова двинулись вниз по течению. Мне было жаль, что я так ненавидел помощника, так как нельзя было человеку (особенно молодому) не восхищаться им. Он был громадного роста и мускулистый, с лицом, сплошь заросшим бородой и усами. На правой руке у него были вытатуированы красная женщина и синяя, а между ними — синий якорь с красным канатом. По части ругани он был велик и неподражаем. Когда он принимал груз на пристани, я всегда старался поместиться так, чтобы видеть и слышать его. Он был преисполнен величием своего положения и старался дать почувствовать это всему миру. Самый простой его приказ уподоблялся вспышке молнии, за которой следовал раскатистый гром ругани. Невольно я сравнивал приказание, отданное простым человеком на суше, с командой помощника. Если бы сухопутный человек захотел передвинуть сходни немного подальше, он сказал бы: «Ну-ка, Джон, или Уильям, передвинь-ка, пожалуйста, эту доску!» Но поставьте на его место помощника капитана, и он наверняка заорет: «Эй, там, двиньте-ка эту доску! Живее! Чего копаетесь? Да беритесь же! Ну, чего еще? Назад, наз-ад! Оглохли, что ли? Разнеси тебя вдребезги! Ты, что, спать на ней, что ли, собираешься? Подымай, подымай, слышишь? Ты что же, хочешь ее свалить совсем? Куда тебя несет с этой бочкой? Убери ее, убери, говорят тебе, пока я тебя не заставил ее слопать, распроклятый ты недоносок заморенной черепахи! Ублюдок хромой клячи от катафалка!»
О, как мне хотелось тоже уметь так орать!
Когда острота моего столкновения со вторым помощником немного смягчилась, я робко попытался наладить отношения с самым скромным из всей команды — с ночным вахтенным. Сначала он свысока встречал мои попытки, но я рискнул поднести ему новую глиняную трубку, — и это его примирило со мной. Он разрешил мне сидеть с ним у большого колокола на верхней палубе и понемногу разговорился. Он просто не в силах был устоять: с таким обожанием ловил я каждое его слово, так откровенно показывал, до чего я польщен его вниманием! Он называл мне смутно видневшиеся мысы и туманные острова, когда мы скользили мимо них в торжественном молчании ночи под мигающими звездами, и мало-помалу стал рассказывать о себе. Он был чересчур сентиментален для старика с окладом в шесть долларов в неделю — или, вернее, показался бы таким человеку постарше меня. Но я впивал его слова с жадностью и с такой верой, которая могла бы сдвинуть горы, если бы знать, как это делается. Что мне было до того, что он грязен и оборван, что от него несло джином? Какое мне дело, что речь его безграмотна, обороты нелепы, а ругань до того неизобретательна, что не уснащала рассказа, а портила его. он был человек обиженный, человек, повидавший горя, — и этого мне было достаточно. Когда он рассказывал свою жалобную повесть, слезы его капали на фонарь, который он держал на коленях, и я тоже плакал от сочувствия. Он говорил, что он сын английского дворянина, не то графа, не то олдермена, — точно он не помнил, но предполагал, что родитель его был и тем и другим; этот отец-дворянин обожал его, зато мать ненавидела с колыбели; вот почему, когда он был еще совсем маленьким, его послали в один из «этих самых старых, самых старинных колледжев»,— он точно но помнил, в какой именно; и вот, когда отец умер, мать захватила все имущество и, как он выразился, «вытряхнула» его. После того как это случилось, его знакомые дворяне употребили все свое влияние, чтобы устроить его судовым фельдшером; и вот тут-то мой вахтенный, не считаясь с такими пустяками, как место и время, пустился в рассказ, изобиловавший самыми невероятными приключениями. В этом повествовании было столько кровавых дел, столько спасений от неминуемой гибели и столько увлекательных, но часто нечаянных подлостей, что я сидел онемевший, дрожа, изумляясь и преклоняясь.
Тяжело и больно было обнаружить потом, что это был низкопробный, грубый, невежественный, слезливый и глупый враль, уроженец иллинойской глуши, никогда и нигде не бывавший, лишь начитавшийся бульварных романов; он приписывал себе разные приключения и впоследствии из всей этой чуши сплел свою историю и так часто рассказывал ее всяким юнцам вроде меня, что сам в нее поверил.
Глава VI. ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛОЦМАНСКОГО «ЩЕНКА»
Из-за сидения на мели в течение четырех дней у Луисвилла и всяких других задержек бедный старый «Поль Джонс» потратил около двух недель на путь от Цинциннати до Нового Орлеана. Это дало мне возможность познакомиться с одним из лоцманов. он показал мне, как управлять судном, и обаяние жизни на реке стало еще сильнее.
Мне довелось также познакомиться с одним юнцом, который ехал палубным пассажиром, — могу сказать: познакомиться к великому сожалению, — потому что он весьма непринужденно занял у меня шесть долларов, обещав вернуться на пароход и отдать долг через день после прпезда. Но он, вероятно, умер или забыл о своем обещании, потому что не пришел совсем. Вернее все-таки, что умер, ибо он рассказывал, какие у него богатые родители, а на палубе он едет только потому, что там прохладнее.
Вскоре я обнаружил следующее: во-первых, что ни одно судно не собиралось идти к устью Амазонки раньше чем через десять — двенадцать лет; во-вторых, что девяти или десяти долларов, оставшихся у меня в кармане, не хватит на такую серьезную экспедицию, даже если мне удастся дождаться парохода. Отсюда следовало, что мне надо начинать новую карьеру. «Поль Джонс» отправлялся в Сент-Луис. Я тщательно обдумал план осады моего лоцмана, и через три тяжелых дня он сдался. Ori согласился обучить меня вождению судов по Миссисипи — от Нового Орлеана до Сент-Луиса — за пятьсот долларов из первого жалованья, которое я получу после сдачи испытания. Я взялся за пустяковую задачу изучения великой реки Миссисипи на участке длиной в тысяча двести — тысяча триста миль с доверчивой легкостью, свойственной моему возрасту. Представляй я себе ясно, что от меня потребуется, у меня не хватило бы смелости взяться за такое дело. Но я считал, что все, что требуется от лоцмана, — это чтобы судно не вышло из реки, и мне казалось, что это отнюдь не сложный фокус, принимая во внимание ее ширину.
Пароход вышел из Нового Орлеана в четыре часа дня, и до восьми была «наша вахта». Мистер Биксби, мой начальник, «развернул» судно, повел его мимо кормы других пароходов, стоявших у мола, и сказал: «Ну-ка, возьми штурвал. Срежь кормы этих пароходов аккуратно, как шкурку с яблока». Я взялся за штурвал, и пульс у меня дошел до ста ударов в минуту: мне казалось, что мы обдерем кормы всех судов, — так близко мы проходили. Я затаил дыхание и начал отводить судно от этой опасности; о лоцмане, который не мог найти ничего лучшего, как подвергать нас такому риску, у меня сложилось особое мнение, но я был достаточно благоразумен, чтобы промолчать. Через полминуты между пароходами и «Поль Джонсом» появилась безопасная широкая полоса воды, а еще через десять секунд я был позорно смещен, и мистер Биксби снова подверг нас опасности, так изругав меня за трусость, что мне казалось, будто с меня заживо сдирают кожу. Я был уязвлен, но не мог не любоваться легкостью и уверенностью, с которой мой начальник, небрежно перекладывая штурвал, проходил мимо других судов так близко, что катастрофа ежеминутно казалась неизбежной. Когда он немножко остыл, он объяснил мне, что тихое течение — ближе к берегу, а быстрое — к середине, поэтому мы должны держаться берега, идя против течения, чтобы использовать первое обстоятельство, и плыть посредине, идя по течению, чтобы использовать последнее обстоятельство. В душе я решил стать лоцманом, который ходит только вниз по течению, предоставив идти вверх по течению тем, кому не дорога жизнь.
Время от времени мистер Биксби обращал на что-нибудь мое внимание. Он изрекал: «Это Мыс шестой мили». Я соглашался. Сведение вполне приятное, только я не совсем понимал, к чему оно. Лично для себя я в нем ничего интересного не находил. В другой раз он сказал: «Это Мыс девятой мили». А еще дальше: «Это Мыс двенадцатой мили». Все они лежали вровень с водой и казались мне друг на друга похожими, унылыми и неживописными. Я надеялся, что мистер Биксби переменит тему. Но нет: он привязывался к какому-нибудь мысу, с любовью прижимался к берегу, а потом заявлял: «Ну, тихая вода тут, у этих деревьев, кончается, теперь давай переходить». И он шел наперерез. Раза два он дал мне штурвал, но мне не везло: то я чуть не отхватывал кусок от сахарной плантации, то залезал слишком далеко от берега и сразу впадал в немилость и бывал всячески изруган.
Наконец вахта кончилась, мы поужинали и легли спать. В полночь свет фонаря ударил мне в глаза, и ночной вахтенный сказал:
— Эй, выметайся! — И ушел. Я никак не мог понять, что означает этот странный поступок; поэтому, даже не пытаясь разобраться, в чем дело, я снова заснул. Однако довольно скоро он вернулся и на этот раз был уже зол по-настоящему. Я рассердился и сказал:
— Что вы тут ходите и мешаете мне среди ночи? Теперь я больше не смогу заснуть.
— Ну и ну! — сказал ночной вахтенный.
Как раз в это время сменившаяся вахта возвращалась спать, и я услышал грубый смех и выкрики: «Эй, старина! Ты нового щенка еще не вытащил? Ишь он какой нежный! Дай-ка ему пососать сахарку в тряпочке да пошли за нянькой, пусть она его побаюкает».
В это время появился мистер Биксби. Не прошло и минуты, как я уже поднимался по трапу лоцманской рубки, причем только часть одежды была на мне, а остальную я нес в руках. Мистер Биксби шел за мной по пятам, добавляя соответствующие комментарии. Это было нечто совсем новое — вскакивать среди ночи и становиться на работу. Об этой подробности лоцманской профессии я никогда не подозревал. Я знал, что пароходы идут всю ночь, по мне не приходило в голову, что кому-то надо же вылезать из теплой постели, чтобы вести их. Я начал побаиваться, что быть лоцманом — это вовсе не так романтично, как я воображал; сейчас я увидел, что это дело весьма серьезное и требует настоящего труда.
Ночь была довольно тусклая, хотя немало звезд виднелось на небе. Рослый помощник стоял у штурвала; он направлял нашу старую посудину по какой-то звезде и вел пароход прямо посередине реки. Расстояние между обоими берегами было не больше мили. Но они казались удивительно далекими, неясными и смутными.
Помощник сказал:
— Нам надо пристать у плантации Джонса, сэр.
Дух мщения во мне возликовал. Я мысленно произнес: «Желаю вам удачп, мистер Биксби; вам предстоит удовольствие отыскивать плантацию мистера Джонса в такую ночь; и я надеюсь, что вы никогда в жизни ее не отыщете».
Мистер Биксби спросил помощника:
— К верхнему концу плантации или к нижнему?
— К верхнему.
— Не могу. При такой воде там все пни вылезли наружу. До нижнего конца недалеко, придется подойти туда.
— Ладно, сэр. А если Джонсу это не понравится — пускай устраивается как хочет.
И помощник ушел. Мой злорадный восторг стал остывать и сменился изумлением. Предо мной был человек, бравшийся в такой тьме отыскать по только самую плантацию, но и любой ее конец, на выбор. Мне ужасно хотелось задать один вопрос, по я уясе навлек на себя столько сердитых окриков, что был сыт ими по горло, и решил промолчать. Я хотел только спросить мистера Биксби, действительно ли он такой осел, что воображает, будто можно найти эту плантацию ночью, когда все плантации совершенно не отличаются друг от друга. Но я удержался. Все-таки меня в те дни иногда осеняла, по вдохновению, какая-то осторожность.
Мистер Биксби повел судно к берегу и скоро подошел к нему, как сделал бы это среди бела дня. И он не только причалил, но еще и пел при этом: «Отец небесный, заря угасает» и т. д.
Мне казалось, что я вручил свою жизнь отчаянному головорезу. Вдруг он повернулся ко мне и спросил:
— Как называется первый мыс выше Нового Орлеана?
Я был доволен, что могу ответить быстро, и тут же ответил. Я сказал, что не знаю.
— Не знаешь?
Этот тон меня уничтожил. Сразу я почувствовал себя неважно. Но пришлось повторить то же самое.
— Хорош, нечего сказать! — проговорил мистер Биксби. — А следующий мыс как называется?
Я опять не знал.
— Ну, это уж чересчур! Можешь назвать мне хоть какой-нибудь мыс или место, которое я тебе называл?
Я немного подумал и наконец сознался, что не могу.
— Ну, послушай, с какого места выше Мыса двенадцатой мили ты начинаешь пересекать реку?
— Я… я не знаю.
— Не зна-аю, — передразнил он мепя. — А что же ты вообще знаешь?
— Я… я… кажется, ничего.
— Клянусь тенью великого Цезаря, я тебе верю! Такого тупого болвана я никогда в жизни и не видал и не слыхал, клянусь пророком Моисеем! И подумать, что ты хочешь быть лоцманом! Да ты корову по лугу не сумеешь провести!
Ну и здорово он разозлился! Человек он был нервный и так топтался у своего штурвала, будто под ним был раскаленный пол. Он весь просто кипел и то сдерживался, то вдруг прорывался и ошпаривал меня презрением.
— Слушай-ка, а зачем я, по-твоему, называл тебе эти мысы?
Дрожа, я начал соображать, и вдруг бес-искуситель подбил меня:
— Ну… ну… я думал… ну, чтобы поразвлечь меня.
Быку показали красную тряпку! Биксби так бушевал и бесился (пересекая в то жe время реку), что совсем ослеп от ярости и налетел на рулевое весло торговой баржи. Разумеется, на него оттуда посыпался град самой разухабистой брани. И как это было на руку мистеру Биксби! Его переполняла злость, а тут нашлись люди, которые могли отвечать. Он открыл окошко, высунул голову, и полились потоки такой брани, какой я никогда в жизни не слыхивал. Чем дальше и слабее становились голоса с баржи, том громче кричал мистер Биксби, тем полновеснее звучали его эпитеты. Когда он наконец закрыл окно, оказалось, что он окончательно иссяк. Из него уже нельзя было бы выудить даже тех робких богохульств, которые могли бы смутить вашу матушку. Вдруг он обратился ко мне самым кротким голосом:
— Ты, мальчик, заведи себе записную книжечку и каждый раз, как я тебе что-нибудь говорю, сразу все записывай. Лоцманом можно стать только так: надо всю реку вызубрить наизусть. Надо знать ее, как азбуку!
Для меня это было очень неприятным открытием, — в свою память я до сих пор закладывал только холостые патроны. Но приуныл я не надолго. Я решил, что в требование мистера Биксби надо внести некоторые поправки, так как он несомненно преувеличивает. В это мгновение он дернул за веревку и несколько раз позвонил в большой колокол. Все звезды заволокло, и ночь стояла черная, как чернила. Я слышал только, что колеса бурлят около самого берега, но сомневался в возможности рассмотреть его. Голос невидимого вахтенного спросил с верхней палубы:
— Где мы, сэр?
— Плантация Джонса.
Я сказал себе, что охотно рискнул бы на небольшое пари, что лоцман ошибается. Но я не пикнул. Я только смотрел и ждал. Мистер Биксби дал сигнал, и, как полагалось, иос парохода подошел к берегу, на баке вспыхнул фонарь, кто-то спрыгнул, и голос негра проговорил из темноты: «Давайте мне ваш саквояж, масса Джонс!» — а через мгновение мы уже снова шли по реке, тихо и спокойно. Я глубоко задумался и потом проговорил, конечно про себя: «Да, найти сейчас плантацию — это, конечно, самая счастливая из всех возможных случайностей, но повторить такой подвиг не удастся и за сто лет». Я искренне верил, что это действительно была случайность.
За время, понадобившееся нам, чтобы пройти около восьмисот миль вверх по реке, я научился довольно ловко вести пароход вверх по течению, правда только днем, а до прихода в Сент-Луис сделал кое-какие успехи и в ночном управлении, правда весьма незначительные. У меня была записная книжка, сплошь исчерканная названиями городов, мысов, мелей, островов, излучин, пристаней и т. д.; но все эти сведения можно было найти только в книжке — и голове у меня они не удерживались. У меня болело сердце при мысли о том, что я запечатлел только половину реки, так как мы сменялись на вахту каждые четыре часа, днем и ночью. В книжке были длинные пробелы за каждые четыре часа, что я просыпал с начала путешествия.
Мой наставник поступил на большой новоорлеанский пароход, и я, уложив свои вещи, отправился вместе с ним. Вот это был пароход! Стоя в лоцманской рубке, я так возвышался над водой, точно забрался на гору. Палубы так далеко убегали к корме и к носу, что я сам себе дивился, вспоминая, что считал «Поль Джонса» большим судном.
Пароход этот отличался от «Поль Джонса» и в других отношениях: лоцманская рубка «Поль Джонса» была плохонькой, грязной и расшатанной мышеловкой, страшно тесной вдобавок; а эта рубка походила на роскошный стеклянный храм; места столько, хоть танцуй! Нарядные, красные с золотом, занавеси, внушительный диван — высокая спинка и кожаные подушки, — сюда другие лоцманы приходили посидеть, поболтать и «посмотреть реку»; блестящие вычурные «урны» вместо деревянного ящика, наполненного опилками; красивый линолеум на полу; уютная большая печь для зимы; инкрустированный штурвал с меня вышиной; проволочный штуртрос; блестящие медные кнопки сигнальных звонков; и чистенький негр-буфетчик в белом переднике, готовый подать бутерброды, мороженое или кофе на вахту в течение круглых суток. Да, это уже было «кое-что», и я снова приободрился, решив, что все-таки лоцманское дело — занятие романтическое. Как только мы тронулись, я прошелся по всему большому пароходу и без конца восторгался. Он был чист и наряден, как гостиная; когда я осматривал его большой золоченый салон, мне чудилось, что я вижу своды великолепного туннеля; на двери каждой каюты была картинка, написанная искусным живописцем; всюду висело бесконечное количество люстр с гранеными стеклянными подвесками; парядпа была конторка кассира, великолепен буфет, а на прическу и костюм буфетчика, казалось, потрачены были невероятные деньги. Котельная палуба (так сказать, второй ярус парохода) показалась мне просторной, как церковь, и бак тоже; и не жалкая горсточка матросов, кочегаров и грузчиков — нет, целый батальон людей был там. Огни жарко пылали в длинном ряде топок, и восемь огромных котлов возвышались над ними. Какое неописуемое великолепие! А мощные машины!.. Но довольно! Никогда я не чувствовал себя так замечательно. А когда я услышал, как весь этот отлично вымуштрованный штат почтительно именует меня «сэр», я почувствовал полнейшее удовлетворенно.
Глава VII. СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК
Когда я вернулся в лоцманскую рубку, Септ-Луиса уже не было видно, и я растерялся. Передо мною расстилалась часть реки, полностью занесенная в мою книжку, но я абсолютно ничего но мог разобрать: сейчас все было шиворот-навыворот. Я видел эти берега, подымаясь вверх по течению, но ни разу не догадался обернуться, чтобы посмотреть на уходящую панораму. И сердце мое сжалось: я понял, что должен вызубрить эту коварную реку сверху вниз и снизу вверх.
Лоцманская рубка полна была лоцманов, пришедших «посмотреть реку». Уровень воды в «верхней реке» (то есть на протяжении двухсот миль между Сент— Луисом и Каиром у впадения Огайо) стоял низко; Миссисипи меняет свой фарватер так часто, что лоцманы при низкой воде считают нужным пройти до Каира, чтобы освежить свои знания, в то время как их суда с педелю стоят в порту. Отправляются «посмотреть реку» и неудачники, у которых редко бывает работа; вся их надежда состоит в том, что, будучи в курсе дела, они тогда смогут заменить какого-нибудь из известных лоцманов хоть на один рейс в случае его неожиданной болезни или других помех. А многие из них систематически курсировали взад и вперед, изучая реку не потому, что надеялись действительно получить место, а просто потому, что на пароходе они считались гостями, и выходило дешевле «смотреть реку», чем жить на берегу и платить за все. Постепенно у этих людей вырабатывались довольно изысканные вкусы, и они осаждали главным образом те пароходы, где была заведомо хорошая кухня. Все эти гости были полезны, потому что они всегда охотно, и зимой и летом, и днем и ночью, выходили на яликах обставлять бакенами фарватер и вообще помогали лоцману чем только могли. Их принимали охотно еще и потому, что все лоцманы — неутомимые балагуры, когда соберутся вместе, а так как говорят они исключительно о реке, то всегда понимают друг друга, и их рассказы всегда интересны. Настоящий лоцман ничем на свете, кроме реки, не интересуется и гордится своей профессией не меньше любого короля.
В этот рейс у нас подобралась неплохая компания этих речных наблюдателей. Их было человек восемь — десять, и в нашей большой рубке всем хватало места. на двух-трех были шелковые цилиндры, изысканные крахмальные рубахи с брильянтовыми булавками, замшевые перчатки и лакированные башмаки. Говорили они на изысканном английском языке и держались с достоинством людей, обладающих солидным капиталом и репутацией превосходных лоцманов. Другие были одеты более или менее небрежно, и на головах у них возвышались островерхие фетровые шляпы, напоминающие дни Кромвеля.
В этом высокопоставленном обществе я был ничем и чувствовал себя униженным, чтобы не сказать — совсем уничтоженным. Меня даже не считали достойным помогать у штурвала, когда надо было спешно положить руля на борт; тот гость, который стоял поближе, делал это, когда было нужно, — а делать это приходилось ежеминутно — из-за извилистого фарватера и низкой воды. Я стоял в углу, и разговоры, которые я слышал, наполняли меня безнадежностью. Одни гость говорил другому:
— Джим, ты как прошел мимо Сливового мыса, когда подымался?
— Да я там был ночью и прошел так, как мне посоветовали ребята с «Дианы»: вышел ярдов на пятьдесят выше свай, у ложного мыса, держал на хижину под Сливовым мысом, пока не обошел отмелей, где на четверть меньше двух, затем вышел на середину, чтобы пройти средний перекат, и держал так, пока не миновал старый тополь с большим суком у излучины, потом привел корму на тополь, а нос по мели за мысом. Прошел шикарно — девять с половиной.
— Пересек прекрасно, не правда ли?
— Да, но на верхнем перекате сильно сносит вниз.
Тут заговорил другой лоцман:
— Я прошел ниже, и тем не менее получше этого; начал от ложного мыса, метка — два, обогнул вторую мель против большой коряги в излучине — и имел две без четверти.
Один из нарядных гостей заметил:
— Не хочу, конечно, сказать, что ваши лотовые виноваты, но, мне сдается, что для Сливового мыса этот уровень воды вовсе неплох.
Все одобрительно закивали головами, когда эта спокойная шпилька, направленная в хвастуна, попав по адресу, заставила его «заткнуться».
И такие разговоры и споры шли без конца. А у меня в мыслях все время вертелось: «Ну, если верно все, что я слышу, мне придется не только зазубрить названия всех городов, островов, излучин и прочих мест, но надо будет еще завести теплые дружеские отношения с каждой старой корягой, с каждым старым тополем и с каждой невзрачной сваей, — словом, со всем, что украшает берега реки на протяжении тысячи двухсот миль. Больше того, мне надо будет точно знать, где все эти штуки торчат в темноте, если только у наших гостей нет глаз, пронизывающих темноту на две мили вперед; мне захотелось послать лоцманскую профессию ко всем чертям, и я пожалел, что вообще взялся за это дело.
В сумерках мистер Биксби три раза ударил в большой колокол: сигнал — «причалить к берегу». Капитан вышел из своей каюты и вопросительно посмотрел на лоцмана; мистер Биксби сказал:
— Мы здесь должны остановиться на всю ночь, капитан.
— Хорошо, сэр.
И все. Пароход подошел к берегу и стал к причалу на всю ночь. Мне страшно нравилось, что лоцман мог распоряжаться как ему вздумается, не спрашивая разрешения у такого важного капитана. Я поужинал и сразу лег спать, обескураженный всем, что пришлось видеть и пережить за истекший день. Все мои записи были бессмысленным набором ничего не значащих названий. Просматривая их днем, я вконец запутался и надеялся отдохнуть от них во сне. Не тут-то было: эти названия вертелись у меня в мозгу всю ночь в яростном, непреодолимом кошмаре.
Наутро я был совсем разбит и в очень дурном расположении духа. Мы быстро шли вперед, подвергаясь многочисленным опасностям, так как хотели «выйти из реки» — так называли переход до Каира — прежде, чем нас застигнет ночь. Но тут напарник мистера Биксби. другой лоцман, посадил пароход на мель, и мы потеряли уйму времени, чтобы с нее сойти; ясно было, что темнота захватит пас еще далеко от устья Огайо. Это было большой неудачей, особенно для некоторых из лоцманов, наших гостей, потому что судам приходилось ждать их возвращения, сколько бы времени они ни отсутствовали. Разговоры в рубке стали трезвее. Идя вверх по течению, лоцманы не обращают внимания на низкий уровень воды или на темноту: ничто, кроме тумана, не может их остановить. Но идти вниз по течению — дело другое: судно почти беспомощно, когда снльпое течение его увлекает; поэтому в мелководье пароходы, спускаясь вниз по течепшо, шли только днем.
Однако оставалась еще слабая надежда: если бы нам удалось засветло пройти опасный и путаный переход у Шляппого острова, можно было бы решиться идти вперед; дальше путь становился проще, и вода выше. Но чистое безумие — пытаться пройти мимо этого острова ночью. Поэтому целый день все смотрели на часы и высчитывали, с какой скоростью мы идем. Шляпный остров был центром всех разговоров. Надежда то росла, то, из-за задержки на трудных поворотах, угасала. Несколько часов находились мы под гнетом скрытой тревоги; опа передалась даже мне, и я так напряженно стремился к этому Шляпному острову, чувство ответственности так давило меня, что мне хотелось хоть на пять минут очутиться на берегу, вздохнуть облегченно, полной грудью и уже потом снова пуститься в путь. Мы не отбывали вахт по порядку: оба наши лоцмана по очереди вели пароход по той части реки, которую каждый из них проходил в предыдущий рейс, вверх по течению, и, следовательно, лучше знал; но оба все время оставались в лоцманской рубке.
За час до захода солнца мистер Биксби стал к штурвалу, а мистер У. отошел. В течение тридцати минут все стояли с часами в руках, в тревожном, напряженном молчанип. Наконец кто-то проговорил, безнадежно вздохнув:
— Ну вот и Шляпный остров, но нам его не пройти!
Крышки всех часов щелкнули разом, каждый вздохнул, и кто-то пробормотал: «Да, скверная штука… Хоть на полчаса раньше попасть бы сюда!»
Всех охватило тяжелое чувство досады. Некоторые направились было к выходу, по остановились, не слыша сигнала «причаливать». Солнце нырнуло за горизонт, пароход шел дальше. Гости вопросительно переглянулись, и один из них, уже взявшийся было за дверную ручку, помедлив немного, вернулся. Мы неуклонно шли вниз по излучине. Все без слов обменивались изумленными взглядами и восхищенными кивками. Бессознательно лоцманы теснее сгрудились за мистером Биксби; между тем стемнело, и в небе тускло блеснули одинокие звезды. Гробовое молчание и напряженное чувство ожидания, казалось, давили всех. Мистер Биксби потянул за трос, и два глубоких мягких удара большого колокола поплыли в ночь. Потом тишина — и еще раз пропел колокол. Голос вахтенного произнес с верхней палубы:
— Лот на правый борт! Лот на левый борт!
Крики лотовых начали раздаваться с бака, и передатчики подхватывали их хриплыми голосами: «Три сажени!.. Три-и! Три без четверти… две с половиной. Две с четвертью. Две!.. Без четверти!»
Мистер Биксби дернул за оба колокольных троса; ему ответили снизу, из машинного отделения, еле слышным звонком, — и ход судна замедлился. Пар со свистом начал вырываться из предохранительных клапанов. Лотовые продолжали перекликаться, и, как всегда, ночь придавала их голосам зловещий оттенок. Лоцманы говорили шепотом, и каждый напряженно следил за происходящим, не спуская глаз с мистера Биксби. Он один был спокоен. Он перекладывал руль и застывал на месте. А когда пароход пошел, как мне показалось, по какому-то широкому и темному морю — Биксби, руководствуясь ему одному видимыми признаками, выравнивал его и направлял. Из чуть слышного разговора можно было иногда уловить связную фразу, вроде:
— Ну вот, через первый перекат пронесло чисто.
И после паузы другой пониженный голос:
— Корма проходит тютелька в тютельку, провались я на месте!
— Теперь она проходит пад критической глубиной, ей-богу!
Кто-то пробормотал:
— Замечательно сделано, замечательно!
Машины были остановлены, и мы шли по течению.
Я, конечно, не видел ничего, потому что все звезды исчезли. Идти по течению — дело пренеприятное, у меня даже.сердце замирало. Вдруг я различил в окружающей нас тьме еще более темное пятно. Это был выступ острова. Мы шли прямо на пего. Мы вошли в его тень, и гибель казалась мне настолько неизбежной, что я чуть не задохнулся. У меня возникло страстное желание сделать что-нибудь — все равно что, лишь бы спасти пароход. Но мистер Биксби стоял у штурвала молчаливый и насторожившийся, как кот, а все лоцманы сгрудились за ним плечо к плечу.
— Не выйдет, — прошептал кто-то.
По крикам лотовых было понятно, что становилось все мельче и мельче, и наконец:
— Восемь с половиной! Восемь футов…
— Восемь футов! Семь с…
Мистер Биксби предостерегающе сказал в переговорную трубку механику:
— Ну, теперь держитесь!
— Есть, сор!
— Семь с половиной. Семь футов. Шесть с…
Мы коснулись грунта! Сразу мистер Биксби зазвонил в колокол и заорал в трубку:
— Ну, теперь давай! Давай полный ход! — И к своему напарнику: — Полный ход! Бери круче! Жми!
Пароход заскрипел, прокладывая себе дорогу по песку, одно страшное мгновение висел на волоске от бедствия и вдруг — миновал мель! Никогда еще стены лоцманской рубки не сотрясало такое громовое «ура», как в эту минуту.
Потом все пошло гладко. Мистер Биксби был в этот день героем, и прошло немало времени, прежде чем лоцманы перестали толковать о его подвиге.
Чтобы понять, какая изумительная точностьиужиа для того, чтобы провести большой пароход по этой темной водной пустыне, надо знать, что судно не только должно пролавировать между корягами и подводными камнями и затем пройти так близко от острова, что ветви береговых деревьев задевают его, — надо еще знать, что предстоит также пройти совсем рядом с затонувшим судном, останки которого в случае столкновения сорвали бы днищевую обшивку и уничтожили бы в пять минут на четверть миллиона долларов груза и самое судно. Да еще, может быть, и около ста пятидесяти человеческих жизней в придачу!
Последнее замечание, слышанное мною в этот вечер, был комплимент по адресу мистера Биксби. Эти слова произнес один из гостей как бы про себя, но с особенным смаком:
— Клянусь тенью смерти, он — чудо, а не лоцман!
Глава VIII. ТРУДНАЯ НАУКА
После весьма нудной зубрежки я наконец вбил себе в голову всякие острова, города, перекаты, мысы и повороты, — но, по правде сказать, все эти названия лежали в моей голове словно безжизненная груда. Однако благодаря тому, что я мог с закрытыми глазами оттарабанить подряд длиннейший список этих названий, пропуская не больше десяти миль из каждых пятидесяти, я почувствовал, что могу провести судно к Орлеану, если сумею проскочить те места, которые я забывал. Но, конечно, только я начинал самодовольно задирать нос, как мистер Биксби выдумывал что-нибудь, чтобы сбить с меня спесь. Однажды он внезапно обратился ко мне с ядовитым вопросом:
— Какие очертания имеет Ореховая излучина?
Оп с таким же успехом мог спросить у меня мнение моей бабушки о протоплазме. Я подумал и почтительно сказал, что вообще не знаю, имеет ли Ореховая излучина какие-то особенные очертания. Вспыльчивый начальник мой, конечно, сразу воспламенился и пошел обстреливать меня нелестными эпитетами, покуда не истощил весь свой запас.
Я уже давно знал по опыту, что запас снарядов у него ограниченный и что, израсходовав их, он тотчас же превратится в добродушного старого ворчуна, не чуждого даже угрызений совести. Впрочем, я говорю «старого» просто ласкательно — ему было не больше тридцати четырех лет. Я ждал. Он наконец проговорил:
— Ты, мальчик, обязан безупречно знать очертания всей реки. Только зная их, и можно править темной ночью. Ведь все остальные признаки расплываются, исчезают. Помни, однако, что ночью эти очертания не те, что днем.
— Да как же я их тогда заучу?
— А как ты дома ходишь в темноте по своей прихожей? Просто потому, что знаешь ее очертания. Ведь видеть ты ничего не можешь!
— Вы хотите сказать, что я должен знать всю бездну незаметных изменений в очертаниях берегов этой бесконечной реки так же хорошо, как знаю прихожую в своем доме?
— Клянусь честью, ты должен знать их тверже, чем каждый человек знает собственную прихожую!
— Ох, пропади я пропадом… тогда лучше мне умереть!
— Знаешь, я, конечно, не хочу тебя обескураживать, по…
— Да уж валите все сразу, не все ли равно — сейчас я узнаю или потом!
— Видишь ли, выучить это нужно обязательно: этого никак не избежать. В ясную звездную ночь тени бывают такие черные, что, если ты не будешь знать береговых очертаний безукоризненно, ты будешь шарахаться от каждой кучки деревьев, принимая их черный контур за мыс; ровно каждые пятнадцать минут ты будешь пугаться насмерть. Ты будешь держаться в пятидесяти ярдах от берега, когда надо быть в пятидесяти футах от него. Пусть ты не можешь различить коряги, но ты точно знаешь, где она, — очертания реки тебе об этом говорят, когда ты к ней приближаешься. А потом, возьми совсем темные ночи. В абсолютно темную ночь река выглядит совсем иначе, чем в звездную. Берега кажутся прямыми и чертовски туманными линиями; и ты бы принимал их за прямые линии, но ты не так прост. Ты смело ведешь судно, хоть тебе и кажется, что перед тобой непроницаемая отвесная стена (а ты знаешь отлично, что на самом деле там поворот),— и стена пропускает тебя. И потом, эти серые туманы… Ты возьми ночь, когда стоит этакий жуткий мокрый серый туман, когда берег вообще не имеет никаких очертании. Этот туман собьет с толку самого старого и опытного человека на свете. Да и к тому же еще изменчивое лунное освещение: оно тоже придает реке совершенно другой облик. Видишь ли…
— О, пожалуйста, не говорите больше ничего! Неужели я должен вызубрить все очертания этой реки с их бесконечными изменениями? Да ведь если я попытаюсь нести весь этот груз в моей голове, это может сделать меня сутулым!
— Нет, ты только изучи и запомни настоящие очертания реки, чтобы ты мог вести судно по тому представлению, которое сложилось у тебя в голове, и не обращать вниманий на то, что у тебя перед глазами.
— Ладно, я попробую; по по крайней мере, когда я их выучу, смогу я положиться на них или нет? Останутся ли они всегда такими, без всяких фокусов?
Прежде чем мистер Биксби смог ответить, мистер У. пришел сменить его и сказал:
— Биксби, ты будь повнимательней у Президентова острова и вообще выше района «Старой наседки с цыплятами». Берега размываются совершенно. Не узнать уже реки выше мыса на Сороковой миле! Сейчас там можно провести судно между берегом и старой корягой.
Тем самым я получил ответ на свой вопрос: бесконечные берега все время меняли свои очертания., Я снова повержен был во прах. Две вещи стали мне абсолютно ясны; во-первых, что, для того чтобы стать лоцманом, надо усвоить больше, чем дано любому человеку; и во-вторых, что все усвоенное надо переучивать по-новому каждые двадцать четыре часа.
В эту ночь мы стояли вахту до двенадцати. По старому речному обычаю, при смене вахты оба лоцмана заводили разговор. В то время как сменный надевал перчатки и закуривал сигару, его товарищ, второй лоцман, говорил что-нибудь вроде:
— Я считаю, что верхний перекат что-то убывает у мыса Гейля; у меня было сажени две с четвертью у его нижнего конца и две сажени — у верхнего.
А я уже и в прошлый рейс решил, что это так. Кого-нибудь встретил?
— Одно судно — против острова «Двадцать один», ко оно шло через перекат, и я его как следует не разглядел. По-моему, это был «Солнечный юг», — у него перед трубами не было световых люков.
И так все время. И когда сменяющий лоцман становился к штурвалу, его напарник (то есть другой лоцман) говорил, что мы в такой-то излучине, а впереди — такая-то плантация или лесной склад, и называл фамилию владельца. Это была простая вежливость; я же считал это необходимостью. Но мистер У. пришел на вахту на целых двенадцать минут позже — поразительное нарушение этикета, непростительный грех для лоцмана. И мистер Биксби с ним даже не поздоровался, а просто передал ему колесо и, не проронив ни слова, вышел из лоцманской рубки. Я был в ужасе: стояла зловещая черная ночь, мы шли по широкой, на редкость темной части реки, где не было никаких вех, ничего, что помогало бы ориентироваться. Мне казалось немыслимым, чтобы мистер Биксби предоставил бедному малому погубить судно в бесплодных попытках определить его местоположение. Но я решил ни за что не покидать лоцмана. Пусть увидит, что он. все-таки не совсем одинок. И я стоял рядом, ожидая, чтобы он спросил меня, где мы находимся. Но мистер У. преспокойно погрузился в сплошную кучу черных кошек, из которых, по-видимому, состояла вся окружающая атмосфера, и не открывал рта. «Вот дьявольская гордость! — подумал я. — Вот чертово отродье! Он готов скорее всех нас погубить, чем быть чем-нибудь обязанным мне, — и все потому, что я не принадлежу к «соли земли», к тем аристократам, которые имеют право фыркать на капитана и командовать всеми живыми и мертвыми на пароходе!» Я тут же забрался на скамью, считая, что, пока этот сумасшедший на вахте, спать небезопасно.
Однако через некоторое время я, очевидно, все— таки заснул, потому что вдруг увидел, что светает и что мистера У. уже нет, а у штурвала снова стоит мистер Биксби. Значит, было четыре часа, — и все было в порядке… кроме меня. Я почувствовал себя словно мешок, набитый костями, которые вдруг все сразу заболели…
Мистер Биксби спросил, зачем я остался в рубке. Я сознался, что хотел оказать мистеру У. благодеяние: сообщить ему, где мы находимся. Целых пять минут ушло на то, чтобы нелепость моего объяснения просочилась в сознание мистера Биксби, а потом, когда это свершилось, мне показалось, что злость просто переполнила его через край. Он, не задумываясь, отпустил мне комплимент, и не из приятных. Он сказал:
— Да, если в тебе разобраться, так выходит, что ты осел совсем особенной породы, каких я никогда и не видывал. Зачем, по-твоему, ему надо было это знать?
Я сказал, что, мол, ему это могло пригодиться.
— Пригодиться! О, ч-черт! Да разве я тебе не объяснил, что человек должен ориентироваться на реке ночью так же, как в своей прихожей.
— В темноте можно пробираться но прихожей, если знаешь, что попал именно в прихожую, но если вы меня в темноте втолкнете куда-то и не скажете, что это прихожая, как же я узнаю?
— Ну а на реке ты обязан узнать!
— Ладно… тогда, пожалуй, я рад, что ничего не сказал мистеру У.
— Еще бы! Да ведь он бы вышвырнул тебя в окошко и погубил бы на сто долларов оконных стекол!
Я был доволен, что дело обошлось без ущерба, иначе я, наверно, поссорился бы с хозяевами парохода. Они просто терпеть не могли людей небрежных и портящих вещи.
Я взялся за работу и стал изучать очертания реки; но из всех ускользающих неуловимых явлений, которые я когда-либо пытался уловить и закрепить в памяти, река была самым неуловимым. Я впивался глазами в острый лесистый мыс, вдававшийся в реку в нескольких милях предо мной, и старался тщательно запечатлеть его очертания в своем мозгу; но как только это мне начинало удаваться и я достигал цели, мы уже подходили к мысу, и эта проклятая штука начинала таять и сливаться с берегом. Когда попадалось резко выделявшееся сухое дерево на самом выступе мыса — оно, как только мы к нему приближались, незаметно сливалось с лесом, расположенным на совершенно прямом берегу. Ни один заметный холм не сохранял своих очертаний так, чтобы я успевал выяснить, какой он формы; нет — он так менялся, так расплывался, словно был масляным и находился в самом жарком месте тропиков. Ни одни предмет не сохранил тех очертаний, какие у него были, когда я шел вверх по течению. Я упомянул об этих маленьких затруднениях мистеру Биксби. Он сказал:
— Вот в этом суть всей науки. Если бы очертания не менялись каждые три секунды, от них не было бы никакого толку. Возьми, например, это вот место, где мы сейчас: пока вон тот холм — просто одиночный холм, я могу идти напрямик своим путем, но как только он на вершине начинает раздваиваться в виде римской пятерки — я знаю, что мне надо сразу же ворочать право на борт, иначе я выпущу из нашего судна все внутренности; а в тот миг, когда одна вилка этой цифры заходит на другую, я должен вальсировать влево, не то выйдет инцидент с одной знакомой корягой — она выдерет киль у нашего парохода, как щепку из твоих рук. Если бы вон тот холм не менял очертаний в темные ночи — это место превратилось бы через год в жуткое кладбище затонувших судов!
Мне стало ясно, что надо изучить очертания реки во всех возможных направлениях — задом наперед, вверх ногами, шиворот-навыворот, наизнанку, а кроме того, надо зпать, что делать в темные ночи, когда у этой реки отсутствуют какие бы то ни было очертания. Итак, я взялся за дело; с течением времени я уже начал было распутывать хитросплетения этой пауки, и моя самоуверенность снопа вышла было на передовые позиции, но мистер Биксби был всегда наготове, чтобы опять загнать меня в тыл. Начал он примерно в таком духе:
— Сколько воды у нас было в среднем проходе у «Дыры в стенке» во время предпоследнего рейса?
Я принял эти слова за личное оскорбление. Я сказал:
— В каждом рейсе — и вверх и вниз — лотовые битый час что-то выкрикивают в этом путаном месте. Как же вы хотите, чтобы я запомнил всю эту мешанину?
— Мой мальчик, тебе это придется запомнить. Ты должен помнить каждую точку, каждый промер на мелком месте во всех пятистах мелководных местах, которые лежат между Сент-Луисом и Новым Орлеаном. И ты не должен путать мелководные промеры и отметки во время одного рейса с промерами во время другого, потому что они часто меняются. Запоминай их по отдельности.
Когда я пришел в себя, я сказал:
— Еслп я добьюсь того, чтобы все это упомнить, я, наверное, сумею воскрешать покойников, — а тогда мне узко но придется служить лоцманом, чтобы заработать себе на хлеб. Я хочу от этого дела отказаться. Дайте мне помойное ведро и щетку — я только в уборщики и гожусь. Не хватает у меня ума, чтобы стать лоцманом; тут столько мозгов нужно, что такого груза на плечах не выдержать — разве что на костыли опереться!
— Ну, это ты брось! Раз я сказал, что обучу человека речному делу, значит обучу. И можешь быть уверен — я его либо выучу, либо убью!
Глава IX. ТРУДНОСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Спорить с таким человеком было бесполезно. До отказа напрягая свою память, я постепенно стал запоминать даже мелкие места и бесчисленные промеры проходов.
Однако ничто от этого не изменилось. Стоило мне выучить одну запутанную штуку, как тотчас же возникала другая. Я часто видел лоцманов, которые смотрели на воду и делали вид, будто читают по ней, как по книге; но это была книга, мне ничего не говорившая. И все же пришло наконец время, когда мистеру Биксби показалось, что я уже достаточно продвинулся вперед, чтобы преподать мне урок по чтению реки. Начал он так:
— Видишь на поверхности воды вон ту длинную убегающую полосу? Это перекат. Больше того — это крутой перекат, большой песчаный вал, гладкий, как стена дома. Около него глубоко, а над ним воды — чуть-чуть. Если ты на него налетишь — разобьешь судно вдребезги. Видишь место, где эта полоса у верхнего конца заканчивается и сходит на нет?
— Да, сэр.
— Это самое глубокое место — проход через перекат. Там ты можешь пройти без всяких аварий. Ну, теперь поворачивай и иди вдоль переката — там безопасно, течение слабое.
Я повел судно вдоль переката, пока не дошел до места, где полоса ряби кончилась. Тогда мистер Биксби проговорил:
— Ну, теперь будь начеку! Подожди, пока я скажу. Пароход не захочет пересекать перекат, — они ненавидят мелкие места. Держи штурвал крепко… подожди, подожди — крепко держи его в руках! Ну, теперь крути! Бери, бери круче!
Он схватил штурвал с другой стороны и помог мне круто повернуть и удержать его. Сначала судно сопротивлялось и не хотело слушаться руля, но затем все же накренилось на правый борт и вошло в проход, оставляя за собой длинную, сердито вспененную полосу воды.
— Ну, теперь следи за судном; следи за ним, как за кошкой, не то оно от тебя вырвется. Если оно будет сопротивляться и штурвал, дрогнув, мелко затрясется — ты его чуть-чуть отпусти; ночью по этому признаку можно узнать мелководье. Но ты все-таки понемногу правь на мыс: иод каждым мысом обязательно есть отмель, потому что там вода завихривается и осаждает песок. Видишь тонкие черточки на воде, расходящиеся веером? Все это — мелкие мели. Ты их не должен задевать, только срезай поближе. Ну, теперь гляди, гляди в оба! Не жмись ты к этому обманчивому, гладкому, как масло, месту: тут нет и девяти футов. Вот судно и не хочет идти. Учуяло мель. Говорю тебе — смотри в оба! Куда тебя несет? Стопори правое колесо! Живее! Задний ход, давай полный назад!
Затрещали звонки, и машина тотчас Hie ответила, выпустив высоко вверх белые клубы пара; однако было уже поздно. Пароход действительно «учуял» мель: пенные полосы, выходившие из-под колес, внезапно исчезли, широкая мертвая зыбь образовалась перед носом, судно дало резкий крен налево и пошло к берегу так, точно его напугали до смерти. Мы были за добрую милю от того моста, где нам следовало находиться, когда наконец удалось снова взять судно в руки.
Во время дневной вахты на следующий день мистер Биксби спросил меня: знаю ли я, как вести судно на протяжении ближайших нескольких миль? Я ответил:
— Идти в первую излучину за мысом, обойти следующую, держать на нижний конец Хиггинсовой лесопильни, пересечь прямо…
— Хорошо. Я вернусь, прежде чем ты дойдешь до следующего поворота.
Но он не вернулся. Он все еще был внизу, когда я сделал поворот и вошел в ту часть реки, относительно которой несколько сомневался. Я не знал, что мистер Биксби прячется за трубой, чтобы посмотреть, как я справлюсь. Я весело шел вперед и гордился все больше и больше, потому что раньше он никогда так надолго не оставлял пароход в полном моем распоряжении. Я даже рискнул «отпустить» судно, бросил штурвал совсем и, хвастливо повернувшись к нему спиной, рассматривал береговые приметы по корме, мурлыча песенку с той легкой небрежностью, которой я с такой завистью любовался, наблюдая за мистером Биксби и другими лоцманами. Один раз я слишком долго смотрел в сторону, а когда обернулся, у меня сердце подскочило до самой глотки, и не стисни я зубы, оно бы попросту выскочило: одна из этих страшных крутых мелей вытянулась по всю свою длину прямо перед носом парохода. Я сразу потерял голову, я забыл, где я, у меня пересохло в горле, и я не мог вздохнуть; я стал вертеть штурвал с такой скоростью, что спицы его слились в сплошную паутину; пароход послушался и круто повернул от мелп, по она пошла за ним! Я удирал, а она преследовала меня, держась неотступно прямо перед нашим носом! Я не видел, куда иду,— я просто удирал. Страшная катастрофа была неизбежна. Куда же пропал этот злодей? Если я дерзну дать сигнал, меня вышвырнут за борт. Но лучше это, чем погубить пароход. И в слепом отчаянии, я поднял такой тарарам, какого еще, наверное, ни один механик не слышал. Повинуясь бешеным сигналам, машина дала задний ход, и я совсем обезумел: мы чуть не врезались в деревья на противоположном берегу. И в этот миг мистер Биксби спокойно вышел на верхнюю палубу. Мое сердце переполнилось благодарностью к нему, мое отчаяние исчезло. Я чувствовал бы себя спокойно и на краю Ниагары, стой мистер Биксби на палубе. Он кротко и ласково вынул зубочистку изо рта, держа ее между пальцами, как сигару, — а мы в это время как раз собиралась взобраться на большое дерево, возвышавшееся над водой и пассажары метались на корме, как крысы, — и, не повышая голоса, скомандовал:
— Стоп правая! Стоп левая! Обе назад!
Судно нерешительно остановилось, на одно ужасное мгновение зарылось носом в ветки и медленно стало отходить.
— Стопори правую! Дай правой вперед! Теперь стопори левую! Дай левой вперед! Правь на отмель!
И я поплыл безмятежный, как ясное летнее утро. Мистер Биксби вошел в рубку и сказал с притворным простодушием:
— Когда тебе сигналят с берега и надо сделать остановку, мой милый, ты должен трижды ударить в колокол, перед тем, как приставать, чтобы механики могли подготовиться.
Я покраснел от этой насмешки и сказал, что мне никто с берега не сигналил.
— Ага! Значит, ты пришел за дровами! Да ведь вахтенный тебе скажет, когда ему надо брать дрова!
Я почувствовал себя совершенно уничтоженным и сказал, что шел не за дровами.
— Вот как? Ну, так что же тебе могло понадобиться здесь, в этой излучине? Ты видел когда-нибудь, чтоб пароход проходил в этом месте, по этой излучине?
— Нет, сэр, я и не пытался идти по ней. Я уходил от крутой мели.
— Это была вовсе не крутая мель; их нет ни одной на три мили кругом.
— Но я ее видел. Она была такой же крутой, как вон та.
— Да, именно. Ну-ка, иди через нее!
— Вы приказываете?
— Да, бери ее.
— Если я не пройду, лучше мне умереть!
— Ладно, я беру ответственность на себя.
Теперь я так же старался угробить пароход, как только что старался спасти его. Я мысленно повторял данный мне приказ, чтобы не забыть его на допросе в суде, и прямо пошел на мель. Когда она исчезла под нашим килем, я затаил дыхание; но мы проскользнули над ней как по маслу.
— Ну, теперь ты видишь разницу? Это была простая рябь от ветра. Это ветер обманывает.
— Да, вижу, по ведь она в точности похожа на рябь над мелководьем. Как же тут разобраться?
— Не могу тебе сказать. Это чутье. Со временем ты будешь сам во всем разбираться, но не сможешь объяснить, почему и как.
И это оказалось правдой. Со временем поверхность воды стала чудесной книгой; она была написана на мертвом языке для несведущего пассажира, но со мной говорила без утайки, раскрывая своп самые сокровенные тайны с такой ясностью, будто говорила живым голосом. И книга эта была не такой, которую можно прочесть и бросить, — нет, каждый день в ней открывалось что-нибудь новое. На протяжении всех долгих двенадцати сотен миль не было ни одной страницы, лишенной интереса, ни одной, которую можно было бы пропустить без ущерба, ни одной, от которой хотелось бы оторваться, в расчете провести время повеселее. Среди книг, написанных людьми, не было ни одной, столь захватывающей, ни одной, которую было бы так интересно перечитывать, так увлекательно изучать изо дня в день. Пассажир, не умеющий читать ее, мог быть очарован какой-нибудь особенной, еле уловимой рябью (если только он не проглядел ее совсем); но для лоцмана это были строки, написанные курсивом; больше того — это была надпись крупными буквами, с целым рядом кричащих восклицательных знаков, потому что та рябь означала, что здесь под водой — затонувшее судно или скала и что они могут погубить самый прочный корабль в мире. На воде такая рябь просто промелькнет, а для лоцманского глаза — это самая тревожная примета. Действительно, пассажир, не умеющий читать эту книгу, не видит в ней ничего, кроме красивых иллюстраций, набросанных солнцем и облаками, тогда как для опытного глаза это вовсе не иллюстрации, а текст, в высшей степени серьезный и угрожающий.
Теперь, когда л овладел языком воды и до мельчайшей черточки, как азбуку, усвоил каждую мелочь на берегах великой реки, я приобрел очень много цепного. Но в то же время я утратил что-то. То, чего уже никогда в жизни не вернешь. Вся прелесть, вся красота и поэзия величавой реки исчезли! Мне до сих пор вспоминается изумительный закат, который я наблюдал, когда плавание на пароходе было для меля внове. Огромная пелена реки превратилась в кровь; в середине багрянец переходил в золото, и в этом золото медленно плыло одинокое бревно, черное и отчетливо видное. В одном месте длинная сверкающая полоса перерезывала реку; в другом — изломами дрожала и трепетала на поверхности рябь, переливаясь, как опалы; там, где ослабевал багрянец, — возникала зеркальная водная гладь, сплошь испещренная тончайшими спиралями и искусно наведенной штриховкой; густой лес темнел на левом берегу, и его черную тень прорезала серебряной лентой длинная волнистая черта, а высоко над лесной стеною сухой ствол дерева вздымал единственную зеленую ветвь, пламеневшую в неудержимых лучах заходящего солнца. Мимо меня скользили живописнейшие повороты, отражения, лесистые холмы, заманчивые дали, — и все это залито было угасающим огнем заката, ежеминутно являвшего новые чудеса оттенков и красок.
Я стоял как заколдованный. Я созерцал эту картину в безмолвном восхищении. Мир был для меня нов, и ничего похожего я дома не видел. Но, как я уже сказал, наступил день, когда я стал меньше замечать красоту и очарование, которые луна, солнце и сумерки придавали реке. Наконец и тот день пришел, когда я уже совершенно перестал замечать все это. Повторись тот закат — я смотрел бы на него без всякого восхищения и, вероятно, комментировал бы его про себя следующим образом: «По солнцу видно, что завтра будет ветер; плывущее бревно означает, что река поднимается, и это не очень приятно; та блестящая полоса указывает на скрытый под водой каменистый порог, о который чье-нибудь судно разобьется ночью, если он будет так сильно выступать; эти трепещущие «зайчики» показывают, что мель размыло и меняется фарватер, а черточки и круги там, на гладкой поверхности, — что этот неприятный участок реки опасно мелеет. Серебряная лента, перерезающая тень от прибрежного леса — просто след от новой подводной коряги, которая нашла себе самое подходящее место, чтобы подлавливать пароходы; сухое дерево с единственной живой веткой простоит недолго, а как тогда человеку провести здесь судно без этой старой знакомой вехи?»
Нет, романтика и красота реки положительно исчезли. Каждую примету я рассматривал только как средство благополучно провести судно. С тех пор я от всего сердца жалею докторов. Что для врача нежный румянец на щеках красавицы — как не «рябь», играющая над смертельным недугом? Разве он не видит за внешней прелестью признаков тайного разложения? Да и видит ли он вообще эту прелесть? Не разглядывает ли он красавицу с узко профессиональной точки зрения, мысленно комментируя болезненные симптомы?
И не раздумывает ли он иногда о том, выиграл ли он, или проиграл, изучив свою профессию?
Глава X. МОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Тот, кто оказал мне любезность прочитать предыдущие главы, вероятно удивлен, что я так подробно, как настоящую науку, рассматриваю лоцманское дело. Но в этом и заключалась основная задача предыдущих глав, и я еще не совсем ее выполнил: мне хочется самым наглядным, самым подробным образом показать вам, насколько эта наука чудесна. Морские фарватеры обозначены буями и маяками, и научиться идти по ним сравнительно нетрудно; у рек с твердым каменистым дном русло меняется очень медленно, и можно поэтому изучить его раз навсегда; по проводить суда по таким огромным водным потокам, как Миссисипи и Миссури,— это совсем другое дело: их наносные берега, обваливаясь, вечно меняют свой облик, подводные коряги постоянно перемещаются, песчаные отмели все время изменяют очертания, а фарватеры то и дело виляют и отклоняются в сторону; приходится при любой темноте, при любой погоде идти навстречу препятствиям без единого буйка или маяка, потому что на протяжении трех-четырех тысяч миль этой коварной реки ни одного буйка, ни одного маяка нет[3]. Я чувствую себя вправе так распространяться об этой великой науке, потому что из людей, водивших корабли, а следовательно практически знающих лоцманское дело, наверное еще никто не написал о нем ни слова. Будь эта тема избита, я счел бы себя обязанным пощадить читателя; по поскольку она совершенно нова, я и решился отвести ей такое место.
Когда я усвоил название и положение каждой приметы на реке, когда я так изучил ее вид, что мог бы с закрытыми глазами начертить ее от Сент-Луиса до Нового Орлеана, когда я научился читать по водной поверхности так, как пробегают новости в утренней газете, и, наконец, когда я заставил свою тугую память накопить бесчисленные сведения о всяких поворотах и промерах и, накопив, орудовать ими — я счел свое образование законченным. А потому стал носить фуражку набекрень и стоял у штурвала с зубочисткой во рту.
Эти повадки не ускользнули от мистера Биксби. Как-то он сказал:
— А какой высоты вой тот берег у Берджеса?
— Как же я могу сказать, сэр? Ведь до него три четверти мили.
— Неважное зрение, неважное! Возьми подзорную трубу.
Я взял подзорную трубу и тогда сказал:
— Не знаю. По-моему, фута полтора.
— По-твоему, полтора фута? А ведь берег-то шестифутовый. Ну а какой вышины он был в прошлый рейс?
— Не знаю. Совсем не заметил.
— Не заметил? Ну, так тебе теперь придется всегда отмечать высоту берега.
— Зачем?
— Затем, что это расскажет тебе об очень многом, и прежде всего — об уровне воды: ты будешь знать, больше ли ее сейчас, или меньше, чем было в прошлый раз.
— Лот мне об этом расскажет! — Мне казалось, что на этот раз я взял верх над мистером Биксби.
— Да, но предположим, что лотовые соврали? Тогда об этом тебе скажет берег, и ты сможешь пробрать их как следует. Прошлый раз берег поднимался на десять футов, а нынче — только на шесть. Это что значит?
— Значит, что река на четыре фута выше, чем в прошлый раз.
— Отлично. Что же, вода, по-твоему, прибывает или убывает?
— Прибывает.
— Нет, не прибывает.
— Мне кажется, сэр, я прав. Вон там по течению плывут стволы деревьев!
— Да, прибывающая вода подмывает и уносит подшившие деревья, но ведь они продолжают плавать и после ее убыли. А берег вернее расскажет тебе, как обстоит дело; вот подожди — мы подходим к месту, где он немного выдается. Смотри: видишь узкую полоску ила? Он отложился, когда вода была выше. А видишь, кое-где на берегу уже осели стволы, занесенные течением. Берег еще и в другом может помочь. Ьидишь там сухой ствол на ложном мысе?
— Да, сэр.
— Вода как раз доходит до его корней. Отметь себе это!
— Зачем?
— Это значит, что в протоке «Сто три» вода стоит на семи футах.
— Но ведь «Сто три» гораздо выше?
— Вот тут то и обнаруживается, зачем надо изучать берег: теперь в протоке «Сто три» воды достаточно, а когда мы подойдем — может быть не так; а берег нас все время держит начеку. Поднимаясь против течения во время убыли воды, идти протоками вообще нельзя, а когда идешь во время убыли вниз — протоки, по которым разрешено идти, все наперечет. На этот счет в Соединенных Штатах имеется соответствующий закон. Когда подойдем к «Ста трем», река может подняться, и тогда мы пройдем. Какая у нас сейчас осадка?
— Шесть футов кормой и шесть с половиной носом.
— Кое-что ты как будто знаешь.
— Но вот что мне особенно хочется знать: неужели я должен вечно изо дня в день мерить берега этой реки, на протяжении всех тысячи двухсот миль!
— Конечно!
Чувства мои нельзя было выразить словами.
Наконец я все-таки проговорил:
— Ну а эти протоки… много их?
— Ну конечно! Кажется, в этот рейс ты вообще не увидишь реку такой, какой видел ее раньше, — полная, так сказать, перемена. Если река снова начнет подниматься, мы пройдем над такими перекатами, которые раньше возвышались над ней, высокие и сухие словно крыши домов; мы пройдем по мелким местам, которые ты увидишь впервые, прямо через середину перекатов, занимающих триста акров; мы проскользнем по рукавам, где раньше была суша; промчимся лесами, скашивая по двадцать пять миль прежнего пути; мы увидим обратную сторону каждого острова между Новым Орлеаном и Каиром.
— Значит, мне опять нужно взяться за работу и зубрить про эту реку столько же, сколько я уже зубрил?
— Ровно вдвое больше — и как можно точнее!
— Да-а, век живи — век учись. Дураком я был, что взялся за это дело!
— Это правильно. Но ты и остался дураком. А вот если выучишь все, как я сказал, — поумнеешь.
— Ох, никогда мне не выучить!
— Ну, за этим уж я присмотрю!
Через некоторое время я снова рискнул спросить:
— А мне надо выучить все это так же подробно, как и остальное, как очертания реки и прочее, — словом так, чтобы я мог идти и ночью?
— Да. И тебе надо иметь хорошие опознавательные приметы от самого начала до самого конца реки — приметы, которые помогали бы тебе но виду берега узнавать, довольно ли во всех бесчисленных протоках воды, — вроде того дерева, помнишь? Когда река находится в самом начале своего подъема, ты можешь пройти с полдюжины проток, самых глубоких. Поднимется еще на фут — можно пройти еще дюжину, следующий фут добавит еще дюжины две, и так далее; ты видишь, что нужно знать берега и приметы с совершеннейшей, непоколебимой точностью и никогда не путать, потому что, если уж ты вошел в протоку, назад хода нет — это тебе не река, и надо либо пройти протоку до конца, либо застрять месяцев на шесть, если в это время вода спадет. Есть штук пятьдесят таких проток, но которым вообще ходить нельзя, разве что река, разлившись, затопит берега.
— Нечего сказать, прнятиая перспектива! Вот так новый урок!
— Дело серьезное. И помни, что я только что сказал: если уж ты попал в одну из этих проток — ты должен ее пройти. Они слишком узки, чтобы повернуть обратно, и слишком извилисты, чтобы выйти задним ходом, а мелкие места у ппх всегда у начала, не иначе, И у начала они как будто мелеют и мелеют, так что знаки, по которым ты запоминал их глубину в этом году, могут не годиться в следующем.
— Значит, каждый год все учить заново?
— Именно. Ну, веди через перекат — что ты застрял на самой середине?
В ближайшие же месяцы я столкнулся со странными вещами. В тог самый день, когда происходил только что переданный разговор, мы заметили огромное повышение воды. Вся широкая поверхность реки почернела от плывущих сухих коряг, сломанных сучьев и огромных деревьев, подмытых и снесенных водой. Даже днем требовалась безукоризненная точность, чтобы пробираться среди этого стремительного сплава; а ночью трудности предельно возрастали. То и дело какое-нибудь огромное бревно, плывущее глубоко под водой, внезапно выныривало прямо перед нашим килем. Пытаться обойти его было бесполезно: в нашей власти было только стопорить машины, и колесо с ужасающим грохотом ползло по бревну, а пароход давал такой крен, что у пассажиров душа уходила в пятки. Иногда мы с треском наталкивались на такое затонувшее бревно, наталкивались на полном ходу самой серединой днища, — и пароход так трещал, что казалось, будто мы сшиблись с целым материком. Иногда бревно останавливалось прямо перед нами, загораживая от нас Миссисипи чуть ли не на всю ее ширину, — тогда приходилось пускаться на всяческие выкрутасы, чтобы миновать препятствие. Часто мы натыкались в темноте на белые бревна, так как не видели их до самого столкновения; черное бревно ночью гораздо заметнее. А белая коряга — коварная вещь, когда стемнеет.
Конечно, в связи с подъемом воды вниз по течению пошла целая туча всяких плотов с верховьев Миссисипи, двинулись угольные баржи из Питсбурга, маленькие грузовые шаланды отовсюду и широконосые плоскодонки из какого-нибудь «чудесного городка» в Индиане, груженные «мебелью и фруктами», как обычно обозначалось, хотя на обыкновенном языке этот великолепный груз называется попросту ободьями и тыквами. Лоцманы смертельно ненавидели эти суденышки, а те в свою очередь платили им сторицей. Закон требовал, чтобы на всех этих беспомощных лодчонках ночью горел сигнальный огонь, однако закон этот часто нарушался. В темную ночь такой огонь внезапно выныривал уже под самым нашим носом, и отчаянный голос гнусаво вопил:
— Что за черт! Куда тебя несет?! Ослеп ты, что ли? Чтоб тебя разразило, сопляк, вор овечий, одноглазый ублюдок обезьяньего чучела!
И на секунду, когда мы проносились мимо, в красном отблеске наших топок, точно при вспышке молнии, появлялись плоскодонка и фигура жестикулирующего оратора, а пока наши кочегары и матросы обменивались с ним бурной и смачной руганью, одно из наших колес с треском уносило обломки чужого рулевого весла, после чего нас снова обступал густой мрак. И уж этот лодочник обязательно отправлялся в Новый Орлеан и подавал на нас в суд, причем клялся и божился, что фонарь у него горел все время, тогда как на самом деле его ребята снесли фоиарь вниз, в каюту, где они пели, врали, пили и играли в карты, в то время как вахта на палубе вообще отсутствовала. Однажды ночью, в узкой, окаймленной лесами протоке, за островом, где, по образному выражению лоцмана, было «темно, как у коровы в желудке», мы чуть было не слопали целое семейство из этого «чудесного городка» с их «фруктами», «мебелью» и вообще со всеми потрохами; кто-то нз них играл внизу на скрипке, и мы услышали звуки музыки как раз вовремя, так что успели сделать крутой поворот, не нанеся им, к сожалению, серьезных повреждений, хотя мы прошли так близко, что одно мгновенье крепко на это надеялись. Люди эти, конечно, вынесли тогда свой фонарь наверх, и в то время, как мы давали задний ход, под фонарем столпилась вся драгоценная семейка — лица обоего пола и всех возрастов. Крыли они нас вовсю! А был и такой случай: хозяин угольной баржи влепил пулю в нашу лоцманскую рубку когда мы в очень узкой протоке захватили на память его рулевое весло.
Глава XI. РЕКА ПОДНИМАЕТСЯ
Во время большого подъема воды эти мелкие суда нестерпимо нам мешали. Мы проходили одну протоку за другой, и для меня раскрывался новый мир; но если только в протоке встречалось особенно узкое место — мы там непременно наскакивали на мелкое судно, а если ого там не оказывалось — мы сталкивались с ним в еще худшем месте, то есть при выходе из протоки, в самом мелководье, — и тут уж по было конца обмену любезностями, в высшей степени сомнительными.
Иногда, когда мы посреди Миссисипи осторожно нащупывали дорогу сквозь туман, глубокая тишина вдруг нарушалась дикими криками и грохотом жестяных сковород, а через мгновение вблизи от нас смутно вырисовывался сквозь серую мглу бревенчатый плот. Тут уж было не до перебранки: отчаянно звоня, мы на всех парах убирались подальше. Как правило, пароходам не полагается, если только есть на то возможность, стукаться ни о скалы, ни о крепко сколоченные плоты.
Вам, пожалуй, покажется невероятным, что многие пароходные служащие возили с собой в те давно ушедшие дни речной навигации изрядный набор религиозных брошюр. Но это правда! Раз двадцать на дню, когда мы с трудом переваливали через перекат, эти мелкие жулики-суденышки собирались в излучинах, милях в двух впереди нас. Спущенный с одного из них небольшой ялик, крепко работая веслами, с трудом добирался до нас через водную пустыню. Гребцы разом подымали несла под нашим ютом и, запыхавшись, орали: «Дайте газе-е-ту!», в то время как ялик тянуло под корму. Второй помощник выбрасывал пачку новоорлеанских газет. Если их подбирали без всяких комментариев, то сразу можно было заметить, что к нам приближается еще около дюжины яликов. Вы понимаете: они ждали, что дадут первому ялику. А поскольку оттуда не слышали никаких замечаний — все сразу налегали на весла и шли к нам; и по мере того как они подходили, второй помощник сбрасывал им аккуратные стопки религиозных брошюр, привязанных к дощечкам. Просто трудно себе представить, чтобы двенадцать пакетов религиозной литературы, беспристрастно разделенных между двенадцатью командами гребцов, которые из-за них гнали лодку по жаре целых две мили, могли вызвать такое невероятное количество ругани!
Как я уже говорил, большой подъем воды показал мне новый мир. Когда река выступила из берегов, мы забросили наши старые маршруты и ежечасно проходили над мелями, прежде выдававшимися футов на десять над водой; мы вплотную срезали самые корявые берега, как, например, берег у Мадридской заводи, которого раньше всегда избегали; мы громыхали сквозь протоки вроде «Восемьдесят второй» (где устье всегда представляло сплошную стену сплавного леса), и вот уже оказывались поблизости от нужного нам места. Некоторые из проток были совершенно пустынны. Густой девственный лес нависал над обоими берегами извилистого узкого рукава, и казалось, что тут никогда раньше не ступала человеческая нога. Качались плети дикого винограда, зеленые лужайки и поляны мелькали мимо нас, цветущие ползучие растения шевелили красными цветами на вершинах высохших стволов, — и все щедрое богатство леса зря пропадало в этом безлюдье. В таких протоках чудесно вести пароход: они глубоки, если не считать устья, и течение в них слабое; вода у мысов абсолютно неподвижна, а скрытые берега так отвесны, что там, где сплошь нависает нежная зелень ив, борты парохода словно погружаются в нее, и ты как будто летишь по воздуху.
За некоторыми островами нам попадались жалкие маленькие фермы и еще более жалкие бревенчатые хижинки. Хлипкие изгороди из жердей торчали на фут или на два над водой, а на верхней перекладине сидели, как на насесте, один или два местпых обитателя — обтрепанные, дрожащие от лихорадки, желтолицые и несчастные существа мужского пола: локти на коленях, подбородки в ладонях; они жевали табак и сквозь редкие зубы обстреливали плевками плывущие мимо щепки. А остальное семейство в это время ютилось вместе с немногочисленной живностью на пустой плоскодонной барже, тут же пришвартованной: на ней придется им стряпать, есть и спать в течение немалого количества дней, а может быть, и недель, пока река не спадет на два-три фута и не позволит им вернуться в их бревенчатую хижину, к их вечной лихорадке,— очевидно, милосердное провидение послало им лихорадку, чтоб они могли хотя бы трястись в ознобе, не трогаясь с места, — все-таки моцион!
Такой своеобразный пикник на воде природа устраивала им дважды в год: во время декабрьского подъема воды на Огайо и июньского — на Миссисипи. И все же это были благотворные перемены, потому что они давали этим несчастным возможность время от времени воскресать и наблюдать жизнь, когда проходил пароход. И они ценили этот дар небес и, широко разинув рот и раскрыв глаза, старалисьне упустить ничего в эти исключительные часы. Но непонятно — что они делали, чтобы не умереть с тоски, когда вода спадала?!
Однажды в одной из этих красивых проток путь нам преградило большое упавшее дерево. Это показывает, насколько узки бывают иные протоки. Пассажиры целый час разгуливали в девственной чаще, пока матросы не срубили этот мост; вы сами понимаете, что повернуть назад было немыслимо.
От Каира до Батон-Ружа, когда река выходит из берегов, идти ночью не слишком сложно, потому что тысячемильная стена густого леса, ограждающая оба берега, лишь изредка прерывается какой-нибудь фермой или лесным складом, так что из реки «выскочить» не легче, чем из огороженного переулка. Но от Батон— Ружа до Нового Орлеана дело обстоит иначе. Река там больше чем в милю шириной и очень глубока — местами доходит до двухсот футов. Оба берега миль на сто, а то и больше, лишены своего лесистого покрова и заняты сахарными плантациями, и лишь кое-где стоит одинокий тополь или группа живописных ясеней. Лес вырублен до самого конца плантаций, мили на три-четыре. Когда грозят ранние морозы, плантаторы спешно снимают урожай. Когда сахарный тростник уже выжат, они складывают остатки стеблей (которые называются «багасс») в большие груды и поджигают, хотя в других странах, где есть сахарный тростник, эти остатки идут на топливо для сахарных заводов. Груды сырого багасса, медленно сгорая, дымят так, как если бы это была кухня самого сатаны.
Здесь, в нижнем течении, оба берега Миссисипи ограждает насыпь вышиной в десять — пятнадцать футов, и эта насыпь отступает от берега где на десять, а где и на сто футов, смотря по обстоятельствам, — скажем, в среднем футов на тридцать — сорок. Представь себе теперь всю эту местность наполненной непроницаемым дымным мраком от горящих на протяжении ста миль куч багасса, в то время как река вышла из берегов, и пусти по ней пароход в полночь — вряд ли он будет чувствовать себя хорошо. И кстати посмотри, какое у тебя самого будет при этом самочувствие. Ты окажешься посреди необъятного мутного моря; у него нет берегов, опо расплывается, сливаясь с туманными далями, потому что разглядеть тонкий гребень насыпи совершенно певозможпо, и тебе постоянно будут мерещиться одинокие деревья там, где пх нет. В дыму меняются очертания самих плантаций, и они кажутся частью этого моря. И всю вахту тебя терзает утонченная пытка: надеешься, что идешь серединой реки, а наверняка не знаешь. Единственное, в чем можешь быть уверенным, — это то, что в момент, когда кажется, будто держишься в доброй полумиле от берега, этот берег и вместе с ппм гибель находятся, быть может, в шести футах от парохода. И еще можно быть уверенным, что если уж налетишь на берег и свернешь обе трубы, то можешь утешаться тем, что этого именно ты и ожидал. Один из больших виксбергских пакетботов однажды ночью в такую погоду врезался в сахарную плантацию и застрял там на целую неделю. Но ничего особо оригинального в этом не было — такие вещи случались и раньше.
Я уже думал, что закончил эту главу, но хочется мне добавить к ней еще одну любопытную историю, благо она вспомнилась. Она не имеет к моему рассказу никакого отношения, кроме того, что связана с лоцманским делом. Когда-то на реке работал прекрасный лоцман, мистер X. Он был лунатик. Рассказывали, что, если его тревожил какой-нибудь скверный участок реки, он обязательно вставал во сне, ходил и проделывал всякие странные вещи. Однажды он в продолжение одного или двух рейсов шел напарником с лоцманом Джорджем Илером на большом новоорлеанском пассажирском пароходе. В начало первого рейса Джордж довольно долго тревожился, ему было не по себе, но постепенно он успокоился, так как мистер X. по ночам не вставал, а спокойно слал в своей постели. Однажды поздно ночью пароход подходил к Хелине, в штате Арканзас; вода стояла низко, а фарватер у этого города — один из самых запутанных и неясных; X. проделал этот переход позже Илера, а так как ночь была на редкость ненастна, угрюма и темна, Илер уже стал раздумывать, не лучше ли ему вызвать X. на помощь, — как вдруг дверь открылась и X. вошел. Надо заметить, что в очень темные ночи свет — смертельный враг лоцмана; вы, верно, обращали внимание, что, когда стоишь в темную ночь в освещенной комнате и смотришь из нее, нельзя на улице разобрать ни одного контура, но если потушить свет и остаться в темноте, предметы на улице выступают довольно ясно. Поэтому в очень темные ночи лоцманы даже не курят; они не позволяют топить печь в лоцманской рубке, если там есть щель, через которую может проникнуть хоть малейший луч света; они заставляют завешивать топки огромными брезентами и плотно задраивать световые люки. Тогда пароход никакого света не дает. Неясная фигура, появившаяся в рубке, заговорила голосом мистера X. Он произнес:
— Давай я поведу, Джордж? Я проходил в этом мосте после тебя, оно до того запутанно, что, по-моему, мне легче будет вести самому, чем давать тебе советы.
— Вот за это спасибо. Клянусь, я с удовольствием уступлю тебе место. Я тут потом изошел, бегая вокруг штурвала как белка в колесе. Так темно, что не разобрать, в какую сторону пароход идет, пока он волчком не завертится!
Илер опустился на скамью, тяжело дыша и отдуваясь. Черный призрак молча взял штурвал, выравнял вальсировавший пароход при помощи одного-двух поворотов и спокойно застыл у штурвала, легонько направляя судно то в одну, то в другую сторону, так плавно, так мягко, словно вел судно в ясный день. Когда Илер увидел это чудо управления, он мысленно пожалел, что признался в своей беспомощности. Он только смотрел, изумлялся и наконец произнес:
— Да-а, а я-то думал, что умею вести пароход; как видно, ошибался!
X. ничего но ответил и безмятежно продолжал работу. Он дал звонок лотовому; дал сигнал спустить пары; он вел пароход осторожно и тщательно по невидимым вехам, а потом, стоя у штурвала, вперял взгляд в темноту и озирался по сторонам, чтобы проверить положение; когда лот стал показывать все более мелкую воду, он совершенно остановил машины, и наступило мертвое молчание и напряженное ожидание, как всегда, когда машины не работали; подойдя к самому мелководью, он велел снова поднять пар, великолепно провел судно и снова стал осторожно вести его между другими мелями; то же терпеливое, заботливое измерение глубин, то же внимательное использование машин — и пароход проскользнул, не коснувшись дна, и вступил в последнюю, самую трудную треть фарватера; он незаметно продвигался во мраке, дюйм за дюймом проползая над мелями, медленно шел по инерции, пока, судя по выкрику лотового, не приблизился к самому мелкому месту, и затем с невероятным напором пара проскочил через мель и оказался в глубокой воде и в безопасности.
Илер ждал, затаив дыхание, а тут шумно и облегченно вздохнул и сказал:
— Такого лоцманского искусства на Миссисипи еще свет не видал! Я бы не поверил, если бы сам не присутствовал!
Ответа не последовало, и он добавил:
— Подержи-ка штурвал еще пять минут, друг, дай мне сбегать вниз проглотить чашку кофе!
Через минуту Илер в буфете запускал зубы в пирог и подкреплялся кофе. Как раз в это время ночной вахтенный был там же и уже собирался выйти, когда вдруг заметил Илера и вскрикнул:
— А кто же у руля, сэр?
— Х.
— Бегите в рубку, молниеносно!
В следующее мгновение оба они мчались вверх по лестнице в рубку, прыгая через три ступеньки. Там не было никого! Огромный пароход летел по реке, предоставленный собственной воле. Вахтенный снова выскочил из рубки, а Илер схватил штурвал, подал вниз сигнал «задний ход» и не дышал, пока пароход не отвернулся допольно-такп неохотно от мелп, которую он как раз собирался стукнуть так, чтобы она вылетела на середину Мексиканского залива.
Наконец вернулся вахтенный и спросил:
— Да разве этот лунатик не сказал вам, что он спит?
— Нет.
— Ну вот, а он спал! Я увидел, что он идет по верхней перекладине поручней так же непринужденно, как другие ходят по мостовой; и я уложил его в кровать; и вот только что он опять был здесь и снова вытворял черт знает что как ни в чем не бывало.
— Ладно, в следующий раз, когда у него будет припадок, я, пожалуй, не отойду от него. Но надеюсь, что они часто будут повторяться. Вы бы только посмотрели, как он провел судно у Хелнны! Я никогда в жизни не видел ничего лучше. А если он может быть таким золотым, таким брильянтовым, таким бесценным лоцманом, когда крепко спит, чего бы он только не сделал, будь он мертвецом!
Глава XII. ПРОМЕРЫ
Когда уровень реки очень низок и пароход загружен на полную осадку, чуть ли не касаясь дна реки, — а это часто случалось в старину, — надо быть страшно осторожным при проводке. Нам приходилось промерять огромное количество особо скверных мест почти в каждый рейс, когда уровень воды был очень невысок.
Промеры делают так. Пароход отходит от берега, как раз не доходя мелководья; свободный лоцман берет своего «щенка» — подручного или рулевого — и отборную команду (а иногда и старшого помощника), садится в ялик, если только у парохода нет такой роскоши, как специально оборудованный вельбот для промеров, — и отправляется искать наилучший фарватер, а лоцман, находящийся на вахте, следит в подзорную трубу за его передвижением, иногда помогая сигнальными гудками парохода, обозначающими: «Ищи выше!», «Ищи ниже!», потому что поверхность воды, как и картина, написанная маслом, гораздо яснее и понятнее, если рассматривать се с некоторого расстояния, а не вплотную. Однако сигнальные гудки редко бывают нужны; пожалуй, что и никогда, за исключением тех случаев, когда ветер мешает разглядеть на водной поверхности рябь, по которой можно многое узнать. Когда ялик доходит до мелкого места, ход убавляют, лоцман пачпиает промерять глубину шестом в десять — двенадцать футов длиной, а рулевой слушает команду: «Держи вправо», «Держи влево», «Так держать».
Когда промеры указывают, что ялик дошел до самого мелкого места, подается команда: «Суши весла!» Гребцы перестают грести, и ялик идет по течению. Следующая команда: «Готовь буек!» В тот момент, когда проходят самое мелкое место, лоцман отдает приказ: «Пошел буй!» —и буй летит через борт. Если лоцман недоволен, он снова промеряет это место; если он находит лучшее место выше или ниже, он переносит буй туда. И когда он наконец удовлетворен, он отдает команду, и все гребцы вертикально подымают весла; трель пароходного свистка дает знать, что сигнал замечен; тогда гребцы налегают на весла и ставят лодку рядом с буем; пароход осторожно ползет прямо на буй, собирает силы для предстоящей борьбы, в критический момент сразу дает полный пар, скрипя и качаясь идет мимо буя через песок и выходит на глубокую воду. Л иногда и не выходит, иногда он «садится и сидит». Тогда приходится тратить несколько часов (или дней), чтобы сняться с мели.
Иногда буй вообще не ставится, и ялик плывет впереди, выбирая лучший фарватер, а пароход идет за ним следом. Промеры часто дело веселое и волнующее, особенно в хороший летний день или бурную ночь. Зато зимой холод и опасность портят всю прелесть этой работы.
Буй представляет собой обыкновенную доску в четыре-пять футов длиной, с отогнутым вверх концом; он похож на перевернутую школьную скамью, у которой убрана одна подставка, а другая осталась. Буй устанавливается на самом мелком месте при помощи веревки, к концу которой привязан тяжелый камень. Если бы не загнутый кверху конец, течение затягивало бы его под воду. Ночью бумажный фонарик со свечой внутри прикрепляется к верхушке буя, и можно видеть за милю, а то и дальше, как мерцает маленькая искорка в пустынном мраке.
Ничто не доставляет такой радости «щенку» — ученику, — как возможность выйти на промеры. Это похоже на настоящее приключение и часто даже связано с опасностью. Но это выглядит так шикарно, так мужественно, когда сидишь на руле и правишь быстрым яликом; так прекрасны стремительные взлеты лодки, когда команда старых, опытных гребцов всю душу вкладывает во взмахи весел; чудесно смотреть, как белая пена расходится из-под форштевня, и музыкой звучит журчание воды. Восхитительно весело летом лететь по свежей водной глади, когда вереницы крохотных воли пляшут на солнце. А какую гордость чувствует «щенок», когда ему удается командовать! Часто лоцман просто говорит: «Дать ход!» — и предоставляет остальное ное ученику; и уж тот сразу подает команду самым суровым голосом; «Легче правая! Навались левая! Веселей, ребята!» И еще по одной причине любит ученик ходить на промеры: пассажиры глядят на вельбот со всепоглощающим интересом, если дело происходит днем; а ночью они так же внимательно следят, как фонарь вельбота скользит в темноте и исчезает вдали.
В один из рейсов хорошеиысая девушка лет шестнадцати проводила все время в нашей рубке и с утра до вечера просиживала у нас вместе с дядей и теткой. Я в нее влюбился. И «щенок» мистера Торнберга, Том Г., гоже влюбился. Мы с Томом до тех пор были закадычными друзьями, но тут в наши отношения вкрался холодок. Я рассказывал девушке всякие свои приключения на реке и рисовал себя чуть ли не героем. Том тоже старался изобразить из себя героя, и ему это до известной степени удавалось, но у него была привычка все страшно приукрашивать. Однако добродетель всегда вознаграждается, и поэтому я в этом состязании был хоть чуточку да впереди. И тут как раз подвернулся случай, суливший мне славу: лоцманы решили проверить фарватер у протоки «Двадцать один». Это должно было произойти часов в девять-десять вечера, когда пассажиры еще не ложатся спать. На вахте стоял мистер Торнберг, поэтому на промер шел мой начальник. У нас был очаровательный вельбот — длинный, стройный, грациозный, быстрый, как борзая; его скамьи были обиты мягким; двенадцать гребцов сидели на веслах; одного из помощников всегда посылали на нем передавать приказания команде, — на нашем пароходе любили, чтобы все было «по форме».
Мы отошли у берега ниже протоки «Двадцать один» и стали готовиться. Ночь была скверная, и река в этом месте была так широка, что непривычному глазу сухопутной крысы не удалось бы различить в таком тумане противоположный берег. Пассаяшры были оживлены и заинтересованы; словом, все складывалось как нельзя лучше. Когда я, торопясь, проходил через машинное отделение, живописно облаченный в штормовую робу, я встретил Тома и не смог удержаться от гаденького замечания:
— Наверно, рад, что не тебе сейчас выходить?
Том уже прошел, но тут повернулся и сказал:
— Вот за это ступай сам за футштоком. Я как раз собирался принести его, по теперь ты хоть провались ко всем чертям, а я не пойду!
— А кто тебя просит? Я, что ли? Футшток уже в лодке!
— Нет его там. Его перекрашивали, и он дня два как сохнет над дамской каютой.
Я полетел назад и только подбежал к группе оживленных любопытных дам, как услышал команду:
— Отваливай!
Я обернулся и увидел, что красивый вельбот идет полным ходом и бессовестный Том уже сидит на руле, а мой начальник — рядом с ним, с футштоком, за которым я, как дурак, бегал. И тут молоденькая девушка говорит мне:
— Ах, как страшно плыть на такой маленькой лодке в такую ночь! Как вы думаете, это очень опасно?
Лучше бы меня пронзили кинжалом! Злой, как собака, я ушел помогать в лоцманской рубке. Постепенно огонек лодки стал исчезать, а через некоторое время крохотная искорка замерцала на поверхности реки, в миле от нас. Мистер Торнберг дал свисток, оповещая, что он видит буй, вывел пароход и пошел на искорку. Мы шли полным ходом, потом стравили пар и осторожно стали скользить по направлению к огоньку. Вдруг мистер Торнберг воскликнул:
— Ого, фонарь на буйке погас!
Ои звонком остановил машину. Через несколько минут он сказал:
— Что такое? Вон он снова!
И, опять позвонив, он дал сигнал лотовым. Понемногу вода стала мельчать, потом — снова глубоко! Мистер Торнберг проворчал:
— Ни черта не понимаю! Похоже, что буй оторвался. Что-то уж слишком он ушел влево. Ну, ничего, все-таки спокойней всего идти на него.
И вот в непроницаемой тьме мы поползли на этот свет. И в тот момент, как наш форштевень навис над огоньком, мистер Торнберг, схватив сигнальные тросы, затрезвонил изо всех сил и крикнул:
— Клянусь, это наш вельбот!
Волнение, крики, потом — тишина. И вдруг — страшный скрип и треск…
— Пропали! — крикнул мистер Торнберг. — Колесо измололо вельбот! В щепки! Скорее беги! Смотри, кого убило!
В мгновение ока я был на верхней палубе. Мой начальник, третий помощник и почти все люди были целы. Они заметили опасность, когда уже нельзя было свернуть с пути, и поэтому к моменту, когда большие кожухи колос напнслп над ними, они сумели подготовиться и знали, что делать: но команде моего начальника онн в этот миг прыгнули, ухватились за кожухи и были втащены на палубу. В следующую минуту вельбот отлетел к колесу, и оно разнесло его вдребезги. Двух матросов и Тома недоставало, — эта новость молниеносно разнеслась по пароходу.
Пассажиры столпились на шкафуте, и дамы, бледные, с ужасом в глазах, говорили дрожащими голосами о страшной катастрофе. И каждую минуту я слышал:
— Бедные люди! Бедный, бедный мальчик!
Ялик с гребцами был к тому времени уже спущен и ушел на поиски. Вдруг слева послышался слабый крик. А ялик исчез, повернув в обратную сторону. Половина людей бросилась к левому борту, чтобы подбодрить плывущего; другая — к правому, чтобы звать ялик обратно. Судя по голосу, пловец приближался к пароходу, но кому-то показалось, что его голос слабел и слабел. Все столпились у поручней нижней палубы и, наклонившись, старались разглядеть что-нибудь в темноте. При каждом слабеющем крике слышались невольные возгласы:
— Ах, несчастный! Бедняга! Неужели нельзя спасти его?
Но голос звучал все ближе и вдруг храбро крикнул:
— Я доплыву, давайте конец!
Какое громовое «ура» встретило эти слова!
Старший помощник, освещенный факелами, стал со свернутым концом у борта, и команда окружила его. Через миг в круге света показалось лицо пловца, а еще через мпг сам он был втянут на борт, мокрый и обессиленный, под несмолкаемое «ура». Это был этот чертов Том!
Команда ялика все кругом обыскала и не нашла даже следов двоих матросов. Очевидно, им просто не удалось схватиться за кожух, они упали назад, и ударом колеса их убило на месте. А Том даже не прыгнул на кожух — он прямо бросился вниз головой в реку и нырнул под колесо. Это были сущие пустяки. Я мог бы легко проделать то же самое; я так и заявил, но никто не обратил внимания на мои слова, и вокруг этого осла поднялась такая суматоха, будто он и в самом деле совершил что-то великое. Девчонка в течение всего рейса не могла налюбоваться на своего жалкого «героя»; мне-то, конечно, было наплевать: я ее давно возненавидел.
А вот каким образом мы спутали фонарь вельбота с фонариком буйка: мой начальник рассказывал, что, после того как буй был установлен, он отошел и следил за ним, пока ему не показалось, что тот стоит крепко; тогда он остановился ярдов на сто ниже буйка, в стороне от курса, по которому должен был идти пароход, и, развернув вельбот вверх по течению, стал ждать. Ждать пришлось порядочно, он разговорился со старшим помощником; когда ему показалось, что пароходу пора уже быть на перекате, он посмотрел вперед и увидел, что буйка нет, но, предположив, что пароход уже прошел, продолжал разговаривать; потом заметил, что пароход идет прямо на вельбот; но так и должно было быть: пароход должен был подойти совсем близко, чтобы было удобнее взять его на борт. Начальник полагал до самого последнего момента, что судно застопорит ход; и вдруг понял, что пароход идет на них, принимая их фонарь за огонек буйка; тогда он скомандовал: «К прыжку на кожух приготовьсь!» — и в следующее мгновение они прыгнули.
Глава XIII. ЧТО НУЖНО ЛОЦМАНУ
Но я отвлекся от того, о чем собрался писать, а я хотел еще полнее, чем в предыдущих главах, рассказать об особых требованиях лоцманской науки. Прежде всего, есть одна способность, которую лоцман должен в себе непрестанно воспитывать, пока она не достигнет абсолютного совершенства. Да, именно совершенства. Эта способность — память. Он не должен допускать, чтобы ему казалось то или иное, он все должен знать наверняка, потому что судовождение — одна из точнейших наук. С каким презрением смотрели в те времена на лоцмана, который решался употреблять в разговоре неубедительное «я полагаю» вместо безапелляционного «я знаю!» Нелегко себе представить, какое это огромное дело — знать каждую пустячную мелочь на протяжении всех тысячи двухсот миль реки, и знать с абсолютной точностью. Если вы выберете самую длинную улицу в Нью-Йорке и исходите ее вдоль и поперек, терпеливо запоминая все ее приметы, и будете знать наизусть каждый дом, окно, дверь, фонарный столб и вывеску — словом, все до последней мелочи; если вы будете знать все это так точно, чтобы сразу сказать, что перед вами, когда вас наугад поставят где-нибудь посреди этой улицы в чернильно-темную ночь, то вы сможете составить себе некоторое представление о количестве и точности сведений, которые накопил лоцман, держащий в памяти всю реку Миссисипи. А если вы, продолжая знакомиться с улицей, изучите каждый перекресток, вид, размер и расположение каждой тумбы на перекрестках этой улицы; изучите, сколько бывает грязи, когда и какой глубины в разнообразнейших местах этой улицы, — вы составите себе представление о том, что должен знать лоцман, чтобы вести пароход по Миссисипи без аварий. А потом, если вы займетесь хотя бы половиной всех вывесок на этой улице и, ежемесячно перемещая их, все-таки ухитритесь узнавать их на новом месте в темные ночи, всегда следя за этими изменениями и не делая ошибок, — вы поймете, какой безукоризненной памяти требует от лоцмана коварная Миссисипи.
Я считаю, что память лоцмана — одно из самых изумительных явлений на свете. Знать на память Ветхий и Новый завет и уметь без запинки читать их наизусть с начала до конца, или с конца до начала, или же с любого места книги процитировать наизусть вперед и назад любой стих и ни разу но сбиться и не сделать ошибки — это не такой уж фантастический запас знаний, не такая уж необычайная виртуозность но сравнению с запасом знаний лоцмана и с его виртуозной способностью маневрировать ими. Я парочпо привожу такое сравнение и считаю, что ничуть не преувеличиваю. Многие скажут, что сравнение взято слишком сильное, — многие, но только не лоцманы.
А как легко, как непринужденно работает память лоцмана! Как спокойно и без напряжения, как бессознательно пополняет она обширные склады сведений час за часом, изо дня в день, — и никогда ничего не теряет, ничего не выбрасывает из этого ценного запаса. Возьмем пример. Пусть лотовый кричит: «Два с половиной, два с половиной, два с половиной!» — пока эти возгласы не станут монотонными, как тиканье часов; пусть в это время идет разговор и лоцман принимает в нем участие и сознательно уже не слушает лотового; и посреди бесконечных выкриков «Два с половиной» лотовый хотя бы раз, ничуть не повышая голоса, крикнет: «Два с четвертью» и снова затвердит свои «Два с половиной», как раньше, — через две-три недели лоцман точно опишет вам, какое положение пароход занимал на реке, когда крикнули «Два с четвертью», и даст вам такое количество опознавательных знаков и прямо по носу, и по корме, и по бортам, что вы сами легко смогли бы поставить судно на указанное место. Выкрик «Два с четвертью» совершенно не отвлек его мысли от разговора, но его натренированная память мгновенно запечатлела все направления, отметила изменение глубины и усвоила все важнейшие детали для будущих справок совершенно без участия его сознания. Если бы вы шли с товарищем и разговаривали, а другой в это время, идя рядом, повторял бы без конца монотонно звук «А» квартала два подряд, а потом вдруг вставил бы «Р», вот так: А. А. А. А. А. А. А. Р. А. А. и так дальше, и на «Р» не сделал бы никакого ударения, — вы бы, конечно, не смогли через две-три недели вспомнить, что он произнес «Р», и не смогли бы рассказать, мимо каких предметов вы проходили, когда он произнес это «Р». Но вы бы могли это сделать, если бы терпеливо и тщательно упражняли свою память так, чтобы это делалось автоматически.
Наделите человека достаточно хорошей памятью, и лоцманское дело разовьет ее до совершенно колоссальных размеров. Но… только в той области, в которой она ежедневно тренируется. Придет время, когда человек невольно будет замечать приметы и промеры, а его память удерживать все замеченное, как в тисках. Но спросите этого самого человека днем, что он ел за завтраком, и — десять шансов против одного, что он но сможет вам ответить. Удивительные вещи можно сделать с человеческой памятью, если посвятить ее одной какой-нибудь отрасли!
В те дни, когда на Миссури высоко поднялись оклады, мой начальник, мистер Биксби, отправился туда и изучил этот тысячемильный поток с такой легкостью и быстротой, что просто поразительно. Ему стоило только посмотреть каждый перегон один раз днем и один раз ночью — и его подготовка оказалась настолько законченной, что он получил свидетельство «дневного» лоцмана; еще через несколько рейсов он получил уже свидетельство полноправного лоцмана — стал водить пароходы и днем и ночью, — и был при этом лоцманом первого класса.
Мистер Биксби временно устроил меня рулевым к одному лоцману, чья необыкновенная память была для меня предметом постоянного изумления. Но память его была врожденной, а не натренированной. Кто-нибудь, например, упомянет чье-либо имя, и немедленно вмешивается мистер Браун:
— А-а, я его знал! Такой рыжеволосый малый с бледным лицом и с маленьким шрамом на шее, похожим на занозу. Он всего шесть месяцев служил на Юге. Это было тринадцать лет назад. Я с ним плавал. В верховьях вода стояла на уровне пяти футов; «Генри Блэк» сел на мель у Тауэровского острова, потому что имел осадку четыре с половиной; «Джордж Эллиот» сломал руль о затонувший «Санфлауэр»…
— Как, да ведь «Санфлауэр» затонул только…
— Я-то знаю, когда он затонул: ровно на три года раньше, второго декабря; Эза Гардп был капитаном, а его брат Джон — помощником; то был первый его рейс на этом судне; Том Джонс рассказывал мне про все это неделю спустя, в Новом Орлеане; он был старшим помощником на «Санфлауэре». Капитан Гарди ранил гвоздем ногу шестого июля следующего года и пятнадцатого — умер от столбняка. А брат его Джон умер через два года, третьего марта, от рожи. Я этих Гарди и не видел никогда, — они плавали на реке Аллегани, но те, кто их знал, рассказывали мне их историю. Говорили, что этот капитан Гарди и зиму и лето носил бумажные носки; первую его жену звали Джейн Шук, — она была родом из Новой Англии; а вторая умерла в сумасшедшем доме. У нее безумие было наследственное. Сама она была урожденная Хортон из Лексингтона, штат Кентукки.
И вот так, часами, этот человек работал языком. Он не способен был забыть хоть что-нибудь. Это было для него просто невозможно. Самые ничтожные мелочи хранились в его мозгу в течение многих лет отчетливо и ясно, как если бы это были самые интересные события. У него была не только лоцманская память: она охватывала все на свете. Если он начинал рассказывать о пустячном письме, полученном семь лет назад, вы могли быть уверены, что он процитирует его целиком на память. После чего, не замечая, что он отклоняется от основной темы разговора, он почти всегда мимоходом вдавался в длиннейший и подробнейший пересказ биографии лица, писавшего это письмо; и вам положительно везло, если он не вспоминал по очереди всех родственников писавшего и не излагал кстати и их биографии.
Такая память — великое несчастье. Для нее все события имеют одинаковую ценность. Человек, обладающий такой памятью, не может отличить интересного факта от неинтересного. Повествуя о чем-нибудь, он обязательно загромождает свой рассказ скучными подробностями и невыносимо всем надоедает. Больше того, он не может держаться одной темы. Он подхватывает каждое зернышко из тех, что рассыпает перед ним память, и, таким образом, отклоняется в сторону. Мистер Браун собирался, например, самым честным образом рассказать ужасно смешной анекдот о собаке. Его самого до того душил смех, что он едва мог говорить; потом он начинал вспоминать родословную собаки и ее внешний вид; погружался в биографию ее хозяина и всего его семейства, с описанием всех свадеб и похорон, происходивших в этой семье, причем сопровождал свои воспоминания декламацией поздравительных и траурных стихов, к каждому случаю написанных. Потом его память подсказывала ему, что одно из этих событий случилось в «ту» знаменитую «лютую зиму» в таком-то и таком-то году, и следовало подробнейшее описание этой зимы с перечислением всех людей, в эту зиму замерзших, и со статистическими данными о ценах на свинину и сено, которые тогда так поднялись. Свинина и сено влекли за собой воспоминание о ржи и овсе; рожь и овес — о коровах и лошадях; коровы и лошади напоминали ему о цирке и некоторых знаменитых наездниках; переход от цирка к зверинцу был прост и естествен, от слона до Центральной Африки был только шаг; тут, разумеется, дикари-язычники напоминали о религии; и через три-четыре часа скучнейшей жвачки вахта сменялась, и Браун уходил из рубки, бормоча отрывки из проповедей, которые когда-то слышал, о молитве как о пути к благодати. Словом, этим первым упоминанием о собаке ограничивалось все, что узнавали о ней слушатели после долгого ожидания и томления.
Лоцман должен обладать хорошей памятью, но вот еще два качества даже более высокого порядка, которые он также должен иметь: он должен быстро соображать, быстро принимать решения и проявлять хладнокровную, спокойную отвагу, непоколебимую при любых опасностях. Если у человека для начала есть хоть капля храбрости, он, став лоцманом, не будет теряться ни при каком бедствии, угрожающем его судну. С сообразительностью дело обстоит, однако, не так просто.
Сообразительность зависит от ума; и у человека должен быть основательный запас его — или же он никогда не станет хорошим лоцманом.
В штурвальной смелость неуклонно возрастает, однако необходимой высокой степени она достигает лпшь после того, как молодой лоцман простоит «свою собственную вахту» один, под тяжким бременем всей ответственности, на лоцмане лежащей. Когда ученик как следует, полностью изучил реку, он так бесстрашно обращается со своим пароходом и ночью и днем, что начинает воображать, будто это его собственная смелость так его вдохновляет. Но в первый же раз, когда лоцман уходит и предоставляет ученика самому себе, тот видит, что все дело было в смелости лоцмана. Он внезапно понимает, что у него самого этой смелости и в помине нет. Вся река тотчас начинает кишеть неожиданностями; он не подготовлен к ним, он не знает, как с ними справиться, все его знания оставляют его; и через пятнадцать минут он бледен как полотно и напуган до смерти. Поэтому лоцманы при помощи разных стратегических уловок очень предусмотрительно приучают своих «щенков» спокойно смотреть опасности в глаза. Их любимый способ — по-дружески «разыграть» кандидата в лоцманы.
Мистер Биксби однажды тоже удружил мне таким образом, и еще много лет спустя я даже во сне краснел, вспоминая об этом. Я уже стал хорошим рулевым, настолько хорошим, что мне приходилось выполнять всю работу на нашей вахте и ночью и днем; мистер Биксби редко давал мне указания; все, что он делал, — это брал иногда штурвал в особенно скверные ночи или на особенно скверных перегонах и вел судно к берегу, когда это было нужно; девять же десятых всего времени разыгрывал на вахте барина и получал жалованье. В низовьях реки вода стояла совсем высоко, и если бы кто— нибудь усомнился в моей способности пройти любой поворот менаду Каиром и Новым Орлеаном самостоятельно и без инструкций, я бы смертельно обиделся. Мысль о том, что можно испугаться какого-нибудь поворота днем, казалась попросту нелепой и даже недостойной обсуждения. И вот однажды, в великолепный летний день, я обходил излучину пониже острова 66, преисполненный самоуверенности и поглядывая на все свысока, словно жираф. Тут-то мистер Биксби и сказал:
— Я спущусь вниз на минутку. Надеюсь, ты знаешь следующий поворот?
Это было почти равносильно оскорблению: следующий поворот был одним из самых простых и легких на всей реке. Идти по нему правильно или неправильно — все равно никакой беды от этого не будет; что же до глубины — так там она просто бездонная. Я знал все это прекрасно.
— Знаю ли я? Да я пройду с закрытыми глазами!
— А какая там глубина?
— Право, это странный вопрос. По-моему, там и церковной колокольней до дна но достанешь.
— Ага, ты так полагаешь, да?
Самый тон этого вопроса поколебал мою уверенность. Этого мистер Биксби и хотел. Он ушел, не сказав больше ни слова. Я стал воображать всякие несуразности. А мистер Биксби — конечно, без моего ведома — послал кого-то на ют с таинственными поручениями к лотовым, другого посланца отправил шепнуть что-то капитану и помощникам, а потом пришел и спрятался за трубой, откуда мог наблюдать за результатами. Сначала на мостик вышел капитан. Потом появился старший помощник, потом — второй. Каждую минуту подходили все новые зрители, и прежде чем я дошел до конца острова, пятнадцать или двадцать человек собрались под самым моим носом. Я стал недоумевать: в чем дело? Когда я начал переход, капитан взглянул на меня и с притворным беспокойством в голосе спроспл:
— Где мистер Биксби?
— Ушел вниз, сэр.
Тут-то и пришла моя погибель. Воображение стало создавать несуществующие опасности, и они множились быстрее, чем я в силах был с ними справиться. Вдруг мне померещилось, что я вижу впереди мелководье. И тут на меня нахлынула волна такой отчаянной трусости, что я почувствовал, как у меня поджилки дрожат. Вся моя уверенность исчезла. Я ухватился за сигнальный трос, отбросил его со стыдом; снова ухватился — и снова отбросил; еще раз ухватился дрожащей рукой и так слабо дернул, что сам не услышал звона. Капитан и помощник немедленно в один голос скомандовали:
— Лотовых на правый борт! И живее!
Это был новый удар. Я стал, как белка, прыгать вокруг штурвала, но только я отводил пароход влево, как мне мерещились новые опасности, и я сразу шел вправо, но добивался лишь того, что воображаемые опасности сосредоточивались именно с правого борта, и я, как помешанный, летел опять влево.
И тут прозвучал замогильный голос лотового:
— Глубина — четыре!
Четыре — на бездонном месте! Ужас сковал мое дыхание.
— Метка — три… метка — три… без четверти три… Два с половиной…
Это было ужасно! Я ухватился за сигнальпые веревки и остановил машину.
Я был беспомощен. Я абсолютно не знал, что делать. Я трясся всем телом, и глаза мои так выкатились из орбит, что я мог бы повесить на них свою шляпу.
— Без четверти два! Девять с половиной!
А у нас осадка была — девять. Руки мои трясла нервная дрожь. Я не мог четко сигнализировать колоколом. Я бросился к переговорному рупору и завопил механику:
— О Бен, если ты меня любишь, дай задний ход! Скорее, Бен! Дай задний ход, вытряси из пего душу.
Тут я услышал, как кто-то деликатно притворил за собою дверь. Я обернулся и увидел мистера Биксби, который ласково, мило улыбался. И вся публика на верхней палубе разом разразилась громовым оскорбительным хохотом. Тут я все понял и почувствовал себя презренней самого жалкого человека, когда-либо существовавшего на земле. Я остановил промеры, направил пароход по курсу, дал сигнал машине и сказал:
— Да, славно подшутили над сиротой, не так ли? Мне уж, верно, теперь никогда не перестанут напоминать о том, какой я дурак был, когда заставил делать промеры у острова «Шестьдесят шесть».
— Да, пожалуй, что и так. Надеюсь, что так, — я хочу, чтобы для тебя эта история послужила наукой. Да разве ты не знал, что на этом повороте и дна не достанешь?
— Да, сэр, знал…
— Ну так вот: ты не должен был ни мне, ни кому бы то ни было давать возможность поколебать твою уверенность в том, что ты знаешь. И еще одно: когда попадешь в опасное место — не празднуй труса. Это никак и ничему не помогает!
Урок был неплохой, но достался он мне нелегко. А самое неприятное было то, что в течение многих месяцев мне частенько приходилось слышать фразу, которую я особенно возненавидел. Бот она:
— О, Бен, если ты меня любишь, дай задний ход!
Глава XIV. ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ ЛОЦМАНА
В предыдущих главах я так подробно излагал лоцманскую науку для того, чтобы шаг за шагом показать читателю, в чем эта наука заключается; и еще я старался показать, до какой степени эта наука занятна, замечательна и достойна его внимания. Не удивительно, если читатель подумал, что я люблю свой предмет, — ведь эту профессию я любил больше всех остальных профессий, которые у меня были впоследствии; я гордился ею неизмеримо. Причина проста: лоцман в те дни был на свете единственным, ничем не стесненным, абсолютно независимым представителем человеческого рода. Короли — это лишь связанные по рукам и ногам слуги парламента и народа; парламенты скованы цепями своей зависимости от избирателей; редактор газеты не может быть самостоятельным и должен работать одной рукой: другую его партия и подписчики подвязали ему за спину; он еще должен быть рад, если имеет возможность высказывать хотя бы половину или две трети своих мыслей; священник также не свободен: он не может говорить всей правды, так как должен считаться с мнением прихода; писатели всех мастей — это рабы публики: пишем-то мы откровенно, бесстрашно, но, перед тем как печатать, «подправляем» наши книги. Да, в самом деле: у каждого мужчины, у каждой женщины, у каждого ребенка есть хозяин, и все томятся в рабстве. Но в те дни, о которых я пишу, лоцман на Миссисипи рабства не знал. Капитан мог, стоя на мостике в ореоле своей кратковременной власти, отдать лоцману пять-шесть приказаний, пока судно отходило от пристани, а затем власть его кончалась. Достаточно было пароходу выйти в реку, и он поступал в единоличное и бесконтрольное распоряжение лоцмана. Последний мог делать с ним все что угодно, вестн его как и куда заблагорассудится и идти у самого берега, если считал такой курс наилучшим. Все поступки лоцмана были абсолютно свободны; он не советовался ни с кем, ни от кого не получал приказаний и вспыхивал, как порох, при самой невинной попытке подсказать ему что-либо. Более того: закон Соединенных Штатов даже запрещал ему слушаться приказаний или следовать советам, справедливо полагая, что лоцман должен знать лучше кого бы то ни было, как вести пароход. Он являлся каким-то новым королем, свободным от опеки, абсолютным монархом, — абсолютным на деле, а не только на бумаге. Я видел восемиадцатилетнего мальчишку, который невозмутимо вел большой пароход, казалось, на верную гибель, а пожилой капитан, понимая это, стоял молча тут же, но не имел права вмешаться. Возможно, что в данном отдельном случае его вмешательство было бы более чем уместно, но допустить это — значило бы установить вреднейший прецедент. Легко представить себе, зная неограниченную власть лоцмана, какой персоной он был в те далекие дни речного пароходства. Капитан обращался с ним подчеркнуто любезно, а офицеры и команда — с подчеркнутым уважением, и это особо почтительное отношение быстро передавалось также и пассажирам.
По-моему, лоцманы были единственными людьми, которые не выказывали ни малейшего смущения в присутствии путешественников из числа иностранных владетельных особ. Да и то сказать, ведь людей, равных тебе по положению, обычно не стесняешься.
В силу долголетней привычки командовать у лоцманов вошло в обыкновение заменять любую просьбу приказанием. До сих пор мне как-то неприятно выражать свое желание жалкой просьбой, вместо того чтобы бросить его в сжатой форме команды.
В те давно минувшие дни на погрузку парохода в Сент-Луисе, на рейс до Нового Орлеана и обратно и на выгрузку тратили в среднем около двадцати пяти дней, из них семь или восемь пароход проводил в гаванях Сент-Луиса и Нового Орлеана. И команда вся до одного человека работала что было сил, — вся, кроме двух лоцманов; они ничего но делали и только разыгрывали из себя кутящих джентльменов, получая за это те же деньги, что и на службе. Стоило пароходу подойти к пристани Сент-Луиса или Нового Орлеана — они в тот же миг оказывались на берегу, и на пароходе уже не видали их вплоть до последнего звонка, когда все было готово к отплытию.
Если капитану попадался лоцман с особенно высокой репутацией, он всячески старался удержать его у себя. В те времена ставка лоцмана у верховьев Миссисипи составляла четыреста долларов в месяц, но я знавал капитана, который держал такого лоцмана на полном окладе целых три месяца без дела, так как река замерзла. И надо помнить, что в те дешевые времена четыреста долларов был оклад почти фантастический. Не многие на берегу получали такой оклад, а если получали, то все смотрели на них с чрезвычайным уважением. Когда лоцманы с низовья или верховья реки попадали в наш маленький миссурийский городок, их общества искали самые избранные красавицы, самые важные люди и относились к ним с восторженным почтением. Стоять в гавани, получая жалованье, — это было занятие, которое многие лоцманы любили и ценили; особенно если они плавали по Миссури в дни расцвета своей профессии (канзасские времена) и получали девятьсот долларов за рейс, что равнялось примерно тысяче восьмистам долларам в месяц.
Вот образчик разговора тех времен. Владелец небольшого парохода с реки Иллинойс обращается к двум расфранченным лоцманам с Миссури:
— Джентльмены, я выхожу в хороший рейс вверх по течению и хотел бы заполучить вас примерно на месяц. Во сколько это обойдется?
— Тысяча восемьсот долларов каждому!
— Клянусь небом и землей! Берите мой пароход, давайте мне ваше жалованье — и я еще поделюсь с вами!
Замечу мимоходом, что служащие с пароходов на Миссисипи внушали уважение сухопутным жителям (да и сами себе в известной мере) в зависимости от достоинств своего парохода. Можно было, например, гордиться, если ты числился в экипаже таких красавцев, как «Алек Скотт» или «Великий Могол». Негры-кочегары, палубная прислуга и парикмахеры с этих пароходов были в своем кругу важными персонами и сами прекрасно это знали. Один дюжий негр на негритянском балу в Новом Орлеане разозлил остальных своим высокомерием и чванством. Наконец один из распорядителей подскочил к нему и сказал:
— Да кто ты такой? Кто такой, желал бы я знать?
Обидчик, ничуть не смутившись, надулся от важности и, придав голосу нечто, из чего явствовало, что он не зря так чванится, произнес:
— Кто я? Кто я такой? Вот я вам сию минуту скажу, кто я такой! Чувствуйте вы, негры: я топлю большой котел на «Алеке Скотте»!
И этого было достаточно.
Парикмахером на «Великом Моголе» был бойкий молодой негр; он подчеркивал свое важное положение с мягкой снисходительностью, и за ним чрезвычайно ухаживали в том кругу, где он вращался. Юное цветное население Нового Орлеана любило флиртовать в сумерки на скамейках по разным переулочкам. Как-то вечером на одной из этих уличек кто-то подсмотрел и подслушал следующую сцену. Негритянка средних лет высунула голову в разбитое окно и закричала (с явным желанием, чтобы соседи ее услыхали и позавидовали): «Эй, Мэрн-Энн, сейчас же иди домой! Чего ты там развела болтовню со всяким сбродом, когда тут сам парикмахер с «Великого Могола» желает с тобой поговорить».
Выше я упомянул о том, что особое официальное положение лоцмана ставило его вне всякой критики и избавляло от необходимости кому-либо подчиняться. И тут я, конечно, не могу не вспомнить о Стивене У. Это был талантливый лоцман, добрый малый, неутомимый рассказчик, обладавший смекалкой и юмором. Он держался с дерзкой независимостью и чувствовал себя абсолютно непринужденно среди старших, среди лиц, занимавших высокие посты, и даже среди именитых богачей. Всегда у него была работа, по никогда он не скопил ни гроша; умел, занимая деньги, уговорить кого угодно и был в долгу у всех лоцманов и у большинства капитанов на реке. Он умел окружать таким блеском самый несложный, самый пустячный маневр парохода, что людей охватывало восхищение, — не всех, одпако.
Он однажды пошел в рейс с добрым старым капитаном И. и был «освобожден от обязанностей» в Новом Орлеане. Кто-то выразил удивление но этому поводу. Капитан И. содрогнулся при одном упоминании имени Стивена и пропищал своим дребезжащим тоненьким голоском приблизительно следующее:
— Нет, уж премного благодарен! Я такого сорвиголову у себя на пароходе иметь не желаю! То есть ни за что на свете! Он ругается, поет, свистит, орет; я не слыхал, чтобы индейцы так орали! Орет всю ночь; ему что день, что ночь — все одно! И орет — так, без всякой причины, просто потому, что ему это доставляет какое-то сатанинское удовольствие. Я ни разу не мог заснуть как следует: вдруг он так начинал орать, что я в холодном поту вскакивал с постели. Странный человек, очень странный! Никакого уважения ни к кому и ни к чему. Он иногда называл меня «Джонни»! Да еще у него были скрипка и кошка. Играл он отвратительно. А кошку это, по-видимому, сильно огорчало, и она начинала дико мяукать. Никто не мог уснуть там, где был этот человек и его «семейка». А бесшабашный какой! Это прямо-таки ни с чем не сравнимо!
Хотите верьте, хотите нет, но это так же верно, как то, что я сижу здесь перед вами: вел он мой пароход через эти жуткие коряги у Чикота, да еще на всех парах, а ветер при этом свистел, как все черти в аду! Мои помощники вам подтвердят. И вот, сэр, пока он летел напрямик через все эти коряги, а я трясся от страха и молился, он — лишиться мне языка, если вру! — сложил губы трубочкой и стал насвистывать, — да-с, сэр, насвистывать: «Девицы Буффало, придите вечерком, придите вечерком, придите вечерком», да еще с таким спокойствием, как если бы мы участвовали в похоронной процессии, не будучи сродни покойнику. А когда я сделал ему замечание, он улыбнулся мне снисходительно, как ребенку, и посоветовал идти домой, быть паинькой и не вмешиваться в дела старших[4].
Как-то один здорово скупой капитан поймал в Новом Орлеапе Стивена, когда тот был без работы и, как водится, без денег. он упорно осаждал Стивена, которому в то время приходилось туговато, и наконец уговорил его поступить к нему на пароход за сто двадцать пять долларов в месяц, то есть ровно на полоклада, причем капитан обещал не открывать секрета, чтобы вся корпорация не стала презирать беднягу. Но не прошло и суток после выхода нз Нового Орлеана, как Стивен заметил, что капитан хвастает своей удачной сделкой и что всем помощникам об этом рассказано. Стивен поморщился, но ничего не сказал. К концу дня капитан вышел на мостик, посмотрел кругом и страшно удивился. он вопросительно поглядел на Стивена, но тот насвистывал как ни в чем не бывало и делал свое дело. Капитану явно было не по себе; он постоял и раза два, по-видимому, очень хотел сделать какое-то замечание, но речной этикет научил его избегать такой поспешности, и он промолчал. Потоптавшись и поволновавшись еще немного, он удалился в свои апартаменты. Но вскоре он снова появился, еще более растерянный, чем прежде. Наконец он решился заметить весьма почтительно и осторожно:
— Вода стоит довольно высоко, — правда, сэр?
— Я думаю! Без малого из берегов не вышла — это ли не высоко!
— Течение тут как будто довольно сильное, а?
— И не говорите. Не то что довольно сильное, а просто бьет, как из-под мельничного колеса.
— А разве у берега оно не тише, чем тут, на середине?
— Да, пожалуй потише; по ведь чем больше бережешь пароход, тем лучше. Здесь он в безопасности. Дна ему не достать, будьте уверены.
Капитан удалился. Вид у него был в достаточной степени унылый. При таких темпах ему, по-видимому, предстояло умереть в преклонном возрасте, прежде чем его судно доберется до Сент-Луиса. На следующий день он снова вышел на палубу и снова увидел, что Стивен, насвистывая тот же безмятежный мотив, неуклонно идет серединой реки, преодолевая мощное течение Миссисипи. Это уже становилось серьезным. У самого берега шел другой, менее быстроходный пароход и, скользя по тихой воде, упорно нагонял их. Он пошел к протоке у острова, а Стивен продолжал держаться середины реки. Капитан больше не мог молчать. Он сказал:
— Мистер У., разве эта протока не сокращает путь на порядочный кусок?
— Полагаю, что так, но наверняка сказать не берусь.
— Не беретесь? Да разве там не достаточно воды, чтобы пройтп ее сейчас?
— Как будто достаточно, но я не вполне в этом уверен.
— Честное слово, это странно! Отчего же лоцманы того вон парохода сейчас входят в протоку? Неужели вы хотите сказать, что знаете меньше, чем они?
— Они! Что ж, они получают двести пятьдесят долларов! Да вы не беспокойтесь: я знаю ровно столько, сколько полагается знать человеку с окладом в сто двадцать пять долларов!
И капитан сдался.
Через пять минут Стивен несся по протоке, показывая пароходу-сопернику двухсотпятидесятидолларовые пятки.
Глава XV. ЛОЦМАНСКАЯ МОНОПОЛИЯ
Однажды на «Алеке Скотте» мой начальник, мистер Биксби, осторожно проползал через узкое место у Кошкина острова; лотовые были выставлены с обоих бортов, и все следили затаив дыхание. Капитан, нервный и чересчур осторожный человек, молчал, пока мог, но наконец его прорвало, и он закричал с мостика:
— Ради всего святого прибавьте ходу, мистер Биксби, прибавьте ходу! Он никогда не возьмет перекат на таком ходу!
По невозмутимому виду мистера Биксби можно было подумать, что ему вообще никакого замечания не сделали. Но через пять минут, когда опасность миновала и необходимость в промерах отпала, он дал волю своим чувствам и осыпал капитана руганью. Кровопролития не последовало, но только потому, что капитан осознал свою вину; вообще-то он был не из тех людей, что спокойно выслушивают замечания.
Теперь, когда я подробно описал сущность лоцманской науки и рассказал также о месте, которое лоцман занимает среди пароходного персонала, мне кажется уместным упомянуть об организации, созданной некогда лоцманами для защиты своих интересов. Она была тем замечательна и любопытна, что стала одной из самых спаянных, крепких и деловых коммерческих организаций, когда-либо создававшихся людьми.
Долгое время оклад лоцмана равнялся двумстам пятидесяти долларам в месяц; но, как ни странно, с увеличением числа пароходов и с ростом торговли оклады стали постепенно падать. Причину угадать нетрудно.
Слишком много лоцманов было «настряпано». Каждому было приятно иметь «щенка»-рулевого, который годика два бесплатно делал самую трудную работу, в то время как его учитель сидел на высоком табурете и курил; у всех капитанов и лоцманов были сыновья и племянники, желавшие стать лоцманами.
Постепенно вышло так, что почти у каждого лоцмана на реке был свой рулевой. Когда он успевал как следует выучиться, его проверяли два опытных лоцмана, и они могли раздобыть ему лоцманское свидетельство, дав свои подписи на прошении, направленном правительственному инспектору Соединенных Штатов. Больше ничего не требовалось; обычно никаких вопросов не предлагали и никаких проверок больше по устраивали.
Так вот эта растущая стая новых лоцмаиов стала сбивать цены, чтобы заполучить место. Рыцари штурвала, по-видимому, слишком поздно поняли свою ошибку. Ясно было, что надо что-нибудь предпринять, и притом поскорее; по что же молчно было сделать? Сплоченная организация. Только она могла помочь. Но создать ее казалось немыслимым; и потому об этом поговорили, поговорили и бросили. Казалось, что тот, кто первым начнет это дело, обязательно себя погубит. Но в конце концов с десяток самых смелых и частью самых лучших лоцмаиов решились на этот шаг и взяли на себя весь риск. Они получили специальное разрешение на организацию облеченного широкими полномочиями общества под названием Лоцманская ассоциация взаимопомощи, выбрали правление, собрали капитал, определили размер оклада для членов Ассоциации в двести пятьдесят долларов в месяц и разъехались по домам, так как их всех немедленно уволили. Однако в их уставе были две-три незаметные, пустяковые статьи, в которых крылся залог роста этой Ассоциации. Например, каждый член союза, имевший хорошую репутацию, получал во время безработицы пособие в двадцать пять долларов в месяц. В плохой (летний) сезон это привлекло в Ассоциацию одного за другим нескольких новоиспеченных лоцманов. Лучше получать двадцать пять долларов, чем умирать с голоду; вступительный взнос был всего двенадцать долларов, а членских взносов с безработных не брали.
Вдовы членов союза получали — в том случае, если умерший пользовался хорошей репутацией, — также двадцать пять долларов в месяц и некоторую сумму на каждого ребенка. Кроме того, Ассоциацией оплачивались расходы по похоронам. И это окрылило надеждами всех престарелых, забытых лоцманов по всей долине Миссисипи. Они приезжали с ферм, из глухих деревушек — отовсюду; они приходили на костылях, их доставляли в телеяжах и на носилках — лишь бы добраться до Ассоциации. Они вносили свои двенадцать вступительных долларов и сразу начинали получать пенсию в двадцать пять долларов и составлять себе похоронную смету.
Мало-помалу все бесполезные, беспомощные лоцманы и с десяток первоклассных вошли в Ассоциацию, а девять десятых лучших лоцманов не вошли в нее и над ней потешались. Она была посмешищем всей реки. Каждый подшучивал над статьей, согласно которой член Ассоциации должен был вносить ежемесячно десять процентов жалованья в кассу Ассоциации, тогда как в нее вступившие бойкотировались и никто не брал их на работу. Все насмешливо благодарили Ассоциацию за то, что она убрала с дороги всех никудышных лоцманов и очистила поле деятельности для лучших и достойнейших, и не только за это благодарили, но и за результаты, естественно воспоследовавшие. Они выразились в постепенном повышении окладов, когда началось горячее время. Со ста долларов в месяц оклады поднялись до ста двадцати пяти, и далее — до ста пятидесяти; и было очень приятно насмешливо рассуждать о том, что прекрасное достижение это принадлежит группе лиц, из которых никто не может воспользоваться его выгодами, хотя бы и в ничтожной доле. Некоторые шутники даже заходили в помещение Ассоциации и развлекались тем, что дразнили членов союза, снисходительно предлагая место рулевого на один рейс, чтобы они могли взглянуть, какой вид у позабытой ими реки. И все же Ассоциация была довольна или, во всяком случае, не подавала виду, что чем-то недовольна. Время от времени она заполучала лоцмана, которому «не повезло», и вносила его в свой список; и эти новые вступления были особенно ценны, так как это были хорошие лоцманы: все менее хорошие уже были вовлечены раньше. С разгаром сезона жалованье постепенно повысилось до двухсот пятидесяти долларов (ставка Ассоциации), и эта цифра прочно закрепилась; и все-таки членам Ассоциации это не принесло никакой пользы, потому что их никто не нанимал. Над Ассоциацией потешались и веселились по этому поводу бесконечно. Не было конца издевательствам, которые претерпевала эта бедная мученица.
Однако цыплят по осени считают. Подходила зима, количество торговых сделок удвоилось, утроилось, и целая лавина пароходов с Иллинойса, Миссури и Верхней Миссисипи ринулась искать счастье в торговле с Новым Орлеаном. На лоцманов сразу появился громадный спрос, не соответствовавший предложению. Наступило время мести. Горькую пилюлю пришлось проглотить капитанам и судовладельцам, когда они увидели себя вынужденными принимать на работу членов Ассоциации, но иного выхода не было. Однако никто из отщепенцев не предлагал своих услуг. Предстояло проглотить пилюлю еще более — горькую: надо было пойти к ним просить их услуг. Капитану X. первому пришлось это сделать, а он-то пуще всех издевался над Ассоциацией. он выискал одного из лучших лоцманов Ассоциации и сказал:
— Ну, ребята, пока что ваша взяла! Сдаюсь и всячески иду вам навстречу. Пршпел пригласить вас, лоцман; берите ваши вещи и сейчас же на пароход. Я собираюсь выйти в двенадцать часов.
— Уж не знаю, как быть! Кто будет моим напарником?
— Я взял И. С. А что?
— Я с ним не пойду. Он не член Ассоциации.
— Что?..
— Да то самое.
— Вы хотите сказать, что не желаете стоять у штурвала с одним из лучших и старейших лоцманов реки, потому что он не член вашей Ассоциации?
— Вот именно.
— Ну и зазнались же вы! Я считал, что оказываю вам любезность, а теперь начинаю думать, что мне как будто придется просить об одолжении. Вы действуете согласно какой-нибудь статье устава?
— Да.
— Покажите мне се.
Они зашли в помещение Ассоциации, секретарь быстро удовлетворил любознательность капитана, и тот проговорил:
— Но что же мне делать? Я нанял мистера С. на весь сезон.
— Я вас выручу, — сказал секретарь, — я дам вам лоцмана, который пойдет с вами. В двенадцать часов он будет на борту.
— Но если я рассчитаю С., он потребует с меня жалованье за весь сезон.
— Ну, уж это дело ваше и мистера С., капитан. Мы не можем вмешиваться в ваши частные дела.
Капитан бушевал, но тщетно. В конце концов ему пришлось рассчитать мистера С., заплатить ему около тысячи долларов и взять на его место лоцмана из Ассоциации. Теперь начинала посмеиваться другая сторона. С тех пор что ни день, то новая жертва; каждый день какой-нибудь возмущенный капитан со слезами и проклятием рассчитывал своего любимца — не члена союза — и устраивал в его каюте одного из членов ненавистной Ассоциации. Очень скоро безработных не членов Ассоциации набралось достаточное количество, хотя дела шли очень оживленно и в их услугах весьма нуждались. Положительно пришла очередь другой стороны издеваться: роли переменились. Уволенным жертвам, вместе с капитанами и судовладельцами, стало не до смеха; они в бешенство грозились отомстить, когда кончится сезон.
Вскоре посмеиваться могли только судовладельцы и команды тех пароходов, где оба лоцмана были не членами Ассоциации. Но и их триумф длился недолго. И вот почему: одно из строжайших правил Ассоциации гласило, что ее члены никогда, ни при каких обстоятельствах не должны давать информацию о фарватере «посторонним». К этому времени половина пароходов обслуживалась исключительно членами союза, а другая только исключительно «посторонними». На первый взгляд казалось, что если разговор идет о запрещении давать сведения, то обе партии окажутся в одинаковых условиях. Но дело обстояло иначе. В каждом большом городе, по всей реке, пароходы причаливали не непосредственно к пристани, а к специальной «причальной барже». В ней складывался груз для транспорта, а в каютах ее ночевали ожидающие пассажиры. На каждой такой барже-пристани правление Ассоциации поместило ящик, типа почтового, с особым замком; такие замки употреблялись исключительно почтовым ведомством Соединенных Штатов. Это был замок почтовых сумок, неприкосновенный государственный атрибут. После долгих просьб и уговоров правительство разрешило Ассоциации ввести у себя такие замки. Каждый член Ассоциации имел ключ, отпирающий упомянутые ящики. Когда члена Ассоциации кто-нибудь незнакомый спрашивал о фарватере, он смотрел, есть ли у того человека в руке такой ключ, — его держали по-особенному, и он являлся своего рода членским билетом Ассоциации (успех Ассоциации в Сент-Луисе и Новом Орлеане дал возможность открыть с десяток новых отделений во всех окрестных пароходных центрах) и если незнакомец в свою очередь не вынимал такой же ключ и не держал его соответствующим образом — его вопрос вежливо игнорировали. От секретаря Ассоциации каждый член союза получал пачку прямо-таки роскошных бланков — на отличной бумаге, с тщательно разграфленными напечатанными заголовками; заголовки были, примерно, такие:
ПАРОХОД «ВЕЛИКАЯ РЕСПУБЛИКА»
Владелец Джон Смит
Лоцманы: Джон Джонс и Томас Браун
Переходы | Промеры | Знаки | Примечания
Во время рейса эти бланки заполнялись изо дня в день и опускались в ящики на баржах-пристанях. Например, как только оканчивался первый переход за Сент-Луисом, все статьи бланка заполнялись под соответствующими заголовками примерно так:
«Сент-Луис. Девять с половиной (футов). Корму привести на здание суда, нос — на сухой тополь за лесопилкой, пока но пройдете первую мель; дальше держите прямо». И потом, в разделе примечаний: «Обходить вплотную к обломкам затонувшего судна; очень важно: там, где поворот, под водой — новая коряга, проходите выше».
Лоцман, опуская такой бланк в ящик в Каире (записав в него все переходы от самого Сент-Луиса), вынимал и прочитывал множество свежих донесений (со встречных пароходов) о состоянии реки от Каира до Мемфиса, полностью ориентировался в дальнейшем, снова клал их в ящик и возвращался к себе на пароход, настолько вооруженный против всяких случайностей, что мог подвергнуть судно опасности только при совершенно невероятной собственной небрежности.
Представьте себе все преимущества этой замечательной системы на реке в тысячу двести, тысячу триста миль длиной, русло которой ежедневно меняется. Лоцману, вынужденному раньше довольствоваться тем, чтобы видеть мель раз или два в месяц, теперь помогала сотня зорких глаз, наблюдавших за нею, и великое множество умных голов, — все сочлены по Ассоциации подсказывали ему, как обойти трудное место. Вся информация была совершенно свежей, не более чем суточной давности. Если же донесения из последнего ящика оставляли неясности и сомнения относительно какого-нибудь предательского переката, у лоцмана был выход: как только он видел встречный пароход, он давал особый свисток; если на судне были лоцманы Ассоциации, они в свою очередь отвечали условным сигналом; и тогда оба парохода подводили борт к борту, и все неясности исчезали: точные и самые свежие сведения передавались устно и в мельчайших подробностях.
Прибыв в Новый Орлеан или Сент-Луис, лоцман первым делом шел в Ассоциацию и вывешивал в приемной свой последний, самый точный и подробный отчет, — лишь после этого он имел право идти к своей семье. В приемной Ассоциации вечпо толпился народ, обсуждая изменения фарватера, и как только подходил вновь прибывший, все умолкали, ожидая, пока он отчитается, расскаягет самые последние новости и устранит все накопившиеся сомнения. Люди других профессий могут хотя бы временно оторваться от своих занятий и поинтересоваться другими вещами. Не так обстоит дело у лоцмана: он должен всецело посвятить себя своей профессии и ни о чем другом не разговаривать, потому что невелика выгода быть один день во всеоружии знания, а на следующий день все пропустить. Ему нельзя попусту терять ни времени, ни слов, если он хочет быть всегда на высоте.
Но «посторонним» пришлось туго. У них не было ни специального места дли обмена мпениями и информацией, ни бюллетеней на пристанях — ничего, кроме случайных и далеко не достаточных возможностей узнать какие-нибудь новости. И следствием было то, что человеку иногда приходилось вести судно пятьсот миль по реке с информацией семи— или десятидневной давности. При высоком уровне воды еще можно было справиться, но когда наступало обмеление, это становилось просто гибелью.
С неумолимой логикой последовали результаты: «посторонние» стали сажать суда на мель, топить их, вообще влипать во всяческие неприятности, тогда как с членами Ассоциации никаких аварий, как нарочно, не случалось. Поэтому даже судовладельцы и капитаны, которые комплектовали свои суда исключительно «посторонними» и считали себя прежде совершенно от Ассоциации независимыми, разрешая себе утешаться бахвальством и насмешками по ее адресу, — теперь стали чувствовать себя несколько неуютно. И все-таки они продолжали делать вид, будто это их нимало не касается, покуда не наступил роковой день, когда каждому капитану в отдельности формально предписано было немедленно рассчитать «посторонних» и взять на их места членов Ассоциации. Но кто же осмелился так поступить? Увы, это исходило от сил, стоявших за официальной властью и, пожалуй, более мощных, чем сама власть. Это сделали страховые компании!
Но время было «бряцать оружием». Каждому «постороннему» пришлось незамедлительно убраться с вещами на берег. Конечно, все решили, что Ассоциация стакнулась со страховыми компаниями, но это было неверно. Просто страховые компании поняли превосходство системы «бюллетеней», поняли, насколько она обеспечивает безопасность, и решили дело между собой на чисто деловых основаниях.
Теперь лагерь «посторонних» наполнился стоном, плачем и скрежетом зубовным. Но делать было нечего — для них оставался только один выход, и они избрали его. Они приходили попарно и группами, протягивали свои двенадцать долларов и просили принять их в члены Ассоциации. К своему удивлению, они узнавали, что в уставе давно уже появилось несколько новых параграфов. Например, вступительный взнос повышен был до пятидесяти долларов; и нужно было внести, кроме этой суммы, еще десять процентов с жалованья, которое каждый получал со дня основания Ассоциации. Часто взнос доходил до трехсот — четырехсот долларов. Но Ассоциация даже не рассматривала заявления, если сумма не была приложена. И даже тогда достаточно было одного голоса против, чтобы провалить кандидата. Каждый должен был голосовать «за» или «против» лично и при свидетелях, так что проходили недели, прежде чем кандидатура принималась, ввиду того, что многие лоцманы были в рейсе. Однако раскаявшиеся грешники наскребали средства из своих сбережений и один за другим, проходя через длинную, нудную процедуру голосования, вступали в ряды Ассоциации. Наступило время, когда человек десять остались вне ее. Они говорили, что скорее подохнут с голоду, чем подадут заявления. И они оставались долго без работы, потому что никто не решался их нанять.
Через некоторое время Ассоциация постановила, что с такого-то числа оклады будут повышены до пятисот долларов в месяц. Все отделения Ассоциации теперь окрепли, и отделение на Ред-Ривер даже повысило оклад до семисот долларов в месяц. Учтя это, десять «посторонних», хотя и с большой неохотой, сдались и подали заявления. А к этому времени прибавилась еще одна статья устава, по которой надо было платить взносы не только с жалованья, которое они получали со времени основания Ассоциации, но и с жалованья, которое они получали бы до подачи заявления, если бы все время работали, а не сидели — в пику всем — сложа руки. Оказалось, что принять их в члены Ассоциации очень трудно; но в конце концов они все-таки прошли. Самый закоренелый грешник из этой компании оставался вне Ассоциации до тех пор, пока ему не пришлось приложить к своему заявлению шестьсот двадцать пять долларов.
Ассоциация теперь располагала солидным текущим счетом и была очень сильна. «Посторонних» больше не было ни одного. Появилась статья устава, запрещавшая брать «щенков»-учеников в течение пяти лет, после чего должно было быть принято ограниченное количество — и не отдельными лицами, а всей Ассоциацией — на следующих условиях: кандидату должно быть не меньше восемнадцати лет; он должен происходить из хорошей семьи и иметь хорошие рекомендации; он должен сдать экзамен по общеобразовательным предметам и внести тысячу долларов аванса за право стать учеником; он должен находиться в распоряжении Ассоциации, пока многие ее члены (кажется, чуть ли не больше половины) не согласятся подписать его прошение о выдаче ему лоцманского аттестата.
Все ранее принятые ученики теперь были отобраны от своих патронов и поступили в распоряжение Ассоциации. Председатель и секретарь распределяли их по своему усмотрению на тот или другой пароход и переводили с одного судна на другое, согласно выработанным правилам. Если лоцман мог доказать, что он по состоянию здоровья нуждается в помощнике, с ним отправляли такого «щенка».
Рос список вдов и сирот, но росла также и финансовая мощь Ассоциации. Ассоциация пышно провожала своих умерших и хоронила их на свой счет. Когда требовалось, Ассоциация посылала своих людей по всей реке — искать тела братьев, погибших во время аварии; иногда такие поиски обходились в тысячу долларов.
Ассоциация добыла разрешение и занялась страхованием. Она страховала не только жизнь своих членов, но отважилась и на страховку пароходов.
Организация казалась несокрушимой. Это была самая неуязвимая монополии в мире. По закону Соединенных Штатов, ни один человек не мог стать лоцманом без подписи на его прошении двух дипломированных лоцманов, а теперь не существовало вне Ассоциации никого, кто мог бы дать такую подпись. Поэтому прекратился выпуск новых лоцмаиов. Каждый год кто-нибудь умирал, другие выходили из строя по возрасту и по состоянию здоровья, а новых на смену не было. Со временем Ассоциация могла бы повысить оклады до любой суммы по своему усмотрению; и пока она не заходила так далеко, чтобы вынудить правительство изменить систему лицензий, владельцы судов должны были подчиняться, так как выхода не было.
Судовладельцы и капитаны были единственным препятствием на пути Ассоциации к неограниченной власти, но наконец и оно было устранено. Как ни странно, но они сами добровольно это сделали. Когда Лоцманская ассоциация объявила за несколько месяцев вперед, что с первого сентября 1861 года оклады будут повышены до пятисот долларов в месяц, судовладельцы и капитаны сразу подняли фрахт на несколько центов, объяснив приречным фермерам, что это вызвано необходимостью, ввиду предстоящего большого повышения окладов лоцманам. Довод был довольно неубедительным, но фермеры этого не заметили. Им казалось, будто надбавка в пять центов на бушель зерна — вещь, при создавшихся обстоятельствах, вполне разумная, и они совершенно просмотрели тот факт, что с груза в сорок тысяч мешков получится сумма гораздо большая, чем нужно для покрытия новых окладов.
Тогда же капитаны и судовладельцы образовали свой собственный союз, предложили повысить оклад капитана тоже до пятисот долларов в месяц и ходатайствовали о новой надбавке на фрахты. Идея была неожиданная, но то, что удалось раз, могло водь удаться и второй раз. Новая ассоциация постановила (это постановление было принято еще до вступления всех «посторонних» в Лоцманскую ассоциацию), что капитан, нанявший не члена Лоцманской ассоциации, должен его рассчитать и уплатить штраф в пятьсот долларов. Несколько солидных штрафов было уплачено, прежде чем капитанская организация окрепла настолько, что стала пользоваться авторитетом у своих членов; но потом все это прекратилось. Капитаны добивались, чтобы и Лоцманская ассоциация запретила своим членам служить с капитаном — не членом своего союза, но это предложение было отклонено. Лоцманы понимали, что, так или иначе, капитаны и страховые компании все равно будут их поддерживать, и благоразумно отказались связывать себя какими бы то ии было обязательствами.
Как я уже заметил, Лоцманская ассоциация стала крепчайшей монополией чуть ли не из всех существующих; она казалась прямо-таки непоколебимой. И все же дни ее славы были сочтены. Во-первых, новая железная дорога, проходившая через штаты Миссисипи, Теннесси и Кентукки к северным железнодорожным центрам, начала отвлекать пассажирское движение от пароходов; потом пришла война и почти совершенно уничтожила пароходный промысел на несколько лет, оставив большинство лоцмаиов без работы при все растущей дороговизне жизни; потом казначей отделения в Сент-Луисе запустил руку в кассу и скрылся, захватив с собой весь солидный фонд до последнего доллара; и, наконец, железные дороги вторглись повсюду, и по окончании войны пароходам почти нечего было делать, если не считать перевозки грузов. В ту же пору какой-то гениальный человек с Атлантического побережья придумал способ вести двенадцать грузовых барж за кормой паршивенького буксирчика, — и тогда в одно мгновенье ока и Ассоциация и благородное искусство лоцмана стали мертвым прошлым, трогательным воспоминанием.
Глава XVI. ГОНКИ
Обычно пароходы уходили из Нового Орлеана между четырьмя и пятью часами пополудни. Уже с трех часов в топках жгли смолу и сосновые поленья (признак подготовки к отплытию), и можно было на протяжении двух-трех миль любоваться живописным видом высоких, восходящих к небу столбов угольно-черного дыма; эта колоннада поддерживала черную бархатную пелену, словно крышу, нависшую над городом. У каждого парохода, идущего в дальний рейс, на флагштоке развевался его флаг, а иногда и второй — на кормовой мачте. На пространстве в две-три мили помощники командовали и ругались с особой выразительностью; бесконечные вереницы бочек и ящиков скатывались с берега и взлетали по сходням; запоздавшие пассажиры, лавируя, скакали среди этих взбесившихся предметов, надеясь, но не слишком рассчитывая живыми добраться до трапа; женщины с ридикюлями и картонками старались не отставать от своих мужей, нагруженных саквояжами и плачущими младенцами, но это им не удавалось: они совершенно теряли голову в этом вихре, шуме и всеобщем смятении; тележки и багажные фуры грохотали взад и вперед в дикой спешке и сбивались в кучу, то и дело образовывая пробки; тогда в течение секунд десяти их буквально застилала пелена поднявшейся ругани; все до одной лебедки в этом длиннейшем ряду пароходов оглушительно визжали и скрипели, опуская грузы в трюмы, а полуголые, мокрые от пота негры-грузчики, доведенные до восторженного исступления толкотней и грохотом, сводившим всех других с ума, ревели песни вроде «Последний куль! Последний куль!» К этому времени и верхняя и нияшяя палубы были уже до черноты уплотнены пассажирами. «Последние звонки» начинали звонить по всей линии. Суматоха удваивалась. Через две-три секунды звучало окончательное предупреждение: одновременно раздавался грохот китайских гонгов и крик: «Провожающие — на берег! На берег!» — и суматоха учетверялась. Люди мчались на берег, опрокидывая встречных запоздавших пассажиров, в предельном возбуждении стремившихся на пароход. Еще через минуту длинный ряд сходен убирали на палубы — и всегда с очередным опаздывающим, уцепившимся за край зубами, ногтями и чем попало, и с очередным последним провожающим, который совершал отчаянный прыжок на берег через голову последнего пассажира.
Затем несколько пароходов задним ходом выскальзывают в реку, оставляя широкие бреши в сомкнутом строю. Горожане заполняют палубы остающихся судов, чтобы посмотреть на отплытие. Один за другим пароходы выравниваются, собираются с силами и, разворачиваясь, выходят на всех парах, подняв флаг, пуская черные клубы дыма, и со всей командой, кочегарами и матросами (обычно здоровенными неграми) на баке; самый голосистый из них возвышается посредине, взобравшись на кнехты, размахивая шляпой или флагом, — и все ревут мощным хором, в то время как на прощанье палят пушки, а бесчисленные зрители в свою очередь машут шляпами и кричат «ура!» Один за другим выходят вереницей пароходы, и стройная процессия скользит вверх по реке.
Как вдохновенно звучали песни матросов в старые времена, когда два парохода пускались наперегонки, а большая толпа народа смотрела на них, особенно когда дело шло к ночи и на баке играли красные отсветы факелов! Гонки были чудеснейшим развлечением. Публика всегда считала, что гонки — опасная вещь; на самом деле — совсем наоборот: когда вышел закон, определявший предельное давление пара для каждого судна во столько-то фунтов на квадратный дюйм, гонки стали совсем безопасными. Ни один механик не мог ни задремать, ни зазеваться, покуда он всем существом своим участвовал в состязании. Он все время был начеку, проверяя клапаны и следя за машиной. Опасность существовала скорее на медленно ползущих судах, где механики клевали носом и где щепки попадали в клапаны и отрезали воде доступ и котлы.
Во времена расцвета пароходства состязание между двумя особенно быстроходными судами было событием большой важности. День состязания назначался за несколько недель, и с того момента вся долина Миссисипи жила в страшном возбуждении. Разговоры о политике и погоде прекращались: говорили только о предстоящем состязании. Когда подходил срок, оба парохода «разоблачались» и начинали готовиться. Всякий балласт, увеличивавший вес, и все представлявшее собою площадь сопротивления воде и ветру убиралось, — если, конечно, можно было без этих вещей обойтись. Отпорные бревна, а иногда даже и стрелы, с помощью которых они устанавливались, отсылались на берег, — попади пароход на мель, его нечем было бы даже снять. Когда между «Затмением» и «А. Л. Шотвеллом» много лет назад происходило их знаменитое состязание, говорили даже, что с затейливой эмблемы, висевшей между трубами «Затмения», соскребли позолоту и что специально для этого рейса капитан оставил дома замшевые перчатки и обрил голову. Впрочем, в этом я всегда несколько сомневался.
Если знали, что наибольшая скорость у судна бывала при осадке в пять с половиной футов носом и пять — кормой, то тщательнейшим образом грузили именно из этого расчета, и уже после на борт не допускалась даже одна гомеопатическая пилюля. Пассажиров почти не брали — и не только потому, что они увеличивали вес, но и потому, что они никогда не соблюдали порядка. Они вечно бегали от борта к борту, если им хотелось на что-нибудь посмотреть, тогда как опытный, сознательный моряк всегда держится середины парохода и даже пробор на голове делает посредине, пользуясь для этого ватерпасом.
Ни транзитных грузов, ни транзитных пассажиров брать не разрешалось, да и останавливались-то участники состязания только в самых больших городах и на минимальное количество времени. С угольными и дровяными баржами заранее договаривались, и те стояли наготове, чтобы по первому знаку моментально ошвартоваться у парохода. Команда для ускорения работы была укомплектована двойным составом,
Когда наступает назначенный день и все готово, оба парохода отходят от пристани и на мгновение останавливаются, следя за малейшим движением соперника, словно живые сознательные существа. Опускаются флаги, пленный пар с визгом рвется из клапанов, и, омрачая воздух, клубами валит из труб черный дым. Люди, люди повсюду; берега, крыши домов, пароходы, парусники — все битком набито людьми. И знаешь наверняка, что берега широкой Миссисипи на протяжении всех тысячи двухсот миль так же будут усеяны толпами, пришедшими приветствовать состязающихся.
И вот высоко бьют столбы пара из труб обоих пароходов, дне пушки гремит на прощанье, два молодца в красных рубахах, взобравшись на носовые шпили своих судов, машут флажками над командой, собравшейся на баке; голоса двух запевал одиноко парят в воздухе в течение нескольких секунд, и сразу два мощных хора подхватывают песню, духовые оркестры гремят «Да здравствует Колумбия!», крики «ура» не смолкая несутся с берега, — и оба красавца парохода со свистом проносятся мимо, как ветер.
Эти пароходы без остановки проходят путь от Нового Орлеана до Сент-Луиса, если не считать крупных центров, где они задерживаются на одну-две секунды, и коротких стоянок, когда подводят огромные дровяные баржи. Будь вы на борту парохода, вы полюбовались бы, как они, взяв на буксир пару таких барж, мгновенно наводняют их целой оравой людей; и не успеете вы протереть очки и вновь надеть пх, как вас охватывает изумление: куда же девались все дрова?
Два парохода одинаковой быстроходности могут идти, не выпуская друг друга из виду, несколько дней подряд. Они могли бы даже идти бок о бок, будь все лоцманы одинаковы, но в том-то и все дело, что лучший лоцман в состязании всегда выигрывает. Если на одном из пароходов имеется лоцман «маэстро», а его сменный — чуть похуже, всегда можно сказать, кто из них на вахте: надо только следить за тем, опередил ли тот или другой пароход своего соперника, или отстал за эти четыре часа. Самый опытный лоцман может задержать ход судна, если он недостаточно талантлив. Вести корабль — высокое искусство: нельзя, скажем, если хочешь быстро идти против течения, выпускать руль хоть на секунду.
Конечно, пароходы сильно друг от друга отличаются. Я долго служил на судне, которое так ползло, что мы каждый раз забывали, в котором году отправились в рейс. Разумеется, при таких обстоятельствах это бывало довольно редко. Паромы томились в бездействии, и пассажиры их успевали состариться и умереть, ожидая, пока мы пройдем мимо. Это случалось еще реже. Где-то у меня хранились документы, подтверждающие эти факты, только я их по небрежности затерял. Мой «Джон Дж. Роу» — пароход, где я служил, — имел свойство так тащиться, что, когда он наконец затонул в Мадридской излучине, прошло пять лет, прежде чем его владельцы об этом узнали. Мне это всегда казалось странным, но так было сказано в отчете. Он был ужасающе медлителен. Впрочем, мы иногда переживали волнующие моменты, обгоняя острова, плоты и другие быстроходные объекты. Один рейс мы, однако, сделали быстро: мы дошли до Сент— Луиса в шестнадцатидневный срок. Но даже и при этой головокружительной быстроте мы, кажется, трижды сменяли вахту у форта Адаме, на протяжении пяти миль. Река там совершенно прямая, и течение в этом ее отрезке, разумеется, очень быстрое.
В этот же рейс мы прошли расстояние от Нового Орлеана до Большого залива в четыре дня (триста сорок миль); «Затмение» и «Шотвелл» проходили его за сутки. Девять дней мы шли до протоки «Шестьдесят три» (семьсот миль). «Затмение» и «Шотвелл» проходили это расстояние в два дня.
Приблизительно за одно поколение до описываемых времен пароход под названием «Дж. М. Уайт» прошел от Нового Орлеана до Каира в три дня, шесть часов и сорок четыре минуты. «Затмение» в 1853 году прошел этот путь в три дня, три часа и двадцать минут[5].
В 1870 году «Р. Э. Ли» прошел его в три дня и один час. Это считалось самым быстрым рейсом из всех. Но я попробую доказать, что это неверно. И вот почему: расстояние между Новым Орлеаном и Каиром, когда его проходил «Дж. М. Уайт», было около тысячи ста шести миль; следовательно, его средняя скорость была чуть побольше четырнадцати миль в час. Во времена «Затмения» расстояние между обоими портами уменьшилось до тысячи восьмидесяти миль; следовательно, его средняя скорость была на самую малость меньше четырнадцати и трех восьмых мили в час. Во времена рейса «Р. Э. Ли» расстояние уменьшилось уже до тысячи тридцати миль; следовательно, скорость его была около четырнадцати и одной восьмой мили в час, и тем самым «Затмение» показал самое лучшее время.
Список некоторых замечательных переходов
(ИЗ АЛЬМАНАХА КОМАНДОРА РОЛЛИНГПИНА)
Быстрейшие рейсы в западных водах.
От Нового Орлеана до Натчеза — 268 миль
Дни — Часы — Минуты
1814. «Орлеан» прошел путь в 6 — 6 — 40
1814. «Комета» ...... 5 — 10 — 0
1815. «Смелый» ...... 4 — 11 — 20
1817. «Вашингтон» ...... 4 — 0 — 0
1817. «Шелби» ...... 3 — 20 — 0
1819. «Алмаз» ...... 3 — 8 — 0
1828. «Текумсе» ...... 3 — 1 — 20
1834. «Тускарора» ...... 1 — 21 — 0
1838. «Натчез» ...... 1 — 17 — 0
1840. «Эд. Шиппен» ...... 1 — 8 — 0
1842. «Краса Запада» ...... 1 — 1 — 8
1844. «Султанша» ...... 0 — 19 — 45
1851. «Магнолия» ...... 0 — 19 — 50
1853. «А. Л. Шотвелл» ...... 0 — 19 — 49
1853. «Краса Юга» ...... 0 — 20 — 3
1853. «Принцесса» (№ 4) ...... 0 — 20 — 26
1853. «Затмение» ...... 0 — 19 — 47
1855. «Принцесса» (Нов.) ...... 0 — 18 — 53
1855. «Натчез» (Нов.) ...... 0 — 17 — 30
1850. «Принцесса» (Нов.) ...... 0 — 17 — 30
1870. «Натчез» ...... 0 — 17 — 17
1870. «Р. Э. Ли» ...... 0 — 17 — 11
От Нового Орлеана до Каира — 1024 мили
1844. «Дж. М. Уайт»
1852. «Северный олень»
1853. «Затмение»
1853. «А. Л. Шотвелл»
1869. «Декстер»
1870. «Натчез»
1870. «Р. Э. Ли»
От Нового Орлеана до Луисвилла — 1440 миль
1815. «Смелый»
1819. «Алмаз»
1828. «Текумсе»
1834. «Тускарора»
1837. «Генерал Браун»
1837. «Рэндольф»
1840. «Эд. Шиппен»
1842. «Краса Запада»
1843. «Герцог Орлеанский»
1844. «Султанша»
1849. «Бостона»
1851. «Бель Ки»
1852. «Северный олень»
1852. «Затмение»
1853. «А. Л. Шотвелл»
1853. «Затмение»
От Нового Орлеана до Дональдсонвилла — 78 миль
Дни — Часы — Минуты
1852. «А. Л. Шотвелл»
1853. «Затмение»
1854. «Султанша»
1856. «Принцесса»
1860. «Атлантик»
1860. «Генерал Квитмен»
1865. «Руфь»
1870. «Р. Э. Ли»
От Нового Орлеана до Сент-Луиса — 1218 миль
Дни — Часы — Минуты
1844. «Дж. М. Уайт ...... 3 — 23 — 9
1849. «Миссури» ...... 4 — 19 — 0
1869. «Декстор» ...... 4 — 9 — 0
1870. «Натчез» ...... 3 — 21 — 58
1870. «Р. Э. Ли» ...... 3 — 18 — 14
От Луисвилла до Цинциннати — 141 миля
Дни — Часы — Минуты
1819. «Генерал Пойк» ...... 1 — 11 — 10
1819. «Алмаз» ...... 1 — 11 — 20
1822. «Почтовый ...... 1 — 10 — 0
1837. «Мозель» ...... 0 — 12 — 0
1843. «Герцог Орлеанский» ...... 0 — 12 — 0
1843. «Конгресс» ...... 0 — 12 — 20
1846. «Бен Франклин» (№ 6) ...... 0 11 45
1852. «Аллегапи ...... 0 — 10 — 38
1852. «Питсбург» ...... 0 — 10 — 23
1853. «Телеграф» (№3) ...... 0 — 9 — 52
От Луисвилла до Сент-Луиса — 750 миль
Дни — Часы — Минуты
1842. «Конгресс» ...... 2 — 1 — 0
1854. «Иайк ...... 1 — 23 — 0
«Северянин ...... 1 — 22 — 30
«Южанин» ...... 1 — 19 — 0
От Цинциннати до Питсбурга — 490 миль
Дни — Часы — Минуты
1850. «Телеграф» (№2) ...... 1 — 17
1851. «Каштановый Штат» ...... 1 — 16
1852. «Питсбург» ...... 1 — 15
От Сент-Луиса до Олтона — 30 миль
Дни Часы Минуты
1853. «Олтона» ...... 1 — 35
1876. «Золотой орел» ...... 1 — 35
1876. «Боевой орел» ...... 1 — 37
Разные рейсы
В июне 1859 года пакетбот «Город Луизиана», курсировавший между Сент-Луисом и Киокаком, совершил переход от Сент-Луиса до Киокака (214 миль) в 16 часов 20 минут, установив рекордное время.
В 1868 году пароход «Хоукай-Стэйт» Северного пароходства совершил рейс от Сент-JIynca до Сент— Пола (800 миль) в 2 дня и 20 часов. Время не превзойдено.
В 1853 году пароход «Полярная звезда» прошел от Сент-Луиса до Сент-Джозефа на Миссури за 64 часа. В июле 1856 года пароход «Дж. Г. Лукас» (владелец — Энди Вайнленд) проделал тот же рейс в 60 часов 57 минут. Расстояние между этими городами — 600 миль, и при учете чрезвычайных трудностей навигации по неспокойной Миссури достижение «Лукаса» заслуживает особого упоминания.
Рейс «Роберта Э. Ли»
Время, показанное «Р. Э. Ли» от Нового Орлеана до Сент-Луиса в 1870 году в знаменитых его состязаниях с «Натчезом», является наилучшим; и поскольку эти состязания возбудили интерес всей нации, мы даем ниже полное расписание от порта до порта.
Отправление из Нового Орлеана в четверг 30 июня 1870 года в 4 часа 55 минут пополудни. Прибытие:
Дни — Часы — Минуты
Кэрролтон ...... 27 1/3
Гарри Хиллз ...... 1 00 1/2
Ред Черч ...... 1 31
Бонне Каррс ...... 2 38
Колледж-Пойнт ...... 3 50 1/3
Доналдсонвилл ...... 4 59
Плакмин ...... 7 05 1/2
Батон-Руж ...... 8 25
Бай Сара ...... 10 26
Ред-Ривер ...... 12 56
Стэмпс ...... 13 46
Брайэро ...... 15 51 1/2
Хиндерсон ...... 16 29
Натчез ...... 17 11
Колс-Крик ...... 18 53
Уотерпруф ...... 19 21
Родии ...... 20 45
Сснт-Джозеф ...... 21 02
Большой залив ...... 22 00
Хард Таймз ...... 22 18
Полмили ниже Уорентона ...... 1 — 00 — 00
Никсберг ...... 1 — 00 — 38
Милликенз Бонд ...... 1 — 2 — 37
Бсйли ...... 1 — 3 — 48
Лейк-Провидсис ...... 1 — 5 — 47
Гринвилл ...... 1 — 10 — 55
Наполеон ...... 1 — 16 — 22
Уайт-Ривер ...... 1 — 16 — 56
Австралии ...... 1 — 19 — 00
Холима ...... 1 23 25
Полмили ниже Сент-Франсиса ...... 2 — 00 — 00
Мемфис ...... 2 — 6 — 9
Остров 37 ...... 2 — 9 — 00
Остров 20 ...... 2 — 13 — 30
Излучина у Острова 14 ...... 2 — 17 — 23
Нью-Мадрид ...... 2 — 19 — 50
Мель 10 ...... 2 — 20 — 37
Остров 8 ...... 2 — 21 — 25
Верхний мыс излучины Лукаса ...... 3 — 00 — 00
Каир ...... 3 — 1 — 00
Сент-Луис ...... 3 — 18 — 14
«Ли» прибыл в Сент-Луис в 11 часов 25 минут утра 4 июля 1870 года, на 6 часов 36 минут раньше «Натчеза». Команда «Натчеза» утверждает, что они потеряли из-за тумана и починки машин 7 часов 1 минуту. Пароходом «Р. Э. Ли» командовал капитан Джон В. Кэннон. «Натчез» вел заслуженный ветеран южных рейсов — капитан Томас П. Лезерс.
Глава XVII. РЕЧНЫЕ РУКАВА И СТИВЕН
Все эти сухие подробности важны потому, что дают мне возможность рассказать об одной из характернейших особенностей Миссисипи — о том, как она время от времени сокращает себе путь. Бросьте через плечо длинную ленту кожуры с аккуратно очищенного яблока, и она примет форму, сильно напоминающую обычный участок Миссисипи, — я имею в виду те девятьсот или тысячу миль, которые тянутся от Каира в штате Иллинойс на юг, к Новому Орлеану; река там причудливо извивается и лишь на небольших участках, далеко друг от друга отстоящих, течет прямо. Часть ее длиною в двести миль, от Каира к северу до Септ-Луиса, уже далеко не так извилиста благодаря скалистым берегам, подмывать которые воде трудно.
Наносные берега «нижней» реки прорезаны глубокими подковообразными излучинами; они так сильно вдаются в берег, что вы можете сойти с парохода у начала излучины, пересечь ее по суше, пройдя с полмили, и сесть отдохнуть часика на два, пока пароход, проделав весь путь но этой петле со скоростью десять миль в час, снова не заберет вас на борт. Когда вода в реке прибывает, какому-нибудь мошеннику, владельцу плантации, расположенной далеко от реки и поэтому малоценной, нужно только подкараулить удобный случаи и как-нибудь в темную ночь, прорыв небольшую канаву через узкий перешеек, ввести в нее воду. Тогда через ничтожный промежуток времени случится чудо: вся Миссисипи завладеет этим отводом, и плантация окажется на ее берегу, вчетверо поднявшись в цене, зато плантация его соперника, столь ценная прежде, очутится где-то далеко, на большом острове; старое русло вокруг него скоро обмелеет, пароходы пойдут по новому руслу — в десяти милях от плантации, и она вчетверо упадет в цене. На этих узких перешейках во время подъема воды всегда стоит охрана, и если ей случится поймать человека, роющего канаву, — все данные за то, что ему больше никогда не придется заниматься этим делом.
Обращаю ваше внимание на результаты такого прокапывания каналов. Когда-то против Норт-Гудзона, в штате Луизиана, был перешеек всего в полмили, по самому узкому месту. Его можно было пересечь пешком в пятнадцать минут; но если огпбать весь этот мыс на плоту, приходилось плыть тридцать пять миль. В 1722 году река прорвала этот перешеек, покинула свое старое русло и сократила свой путь на тридцать пять миль. Таким же образом она сократила путь на двадцать пять миль и у мыса Блэк-Хок в 1699 году. Ниже пристани Ред-Ривер река, проложив себе новое русло, не то сорок, не то пятьдесят лет тому назад, сократилась на двадцать восемь миль. В наши дни, если идти по реке от самого южного из этих мест до самого северного, проходишь всего семьдесят миль. А сто семьдесят шесть лет тому назад длина этого отрезка реки равнялась ста пятидесяти восьми милям! Это значит, что река на таком незначительном отрезке укоротилась на восемьдесят восемь миль. Когда-то, в давнопрошедшие времена, появились новыа русла: у Виден л ни и штате Луизиана, у острова 92, у острова и у мыса Гейль. Они сократили реку в общем на семьдесят семь миль.
Уже в мое время на Миссисипи новые русла прошли у Ураганного острова, у острова 100, у Наполеона в штате Арканзас, у Ореховой излучины и у излучины Совета. Они сократили реку в общем на шестьдесят семь миль. При мне образовался рукав у Американской излучины, сокративший реку на десять миль, если не больше.
Поэтому длина Миссисипи между Каиром и Новым Орлеаном сто семьдесят шесть лет тому назад была тысяча двести пятнадцать миль. После прорыва русла в 1722 году длина стала тысяча сто восемьдесят миль. Когда образовался рукав у Американской излучины, длина стала тысяча сорок миль. С тех пор этот участок реки укоротился еще на шестьдесят семь миль. Следовательно, сейчас ее длина между Каиром и Новым Орлеаном всего девятьсот семьдесят три мили.
И вот если бы я, пожелав стать этаким маститым ученым, задался целью документально изложить, что именно происходило в отдаленном прошлом, опираясь на то, что происходило сравнительно недавно, или же предсказывать отдаленное будущее, основываясь на событиях недавнего прошлого, — какие были бы у меня возмояшости! У геологии никогда не было таких точных данных для умозаключений. Да и у теории «происхождения видов» тоже. Ледниковые периоды — великая вещь, но все это так туманно, так неопределенно… А тут — посмотрите сами!
За сто семьдесят шесть лет Нижняя Миссисипи укоротилась на двести сорок две мили, то есть в среднем примерно на милю и одну треть в год. Отсюда всякий спокойно рассуждающий человек, если только он не слепой и не совсем идиот, сможет усмотреть, что в древнюю силурийскую эпоху,—а ей в ноябре будущего года минет ровно миллион лет, — Нижняя Миссисипи имела свыше миллиона трехсот тысяч миль в длину и висела над Мексиканским заливом наподобие удочки. Исходя из тех же данных, каждый легко поймет, что через семьсот сорок два года Нижняя Миссисипи будет иметь только одну и три четверти мили в длину, а улицы Каира и Нового Орлеана сольются, и будут эти два города жить да поживать, управляемые одним мэром и выбирая общий городской совет. Все— таки в науке есть что-то захватывающее. Вложишь какое-то пустяковое количество фактов, а берешь колоссальный дивиденд в виде умозаключений. Да еще с процентами.
Когда вода побежит в одну из канав, о которых я говорил выше, людям, живущим по соседству, надо не мешкая переселяться. Вода, как ножом, срезает берега. В момент, когда ширина рукава достигает двенадцати — пятнадцати футов, можно считать бедствие наступившим, потому что никакие силы земные отвратить его уже не смогут. Когда ширина достигнет ста ярдов, берега начинают отваливаться ломтями, по пол-aкpa каждый. Когда течение шло по излучине, его скорость равнялась только пяти милям в час; сейчас, благодаря сокращению расстояния, она невероятно возрастает. Я был на борту первого парохода, пытавшегося пройти против течения по новому руслу у Американской излучины, но мы так и не прошли. Было около полуночи, а ночь была бурная — гром, молнии, ливень. Считалось, что скорость течения в рукаве составляет пятнадцать — двадцать миль в час; наш же пароход мог давать двенадцать — тринадцать миль в час, не больше, даже в тихой воде, — поэтому мы, может быть, делали глупость, пытаясь войти в рукав. Нo мистер Браун, человек честолюбивый, не хотел так просто отказаться от этой попытки. Течение у берега под самым мысом было почти так же стремительно, как и посредине, поэтому мы пролетели вдоль берега, словно курьерский поезд на всех парах, и готовились к попытке «отразить напор», как только встретимся с течением, бурлящим у мыса. Но все наши приготовления были тщетны. Налетев на нас, течение завертело судно волчком, вода залила бак, и пароход так накренился, что трудно было устоять на ногах. В следующий миг нас отбросило вниз по реке, и мы должны были напрячь нее силы, чтобы не врезаться в лес. Попытку эту мы повторяли четыре раза. Я стоял у трапа. Странно было смотреть, как пароход вдруг круто разворачивало кормой вперед, когда, выскользнув из водоворота, он получал в нос мощный удар течения. Удар получался такой гулкий, и судно сотрясалось так, как если бы на полном ходу врезалось в мель. При вспышках молнии видно было, как хижины на плантациях и тучные пласты земли обрушивались в реку. Грохот, который они при этом производили, был неплохим подражанием грому. Раз, когда нас завертело, мы чуть не налетели на дом с освещенным окном. Он находился от нас футах и двадцати и в следующее мгновение снесен был в реку. Стоять на нашем баке не было возможности: вода неслась через палубу водопадом, когда нас разворачивало поперек течения. При четвертой попытке мы врезались в лес двумя милями ниже нового русла; там, разумеется, все было покрыто водой. Через день или два по новому руслу в три четверти мили шириной легко проходили пароходы, сокращая свой путь на десять миль.
Старый «Сокращающий» рукав уменьшил длину реки на двадцать восемь миль. С ним было связаио одно предание. Рассказывали, что как-то ночью по широкой излучине реки обычным путем шел пароход, причем лоцманы не знали, что река проложила новый рукав. Ночь была жуткая, отвратительная; все очертания были размыты и искажены. Старая излучина обмелела; судну приходилось остерегаться предательских мелей; и вдруг оно наскочило на одну из них. Растерявшиеся лоцманы начали ругаться, и у одного из них вырвалось совершенно праздное пожелание: «вовек не сойти с этого места». Как всегда в таких случаях, именно эта молитва и была услышана в ущерб остальным. До сего дня этот призрачный пароход шныряет по старому руслу, ища выхода. И не один солидный вахтенный клялся мне, что в дождливые мрачные ночи он, проходя мимо острова, со страхом вглядывался в старое русло и видел слабый отсвет огней призрачного корабля, пробивающегося там сквозь туман, и слышал глухое покашливание предохранительных клапанов и заунывные крики лотовых.
Так как у меня больше нет фактических данных, я прошу разрешения заключить эту главу еще несколькими воспоминаниями о Стивене.
У большинства капитанов и лоцманов были его расписки — на сумму от двухсот пятидесяти долларов и выше. Стивен по ним не расплачивался, но аккуратно возобновлял их каждые двенадцать месяцев.
Настало, однако, время, когда у старых кредиторов больше уже нельзя было занимать. Пришлось подкарауливать новых людей, которые его еще не знали. И первой его жертвой стал добродушный, доверчивый Ятс (имя вымышленное, но и настоящее имя, как и это, начиналось с «Я»). Юный Ятс сдал испытание на лоцмана, вступпл в должность, и когда он в конце месяца зашел в контору и получил там свои двести пятьдесят долларов хрустящими кредитками, Стивен был тут как тут. Заработал его медоточивый язык, и в самом непродолжительном времени двести пятьдесят долларов Ятса перешли в его карман. Скоро это стало известно в лоцманской штаб-квартире; восторгу и остротам старых кредиторов конца не было. Но наивный Ятс отнюдь не подозревал, что обещание Стивена вернуть долг срочно, в конце недели, было простой болтовней. Ятс зашел за деньгами в назначенный срок. Стивен умаслил его, и он согласился подождать еще неделю. Опять зашел, как уговорились, и снова ушел обласканный до последней степени, но сильно огорченный новой отсрочкой. Так оно и пошло. Неделями Ятс безрезультатно гонялся за Стивеном и наконец бросил это дело. Тогда Стнвен начал преследовать Ятса. Где бы Ятс ни появился, там был неизбежный Стивен. И мало того, что он там оказывался: он прямо таял от любвеобилия и изливался в бесчисленных извинениях по поводу того, что не в состоянии расплатиться. Кончилось дело тем, что бедный Ятс, издали завидев Стивена, поворачивался и убегал, увлекая за собой своих спутников, если был в компании. Но это было бесполезно: его должник нагонял его и припирал к стеике. Задыхаясь, весь раскрасневшись, Стивен подбегал с протянутыми руками и горящим взором, вме— тннался в разговор, в пылком рукопожатии выворачивал руки Ятса из суставов и начинал:
— Ох, и бежал же я! Я видел, что вы меня не заметили, вот и развел нары, — боялся упустить вас. Ну, вот и вы; стойте, стойте так, дайте взглянуть на вас. Все то же славное, благородное лицо! (И обращаясь к приятелям Ятса.) Вы только поглядите на пего, только поглядите! Ну разве не удовольствие на него смотреть! Водь правда? Чем он не картинка? Многие считают его просто картинкой; а по мне, он — панорама. Именно — целая панорама! Да, вот я и вспомнил; как жаль, что я не встретил вас час назад! Двадцать четыре часа я берег для вас эти двести пятьдесят долларов; искал вас везде; ждал в плантаторском клубе вчера с шести часов вечера до двух часов ночи, не спал, не ел. Жена спрашивает: «Где ты был всю ночь?» А я говорю: «Мне этот долг покоя не дает». «Никогда, — говорит она,—я не видала, чтобы человек так близко принимал к сердцу долг, как ты». Я говорю: «Такая уж у меня натура; как ее переделаешь?» Она говорит: «Ну, ляг, отдохни немного». А я говорю: «Нет, не буду отдыхать, пока этот бедный благородный юноша не получнт своп деньги обратно». Всю ночь просидел, с утра вылетел из дому, и первый же человек, которого я встретил, сказал мне, что вы поступили на «Великий Могол» и ушли в Новый Орлеан. Ну, сэр, мне даже пришлось прислониться к стенке. Я заплакал. Ей-богу, не мог с собой совладать! А хозяин дома вышел с половой тряпкой, вытер стену и сказал, что ему не нравится, когда его дом обливают слезами; и мне показалось, что весь свет против меня и что жить стало больше незачем. И вот, час назад, когда я так шел и мучился, — никто не представляет себе, как я мучился, — я встретил Джима Уильсона и заплатил ему двести пятьдесят долларов по векселю; и подумать только: вот вы тут, а при мне — ни цента! Но уж завтра — и это так же верно, как то, что я стою здесь, на этом камне (вот я нацарапал знак на нем, чтобы запомнить),—я займу где— нибудь деньги и ровно в двенадцать часов отдам их вам! Станьте-ка там, дайте еще разок на вас посмотреть.
И так далее. Жизнь стала в тягость бедному Ятсу. Он не мог скрыться от своего должника и не видеть его ужасных страданий из-за невозможности расплатиться. Он боялся выйти на улицу из страха наткнуться на Стивена, подкарауливающего за углом.
Бильярдная Богарта была излюбленным местом отдыха лоцманов. Они заходили туда не только играть, но и обменяться новостями о роке. Однажды утром Ятс был там, Стивен — тоже, но старался не попадаться тому на глаза. Когда постепенно собрались все лоцманы, бывшие в городе, Стивен внезапно появился и бросился к Ятсу, как к вновь обретенному брату:
— Ну как же я рад вас видеть! Клянусь всеми святыми! Глаза на вас не нарадуются! Джентльмены! Всем вам я должен в общей сложности, наверно, около сорока тысяч долларов. Я желаю их уплатить; я намерен уплатить все до последнего цента. Вы все знаете, — я могу и не повторять, — как я страдаю оттого, что так долго остаюсь должником таких терпеливых и великодушных друзей, но самые острые угрызения совести, — самые, я бы сказал, наиострейшие, — я испытываю из-за моего долга вот этому благородному юноше; я явился сегодня сюда, чтобы заявить, что я нашел способ заплатить все мои долги. И особенно мне хотелось, чтобы он сам присутствовал здесь, когда я об этом заявлю. Да, мой верный друг, мой благодетель, я нашел способ! Я нашел верный способ заплатить все мои долги, и вы получите ваши деньги!
Надежда мелькнула в глазах Ятса, а Стивен, сияя благодушием, положил руку на голову Ятса и прибавил:
— Я буду платить долги в алфавитном порядке!
Затем он повернулся и исчез. Вся суть «способа»
Стивена только минуты через две дошла до растерянной, недоумевающей толпы кредиторов, и Ятс со вздохом прошептал: »
— Да, тем, кто на букву Я, нельзя сказать, чтобы повезло. В этом мире вряд ли успеет он пойти дальше буквы В, да и на том свете пройдет, я полагаю, изрядный кусок вечности, а про меня и там все еще будут говорить: «Это тот бедный ограбленный лоцман, которым в незапамятные времена прибыл сюда из Сент-Луиса».
Глава XVIII. Я БЕРУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ
В течение двух или двух с половиной лет моего ученичества я успел послужить под начальством многих лоцманов и повидал много разных людей и разных пароходов. Мистеру Биксби не всегда было удобно держать меня при себе, и в этих случаях он посылал меня с кем-нибудь другим. До нынешнего дня мне помогает то, чему я тогда выучился, ибо в этой недолгой, но суровой школе я познакомился лично и очень близко чуть ли не со всеми разновидностями человеческих характеров, встречающихся в художественной, биографической или исторической литературе. Я ежедневно убеждаюсь, что на обычной береговой службе потребовалось бы по меньшей мере сорок лет для того, чтобы вооружить человека такого рода познаниями. Когда я говорю, что мне все еще помогает накопленный опыт, я вовсе не хочу сказать, что сделался знатоком моих ближних, — нет, этого не случилось, потому что знатоками людей не становятся, а родятся. Богат и разнообразен мой ранний опыт, по больше всего я ценю в нем тот вкус, который он впоследствии придавал моему чтению. Когда я встречаю в художественной или биографической литературе четко очерченное действующее лицо, я обычно отношусь к нему с самим живым интересом, так как был знаком с ним раньше — встречал его на реке.
Из теней далекого прошлого чаще всего встает передо мной фигура Брауна с парохода «Пенсильвания»,— это тот лоцман, упомянутый мною в одной из предыдущих глав, у которого была такая хорошая и назойливая память. Он был пожилой, долговязый, костлявый, гладковыбритый, невежественный, скупой, человек с лошадиным лицом, злой, придирчивый, ворчливый, ехидный, все преувеличивающий тиран. Очень скоро я привык идти на вахту со страхом в душе. Как бы весело я ни проводил время внизу со сменной вахтой, в каком бы хорошем настроении я ни шел наверх — свинцовая тяжесть ложилась мне на сердце, как только я подходил к лоцманской рубке.
До сих пор помню, как я в первый раз предстал перед этим человеком. Пароход отошел от пристани Сент-Луиса и «разворачивался»; я поднялся в рубку в прекраснейшем настроении, очень гордясь тем, что полуофициально принадлежу к семье властителей столь быстроходного и знаменитого парохода. Браун стоял у штурвала. Я остановился посередине рубки, готовясь отвесить поклон, но Браун и не оглянулся. Мне показалось, что он бросил на меня беглый взгляд уголком глаза, по так как этот взгляд не повторился, я решил, что ошибся. В этот момент он пробирался мимо опасных мест у лесных складов, поэтому мешать ему не полагалось; я тихонько подошел к высокой скамье и сел.
Молчание длилось минут десять; потом мой новый начальник обернулся ко мне и с нарочито подчеркнутым вниманием оглядывал меня с ног до головы не меньше четверти часа, — так мне по крайней мере показалось. После этого он снова отвернулся, и я несколько секунд не видел его лица; затем, снова обернувшись «о мне, он приветствовал меня вопросом:
— Ты — щенок Гораса Биксби?
— Да, сэр.
Последовала еще одна пауза и еще один осмотр. Потом он спросил:
— Как зовут?
Я сказал. Он повторил мое имя. Но это, очевидно, было единственное, что ему когда-либо довелось забыть, потому что, хотя я с ним проработал несколько месяцев, он никогда не окликал меня иначе, как: «Эй, ты!» — после чего следовало приказание,
— Где родился?
— Во Флориде, в штате Миссури.
Молчание. Потом:
— И сидел бы там!
Посредством десятка достаточно прямых вопросов он вытянул из меня всю мою семейную историю.
На первом повороте стали делать промеры. Это прервало допрос. Когда лотовых отослали, он продолжал:
— Давно ли ты на реке?
Я сказал. После паузы:
— Где достал эти башмаки?
Я сообщил ему и это.
— Подыми ногу.
Я повиновался. Он отступил на несколько шагов, тщательно, с презрением осмотрел мой башмак, задумчиво почесывая затылок и для облегчения этой операции надвинув свою высокую, смахивающую на сахарную голову шляпу на самый лоб, потом проворчал: «Да-а, провалиться мне на этом месте!»— и вернулся к штурвалу.
Почему ему по этому случаю надо было провалиться, доныне остается для меня тайной. Прошло, вероятно, с четверть часа в нудном, тоскливом молчании, прежде чем это длинное лошадиное лицо вновь повернулось ко мне, — но какая перемена! Оно было огненно-красное, и каждый мускул его дергался. Он взвизгнул:
— Эй, ты! Ты, что же, целый день тут собираешься торчать?
От неожиданности я вылетел на середину рубки, словно подброшенный электрическим током. А когда вновь обрел дар речи, сказал извиняющимся голосом:
— Мне не было дано никаких распоряжений, сор!
— Никаких распоряжений?! Ах, скажите, какая важная птица! Нам нужны, оказывается, распоряжения! Наш папаша был джентльмен, имел рабов, мы в школе учились! Да-с, мы тоже джентльмены, нам нужны распоряжения! Распоряжения, да? Тебе распоряжения нужны? Лопни моя шкура, я тебя научу задаваться и важничать тут со своими «распоряжениями»! Убирайся от штурвала!
Оказывается, я, незаметно для самого себя, подошел к штурвалу.
Я отошел шага на два и стоял как во сне, совершенно оглушенный этим бешеным нападением.
— Ну, чего стал? Снеси вон тот кувшин для льда буфетчику, поживей двигайся, не возись там целые сутки!
Не успел я вернуться в рубку, как он оказал:
— Эй, ты! Что ты там делал столько времени?
— Я не мог найти буфетчика, пришлось спускаться в кладовую.
— Какого черта ты еще выдумываешь! Подбрось угля в печку!
Я занялся печкой. Он следил за мной, как кошка. И вдруг заорал:
— Положи совок! Проклятый болван! Мне еще такой не попадался: топлива подложить — и на то мозгов не хватает!
Всю вахту продолжались такие штуки. Да и другие вахты в течение ряда месяцев мало чем отличались от этой. Я уже говорил, что привык идти на вахту со страхом. Как только я оказывался в его присутствии, будь это хоть темной ночью, я чувствовал на себе эти желтые глаза и знал, что обладатель их лишь выискивает предлог, чтобы облить меня ядом. Для начала он говорил:
— Эй, ты! Возьми штурвал!
А через две минуты:
— Куда тебя несет? Так держать! Тише! — И через минуту: — Слушай! Ты, что же, весь день будешь держать так? Давай ходу, ходу давай — веди, веди его!
Потом он вскакивал со скамьи, выхватывал у меня из рук штурвал и вел пароход сам, непрерывно и злобно шпыняя меня.
Джордж Ритчи был «щенком» второго лоцмана. Ему жилось сейчас неплохо, потому что его хозяин, Джордж Илер, был столь же добродушен, сколь Браун был зол. Ритчи работал рулевым у Брауна в прошлую навигацию, поэтому хорошо знал, как самому поразвлечься и меня заодно помучить. Когда я на минуту брал на вахте Илера штурвал, Ритчи разваливался на скамье и, разыгрывая Брауна, беспрестанно восклицал: «Держи его, держи! Проклятущая каракатица!», «Эй, ты, куда тебя несет? Хочешь иа корягу налететь?», «Жми до отказа! Ты что, оглох?», «Так держать!», «Ага, налетел. Так я и думал. Я же тебе говорил — не лезь к этой моли! Прочь от штурвала!»
Так что мне всегда приходилось тяжело, чья бы вахта ни была; иногда мне казалось, что добродушное поддразниванье Ритчи мне почти так же неприятно, как и не на шутку злобная грызня Брауна.
Часто хотелось мне убить Брауна, но это не годилось. «Щенку» полагалось сносить от своего патрона решительно все, любые замечания, любую критику. Мы все думали, что есть закон, жестоко карающий каждого, кто ударит лоцмана или даже пригрозит ему при исполнении им служебных обязанностей. Но, конечно, я мог воображать, что убиваю Брауна, — закона против этого не было; и именно это я проделывал, когда укладывался на ночь. Вместо того чтобы повторять в уме пройденный путь, как того требовала моя должность, я забывал дело ради наслаждения убивать Брауна. Я убивал его каждую ночь в течение многих месяцев, и не устарелыми, привычными и элементарными способами, а новыми и высокохудожественными — такими, которые просто поражали дерзостью замысла и жутким характером всей обстановки, в которой я осуществлял его.
Браун постоянно искал предлога, чтобы уличить меня в неисправности; а если такого предлога но было — он его выдумывал. Он ругал меня и за то, что я срезаю берег, и за то, что не срезаю его; за то, что обхожу перекат, и за то, что его не обхожу; за то, что замодляю ход без приказания, и за то, что не замедляю его без приказания; за то, что прпбавпл ход без распоряжения, и за то, что ждал распоряжения. Словом, у него было незыблемое правило: все, что бы ты ни делал, находить скверным; и другое — не менее незыблемое: любое замечание швырять тебе в самой оскорбительной форме.
Однажды мы подходили к Нью-Мадриду, идя вниз по течению с полным грузом. Браун, стоя у штурвала, вел судно. Я стоял с другой стороны, ожидая, когда нужно будет помочь. Время от времени он украдкой оглядывал меня. Я хорошо знал, что это значит: он придумывал для меня ловушку. Я недоумевал: в какую форму он облечет ее? Наконец он отошел от штурвала и своим обычным язвительным тоном произнес:
— Эй, ты! Посмотрим, хватит ли у тебя смекалки на этот поворот!
Тут уж его затее наверняка ничто не могло воспрепятствовать: он никогда раньше не позволял мне делать повороты, — поэтому, как бы я его ни проделал, он все равно легко мог придраться к той или иной ошибке. Он отошел и жадно на меня уставился. И в результате получилось то, чего и следовало ожидать: через четверть минуты я потерял голову и сам не понимал, что я делаю. Я начал слишком рано заворачивать, но, увидев зеленоватую вспышку радости в зрачках Брауна, исправил ошибку. Затем снова начал поворачивать слишком высоко, но тоже вовремя поправился. Я делал еще много ошибочных маневров — и все же мне удавалось спастись; наконец я до того растерялся и запутался, что сделал из всех возможных ошибок самую скверную — я спустился слишком низко, все еще не начав поворота. Наступила минута торжества Брауна.
Он весь побагровел от бешенства; подскочив, он отшвырнул меня через всю рубку и, повернув штурвал, начал крыть меня бранью, не прекращавшейся, пока ему не потребовалось перевести дух. В своем монологе он награждал меня всеми наиоскорбительнейшими эпитетами, какие только мог придумать, и мне даже раза два показалось, что он сейчас начнет богохульствовать, — но этого он никогда не делал и даже тут удержался. «Черт подери мою душу!» —это был для него самый близкий подступ к прелестям богохульства, ибо он был воспитан в спасительном страхе перед грядущим адом с его пламенем и серой.
Это были неприятные минуты, тем более что на верхней палубе собралась многочисленная публика. В этот вечер, когда я лег спать, я убил Брауна семнадцатью различными способами.— и притом совершенно новыми.
Глава XIX. МЫ С БРАУНОМ ОБМЕНИВАЕМСЯ ЛЮБЕЗНОСТЯМИ
Спустя два рейса я попал в серьезную переделку. Браун стоял у руля, я «помогал». Мой младший брат вышел на верхнюю палубу и крикнул, чтобы Браун остановился у какой-то пристани, пройдя около мили вниз по течению. Браун не показал виду, что слышал. Но это была его обычная манера: он никогда не снисходил до того, чтобы замечать подчиненных. Было очень ветрено, а Браун был глуховат (хотя всегда отрицал это), и я отнюдь не был уверен, что он расслышал приказ. Будь у меня две головы, я бы заговорил, но, обладая лишь одной, я счел за благо поберечь ее и потому промолчал.
Разумеется, мы прошли мимо плантации. Капитан Клайнфельтер вышел на палубу и сказал:
— Назад, сэр, назад! Разве Генри не сказал вам, что здесь надо остановиться?
— Нет, сэр.
— Да ведь я специально послал его к вам наверх.
— Он поднялся наверх, дурак распроэтакий, и это единственное, что он сделал, а сказать — ничего не сказал!
— А вы слышали? — спросил меня капитан.
Конечно, у меня не было желания впутываться в дело, но не было и возможности избежать этого. Я ответил:
— Да, сэр.
Прежде чем Браун открыл рот, я уже знал, что он скажет. Так и оказалось:
— Заткнись! — крикнул он. — Ничего ты не слышал!
Я замолчал, чтобы не нарушать инструкции. Через час Генри вошел в рубку, ни о чем не подозревая. Это был совершенно безобидный мальчик, и я пожалел, что он пришел, так как знал, что Браун будет беспощаден. Браун сразу налетел на него:
— Эй, ты! Почему ты мне не сказал, что было велено пристать у этой плантации?
— Я вам сказал, мистер Браун.
— Лжешь!
Тогда я вмешался.
— Вы сами лжете, он сказал вам.
Браун уставился на меня с непритворным удивлением и на минуту совершенно лишился речи, а потом заорал — на этот раз на меня:
— Я с тобой через полминуты разделаюсь! А ты, — обернулся он к Генри, — убирайся из рубки, живо!
Это был приказ лоцмана, он должен был быть выполнен. Генри подался к выходу, но не успел он оказаться за дверью и занести ногу на ступеньку, как мистер Браун в приступе внезапного бешенства схватил десятифунтовый кусок угля и кинулся вдогонку; я одним прыжком стал между ними с тяжелой табуреткой в руках и отвесил Брауну полновесный, добросовестный удар, от которого тот свалился.
Я совершил тягчайшее преступление — я поднял руку иа лоцмана при исполнении им служебных обязанностей! Я сообразил, что меня все равно ждет тюрьма, что хуже не станет, если я сведу свои давнишние счеты с этим человеком, раз уж подвернулся случай. Поэтому я взялся за него и довольно долго колотил его кулаками — не знаю, как именно долго, потому что от удовольствия, которое мне эта процедура доставляла, время могло для меня и замедлиться; наконец он все же высвободился, вскочил и бросился к штурвалу: вполне естественная предосторожность, так как все это время пароход несся вниз по реке со скоростью пятнадцать миль в час — и никого у штурвала!
Правда, в это время вода стояла высоко, и Орлиная излучина имела в ширину около двух миль, да и была также достаточно длинна и глубока; пароход шел прямо посередине реки и находился в полной безопасности. Но ведь это было просто счастливым случаем, — он с таким же успехом мог врезаться в лес. Заметив с первого изгляда, что «Пенсильвания» в безопасности, Браун схватил большую подзорную трубу вместо боевой палицы и с пылом настоящего команча приказал мне убираться из лоцманской рубки. Но теперь я его уже не боялся: вместо того чтобы уйти, я остался и начал издеваться над его неправильной речью: я переводил его яростные проклятия на хороший английский язык и обращал его внимание на преимущества последнего перед ублюдочным жаргоном пенсильванских угольных районов, откуда Браун был родом. Конечно, если бы ему пришлось просто переругиваться с кем-нибудь, он выполнил бы эту задачу великолепно, но к такого рода стычкам он не был подготовлен; он отложил подзорную трубу и взялся за штурвал, бормоча что-то и покачивая головой, а я отступил к скамье. Шум привлек всех на верхнюю палубу, и я затрепетал, заметив в толпе старого капитана. «Ну, теперь я пропал!»—сказал я себе, ибо, несмотря на отеческое отношение к команде и на терпимость в отношении мелких проступков, он мог быть очень строг, если провинившийся того заслуживал.
Я пытался представить себе, что он сделает со «щенком», совершившим такое страшное преступление на пароходе, полностью нагруженном ценным фрахтом и битком набитом пассажирами. Наша вахта кончалась. Я решил, что пойду и спрячусь где-нибудь, пока не представится случай удрать на берег. Я выскользнул из рубки, спустился по трапу и уже подбирался к камбузу, где собирался спрятаться, как вдруг лицом к лицу столкнулся с капитаном! Я опустил голову, а он молча стоял передо мной и лишь спустя несколько секунд выразительно произнес:
— Ступай за мной!
Я пошел за ним следом; он провел меня в свою каюту на носу парохода.
Мы остались наедине. Он закрыл входную дверь, потом медленно прошел к другой двери, токе закрыл ее и сел. Я остался стоять. Несколько мгновений он смотрел на меня и затем проговорил:
— Итак, ты дрался с мистером Брауном?
Я послушно подтвердил:
— Да, сэр.
— Ты понимаешь, что это дело очень серьезное?
— Да, сэр.
— Ты отдаешь себе отчет, что пароход шел вниз по реке целых пять минут никем не управляемый?
— Да, сэр.
— Ты первый ударил его?
— Да, сэр.
— Чем?
— Табуреткой, сэр.
— Тяжелой?
— Средней тяжести, сэр.
— И ты свалил его?
— Он… он упал, сэр.
— И ты на этом не остановился? Ты еще что-нибудь сделал?
— Да, сэр.
— Что ты сделал?
— Поколотил его, сэр.
— Поколотил?
— Да, сэр.
— И здорово ты его поколотил? Я хочу сказать — ты его серьезно избил?
— Да, пожалуй, сэр, что и серьезно.
— Черт! Здорово! Слушай, ты никому не говори, что я так сказал. Ты совершил страшное преступление, и больше не смей позволять себе такие выходки у меня на борту. Но подстереги его на берегу! Отколоти как следует, слышишь? Расходы беру на себя. Ну, ступай — и помни: никому ни слова. Убирайся, — ты повинен в тяжелом преступлении, щенок ты этакий!
Я выскочил с чувством счастливого освобождения от неминуемой опасности и слышал, как он хохотал, хлопая себя по жирным ляжкам, когда я закрыл за собою дверь.
Когда Браун сменился с вахты, он пошел прямо к капитану, разговаривавшему с какими-то пассажирами на палубе, потребовал, чтобы меня высадили на берег в Новом Орлеане, и в заключение добавил:
— Я не подойду к штурвалу, пока этот «щенок» останется тут.
— Но ведь он может не выходить на вашу вахту, мистер Браун, — заметил капитан.
— Я не останусь с ним на одном пароходе… Один из нас должен уйти на берег.
— Отлично!—сказал капитан. — Значит, вы и уходите! — и продолжал разговор с пассажирами.
За краткий срок остального пути я понял, как должен чувствовать себя освобожденный раб: ведь я сам был освобожденным рабом. Когда мы стояли у пристаней, я слушал, как Джордж Илер играл на флейте или читал вслух из двух своих «библий» — то есть Гольдсмита и Шекспира. Иногда я играл с ним в шахматы, и, может быть, когда-нибудь и выиграл бы, но он вечно брал свой последний ход назад и разыгрывал по-иному.
Глава XX. КАТАСТРОФА
Три дня мы простояли в Новом Орлеане, но капитану не удалось найти другого лоцмана; тогда он предложил мне стоять дневную вахту, а ночную вахту передавать Джорджу Илеру. Но я боялся: никогда еще я не стоял на вахте самостоятельно и думал, что непременно попаду в беду у начала какой-нибудь протоки или посажу пароход в узком месте на мель. Браун остался на своем месте, но со мной он плавать не желал. Тогда капитан отослал меня к капитану парохода «Э. Т. Лейси» на рейс до Сент-Луиса и сказал, что там он найдет нового лоцмана и тогда я снова могу занять место рулевого у него на корабле. «Лейси» должен был выйти дня через два после «Пенсильвании».
Накануне выхода «Пенсильвании» мы с Генри сидели и болтали до полуночи на тюках грузов у спуска к пристани. Предметом нашей беседы была тема, которой, кажется, мы раньше не затрагивали, а именно — кораблекрушение. Оно уже нас ожидало, хотя мы и мало подозревали о нем; вода, которая должна была стать паром и явиться причиной несчастья, во время нашего разговора еще плескалась у какого-то мыса в полутора тысячах миль от нас вверх по реке, — но катастрофе суждено было совершиться в свой час и в своем месте. Мы сомневались чтобы человек, не облеченный властью, мог принести какую-нибудь пользу при несчастных случаях из-за возникающей паники, но считали, что все же можно быть хоть в чем-нибудь полезным; поэтому мы решили, что, если при нас случится когда-нибудь несчастье, мы по крайней мере не бросим корабль и постараемся оказать хоть те небольшие услуги, которые при случае будут в наших силах. Генри вспомнил об этом потом, когда разразилась катастрофа, и поступил так, как мы говорили… «Лейси» ушел вверх по реке через два дня после «Пенсильвании». Мы подошли к Гринвиллу в штате Миссисипи через несколько дней, и кто-то нам крикнул:
— «Пенсильвания» взорвалась у Корабельного острова, полтораста человек погибло!
В Наполеоне, штат Арканзас, в этот же вечер мы получили экстренный выпуск одной мемфисской газеты, в котором были некоторые подробности. Там упоминалось имя моего брата — с указанием, что он не пострадал.
Еще дальше мы получили другой экстренный выпуск, Мой брат был снова упомянут, но теперь уже в списке смертельно раненных. Мы не могли узнать все подробности катастрофы, пока не попали в Мемфис. Вот эта печальная история.
Было шесть часов утра жаркого летного утра. «Пенсильвания» шла севернее Корабельного острова, миль за шестьдесят до Мемфиса, на малом ходу, таща за собой баржу с дровами, которые быстро разгружали. Джордж Илер был в рубке — кажется, один; второй механик и сменный кочегар стояли на вахте в машинном отделении; второй помощник — на палубе; все служащие — Джордж Блэк, мистер Вуд и мой брат — крепко спали; спал и Браун, и старший механик, плотник, старший помощник и один из кочегаров; капитан Клайнфельтер сидел в кресле парикмахера, и тот собирался его брить; на пароходе находилось довольно много каютных пассажиров и триста — четыреста палубных пассажиров, как было сообщено в свое время, но очень немногие бодрствовали. Когда с баржи разгрузили почти все дрова, Илер дал в машину звонок идти полным ходом, и в следующую же минуту четыре котла из восьми взорвались с громовым треском и вся носовая часть судна взлетела на воздух. Большая часть всей этой массы, вместе с трубами, обрушилась снова на корабль грудой исковерканных, бесформенных обломков, и через несколько минут вспыхнул пожар.
Многих отшвырнуло на большое расстояние, и они попадали в реку. Среди них был мистер Вуд, мой брат и плотник. Плотник все еще держался за свой тюфяк, когда упал в воду, в семидесяти пяти футах от парохода. О лоцмане Брауне и о старшем конторщике — Джордже Блэке — так никогда больше и не слыхали: после взрыва их никто не видел. Кресло с сидящим в нем совершенно невредимым капитаном Клайнфельтером осталось висеть прямо над бездной… все впереди — пол, стены — все исчезло, а обалдевший парикмахер, который тоже остался невредим, стоял, выставив носок башмака над бездной, и машинально взбивал мыльную пену, онемев от страха.
Когда Джордж Илер увидел, как перед ним взлетели трубы, он понял, в чем дело: он закрыл лицо полами пиджака и крепко прижал их руками, чтобы пар не попал в рот или в нос. Ему на это вполне хватило времени, пока он летел в небеса и обратно. Он очутился на верху одного из невзорвавшнхся котлов, на сорок футов ниже бывшей рубки, а за ним обрушился его штурвал и целый поток всяких предметов, окутанных клубами раскаленного пара. Все, кто вдохнул этот пар, поумирали, ни один не спасся. Но Илер пара не вдохнул. Он выбрался на свежий воздух как только мог поскорее, а когда пар рассеялся, он вернулся, снова влез на котлы и терпеливо подобрал одну за другой все свои шахматные фигуры и разрозненные части своей флейты.
К этому времени пожар усилился. Вопли и стоны наполняли воздух. Многие были обожжены, многие искалечены; взрывом вогнало железный лом в тело одного человека, — кажется, говорили, что это был священник. Он умер не сразу, и его страдания были ужасны. Молодой француз, пятнадцатилетний воспитанник морского училища, сын французского адмирала, был страшно обожжен, но мужественно переносил свои страдания. Оба помощника были сильно обожжены, но, несмотря на это, не покидали поста. Они подвели дровяную баржу к корме и оба, вместе с капитаном, отгоняли обезумевшую толпу испуганных пассажиров, пока не перенесли туда раненых и не разместили их вдали от опасности.
Когда мистер Вуд и Генри упали в воду, они поплыли к берегу, который был всего в нескольких сотнях ярдов от них; но тут Генри крикнул, что, кажется., он не ранен (какая непостижимая ошибка!) —и поэтому поплывет обратно на пароход — помогать в спасении раненых. Они расстались, и Генри вернулся.
К этому времени огонь неистово разбушевался, и несколько человек, придавленных обломками, я;алобно молили о помощи. Все попытки потушить пожар были бесплодными; тогда ведра были отброшены и команда схватила топоры, чтобы освободить людей из-под обломков. Среди пих был кочегар; он сказал, что не ранен, но не может высвободиться, и когда он увидел, что огонь сейчас прогонит его спасителей, то стал умолять, чтобы кто-нибудь пристрелил его и спас этим от более ужасной смерти. Огонь действительно отогнал топорников, и они должны были беспомощно выслушивать мольбы этого несчастного, пока огонь не прикончил его муки.
Все, кто мог, перешли на баржу, чтобы спастись от огня; баржу пустили по течению, и она вместе с горящим пароходом пошла вниз, к Корабельному острову. Баржу пригнали к берегу, у начала острова, и там, незащищенные от палящего солнца, полуголые, без пищи и питья, без помощи раненым, люди оставались до вечера. Наконец подошел пароход и забрал несчастных в Мемфис, где их встретила самая участливая забота. К этоум времени Генри был без сознания. Доктора осмотрели его раны, увидели, что они смертельны, и, конечно, сосредотили главное внимание на тех, кого еще можно было спасти.
Сорок раненых были положены на тюфяки на полу большого общественного здания; среди них был и Генри. Каждый день туда приходили мемфисские дамы с цветами, фруктами, со всякими деликатесами и лакомствами и оставались там ухаживать за ранеными. Все врачи и студенты-медики несли дежурство, а остальное население города поставляло деньги и все, что было нужно, — Мемфис хорошо умел проявлять заботу о потерпевших, потому что много раз несчастья вроде катастрофы с «Пенсильванией» случались поблизости от него, и этот город, больше, чем все другие города на реке, приобрел опыт в благородной роли милосердного самаритянина.
Когда я вошел в огромное помещение, то увидел неожиданное и странное зрелище. Два длинных ряда распростертых фигур — больше сорока человек, — и у ка— ждой фигуры вместо головы и лица бесформенный комок бинтов и ваты. Страшная это была картина! Я дежурил там шесть дней и шесть ночей, — и это было очень тяжелое испытание. Каждый день повторялась одна и та же, особенно гнетущая процедура: перенесение безнадежных в отдельную комнату. Это делалось для того, чтобы душевное состояние других больных серьезно не пострадало при виде предсмертной агонии одного из их числа. Обреченного всегда уносили по возможности бесшумно, и носилки всегда были скрыты от глаз стеной служителей; но все равно каждый знал, что означает эта группа наклонившихся фигур, приглушенные шаги и замедленные движения. Все глаза неотрывно следили за процессией, и, словно зыбь на воде, навстречу ей пробегала дрожь.
Я видел, как многих несчастных уносили в «комнату смерти», и потом больше я их не видел. Но нашего старшего помощника уносили туда не раз. Раны его были ужасны, но особенно ожоги. Он до пояса был замотан в вату, пропитанную льняным маслом, и никак не походил на человеческое существо. От страшной боли он часто начинал бредить и кричать, а иногда просто визжать. Потом наступала полная прострация, и вдруг в его воспаленном мозгу огромная палата превращалась в палубу, а сиделки — в команду парохода. он с трудом приподымался и начинал орать: «Шевелись, шевелись, вы, каменные бабы, улитки пузатые, факельщики! Вы что же, целые сутки собираетесь выгружать эту горсточку груза?» — и подкреплял этот взрыв умопомрачительным извержением ругани; и ничто не могло остановить поток, пока вулкан не иссякал. Иногда, когда на него находили такие припадки, он срывал с себя клочьями вату, обнажая свое обваренное тело. Это было ужасно. Для других это, конечно, тоже было вредно — и его крики, и выставление ран напоказ, — поэтому доктора пытались дать ему для успокоения морфий. Но и в полном сознании и в бреду он отказывался принимать лекарство. Он говорил, что его жену это предательское зелье убило, и он скорее умрет, чем согласится его принять. Он подозревал, что доктора подмешивают морфий в его другие лекарства и в воду, и ничего в рот не брал. Как-то пробыв без воды два изнурительных дня, он взял кружку в руки: вид прозрачной влаги и муки жажды искушали его свыше сил. Но он овладел собой, вылил воду и после этого не разрешал больше подносить ему кружку. Три раза я видел, как его уносили в «комнату смерти» без чувств, но каждый раз он оживал, проклинал тех, кто за ним ухаживал, и требовал нести его обратно. Он выжил и снова стал помощником капитана на корабле.
Но он был единственный, кто отправился в «ком— пату смерти» и возвратился живым. Доктор Пейтон, один из главных врачей, одаренный всеми качествами, которые создают человеку высокую и почетную репутацию, сделал все, что глубокие знания и искусная руна могли сделать для Генри; но, как писали газеты с самого начала, его раны были смертельны. Вечером на шестой день он стал бредить давнишними событиями, и его обессилевшие пальцы начали «обирать одеяло». Его час пробил: мы отнесли бедного мальчика в «комнату смерти».
Глава XXI. ОТРЫВОК ИЗ МОЕЙ БИОГРАФИИ
Прошел положенный срок — я получил диплом. Я стал настоящим лоцманом. Сначала я поступал на случайные места, но так как катастроф не бывало, то временные должности вскоре сменились солидными, постоянными, прочными местами. Все шло гладко и благополучно, и я предполагал, я надеялся, что проведу на реке остаток своих дней и умру у штурвала, когда моя земная миссия будет окончена. Но тут пришла война, торговля приостановилась, и прекратилась моя работа.
Мне пришлось искать другого заработка. Я стал рудокопом в серебряных копях Невады; потом газетным репортером; потом золотоискателем в Калифорнии; потом репортером в Сан-Франциско; потом специальным корреспондентом на Сандвичевых островах; потом разъездным корреспондентом в Европе и на Востоке; потом носителем факела просвещения на лекторских подмостках, — и наконец я стал книжным писакой и непоколебимым столпом среди других столпов Новой Англии.
В этих немногих словах я охватил те медленно протекшие годы — двадцать один год, — которые приходили и уходили с тех пор, как я в последний раз выглянул в окно лоцманской рубки.
Теперь будем продолжать.
Глава XXII. ВОЗВРАЩАЮСЬ К СВОЕЙ ТЕМЕ
После двадцати одного года отсутствия я почувствовал такое сильное желание снова увидеть реку, и пароходы, и тех лоцманов, которые могли еще оставаться в живых, что решил отправиться туда. Я завербовал поэта для компании и стенографа для записей и в середине апреля отправился на Запад.
Так как я предполагал вести записи и печатать их, я обдумал методы осуществления своей задачи. Я рассудил, что если буду узнан, то не смогу так свободно ходить, беседовать, расспрашивать и высматривать, как мог бы, оставаясь в неизвестности: я помнил, что в старое время речники обычно награждали доверчивого чужака самыми чудесными и восхитительными враками, а от искушенного сотоварища отделывались перечислением скучных и невыразительных фактов; поэтому я пришел к выводу, что с деловой точки зрения для нашей компании полезнее всего будет скрыться под вымышленными именами. Сама по себе идея была, конечно, очень удачна, но она создала мне массу хлопот, ибо хотя Смит, Джонс и Джонсон— фамилии, которые очень легко запоминаются, когда их не стоит запоминать, их почти что невозможно вспомнить в нужный момент. Как преступники ухитряются помнить только что придуманные имена, под которыми они хотят скрыться? Это — большая загадка. Я был ни в чем не виновен — и все же редко мог припомнить свое новое имя, когда это было нужно; и мне казалось, что, если бы у меня еще на совести было преступление, оно бы совсем сбивало меня с толку и я совершенно не смог бы удержать свое имя в памяти.
Мы выехали по Пенсильванской железной дороге в восемь часов утра восемнадцатого апреля.
«Вечер. Кстати об одежде. По мере того как отъезжаешь от Нью-Йорка, она постепенно теряет свое изящество и живописность».
Эти слова я нашел в своих записях. В каком бы направлении вы ни поехали, факт остается фактом. Поедете ли им на север, на восток, на юг или запад — безразлично: вы можете проснуться утром и угадать, как далеко вы отъехали, посмотрев, насколько костюмы новых, местных пассажиров утратили изящество и нарядность. Я говорю не только о женщинах, но и с мужчинах. Может быть, тут все дело в уменье держаться; и мне кажется, что это так; ведь немало есть дам и джентльменов в провинциальных городах, для которых наряды шьются у лучших портных и портних Нью-Йорка, но это не меняет дела: наметанный глаз никогда не примет этих людей за нью-йоркцев. Есть какой-то дьявольский шик и грация, и стиль в настоящем, коренном нью-йоркце, которого не добиться одним костюмом.
«19 апреля. Нынче утром попали в область козлиных бородок, иногда в сочетании с усами, но редко».
Странно было увидеть такое множество этих бородок — некрасивых и давно вышедших из моды: как будто столкнулся с забытым знакомым, которого считал давным-давно умершим. Козлиные бороды широко распространены во многих местностях нашей страны; им сопутствует нерушимая вера в Адама и в библейскую историю сотворения мира, не пострадавшая от натиска ученых.
«Вечером. На железнодорожных станциях бездельники держат обе руки в карманах брюк; до сих пор наблюдалось, что одна рука иногда висит снаружи, а здесь — никогда. Это важное географическое сведение»..
Если бы бездельники определяли характер местной жизни, то, разумеется, этот факт был бы еще ценнее.
«До сих пор мы видели, что станционные бездельники почесывали одну ногу о другую; здесь же даже эти остатки деятельности исчезли. Это весьма зловещий признак».
Через некоторое время мы попали в табачно-жвачные края. Пятьдесят лет тому назад табачно-жвачный район распространялся на весь Североамериканский союз. Теперь он чрезвычайно сузился.
Затем появились сапоги. Правда, в незначительном количестве. Дальше—вниз по Миссисипи — их ношение стало общим. Вместе с грязью они исчезли из других штатов; вероятно, они исчезнут и из прибрежных поселков на Миссисипи, когда там сделают настоящие мостовые.
Мы прибыли в Сент-Луис в десять часов вечера. У конторки отеля я с жалкой потугой на непринужденность пробормотал наспех выдуманную фамилию. Портье остановился и посмотрел на меня тем сострадательным взглядом, каким окидывают почтенного человека, застигнутого в двусмысленных обстоятельствах, потом он сказал:
— Хорошо, хорошо! Я знаю, какая комната вам нужна. Я ведь служил в отеле Сент-Джемс, в Нью— Йорке.
Неважное начало для карьеры мистификатора! Мы пошли в ресторан и встретили еще двух человек, которых я знал раньше. Как странно и несправедливо: ведь разъезжают же злостные обманщики с лекциями под моим псевдонимом, и никто их не подозревает; но стоит честному человеку покуситься на самозванство, как его сразу изобличают.
Одно было ясно: нам надо отправиться вниз по реке на следующий же день, раз люди, которых нельзя обмануть, вырастают отовсюду с такой быстротой, — обстоятельство весьма неприятное, ибо мы надеялись провести в Сент-Луисе неделю. Отель «Юг» был хорош, и мы могли бы там прожить с комфортом. Отель этот велик, хорошо оборудован, и от его росписи не хочется плакать, как от украшений огромного отеля «Пальмер» в Чикаго. Правда, бильярдные столы принадлежали к древнесилурийской эпохе, а кии и шары — к послеплиоценовой; но это как-то освежало, а не раздражало: так успокоительно и благотворно созерцать старину.
Что сильнее всего бросалось в глаза, так это отсутствие речников. Если они там и находились, то они скрыли свои приметы, изменили свое обличье. Я не замечал ни франтовской повадки и манер, ни небрежного звона денег и великолепного швырянья ими, которые в прежние времена так отличали пароходные команды от сухопутной публики в переполненных бильярдных Сент-Луиса. В те времена в главных барах всегда было множество людей с реки; если было пятьдесят игроков, то тридцать или тридцать пять были наверняка речниками. Я заподозрил, что их ряды поредели, и они больше не являются аристократией. В мои времена они звали содержателя бара Биллем, Джо или Тимом и хлопали его по плечу. Я ждал этого. Нет — теперь никто из присутствующих этого не делал. Ясно, что былая слава растаяла, исчезла за эти двадцать один год.
Когда и поднялся к себе в комнату, я застал там юного Роджерса в слезах. Роджерс — не его фамилия, и Джонс, Декстер, Фергюсон, Баском или Томсон — тоже не его фамилия, но он отзывался на любую из них, когда его окликали вслучае срочной надобности; по правде сказать, он откликался на любое имя, если только он видел, что обращаются к нему.
Он воскликнул:
— Что делать человеку, если ему захочется выпить глоток воды, неужели пить эту гадость?
— А вы не можете ее пить?
— Я бы пил, если бы была другая вода, чтобы промыть эту.
Вот наконец нашлась вещь, которая не изменилась: два десятка лет ничуть не повлияли на мулатский облик этой реки; да и десяток столетий, пожалуй, ничего не сможет поделать. Вода идет из бурной, размывающей берега Миссури, и каждым стаканом ее растворен чуть ли не целый акр земли. Я узнал об этом от местного епископа. Если вы дадите воде постоять в сосуде полчаса, вы можете отделить воду от сушп с такой же легкостью, как при сотворении мира; и увидите, что это хорошо: одну можно пить, другую — есть. Земля очень питательна, вода абсолютно безвредна. Одна утоляет голод, другая — жажду. Но местные жители потребляют их не врозь, а так, как прпрода их смешала. Когда они видят на дне стакана осадок ила в дюйм толщиной, они его размешивают и выпивают смесь, как жидкую кашу. Трудно чужому человеку привыкнуть к такому месиву, но если он к нему привыкнет, то будет предпочитать его воде. Это действительно так. Эта вода годится для плавания пароходов и для питья; больше она ни на что не годна, разве только для церковной купели.
На следующее утро мы проехались по городу и дождь. Город как будто мало изменился. В действительности перемен было много, но это не было заметно, потому что в Сент-Луисе, как и в Лондоне и в Питсбурге, ни одну новую вещь не заставишь уберечь свою новизну: угольный дым превращает ее в древность в ту же минуту, как выпустишь ее из рук. Город вырос ровно вдвое с тех пор, как я там жил, и теперь в нем четыреста тысяч населения; однако в своей деловой, солидной части он остался таким же, как раньше. Но все же я уверен, что в Сент-Луисе теперь не так много дыма, как прежде. Бывало, дым лежал толстым, пухлым черным покрывалом над городом и заслонял небо от глаз. Сейчас этот навес много тоньше, но дыма, по-моему, и теперь в изобилии. Жалоб на недохватку я не слышал.
Однако на окраинах перемены достаточно заметны, особенно в архитектуре жилых домов. Прекрасные новые дома благородны, красивы и вполне современны. Кроме того, они стоят особняком, окруженные зелеными газонами, тогда как жилища прежних лет стоят стена к стене на целые кварталы, и все — на один образец, с одинаковыми окнами в полукруглых наличниках резного камня; такие дома казались довольно красивыми, когда встречались реже.
И еще одна перемена — Лесной парк. Это было новостью для меня. Он прекрасен, очень обширен и обладает одним ценнейшим качеством: он главным образом создан самой природой. Есть и другие парки, тоже очень хорошие, особенно Тауэрский и Ботанический сад, — ибо в Сент-Луисе заинтересовались благоустройством гораздо раньше, чем в большинстве других наших городов.
Когда я впервые увидел Сент-Луис, я мог его купить за шесть миллионов долларов, и то, что я этого не сделал, было ошибкой моей жизни. Грустно было теперь смотреть на этот огромный город, на его колокольни и купола, на бесчисленные нагромождения камня и цемента, уходящие по обе стороны в смутную неизмеримую даль, и вспоминать, что я упустил такую возможность. Почему я упустил ее — сейчас с первого взгляда кажется и непонятным и нелепым, но в то время были причины, оправдывавшие этот поступок.
Один шотландец, достопочтенный Чарльз-Огастэс Мэррей, писавший лет сорок пять — пятьдесят тому назад: «Улицы узкие, худо вымощены и худо освещены». Конечно, улицы и сейчас узки. Многие из них и посейчас замощены плохо, но упрек в плохом мощении повторять не приходится. «Новая католическая церковь» была единственным примечательным зданием, и мистера Мзррея торжественно пригласили полюбоваться «своего рода греческим портиком, увенчанным чем-то похожим на колокольню чрезвычайно малых размеров и снабженным разнообразнейшими украшениями», которые лишенный фантазии шотландец нашел «не поддающимися описанию», — а поэтому был благодарен одному немецкому туристу, который помог ему восклицанием: «Клянусь дьяв… это совершенные столбики от кровати!» В Сент-Луисе теперь есть множество внушительных и благородных зданий, и маленькая церковь, которою так гордились местные жители, давно уже потеряла свое значение. Все же это не удивило бы мистера Мэррея, если бы он мог сюда вернуться, ибо он с большой уверенностью предсказывал грядущее величие Сент-Луиса.
Чем больше мы ездили по городу, осматривая его, тем яснее я чувствовал, насколько он вырос с тех пор, как я видел его в последний раз; перемены в мелочах становились все заметнее, все многочисленнее при ближайшем рассмотрении — перемены, единогласно свидетельствовавшие о прогрессе, энергии, процветании.
Но ощутительнее всего перемена наблюдалась около пристани. Впрочем, в данном случае — перемена, бывшая исключением из правила. Полдюжины крепко спящих пароходов — там, где я привык видеть на целую мплю бодрые и деятельные суда! Как грустно, как тоскливо! Стало понятно, почему в бильярдных больше не царил весельчак и балагур — лоцман. Он отсутствовал потому, что его больше не существовало.
Кончилась его профессия, прошло его могущество, его поглотило человеческое стадо, он мелет хлеб на мельнице — незаметный, остриженный Самсон. Полдюжины безжизненных пароходов, целая миля пустых доков, и на пустом, безмолвном берегу только спит, разметавшись, какой-нибудь негр, оглушенный виски,— и это там, где когда-то густая толпа шумела и торговалась напропалую[6].
Здесь в самом деле было запустение.
И морю только слезы лить: Бормочет пенными устами, Что не вернутся корабли И гавань брошена пустая!Буксиры и железная дорога сделали свое дело, сделали его хорошо и до конца. Могучий мост, перекинувшийся над нашей головой, тоже внес свою лепту в это избиение и изничтожение. Уцелевшие старые пароходчики с удовлетворением говорили мне, что мост не оправдывает расходов. Но ведь для покойника слабое утешение знать, что динамит, который его прикончил, не такого хорошего качества, как должно было быть.
Мостовью вдоль берега реки были плохи; тротуары полуразрушены; вокруг все тонуло в густой грязи. Это было знакомо и привычпо, но прежние армии повозок, суета людских толп и горы клади исчезли, и бездействие дня субботнего царило вместо них. Правда, с незапамятных времен сохранился целый квартал дешевых гнусных кабаков, но дела там шли вяло, толпы ирландцев, поглощавших всякую отраву, исчезли, и вместо них шатались кое-где кучки оборванных негров: одни напивались, другие уже были пьяны, одни сонно качались, другие уже спали. Сент-Луис — большой, процветающий и преуспевающий город, по его гавань мертва и не воскреснет.
Пароходство на Миссисипи родилось в 1812 году. Через тридцать лет оно достигло огромных размеров, а еще лет через тридцать, а то и меньше, оно умерло! Удивительно короткая жизнь для такого величественного организма! Конечно, оно не окончательно умерло: восьмидесятилетний калека, который мог когда-то прыгнуть на двадцать два фута в длину, тоже еще не мертвец; однако, по сравнению с том, чем оно было в расцвете сил, пароходство на Миссисипи можно назвать мертвым.
В свое время пароходы убили старинные плоскодонные баржи тем, что стали перевозить грузы до Нового Орлеана меньше чем в неделю. Железные дороги убили пароходный пассажирский транспорт, ибо тратят всего два-три дня на то, для чего пароходам требуется неделя; а буксирный флот убил грузовой пароходный транспорт, потому что буксир тянет груз шести-семи пароходов по таким пустячным ценам, что о конкуренции с ним для парохода не может быть и речи.
Грузовое и пассажирское движениеосталось за пароходами только частично. На всем двухтысячемильном протяжении реки между Сент-Полом и Новым Орлеаном оно находится в руках двух или трех определенных компаний с хорошим основным капиталом; при умелом и очень деловом управлении и налаженном хозяйстве им удается извлекать достаточную прибыль из того, что осталось от некогда цветущего промысла. Я предполагаю, что Сент-Луис и Новый Орлеан не пострадали материально от этой перемены. Но, увы! Что сталось с владельцами дровяных складов!
Когда-то их склады окаймляли всю реку; от города до города вдоль берегов стоял плотными рядами их товар; и они продавали бесчисленные штабеля дров каждый год за наличные; а теперь все немногочисленные оставшиеся пароходы жгут уголь, и редчайшее зрелище на Миссисипи — поленница дров. Где-то теперь прежние дровяники?
Глава XXIII. ПУТЕШЕСТВИЕ ИНКОГНИТО
У меня был план — задерживаться ненадолго в каждом городе между Сент-Луисом и Новым Орлеаном. Чтобы его выполнить, надо было плыть от места к месту на короткорейсовых пассажирских пароходах. Составить такой план было нетрудно, нетрудно было бы и выполнить его двадцать лет тому назад, но только не теперь: между рейсами пароходов теперь долгие перерывы.
Я хотел начать с интересных старых французских поселений — Сент-Женевьев и Каскаскиа, в шестидесяти милях ниже Сент-Луиса. В эту сторону по расписанию ходил только один пароход — Грэнд-Тауэрский пакетбот. Во всяком случае, одного парохода нам было достаточно; мы пошли поглядеть на него. Это была почтенная развалина и притом лишь подделка под пароход. Он выдавал себя за движимое имущество, а между тем слой самой обыкновенной добротной грязи так густо лежал на нем, что его вполне можно было обложить налогом, как земельный участок. В Новой Англии есть места, где за акр такой пароходной палубы охотно заплатили бы сто пятьдесят долларов. Почва на баке была вполне плодородной, и молодые всходы пшеницы уже пробивались из щелей в наиболее удобных местах. Трап в кают-компанию носил сухой, песчаный характер и вполне пригодился бы для разведения винограда, при южном местоположении и небольшом удобрении. На нижней палубе почва была несколько истощенной и каменистой, но достаточно пригодной для пастбищ. Чернокожий мальчик стоял на вахте, больше никого не было видно. От него мы узнали, что эта мирная обитель пойдет по расписанию, если «соберет груз на рейс», а если не соберет — будет его дожидаться.
— А что-нибудь уже погрузили?
— Что вы, хозяин, бог с вами! Да его еще и не разгружали! Он только нынче утром пришел.
Мальчик не знал в точности, когда отойдет пароход; он полагал, что это может случиться либо завтра, либо послезавтра. Нам это совсем по годилось; поэтому пришлось отказаться от нового ощущения — поплавать по реке на ферме. Но еще одна стрела оставалась в нашем колчане: впксбергский пакетбот «Золотой песок» уходил в пять часов вечера. Мы взяли на него билеты до самого Мемфиса, отбросив план — делать остановки по дороге, как невыполнимый. На пароходе все было чисто, аккуратно, удобно. Мы расположились на нижней палубе и накупили дешевых кпижонок, чтобы убить за чтением время. Продавец, почтенный ирландец с добродушным лицом и неплохо подвешенным языком, рассказал нам, что прожил в Сент-Луисе тридцать три года и их разу не переезжал реки. Затем он прочел нам весьма красноречивую лекцию, изобиловавшую классическими именами и ссылками; речь его текла изумительно плавно, пока мы не сообразили, что он ее произносит не в первый и, может быть, даже не в пятидесятый раз. Он был очень красочен и гораздо занятнее своих дрянных книжонок. На случайное замечание об ирландцах и пиве он ответил следующей бесподобной информацией:
— Они не пьют пива, сэр. Он просто не могут его пить, сэр. Поите ирландца в теченеи месяца немецким пивом, и он помрет. Ирландец внутри выложен медью, а пиво ее разъедает. Вот виски — полирует медь, виски для него спасение, сэр.
Ровно в восемь часов мы дали задний ход и сразу пошли к другому берегу! Когда мы пробирались к берегу в густой темноте, с нашего бака вдруг брызнул ослепительный сноп белого электрического света и озарил воду и склады, как полуденное солнце. И это — огромная перемена; исчезли мерцающие, коптящие, капающие смолой и почти бесполезные факелы, — их дни кончены. Потом, вместо того чтобы звать двадцать человек для спуска трапа, два матроса при помощи небольшого количества пара опустили его с блоков, на которых он был подвешен, установили в надлежащем месте, и вся процедура была закончена скорее, чем в старые времена помощник капитана успел бы завести свою ругательную машину и начать вступительную проповедь. Почему этот новый простой способ спуска трапов не придумали раньше, при постройке первого парохода, — это тайна, помогающая понять, насколько неповоротливы мозги у среднего человека.
В два часа ночи мы наконец тронулись в путь, и когда, в шесть утра, я вышел наверх, мы поворачивали у скалистого мыса, где стоял старый каменный склад, или, вернее, его развалины; два-три обветшалых дома ютились рядом в тени лесистых холмов, но никаких признаков человека или животного не было заметно. Я подумал: неужто я забыл реку? Я совершенно не мог вспомнить это место; очертания реки тоже были мне незнакомы; нигде не виднелось ничего памятного мне, ничего, что я видел раньше. Я был удивлен, разочарован и огорчен.
Мы высадили на берег хорошо одетую даму, господина и двух изящных барышень с прекрасными чемоданами из юфти. Странное место для такой публики! Их не ждал экипаж. Они двинулись в путь, как будто и не нуждались в экипаже, и пошли пешком по извилистой проселочной дороге.
Однако тайна разъяснилась, когда мы отплыли дальше: очевидно, эти люди направлялись в большой город, который скрывался за отмелью (как оказалось — за новым островом), милях в двух от пристани. Я не мог вспомнить, какой это город, не мог определить, назвать его. Я просто выходил из себя. Я заподозрил, что это, может быть, Сент-Женевьев, — и так оно и оказалось. Заметьте, что наделала эта капризная рока: она воздвигла огромную бесполезную отмель прямо перед городом, отрезала его от речного сообщения, совершенно отгородила его и сделала «сухим» городом. А город этот — красивый и старинный и заслуживал лучшей участи. Его построили французы, и он остался на память о том времени, когда можно было, путешествуя от устья Миссисипи до Квебека, находиться все время на французской территории и под властью французов.
Тут я перешел на верхнюю палубу и с тоской поглядел на лоцманскую рубку.
Глава XXIV. МОЕ ИНКОГНИТО ЛОПНУЛО
После пристального изучения лица вахтенного лоцмана я с удовольствием установил, что никогда его раньше но видел, и потому поднялся наверх. Лоцман осмотрел меня, я еще раз осмотрел лоцмана. Закончив эту необходимую церемонию, я уселся на скамью, а он отвернулся и занялся своим делом. Каждая мелочь в рубке была мне знакома, за одним исключением: перед лоцманом была труба с широким концом. Я долго ломал голову над этой штукой, потом сдался и спросил, для чего она служит.
— Слушать звонки машины.
Труба тоже была хорошим нововведением, которое не мешало бы изобрести на полстолетия раньше. Я размышлял об этом, как вдруг лоцман спросил:
— Вы знаете, зачем служит этот трос?
Я постарался ответить так, чтобы не выдать себя.
— Вы впервые в лоцманской рубке?
Я перелез и через этот вопрос.
— Вы откуда?
— Из Новой Англин.
— Первый раз приехали на Запад?
Пришлось перепрыгнуть и через этот вопрос.
— Коли вас это интересует, я могу вам объяснить, что здесь для чего.
Я сказал, что буду очень рад.
— Вот это, — и он положил руку на сигнал «задний ход», — это пожарный колокол, а вот это, — тут он положил руку на сигнал «полный ход», — это чтобы вызывать буфетчика, а этим, — он указал на ручку свистка, — вызывают капитана,— и, дотрагиваясь то до одной, то до другой вещи, он спокойно стал наворачивать целый клубок вранья.
Никогда я еще не чувствовал себя настолько пассажиром! Я сердечно благодарил его за каждое новое сведение и заносил его в свою записную книжку. Лоцман даяге воодушевился, радуясь выпавшему случаю, и продолжал меня разыгрывать по доброму старому способу. Иногда мне казалось, что его воображение надорвется, но оно выдерживало марку, и он продолжал в том же духе. Он погрузился постепенно в описание невероятнейших фокусов реки, подкрепляя их чудовищными примерами. Скажем, так:
— Видите, там вон торчит из воды камень? Ну так вот, когда я впервые пришел на реку, здесь стояла прочная каменная гряда, футов в шестьдесят высотой и в две мили длиной. Все унесено, кроме вот этого кусочка. (Тут он глубоко вздохнул.)
У меня было непреодолимое желание изничтожить его, но мне казалось, что убить его обычным способом — слишком хорошо для него.
Когда какое-то странное судно с большим ящиком для угля, высоко подвешенным к концу длинной балки, проходило неподалеку от нас, он равнодушно обратил на него мое внимание и сказал, словно о вещи, давно известной и уже надоевшей, что это —аллигаторовое судно.
— Аллигаторовое судно? А для какой цели?
— Тралить аллигаторов.
— Да разве их так много, что они мешают плаванию?
— Ну, теперь-то не особенно, потому что правительство их поубавило. А раньше бывало порядочно. Не везде, конечно, только в их любимых местах, там и сям, где река широка и мелка, — у Сливового мыса, у острова Стека и так далее, в так называемых аллигаторов ых лежках.
— И они действительно мешали навигации?
— Да, в прошлые годы, при низкой воде, редко проходил рейс, чтобы мы не садились, как на мель, на кучи аллигаторов.
Мне показалось, что пора уже вытащить мой томагавк, но я сдержался и заметил:
— Это, наверно, было ужасно.
I Да, это было одним из главпых затруднений для лоцмана. Так трудно было угадать по воде, где они: эти проклятые твари так и снуют, никогда пяти минут не пролежат спокойно. Можно узнать издали рябь от ветра, можно узнать перекат, можно узнать песчаную мель, но мель аллигаторовую ни за что не угадаешь. В девяти случаях из десяти не скажешь, где они, а когда увидишь, где они, так хоть бы и не видеть: все равно, когда подойдешь, эти черти уже переменили место. Конечно, были немногие лоцманы, которые могли определить аллигаторовые места, как всякие другие, но тут нужен был прирожденный талант: этому нельзя выучиться, с этим надо родиться. Погодите-ка: вот Бен Торнберг, и Бек Джолли, и Сквайр Белл, и Горас Биксби, и Майор Донинг, и Джон Стивенсон, и Вилли Гордон, и Джим Броди, и Джордж Илер, и Билли Янтблэд— все это были первоклассные аллигаторовые лоцманы. Они-то чуяли аллигаторов на таком расстоянии, на каком другой христианин чует виски. И определяли издалека! Вот уж действительно определяли! Мне бы хотелось получить столько долларов, сколько раз они узнавали залежи аллигаторов за полторы мили. И знаете, это было очень выгодно. Хороший аллигаторовый лоцман мог заработать тысячи полторы долларов за месяц. Другие причаливали на ночь из-за аллигаторов, а эти ребята никогда из-за них не останавливались; они вообще только из-за тумана и останавливались. Говорят, что они нюхом определяли, где лежат аллигаторы; не знаю, так это или не так,— по-моему, человеку довольно того, что он сам видел, а совсем не надо ему повторять россказни других людей; хотя многие не постесняются повторять за другими, лишь бы было что порассказать поинтереснее. Но уж Роберт Стайлс на это не способен, клянусь трехсаженной глубиной, хотя, может, и без четверти!
«Ого! Да неужто это Роб Стайлс? Этот усатый, степенный человек? Он был щуплым «щенком» в мое мремя. Как он вырос за двадцать пять лет — и он, и его благородное искусство разукрашивать факты!» После этих размышлений я сказал вслух:
— Мне кажется, что разгонять аллигаторов не имело особого смысла: ведь они могли тут же вернуться?
— Если бы у вас был такой же опыт по части аллигаторов, как у меня, вы бы так не говорили. Вы разок зацепите аллигатора багром — и он побежден. Польше вам его не видать. Назад и пирогом не заманите. Если чего аллигатор не любит, так это именно когда его оттаскивают багром. А кроме того, их не просто отгоняли, по большей части их вытаскивали на палубу и сбрасывали в трюмы; а когда рейс кончался, их везли в Новый Орлеан на государственные фабрики.
— Зачем?
— Как зачем? Чтобы шить солдатскую обувь из их кожи. Всю обувь для армии шьют из аллигаторовой кожи. Из нее и выходят лучшие в мире башмаки. Держатся пять лет и не пропускают воды. Ловля аллигаторов — государственная монополия. Все аллигаторы — собственность государства, так же как виргинские дубы. Срубите такой дуб, и правительство оштрафует вас на пятьдесят долларов, убейте аллигатора — и вас обвинят в государственной измене; еще хорошо, если вас не повесят. Да и повесят, если вы демократ. Сарыч — священная птица на Юге, и его нельзя трогать, а аллигатор — священная птица государства, и его тоже приходится оставлять в покое!
— Вы и теперь напарываетесь на аллигаторов?
— Ну нет, теперь уж сколько лет этого не случалось.
— Так зачем же держат аллигаторовые суда?
— Только для полицейского надзора, исключительно для этого. Они ведь просто ходят взад и вперед. Нынешнее поколение аллигаторов знает их, как вор знает полицейский отряд; только увидят издали, как сразу срываются с места и удирают в лес!
Закруглив, отточив и отполировав вопрос об аллигаторах, он легко и просто перешел к историческим темам и рассказал о потрясающих подвигах полдюжины старых пароходов, которые он знал хорошо, и особенно остановился на подвигах своего главного любимца из этого доблестного флота, а затем добавил:
— Это был «Циклон», и рейс этот был для него последним: он пошел ко дну в этот самый рейс. Капитаном на нем был Том Балу, самый отъявленный лгун, какого я только видел. Он даже не умел притворяться, что говорит правду, ни при какой погоде. Ну прямо дрожь брала! Он был самый бессовестный лгун. Я его в конце концов бросил — не мог выдержать. Есть ведь пословица: «Каков хозяин, такой слуга», и если будешь служить у такого рода человека, то и тебе доверять перестанут, — тут уж податься некуда. Он платил первоклассное жалованье. Но, говорю, что мне в этом жалованье, раз репутация в опасности. И я пренебрег жалованьем, зато уж вцепился в свою репутацию. И ни разу я не пожалел об этом. Ведь доброе имя дороже всего, не правда ли? Так я на это смотрю. У него было больше шишек себялюбия, чем у семерых человек вместе взятых, и сидели опи у него на задней части черепа, где им и иоложено находиться. Они оттягивал ему затылок, так что нос вечно торчал кверху. Люди считали, что это гордость, а это была просто злоба. И, знаете, если бы увидеть одну только его ногу, и бы решили, что в нем росту девятнадцать футов, — и совсем неверно: просто нога у него была не по мерке. Hаверно, когда сперва делали ногу, то задумали его ростом в девятнадцать футов, да ничего не вышло: росту в нем было всего пять футов, десять дюймов. Таков он был, таков он есть. Вытащи из него его брехню — и он сморщитоя до размера какой-нибудь шапки, не больше: а вытащи из него его злобу — и он совсем исчезнет. У «Циклона» был шикарный ход, вести его — просто одно удовольствие; лучшего судна не бывало в природе. Просто положить его на нужный курс в большой реке и пустить — вот все, что требовалось сделать. Он сам шел бы по звездам всю ночь, только пусти его. Руля мы даже не чувствовали. Вести этот пароход было не труднее, чем сосчитать голоса республиканцев на выборах в Южной Каролине. Как-то рано утром, на самом рассвете, в последний его рейс, руль был поднят на палубу для починки; а я об этом и не знал. Вывел я его от дровяного склада и пошел по реке самым спокойным образом, а когда я уже прошел около двадцати трех миль и проделал четыре адски запутанных поворота…
— Без руля?
— Да, и старый капитан Том вышел на мостик и давай меня ругать за быстрый ход в такую темную ночь…
— Как в темную ночь? Да ведь вы только что сказали…
— Мало ли что я сказал! Стояла просто тьма египетская, хотя скоро стала всходить луна, и…
— Вы хотите сказать — солнце, ведь вы же вышли на самом рассвете; и потом, послушайте: когда это случилось — до того, как вы расстались с капитаном из-за его вранья, или…
— Это было раньше, о, гораздо раньше! И, как я уже сказал, он…
— Но судно утонуло в этот рейс — или…
— Нет, через много месяцев. И вот старик…
— Значит, пароход сделал два последних рейса, потому что вы сами оказали…
Он отступил от штурвала, вытирая пот, и произнес:
— Слушай (и он назвал меня по имени), возьми-ка ты штурвал и поври тоже сам, — ты, наверное, ловчей зто сделаешь, чем я. Тебе хотелось разыграть незнакомца и простака! Да я же узнал тебя прежде, чем ты успел оказать хоть несколько слов, и решил выведать, куда ты собственно метишь. А ты меня-то хотел обморочить! Ну, разве я тебя не поддел? Теперь бери штурвал и кончай за меня вахту; а в другой раз играй честно, и тебе не придется отрабатывать за проезд…
Так кончился мой план проехать инкогнито. А мы не шли от Сент-Луиса и шести часов! Во всяком случае, я получил то, чего добивался: у меня с самого начала чесались руки взяться за штурвал. Казалось, я забыл реку, — но я вспомнил и как вести судно, и какое удовольствие это доставляет.
Глава XXV. ОТ КАИРА ДО ХИКМЕНА
Местность между Сент-Луисом и Каиром — около двухсот миль — разнообразна и красива. Холмы, одетые свежей весенней зеленью, были прелестной оправой, достойным обрамлением широкой реки, протекающей между ними. Наше плаванье началось очень удачно — в прекрасный день, при солнце и попутном ветре; и наш пароход пожирал милю за милей хорошим ходом.
Железная дорога добралась до Честера в Иллинойсе. В Честере выстроена тюрьма, и вообще город преуспевает. В Грэнд-Тауэретоже прошла железная дорога, и в Кейп-Джирардо — тоже. «Грэнд-Тауэр»[7] называется так из-за большой неуклюжей скалы, выдающейся из воды у миссурийского берега, — искусная постройка мастерицы-природы и одно из самых живописных мест в этих краях. Ближайшие соседи этой скалы: «Очаг Дьявола», очевидно названный так потому, что ни на какой другой очаг он не похож, и «Столик Дьявола», представляющий собой совершенно гладкую скалу на основании, суживающемся, как ножка бокала. Скала эта возвышается на пятьдесят — шестьдесят футов над рекой, у пропасти, поросшей плющом и цветами, и действительно похожа на чайный стол, пригодный и дьяволу, и христианину. Дальше вниз по реке есть и «Локоть Дьявола», и «Дорожка Дьявола», и всякое другое имущество, которое сейчас мне не вспомнить.
[Этому персонажу уделяется действительно слишком много внимания и не только на берегах Миссисипи, но и по всей стране. Можно подумать что он создал берега Тихого океана, так часто встречается там его имя. Помню одну историю, с этим связанную. При мне в этих краях открыли новое горнорудное месторождение, и горняки назвали особо выдающиеся пункты этой местности самыми подходящими, как им казалось, именами.
На следующей неделе главная церковная газета Сан-Франциско обрушила на головы несчастных горняков полтора столбца самых непримиримых и горьких упреков — из-за одного такого названия. «Позор нам, говорилось в этой статье, что на всем побережье имя Творца, создавшего такое величие и красоту, нигде не увековечено. Но невыразимо позорно, невыносимо стыдно, что повсюду, где Господь воздвиг к небесам благородный знак своего могущества, растленные грешники не только не воздали ему должной славы, но и прославили Прага рода человеческого, назвав мерзким именем прекрасное создание божье!
И видно, конца этому не будет, ибо на этой неделе шахтеры поселка Хоум-Стэйк добавили еще одно богохульное название к гнусному описку таковых: самый величественный вход в ущелье, воздвигнутый рукой Творца в этой прекраснейшей из горных цепей, безбожники назвали «Чертова Глотка»! Вот вам опять наглое пренебрежение к Тому, кто создал эти мощные громады, опять подлое возвеличивание Его врага, исконного врага всего человечества! Несчастные, несчастные люди! Богохульники, неблагодарные насмешники! «Чертова Глотка» — вы слышите? А сколько есть на свете названий, названий невинных, — от них никому не больно, никому не стыдно, никому не обидно до слез. Но нет! Эти люди и знать их не желают — подавай им «Чертову Глотку»! И они смеют называться калнфорнийцами — эти негодяи с их «Чертовой Глоткой»! Нет, это не турки, не жители острова Фиджи, не дагомейцы — это калифорнийцы! В этом — позор, в этом — унижение!»
Невозможно вообразить, немыслимо описать ужас жителей поселка, когда на них упала эта бомба. Шахтеры, по легкомыслию, и не думали, что совершают такой грех; и то, что их выставили в таком ужасном свете, то, что глаза всего мира обращены к ним с упреком и укоризной, было для них невыносимым, никогда не испытанным позором. Одна мысль овладела всеми: как смыть это страшное пятно? Как успокоить взбешенного редактора газеты? Как умилостивить разъяренное общество, испросить у него прощение, вернуть себе уважение людей? Конечно, было созвано общее собрание. Вое были подавлены, несчастны, каждому было стыдно и горько. Сначала говорить никто не мог — слишком все были удручены, слишком растерянны. Кто-то подал голос, предложил что-то, по эти слабые советы не смогли внести луч надежды в непроглядную тьму. Но вдруг одного шахтера осенила вдохновенная мысль: все собрание вскочило, точно наэлектризованное, люди ухватились за эту мысль, тут я?е проголосовали ее единогласно, и благодарные слезы текли у них по щекам. Они ушли домой счастливые — теперь никто не будет их упрекать, теперь оскорбительное название отменено, и новое имя ущелья на крыльях понесется к редактору газеты, который снова примет их в лоно свое, когда все завершено достойно и прилично. Ибо то, что раньше именовалось «Чертовой Глоткой» теперь стало называться «Пасть Иеговы».
Редактору церковной газеты надо быть поистине неуживчивым человеком, чтобы найти порок в таком названии!][8]
Город Грэнд-Тауэр теперь стал гораздо оживленней, чем был раньше, но ему не помешало бы отремонтировать кое-какие здания и хорошенько побелить все до единого. Впрочем, мне было приятно полюбоваться и остатками его прежней побелки. Дядюшка Мэмфорд, наш второй помощник,рассказал, что город пострадал в половодье и теперь был не в парадном виде. Но, по моему мнению, было немудрено, что город не тратился на побелку: тут делали больше известки, и притом лучшего качества, чем на всем Западе, а ведь никогда, добавил дядюшка Мамфорд, на молочной ферме не разжиться молоком для кофе, а на сахарной плантации не получить сахару; и совершенно бессмысленно искать известку для побелки в городе, где делают известку. По своему опыту я знал, что в первых двух пунктах он вполне прав; знал, что продавцы сластей совсем их не любят, — поэтому окончательный вывод дядюшки Мамфорда, что «люди, делающие известку, больше занимаются религией, чем побелкой домов», мне показался вполне правдоподобным. Дядюшка Мэмфорд еще добавил, что Грэнд-Тауэр — крупный центр добычи угля и что город богатеет.
Кейп-Джирардо расположен на холме и очень красив с виду. Большое иезуитское училище для мальчиков построено у подножья города, на берегу реки. Дядюшка Мэмфорд сказал, что это училище славится добросовестной постановкой дела, не хуже остальных иезуитских школ в штате Миссури. Другое училище стояло высоко, на открытой горке,—светлое новое здание с живописными и занятными башенками и вышками, вроде гигантского столового прибора со вставленными судками и баночками. Дядюшка Мэмфорд говорил, что Кейп-Джирардо — миссурийские Афины, и в нем много колледжей, кроме вышеупомянутых, причем все с той или иной религиозной подкладкой. Он обратил мое внимание на то, что он назвал «сугубо набожным видом города», но я не заметил, чтобы Кейп-Джирардо казался набожнее других городов, выстроенных на таких же холмах, из такого же кирпича. Предвзятые мнения часто заставляют людей видеть больше, чем существует на самом деле.
Дядюшка Мэмфорд уже тридцать лет плавает помощником капитана. Он человек весьма практический, с ясной головой, много испытал, имеет собственные суждения; в его рассказах иногда чуть заметно поэтическое вдохновение, он разговорчив, обладает низким ворчливым голосом и несколькими такими ругательствами, которые дают им у душевный подъем, когда этого требует служба. Он помощник доброго старого сорта, и когда ндет аврал, он обходит палубу с такими словечками, что сердце отставного лоцмана смягчается и наполняется нежной, тихой тоской по ушедшим дням, которым уж не суждено вернуться. «Н-ну, ты там, такой-сякой, шевелись! Сутки будешь копаться, что ли? Почему, когда нанимался сюда, не оказал, что у тебя задние нош параличом отшибло?»
Со всей командой он всегда добр и справедлив, но строг; его любят и охотно у него служат. Он все еще носит небрежную одежду старого поколения помощников; но на следующий рейс пароходство Анкер-Лайн оденет его в форму — темно-синюю морскую форму с медными пуговицами, как всех своих служащих, — и тогда у него будет совсем не тот вид, что сейчас.
Форма на Миссисипи! Это настолько неожиданно, что перекрывает все остальные перемены вместе взятые. И еще удивительнее то, что форменную одежду не ввели пятьдесят лет тому назад. Это настолько целесообразно, что надо было подумать об этом раньше. Ведь в течение пятидесяти лет наивный пассажир, который хотел о чем-нибудь оправиться, принимал помощника капитана за повара, а самого капитана — за парикмахера, и здорово ему за это доставалось. Теперь его неприятности окончились. Необычайно выиграет и вид пароходной команды, это — преимущество реформы в одежде.
Прошли излучину у Кейп-Джирардо. Ее обычно называли «Лоцманская лука»; идти легко, воды всегда много; здесь чуть ли не единственное место по верхнему течению реки, где новому «щенку» позволяли самостоятельно вести судно при спаде воды.
И Фивы, у начала Великой гряды, и Коммерс, в конце ее, я узнал без труда, потому что они мало изменились. И гряду я тоже узнал, что вполне естественно: ведь это гряда подводных камней, удачно поставленных так, чтобы ловить и разбивать пароходы в бурные ночи. Немало трупов кораблей похоронено там, их и не видно; в их числе и мой первый знакомец — «Поль Джонс»: он пропорол себе дно и утонул, словно разбитый горшок, — так сказал мне историк — дядюшка Мэмфорд. Он объяснил, что на борту парохода имелась серая кобыла и проповедник. Мне это обстоятельство, разумеется, вполне объяснило причину несчастья, да и дядюшке Мэмфорду тоже. Он еще добавил:
— Но есть много невежд, которые готовы смеяться над этими вещами и называть их предрассудками. И заметьте — это всегда люди, которым не приходилось путешествовать ни с серой кобылой, ни с проповедником. Я раз сделал рейс в такой компании. Мы сели на мель у Кровавого острова; мы сели у «Повешенной собаки»; мы сели как раз ниже этого самого Коммерса; мы налетели иа «Бобровую плотину»; мы ударились о худший из обломков кораблей за Гусиным островом; у нас в драке был убит грузчик; мы прожгли котел, сломали вал, потеряли трубу и пришли в Каир с девятью футами воды в трюме, — может, больше, а может, меньше. Я все помню, точно это было вчера. Команда голову потеряла от страха. Они выкрасили кобылу в синий цвет, когда город показался в виду, и выбросили проповедника за борт, а то бы мы совсем не добрались. Проповедника выловили и спасли. Он сам признал, что виноват во всем. Я все помню, точно это было вчера.
Что такая комбинация — проповедник и серая кобыла— приносит несчастье, кажется странным и на первый взгляд невероятным; по факт этот подтверждается таким множеством неопровержимых доказательств, что сомневаться в нем — значит идти против здравого смысла. Я сам помню случай, когда капитана предупреждали все его друзья, чтобы он не брал на борт серой кобылы и проповедника, но он настоял на своем, несмотря на все разумные доводы; и в тот же день, — а может быть, и на следующий (многие говорят что именно на следующий, но я-то уверен, что это было в тот же день),он напился, упал в люк, и домой принесли его труп. Это абсолютная правда.
От Шляпного острова нынче не осталось и следа, все до кусочка унесено водой. Я даже не помню, в какой части реки он был; помню, что где-то между Сент-Луисом и Каиром. Плохое это было место когда-то — и вокруг Шляпного острова и вблизи него. Один фермер, который жил там, на иллинойсском берегу, рассказывал, что двадцать девять пароходов сложили свои косточки перед самым его домом. Между Сент-Луисом и Каиром почти на каждую милю приходится одно разбитое судно — всего до двухсот погиоших пароходов.
За Коммерсом я увидел большие перемены. «Бобровая плотина» сейчас стояла посреди реки, и от нее шла порядочная отмель; раньше она была у самого берега и суда ее огибали. Большой остров, лежавший совсем посреди реки, отодвинулся к миосурийскому берегу исуда к нему даже не подходят. Остров под названием «Пиджачная выкройка» весь обкромсан и обречен наскорое уничтожение. Гусиный остров совсем исчез кроме небольшого клочка величиной с пароход. Страшное «Кладбище», где мы пробирались так медленно и осторожно среди бесчисленных затонувших судов, теперь далеко в стороне от фарватера и никому не страшно. Один из островов, носивших название «Две сестры», совершенно исчез, а другой, находившийся у иллинойсского берега, перекочевал теперь к миссурийскому берегу и прочно с ним сросся. Нужен очень острый глаз, чтобы разглядеть место соединения; но этот остров является нллинойсской территорией, и жители должны переправляться иа другой берег чинить иллинойсские дороги и платить иллинойсские налоги — довольно странное положение вещей!
Близ устья Огайо многие острова исчезли — их смыло водой. Каир был на месте и хорошо виден за длинным плоским мысом, на дальнем конце которого он стоит; но нам пришлось долго кружить, чтобы дойти до него. Когда мы вышли из Верхней реки и встретились с водами Огайо, уже наступила ночь. Мы шли вперед без боязни, потому что подводная скала, лежавшая прямо на пути, сдвинулась вверх по течению, в сторону от фарватера, или, вернее, целый район рухнул в реку со стороны Миссури, а Каирский мыс прибавил к своему длинному выступу соответственную территорию. Миссисипи — река справедливая и аккуратная; она никогда не сбросит в реку чью-нибудь ферму, не соорудив такой же фермы соседу пострадавшего. Это смягчает злобное чувство по отношению к ней.
Подходя к Каиру, мы чуть не погубили чужой пароход; он не обратил внимания на наш свисток и потом попытался срезать нам нос. Мы резко дали задний ход и спасли его, — и это большая потеря: из катастрофы можно было бы сделать неплохой рас сказ.
Каир сейчас очень оживленный город; он капитально отстроен и имеет вполне городской вид, совершенно противоположный тому, как его описал мистер Диккенс. Впрочем, там строили кирпичные дома, еще когда я его видел в прошлый раз, а это было, когда полковник (ныне генерал) Грант муштровал там свою первую команду. Дядюшка Мэмфорд говорит, что библиотеки и воскресные школы в Каире работают отлично, и каменщики — тоже. В Каире очень развито железнодорожпое и речное сообщение, и его расположение у слияния двух великих рек так выгодно, что он не может но процветать.
Когда я встал утром, мы уже прошли мимо Колумбуса в штате Кентукки и подходили к Хикмену — хорошенькому городку, расположенному на вершине живописного холма. Хпкмен — центр богатого табачного района и раньше вел большую и выгодную торговлю этим товаром, собирая его на своих складах из обширной округи и переправляя на пароходах; но, говорит дядюшка Мэмфорд, там выстроили железную дорогу, чтобы немного облегчить торговлю, и, по его мнению, торговля облегчилась, да не так, как надо: железная дорога отвлекла главную массу товара от города,— «заграбастывают товар по линии, а до города он и не доходит».
Глава XXVI. ПОД ОГНЕМ
Разговор коснулся войны, потому что мы подходили к местам бывших боев. Мы только что миновали Колумбус и много говорили о знаменитой битве при Белмонте. Некоторые из служащих на пароходе отбывали действительную службу в военной флотилии на Миссисипи. Я понял, что вначале им было здорово не но себе и а этом поприще, но постепенно они привыкли, примирились и более или менее освоились. Один из наших лоцмапов впервые испытал, что такое война, в битве при Белмонте в качестве лоцмана на одном из пароходов южан. Мне всегда хотелось узнать, как чувствует себя новичок во время своего боевого крещения, стоя один-одинешенек наверху, в лоцманской рубке, — мишень для любого Тома, Дика и Гарри, а рядом — никого, кто мог бы его пристыдить, если он начнет праздновать труса, когда бой разгорится и станет опасным. Поэтому рассказ лоцмана был для меня очень ценен: он заполнил тот пробел, который никакие историки по помогли мне заполнить до сего времени.
ПЕРВАЯ БИТВА ЛОЦМАНА
Ои повел рассказ:
«Дело было седьмого ноября. Сражение началось в семь утра. Я плавал на «Р. Г. У. Хилле», перевез войска из Колумбуса. Потом вернулся и перевез батарею. Другой наш лоцман объявил, что он пойдет посмотреть сражение, и меня тоже звал. Я сказал: «Нет, что-то не хочется, лучше буду смотреть из рубки». Он назвал меня трусом и ушел.
На сражение было страшло смотреть. Генерал Читэм заставил своих солдат сбросить шинели и швырнуть в кучу, а потом крикнул: «Теперь за мной — в ад или к победе!» Я слышал его слова из лоцманской рубки и видел, как он поскакал галопом впереди своего войска. Старый генерал Пиллоу, сам весь белый как лунь, на белой лошади, тоже бросился вперед, во главе своих солдат, бодрый, как юноша. Постепенно войска северян отогнали повстанцев, и те кинулись назад врассыпную, каждый спасая себя, — и черт с ними, с отставшими. Под самый берег они поползли, ища прикрытия. Я сидел, свесив ноги из окна лоцманской рубки. Вдруг слышу — что-то прожужжало у самого уха. Сообразил: это пуля! Тут я уж ни о чем не думал — просто кувыркнулся назад, упал на пол и там и остался. А тут ядра загудели вокруг. Три пушечных ядра попали в трубу, один снаряд пронизал угол моей рубки: ядра визжали и рвались повсюду. Горячее времечко, уж лучше бы мне не показывать носа! Я лежал на полу в рубке, а выстрелы становились все чаще и чаще. Я залез за большую печь в середине рубки. Вдруг пуля пробила печку, чуть не задев мою голову, и сбила с меня шляпу. Я решил, что мне пора уходить. Капитан стоял на мостике с рыжим майором из Мемфиса — очень бравым молодцом. Я слышал, как он сказал, что «нужно уходить, но лоцман, видно, убит». Я подполз к сигнализации, чтобы дать сигнал «задний ход»; прпподиялся, огляделся и увидел пятнадцать дыр, пробитых пулями в стеклах иллюминатора: так быстро это произошло, что я и не заметил. Я взглянул на воду — пули хлестали по ней, как град. Я решил, что лучше убраться отсюда. Пустился но трапу головой вперед — не ногами, а именно головой вперед,— соскользнул вниз; но, прежде чем я дополз до палубы, капитан сказал, что надо отчаливать. Пришлось снова ползти по трапу и лечь на пол. В это время второго нашего лоцмана поймали и повели в рубку под охраной двух солдат. Кто-то сказал, что я убит. Он просунул голову в рубку и увпдел, как я с полу пытаюсь дотянуться до сигнализации. Он сказал: «О, черт, да он жив», вырвался от державших его людей и удрал вниз. Пароход простоял так до трех часов, а потом все-таки ушел.
Когда я в следующий раз увидел моего сменного, я его опросил: «Ну, не скрывай, будь честным человеком и скажи правду: куда ты ходил смотреть сражение?». Он говорит: «В трюм».
Во время боя я был испуган до полусмерти. Я почти ничего не соображал — до того перетрусил; но, понимаете, никто, кроме меня, этого не знал. На следующий день генерал Польк послал за мной и похвалил меня за храбрость и мужественное поведение.
Я не возражал — пусть так думают. Я знал, что все было иначе, но не мне же противоречить талантливому генералу.
Я был измучен и скоро совсем разболелся и должен был сойти на берег в Хот-Спрингсе. Когда я был там, я получал много писем от командиров, в которых они звали меня обратно. Я отказался, потому что не чувствовал себя достаточно здоровым и сильным. Но я сохранял молчание и сохранял репутацию, которую мне создали».
Простой, правдивый рассказ; но дядюшка Мэмфорд говорил мне, что этот лоцман «малость преувеличил свои страхи»; что этому доказательство — его последующее поведение во время войны.
Мы миновали протоку у острова 8, и я сошел вниз и разговорился с одним из пассажиров, красивым человеком с приятными манерами и умным лицом. Мы подходили к острову 10, столь прославившемуся во время войны. Дом этого джентльмена стоял недалеко, на самом берегу. Мы поговорили с ним о военном времени, но затем разговор перешел на «родовую вражду», так как нигде на юге кровная месть не привилась так быстро и не удерживалась так долго, как именно в этих краях. Джентльмен рассказал следующее:
«Много враждовало здесь между собою семей в старые годы, но, сдается мне, худшая вражда была между Дарнеллами и Уотсонами. Никто уж не знает, из-за чего началась первая ссора, — так давно все было. Ни Дарнеллы, ни Уотсоны теперь не помнят причины этой ссоры, если даже кто-нибудь из них жив, в чем я сомневаюсь. Все началось, говорили, из-за какой-то коровы или лошади, — словом, из-за сущего пустяка. Дело было нe в деньгах: обе семьи были очень богаты. Можно бы легко все уладить, — а вот не вышло. Наговорили друг другу грубостей, — уж тут смоешь обиду только кровью. И эта лошадь или корова обошлась в пятьдесят лет убийств и увечий! Каждый год кого-нибудь да убьют то с одной стороны, то с другой; и когда одно поколение истреблено было, сыновья продолжали вражду да еще раздували ее. И все шло точно так, как я уже сказал: они то и дело убивали друг друга из года в год, словно соблюдали какой-то священный обычай, пока совершенно не забыли, с чего все началось. Где бы Дарнелл ни поймал Уотсона а Уотсон — Дарнелла, уж один из них должен был пострадать — вопос был только, кто кого одолеет. Один мог уложить другого иногда иа глазах у всей его семьи. Они, правда, не охотились друг за другом, но уж если столкнутся, так сразу открывали огонь. Мужчины убивали мальчиков, мальчики — взрослых мужчин. Один мужчина застрелил двенадцатилетнего мальчонку: набрел на него в лесу и не дал ему оглянуться; а кабы он дал ему оглянуться, так мальчик пристрелил бы его самого.
Обе семьи числились за одним приходом (тут все люди верующие), и в течение всей этой пятидесяти- или шестидесятилетней передряги оба семейства каждое воскресенье ходили в одну и ту же церковь. Они жили по обе стороны пограничной линии. Церковь стояла на пристани «Компромисс». Половина церкви — один придел — была в Кентукки, а вторая половина — в Теннесси. По воскресеньям можно было видеть, как оба семейства подъезжали к церкви, все в воскресных нарядах, и мужчины, и женщины и дети; как они гуськом проходили по приделу и рассаживались спокойно и чинно: одна компания на теннессийской стороне церкви, а другая — на кентуккийской; мужчины и мальчики прислоняли ружья к стенке, чтоб они были иод рукой, а потом все набожно складывали руки в молитве и благодарениях небу; хотя, говорят, тот из мужчин, который был ближе к выходу, не опускался на колени вместе со всей семьей, — он словно бы на часах стоял. Я-то не знаю, никогда в жизни сам в этой церкви не был, но так всегда рассказывали.
Лет двадцать или, может, двадцать пять тому назад одного девятнадцатилетнего юношу поймали люди из враждебного семейства и убили его. Не помню, которые именно — Дарнеллы или Уотсоны, или еще кто-нибудь из враждовавших; но, во всяком случае, юноша ехал верхом к пароходу, который в это время стоял у пристани, и первое, что он увидел, была группа его врагов. Он спрыгнул и спрятался за поленницей дров, но они окружили его и начали стрелять; он стал отстреливаться, но они скакали, орали и палили изо всех сил. Кажется, он некоторых из них ранил, но они его обступили и загнали в реку; он поплыл по течению, а они поскакали вдоль берега и не переставали стрелять, и на берег его вынесло уже мертвым. Мне об этом рассказал Уинди Маршалл, — он сам все видел. Он был капитаном на стоявшем там пароходе.
Несколько лет тому назад ряды Дарнеллов так поредели, что старик Дарнелл с двумя сыновьями решил уехать отсюда. Они хотели сесть на пароход как раз у острова 10; но Уотсоны пронюхали это дело и прибыли в ту минуту, когда оба молодые Дарнелла шли по трапу об руку со своими женами. Началась битва, и дальше уж они не двинулись — обоих убили. А потом старый Дарнелл впутался в ссору с человеком, который переправлял паром, и этому самому паромщику досталось, да еще как! — он тут же и помер. А его товарищи изрешетили старика Дарнелла, осыпали его градом пуль и прикончили».
Джентльмен, рассказывавший мне эту историю, воспитанный в довольстве и холе, был человек со способностями и учился в колледже. Причиной простонародных оборотов, которые попадались в его речи, было не невежество, а просто привычная небрежность. Конечно эта привычка встречается не у всех образованных жителей Запада, но большинство — в маленьких поселках, если не в больших городах — говорит настолько неправильно, что нельзя не заметить и не удивиться. Я слышал, как уроженец Запада, которого в любой стране причилили бы к самым образованным людям, сказал: «Ничего, для меня это — никакая не разница». При разговоре присутствовала постоянная жительница этих мест, и на нее это не произвело ни малейшего впечатления. Впоследствии, когда ей сказали об этом, она вспомнила такой факт, но созналась, что ошибка тогда не резанула ей слух, — признание, которое заставляет думать, что, если образованные люди могу слушать столь кощунственные ошибки таких же образованных людей и не замечать их, значит это преступление вполне для них привычно — настолько привычно, что у них слух притупился и уже не восприимчив, не чувствителен к таким оскорблениям его.
Никто на свете не говорит безукоризненно правильно, никто не пишет безукоризненно — ни на этом, ни на том свете (чему свидетелем священное писание), — поэтому несправедливо требовать грамматического совершенства от жителей долины Миссисипи, но и от них и от других людей можно требовать, чтобы они сознательно и нарочито не коверкали свою речь.
У острова 10 я нашел большие перемены на реке. На моей памяти остров был мили в три длиной и в четверть мили шириной, густо покрыт лесом и лежал у кентуккийского берега — так примерно в двухстах ярдах от него. А теперь его приходилось разыскивать в подзорную трубу. От него ничего не осталось, кроме маленькой незаметной рощицы, да и та была не у кентуккийского берега, — остров очутился в противоположной стороне, у другого берега, на милю дальше. Во время войны он был важным пунктом и опорной позицией и так сильно укреплен, что мимо нельзя было пройти. Он был расположен между верхней и нижней дивизией северян и раздедял их, пока они не добились соединения через миссурийскую косу; но остров теперь сам соединен с косой, и ничто не преграждает широкую реку.
В этой местности река проходит из штата Кентукки в Теннесси, потом нахад в Миссури, снова в Кентукки и оттуда — снова в Теннесси, так что одна-две мили миссурийской территории врезаются в штат Теннесси.
У Нью-Мадрида вид был очень скверный, но, в сущности, он мало изменился по внешнему виду и общему характеру. Те же кварталы бревенчатых домов в прежней плоской долине, окруженной прежним старым лесом. Город был такой же тихий, как раньше, и, п-видимому, не уменьшился и не разросся. Говорили, что в последнее половодье вода залила город и сильно испортила его внешний вид. Я был очень удивлен: при спаде воды берег там очень высок (пятьдесят футов), и в мое время наводнение всегда казалось немыслимым. Но наводнение нынешнего, 1882 года без сомнения останется в истории реки и будет славиться еще в течение нескольких поколении, прежде чем произойдет второй такой потоп. Вода залила все низменности от Каира до устья; она прорвала дамбы во многих пунктах по обоим берегам реки, а в некоторых местах, к югу, где вода стояла на наибольшей высоте, ширина Миссисипи достигала семидесяти миль! Много жизней погибло, и опустошение было страшное. Урожай погиб, дома были смыты, и бесприютные людп, вместе со скотом, были вынуждены искать убежища на холмах, в лесу и в поле и ждать среди опасностей и лишений, пока суда, снаряженные на средства правительства и местных властей, а также газет, подойдут и спасут их. Земельные участки огромного числа людей находились под водой целые месяцы, и сотни беднейших земледельцев умерли бы с голоду, если бы не была оказана спешная помощь Вода уже давно начала спадать, но и сейчас мы застали почти все берега затопленными.
Глава XXVII. ПРИВОЗНОЕ ДОБРО
Мы встретили два парохода в Нью-Мадриде. Сразу два парохода! Редкое это теперь зрелище на безлюдной Миссисипи. Безлюдно этого величественного, грандиозного потока — зрелище потрясающее и подавляющее. Милю за милей и снова милю за милей катит река свои шоколадные воды меж неприступных стен лесов, в почти необитаемых берегах, и редко парусник или иное плавучее сооружение рассекает поверхность и нарушает однообразие водной пустыни; и так проходит день, проходит ночь, и снова день — и так постоянно, ночь зa ночью и день за днем, — величавое, неизменное однообразие безмятежности, отдых, покой, оцепенение, пустота: символ вечности, воплощение небесного царства, воспетого священниками и пророками, куда так стремятся люди добрые и неосторожные.
Сразу после войны 1812 года из Англии в Америку стали прибывать туристы, сначала в одиночку, потом целыми вереницами; и эти вереницы упорно и терпеливо бродили по нашей стране много-много лет. Каждый турист делал заметки и, приезжая домой, выпускал книгу, обычно очень спокойную, правдивую, разумную, доброжелательную, хотя нашим чувствительным предкам она казалась прямой своей противоположностью. Беглый взгляд на книги этих туристов показывает, что в некоторых отношениях Миссисипи не испытала никаких перемен с тех пор, как эти чужестранцы ее посетили, и по сей день остается почти такой же. Конечно, чувства, зародившиеся в груди этих чужестранцев, не возникали по одному образцу: они должны были разниться уже хотя бы потому, что первые туристы были вынуждены сами выносить впечатление, тогда как в более древних странах всегда можно позаимствовать впечатления у предшественников. А имейте в виду, что труднее всего на свете вынести впечатление от необработанного материала; легче выкроить семь фактов, чем одно ощущение. Капитан королевского флота Бэзил Холл, писавший пятьдесят пять лет тому назад, говорит:
«Здесь я узрел впервые то, что так давно желал увидеть, и ощутил этот миг как полное вознаграждение за все трудности, кои я испытал во время столь дальнего пути; я стоял, глядя на реку, пока темнота не лишила меня возможности что-либо видеть. Но только после многократного посещения этих краев я понял истинное величие этого зрелища».
А вот впечатления миссис Троллоп. Она писала несколько месяцев спустя, в том же 1827 году, подъезжая к устью Миссисипи:
«Первым признаком нашего приближения к суше было появление этой могучей реки, стремящей вперед грязную массу своих вод и смешивающейся с темной лазурью Мексиканского залива. Я никогда не видела зрелища более унылого, чем место впадения Миссисипи. Если бы Данте видел его, он мог бы запечатлеть весь этот ужас в картинах нового ада.
Только один предмет высится над плещущими волнами: мачта корабля, давно погибшего прп попытке пройти через мель; она все еще стоит — печальный свидетель былого крушения и зловещий пророк крушения грядущего».
Вот впечатления достопочтенного Чарльза-Огастэса Мэррея (от реки близ Сент-Луиса) семь лет спустя:
«Только поднявшись по мощному потоку на пятьдесят — сто миль и окинув его не только оком телесным, по и оком воображения, начинаешь понимать всю его силу и величие. Видишь, как он оплодотворяет бескрайнюю долину, как течение несет трофеи бесчисленных побед над подрытыми водою лесами — то унося большие глыбы земли с их растительностью, то образуя острова, предназначенные в будущем стать местом жительства человека. И пока предаешься этим размышлениям, приходит пора, когда мысль подсказывает тебе, что поток уже прошел до тебя две или три тысячи миль, а предстоит ему пройти еще тысячу триста миль, чтобы достигнуть места своего назначения — океана».
А теперь познакомьтесь с впечатлениями капитана королевского флота Марриэта, автора морских романов, писавшего в 1837 году, через три года после мистера Мэррея:
«Вероятно, никогда в летописях человечества не было еще примера, чтобы на один век приходилось столько упорных, неприкрытых преступлений, какие можно собрать в истории бурной, запятнанной кровью Миссисипи. Самый вид реки как нельзя лучше соответствует делам, совершавшимся на ней. Она не похожа на большинство рек, приятных для взора, дарящих на своем путп плодородие; не такова она,чтобы глазу хотелось отдохнуть, глядя на ее течение, чтобы можно было бродить по ее берегу или беспечно вверять себя ее волнам.. Это бешеный, быстрый, угрюмый поток, насыщенный размытой почвой; и из тех, кто попал в его волны, мало кто выплыл: пловцы не могут долго продержаться на его поверхности без дружеской помощи какого-нибудь бревна[9]. В этой реке водятся самые жесткие и несъедобные рыбы, вроде сома и его сородичей, а ниже по течению ютятся смрадные аллигаторы, и вбереговых зарослях камыша греются на солнце пантеры, почти недоступные для человека. Река катит свои неудержимые воды сквозь дикую чащобу, мимо деревьев, годных разве только на топливо, она сметает по пути целые леса, которые исчезают в бешеном водовороте, увлекаемые потоком, теперь отягощенном землей, что питала их корни, и часто преграждают путь водам, на время меняют русло реки, которая, как бы злясь на сопротивление, заливает и опустошает все окрестности, а пробившись в прежнее русло, повсюду разбрасывает вырванных с корнем лесных властелинов (на их ветви уж никогда не сядут птицы, не вскарабкаются еноты, опоссумы и белки), превращая их в ловушки для смельчаков, идущих под парами в ее водах, так что, налетев на эти скрытые препятствия, которые прошибают днище, суда часто даже не успевают повернуть и дойти до берега, но идут ко дну. Ничего отрадного не связано с этой гигантской сточной трубой Западной Америки, изливающей грязь и Мексиканский залив и оскверняющей прозрачное синее море на мною миль от устья. Это проклятая река, и она напоминает не ангела, сошедшего на землю для блага людского, как другие прекрасные реки, но всем мнится дьяволом, чью мощь могла победить только чудесная сила пара».
Довольно грубое описание для человека, привыкшего владеть пером; но как отражение чувств, бушевавших в груди сего знаменитого гостя при виде «гигантской сточной трубы», оно имеет свою ценность. Правда, ценность снижается от большой неточности фактических данных: так, сом — абсолютно хорошая рыба, а пантер, «недоступных для человека», не бывает.
Далее идет Александр Макэй, адвокат из Миддл-Темпла, человек с лучшим пищеварением и которому не подавали к обеду сома. Вот что он чувствовал:
«Миссисипи! С неописуемым волнением очутился я впервые на ее волнах. Как часто в мальчишеских снах и позже — в грезах наяву мое воображение рисовало царственную реку, несущую бурные воды через необъятные просторы, названные ее именем, приемля в себя по пути к океану притоки почти со всех широт умеренного пояса! И вот она.лежит передо мной воочию, и я наконец иду на всех парах против течения. Я смотрел на нее с тем глубоким преклонением, с каким всегда надо встречать великие явления природы».
Достаточно впечатлений! Все до одного туристы отмечают глубокое, угрюмое безлюдье и пустынный вид огромной реки. Капитан Бэзил Холл, видевший ее во время разлива, говорит:
«Иногда мы проходили расстояние в двадцать или тридцать миль, не видя ни одного жилья. Художник, ищущий мотивов дли картины о всемирном потопе, нашел бы их здесь в изобилии».
Первые да будут последними и так далее. Ровно двести лет тому назад самый старый, самый первый, самый храбрый из всех иностранных туристов, головной в пх строю, окончил своп трудные и томительные исследования на величавых просторах большой реки, — то был Лa Саль, чье имя будет жить, пока существует сама река. Цитируем из книги мистера Паркмана:
«И вот они приближались к концу пути. Шестого апреля река разделилась на три широких рукава. Ла Саль пошел по западному, а д'Отрей — по восточному, тогда как Тонти направился но среднему рукаву. Когда Ла Саль плыл вниз по мутному потоку, меж низменных и болотистых берегов, солоноватая вода превратилась в морскую воду, и ветер посвежел от соленого дыхания моря. Потом широкое лоно великого залива открылось его взору: бескрайные валы вздымались в безграничном безмолвном одиночестве, словно рожденном из хаоса, без единого паруса, без признаков жизни».
Tогда на клочке твердой земли Ла Саль соорудил колонну «с гербом Франции; французские солдаты выстроились под ружьем; и покуда новоанглийские индейцы и их жены молча и изумленно глядели на них, солдаты пели «Те deum», «Exaudiat» и «Domine, salvum fas regem»[10].
Пока палили мушкеты и гремели радостные клики, покоритель новых земель установил колонну и громким голосом объявил, что отныне река и обширное пространство, орошенное ею, принадлежат королю. На колонне стояла надпись: «Louis le Grand, Roy de France et de Navarre, regne; le neuvieme avril, 1682»[11].
В Новом Орлеане хотели достойно отпраздновать в нынешнем году двухсотлетие этого знаменательного события, но когда пришел срок, вся энергия и все денежные средства понадобились на другое, так как началось наводнение, несшее разгром и гибель всему краю.
Глава XXVIII. ДЯДЮШКА МЭМФОРД РАЗГРУЖАЕТСЯ
Весь день мы шли вниз по реке, и она была предоставлена почти в полное наше владение. В былые времена при таком уровне воды мы прошли бы мимо целых акров сплавляемого леса, плотов и десятков больших угольных барж, а иногда и мелких торговых баркасов, идущих на веслах от фермы к ферме, — причем владелец баркаса плавал со всей семьей; а то и мимо баркаса, везущего скромного Гамлета и компанию на драматические гастроли. Но теперь нам никто не встретился. Уже далеко за полдень мы увидели один пароход, один-единственный, и больше ничего. Он отдыхал в тени, в лесистом устье реки Обайон. Подзорная труба открыла мне, что он назван в мою честь. Так как я впервые встретился с таким способом чествования, то мне простительно об этом упомянуть и в то же время обратить внимание властей на то, как я поздно узнал об этом.
Большие перемены я заметил у острова 21. Это был очень большой остров, и лежал он на середине реки; сейчас он совершенно слился с берегом и как остров вышел в отставку.
Когда мы подошли к внушительному и грозному Сливовому мысу, наступила темнота, но бояться в нынешнее время уже было нечего. Правительство обратило Миссисипи в нечто вроде двухтысячемильной факельной процессии. В начале каждого поворота и в конце каждого поворота по приказу правительства установлены ярко горящие фонари. Теперь вы никогда не можете очутиться в полной темноте: всегда где-нибудь маячит огонь — то впереди, то позади вас, то по борту. Иногда даже кажется, что фонарям и счета не знали. Освещены десятки участков, на которых с сотнорения мира и поныне не было ни одной мели; участков до того простых и до того прямых, что пароход сам их может пройти без посторонней помощи, если его хоть раз там провели. Впрочем, в таких местах фонари тоже не лишние: лоцману гораздо удобнее и спокойнее держать курс на них, а не в бесформенную черную, вечно ненадежную тьму; для парохода это тоже большая экономия, потому что он, понятно, в состоянии идти гораздо быстрее, когда можно положить руль прямо, а не вилять им, задерживая ход.
По эти перемены в значительной степени лишили лоцманское дело романтической его стороны. Освещение и многое другое совершенно вытравили всю романтику. Например, опасность от коряг теперь совсем не та, что была раньше. Государственные тральщики курсируют вверх и вниз в наше деловое время и рвут зубы у реки; они вырвали с корнем все старые преграды, делавшие некоторые места такими опасными, и не позволяют образоваться новым. Прежде, если пароход переставал вас слушаться темной ночью и устремлялся к лесу, вам становилось не по себе; не по себе бывало и тогда, когда вы пробирались в сгустившейся тьме по узкой протоке. Но теперь все это изменилось: вы включаете электрический свет, во мгновение ока превращаете ночь в день, — и со всеми опасностями и тревогой покончено. Горас Биксби и Джордж Ритчи нанесли все переходы на карту и определили курсы по компасу; они изобрели фонарь в дополнение к этой карте, и запатентовали все это. С. помощью их карты можно идти в тумане почти в полной безопасности и с уверенностью, неведомой в прежние времена.
При изобилии баканов, с уничтожением коряг, при дневной яркости света, который можно зажечь когда угодно, и с картой и компасом во время тумана — лоцманское дело, при нормальном уровне воды, почти так же безопасно и просто, как управление омнибусом, и, пожалуй, только раза в три романтичнее его.
И, наконец, в наши дни бесконечных перемен, пароходная компания «Анкер-Лайн» поставила капитана выше лоцмана, определив ему жалованье больше лоцманского. Это уже было слишком, но они и на этом не остановились. Компания обязала лоцмана оставаться на посту и стоять всю вахту целиком — будь это в пути или на стоянке у пристани. Мы, бывшие раньше аристократами реки, теперь не можем лечь, как бывало, и спать, пока сто тонн груза перебрасывают на пароход — нет, мы должны сидеть в рубке и к тому же не смыкать глаз. Право, с нами стали обращаться, как с какими нибудь помощниками или механиками. Правительство отняло у нашей профессии всю ее романтику, компания отняла у нас пышность и величие.
Сливовый мыс имел ночью тот же вид, как всегда, с той разницей, что теперь на перекатах стоялн баканы, и еще множество других огней виднелось на мысу и вдоль берега; они горели на судах Речной комиссии Соединенных Штатов и в поселке, который власти выстроили для учреждений и служащих Речной комиссии. Военные инженеры правительственной комиссии взвалили на свои плечи труд переделки Миссисипи — труд, который по размерам уступает только труду создания этой реки. Они строят повсюду прибрежные дамбы, чтобы отклонять течение, дамбы, чтобы его сузить, и другие дамбы, чтобы его удерживать; и на много миль вдоль Миссисипи они вырубают лес на пятьдесят ярдов в глубину, чтобы срезать берег до уровня низкой воды, спустив его в виде ската, как крышу дома, и укрепить камнем; и во многих местах они подперли разрушающийся берег рядами свай. Но тот, кто знает Миссисипи, тотчас же определит — не вслух, а про себя, — что десять тысяч Речных комиссий со всеми золотыми россыпями мира в качестве подспорья но смогут обуздать эту беззаконную реку, не покорят ее, не ограничат, но скажут: «Ступай туда», или: «Ступай сюда», не заставят ее слушаться; они не спасут берег, который она обрекла на гибель; они не запрут ей путь такой преградой, которой бы она не сорвала, не растоптала, не высмеяла. Но человек сдержанный не выскажет эти мысли вслух: ведь инженеры из Вест-Пойнтской академии не имеют себе равных, они знают все, что только можно знать в их непонятной науке; и если они считают, что они могут надеть кандалы на реку, сковать и покорить ее, то умнее будет человеку неученому промолчать, притихнуть и подождать, пока они исполнят задуманное. Капитан Идз, построив дамбы в устье Миссисипи, проделал работу, которая казалась совершенно немыслимой, — так что нельзя с полной уверенностью предсказать, что другие работы такого же плана неосуществимы. Иначе следовало бы пропищать, что Речная комиссия могла бы обуздать летящие кометы и заставить их вести себя прилично с таким же успехом, как обуздать Миссисипи и внушить ей правила разумного поведения.
Я спросил мнения дядюшки Мзмфорда но этому вопросу, и здесь я привожу стенографическую запись, так что можно положиться на ее полную точность и правильность; правда, я выпустил кое-где замечания, относившиеся к матросам, — как, например: «Куда к черту прешь ты с этой бочкой?», — ибо они, мне кажется, прерывают течение записанной мною речи, не добавляя ничего ни в смысле информации, ни в смысле ясности. Не то чтобы я решился вычеркнуть все подобные замечания, — нет, и выбросил только то, которые явно не имеют никакого отношении к рассказу; но как только у меня являлось сомнение, я считал, что лучше оставить все, как оно было.
впечатления дядюшки мэмфорда
Дядюшка Мэмфорд сказал:
«Сколько я служу помощником на пароходе, — вот уже тридцать лет, — столько я наблюдал и изучал эту реку. Может, конечно, я в Вест-Пойнте узнал бы побольше, но если я этому верю, пусть меня… — Ты чего там палец сосешь? Берись за этот бочонок с гвоздями! — Конечно, если просидеть четыре года в Вест— Пойнте с кучей книг и лекций, человек может многому научиться, это я признаю, но реку ему не изучить. Дайте им в ихнюю Комиссию какую-нибудь из этих европейских речонок с твердым дном и чистой водой, и для них будет просто праздником строить на ней всякие дамбы, и плотины, и сваи, и приручать ее, и командовать ею, и направлять ее куда им угодно, и заставлять ее оставаться на месте, и вообще делать все, что они задумали. Но эта река не из таких. Начинали они здесь работать с полной уверенностью, с самыми что ни на есть лучшими намерениями, по придется им остаться ин с чем. Что сказано в екклезиасте, глава седьмая, стих тринадцатый? Да там так и сказано, что, мол, их затеям крышка! Верно?
А посмотрели бы вы хоть раз на нх работу! Там, у Чертова острова, в верховье, им хотелось, чтобы река шла так, а ей хотелось идти не так. Поставили они каменную стену. А станет река считаться с каменной стеной? Когда стена была совсем сложена, река просто прорвалась через нее. Может, они построят другую с гену, которая выдерялит, — но только там, наверху, конечно; а здесь им ничего не сделать. Здесь, в низовье, они вбили какие-то сваи, чтобы удержать воду и не дать ей размывать берег, — ну и прекрасно. А не пошла она дальше и не смыла кусок чьей-то там земли? Конечно пошла. Что же они, на всем протяжении реки собираются ставить сваи? Так им тогда дешевле купить землю и выкопать новую Миссисипи. Теперь они ставят сваи у острова Буллетин. Ничего у них не выйдет. Если река взяла этот остров под закладную, так она на него предъявит свои права и при сваях и без свай. А там, подальше, они вбили два ряда свай прямо посреди сухой мели в полмили длиной, которая при низкой воде выступает на сорок футов. Как вы считаете — для чего это? Да если я знаю — пусть меня на том свете… — Эй, ты, сын гробовщика, пошевеливайся—берись за смазочное масло, живо! Живее! — А посмотрите только, что они выделывают в Милликенской излучине! В той местности образовалось новое русло, и Виксберг остался нп при чем. Сейчас это «сухопутный» город. Река заворачивает, не доходя до него, и подойти к нему можно только в половодье. Так вот, они собираются построить поперечные дамбы в излучине, против острова 103, и перебросить воду туда, да отрезать конец острова, да прокопаться в старое русло, где река проходила еще в давние времена; и думают, что уговорят воду пойти кругом и проведут ее мимо Виксберга, как раньше, и снова вытащат этот город на свет божий. То есть они собираются взять всю Миссисипи, перевернуть ее кругом и заставить ее идти несколько миль против течения. Конечно, приходится восхищаться людьми, которые носятся с такими огромными планами и даже не согнутся под их тяжестью без костылей, но вот верить, что они могут делать такие чудеса, вы не обязаны; ведь верно? И все-таки не стоит окончательно говорить, что они ничего не смогут. Я считаю самым правильным, если человеку удастся сделать так: не лезть в эти дола и в то же время купить немного земли в Внксбергс, чтобы в случае удачи тоже получить свое. Правительство сейчас много делает для Миссисипи — тратит уйму денег на нее. Когда было четыре тысячи пароходов и десять тысяч акров угольных барж, плотов и всяких лодок, то ни одного фонаря от Нового Орлеана до Сент-Пола не было, и коряги сидели гуще, чем щетина на хребте борова. А теперь, когда тут каких-нибудь три дюжины пароходов и кое-какие баржи и плоты, правительство повытаскивало все коряги и осветило берега, как Бродвей, и сейчас пароходу на реке спокойно, как в раю, И я полагаю, что к тому времени, когда ни одного парохода вообще не будет, Комиссия всю эту старую штуковину переделает, расчистит и огородит — и наведет такой порядок, что навигация будет просто совершенством: и абсолютно безопасно и выгодно; и каждый день будет воскресенье, а все помощники будут как в воскресных школах сидеть… — Да какого черта, в самом деле, вы там возитесь, исчадия преступления, наследники погибели! Вы что, целый год собираетесь переносить эту бочку на берег?»
Во время нашего перехода до Нового Орлеана и обратно мы много беседовали с пароходными служащими, плантаторами, журналистами и чиновниками Речной комиссии, и результаты получились самые путаные и противоречивые. А именно:
1. Некоторые верили в план Комиссии по мере надобности постоянно ограждать (и тем самым углублять) фарватер, укреплять угрожаемые берега и т. д.
2. Некоторые считали, что средства Комиссии должны быть потрачепы только на постройку и ночнику огромной системы дамб.
3. Некоторые считали, что чем выше будут строить дамбы, том выше будет намываться дно реки и что тем самым система дамб ошибочна.
4. Некоторые верили в план снижения уровня реки во время половодья путем отвода лишней воды в озеро Борнь и т. п.
5. Некоторые верили в план пополнения реки при низком уровне из северных озерных водохранилищ.
Когда вам на реке попадется человек, который верит в одну из этих теорий, «вы можете обратиться к следующему человеку и повести разговор, исходя из гипотезы, что он в эту теорию не верпт; приобретя в этом деле опыт, вы уже будете прибегать к такой системе не сомневаясь, не останавливаясь, но с уверенностью умирающего разбойника, — я говорю о разбойнике, уже обращенном. Потому что вы будете знать с глубокой и спокойной уверенностью, что вам не встретить двух людей подряд, болеющих пристрастием к одной и той же теории. Нет, всегда будут попадаться люди, страдающие промежуточными заболеваниями. И далее вы узнаете еще другие вещи. Вы узнаете, что нет среди этих болезней такой, которою нельзя заразиться, и вы вечно будете подхватывать то ту, то другую. Вы можете сколько угодно делать себе предохранительные прививки обезвреживающими фактами — это не поможет: покажется, что «принялось», а на самом деле — нет; стоит только вам столкнуться с любым из приверженцев одной из теорий — знайте, что вам надо выкинуть желтый флаг.
Да, вы верная жертва очередного теоретика; впрочем, он не только вредит вам, но и приносит некоторую пользу, потому что он noxoж на вашего домашнего врача, который вылечивает вас от свинки и заражает скарлатиной. Если ваш собеседник приверженец теории озера Борнь, например, он осыплет вас целой тучей смертоносных фактов и статистических данных, которые заразят вас его болезнью наверняка; и в то же время он вылечит вас от любой из тех пяти теорий, которые раньше внедрились в ваш организм.
Я переболел всеми пятью, и болел тяжело; нет, не спрашивай напрасно, не старайся допытаться, какая больше всего меня терзала и у какой было больше всего жертв, — этого я не знаю. По правде сказать, никто не может ответить на последний вопрос. Благоустройство Миссисипи — жгучий вопрос в тех краях. Каждый человек, живущий на берегу южнее Каира, говорит об этом ежедневно в те свободные минуты, которые он урывает от разговора о войне; и у каждой из основных теорий есть армия верных приверженцев, — но, как я уже говорил, невозможно определить, какая из них завербовала большее число сторонников.
Однако все сходились в одном пункте: если конгресс выделит достаточно средств, это принесет огромную пользу. Прекрасно. С тех пор средства уже были выделены, хотя, возможно, не слишком большие. Будем надеяться, что предсказания полностью оправдаются.
С одним читатель легко согласится: что мнение мистера Эдварда Аткинсона в любом большом общенациональном коммерческом вопросе является более авторитетным, чем мнение любого индивидуума в Соединенных Штатах. То, что он говорит об исправлении недостатков и благоустройстве Миссисипи, читатель найдет в приложении.
Иногда несколько цифр озаряют, как вспышка молнии, значение какого-либо факта, который, когда его пытались объяснить десятью тысячами вымученных слов, все же оставался неясным и непонятным. Вот пример — абзац из «Коммерческой газеты», издающейся в Цинциннати:
«Буксир «Джозеф Б. Уильямс» находится на пути к Новому Орлеану, ведя тридцать две баржи с грузом и шестьсот тысяч бушелей угля (в бушеле — семьдесят шесть фунтов), не считая потребного ему топлива; этот груз — самый большой, какой когда-либо шел на буксире, и не только в Новый Орлеан, но и вообще куда бы то ни было. Оплата фрахта, при трех центах за бушель, составляет восемнадцать тысяч долларов. Для перевозки этого количества угля понадобилось бы тысяча восемьсот вагонов, по триста тридцать три бушеля на вагон. При десяти долларах за тонну или ста долларах за вагон (цепа для железных дорог вполне подходящая) перевозка этого груза обошлась бы в сто восемьдесят тысяч долларов, то есть на сто шестьдесят две тысячи долларов дороже, чем по реке. Буксир пройдет от Питсбурга до Нового Орлеана за четырнадцать или пятнадцать дней. Понадобилось бы сто поездов по восемнадцать вагонов в каяедом составе, чтобы перевезти один этот груз в шестьсот тысяч бушелей угля; и даже при наличии ускоренных товарных поездов понадобилось бы целое лето, чтобы пропустить их по рельсам».
Когда река, будучи в хорошем состоянии, дает возможность сэкономить на одном грузе сто шестьдесят две тысячи долларов и несколько летних месяцев, то даже человеку некоммерческому становится ясно, насколько благоразумно принимать меры к тому, чтобы река всегда была в хорошем состоянии.
Глава XXIX. НЕСКОЛЬКО ОТМЕННЫХ МОЛОДЦОВ
Мы прошли вокруг Сливового мыса, обошли мыс Крэйгхеда и без помехи проскользнули мимо когда-то страшного форта Пиллоу, знаменитого массовым побоищем во время войны. Массовые побоища нередко бывали вкраплены в историю многих христианских наций, по в американской истории — это единственное, какое можно найтп; пожалуй, только оно одно достигло размеров, соответствующих этому внушительному и зловещему названию. Некогда было у нас бостонское побоище, во время которого было убито несколько человек; но придется обозреть всю англосаксонскую историю, чтобы найти что-либо под стать трагедии в форте Пиллоу, — да и то, пожалуй, придется вернуться ко дням и деяниям Ричарда Львиное Сердце, этого великолепного «героя», прежде чем найдешь такие дела.
Еще о фокусах реки. В прошлые времена фарватер шел над островом 37, мимо Брэндивайнского переката, к острову 39. Потом он переместился, и фарватер шел от Брэидивайна, через Вогелменов проток, мимо «Чертова Локтя», к острову 39, — частично этот фарватер шел в направлении, обратном старому: река четыре или пять миль шла вверх, а не вниз, а в общем срезала около пятнадцати миль. Так было в 1876 году. Весь этот район теперь зовется Островом Столетия.
Существует предание, что остров 37 был главным убежищем знаменитой «шайки Мореля». Это было огромное скопище разбойников, конокрадов, похитителей негров и фальшивомонетчиков, работавших по берегам реки лет пятьдесят — шестьдесят тому назад. Пока мы продвигались ио этим краям к Сент-Луису, нам без конца надоедали Джессом Джеймсом и его захватывающей историей: его только что прикончил агент миссурийского губернатора, поэтому газеты отводили ему много места. Поездная прислуга продавала дешевые книжонки о нем. Если верить этим книжонкам, он был самым изумительным человеком своей профессии, какой только жил на свете. Это ошибка. Морель мог с ним сравниться и смелостью, и ловкостью, и жадностью, и жестокостью, и грубостью, и бессердечием, и предательством, и своей всесторонней низостью, и бесстыдством, а во многих отношениях значительно его превосходил. Джеймс был мелочным мерзавцем; Морель — мерзавцем оптовым. Скромный гений Джеймса не мог воспарить выше, чем планы налетов на поезда, мнпбусы и сельские банки; Морель собирался организовать восстание негров, захватить Новый Орлеан, — и больше того: при случае Морель всходил на кафедру и поучал свою паству. Что такое Джеймс с полдюжиной заурядных жуликов перед этим величественным, старинного типа преступником, с его проповедями, планами восстаний и захвата городов и внушительной свитой в тысячу человек, поклявшихся творить его злую волю!
Вот отрывок, посвященный этому крупному деятелю в позабытой книге, изданной с полвека тому назад:
«Очевидно, это был необычайно ловкий и отчаянный злодей. Когда он путешествовал, то обычно передевался странствующим проповедником; и, говорят, его проповеди были очень «трогательны»—они так увлекали слушателей, что те забывали о своих лошадях, которых сообщники Мороля уводили, пока он проповедовал. Но кража лошадей в одном штате и продажа их в другом была только частью их работы; самым прибыльным было сманивать невольников от хозяев. а потом продавать их в другом месте. Устраивали они так: они говорили негру, что если он убежит от хозяина и даст им себя продать в другие руки, то получит часть денег, вырученных от продажи, а если он явится к ним второй раз, они переправят его в свободный штат, где он окажется в безопасности. Бедняги поддавались этим уговорам — в надежде получить деньги и свободу; их продавали другому хозяину, и они снова убегали к этим предпринимателям; иногда негров продавали таким образом три или четыре раза, пока разбойники не выручали за них три-четыре тысячи долларов; но так как после этого грозила опасность разоблачения, они обычно старались избавиться от единственного свидетеля, которого можно было против них выставить, — то есть самого негра, — и убивали его, а труп бросали в Миссисипи. Даже если выяснялось, что они украли негра, они всегда имели возможность избежать наказания, так как прятали беглого негра до тех пор, пока хозяева не объявляли о нем в газетах, обещая награду каждому, кто его поймает. Такое объявление дозволяет лицу, нашедшему негра, взять его к себе, и тогда негр оказывается как бы «на хранении»; и если все же его продают, то это уже не кража, а «нарушение доверия», а за нарушение доверия собственник негра может только возбудить гражданский иск, что было совершенно бесполезно, так как убытки все равно никогда не возмещались. Спросят, как же случилось, что при таких обстоятельствах Морель избежал линчевания? Это легко понять, так как известно, что у него было больше тысячи верных сообщников, готовых во мгновение ока поддержать любого члена шайки, попавшего в затруднение. Имена главных сообщников выдал сам Морель, и сейчас я расскажу, каким образом. Шайка состояла из двух классов: главарей — или комитета, как их называли, — которые составляли планы, но редко действовали; их было около четырехсот. Другой класс составляли активно действующие — они назывались «бойцами»; их было около шестисот пятидесяти. Они были орудием в руках первой группы; они подвергались всем опасностям и получали ничтожную часть денег; они были во власти главарей шайки, и те жертвовали ими в любое время, выдавая их властям или швыряя их тела в Миссисипи. Главный сборный пункт шайки этих негодяев находился на арканзасском берегу реки, где они прятали негров в болотах и зарослях камыша.
Опустошения, производимые этой обширной организацией, были весьма чувствительны, но она так хорошо умела составлять своп планы, что, хотя Мореля, принимавшего во всем непосредственное участие, всегда подозревали, доказательств не было. Однако случилось так, что один молодой человек по имени Стюарт, искавший двух рабов, которых сманил Морель, повстречался с ним самим, вкрался к нему в доверие, принес присягу и был принят в шайку и качество члена главного комитета. Этим путем все и открылось, потому что Стюарт стал предателем, несмотря на присягу, и, coбрав нужные сведения, выдал все сообщество, имена всех участников и, наконец, собрал достаточно улик против Мореля, чтобы можно было арестовать его и присудить к тюремному заключению (Морель был осужден на четырнадцать лет тюрьмы). Так много людей, которых считали честными и которые, живя в различных штатах, пользовались незапятнанным именем, оказалось в списке главного комитета, опубликованном Стюартом, что все усилия были приложены к тому, чтобы подорвать доверие к его показаниям, — его репутацию взяли под сомнение, и было произведено несколько покушений на его жизнь. Ему пришлось уехать из южных штатов. Теперь, однако, вполне подтвердилось, что все это было правдой; и хотя многие осуждают мистера Стюарта за нарушение клятвы, никто не пытается отрицать правильность его разоблачений. Приведу несколько отрывков из признаний, которые Морель сделал Стюарту, когда они путешествовали вместе. Я забыл отметить, что конечные замыслы Мореля и его сообщников были, но его собственному заявлению, очепь широки: его целью было ни больше, ин меньше, как поднять бунт черных против белых, захватить и разграбить Новый Орлеан и завладеть всей территорией.
Вот некоторые выдержки:
«Я собрал всех моих друзей из Нового Орлеана в доме одного из них, и мы три дня держали совет, пока не выработали удовлетворивший нас план; тогда мы решили начать восстание любой ценой и для этого завербовать как можно больше сторонников. Распределив между всеми нх обязанности, я пошел пешком в Натчез, так как продал лошадь в Новом Орлеане, предполагая украсть другую, как только двинусь в путь. Я шел четыре дня, и мне не представился случай украсть лошадь. На пятый день, около полудня, я устал и остановился у речки напиться и отдохнуть. Когда я сидел на бревне и смотрел на дорогу, по которой сюда пришел, показался человек верхом на прекрасной лошади. Как только я его увидел, я решил заполучить у него лошадь, если он окажется простым путешественником. Он подъехал, и я увидел по его снаряжению, что он путешествует. Я встал, направил на него пистолет и приказал спешиться. Он повиновался, я взял лошадь под уздцы, указал ему путь вниз по речке и приказал идти впереди меня. Он прошел несколько сот ярдов и остановился. Я привязал его лошадь, велел ему раздеться до рубашки и кальсон и приказал повернуться ко мне спиной. он сказал: «Если вы хотите убить меня — дайте мне помолиться перед смертью». Я ответил, что мне некогда слушать его молитвы. Он обернулся, упал на колени, и я прострелил ему затылок. Я вспорол ему живот, вынул внутренности и утопил тело в речке. Потом я обыскал карманы одежды и нашел четыреста долларов и тридцать семь центов и много бумаг, которые я не стал смотреть. Я утопил бумажник, бумаги и шляпу в речке. Сапоги у него были новенькие и сидели на мне как заказные, и я надел их, а свои старые башмаки утонил. Я свернул его платье и положил в его чемодан, — оно тоже было новехонько, а сукно лучшего качества. Я вскочил на лошадь, самую замечательную, на какой мне приходилось ездить, и поскакал в Натчез в гораздо лучшем виде, чем был эти последние пять дней.
Я и парень по пмени Креншо собрали четверку хороших коней и отправились в Джорджию. К нам присоединился один молодой уроженец Южной Каролины как раз около Камберлендской горы, и Креншо скоро разузнал все его дела. Он ездил в Теннесси покупать свиней, но, когда он попал туда, свиньи оказались дороже, чем он рассчитывал, и он отказался от покупки. Мы решили, что он — хорошая добыча. Креншо подмигнул мне; я сразу попял его мысль. Креншо уя;о ездпл раньше по этой дороге, а я — нет; мы проехали по горе несколько миль и приблизились к большой пропасти; когда мы к ной подъезжали, Креншо попросил у меня хлыст, в рукоятку которого был влит целый фунт свинца. Я передал ему хлыст, и он подъехал сбоку к каролинцу, ударил его по голове и сбил с лошади; мы спрыгнули с коней и обыскали его карманы. Мы добыли тысячу двести шестьдесят два доллара.
Креншо сказал, что зпаот, где его запрятать, и подхватил его под руки, а я —под ноги, и мы потащили его к глубокой расщелине у края пропасти, скатили его туда, и он исчез из виду. Потом мы сбросили туда его седло, а его лошадь, которая стоила двести долларов, забрали с собою.
Мы задержались на несколько дней, и в это время наш приятель побывал в деревушке поблизости и увидел объявление о сбежавшем негре (негр находился у нас) и описание тех двух человек, у которых его купили; их и подозревали в краже. Запахло бурей, а в непогоду всякий порт хорош: мы в ту же ночь отвели негра к берегу речки, протекавшей у фермы нашего приятеля, и Креншо прострелил негру голову; потом мы его выпотрошили и утопили.
Другого негра Креншо продал в третий раз на реку Арканзас больше чем за пятьсот долларов, а потом украл его и отдал в руки своего друга; тот отвел его в болото и там разыграл последнюю сцену трагедии и наложил на его уста печать молчания: ведь такую игру нельзя вести, если тайну будет знать кто-нибудь, кроме самих членов братства. В общей сложности он получил за этого негра почти две тысячи долларов, а затем навек избавил ого от всех преследователей. Негра не найдут — и его не захватят; ну а негра им не найти, потому что на его мясе уже и сейчас разжирело немало черепах и сомов, а лягушки уже много дней поют вечную память над его скелетом».
Мы приближались к Мемфису, перед которым, на глазах у его жителей, в Гражданскую войну, разыгралась самая знаменитая из речных битв. Два человека, под начальством которых я когда-то служил на реке, принимали в ней участие: мистер Биксби, старший лоцман во флоте северян, и Монтгомери, коммодор флота южан. Оба принимали активное участие в войне и приобрели репутацию храбрых и способных людей.
Когда мы подходили к Мемфису, мы стали искать предлог, чтобы остаться на «Золотом песке» до конца его рейса, то есть до Виксберга. Мы так хорошо устроились, что нам не хотелось перемен. У меня было довольно важное поручение в Наполеон, штат Арканзac, по я решил попробовать выполнить его, не покидая «Золотой песок». Я заявил об этом, и мы решили остаться на своих местах.
Пароход должен был простоять в Мемфисе до утра. Это красивый город, великолепно расположенный на крутом обрыве, господствующем над рекой. Улицы прямы и широки, хотя их мостовые и не вызывают чрезмерного восторга. Нет, такой восторг приходится приберечь для городской канализации, которая считается образцовой; это, однако, недавнее нововведение, так как несколько лет тому назад было совсем по-ино— му и нововведение вызвано жестоким уроком — страшной эпидемией желтой лихорадки. В те жуткие дни люди гибли сотнями, тысячами; и так велико было бегство и смертность, что население уменьшилось на три четверти и некоторое время так и не возрастало. Торговля почти совершенно замерла, и улицы были пусты, как по воскресеньям.
Вот описание Мемфиса в те страшные дни, сделанное немецким путешественником, который, очевидно, был свидетелем описанных сцен. Это выдержка из седьмой главы его книги, только что вышедшей в Лейпциге: «Путешествие по Миссисипи» Эрнста фон Гессе— Вартега:
«В августе желтая лихорадка достигла высшей точки. Ежедневно сотни людей падали жертвой этой страшной эпидемии. Город стал огромным кладбищем, две трети населения покинули его, и только бедняки, старики и больные остались там верной добычей беспощадного врага. Дома были заперты; маленькие фонари горели у многих дверей — знак того, что смерть посетила дом. Часто в одном доме лежало несколько мертвецов; окна были занавешены черным крепом. Лавки были заперты, потому что их владельцы уехали или умерли.
Страшный мор! В кратчайший срок он сражал и уносил даже самых сильных. Легкое недомогание, потом в течение часа лихорадка, потом ужасный бред и — «Желтая Смерть». На углах улиц, на площадях лежали больные, внезапно пораженные болезнью, и даже трупы, скрюченные и застывшие. Пищи не хватало. Мясо за несколько часов портилось и чернело в зловонном, зараженном воздухе.
Страшные вопли неслись из многих домов, потом через некоторое время замирали, и все смолкало; благородные, самоотверженные люди приходили с гробом, и колачивали его и уносили труп на кладбище. Ночью царила тишина. Только врачи да похоронные дроги спешили по улицам; а издалека по временам доносился заглушённый грохот поезда, который с быстротой ветра, словно преследуемый фуриями, пролетал, не останавливаясь, мимо зачумленного города».
Но теперь город полон жизни. Население уже превышает сорок тысяч и продолжает расти, а торговля к цветущем состоянии. Мы проехали по городу, посетили парк и веселую компанию тамошних белок, осмотрели прекрасные особняки, увитые розами и во всех отношениях очаровательные, и хорошо позавтракали в гостинице.
Очень преуспевает этот город Милосердного Самаритянина на Миссисипи: там большая оптовая торговля, литейные мастерские, механические и вагоностроительные мастерские, экипажные заведения и производство хлопкового масла; скоро там выстроят бумагопрядильни и элеваторы.
В прошлом году переработано пятьсот тысяч тюков хлопка — на шестьдесят тысяч больше, чем в предыдущем году. От здорового коммерческого сердца города отходит пять железнодорожных артерий, и скоро к ним прибавится шестая.
Город совсем не похож на тот Мемфис, который исчезнувшая и позабытая вереница иностранных путешественников описывала в своих книгах много лет тому назад. Во дни миссис Троллоп, теперь позабытой, но когда-то известной и горячо ненавидимой, Мемфис, очевидно, состоял из одной длинной улицы с деревянными домами и отдельными хижинами, разбросанными позади них, поближе к лесу; там да сям свиньи, и без конца грязь. Это было пятьдесят пять лет тому назад. Миссис Троллоп остановилась в гостинице. Разумеется, зто была не та гостиница, где мы завтракали. Миссис Троллоп рассказывает:
«Стол был накрыт на пятьдесят персон, и почти псе места заняты. Все ели в совершенной тишине и с такой удивительной быстротой, что их обед был окончен до того, как мы успели начать свой; единственными звуками был стук ножей и вилок с непрестанным аккомпанементом кашля и т. д. …»
«Кашля и т. д.». Это «и т. д.» заменяет очень неприятное слово, которое автор порою милосердно опускает, но иногда печатает. Вы найдете его в следующем описании обеда на пароходе, — она разделила трапезу с компанией аристократов-плантаторов; это были богатые, знатные и невежественные франты, наивно щеголявшие всяческими военными и судейскими титулами, столь излюбленными в те давние времена мишурной пышности и пустого чванства:
«Полнейшее отсутствие общепринятых правил учтивости за столом, жадная торопливость, с которой хватались и пожирались кушанья, странные, неграмотные обороты речи и произношение, отвратительное сплевывание, от последствий которого мы абсолютно не могли уберечь наши платья, ужасающая манера есть с ножа, так что все лезвие засовывалось в рот, и еще более ужасная манера чистить зубы после еды карманным ножом — все это вскоре заставило нас почувствовать, что мы окружены генералами, полковниками и майорами отнюдь не Старого Света и что час обеда будет для нас чем угодно, только не часом удовольствия».
(Опущенная глава.
За такие правдивые картинки наш народ осыпал бедную простодушную миссис Троллоп выразительнейшими ругательствами и оскорблениями. Но она только рассказала всю правду — и наш возмущенный народ это знал. Она рисовала быт, который не очень скоро изменился. В юности я еще застал такие же нравы и помню их отлично. Вообще все туристы стремились к правде, они честно старались рассказать все, как было, и им это удавалось, если только их не разыгрывали хитрые уроженцы этих мест из гнусной породы любителей таких шуточек. И почти все приезжие, за редчайшим исключением, излагали жестокие истины самым снисходительным образом, даже с некоторой неохотой, и хватались за каждое положительное явление, чтобы как можно ярче рассказать о нем.
Из всех туристов мне больше всего по душе госпожа Троллоп. Она тут нашла «цивилизацию», которую тебе, читатель, было бы трудно выдержать, — ты бы даже не счел это цивилизацией вообще! А миссис Троллоп говорила об этой цивилизации неприкрашенными словами,неприкрашенными и неподслащенными, и в то же время говорила честно, без всякой злобы и без ненависти. Иногда в ее голосе прорывается возмущение, но повод к нему вполне оправдан — когда речь идет о рабстве, о дебоширстве, о «рыцарственных» убийствах, фальшивой набожности и всяких других безобразиях, которые сейчас ненавистны всем, как были ненавистны ей в те времена. Ее всячески поносили за ее «предрассудки» но, по-видимому, это были предрассудки человечной душп, восставшей против бесчеловечности, честной совести — против обмана, хорошего воспитания — против хамства, и справедливого сердца — против несправедливых слов и дел.
Под тончайшей пленкой приличий миссис Троллоп нашла здесь полуварварство, выдававшее себя за высокую цивилизацию, и она содрала эту пленку и показала миру (да и самому этому обществу), что оно такое на самом деле. Она сдирала эту пленку спокойной, уверенной рукой, даже в большинстве случаев рукой осторожной, и всегда рукой доброй, — но все-таки она ее содрала.
Три года прожила она в этой нашей цивилизации, в самом сердце ее, а не на поверхности, как это бывало с большинством иностранных туристов в ее дни. Она отлично изучила свой материал и прямолинейно, честно, без всяких малодушных обиняков и оговорок изложила его. За это она заслуживала всяческой благодарности, но вы ошибетесь, если подумаете, что ее и вправду благодарили.
Почти все туристы были справедливы и честны, почти все относились к нам с искренним доброжелательством. Почти все они слишком старательно лакировали нас; горькую правду, касавшуюся нас, они прикрывали, как глазурью, смягченной и подкрашенной правдой, в которой явственно ощущался привкус искусной и старательной подсластки.
И только миссис Троллоп одна вела, как говорят игроки, честную игру, «в открытую». Она не покрывала нас позолотой, но не старалась и обелить нас. Хотите взглянуть на раздел из ее книги и на факсимиле одной из литографий, которая не только является иллюстрацией к этому разделу, но также воскрешает модные прически и шляпы 1827 года? Место действия: Цинциннати. Численность населения — двадцать тысяч, — а за семь лет до того было всего десять. Капитан Бэзил Холл с восхищением пишет о деловитом оживлении, царившем в этом удивительном городе, расположенном «в той части страны, где несколько лет назад» обитала «всего лишь кучка дикарей» — кучка, увеличившаяся до двадцати тысяч, если послушать миссис Троллоп. Теперь в Цинциннати больше трехсот тысяч жителей, да и вообще город сильно изменился. В наши дни снисходительные законы поощряют существование столь смертельно-вредного учреждения, как бильярдная, и даже не запрещают людям покупать и продавать карты для невинных игр. Но не то было в 1827 году. Капитан Холл называет город «очень приятным» и вообще говорит о нем много похвального — ибо этот человек, которого столь свирепо поносили наши предки, всегда говорил о наших недостатках самыми мягкими, самыми учтивыми словами и всегда был рад возможности сказать о нас что-нибудь хвалебное. Паше поколение воспитано в предубеждении, будто капитан Холл был подонком рода человеческого, что он — воплощение всех предрассудков, образец высокомерия, низости, желчности, зависти, злобы, неблагодарности, предательства, несправедливости и лжи. Однако всякий, ознакомившись с его книгой, к вящему своему удивлению обнаруяшт, что для истинного представления об этом англичанине вполне достаточно описать его словами, прямо противоположными том, что были сказаны, — и получится верный портрет.
Миссис Троллоп пишет, что Цинциннати «никак не назовешь красивым городом», — и можно поручиться, что она была права; но она также отмечает, то «пристань величественна и отлично вымощена». Вокруг пристани «опрятные, хотя и не весьма привлекательные строения». Она видала «пятнадцать пароходов, одновременно стоящих на якоре», — и все же половина «величественной» пристани «пустовала» — пристань была длиной с четверть мили.
Но все это — лишь вступление. Раздел из ее книги, который мы хотим привести, рассказывает о посещении театра. Ставили «Гамлета», играл молодой многообещающий актер по имени Эдвин Форрест. Миссис Троллоп «не берется предсказывать», что из него выйдет; во всяком случае, ей он показался невыносимым, она ушла с третьего действия, — и, вероятно, так сегодня поступил бы весь город Цинциннати, хотя и 1827 году, когда город еще был неуклюжим мальчишкой, манера игры Эдвина вполне удовлетворяла всех.
Вот выдержка из книги миссис Троллоп:
«В сущности, театр был совсем неплох, хотя весьма скудные сборы не позволяли поддерживать его в должном порядке; но гораздо больше, чем не совсем свежие декорации, досаждали манеры и поведение публики. Мужчины появлялись в нижних ложах без сюртуков, и я сама видела засученные выше локтя рукава рубах; все непрестанно плевались; смешанный запах лука и виски был так силен, что дажо удовольствие любоваться игрой миссис Дрэйк в роли Офелии было куплено слишком дорогой ценой, — оттого, что приходилось терпеть такое сопровождение. Мужчины ведут себя совершенно неописуемо: ноги задирают выше головы, весь задний фасад выставляют для обозрения публики или во всю длину разваливаются на скамье — вот положения, которые принимают эти искусники по части поз. Шум стоит непрестанный, и тоже чрезвы— чайно неприятного свойства; одобрение выражается криками и топаньем вместо хлопков, а когда зрителей обуял патриотический пыл и все стали требовать «Янки— Дудль», то казалось, будто каждый считает, что его добрая репутация гражданина зависит от силы шума, который он производит»,
В те годы всо это было правдой. Но мужайтесь! Мы явно исправляемся. Когда читаешь миссис Троллоп и потом знакомишься с книгой последнего нашего гостя, мистера Фримена, трудно себе представить, что они говорят об одной и той же стране. Однако это так. Оба писателя стараются рассказать правду — и оба этого вполне достигают.
Пока миссис Троллоп заканчивала путешествие по Западу, ее соотечественник, автор «Сайрила Торнтона и проч.» (других примет не имеется), с трудом пробирался по восточным штатам в санном возке. Много дикостей нашел он там. Спрингфилд, в Массачусетсе, был селением, где у деревянных домишек были портики из высоких, деревянных же, колонн коринфского и ионического стиля, — архитектурная нелепость, характерная не только для Спрингфилда. Это была мода, распространившаяся очень быстро по всей стране, так что сейчас не найти города в Америке, насчитывающего по менее шестидесяти лет, где бы не было образчиков этого смешного увлеченья. По мнению этого джентльмена, Хартфорд — «один из самых нелепых городов в мире». Там же он нашел грязную гостиницу. Он также обнаружил, что характер жителей Новой Англии является «своеобразной и противоестественной смесью достойного и низменного» (пропорция не указана!), В Нью— Хейвен он попал после наступления темноты — возок, очевидно, не торопился по дороге из Бостона и вышел из Хартфорда с опозданием на несколько часов против расписания.
«Гостиница была настолько переполнена, что хозяин прямо заявил — постели для меня нет. Я потребовал предоставить мне хотя бы диван и одеяло, но безуспешно, Однако хозяин все же смягчился. Он повел меня в какую-то неоштукатуренную собачью конуру, которая, очевидно, служила спальней слуге негру, выселенному ради меня. Постель невыносимо смердела, простыни были грязные, одеяло смахивало на старую попону. Кроме стола и деревянной табуретки, в помещении никакой обстановки не было; не оказалось там ни зеркала, ни умывальника, ни полотенец. Всо эти предметы мне обещали подать утром, но никто их не принес, несмотря на мои настойчивые требования. Жара в общей комнате была нестерпимой, а температура моей спальной представляла другую крайность.
В конце концов, вынужденный покинуть жаркий зал, я завернулся в свой плащ и попытался уснуть на грязной груде тряпок, с которой, очевидно, согнали их темнокожего владельца. Холод и крепкие запахи отнюдь но способствуют сну. Через два часа я встал и, ощупью пробравшись в уже опустевший зал, провел остаток ночи в кресле у огня».
За завтраком в Нью-Йорке путешественник столкнулся с обычаем, вызвавшим его неудовольствие:
«Должен отметить один омерзительный обычай. Вместо того чтобы есть яйца прямо из скорлупы, их выливают в рюмку, и, после того как их долго и противно перемешивают с маслом и другими приправами, эту смесь, смотря по ее консистенции, либо едят ложкой, либо пьют, как жидкость. Не считая себя достаточно компетентным, чтобы оценить преимущества столь неприятной процедуры, я по опыту могу сказать об ее отрицательном воздействии на аппетит непривычного к ней зрителя».
Вряд ли человеческая натура когда-либо проступала яснее, чем в этих строчках. Из них просто выпирает та подсознательная уверенность в собственном превосходстве, которая так сильна в каждом из нас. Оттого что данный наблюдатель и его соотечественники не едят яйца таким манером, он считает это «омерзительным». У него не возникло ни малейшего сомнения в том, что это — абсолютное мерило и достаточный критерий. Наверно, его манера завтракать показалась бы «омерзительной» такому утонченному существу, как белка, но об этом он и не думал, да если бы и думал, его нетерпимость не стала бы меньше. Возможно, он за столом сказал своим соседям, что их еда «омерзительна».
Должно быть, тогда и у них тоже пропал аппетит! И в то время как он, оставшись без завтрака, встал и пошел записывать в свою книжицу их неприличные обычаи, они ушли без завтрака жаловаться своим друзьям, что дурно воспитанный иностранец в их присутствии выражался непристойно. В сущности, обе стороны проявили глупый ребяческий снобизм, ибо обычай давно освятил кажущийся грех обеих сторон. Мы по-прежнему едим яйца по своему способу. Я видел, как их ели именно так самые хорошие люди — те, которые несомненно собираются попасть в рай. А слово «омерзительный» по-прежнему говорят самые воспитанные люди в Англии. Для нас слово «кровавый» ничуть не оскорбительно, но для английского уха оно столь же грубо, как слово «омерзительный» для ушей американца. Слово «гнусный» там вполне общепринято, как ни странно, — настолько общепринято, что оно могло бы попасть даже в молитвы, если бы люди сами придумывали свои обращения к богу, вместо того чтобы в готовом, окаменевшем виде получать их из церковных штабов. Но какое нам дело, что наши английские родичи любят слова «омерзительный» и «гнусный» и при этом не выносят слово «кровавый»? Никакого! Однако для того путешественника не существовало ничего, кроме убеждения: «Раз по-нашему — значит, правильно!»
[Цитирую его только потому, что он забавен. В отличие от книг других иностранных путешественников тех лет, его книга лишена и чувства достоинства, и мужества, и терпимости. Миссис Троллоп вызывает уважение, потому что она стоит у своих пушек, как настоящий храбрый воин, и намерения у нее честные. А когда ей приходится поджигать запал, она подносит спичку без всякого удовольствия и даже с огорчением, — но все же подносит. А этот несчастный, которому все действует на желудок, такой прирожденный лицемер, что каждый раз, как он говорит про нас гадости, он тут же, для смягчения удара, говорит еще большую гадость про Англию. И не один он так дипломатничает. Еще двое или трое из множества иностранцев, путешествовавших в те времена (только немного позднее), дают вам пощечину и тут же награждают пинком кого-нибудь иа своей семьи, считан, по глупости, что этот пинок исцеляет ту пощечину. Если бы они остановились вовремя, то на них обиделся бы кто-нибудь один, а так обижаются оба.]
Глава XXX. БЕГЛЫЕ НАБРОСКИ
Ниже Мемфиса река сильно разлилась — вода везде стояла вровень с берегами, а очень часто и выше берегов, она заливала леса и поля на мили вширь и ме— с гами доходила там до пятнадцати футов глубины; всюду виднелись признаки того, что даром пропали тяжкие труды человека: все надо было делать заново, на скудные средства, когда к тому же люди пали духом. Грустное зрелище — и без перерыва, на сотни миль. Иногда фонари бакенов стояли над водой глубиною в три фута, на опушке густого леса, который тянулся на целые мили — без ферм, лесопилен, просек и вообще без всякого просвета; это означало, что бакенщику надо было приплывать в ялике издалека, чтобы исполнить свои обязанности, и часто в отчаянную погоду. Но мне говорили, что работа добросовестно выполняется при любой погоде и не всегда мужчинами — иногда и женщинами, если муж болей или уехал. Правительство дает керосин и платит десять — пятнадцать долларов в месяц за то, чтобы содержать в порядке и зажигать фонари. Государственный пароход развозит керосин и жалованье раз в месяц.
Окрестности Корабельного острова так же лесисты и безлюдны, как прежде. Остров перестал быть островом — он плотно соединился с берегом, и там, где плавали корабли, теперь проезжают телеги. Не видно никаких признаков затонувшей «Пенсильвании». В один прекрасный день какой-нибудь фермер выроет плугом ее останки и, вероятно, будет очень удивлен.
Мы теперь попали в край бродячих негров. Эти бедняки не могли путешествовать, когда были рабами, и сейчас они стараются наверстать упущенное. Они живут на плантации, пока жажда странствий не охватит их; тогда они складывают вещи, окликают пароход и отправляются в путь. И не в какое-нибудь определенное место, нет, — любое место им подходит, они просто хотят двигаться. Все зависит от того, сколько у них на руках денег. Провезут их за эти деньги пятьдесят миль — ладно, пусть будет пятьдесят. А не провезут — можно проехать и меньше.
Несколько дней подряд мы останавливались по их требованию. Иногда мы видели несколько полуразрушенных наводнением жалких хижин, населенных только чернокожими, белых совсем не было; кое-где — полоски голой сухой земли; несколько срубленных деревьев, и около них худые, как скелет, коровы, мулы и лошади жуют листья или глодают кору, — нет другой пищи в опустошенном наводнением крае. Иногда вместо пристани стоит одинокая хижина, около нее — чернокожая семья, которая нас окликает; дети, взрослые, старики и молодежь угнездились среди жалкой груды домашнего скарба; все имущество состоит из ржавого ружья, постельного тряпья, ящиков, жестяной посуды, табуреток, треснутого зеркала, почтенного кресла и шести — восьми глупых желтых дворняжек, чья привязанность к семейству обеспечивается при помощи веревки. Собаки им необходимы, без собак они не могут уехать. Но собаки ехать не желают и всегда протестуют, — и одну за другой, нелепой вереницей, их тянут на пароход; собака упирается всеми четырьмя лапами и скользит по трапу, голова чуть не отрывается, но «тягач» упрямо шагает вперед, сгибаясь от напряжения, перекинув веревку через плечо для большего упора. Ребенка иногда забывают и оставляют на берегу, но собаку — никогда.
В лоцманской рубке плелись обычные речные россказни. Вот остров 63 — остров с прелестной протокой в былые времена. Рассказывают, что у Джесса Джеми— сона в одном из рейсов на «Жаворонке» был в гостях безработный лоцман — несчастный, измученный, одряхлевший человек, — и Джесс передал ему штурвал до конца вахты, как раз у подхода к острову 63, Старый речник пошел вверх по протоке, а потом, обойдя остров, — вниз по реке, и снова вверх по протоке и вниз по реке; и еще раз, и еще раз; через три часа добросовестных стараний он передал штурвал сменному лоцману у того же подхода к острову 63, где взял управление! Негр на берегу, видевший, как пароход прошел мимо раз тринадцать, сказал: «Господи, да у них, верно, все пароходство состоит из одних «Жаворонков»!
Вот анекдот, показывающий, как установившаяся репутация влияет на мнения. Пароход «Затмение» славился своей быстроходностью. Как-то он прошел мимо; старый негр на берегу, поглощенный своим делом, не заметил, какой это был пароход. Потом кто-то его спросил:
— Тут проходил пароход?
— Да, сэр.
— Он быстро шел?
— Нет, так себе, шел потихонечку.
— Да ты знаешь, какой это пароход?
— Нет, сэр.
— Ведь это же «Затмение», дядя!
— Да ну? А ведь верно, честное слово. И несся он прямо как молния!
А вот исторический пример жестоких нравов здешних обитателей. В первые недели подъема воды жерди из забора, принадлежавшего А., были унесены водой на землю В., а во время спада воды унесло и выбросило забор Б. на землю А. Тогда А. сказал: «Пусть так и останется: я возьму твои жерди, а ты бери мои». Но Б. возражал он но желал меняться. Как-то А. пришел к Б. за своим забором. Б. говорит: «Я тебя убью», — и бросился иа него с пистолетом. А. говорит: «Я без оружия». Б. был человек, любивший справедливость, поэтому он бросил пистолет на землю, вытащил нож и стал резать А. глотку, но главное внимание обратил на переднюю сторону и поэтому не успел перерезать сонную артерию. Отбиваясь, А. ухитрился схватить брошенный пистолет и застрелил Б. насмерть, сам же потом поправился.
Поболтали еще, потом все пошли вниз пить кофе, а меня оставили у штурвала в одиночестве. Вдруг что-то напомнило мне час нашего отплытия из Сент-JIynca, который я провел на верхней палубе, у кормы. Ко мне подошел тогда незнакомый человек, завязавший со мной разговор, — бойкий юнец, который, по его словам, родился в одном нз глухих городишек штата Висконсин и никогда в жизни, до прошлой недели, не видел парохода. Он рассказал, что, плывя вниз по реке от Ла-Кросса, он так прилежно и с таким страстным интересом осматривал и изучал пароход, что сейчас знает всю эту штуковину от носа до руля. Спросил меня, откуда я. Я ответил: «Из Новой Англии».— «Ага! Янки!»— заметил он и продолжал болтать, не ожидая ни возражения, ни подтверждения. он сразу предложил мне осмотреть пароход и обещал назвать его части и объяснить их назначение. Прежде чем я успел отказаться или возразить, он уже весело затараторил, желая меня облагодетельствовать; но, заметив, что он неправильно называет части парохода и негостеприимно забавляется за счет наивного чужеземца из далеких краев, я замолчал и дал ему волю. Он сообщил мне пропасть всяких неверных сведений, и чем дольше он говорил, тем больше разыгрывалось его воображение и тем больше он наслаждался этим жестоким обманом. Иногда, сообщив мне особенно фантастическую и дикую ложь, он так давился смехом, что ему приходилось на минуту под благовидным предлогом убегать в сторонку, чтобы я ничего не заподозрил. Я добросовестно не отходил от него, пока эта комедия не кончилась. Он объявил, что взялся «обучить» меня всему, что касается парохода, и выполнил свои обязанности; но если он что-нибудь пропустил, то, пожалуйста, мол, спросите, и он с удовольствием восполнит пробел. «Если вам нужно будет на пароходе узнать название или устройство какой-нибудь части, вы обратитесь ко мне, и я вам все объясню». Я сказал, что непременно спрошу, и ушел, исчез, а потом подошел к нему незаметно, с другой стороны, откуда он меня не мог видеть. Он сидел один и в припадке неудержимого хохота корчился и гнулся в три погибели. Наверно, он заболел от смеха, потому что его потом не было видно несколько дней. Со временем я совершенно позабыл этот случай.
Сейчас, когда я остался один у штурвала, я вспомнил нашу встречу, увидев этого юношу в дверях рубки; он сжимал дверную ручку и молчаливо и сурово разглядывал меня. Кажется, я никогда но видывал более обиженного лица. Он ничего не говорил — он просто стоял и смотрел, смотрел с упреком и что-то соображал. Потом он затворил дверь и ушел, на минуту задержался на палубе, медленно вернулся и снова остановился в дверях с тем же огорченным видом, посмотрел на меня с немым укором и наконец произнес:
— Вы мне позволили обучать вас всему, что касается парохода, правда?
— Да, — сознался я.
— Вы это сделали?
— Да.
— Вы — тот самый человек, который… который…
Слов не хватало. Пауза, бессильная попытка что-то еще сказать, — но он махнул рукой, выдавил мрачное, тяжелое проклятие и совсем ушел. Потом я его часто видел внизу во время пути, но он был холоден и даже иа меня не смотрел. Идиот, если бы он не поспешил тогда с самого начала разыграть меня таким дурацким образом, я бы, наверно, направил его мысли в другую сторону и спас от глупейшей невежливой выходки.
Я сам напросился на вахту в четыре утра, потому что никогда не надоест смотреть иа летние восходы солнца на Миссисипи. Они просто чарующи. Сначала выразительная тишина, глубокое молчание повсюду. Потом жуткое ощущение одиночества, отрезанности, удаленности от суеты и суматохи мира. Украдкой пробивается paccвет; плотные стены черного леса мягко сереют, и широкие просторы реки открываются и становятся виднее; вода как стекло, над ней призрачно клубится белая мгла; ни малейшего дыхания ветра, ни один листок не шевельнется, глубокое, бесконечно радующее спокойствие. Но вот запела птица, за ней другая, и скоро их голоса сливаются в ликующий взрыв музыки. Птиц не видно — вы просто плывете среди песни, которая как будто льется сама по себе. А когда свет становится сильнее, развертывается такая чудесная, такая радостная картина, какой и не вообразить.
Ближе к вам — яркая зелень густой, непроницаемой листвы, дальше она, от оттенка к оттенку, бледнеет; на ближайшем мысу, в миле от вас, листва кажется светлой, как нежная весенняя поросль, на следующем мысу листва почти бесцветна, а дальний мыс — за много миль, у самого горизонта, — спит на воде, как смутное облако, и его почти не отличить от неба над ним и вокруг него.; Все пространство реки — как зеркало: призрачно отражаются в ней листва, извилины берегов и дальние мысы. Да, ото прекрасно — нежно, и нарядно, и прекрасно. А когда солнце совсем взойдет и заиграет — здесь розовым румянцем, там золотым блеском, а то лиловой дымкой там, где она эффектнее всего, — можете поручиться, что вы видели зрелище, которое стоит запомнить!
Рано утром мы прошли Кентуккийскую излучину — место странного и трагического происшествия в былые времена. У капитана По была небольшая паровая яхта, на которой он с женой жил много лет. Однажды ночью яхта наткнулась на корягу у Кентуккийской излучины и стала тонуть с поразительной быстротой — вода уже стояла над полом в каюте, когда капитан выбежал на корму. Тут он начал рубить палубу, чтобы пробить отверстие в каюту жены: она спала на верхней койке; настил оказался тоньше, чем капитан думал, и при первом же ударе топор прошел сквозь истлевшие доски и разнес череп жене.
Сейчас эта излучина затянута песком, так как река проложила новое русло, и по той же причине большая и очень оживленная прежде Ореховая излучина теперь осталась в стороне, далеко от обычного курса пароходов.
Мы посетили Хелину и другой город, о котором я раньше не слыхал, потому что он только что вырос, — Арканзас-Сити. Он порожден железной дорогой: линия Литлрок — Миссисипи — Техас подходит тут к самой реке. Мы спросили пассажира, местного жителя, что это за город. «Знаете, — сказал он, задумчиво, с видом человека, который медлит, чтобы выразиться как можно точнее,—это чертова дыра». Описание — фотографически точное. Ободранные дощатые домишки стоят рядами или сбившись и кучу, а запас грязи достаточен, чтобы обеспечить этим товаром город на сотню лет вперед: ведь наводнение только недавно отступило. На улицах виднелись там и сям глубокие лужи, и в разных местах был разбросан десяток грубо сколоченных лодок; валялись они там, где им приключилось быть, когда вода отступила и люди снова могли ходить в гости и за покупками пешком. И все же этот городок растет, за ним лежат богатые окрестности, рядом — элеватор и большой, хороший завод для производства хлопкового масла. Я раньше таких заводов не видывал.
Хлопковое семя в мои времена почти ничего не стоило. Теперь оно стоит от двенадцати до тринадцати долларов тонна, и его не выбрасывают. Масло, выжатое из этих семян, бесцветно, безвкусно и почти или даже совсем без запаха. Утверждают, что, подвергшись особой обработке, оно может служить подделкой и заменой любого масла и в то же время стоить дешевле самого дешевого из них. Умные люди возили его в Италию, подправляли, наклеивали ярлычки и привозили обратно под видом оливкового масла. Эта торговля до того разрослась, что Италия оказалась вынужденной наложить запрет на ввоз хлопкового масла, чтобы не пострадала ее собственная торговля оливковым маслом.
Хелина расположена в одном из красивейших мест на Миссисипи. Она стоит на самом крайнем, самом южном холме, виднеющемся по эту сторону реки. В обычное время — это прелестный город, но наводнение (а может быть, и спад воды) недавно опустошило его: улицы были залиты грязной водой, а стены домов все еще опоясывает широкая темная полоса, подымающаяся от фундамента; всюду валялись брошенные и забытые лодки; деревянные настилы на четырехфутовых подпорах всо еще стоили; дощатые тротуары, настланные на земле, были развалены и разбиты: когда по ним проходили два человека, слепой мог бы подумать, что идет кавалерийская атака; везде была грязь, черная и глубокая, а во многих местах стояли малярийные лужи затхлой воды. Наводнение на Миссисипи — если не считать пожара — самое разрушительное и ужасное бедствие.
Мы славно провели тут время в этот солнечный воскресный день — два часа полной свободы на берегу, пока пароход разгружался. Подальше от центра на улицах было мало белых, но зато множество цветной публики, главным образом женщин и девиц. Почти все были разряжены в яркие новые платья самого шикарного и затейливого стиля и покроя, — резкий и забавный контраст с унылой грязью и задумчивыми лужами.
Хелина — второй но населенности город в штате Арканзас; там насчитывается около пяти тысяч жителей. Земля вокруг необычайно плодородна. Хелина успешно торгует хлопком, продает от сорока до шестидесяти тысяч кип в год, а также ведет большую торговлю лесом и зерном; имеются тут литейный и маслодавильные заводы, механические и каретные мастерские, — короче: около миллиона долларов вложено в промышленность.
Там проходят две железные дороги — это коммерческий центр большого и богатого района. Новоорлеанский «Таймс-Демократ» определяет общий годовой доход города в четыре миллиона долларов.
Глава XXXI. ОТПЕЧАТОК БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА, И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО
Мы подходили к Наполеону в Арканзасе. Тут я стал подумывать о том, что мне там предстояло сделать. Стоял полдень ясный и солнечный. Это к худшему — во всяком случае, не к лучшему, — ибо мое дело желательно выполнить не при дневном свете. Чем больше я раздумывал, тем очевиднее становился для меня этот факт то с одной, то с другой точки зрения. Наконец передо мной встал четкий вопрос: имеет ли смысл выполнять днем это поручение, если, принеся в жертву удобства и личные вкусы, можно посвятить ему ночь и не привлечь тогда никаких любопытных взоров? Я больше не колебался. Простой вопрос и простой ответ — лучший выход из большинства запутанных положений,
Я позвал своих друзей к себе и каюту и сказал, что очень огорчен, если они будут разочарованы и недовольны, но, но некоторым соображениям, лучше всего взять наши вещи и высадиться в Наполеоне. Они взбунтовались и, не стесняясь в выражениях, высказали свое неодобрение громко и решительно! Главный их довод был тот, какой испокон веков всегда выплывает первым в таких случаях: «Но ведь вы решили, вы согласились остаться на этом пароходе» и т. д., — как будто если человек решил сделать глупость, он обязан продолжать в том же духе и совершить двойную глупость, выполняя свое решение.
Я приводил различные смягчающие доводы и добился некоторого успеха; ободренный этим, я удвоил усилия и, чтобы доказать, что не я выдумал это докучное поручение и ни в какой мере за него не ответствен, тут же рассказал им его историю. Вот она в главных чертах.
В конце прошлого года я провел несколько месяцев и Мюнхене, в Баварии. В ноябре я жил в пансионе фрейлейн Дальвайнер на Карлштрассе, 1-а, но мой рабочий кабинет был расположен в миле оттуда, в доме вдовы, которая жила тем, что сдавала комнаты. Вдова и двое ее детишек по моей просьбе каждое утро забегали ко мне поговорить со мной по-немецки. Однажды, бродя по городу, я посетил одно из казенных учреждений, где содержат под наблюдением покойников, пока доктора не решат, что они действительно умерли, а не находятся в летаргическом сне. Страшное место — эта большая комната. Там лежало тридцать шесть трупов взрослых людей, вытянувшихся на слегка наклонных скамьях в три длинных ряда, — все с восковыми, белыми, неподвижными лицами и все закутанные в белые саваны. В стенах комнаты были сделаны глубокие альковы вроде окон, и в них лежали с мраморными лицами дети, совершенно спрятанные под ворохом живых цветов, так что виднелись только личики и сложенные накрест руки. И у каждой из пятидесяти фигур — больших и маленьких — на пальце было кольцо; от кольца шла проволока к потолку и оттуда — к звонку в дежурную комнату, где днем и ночью бодрствовал сторож, готовый прибежать на помощь к тому из этих бледных призраков, кто, пробудившись от смерти, сделает движение: потому что от любого, даже самого слабого движения дернется провод и страшный звонок зазвонит. Я представил себе, как бы я сидел сторожем смерти один, в поздние часы унылой дождливой ночи, и как все мое тело моментально превратилось бы в дрожащий студень при неожиданном звуке жуткого призыва. Поэтому я стал подробно расспрашивать и задал вопрос: что же будет, если умрет сам сторож и воскресший покойник придет облегчить ему последние минуты жизни? Но меня упрекнули в праздном и легкомысленном любопытстве в таком торжественном и печальном месте, и я ушел пристыженный.
На следующее утро я рассказал вдове о моем приключении, и она воскликнула:
— Пойдемте со мной! У нас есть жилец, который расскажет вам все, что вас интересует. Он служил там ночным сторожем.
Этот человек был жив, но не похож на живого. он лежал в постели, и голова его опиралась на высокие подушки, лицо было измождено и бескровно, глубоко провалившиеся глаза закрыты, рука, лежавшая на груди, походила на птичью лапу — до того костлявы были длинные пальцы. Вдова стала объяснять ему, кто я такой. Глаза человека медленно приоткрылись и зло заблестели из глубоких впадин; он мрачно нахмурился, поднял тощую руку и повелительно отстранил нас. Но вдова не сдавалась, пока не втолковала ему, что я приезжий и американец. Его лицо сразу изменилось: оно просветлело, даже ожило, — и через минуту мы с ним оказались наедине.
Я начал говорить на тяжеловесном немецком языке, он ответил на вполне гибком английском, после чего мы оставили немецкий в блаженном покое.
Я подружился с этим чахоточным и посещал его ежедневно. Мы говорили обо всем. Вернее — обо всем, кроме жен и детей. Стоило только упомянуть о чьей— нибудь жене или чьем-нибудь ребенке, и это вызывало в нем одну за другой три перемены: сначала в глазах его зажигался самый добрый, любящий и нежный взгляд; и следующий миг он угасал и заменялся мертвенным взглядом, какой я увидел, когда он впервые поднял веки; затем человек замолкал на весь день и лежал безмолвно, где-то витая мыслями, чем-то поглощенный, как будто не слышал, что я говорю; не обращал внимания, когда я прощался, и, очевидно, не воспринимал ни зрением, ни слухом, что я покидаю комнату.
После того как я в течение двух месяцев был единственным ежедневным посетителем Карла Риттера (так звали этого человека), он однажды проговорил отрывисто:
— Я расскажу вам мою историю.
И он рассказал следующее:
ИСПОВЕДЬ УМИРАЮЩЕГО
«Я до сих пор не сдавался. Но теперь я сдался. Скоро я умру. Я понял прошлой ночью, что это случится, и, вероятно, очень скоро. Вы говорите, что собираетесь когда-нибудь снова посетить вашу реку. Хорошо; теперь, после одного очень странного случая, который произошел со мною нынче ночью, я могу рассказать вам мою историю, потому что вы увидите город Наполеон в Арканзасе; и ради меня вы там остановитесь и сделаете для меня кое-что, вы охотно сделаете это поело того, как выслушаете мой рассказ.
Давайте сократим его, как только можно: он очень длинен. Вы уже знаете, как я попал в Америку и поселился в одной местности на Юге. Но вы не знаете, что у меня была жена. Моя жена была молода, прекрасна, любила меня; она была божественно добра, безупречна, нежна! А наша дочурка — миниатюрная копия матери… Наша маленькая семья была счастливейшей из счастливых.
Однажды ночью — это было к концу войны — я очнулся от тяжелого сна и почувствовал, что связан, что мне заткнули рот, а в воздухе пахнет хлороформом. Я увидел в комнате двух мужчин, и один говорил другому хриплым шепотом:
— Я же предупреждал ее, что так будет, если она станет шуметь, а насчет ребенка…
Другой перебил тихим, слезливым голосом:
— Ты говорил, что мы их только свяжем и ограбим, но не тронем, а то бы я не пошел.
— Ну, не скули! Пришлось переменить план, когда они проснулись; ты все сделал, чтобы защитить их, будь этим доволен. Ну, помоги мне пошарить тут.
Оба человека были в масках, в грубой и рваной одежде. Они держали потайной фонарь, и при его свете я заметил, что у более мягкосердного грабителя на правой руке не было большого пальца. Они шарили в моей бедной хижине несколько минут; потом главный бандит проговорил своим театральным шепотом:
— Зря тратим время, — пусть он скажет, где что спрятано. Вынь у него кляп да взбодри его хорошенько.
Другой сказал:
— Ладно, только без битья.
— Ну, давай без битья, если он не будет орать.
Они подошли ко мне, как вдруг снаружи послышался шум — чьи-то голоса и топот копыт. Грабители затаили дыхание и прислушались; звуки все приближались, затем раздался окрик:
— Эй, кто дома? Зажгите огонь, дайте нам напиться!
— Голос капитана, черт возьми! — воскликнул один из мерзавцев — тот, что говорил театральным шепотом; и оба грабителя выскочили через заднюю дверь, потушив на бегу фонарь.
Проезжие еще несколько раз крикнули, потом проскакали дальше, — мне показалось, было с десяток коней, — и больше я ничего не слышал.
Я старался изо всех сил, но не мог высвободиться из пут. Пытался говорить, но кляп во рту был засунут хорошо: я не мог произнести ни звука. Я прислушивался, не зазвучит ли голос жены или ребенка, — слушал долго и настойчиво, но ни один звук не раздавался с того конца комнаты, где была их постель. Тишина становилась с каждым мигом все страшнее и страшнее, все зловещее и зловещее. Могли бы вы вытерпеть хоть час этой муки, как вы думаете? Пожалейте же меня, ведь мне пришлось вытерпеть три часа… Три часа? Нет, три столетия. Когда били часы, мне казалось, что годы прошли с тех пор, как они били и последний раз. Все это время я рвался в путах и наконец к рассвету высвободился — встал и расправил затекшее тело. И уже мог хорошо разглядеть окружающее. Пол был усыпан вещами, которые разбросали разбойники в поисках моих сбережений. Первый предмет, привлекший сразу мое внимание, был один из моих документов: я видел, как более свирепый разбойник взглянул на него и отбросил. На бумаге была кровь. Шатаясь, я прошел и другой конец комнаты. Бедные, безобидные, беспомощные создания! Они лежали неподвижно, их муки окончились, а мои только начинались!
Обратился ли я за помощью к закону? Я? А разве утолит жажду нищего то, что король за него напьется? О нет, нет, нет! Мне не нужно было грубое вмешательство закона. Ни закон, ни виселица не могли оплатить то, что мне задолжали. Пусть закон предоставит мне действовать — и не боится: я найду должника и получу свое. Как это сделать, вы спрашиваете? Как выполнить и быть уверенным, что выполнишь, если я не виде:,, лиц разбойников, не слышал их естественных голосов и не имел представления, кто они такие? И все же я был уверен, я был вполне, совершенно уверен, — у меня был ключ, ключ, который вам показался бы незначительным, ключ, который не помог бы даже сыщику, потому что он но знал бы тайны ого применения. Я к этому сейчас, вернусь, и вы поймете. Пока что будем продолжать по порядку. Было одно обстоятельство, которое давало мне указание, в каком направлении начинать поиски: эти грабители были, очевидно, солдаты, переодетые бродягами; и не новобранцы, а старые солдаты, возможно солдаты регулярных войск; военная выправка, жесты, походка у них вырабатывались не день, не месяц и даже не год. Так я думал, но ничего не говорил. И один из них сказал: «Голос капитана, черт возьми», — и сказал тот, кого я собирался убить. В двух милях от нас несколько полков стояло в лагере, и среди них были два эскадрона кавалерии. Когда я узнал, что капитан Блэкли из второго эскадрона в ту ночь проезжал мимо нас с конвоем, я ничего не сказал, но в этом эскадроне я решил искать того, кто был мне нужен. В разговоре я всегда тщательно и упорно описывал грабителей как бродяг, обычно идущих за войском; и все бесплодно искали грабителей среди них, и, кроме меня, никто не подозревал кого-нибудь из солдат.
Терпеливо работая по ночам в моем одиноком жилище, я сшил себе из тряпья одежду для переодевания, в соседнем городке купил синие очки. Когда наконец части снялись с лагеря и второй эскадрон был назначен в Наполеон, в ста милях от нас, я зашил свои небольшие сбережения в пояс и ночью ушел. Когда второй эскадрон пришел в Наполеон, я был уже там. Да, я был там, и притом с новым ремеслом — я стал гадальщиком. Чтобы не выдавать своей заинтересованности, я перезнакомился со всеми ротами, которые стояли там гарнизоном, и всем предсказывал судьбу, но главное внимание я обращал на второй эскадрон. Я был безгранично услужлив, особенно по отношенпю к солдатам этого эскадрона: не было одолжения, не было риска, на который я бы для них не пошел; я стал добровольной мишенью их шуток: это увеличивало мою популярность, я стал любимцем.
Я быстро нашел рядового, у которого не хватало большого пальца, — и какая это была для меня радость! А когда я узнал, что он один из всего эскадрона потерял палец, последние сомнения у меня исчезли, — я был уверен, что напал на верный след, Звали этого человека Крюгер, он был немец. В эскадроне было девять немцев. Я хотел проследить, кто его друг, — однако у него, по-видимому, не было близких друзей. Тогда я стал его другом и старался, чтобы моя дружба с ним росла. Иногда я так жаждал мести, что едва удерживался от того, чтобы упасть перед ним на колени и вымолить у него имя человека, убившего мою жену и ребенка; но я обуздывал себя. Я дожидался своего часа и продолжал предсказывать судьбу всем желающим.
Мои приспособления были просты: немного красной краски и клочок белой бумаги. Тому, кто ко мне обращался, я смазывал подушечку большого пальца, делал отпечаток на бумаге, ночью изучал отпечаток и на следующий день предсказывал судьбу. Зачем мне эта вся чепуха понадобилась? Дело вот в чем: в молодости я знавал одного старика француза, который тридцать лет был надсмотрщиком в тюрьме, и он мне сказал, что одно никогда не меняется у человека от колыбели до могилы — это линии на подушечке большого пальца, и он еще говорил, что нет двух людей с совершенно схожими линиями. Теперь мы фотографируем нового преступника и храним его портрет в галерее преступных субъектов для справок; но этот француз в свое время брал отпечаток большого пальца у каждого нового арестанта и хранил для будущих справок. Он всегда говорил, что портреты не годятся, потому что переодевание с гримом могут их сделать бесполезными, «Отпечаток пальца — вот единственная достоверная примета,— говорил он, — его уже не замаскируешь». И он доказывал свою теорию на моих друзьях и знакомых и всегда оказывался прав.
Я продолжал предсказывать судьбу. Каждую ночь я запирался один и сквозь лупу изучал собранные за день отпечатки пальцев. Представьте себе то всепожирающее внимание, с каким я корпел над этими смутными красными извилинами, сличая их с документом, на котором остались следы пальцев правой руки неизвестного мне убийцы, отпечатанные самой дорогой для меня кровью, какая была пролита на земле! И сколько раз я повторял в отчаянии одну и ту жe фразу: «Неужели никогда не совпадут?»
Но наконец я был вознагражден. Это был отпечаток пальца сорок третьего солдата из второго эскадрона, где я проделывал свои опыты, — рядового Франца Адлера. За час до того я не знал ни имени убийцы, ни его голоса, ни его фигуры, ни лица, ни национальности; но теперь я знал все; мне казалось, что я могу быть вполне уверен: ведь доказательства старого француза были неоспоримы. Но был способ удостовериться окончательно. У меня имелся отпечаток левого большого пальца Крюгера. Утром, когда он был свободен от наряда, я отвел его в сторону; и когда мы оказались вдали от чужих глаз и ушей, я многозначительно сказал:
— В вашей судьбе есть такие серьезные вещи, что я решил лучше не говорить о них при посторонних. Вы и другой человек, чью судьбу я изучал сегодня ночью, — рядовой Адлер, — убили женщину и ребенка! Вас выследили; через пять дней вы оба будете убиты.
Он упал на колени, перепуганный до полусмерти; и в течение пяти .минут оп, как безумный, бормотал одни и тс же слова, тем же плачущим голосом, что мне запомнился той кровавой ночью в моей хижине:
— Я не делал этого, клянусь душой, я ничего не делал; и я хотел его удержать, вот бог мне свидетель. Он один во всем виноват!
Это было все, что мне требовалось. Я попытался избавиться от этого дурака, но он виснул на мне, умоляя спасти его от убийцы. Он сказал:
— У меня есть деньги — десять тысяч долларов, хорошо запрятанные, — я их скопил воровством и грабежами; спасите меня, скажите, что мне делать, — и я отдам вам все до последнего гроша. Дне трети принадлежат моему двоюродному брату Адлеру, но можете взять их все. Мы их спрятали, когда приехали сюда. Однако вчера я нх перепрятал и не сказал ему — и не скажу. Я хотел дезертировать и удрать с деньгами. Они в золотых монетах, их тяжело нести, когда человек бежит и скрывается. Но одна женщина, которая отправилась за реку два дня тому назад, чтобы подготовить все для моего бегства, привезет мне деньги, и если бы я не успел лично рассказать ей, где спрятаны деньги, то я сунул бы ей в руку мои серебряные часы или послал их ей, — она бы все поняла. Под крышкой часов спрятана записка, где все сказано. Вот, возьмите их, — научите меня, что мне делать!
Он пытался всучить мне часы, показывал записку и объяснял мне ее; как вдруг ярдах в десяти от нас показался Адлер. Я сказал этому жалкому Крюгеру:
— Спрячьте ваши часы, они мне не нужны. С вами ничего не случится. А теперь уйдите. Я должен предсказать Адлеру его судьбу. Потом я скажу вам, как отделаться от убийцы: мне надо еще раз исследовать отпечаток нашего пальца. Ничего не говорите Адлеру, никому ничего не говорите!
Поднята ушел, полный страха и благодарности. Я долго предсказывал Адлеру его судьбу — нарочно так долго, что не успел окончить; тогда я пообещал ему прийти этой же ночью, когда он будет стоять на часах, и рассказать о самой важной части его судьбы — трагической части, как я сказал, почему и надо, чтобы нас но подслушивали. Вокруг города всегда ставили пикеты — для дисциплины и для проформы, так как неприятеля нигде не было.
К полуночи я вышел, запасшись паролем, и стал пробираться к уединенному месту, где должен был стоять на часах Адлер. Было уже темно, так что я почти наткнулся на неясную фигуру, прежде чем успел выговорить пароль. Часовой окликнул меня, и я ответил. Почти сейчас же я добавил: «Это я, гадальщик». Тут я скользнул к нему и без слов погрузил кинжал в его сердце. «Jawohl, — засмеялся я, — это действительно трагическая часть его судьбы!» Падая с лошади, он вцепился в меня, и мои синие очки остались у него в руке, а конь шарахнулся в сторону, волоча его за ногу, запутавшуюся в стремени.
Я бежал через лес и благополучно скрылся, оставив выдававшие меня очки в руке мертвеца.
Это случилось пятнадцать или шестнадцать лет тому назад. С тех пор я бесцельно блуждал по земле, иногда работая, иногда без дела; иногда при деньгах, иногда без гроша, — по всегда без вкуса к жизни, желая конца моим странствиям, ибо моя миссия на земле была закончена той ночью. И единственное удовольствие, утешение, удовлетворение во все эти тоскливые годы я черпал в ежедневной мысли: «Я убпл его».
Четыре года тому назад мое здоровье стало сдавать. В бесцельных своих скитаниях я добрел до Мюнхена. Так как я был без денег, то стал искать работы, нашел ее, добросовестно выполнял свои обязанности целый год, а потом получил место ночного сторожа в той мертвецкой, которую вы недавно посетили. Эта должность соответствовала моему настроению. Мне она пришлась по душе. Мне нравилось быть с мертвецами, быть наедине с ними. Я часами бродил среди неподвижных тел, вглядываясь в строгие лица. Чем позднее был час, тем впечатление было сильнее; я предпочитал самое позднее время. Иногда я уменьшал свет: это, понимаете, создавало обстановку, и воображение разыгрывалось: смутные, уходящие в глубину ряды мертвецов всегда вызывали в сознании зловещие, захватывающие образы. Два года тому назад, — я уже служил там около года, — я сидел один в дежурной комнате, в бурную зимнюю ночь, сидел продрогший, окоченевший, несчастный; дремота одолевала меня, и я то и дело впадал в забытье; всхлипывания ветра и хлопанье дальних ставней становились все смутнее для моего тупеющего слуха… и вдруг резко и внезапно над моей головой прозвенел звонок, страшным, леденящим кровь набатом. Потрясение почти парализовало меня: ведь я впервые услышал страшный сигнал.
Я собрался с духом и помчался в покойницкую. Почти в середине первого ряда спдела, выпрямившись, завернутая в саван фигура и медленно покачивала головой. Зловещее зрелище! Она сидела ко мне боком; я подбежал и заглянул прямо в лицо. О боже! это был Адлер!
Можете вы догадаться, какая мысль первой мелькнула у меня? Словами ее можно выразить так: «Значит, ты спасся от меня однажды; теперь тебе уже несдобровать!»
Очевидно, этот человек испытывал невероятный ужас. Подумайте, каково ему было проснуться посреди этой безмолвной тишины и увидеть мрачное сборище мертвецов. Какая радость осветила его исхудавшее, бледное лицо, когда он увидел перед собой живое существо. И как еще возрос жар этой немой благодарности судьбе, когда он увидел животворное лекарство у меня в руках. Но представьте себе ужас, проступивший на этом изможденном лице, когда я отставил лекарство и насмешливо проговорил:
— Ну, Франц Адлер, взывай к этим мертвецам! Конечно, они выслушают тебя и сжалятся над тобой, но больше здесь нет никого, кто бы пожалел тебя!
Он питался заговорить, но край савана, который обхватывал его челюсть, но поддавался и но позволял ему открыть рог. Он пытался умоляюще поднять руки, но они были скрещены на груди и спеленаты. Я сказал:
— Кричи, Франц Адлер, пусть спящие на дальних улицах услышат тебя и придут на помощь. Кричи — и не теряй времени, его осталось немного. Как? Ты не можешь? Жаль, но, впрочем, это не важно — ведь и крик не всегда помогает. Когда вы с твоим братом убили беспомощную женщину и ребенка в хижине там, в Арканзасе, — мою жену и моего ребенка, — те тоже звали на помощь, помнишь? Но это им не помогло, ведь так? У тебя зубы стучат — так почему же ты не можешь кричать? Развяжи повязку руками — тогда сможешь. Ага, понимаю — твои руки связаны, они не могут помочь тебе. Как странно все повторяется через столько лет: ведь и мои руки были связаны в ту ночь, помнишь? Да, связаны так же, как твои сейчас. Как это странно. Я не мог высвободиться. Тебе не пришло и голову развязать меня; и мне не приходит в голову развязать тебя. Тсс! Запоздалые шаги! Кто-то идет мимо. Чу, как близко он проходит. Можно посчитать шаги — раз, два, три. Вот они совсем рядом. Кричи же, кричи! Это единственная возможность, которая отделяет тебя от вечности. Ага, видишь, ты слишком медлил: прошли мимо. Вот шаги замирают. Кончено. Подумай, поразмысли об этом: ты слышал человеческие шаги в последний раз. Как странно, должно быть, слышать такой простой звук и знать, что никогда больше его не услышишь!
О друг мой, мука на этом лице, укутанном в саван, была наслаждением для меня. Я выдумал новую пытку и осуществил ее — прибегнул к небольшой лжи.
— Этот несчастный Крюгер пытался спасти мою жену и ребенка, и я отблагодарил его, когда настал час. Я подговорил его ограбить тебя: и мы с одной женщиной помогли ему дезертировать и спасли его.
Но удивленное и как бы торжествующее выражение смутно проступило на искаженном от ужаса лице моей жертвы. Это смутило и взволновала меня. Я спросил:
— Как, разве он не убежал?
Отрицательное покачивание головой.
— Нет? Что же случилось?
Удовольствие на его лице стало еще заметнее. Он попытался пробормотать какие-то слова, но безуспешно; попытался что-то показать связанными руками — и не смог; подождал минуту — и потом слабо, но многозначительно кивнул головой по направлению к ближайшему трупу.
— Умер? — переспросил я. — Бегство не удалось? Попался, и его пристрелили?
Отрицательный знак головой.
— Что же тогда?
Снова он попытался что-то показать руками. Я пристально всматривался, но не мог понять смысла. Я наклонился и вгляделся еще внимательнее. Он согнул палец и слабо ударил им себя в грудь.
— Ага — его закололи? Так?
Утвердительный кивок сопровождался такой страи— ной дьявольской усмешкой, что в моем помутневшем рассудке сразу вспыхнула яркая мысль, и я крикнул:
— Неужели я заколол его вместо тебя? Ведь этот удар предназначался именно тебе!
В утвердительном кивке вторично умиравшего негодяя было столько радости, сколько его угасающие силы позволяли выразить.
— О я несчастный, несчастный человек! Убить того, кто пожалел моих милых, кто хотел быть их другом, когда они были беспомощны, кто спас бы их, если б мог! О я несчастный, несчастный! Несчастный!
Мне показалось, что я слышу придушенный хрип насмешливого хохота. Я отнял руки от лица и увидел, как мой враг снова откинулся на свою наклонную скамью.
Он умирал достаточно долго. Он был изумительно живуч и обладал удивительным организмом. Да, было приятно смотреть, как долго он умирал. Я сел на стул около него, взял газету и стал читать. Время от времени я отпивал немного коньяку. Это было необходимо из-за холода. Но отчасти я это делал вот почему: я заметил, что стоило мне взяться за бутылку — и ему казалось, будто я собираюсь дать ему глотнуть. Я читал вслух: главным образом выдуманные сообщения о людях, спасенных на пороге могилы и возвращенных к жизни несколькими глотками спиртного и теплой ванной. Да, ему пришлось умирать долгой, трудной смертью — три часа и шесть минут, с той самой минуты, как прозвонил колокольчик.
Считается, будто за все восемнадцать лет, как установлено дежурство при покойниках, ни один из закутанных в саван обитателей баварских мертвецких не позвонил в колокольчик. Что ж, это невинное заблуждение. Пусть будет так.
Холод мертвецкой пронизал меня до костей. Он обострил и усилил болезнь, которая раньше меня мучила, но до этой ночи постепенно ослабевала. Этот человек убил мою жену и ребенка, а теперь, через три дня, он может и меня записать в свой список убитых. Пускай так, но, боже мой, как восхитительно это воспоминание! Я поймал его, когда он чуть не спасся из могилы, и швырнул назад.
После этой ночи я пролежал целую неделю в постели; но как только я мог встать, я просмотрел все записи о покойниках и узнал номер дома, где умер Адлер. Это был жалкий притон. Я решил, что он, вероятно, завладел вещами Крюгера, так как приходился ему родственником; а я хотел, если возможно, заполучить часы Крюгера. Но пока я болел, вещи Адлера распродали и растащили, остались только кое-какие старые письма и всякий хлам. Однако благодаря этим письмам я напал на следы сына Крюгера, единственного из его родных. Ему сейчас лет тридцать, он сапожник по профессии, живет в доме номер четырнадцать по Кенигштрассе в Маннгейме; вдовец, с несколькими малолетними детьми. Не объясняя причины, я с тех пор постоянно посылаю ему две трети того, на что он живет.
А эти часы — какие странные вещи случаются иногда! Я искал их по всей Германии, искал более года, потратил массу денег и сил; наконец я их нашел. Я нашел их и несказанно обрадовался; открыл их — и там ничего не оказалось. Да ведь и следовало ожидать, что этот клочок бумаги не сохранится в них навсегда.
Конечно, я оставил мысль об этих десяти тысячах долларов, оставил и выбросил из памяти вон; но с великим огорчением, потому что я хотел добыть их для сына Крюгера.
Вчера вечером, когда я понял, что скоро умру, я стал готовиться. Я начал жечь всякие ненужные бумаги, и — на тебе! — из пачки бумаг Адлера, просмотренных недостаточно внимательно, выпал этот долгожданный клочок! Я узнал его сразу. Вот что было в этой записке, — я вам переведу ее:
«Кирпичная конюшня, каменный фундамент, посреди города, на углу Орлеанской и Базарной. Угол со стороны здания суда. Третий камень, четвертый ряд. Поставь там пометку, чтобы знать, сколько их придет».
Вот, возьмите ее и спрячьте. Крюгер объяснил мне, что камень можно вынуть, что он находится в северной стене фундамента, четвертый ряд сверху, третий камень с запада. Деньги спрятаны за ним. Он сказал, что последняя фраза написана нарочно, чтобы сбить со следа, если бумага попадет в чужие руки. Так, наверно, случилось и с Адлером.
Теперь я хочу просить вас: если вы действительно отправитесь в предполагаемое путешествие вниз по реке — отыщите эти деньги и перешлите их Адаму Крюгеру по маннгеймскому адресу, который я вам сообщил. Он станет богатым человеком, а я буду крепче спать в мошле, зная, что сделал все что мог для сына человека, который пытался спасти мою жену и дитя,— хотя рука моя, не ведая того, поразила его, когда мое сердце стремилось оказать ему защиту и помощь».
Глава XXXII. КАК РАСПОРЯДИЛИСЬ КЛАДОМ
— Вот что сообщил мне Риттер, — сказал я моим двум товарищам.
Наступило глубокое, выразительное молчание, длившееся очень долго; за ним последовал залп взволнованных и удивленных восклицаний по поводу необыкновенных перипетий этой истории; и восклицания и перекрестный огонь вопросов продолжались до тех пор, пока моп друзья совсем не запыхались. Наконец они стали успокаиваться и отступать под прикрытием редких, случайных залпов в область молчании и глубочайшей задумчивости. Десять минут стояла тишина. Затем Роджерс сказал мечтательно:
— Десять тысяч долларов!
И после длинной паузы добавил:
— Десять тысяч! Это куча денег!
Поэт спросил вдруг:
— И вы так вот сразу отошлете ему все?
— Ну да, — ответил я. — Что за странный вопрос!
Ответа не последовало. Но спустя несколько минут Роджерс нерешительпо спросил:
— Все деньги? То есть… я хочу сказать…
— Конечно все.
Я хотел продолжать, но замолчал: меня остановил внезапный поток мыслей. Томпсон что-то говорил, а я думал о другом и не уловил его слов. Но я услышал ответ Роджерса:
— Да, и мне так кажется. Этого было бы вполне достаточно. Ведь он-то ровно ничего не сделал.
Затем поэт сказал:
— Собственно, если поразмыслить, этого более чем достаточно. Ведь только подумайте — пять тысяч долларов! Да он их и за всю жизнь не успеет истратить! И эти деньги будут ему во вред, может быть погубят его, — надо же и это принять во внимание. он быстро все спустит, закроет мастерскую, моя?ет быть начнет пьянствовать и обижать своих детей, растущих без матери, предастся другим дурным привычкам, будет опускаться все ниже и ниже…
— Верно, верно! — горячо подхватил Роджерс. — Я наблюдал такие вещи сто раз — нет, больше, чем сто. Если хотите погубить такого человека, дайте ему в руки деньги — вот и все; больше ничего не требуется — только дайте ему деньги; и если он не собьется с пути, не станет пропащпм человеком, не потеряет всякого чувства собственного достоинства и так далее значит, я не знаю человеческой натуры; правда ведь, Томпсон? Пусть даже мы дадим ему третью часть — будьте уверены, что не пройдет и шести месяцев, как он…
— Лучше скажите — шести недель! — вставил я, увлекаясь и вмешиваясь в разговор. — Если эти три тысячи долларов не поместить в надежные руки, чтобы он не мог забрать их, — он не продержится и шести недель…
— Конечно не продержится! — подтвердил Томпсон. — Я издавал книги подобного рода людей и знаю: как только к ним в руки попадет крупный гонорар — скажем, три тысячи или две…
— И на что этому сапожнику две тысячи долларов, хотел бы я знать! — озабоченно перебил его Роджерс,— Человек, может быть, вполне доволен своей судьбой, живет себе в Маннгейме, окруженный людьми своего круга, ест свой хлеб с тем аппетитом, который дается только прилежным трудом, блаженствует в своей смиренной доле, честен, правдив, чист душой и счастлив! Да, говорю вам, счастлив! Счастлив больше, чем множество людей, одетых в шелка, вращающихся в пустом, фальшивом кругу легкомысленного общества. И вдруг вы вводите его в такое искушение! Вдруг вы кладете перед таким человеком тысячу пятьсот долларов и говорите…
— Тысячу пятьсот чертей! — крикнул я. — Даже пятьсот долларов и то подорвут его принципы, парализуют трудолюбие, приведут его в кабак, оттуда — на мостовую, оттуда — в богадельню для нищих, оттуда…
— Зачем нам брать на себя такой грех, господа! — озабоченным и убеждающим тоном сказал поэт. — Он счастлив в той жизни, какую ведет, счастлив таким, каков он есть. Все чувство чести, все чувство милосердия, все чувство высокого и священного человеколюбия предостерегают нас, взывают к нам, приказывают нам не смущать этого человека. Это настоящая, это истинная дружба! Мы могли бы действовать по-другому, напоказ, но то, что мы решили, будет куда разумнее, куда полезнее, поверьте мне!
Из дальнейшего разговора выяснилось, что такое решение вопроса вызывает в глубине души у каждого из нас какие-то сомнения. Все мы ясно чувствовали, что бедному сапожнику следует послать хоть что-нибудь. После долгого и вдумчивого обсуждения мы наконец решили послать ему хромолитографию!
Но тут, когда, казалось, все было решено ко всеобщему удовлетворению, возникло новое затруднение: эти двое, оказывается, рассчитывали, что я деньги поделю с ними поровну. Я вовсе не собирался этого делать. Я заявил, что они могут считать себя счастливыми, если получат половину денег на двоих. Роджерс сказал:
— Если бы не я, никому ничего бы не досталось. Я первый подал мысль, — а то все было бы отослано сапожнику.
Томпсон заметил, что он думал об этом как раз в ту минуту, когда Роджерс заговорил.
Я возразил, что и сам очень скоро додумался бы до этого без чьей-либо помощи. Я, может быть, соображаю медленно, но зато верно.
Дело дошло до ссоры, потом до драки, и все здорово пострадали. Как только я привел себя в приличный вид, я поднялся на верхнюю палубу в довольно кислом настроении. Здесь я встретил капитана Мак-Корда и сказал ему со всей любезностью, на какую в таком состоянии был способен:
— Я пришел проститься, капитан. Я намерен высадиться в Наполеоне.
— Где?
— В Наполеоне.
Капитан рассмеялся, но, заметив, что я далеко не в шутливом настроении, перестал смеяться и сказал:
— Так вы это серьезно?
— Серьезно? Конечно.
Капитан посмотрел на лоцманскую рубку и сказал:
— Он хочет высадиться в Наполеоне.
— В Наполеоне?
— Да, так он говорит.
— О, тень великого Цезаря!
Подошел дядюшка Мэмфорд. Капитан сказал ему:
— Дядюшка, вот ваш приятель желает сойти в Наполеоне.
— Что? Клянусь…
Я сказал:
— Да в чем же тут дело наконец? Почему человек не может высадиться на берег в Наполеоне, если ему это нужно?
— Черт возьми, да неужели вы не знаете? Никакого Наполеона больше нет. Его уж бог знает сколько лет не существует. Река Арканзас хлынула на город, разнесла все вдребезги и унесла в Миссисипи.
— Унесла целый город? Банки, церкви, тюрьмы, редакции газет, театр, пожарное депо, здание суда, извозчичий двор — все?
— Все. За каких-нибудь четверть часа, не больше. Ни клочка, ни тряпки — ничего не осталось, кроме какой-то развалившейся лачуги да кирпичной трубы. Наш пароход проходит сейчас как раз по бывшему центру города; вон там кирпичная труба — это все, что осталось от Наполеона. Тот густой лес, справа, был когда-то за милю от города. Посмотрите-ка назад, вверх по реке, — ну что, теперь начинаете узнавать местность, а?
— Да, теперь узнаю. Первый раз слышу такую историю! В жизни не слыхал ничего более удивительного — и неожиданного!
Тем временем появились мистер Томпсон и мистер Роджерс со своими мешками и зонтиками и молча выслушали рассказ капитана. Томпсон сунул мне в руку полдоллара и шепнул:
— Моя доля на хромолитографию.
Роджерс сделал то же самое.
Да, было удивительно странно смотреть, как Миссисипи течет вдоль пустынных берегов в том самом месте, где я лет двадцать тому назад видел большой, красивый, горделивый город. Город, бывший центром обширного и значительного района; город с большим флотским госпиталем; город бесчисленных драк, — каждый день шло следствие; город, где я знавал когда— то прелестную девушку, самую идеальную девушку во всей долине Миссисипи; город, где четверть века назад мы прочли в газете первое известие о жуткой гибели «Пенсильвании», — этого города больше нет; он проглочен, исчез, пошел в пищу рыбам; ничего не остаюсь, кроме развалин лачуги и разрушающейся кирпичной трубы!
Глава XXXIII. ЗАКУСКИ И ЭТИКА
С островом 74, расположенным недалеко от бывшего города Наполеона, река сыграла шутку, превратившую человеческие законы в пустой звук. Когда официальным актом определялись границы штата Арканзас, они шли «до середины реки», — крайне неустойчивые границы. Штат Миссисипи претендовал на протяженность «до фарватера», — опять-таки неустойчивая и изменчивая граница. Остров 74 принадлежал Арканзасу. Мало-помалу новое русло отрезало этот крупный остров от Арканзаса, но все-таки он не попал на территорию Миссисипи. «Середина реки» очутилась по одну сторону его, а «фарватер» — по другую. Так я понимаю это дело. Верны ли сообщенные мне детали или нет, но незыблемым остается факт: в наличии имеется обширный и необычайно ценный остров площадью в четыре тысячи акров, оставленный на произвол судьбы и не принадлежащий ни тому, ни другому штату; население его не платит налогов ни одному из них и не числится ни за каким штатом. Островом владеет один человек, и его по праву можно назвать «человеком без отечества».
Остров 92 принадлежит штату Арканзас. Река передвинула его и тем самым приблизила к штату Миссисипи. Некий деляга устроил там кабак без разрешения властей Миссисипи и стал богатеть за счет клиентов из штата Миссисипи, под крылышком штата Арканзас (где в ту пору разрешений но требовалось).
Мы неуклонно скользили вниз по реке в привычном одиночестве — редко показывался пароход или иное плывущее суденышко. Панорама все та же: по обе стороны реки почти непрерывно тянется лес; уединение и тишь. Кое-где одна-другая хижина нарушает однообразие серого, не поросшего даже травой берега, — эти хижины раньше стояли на четверть мили или на полмили ближе, но, по мере того как берег обваливался, их постепенно переносили всё дальше вглубь. Так было, например, у мыса Пилчер, где за три месяца, как нам сказали, хижины, отступили на триста ярдов, но оползающий берег уже нагнал нх, и им снова приходится подаваться назад.
Город Наполеон когда-то пренебрежительно относился к Гринвиллу в штате Миссисипи… И что же? Наполеон стал добычей сомов, а Гринвилл полон жизни и деятельности и процветает: в нем, как говорят, три тысячи жителей, и его торговые обороты достигают двух миллионов пятисот тысяч долларов в год. Город растет.
На пароходе было много разговоров о Кэлгуновской земельной компании — предприятии, от которого ждут благих результатов. Полковник Кэлгун, внук известного государственного деятеля, съездил в Бостон и организовал синдикат, который приобрел большие участки земли (около десяти тысяч акров) у реки в области Чикот, штат Арканзас, для разведения хлопка. Правило синдиката — работать за наличные, покупать из первых рук и торговать только собственной продукцией; снабжать своих батраков-негров всем необходимым с ничтожной наценкой: восемь—десять процентов, строить им удобные помещения и т. д. и поощрять их к тому, чтобы они откладывали деньги и осели на месте. Если это обеспечит синдикату материальную выгоду, что представляется несомненным, то он намерен открыть банк в Гринвилле и давать ссуды на необременительных условиях, — как предполагается, из шести процентов.
До сих пор беда была в том (я привожу мнение плантаторов и пароходных служащих), что плантаторы, владея землей, не имеют наличных денег. Им приходится закладывать и землю и урожай, чтобы вести дело. Таким образом, посредник, снабжающий их деньгами, подвергается некоторому риску и требует поэтому большой процент — обычно процентов десять, — и еще два с половиной процента за посредничество при займе.
Плантатору приходится также покупать все припасы через того же носрединка и оплачивать и посредничество и прибыль продавца. Затом, при отправке хлопка посредник берет комиссионные и страховые и т. д. Так, в конечном счете он получает с каждого урожая около двадцати пяти процентов.
Нот как оценивает один плантатор средний доход от хлопка для своего района: один человек и мул могут обработать десять акров поля, что даст десять кип хлопка, расцениваемых, скажем, в пятьсот долларов; на это затрачивается примерно триста пятьдесят долларов, — значит, чистая прибыль сто пятьдесят долларов, или пятнадцать долларов с акра. Дают некоторый доход теперь и семена хлопчатника, которые раньше имели малую ценность, а там, где требовалась далекая перевозка, и совсем никакой. В тысяче шестистах фунтах сырца — четыреста фунтов волокна стоимостью, скажем, по десяти центов фунт, и тысяча двести фунтов семян стоимостью двенадцать — тринадцать долларов тонна. Возможно, что в будущем и стебли не будут выбрасываться и пойдут в дело. Мистер Эдвард Аткинсон говорит, что на каждую кипу хлопка приходится по тысяче пятьсот фунтов стеблей и что они очень богаты фосфорнокислой известью и поташом; что если их измолоть и смешать с силосной массой или мукой из семян хлопчатника (которая чересчур жирна, чтобы идти в корм в больших количествах), то зти стебли дают превосходный корм для скота, богатый всеми веществами, необходимыми для образования молока, мяса, костей. А прежде стебли считались обузой.
Жалуются, что плантаторы со времени войны все еще настроены против бывших невольников, не желают идти дальше холодных деловых отношений с неграми, не допуская никаких дружественных чувств; не хотят сами заводить «склад» и снабжать негpa всем необходимым, щадя таким образом его карман, давая ему и возможность и охоту оставаться на месте; нет, они эту привилегию уступают какому-нибудь расчетливому еврею, который уговаривает легкомысленных негров и их жен покупать всякие лишние вещи, — покупать в кредит по высоким ценам, из месяца в месяц. Кредит предоставляется негру под его долю в будущем урожае, а в конце сезона эта доля переходит в собственность торговца; негр оказывается кругом в долгу, падает духом, волнуется, беспокоится, — и страдают от этого и негр и плантатор, так как негр садится на пароход и переселяется в другое место, а плаптатору приходится брать на его место нового, который не знает хозяина, не прпвязаи к нему, весь сезон будет работать на торговца, а затем, как и его предшественник, уедет на пароходе.
Кэлгуновская компания, как надеются, гуманным и попечительным отношением к своим батракам докажет, что ее система наиболее выгодна и для плантатора и для негра; считают, что за этим последует повсеместное введение подобной системы.
Когда такое множество людей выражает свое мнение, почему не высказаться и пароходному буфетчику? Он вдумчив, наблюдателен, никогда не напивается, старается честно заработать и зарабатывал бы, если бы было достаточно клиентов. он говорит, что жители Миссисипи и Луизианы предпочитают посылать за овощами вверх по реке, вместо того чтобы самим их выращивать, и на всех пристанях приходят на пароход покупать фрукты у буфетчика. Говорит: они «только и знают один свой хлопок», — и считает, что никто из них, или по крайней мере большинство, не умеет выращивать овощи и фрукты. Говорит: негр за арбузом пойдет хоть в самый А. (В стенограмме так и записано: «А»; наверно, это значит в Арканзас, хотя, по-моему, туда ездить за арбузами далековато.) Буфетчик покупает арбузы в верховьях реки по пяти центов, везет пх вниз и продает по пятидесяти. Почему он приготовляет для негров, служащих на пароходе, такие замысловатые и красивые иа вид коктейли? Потому что других они пить ио желают. «Им подавай хорошую порцию, — а чего ты туда намешаешь, им все равно, лишь бы выпить за свои деньги побольше. Дайте негру за пять центов просто четверть пинты полудолларового коньяку — вы думаете, он до него дотронется? Нет, ему этого мало. Но если вы намешаете целую пинту всякой ничего не стоящей дряни, подольете чего-нибудь красного — им только подавай покраснее! — негр не оставит стакана, даже если eго позвать в цирк». Все буфеты пароходства Анкер-Лайн арендованы и находятся в руках одной фирмы. Она сама снабжает их напитками, и буфетчики у нее «на жалованье». Хорошие напитки? Да, на некоторых пароходах — где пассажиры требуют такие напитки и в состоянии заплатить за них. На остальных? Нет. Кому же пить их — палубным матросам и кочегарам? «Коньяк? Да, коньяку у меня большой запас. Но он годится разве тому, кто уже сделал завещание». Теперь не то, что в былые времена, — тогда все плавали на пароходах, все пили и все угощали друг друга. «Теперь большинство по железной дороге ездит, а остальные не пьют». В старипу буфетчик сам был хозяином буфета. «Шикарные были парни — весельчаки, говоруны, на нпх и кольца и всякие украшения, — словом, пароходная аристократия; и зарабатывали за один рейс по две тысячи долларов. Когда отец оставлял сыну в наследство пароходный буфет — это было целое состояние. Теперь сыну достаются в наследство только харчи да помещение, ну и стирка бесплатная если ему одной сорочки на рейс достаточно. Да, действительно времена переменились. Представьте себе, на главной пароходной линии Верхней Миссисипи нет ни одного буфета! Похоже на сказку, а это сущая правда!»
Глава XXXIV. ДОСУЖИЕ ВРАКИ
Стэк-Айленд. Я помнил Стэк-Айленд, помнил и Лэйк-Провиденс в Луизиане — первый по-настоящему южный город, который встречаешь, путешествуя вниз по реке; лежит он на низкой равнине, в тени деревьев, с которых свисают почтенные седые бороды испанского мха. «У этого городка такой мирный, задумчивый, воскресный вид», — говорит дядюшка Мэмфорд с чувством; и он прав,
Некто мистер X. сообщил нам кое-какие подробности относительно этой округи; я бы, пожалуй, усомнился в их достоверности, если бы не знал, что X. служит помощником на пароходе. На нашем пароходе он был пассажиром. Живет он в Арканзас-Сити и направлялся в Виксберг, на свой маленький пакетбот линии «Санфлауэр». Это был суровый мужчина, имевший репутацию настоящего аскета по сравнению с остальной речной братией. Между прочим, он утверждал, что Арканзас сильно пострадал и отстал в развитии из-за того, что из поколения в поколение передавались преувеличенные слухи о засилии в нем москитов. «Вы можете, конечно, улыбаться, — сказал он, — и считать, что это пустяки; но когда видишь, как это влияет, как уменьшается приток переселенцев и понижается ценность земель, то это выходит совсем не пустяк, тут уж не отмахнешься и не отшутишься. Об этих москитах всегда говорили, что они чудовищных размеров и бороться с ними невозможно; а на самом деле они слабые, маленькие создания, чувствительные и робкие до невозможности…» и так далее и так далее. Можно было подумать, что он говорил о своей семье! Но, снисходительный к арканзасским москитам, он достаточно суров был к москитам Лэйк-Провидеис, «этим лэйк-провиденсским колоссам», как он под конец назвал их. По его словам, они вдвоем могут обратить в бегство собаку, а вчетвером — свалить с ног человека и, если не подоспеет помощь, умертвить — «заколоть его», как он выразился. Как бы мимоходом — и вместе с тем многозначительно — он упомянул, что «в Лэйк-Провиденс неизвестно обыкновенное страхование жизни, там принято только страхование от москитов». Он сообщил много любопытного об этих свирепых насекомых. Сказал, например, что сам видел, как они пытаются голосовать. Заметив, что это сообщение нас порядком ошеломило, он несколько его изменил: возможно, мол, что он ошибся, но во всяком случае он видел, как они суетились вокруг избирательных урн.
Другой пассажир, приятель X., подтвердил его суровые показания против москитов и подробно описал нам кое-какие из своих интереснейших приключений с ними. Истории были довольно длинны, только довольно длинны. Но мистер X. беспрестанно перебивал его холодным тоном: «Погодите-ка, скиньте двадцать пять процентов с этого. Так, теперь продолжайте». Или: «Ну, это вы хватили! Легче, легче — вы чересчур уж асе разукрасили. Подавайте факты в трико, а не в размахаях…» Или: «Еще раз простите: если вы намерены еще что-нибудь прибавить, вам придется взять два-три катера и тащить все ваши россказни на буксире, потому что они у вас впитали всю воду из реки. Держитесь фактов, только голых фактов! Этим джентльменам нужна для книги лишь одна голая истина. Не правда ли, джентльмены?» Он конфиденциально объяснил нам, что за этим человеком приходится постоянно следить и удерживать его в границах. В том, что такая предосторожность необходима, он, мистер X., убедился на собственном горьком опыте. Он прибавил: «Не буду вас обманывать: однажды он рассказал мне такую чудовищную ложь, что у меня от нее вспухло левое ухо, — оно так разрослось, что я не мог ничего видеть из-за него, и оставалось в таком виде несколько месяцев, так что люди за много миль приезжали посмотреть, как я своим ухом обмахиваюсь».
Глава XXXV. ВИКСБЕРГ ВО ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ
Плывя вниз по реке, мы проходили, бывало, мимо расположенного на высоком холме города Виксберга; теперь это невозможно: река изменила русло, и Виксберг оказался в стороне, как и Осиола, Сент-Женевьев и многие другие города. Теперь против Виксберга — старица со стоячей водой и большой остров. Вы проезжаете рекой по другую сторону острова, затем огибаете его и поднимаетесь к городу; но все это только при высоком уровне воды, — в мелководье подняться к городу невозможно и приходится высаживаться несколько ниже.
Сохранились еще рубцы и шрамы, напоминающие о пережитых городом ужасах войны: земляные насыпи, деревья, искалеченные пушечными ядрами, пещеры в глинистых оврагах, где укрывались горожане, и т. д. Пещеры эти сослужили хорошую службу во время шестинедельной бомбардировки города — с 18 мая по 4 июля 1863 года. Ими пользовались мирные жители, главным образом женщины и дети; они не переселились туда совсем, а только прятались там, когда им грозила опасность. То были просто подземные ходы, туннели, прорытые в отвесном глинистом склоне берега, которые, разветвляясь в виде цифры V, углублялись внутрь холма. Жизнь в Виксберге в течение этих шести недель была… но погодите: вот некоторые материалы, которые помогут воспроизвести ее.
Население — двадцать семь тысяч солдат и три тысячи обывателей; город совершенно отрезан от остального мира: с реки — канонерские лодки, с суши — войска и батареи; таким образом, невозможна никакая торговля с внешним миром, нельзя ни приехать, ни уехать; ни проводить уезжающего гостя, ни встретить прибывающего; ни читать больше за завтраком целых акров газетных сообщений о том, что делается на белом свете, — вместо того томительная скука без всяких новостей. Теперь не побежишь смотреть, как издали, сверху или снизу, приближается дымок парохода и подходит к городу, — пароходов нет, река пустынна, ничто не нарушает ее покоя; на железнодорожной станции ни шума, ни толчеи, не протискиваются сквозь толпу растерянных пассажиров шумливые носильщики — тишина; бочка муки — двести долларов, сахара — тридцать, бушель зерна — десять долларов, бекон — пять долларов фунт, ром — сто долларов галлон, и все остальное — соответственно; оттого по улицам и но мчатся с шумом и грохотом ломовые телеги и экипажи: им нечего делать среди этой горсточки разоренных жителей; в три часа утра тишина — такая мертвая тишина, что мерные шаги часового слышны на совершенно невероятном расстоянии; а там, где не слышен этот единственный шум, тишина, должно быть, абсолютная; и вдруг раздается сотрясающий землю грохот артиллерии, небо затягивается паутиной перекрещивающихся красных линий — след летящих снарядов, — и дождь стальных обломков сыплется на город, сыплется на безлюдные улицы; но через мгновенье улицы уже по безлюдны: по ним мечутся едва видные во мраке тони обезумевших женщин и детей: из дому, прямо с постели, они бегут в пещерные убежища, а суровые солдаты шутливо подгоняют их криком: «Крысы — в норы!» и смеются.
Пушечный гром неистовствует, снаряды визжат и разрываются в воздухе, стальной ливень льется час, два, три — бывает, что и шесть часов, — затем прекращается, наступает тишина, по улицы все еще пусты; тишина продолжается. Тогда тут и там из пещер начинают выглядывать головы — одна, другая, третья — и осторожно прислушиваются; тишина не нарушается, за головами следуют тела, и измученные, полузадохшиеся люди расправляют затекшие члены, пьют большими глотками благодатный свежий воздух, и перебрасываются словцом с обитателями соседней пещеры; еслп спокойствие наступает надолго, они иногда отправляются домой или прогуливаются по городу — и сейчас же бегут обратно в свои норы, как только военная буря разражается снова.
Таких пещерных жителей было всего три тысячи — то есть не больше, чем в какой-нибудь одной деревне, — мудрено ли, что через неделю-другую они всо перезнакомились и подружились между собой, особенно потому, что радостп и печали у них были общие.
Таковы материалы, предоставленные историей. По ним почти всякий может представить себе жизнь в Виксберге в то время. Но может ли человек, не переживший осады, рассказать о ней другому, также не испытавшему ее, лучше, чем какой-нибудь виксберясец, который действительно ее пережил? Это кажется невероятным, а между тем это в самом деле так. Человек, совершающий первое путешествие на корабле, получает столько поразительных впечатлений, лезущих из каждого угла, и эти впечатления настолько идут вразрез со всем когда-либо им испытанным, что они неизгладимо остаются в его воображении и памяти. Он может об этом рассказывать устно или на бумаге и заставить сухопутного жителя пережить вместе с ним это необыкновенное, волнующее путешествие, заставить его увидеть, почувствовать все. Но что, если рассказчик помедлит с рассказом? Если он совершит подряд десять плаваний — что тогда? Тогда все пережитое потускнеет, потеряет необычайность, неожиданность; оно станет заурядным. Ему нечего будет сказать такого, от чего сердце сухопутного жителя забилось бы быстрее.
Много лет тому назад я толковал с двумя обитателями Виксберга — мужем и женой. Я не мешал им рассказывать все по-своему, — и они рассказывали без всякого чувства, почти равнодушно.
Если бы то удивительное, что они пережили, продолжалось одну неделю, они, вероятно всегда описывали бы свои переживания взволнованно и красноречиво; но это длилось не одну, а шесть недель — и утратило всю новизну: они привыкли к бомбардировке, гнавшей их из дому под землю; все стало заурядным. А потому и воспоминания их уже не могли быть захватывающе интересными. Вот что мне рассказал муж:
«Все время было точно воскресенье. Семь воскресений в неделю — для нас по крайней мере. У нас не было никакого дела, и время тянулось невыносимо. Семь воскресений — и ни одно не проходило без того, чтобы ночью или днем несколько часов подряд не гремели ужасные пушечные залпы, стоял грохот, летели осколки. Вначале мы мчались в убежища гораздо быстрее, чем потом. В первый раз я забыл взять детей, и обоих захватила Мария. Добравшись благополучно до пещеры, она упала в обморок. Л две или три недели спустя она как-то утром бежала в пещеру под градом снарядов, и одна большая граната разорвалась подле нее и всю ее засыпало пылью, и осколком сорвало у нее с затылка накладку из фальшивых волос. Представьте себе, она остановилась, подняла накладку — и потом только побежала дальше! Стала привыкать, понимаете ли. Мы все уже хорошо разбирались в снарядах; и если их не слишком много сыпалось, мы не всегда и прятались. Мы, мужчины, стояли и разговаривали; кто-нибудь скажет: «Вот летит…» — и назовет снаряд, — мы по звуку их узнавали, и продолжает разговор, если опасности нет. Если граната разорвется где-то близко — мы замолчим и стоим как вкопанные; неприятно, конечно, — но двигаться опасно. А пролетит — и мы снова продолжаем разговор, если никто не пострадал; иной раз только скажем: «Здорово треснуло» — или что-нибудь в этом роде, — и ведем прежний разговор; а не то заметим, что снаряд летит над нами высоко в воздухе. Тут уже всякий крикнет: «До свиданья, джентльмены!» — и бежать! Сколько раз я видел, как дамы целыми компаниями прогуливались но улицам с самым веселым видом, краешком глаза следя за снарядами; и я замечал, что они останавливаются, когда не могут решить, что будет со снарядом, и ждут, пока это выяснится, а потом идут дальше или же бегут прятаться — смотря по тому, что выяснилось. В некоторых городах улицы засорены обрывками бумаги и всяким мусором. В нашем этого не было — мусор был железный. Случалось, кто-нибудь соберет вокруг своего дома все эти железные обломки и неразорвавшиеся бомбы и сложит из них у себя в палисаднике нечто вроде памятника; иногда набиралась целая тонна. Не осталось ни одного стекла; стекла не могли выдержать такой бомбардировки — все разлетались. Пустые окна в домах — вроде глазниц в черепе. Целые стекла в окнах были так же редки, как новости.
Но воскресеньям в церкви шла служба. Сначала туда ходило немного народу, но скоро порядком прибавилось. Я видел, как служба вдруг прекращалась на минуту и все замирали, — не слышно было человеческого голоса, словно на похоронах, да и то больше потому, что над головой стоял страшный гул и треск, — а потом, как только снова можно было услышать человеческий голос, служба продолжалась. То звуки органа, то звуки бомбардировки, — странное сочетание, особенно вначале. Как-то утром, когда мы выходили из церкви, произошел несчастный случай — единственный на моей памяти в воскресенье. Я крепко пожал руку приятелю, которого давно не встречал, и только что начал: «Загляни к нам в пещеру вечерком, после обстрела. Мы достали пинту превосходного ви…» «Виски», хотел я сказать, понимаете, но граната не дала мне докончить. Ее осколком оторвало руку моему приятелю, и эта рука осталась в моей руке, И знаете, одного, мне кажется, дольше всего не забыть, оно заслонит в моей памяти все остальное, и крупное и мелкое: не забуду, какая подлая мысль мелькнула у меня в голове. Я подумал: «Вот виски и уцелеет». А между тем, поверьте, это отчасти и простительно: виски тогда было такой же редкостью, как брильянты, и у нас была только эта малость, больше мы за все время осады не пробовали.
Пещеры бывали иногда битком набиты народом, в них было жарко и душно. Иногда в пещере собиралось человек двадцать — двадцать пять, нельзя было повернуться, и воздух бывал такой спертый, что свеча гасла. В одной из таких пещер как-то ночью родился ребенок. Вы только подумайте! Это все равно что родиться в сундуке.
У нас в пещере два раза скапливалось по шестнадцати человек, а много раз — но двенадцати. Было порядком душно. Восемь нас бывало там всегда: эти восемь человек были постоянными жителями пещеры. Голод, нужда, болезни, страх, горе и все что хотите так придавило их, что после осады никто из них уже не остался прежним. Все, кроме троих, умерли в течение двух-трех лет. Однажды ночью граната разорвалась перед пещерой, обвалила ее и засыпала. Ну и намучились мы, пока откопали выход. Некоторые чуть не задохлись. После этого мы сделали два выхода, — о чем следовало подумать раньше.
Мясо мулов? Нет, мы дошли до этого только в последние дни. Ну конечно оно было вкусно: все покажется вкусным, когда умираешь с голоду».
Этот человек вел дневник — вы думаете, в течение всех шести недель? Нет, только первые шесть дней. В первый день восемь страниц убористым почерком; во второй — пять; в третий — одна, написанная разгонисто; в четвертый — три-четыре строчки; в пятый и в шестой день одна-две строчки; на седьмой день дневник был заброшен: жуткое существование в Виксберге стало заурядным и вполне будничным.
История Виксберга во время войны гораздо интереснее для рядового читателя, чем рассказы о событиях в других приречных городах. Она разнообразна, красочна и полна приключений. Виксберг держался дольше всех других крупных приречных городов и пережил войну во всех ее проявлениях как на суше, так и на воде: осаду, подкопы, штурм, его отражение, бомбардировку, болезни, плен, голод.
В этом городе — самое красивое национальное кладбище. Над большими воротами надпись:
Здесь покоятся в мире шестнадцать тысяч шестьсот воинов,
павших за Родину в годы 1861—1865.
Кладбище расположено великолепно, очень высоко, с видом, открывающимся на долину и реку. Оно раскинулось широкими большими террасами с извилистыми аллеями и тропинками; террасы обильно украшены субтропическими кустарниками и цветами; в одной части кладбища был оставлен участок дикого леса в нетронутом виде и поэтому полный очарования. Все на этом кладбище показывает заботу правительства. То, что сделано правительством, всегда отличается превосходным исполнением, все сделано прочно, тщательно, аккуратно. Правительство но только устраивает все хорошо, но заботится о сохранности того, что сделано.
Извилистыми дорогами (которые часто оказывались так глубоко высеченными в отвесных стенах, что представляли собой попросту открытые туннели) мы проехали милю-другую и осмотрели памятник, поставленный на месте, где генерал Пембертон сдал Виксберг генералу Гранту. Памятник сделан из металла, и это предохранит его от трещин и отбитых углов, так обезобразивших прежний, мраморный памятник; но кирпичный цоколь осыпается, и памятник скоро упадет. Он возвышается над живописными окрестностями, над лесистыми холмами и оврагами и сам довольно живописен благодаря красиво обвивающим его цветущим растениям. То, что уцелело от мраморного памятника, перенесено на национальное кладбище.
Проехав с четверть мили но дороге к городу, мы встретили старого негра, который с гордостью показал нам неразорвавшуюся гранату, лежащую на его дворе с того дня, как она упала там во время осады:
— Я стоял вот тут, а собака — вон там. Она как подбежит к бомбе поиграть с ней, — ну а я-то понял, что тут не до шуток! «Эй, говорю, ты оставайся тут, ежели хочешь, — лежи на месте, либо бегай кругом, а мне надо в лес по делу, вот что!»
Виксберг — город больших торговых улиц и красивых особняков; он центр торговли по рекам Язу и Санфлауэр; от него строятся во все стороны железные дороги через богатые сельскохозяйственные районы, и ему предстоит будущность процветающего города большого значения.
По-видимому, почти все приречные города, большие и маленькие, решили, что отныне богатеть и разрастаться они могут главным образом благодаря железным дорогам. Соответственно этому они и действуют. По всем признакам, ближайшие двадцать лет принесут с собой заметные перемены в долине: увеличится население и его благосостояние, а вместе с этим, естественно, и его интеллектуальное развитие, а также и свободомыслие. Тем не менее, если судить ио прошлому, у городов на Миссисипи есть возможность найти и использовать способ задержать и подавить свое развитие. Во времена расцвета пароходства они сами себе создавали помехи в виде нелепой системы портовых пошлин, мешавшей тому, что можно назвать «розничным» движением грузов и пассажиров. Суда облагались такой высокой портовой пошлиной, что им было невыгодно приставать к берегу ради одного-двух пассажиров или небольшой партии груза. Вместо того чтобы поощрять вовлечение их в торговлю, города усердно и успешно мешали этому. Они могли бы пользоваться большим количеством судов и низким тарифом, но их политика привела к тому, что судов было мало и тарифы неизбежно повышались. Такая политика господствовала — и господствует — на всем протяжении реки от Нового Орлеана до Сент-Пола.
Нам очень хотелось проплыть вверх по Язу и Санфлауэру: побывать в этих местах всегда интересно, а а то время было интересно вдвойне, так как там мы могли бы еще увидеть большое наводнение во всей его гиде. Но по возвращении нам почти неизбежно пришлось бы день, а то и больше, дожидаться новоорлеанского парохода, — поэтому мы были вынуждены отказаться от своего намерения.
Вот какой рассказ мне удалось услышать на пароходе в тот вечер. Я привожу его здесь потому, что это интересная история, а не потому, что она здесь уместна, — напротив, она вовсе неуместна. Ее рассказал один из пассажиров — профессор колледжа, она всплыла у него в памяти во время общего разговора, который начался с лошадей, перешел на астрономию, потом коснулся линчевания шулеров в Виксберге полвека тому назад, потом перешел на сны и приметы и наконец, после полуночи, закончился спором о свободе торговли и протекционной системе.
Глава XXXVI. РАССКАЗ ПРОФЕССОРА
«Произошло все это давно. Тогда я еще не был профессором. Я был скромным молодым землемером и готов был размежевать весь мир, если бы кому-нибудь это понадобилось. У меня был контракт на съемки для дороги к большому руднику в Калифорнии, и я направлялся туда морем — поездка на три-четыре недели. Пассажиров на пароходе было много, но я очень мало общался с ними, — я страстно любил читать и мечтать и ради удовлетворения этой страсти избегал разговоров с окружающими. Среди них было три профессиональных игрока — грубые и отталкивающие субъекты. Я никогда с ними не разговаривал, но мне приходилось видеть их довольно часто, так как они играли день и ночь в каюте, выходившей на верхнюю палубу, и во время моих прогулок я часто видел их в полуотворенную дверь: они не плотно закрывали ее, чтобы выпускать излишек табачного дыма и ругательств. Это была противная, дурная компания, по приходилось, разумеется, мириться с ее присутствием.
Еще один пассажир часто попадался мне на глаза, так как, видимо, решил сойтись со мной поближе, и я не мог отделаться от него, но рискуя его обидеть, чего мне совсем но хотелось. К тому же что-то привлекательное было в его деревенской простоте и сияющем благодушии. При первой же встрече с этим мистером Джоном Бэкусом я по его одежде и наружности угадал в нем скотовода или фермера из глухих районов какого-нибудь западного штата, вернее всего — Огайо. Позже он пустился в рассказы о себе, и я узнал, что он действительно скотовод из Огайо. Я был так доволен своей проницательностью, что даже почувствовал к нему расположение за то, что он не обманул моих догадок.
Он стал подходить ко мне каждый день после завтрака и сопутствовал мне в моих прогулках; и постепенно нз его болтовни я узнал все о его делах, видах на будущее, его семье, родственниках, политических убеждениях — словом, все, что имело какое-нибудь отношение к Бэкусам, живым или умершим. И в то же время ему удалось выведать у меня все о моей профессии, родне, намерениях, о моих видах иа будущее и обо мне самом. Это доказывает, что он был просто гениален в своей кроткой настойчивости, так как я вообще не склонен говорить о себе. Я как-то упомянул о триангуляции. Красивое слово понравилось ему, он осведомился, что оно означает. Я объяснил, и с тех пор он спокойно и добродушно игнорировал мое имя, называя меня Треугольником.
Какой это был энтузиаст во всем, что касалось скота! Стоило только сказать «бык» или «корова», как глаза у него загорались и его красноречивый язык развязывался. Пока я ходил и слушал, он ходил и говорил. Он знал все породы скота, обожал все породы, говорил о них с нежностью. Я шагал с ним в безмолвной тоске, пока речь шла о скоте; когда мне становилось наконец невтерпеж, я ловко переводил разговор на какую-нибудь научную тему, тогда уже блестели глаза у меня, а у него потухали; работал язык у меня, а у него останавливался; жизнь была мне радостью, а ему — печалью.
Однажды он сказал как-то неуверенно, словно с опаской:
— Треугольник, не зайдете ли вы на минутку ко мне в каюту? Мне надо бы потолковать с вами об одном деле.
Я с готовностью пошел за ним. Войдя в каюту, он высунул голову наружу, осторожно осмотрел весь салон, затем захлопнул дверь и запер ее. Мы сели на диван, и он сказал:
— Я хочу сделать вам маленькое предложение, и если оно вам подойдет — это будет неплохое дельце для нас обоих. Вы едете в Калифорнию не для развлечения, да и я тоже. Мы люди деловые, не правда ли? Ну, так вот, вы можете оказать услугу мне, а я вам, если мы сговоримся. Я много лет сберегал и копил деньги и сколотил кое-что, — все у меня вот здесь. Он отпер старый сундук, обитый кожей, отбросил беспорядочную кучу старого платья и на мгновенье вытащил небольшой, туго набитый мешок, затем сразу же спрятал его и закрыл сундук. Понизив голос до осторожного шепота, он продолжал: — Вся она здесь — кругленькая сумма в десять тысяч долларов желтенькими кругляшками. И вот я кое-что придумал: уж если я чего не знаю о разведении скота, так то и знать ни к чему. А в Калифорнии скотоводство может принести большие деньги. Ну вот, мне известно, да и вам тоже, что при съемке для дороги всегда остаются клочки земли, которые называются «клинышками»; они достаются землемеру совсем бесплатно, задаром. Вам нужно только размежевать участок таким образом, чтобы эти «клинья» оказались на хорошей, плодородной земле; потом вы передадите их мне, а я разведу там скот, — деньги так и потекут ко мне; и я буду выплачивать вам вашу долю долларами — аккуратно, честно и…
Жалко было охлаждать его горячий энтузиазм, но делать было нечего. Перебив его, я сказал сухо:
— Я не такого сорта землемер. Переменим тему, мистер Бэкус.
Жаль было смотреть, как он сконфузился, и слышать его неловкие, застенчивые извинения. Я был расстроен не меньше его самого, — особенно потому, что он, видимо, не находил решительно ничего непорядочного в своем предложении. Я поспешил утешить его и постарался заставить его забыть свою неудачу, — я вовлек его в пространный разговор о скоте и способах убоя. Наш пароход стоял в Акапулько, и, по счастливой случайности, как раз когда мы с Бэкусом вышли на палубу, матросы начали грузить на канатах быков. Уныние Бэкуса мгновенно исчезло, а с ним и воспоминание о недавнем промахе.
— Господи боже мой, вы только посмотрите! — вскрикнул он. — Вы представляете себе, Треугольник, что сказали бы иа это в Огайо? Да у них глаза бы вылезли иа лоб, если бы они увидели такое обращение со скотом! Вылезли бы, честное слово!
Все пассажиры собрались на палубе ради этого зрелища, даже игроки; Бэкус со всеми был знаком и ко всем приставал со своей любимой темой. Уходя, я заметил, как один из игроков подошел и заговорил с ним, потом другой, потом третий. Я остановился и решил выждать, что будет дальше. Разговор между четырьмя мужчинами продолжался, становился серьезным. Бэкус постепенно отступал, а игроки шли за ним по пятам. Меня это обеспокоило. Но когда они проходили мимо меня, я слышал, как Бэкус сказал раздраженно, с досадой:
— Да ни к чему это, джентльмены. Я вам уже десять раз твердил и опять говорю, что у меня к этому душа не лежит, и я не стану рисковать!
Я успокоился. «У него трезвая голова — он удержится!» — подумал я.
За двухнедельный переход от Акапулько до Сан-Франциско я часто замечал, что игроки серьезно толковали о чем-то с Бэкусом, и как-то раз осторожно предостерег его. Он самодовольно рассмеялся и сказал:
— Да, да, они порядком пристают ко мне, все уговаривают меня сыграть с ними немножко — так просто, для забавы, говорят они. Да господи, ведь мои родители не один раз, а тысячу раз наказывали мне остерегаться скотины этой породы.
Наконец к должному сроку на горизонте показался Сан-Франциско. Был отвратительный темный вечер, дул сильный ветер, но большого волнения не замечалось. Я сидел на палубе один. Около десяти я решил сойти вниз. Из каюты игроков вышел кто-то и скрылся в темноте. Я был потрясен, потому что узнал Бэкуса. Я обежал по трапу, стал искать его, но не нашел и вернулся на палубу как раз вовремя, чтобы увидеть, как он снова входил в это проклятое гнездо мошенников. Неужели он в конце концов не выдержал? Я боялся, что это так. Зачем он ходил вниз? За мешком с деньгами? Вероятно. Полный дурных предчувствий, я подошел к двери. Она была приотворена и, заглянув в щель, я увидел зрелище, заставившее меня горько пожалеть, зачем я не постарался спасти моего беднягу скотолюба, вместо того чтоб глупо тратить время на чтение и раздумья. Он играл. Хуже того — он все время усердно налегал на шампанское, и действие вина уже было заметно. Он хвалил «сидр» (так он называл шампанское) и уверял, что теперь вошел во вкус и, пожалуй, пил бы его, будь это даже спиртное, потому что оно до того вкусно — вкуснее всего, что он когда-либо пробовал. А эти негодяи исподтишка обменивались улыбками и подливали во все стаканы, — но в то время, как Бэкус добросовестно выпивал свой до дна, они только делали вид, что пьют, и выливали вино через плечо.
Я не мог вынести этого зрелища и отошел от двери — попытался отвлечься, следить за морем и шумом ветра. Но нет, беспокойство гнало меня обратно к двери каждые четверть часа, и всякий раз я видел, как Бэкус пил вино честно и добросовестно, а остальные выплескивали свое. Никогда в жизни я еще не проводил такой мучительной ночи.
Я надеялся, правда, что мы скоро дойдем до места назначения и тогда игра прекратится. Я изо всех сил молил бога, чтобы пароход шел поскорее. Наконец мы на всех парах промчались через Золотые Ворота, и сердце мое радостно встрепенулось. Я поспешил к двери и заглянул в каюту. Увы, надежды оставалось очень мало: глаза у Бэкуса осоловели и налились кровью, потное лицо побагровело, речь перешла в бессвязное, плаксивое бормотанье; он пьяно раскачивался в такт качанью судна и осушил еще стакан, пока сдавали карты.
Взяв карты, заглянул в них, и его мутные глаза на миг заблестели. Игроки это заметили и едва заметными знаками выразили свое удовлетворение.
— Сколько сбрасываете?
— Ни одной, — отвечал Бэкус.
Один из негодяев, по имени Хенк Уайли, сбросил одну карту, остальные — по три. Началась игра. До сих пор ставки были незначительные: один-два доллара. Но тут Бэкус поставил десять долларов. Уайли, поколебавшись с минуту, «принял» и «надбавил» десять долларов. Двое остальных бросили карты.
Бэкус надбавил еще двадцать. Уайли объявил:
— Принимаю и ставлю еще сто! — и с усмешкой потянулся за деньгами,
— Оставьте, — сказал Бэкус с пьяной серьезностью.
— Как, вы хотите сказать, что идете на эту сумму?
— Иду на эту сумму? Конечно, — и покрою ее еще одной сотней.
Оп полез во внутренний карман пальто и достал деньги.
— Ага, так вот вы как играете? Принимаю и ставлю еще пятьсот, — сказал Уайли.
— Ставлю пятьсот сверх, — объявил глупый скотовод и, вытащив деньги, высыпал их на остальную груду монет. Троим заговорщикам едва удавалось скрыть ликование.
Теперь они бросили всякую дипломатию и притворство, их голоса зазвучали резко и хрипло, а желтая пирамида вырастала все выше и выше. Наконец на столе оказалось десять тысяч долларов. Уайли бросил на стол мешок монет и сказал с насмешливой любезностью:
— Ставлю еще пять тысяч долларов, мой деревенский друг! Что вы теперь скажете?
— Раскроемся! — крикнул Бэкус, кладя свой набитый золотом мешок на кучу монет, — Что у вас?
— Четыре короля, идиот! — и Уайли бросил на стол свои карты и обхватил руками кучу монет.
— Четыре туза, осел! — прогремел Бэкус, наводя иа партнера пистолет со взведенным курком. — Я сам профессиональный игрок и всю дорогу готовился вас подловить, простофили вы эдакие!
Бум! Загрохотал спущенный якорь, и плавание кончилось.
Да, грустно жить на свете! Один из трех игроков был «компаньоном» Бэкуса. Именно он и сдавал роковые карты. По уговору с двумя жертвами он должен был подсунуть Бэкусу четыре дамы но, увы, не сделал этого.
Неделю спустя я наткнулся на Бэкуса, разряженного по последней моде, на Монтгомери-стрит. На прощанье он весело промолвил:
— Да, кстати, не обижайтесь за «клинышки». Я, собственно, ничего не смыслю в скоте, если не считать того, что успел нахватать за неделю работы в Джерси перед самым нашим отплытием. Моя профессия скотовода и любовь к скоту сослужили свою службу и больше они мне не нужны».
На следующий день мы с сожалением расстались с «Золотым песком» и его командой, надеясь увидеть когда-нибудь снова и пароход и команду. Но судьба сложилась трагически — и это стало невозможным!
Глава XXXVII. КОНЕЦ «ЗОЛОТОГО ПЕСКА»
Ибо, три месяца спустя, 8 августа, когда я писал одну из предыдущих глав, в нью-йоркских газетах появилась следующая телеграмма:
«Страшная катастрофа!
Семнадцать человек погибло при взрыве на пароходе «Золотой песок».
Нашвилл, 7 августа. Телеграмма из Хикмена (Кентукки) сообщает: «На пароходе «Золотой песок» сегодня, в три часа дня, тотчас после отхода из Хикмена, взорвались котлы. Сорок семь человек обварило паром, семнадцать нигде не обнаружены. Взрывом судно было прибито к берегу, у самого города, и усилиями граждан каютные пассажиры, служащие, часть экипажа и палубные пассажиры перевезены на берег и размещены в гостиницах и частных домах. Из числа пострадавших двадцать четыре человека сначала лежали в москательном складе Холькома, где им была оказана всяческая помощь, перед тем, как их поместили в лучшие условия».
Далее следовал список фамилий, из которого выяснилось, что в числе семнадцати погибших был и буфетчик, а в числе сорока семи раненых — капитан, старший помощник, младший помощник, второй и третий конторщики, а также лоцман мистер Л. Грей и несколько человек из команды.
В ответ на частную телеграмму нам сообщили, что никто из них не пострадал серьезно, кроме мистера Грея. Полученные затем письма подтвердили сообщение, и нас известили, что мистер Грей поправляется и скоро будет совершенно здоров. Дальнейшие письма выражали уже меньше надежды, и в конце концов пришло известие о смерти мистера Грея. А это был славный человек, в высшей степени общительный и мужественный, достойный лучшей участи.
Глава XXXVIII. «ЧУДО-ДОМ»
В Новый Орлеаи мы прибыли на цинциниатском пароходе, или, иначе говоря, в цинциннатском пароходе. Оба выражения правильны: первое — в восточных штатах, второе — в западных.
Мистер Диккенс не соглашался с тем, что пароходы на Миссисипи «великолепны», что они представляют собой «плавучие дворцы». Так их обычно называли, и названия эти ничуть по преувеличивали восторг, с которым население смотрело на ли пароходы.
Мнение мистера Диккенса, возможно, неоспоримо, но мнение населения уж безусловно неоспоримо. Если мистер Диккенс сравнивал миссисипские пароходы с коронными бриллиантами или с Тадж-Махалом, или с Маттерхорном, или с другими драгоценными и удивительными вещами, которые ему пришлось видеть, то он был прав — эти пароходы не назовешь великолепными. Но местные жители сравнивали их с тем, что приходилось видеть им, а при таком мериле, с такой точки зрения — пароходы, конечно, были великолепны; определение это правильно, здесь ничто не преувеличено. Население было так же право, как мистер Диккенс, — пароходы были прекраснее всего, что можно было увидеть на берегах реки. По сравнению с лучшими особняками и первоклассными отелями всей долины, они несомненно были великолепны, были «дворцами». Некоторым жителям Нового Орлеана и Сент— Луиса они, возможно, не казались ни великолепными, ни похожими на дворцы, но для огромного большинства населения этих городов и для всего населения обоих берегов от Батон-Ружа до Сент-Луиса это были дворцы; они соответствовали мечте всякого обывателя о великолепии и удовлетворяли эту мечту.
В каждом городке, в каждой деревне всей обширной полосы ио обе стороны реки имелся свой «чудо-дом» — лучшее здание, самое красивое здание, особняк, дом самого богатого и видного из граждан. Описать такой дом легко: просторный двор, заросший травой, обнесен побеленным забором, который всегда в полной исправности; от калитки до дверей — вымощенная кирпичом дорожка; дом — большой, четырехугольный, двухэтажный, рубленый, выкрашенный белой краской, с портиком, как у греческого храма, — с той разницей, что здесь колонны с каннелюрами и коринфские капители—лишь трогательная подделка: они сосновые, крашеные; у входной двери — железный молоток; медная дверная ручка потемнела, давно не чищена. Внутри — передняя с полом из строганых досок и без ковра; отсюда видна гостиная (пятнадцать футов на пятнадцать, а иногда пятью — десятью футами больше) ; неизбежный ковер, посредине — стол красного дерева, на нем лампа с зеленым бумажным абажуром стоит на чем-то вроде сетки — на так называемой «салфетке под лампу», связанной из яркой шерсти разных цветов руками дочерей семейства. Несколько книг, разложенных кучками и поодиночке, в строгом порядке, по традиционному неизменному плану; среди них Таппер со множеством карандашных пометок, «Подношения дружбы» и «Венок любви» с их сочными глупостями, иллюстрированными поблекшими меццо-тинто; а также «Оссиан», «Алонзо и Мелисса», иногда «Айвенго» и «Альбом», весь исписанный доморощенными «стихами» из категории: «Ты душу ранила, которая любила»; два-три сентиментально-нравоучительных романа, вроде «Пастуха с Солсберийской равнины» и т. д.; последний номер целомудренного и безвредного «Дамского журнала» Годи с раскрашенными модными картинками, на которых женщины похожи на восковых кукол: все с одинаковыми ртами, с губами и глазами одинаковой величины, и из иод платья каждой женщины ростом в пять футов выглядывают двухдюймовые клинышки, которые должны изображать половинки ее ступней. Покрытая лаком герметическая печка (новое и убийственное изобретение) с трубой, проходящей через доску, которая закрывает вышедший в отставку добрый старый камин. На деревянной полке над камином — с каждой стороны по большой корзине с персиками или другими фруктами в натуральную величину, грубо сделанными из гипса или воска и раскрашенными, чтобы походить на настоящие, но безрезультатно. Посредине над камином — гравюра: Вашингтон переправляется через Делавэр; на стене у двери — работа одной из дочек: копня той же картины, вышитая шерстью кричащих цветов, — произведение искусства, которое заставило бы Вашингтона поколебаться в момент переправы, если бы он мог предвидеть, к каким последствиям это приведет. Фортепиано — верней, разбитая кастрюля под видом фортепиано, — на нем ноты, переплетенные и непереплетенные, а на этажерке рядом: «Битва при Праге», «Птичий вальс», «Аркапзасский путник», «Наладь смычок», «Марсельеза», «На острове пустынном, голом» (Святая Елена), «Разбиты последние звенья», «В ночь последней нашей встречи был на ней венок из роз», «Уйди, забудь меня, зачем же омрачать твое чело печалью?», «Были в жизни часы, дорогие навеки», «Давно, давным-давно», «Дни разлуки», «Жизнь на волнах морских, дом над ревущей бездной», «Птичка в море»; а на пюпитре раскрыты оставленные томной певицей ноты: «Плы-и-ви же, серебряный м-е-есяц, и страннику путь ука-а-жи!» — и так далее. К фортепиано задумчиво прислонилась гитара, — такая гитара сама может сыграть испанское фанданго, если вы возьмете первую ноту. Бредовое произведение искусства на стене, изготовленное тут же в доме, — благочестивое изречение, вышитое цветным гарусом или выложенное из сухих трав: это прародитель имеющихся в наше время в продаже надписей, вроде: «Благослови, господи, наш дом». На стене в черных лепных рамах и другие произведения искусства, задуманные и выполненные дочками, — это мрачные рисунки черным и белым карандашом, чаще всего пейзажи: озеро, одинокий парусник, окаменелые облака, на берегу деревья каких-то догеологических эпох, черные, как уголь, пропасти; в углу картины заметно выделяется имя преступника. Литография «Переход Наполеона через Альпы», литография «Могила на Святой Елене». Гравюры на стали Трамбэлла — «Битва при Бэнкер-Хилле» и «Вылазка из Гибралтара». Гравюры на меди — «Моисей, исторгающий воду из скалы» и «Возвращение блудного сына». В большой позолоченной раме масляными красками клевета на семью: папаша держит книгу («Конституция Соединенных Штатов»); гитара, перевитая голубыми лентами, прислонена к мамаше; девицы — еще в детском возрасте, в туфельках и панталончиках с фестонами, — одна прижимает к груди игрушечную лошадку, другая клубком шерсти дразнит котенка, и обе приторно улыбаются мамаше, а мамаша — им; все свежи, красны, как сырое мясо, словно с них содрали кожу. Напротив, тоже в золоченой раме, дедушка и бабушка в возрасте тридцати и двадцати двух лет — чопорные, старомодные, в высоких воротничках и рукавах с буфами — пучат бледные глаза на фоне сплошной тьмы египетской. Под стеклянным колпаком от французских часов — большой букет окостеневших цветов из трупно-белого воска. В углу — горка в виде пирамиды, на ее полках — главным образом безделушки того времени, расставленные с расчетом на эффект: раковина, на которой вырезаны слова молитвы «Отче наш»; другая раковина — продолговато-овальная, с узкой прямой щелью, длиной в три дюйма от одного до другого края, — на ней вырезан портрет Вашингтона, сделанный из рук вон плохо: отверстие раковины напоминает рот Вашингтона, и художник должен был приноровить к нему все остальное. Эти раковины — память о совершенном много лет тому назад свадебном путешествии в Новый Орлеан и посещении французского базара. Остальные безделушки — калифорнийские «экспонаты»: кварц с вкрапленной в него золотой бородавкой; старинный позолоченный медальон, в котором хранятся локон кого-то из предков; кремневые наконечники индейских стрел; пара бисерных мокасин — подарок дяди, в свое время пересекшего прерии; три корзиночки из квасцов разного цвета — каркасы из проволоки, обсаженной, точно леденцами, кубическими кристалликами квасцов, — это художественные достижения молодых девиц, двойники и копии таких произведений искусства вы найдете на всех этажерках в этой части страны; коллекции засушенных и наколотых на картон жучков и бабочек; раскрашенная игрушечная собачка, прикрепленная к подставке: если надавить подставку, песик опускает нижнюю челюсть и пищит; сахарный кролик — все части тела слились в одно и неразличимы; оловянная медаль в память выборов президента; миниатюрный картонный пильщик, который от тепла начинает двигаться, когда его сажают на печную трубу; фигурка Наполеона из воска; обширная выставка дагерротипов с тусклыми изображениями детей, родителей, кузенов, теток и знакомых во всяких позах, кроме естественных, — но на дагерротипах на заднем плане еще нет портиков и искусственных, уходящих вдаль ландшафтов: они появились позднее, с фотографией; все расплывчатые фигуры на дагерротипах богато украшены цепочками и перстнями (металл указан полосками и пятнышками ярко-золотеющей бронзы, так что сомнений быть не может); все слишком тщательно причесаны, слишком чопорно неподвижны, все чувствуют себя связанными в негнущихся парадных туалетах такого покроя, что трудно себе представить, чтобы он когда-либо был в моде; муж и жена обыкновенно изображены вместе — он сидит, она стоит, положив руку ему на плечо; на лицах у обоих не изгладились за все эти прошедшие годы явные последствия торопливого приказания дагерротипщика: «Теперь, пожалуйста, улыбнитесь». Над горкой с безделушками — самым священным местом, — иа прибитой к стене подставке — акварельное оскорбление, нанесенное юной племянницей, которая много лет тому назад приезжала сюда погостить и умерла. А жаль: со временем могла бы и раскаяться. Стулья и диван, набитые конским волосом, которые все время выскальзывают из-под вас. Оконные шторы из лощеной ткани с набивными, ярчайших цветов, молочницами и руинами замков. Ламбрекены висят на вычурных кронштейнах из кованой золоченой жести. В спальнях — коврики из лоскутков, кровати «с сетками» и с провалом посредине, так как сетки недостаточно натянуты; пожелтевшие перины, которые но слишком часто проветриваются; стулья с плетеными из камыша сиденьями, качалки — с лубяными; на стене зеркало величиной со школьную грифельную доску, в фанерованной раме; дедовское бюро; иногда, — но не обязательно, — умывальный таз и кувшин. Медный подсвечник, сальная свечка, щипцы для снятия нагара. Больше в комнате ничего нет. Ванной в доме не имеется, — и вряд ли здесь побывает гость, который когда-либо видывал ванную.
Таковы были дома наиболее видных граждан повсюду, от предместий Нового Орлеана до окраины Сент-Луиса. Всходя на один из больших, хороших пароходов, такой гражданин словно вступал в новый, чудесный мир: трубы наверху вырезаны в виде султана торчащих перьев, а иногда и выкрашены в красный цвет, лоцманская рубка, верхняя палуба, нижняя палуба — все обнесено белыми деревянными перилами с филигранной резьбой замысловатых узоров. У подъемных стрел верхушки в виде золоченых желудей; золоченые оленьи рога над большим колоколом; на кожухе колеса иногда какая-нибудь яркая символическая картина. Большая, просторная нижняя палуба выкрашена голубой краской, уставлена виндзорскими креслами, внутри — вместительные белоснежные каюты. На двери каждой каюты фарфоровая ручка и картина масляными красками. Поверху тянется филигранная резьба, тронутая позолотой, — всюду, куда ни глянешь. На каждом шагу высокие канделябры, каждый — настоящий апрельский ливень сверкающих стеклянных капель. Приятный радужный свет, струящийся из цветных стекол в иллюминаторах. Все вместе — длинный ослепительный туннель, ошеломляющее и радующее душу зрелище! В дамском салоне — уилтонский ковер, розовый с белым, мягкий, как мех, с восхитительным узором — огромными цветами. Затем салон для новобрачных (скотина, которой принадлежит эта идея, в то время была еще в живых и не повешена) — салон новобрачных, претенциозная слащавость которого, конечно, внушала благоговение слабому интеллекту славословящего обывателя. В каждой каюте — две удобные чистенькие койки, бывало даже и зеркало и удобный стенной шкафчик. А иногда — даже умывальный таз и кувшин и половинка полотенца, которую при известном опыте удавалось не спутать с сеткой от москнтов; впрочем, обычно эти предметы отсутствовали, и пассажиры, сняв пиджаки, умывались у длинного ряда умывальных раковин в парикмахерской, где имелись общие полотенца, общие гребенки и общее мыло.
Вообразите себе пароход таким, каким я только что вам его описал, и он даже покажется вам исключительно великолепным, исключительно нарядным, исключительно привлекательным и исключительно удобным. Теперь покройте его слоем древней, крепко въевшейся грязи — и это будет тот пароход из Цинциннати, о котором я недавно упоминал. Но и там грязь была только внутри, так как пароход держали в порядке во всех отделениях, кроме отделений, которыми ведал пароходный стюард.
А если этот пароход вымыть и выкрасить заново, он будет точной копией самого прославленного парохода времен расцвета, ибо в архитектуре пароходов на Западе не произошло никаких перемен, не изменилось и внутреннее убранство.
Глава XXXIX. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИМОШЕННИКИ
В районе Виксберга, там, где прежде река вилась штопором, оиа теперь относительно пряма, так как переменила русло; прежний ее путь в семьдесят миль сократился до тридцати пяти. Из-за этой перемены соседний с Виксбергом город Дельта в штате Луизиана оказался далеко отстоящим от реки, и карьера приречного города для него кончилась. Вся прежняя его прибрежная полоса теперь занята песчаной отмелью, густо поросшей молодыми деревьями — порослью, которая разрастется со временем в густой лес и совершенно закроет город-изгнанник.
Мы своевременно миновали Большой залив и Родни, прославившийся во время войны, и достигли Натчеза, последнего из прекрасных городов на холмах, — так как Батон-Руж, который нам еще предстояло увидеть, расположен не иа холме, а только на высоком берегу. Знаменитый «Натчез под горой» не особенно изменился за двадцать лет; а внешний вид его, если судить по описаниям когда-то проезжавших тут многочисленных иностранных туристов, не изменился и за шестьдесят лет, — он по-прежнему маленький, очень разбросанный и захудалый. В те времена, когда пароходы еще только пачали вытеснять баржп, он в отношении нравственности пользовался отчаянной репутацией: здесь в то годы было много пьянства, разгула, драк и убийств среди всякого речного сброда., Но «Натчез на горе» — привлекательный город, и всегда был привлекательным. Даже госпожа Троллоп (1827) вынуждена была признать его очарование:
«В двух-трех местах утомительное однообразие равнины нарушается пологими возвышенностями. Город Натчез красиво расположен на одной из таких возвышенностей. Контраст между яркой зеленью этого холма и угрюмой полосой черного леса, который тянется но обе его стороны, обилие кустов папайи, карликовых пальм и апельсиновых деревьев, пышное разнообразие сладко благоухающих цветов, растущих здесь, — все делает этот город похожим на оазис в пустыне. Натчез — самый северный пункт, где апельсины вызревают на открытом воздухе и выносят зиму без укрытия. Этот прелестный городок является исключением, так как все другие города и селения, мимо которых мы проезжали, показались мне крайне жалкими».
Натчез, как и его близкие и дальние береговые соседи, пользуется теперь железными дорогами, и он все увеличивает их число, проводит их во всех направлениях, во все окружающие богатые районы, естественно тяготеющие к нему. Так же как в Виксберге и в Новом Орлеане, в Натчезе есть своя фабрика льда; она приготовляет по тридцать тонн льда в день. В мое время в Виксберге и Натчезе лед был драгоценностью — он был доступен только богачам. Теперь все могут покупать его. Я побывал на одном из новоорлеанских заводов, изготовляющих лед, чтобы посмотреть, какой вид может иметь полярная область, перенесенная на край тропиков. Но с внешней стороны там не было ничего поражающего. То был просто обширный дом с какими-то невинными паровыми машинами в одном конце и большими фарфоровыми трубами, протянутыми в нескольких местах. В действительности они не былп фарфоровыми, только казались такими: они были железные, но аммиак, который пропускали через них, покрыл их слоем крепкого молочно-белого льда толщиною в руку. Этот лед должен был бы таять, так как в помещении была такая атмосфера, что шубы не требовалось, но он не таял: внутри труб было очень х олодно.
В пол было вставлено множество открытых жестяных ящиков шириною в фут и длиной в два фута. Они были наполнены чистой водой, и каждый ящик был обложен солью и другими нужными в этом случае веществами. Обрабатывали эту воду также газами ам миака, каким-то способом, который для меня навсегда останется тайной, так как я не мог понять сущности этого процесса. Пока вода в ящиках постепенно замерзала, рабочие раз-другой помешивали ее палкой — вероятно, для того, чтобы из нее выделились пузырьки воздуха. Другие рабочие все время вынимали те ящики, содержимое которых окончательно превратилось в лед. Ящик однократно погружали в чан с кипятком, чтобы глыба льда отстала от своего жестяного гроба, затем эту глыбу выбрасывали иа платформу, и лед был готов в продажу. Эти большие бруски были тверды, массивны и кристально прозрачны. В одних были заморожены большие букеты живых и ярких тропических цветов; в других — красивые французские куклы, разодетые в шелк, или всякие хорошенькие безделушки. Такие бруски льда ставились стоймя на блюдах, посреди обеденного стола, для освежения тропической атмосферы, а вместе с тем и для красоты: заключенные внутри льда цветы и украшения были видны, как сквозь зеркальное стекло. Я слышал, что этот завод продавал свой лед в розницу, самыми скромными количествами, какие требуются в каждом доме, развозил его в фургонах по всему Новому Орлеану, по цене шесть-семь долларов за тонну, — и получал при этом приличную прибыль. В таком случае и на Севере для заводов льда нашлось бы дело, ибо мы по такой цене не можем достать лед, если покупаем меньше трехсот пятидесяти фунтов сразу.
На текстильной фабрике Розали в Натчезе шесть тысяч веретен и сто шестьдесят ткацких станков, и там работают сто человек. Натчезская хлопчатобумажная компания начала свою деятельность четыре года тому назад в двухэтажном здании площадью в пятьдесят на сто девяносто футов, с четырьмя тысячами веретен и ста двадцатью восемью станками, с капиталом в сто пять тысяч долларов, — акции целиком разошлись в городе. Два года спустя те же пайщики увеличили свой капитал до двухсот двадцати пяти тысяч долларов, надстроили к зданию фабрики третий этаж, удлинили здание до трехсот семнадцати футов и довели оборудование до десяти тысяч трехсот веретен и трехсот четырех ткацких станков. В настоящее время на фабрике занято двести пятьдесят человек, среди них много жителей Натчеза. «Фабрика обрабатывает пять тысяч кип хлопка в год, изготовляет из него лучшие стандартные сорта небеленой рубашечной и простынной ткани, а также тика, выпуская ежегодно на рынок пять миллионов ярдов этих товаров»[12]. Количество пайщиков ограничено, акции стоят по пять тысяч долларов, но уже ни одной нет иа денежном рынке.
Перемены на реке Миссисипи велики и удивительны, хотя их следовало ожидать; но я не мог думать, что доживу до превращения Натчеза и всех других приречных городов в оплоты промышленности и железнодорожные центры.
Заговорив о промышленности, я вспомнил один разговор иа эту тему, который я слышал—вернее, подслушал— на циициннатском пароходе. Я проснулся от беспокойного сна, в ушах у меня звучал смутный шум голосов. Я прислушался: разговаривали двое мужчин, по-видимому о большом наводнении. Я выглянул сквозь открытое окно. Разговаривавшие сидели один против другого за поздним завтраком; кругом никого не было. Тема наводнения была исчерпана в нескольких словах. Очевидно, они использовали ее только для того, чтобы начать разговор и завязать знакомство, а потом углубились в деловую беседу. Скоро выяснилось, что оба опп коммивояжеры, один из Цинциннати, другой из Нового Орлеана. Это были деловитые люди с энергичными манерами и быстрой рочью; доллар был их богом, искусство добывать его — религией.
— Вот видите этот продукт, — говорил цинциннатский агент, отрезав кусок так называемого масла и протягивая его на конце ножа. — Это изготовляет наша фирма. Посмотрите на него, понюхайте, отведайте. Испытайте его в любом отношении, не торопитесь. Ну, что вы скажете? Настоящее масло, а? Черта с два! Это маргарин. Да-с, сударь мой, именно олеомаргарин. Вам не отличить его от масла; ей-богу, и специалист не отличит. Это изготовляет наша фирма. Мы снабжаем им большинство пароходов на Западе; вряд ли на каком-нибудь из них найдется и фуит настоящего масла. Мы пролезаем, вернее сказать — проскакиваем повсюду. Скоро заберем в своп руки всю эту отрасль на пароходах. Да и в гостиницах тоже. Недалек тот день, когда вы не найдете и унции масла, хоть на пробу, ни в одной гостинице в долине Миссисипи и Огайо, кроме самых крупных городов. Да мы уже и сейчас сбываем маргарин тысячами тонн. И мы можем продавать его по такой пустяковой цене, что всей стране придется его покупать — никому не отвертеться. Масло не выдержит конкуренции — никаких шансов не имеет на успех. Время масла отошло, и отныне масло сброшено со счетов. На маргарине можно нажить больше денег, чем… да вы и представить себе не можете, какие дела мы делаем! Я останавливался во всех городках от Цинциннати до Натчеза и из каждого послал своей фирме крупные заказы.
И так он распространялся еще минут десять все с той же горячностью. Тут Новый Орлеан встрепенулся и заговорил:
— Да, подделка первоклассная, что и говорить. Но это не единственная, есть и другие ничуть не хуже. Вот, например, теперь делают оливковое масло из семян хлопка, да так, что вы ни за что не отличите его от настоящего.
— Это правда, согласился Цинциннати, — одно время это было золотое дело. Масло отправляли за границу, привозили его из Франции или из Италии с клеймом североамериканской таможни, которая подтверждала подлинность, и зарабатывали на этом бог знает сколько. Но Франция и Италия испортили игру — иначе и быть по могло. Наложили такую чудовищную пошлину, что хлопковое масло «под оливковое» не могло ее выдержать. Пришлось это дело прекратить.
— Да? Вы так думаете? Подождите-ка минутку.
Отправляется к себе в каюту, приносит оттуда две высокие бутылки, откупоривает и говорит:
— Ну-ка, понюхайте, отведайте, исследуйте бутылки, посмотрите на ярлыки. Одна — из Европы, другая никогда не бывала за границей. Одна — европейское оливковое масло, другая — американское «оливковое» масло из семян хлопчатника. Что, можете отличить одно от другого? Конечно нет. И никто не может. Пускай те, кто хочет, не жалеют расходов и хлопот, чтобы отправлять свое масло в Европу и обратно, — это их право; но наша фирма придумала штуку, которая стоит шести таких. Мы выделываем все решительно на месте — с начала до конца — на нашей фабрике в Новом Орлеане: ярлыки, бутылки, масло — все! Впрочем, нет, не ярлыки — их-то мы покупаем за границей, там это стоит безделицу. Видите ли, в галлоне хлопкового масла имеется капелька как бы эссенции, чего-то такого, что придает ому особый запах или привкус, что ли; вытравите его — и ваше дело в шляпе; тогда ничего не стоит превратить это масло в любое, какое захотите, — и ни одна душа не отличит подделки от настоящего. Так вот, мы знаем секрет, как уничтожать этот привкус, — только одна наша фирма и умеет это делать. И мы приготовляем просто совершенное масло — никак не отличишь его от оливкового. Дело у нас идет блестяще, — могу показать вам хотя бы по книге заказов, сколько я их принял за нынешнюю поездку. Вашим маслом, может быть, скоро все люди будут намазывать свой хлеб, да зато нашим хлопковым маслом будет заправляться каждый салат — от Мексиканского залива до Канады, будьте уверены!
Цинциннати сиял от восхищения. Два мошенника обменялись карточками своих фирм и встали. Когда они выходили из-за стола, Цинциннати сказал:
— Но вам ведь нужны таможенные клейма, а? Как вы их раздобываете?
Ответа я не расслышал.
Мы миновали Порт-Гудзон — место двух самых страшных эпизодов войны: ночной битвы между флотом Фаррагета и береговыми батареями южан 14 aпреля 1863 года, а спустя два месяца — знаменитого сражения на суше, которое продолжалось восемь часов — восемь часов исключительно жестокого и упорного боя — и окончилось тем, что северяне отступили с большими потерями.
Глава XL. ЗАМКИ И КУЛЬТУРА
Батон-Руж утопал в цветах, как невеста, — нет, больше того — как оранжерея. Теперь мы достигли самого настоящего юга — без компромиссов, без подделок, без полумер. Вокруг Капитолия благоухали магнолиевые деревья, и их густая, пышная листва и громадные, похожие на снежки, цветы были прелестны. Цветы эти пахнут очень сладко, но их аромат хочется вдыхать на некотором расстоянии — так он силен. В спальне ставить их нельзя — от них можно задохнуться во время сна. Да, наконец-то мы попали на настоящий юг, потому что здесь начинается сахарный район; и перед нами тянулись плантации — обширные зеленые равнины с расположенными посредине сахарными заводами и группами негритянских хижин. А над головой — солнце тропиков, и в воздухе томящая тропическая жара.
Отсюда для лоцмана начинается сущий рай: до самого Нового Орлеана — широкая река, полноводье от берега до берега, никаких мелей, коряг, порогов, никаких аварий на пути.
Сэр Вальтер Скотт, вероятно, несет ответственность за сооружение здешнего Капитолия, ибо трудно себе представить, что когда-нибудь был бы выстроен этот крохотный псевдозамок, если бы за два-три поколения перед тем писатель не свел всех с ума своими средневековыми романами. Юг еще не оправился от расслабляющего влияния его книг. Здесь еще живо увлечение фантастическими героямп Вальтера Скотта, их нелепыми «рыцарскими» подвигами и романтическим мальчишеством, несмотря на то, что в атмосфере уже чувствуется оздоровляющий практический дух девятнадцатого века — запах бумагопрядильных фабрик и локомотивов; но следы напыщенного языка и увлечение всяким вздором до сих пор уживаются рядом с повой жизнью. Трогательно и жалко, что этот оштукатуренный известкой «замок» с башнями и всякими штуками (весь материал насквозь подделан и старается казаться не тем, что он есть) построен на таком во всех других отношениях почтенном месте; но еще более жалко видеть, как эта архитектурная ложь реставрируется и поддерживается в наше время, когда так легко было бы при помощи динамита докончить то, что начато милосердным огнем, а деньги, предназначенные на реставрацию, употребить на постройку чего-нибудь настоящего.
Батон-Руж не взял патента на поддельные замки и не обладает монополией на них. Нижеследующая заметка взята из объявления «Женского института» в Колумбии, штат Теннесси:
«Здание института давно слывет образцом поразительно красивой архитектуры. Посетителей чарует его сходство со старинными замками, воспетыми в песнях и сказках, чаруют его башни, зубчатые стены и подъезды, увитые плющом».
Поместить школу в замке — романтическая затея; столь же романтическая, как устроить в замке гостиницу.
Сам по себе такой псовдозамок, конечно, безвреден и довольно эффектен. Но он — символ, он насаждает и поддерживает здесь слезливую романтику средневековья в разгар самого простого и здорового века — величайшего и достойнейшего нз всех веков, прожитых миром, — а потому все это является несомненно вредной затеей и ошибкой.
Вот извлечение из программы женского колледжа в Кентукки:
«Директор — южанин по рождению, по воспитанию, по образованию и по чувствам. Преподаватели — все южане по духу и, за исключением тех, кто родился в Евроне, родились и выросли на Юге. Считая, что южане — представители высшего типа цивилизации на нашем материке[13], мы воспитываем молодых девиц согласно южным понятиям о скромности, утонченности, женственности, благочестии и приличиях. Таким образом, наш колледж является первоклассным женским колледжем Юга, и мы рассчитываем на покровительство Юга»,
Ай да воспитатель! Человек, который способен так трубить о себе, наверно трубил, сидя в каком-нибудь старом замке!
От Батон-Ружа до Нового Орлеана река на всем протяжении с обеих сторон окаймлена большими сахарными плантациями; плантации эти, шириной с милю, простираются от реки вглубь, до мрачных кипарисовых лесом, стоящих зубчатой стеной. Берега уже не пустынны; повсюду виднеются дома, которые иногда на большом пространстве так теснятся друг к другу, что широкая река, протекающая между этими двумя рядами домов, становится чем-то вроде улицы. Очень уютная и веселая местность. И там и сям видишь большие дома-усадьбы с колоннами и портиками, окруженные деревьями. Приведем сообщения некоторых туристов-иностранцев, объездивших эти места полвека тому назад. Миссис Троллоп пишет:
«Непрерывная равнина по берегам Миссисипи тянулась на много миль вверх по течению от Нового Орлеана, но изящная и пышная карликовая пальма, величавый и темный каменный дуб, яркие апельсиновые деревья виднелись повсюду, и в течение многих дней мы не уставали ими любоваться».
Капитан Бэзил Холл:
«Те области, которые примыкают к Миссисипи и нижней части Луизианы, повсюду густо населены плантаторами, разводящими сахарный тростник, и их красивые дома, нарядные веранды, аккуратные сады и многочисленные поселки невольников, чистенькие и уютные, придают всему речному ландшафту весьма цветущий вид».
Вся вереница туристов рисует одну и ту же отрадную картину. В описаниях, сделанных пятьдесят лет тому назад, не придется изменить ин одного слова, чтобы точно обрисовать эту местность в ее теперешнем виде, — кроме отзыва об «уютности» домиков. Известка с негритянских хижин осыпалась; многие — пожалуй, почти все — большие дома плантаторов, некогда сиявшие белизной, потускнели, пришли в упадок и имеют запущенный, унылый вид. Это — губительный след войны! Двадцать один год тому назад здесь все было нарядно, аккуратно и весело, совершенно так же, как и 1827 году, когда «берег» был описан туристами.
Несчастные туристы! Местные жители дурачили их глупыми и нелепыми выдумками, а потом потешались над тем, что они верили этим басням и печатали их. Так, миссис Троллоп уверили, что аллигаторы, — или крокодилы, как она их называет, — страшные чудовища, и подкрепили эти уверения леденящим кровь рассказом о том, как одно из этих оклеветанных пресмыкающихся забралось ночью в хижину скваттера и сожрало женщину и пятерых детей. Одной женщины было бы совершенно достаточно для самого взыскательного аллигатора, но нет — этим лгунам понадобилось еще заставить его слопать и пятерых детей. Нельзя себе представить, что шутники такого закала могут быть обидчивы, а между тем это так. В наши дни трудно понять и ничем нельзя оправдать того приема, который встретила книга серьезного, честного, толкового, деликатного, великодушного, доброжелательного капитана Бэзила Холла. Рассказ об этом миссис Троллоп, пожалуй, будет интересен читателю. Поэтому я поместил его в приложении В,
(Опущенная глава.
Эти путешествующие иностранцы, давно умершие и позабытые, вводят нас в удивительно странный мир — странный и как бы нереальный. Мы протираем глаза и спрашиваем себя: да полно, Америка ли это? В их книгах описан Нью-Йорк, где свиньи бродят по городским улицам и не только никому не уступают дорогу, но и толкают пешеходов, а тех, кто не успевает посторониться, обрызгивают грязью и даже сбивают с ног; тут Америка как «прибежище угнетенных со всего мира» существует лишь в газетах, а на самом деле в сердцах американцев гнездится ненависть к пришельцу — невзирая на то, откуда он явился, ненависть настолько сильная, что будто бы граждане иностранного происхождения (кроме ирландцев) собирали публичные митинги, протестуя против ничем не вызванной бессмысленной неприязни; тут большая газета в порыве величественной добродетели «обескураживала» женщин-лекторов, срывая их лекции искаженными отчетами, где невинные речи лекторши перевирались так, что выглядели непристойно! Тут неуважительное замечание по адресу американской «цивилизации», высказанное — как бы вы думали, кем — царем? биржевым магнатом? архангелом? какой-нибудь другой знаменитостью? — нет, безвестным английским актером, было опубликовано в газете, что сразу взбесило всех жителей и вызвало настоящую бурю воззваний с требованием к театрам — не выпускать на сцену этого человека, с требованием к самому актеру — убраться из страны, которую он так обидел, и с подстрекательствами толпы — линчевать его! Тут на пожар сбегались люди и, разинув от восторга рты, любовались этим зрелищем, в то время как пожарные, во всем параде, совещались и прыскали водой из ярко раскрашенных, но никуда не годных насосов, причем тут же дом преспокойно грабили, а кроткая полиция в штатском не мешала и не препятствовала грабежу. Тут из шестидесяти четырех пожаров девятнадцать былп делом рук поджигателей с целью ограбления, и купцам пришлось организовать и оплачивать свою, частную полицию, после того как угасла всякая надежда на помощь со стороны тупоумного правительства. Тут иностранцу, усомнившемуся, что это самая свободная страна в мире, грозило купанье в пруду, тут каждому гражданину — своему или приезжему, — позволившему себе неосторожно высказать гуманное порицание священному институту рабовладения, угрожала опасность быть вывалянным в дегте и перьях.
Право, это была странная Америка, какую и представить себе трудно. В ней, в этой Америке, находилась Филадельфия, где «весь транспорт состоял из ручных тачек», и пешеходу приходилось идти посреди улицы, чтобы уступать им тротуары; в этой Филадельфии, в штате Пенсильвания (сорок пять лет тому назад), душевнобольных держали на цепи в темных пустых погребах, где зимой лежали подстилки из соломы вместо постелей, причем праздношатающиеся любители зрелищ, прикорнув на снегу, разглядывали несчастных сквозь решетки; там женщина, запертая в погреб, «выбивалась из сил от крика», стараясь вырваться из цепей, из этого ужаса, а одного умалишенного юношу на долгие годы заперли в деревянный сарай, без постели и без огня; в этой Филадельфии толпа сожгла общественное здание за то, что там состоялся митинг протеста против рабства; там — семьдесят лет тому назад!—царил «закоренелый порок» (!), «хотя, может быть, — продолжает наш путешественник, — в Филадельфии и не найдется родителя, который сказал бы мне то, что я слыхал от одного почтенного гражданина Нью-Йорка: «Нет у нас в городе отца, который не жалел бы, что у него есть сын»; в этой Филадельфии тридцать шесть ночных сторожей ходят с жестяными фонарями и выкрикивают время и предсказания погоды, получая за это по четырнадцать долларов в месяц; в этой Филадельфии «существо женского пола» (надо заметить, что англичанин называет так не только корову или кошку, но иногда и женщину, как в данном случае) «в двадцать семь лет выглядит так же, как английская леди — в сорок»; и там «молодые особы, включая квакерш», красятся все поголовно; там редко встречаются два явления: «здоровые зубы» и «цветущая старость», зато повсюду все без исключения «пьют ром и жуют табак»; и там, пятьдесят лет тому назад, была испытана современная деревянная мостовая, которая всем пришлась по вкусу, но была отвергнута, потому что «выдерживала не более четырех лет».
В этой описанной туристами Америке (шестьдесят пять лет тому назад) находился город Цинциннати, целиком преданный только свинине и религии, где беззаботные и вольные коровы беспрепятственно бродили но улицам, опустошая веревки для белья, и раза два в день приходили домой к хозяину, чтобы их подоили; где в газетах печатались исключительно английские новости, и притом шестинедельной давности, никому вообще не интересные, — а подписка на эти газеты оплачивалась натурой — «Пшеницей, Рожью, Кукурузой, Овсом, Виски, Свининой, Ветчиной, Сахаром, Полотном, Льном-сырцом, Перьями, Шерстью, Воском, Ассигнациями, Свечами, Салом, Мехами и Тряпьем — по рыночным ценам», — как видно, ассигнации тоже имели свою рыночную цену, так как были сделаны из бумаги, на которую цены меняются. Представьте себе помещение цинциннатской газеты, когда подписчики вносят «подписную плату». Как отличить редакцию от оптового склада, если там всюду висят связки лука, а на столе самого редактора навалом лежат окорока, тряпье и перья? Это был такой Цинциннати, где по закону воспрещалось рабовладение, но где (как и во многих других «свободных» штатах Севера), преуспевающие граждане брали к себе в ученики цветных юношей на определенный срок, а потом тайком сманивали их в Натчез, где продавали этих несчастных в вечное рабство. Это был такой Цинциннати, где — десять лег спустя— всех вдруг обуяла жажда санитарного благоустройства, и от каждого гражданина потребовали, чтобы он выливал помои на середину улицы, где их могли уничтожать очистители-свиньи, но ни в коем случае не оставлял отбросы гнить у дверей, дабы не повредить здоровью домочадцев.
В этой описанной туристами Америке стоял новый, растущий и чрезвычайно энергичный город Луисвилл, где «в лучшей гостинице» имелось по четыре кровати в номерах первого класса, по восемь — в остальных, и нигде никаких «удобств». Нехорошо выглядел Луисвилл, зато его сосед — Лексингтон, город более старый, более богатый и важный, да и более утонченный, прославился под именем «Парижа в миниатюре». Впрочем, и в этом Париже пребывание человека в гостинице и содержание его лошади стоили одинаково — сто двадцать долларов в год. Цена, как-никак, невысокая.
Ни Буффало, ни Кливленда, ни Чикаго для этих ранних путешественников, пощипывавших травку на нашей земле, не существовало, да и Питсбург послужил только предлогом для следующего комментария, вышедшего из-под мера чрезвычайно рассерженного английского туриста, а именно: что некая английская труппа один вечер ставила «Гамлета», как полагалось, а на следующий вечер давала пародию на эту пьесу; но так как публику никто не предупредил, что это пародия, то женщины в зрительном зале выплакали все глаза, в то время как рычащая Офелия-великанша кувыркалась по сцене, расшвыривая морковь и капусту вместо розмарина и руты. Впрочем, дамы, да и мужчины, на следующий день жаловались, что спектакль был в общем и целом плохой, а местами даже с чудачествами! Ни Буффало, ни Кливленд, ни Чикаго но упоминались путешественниками, однако они заметили Бостон, где «джентльмены духовного звания» имели «удивительную власть над умами людей» и где «подобострастпое уважение к святости их сана» походило «чуть ли не на идолопоклонство», где человек, дорожащий своим добрым именем, «не имел нрава не быть в церкви в воскресный день». Евреев в этом святом городе не было, — что кажется странным, пока английский турист не даст этому объяснения: оказывается, евреям там делать нечего, так как эти святые бостонцы «такие же способные дельцы».
И наконец в этой туристской Америке давних лет был некий город Хартфорд, в штате Коннектикут, — сорок три года тому назад, — и в этом городе набожные люди все еще услаждали свои сердца в церкви гимном, начинавшимся так:
Проснитесь и плачьте, исчадия ада!
А за прелюбодеяние там наказывали тремя годами каторжных работ, тогда как за нищенство и бедность никакого наказания не полагалось, по каковой причине городские власти, желая избавить город от расходов на содержание бедняков, ввели выгодный обычай — предоставлять ничего не подозревающим беднякам «возможность совершить вышеупомянутое преступление»[14].
Для этой старой, давно исчезнувшей Америки были характерны некоторые явления, факты и черточки, которые не относились к отдельным городам, а были общими для всех — они проявлялись по всей стране. Например, все гордо размахивали американским флагом, все хвастались, все пыжились. Если верить словам этих наших горластых предков, наша страна была единственной свободной страной из всех стран, над которыми когда-либо восходило солнце, наша цивилизация— самой высокой из всех цивилизаций; у нас были самые большие просторы, самые большие реки, самое большое всё на свете, мы были самым знаменитым народом под луной, глаза всего человечества и всего ангельского сонма были устремлены на нас, наше настоящее было самым блистательным, будущее — самым огромным, — и в сознании такого величия мы изо дня в день расхаживали, хорохорясь, рисуясь и важничая, заложив руки под фалды, надвинув шляпу на левый глаз, ища, с кем бы ввязаться в драку, — численное превосходство врага роли не играло. Вот популярная песня того времени:
Англичанин разобьет Двух французов или португальцев; Янки Дудль подойдет — Всех троих уложит одним пальцем.Ром пили все, — священники Новой Англии поддерживали это всем скопом[15].
Табак тоже жевали все. От Бостона до Нового Орлеана, от Чарльстона до Септ-Луиса все вокруг «плевались», единодушно жалуются путешественники.
Дороги представляли собой болото. Впоследствии провели две-три коротких железнодорожных линии, но мудрецы предпочитали скучные, тоскливые, утомительные дилижансы, а иные из мудрецов даже отказывались покупать железнодоролшые акции — по причине того, что железные дороги никогда не смогут завоевать популярность и постепенно погибнут от недостатка пассажиров.
Городские газеты, как правило, были полны ругани, грубы, хвастливы, невежественны, нетерпимы — и все это весьма показательно. Редакторов надо было бы всех свалить в сточную канаву, — наверно, их оттуда и выловили. Они были храбры, когда нападали на слабых и беззащитных, они скромно молчали о беззакониях, за которыми стоят деньги или власть, а то занимали и другую позицию — льстили и подлизывались. В вопросах литературной критики и в откликах на общественные мероприятия редактор провинциальной газеты ориентировался на мнение редакторов столичных газет и терпеливо ждал, хотя книга или законопроект были у него в руках — он не смел высказать собственное мнение.
Частные дома хорошей постройки и вполне удобные и уютные так же редко попадались тогда в Америке, как в наши дни в Европе. В Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии еще можно было найти неплохие отели, однако почти везде отели были до того грязные и скверные, что от одного описания их вас начинает тошнить.
На сцене подвизались главным образом англичане, — никто из местных актеров не способен был «вытянуть».
Литература в стране была почти целиком английская — главным образом краденая. Все изделия тоже английские.
Во всей стране без исключения только две вещи пользовались уважением и могли рассчитывать на поддержку, а именно: религия и рабовладение. Каждый человек должен был принадлежать к одному из семнадцати религиозных толков; «а если уж он принял какую-либо веру, то должен ее придерживаться, как придерживается своей сигары, своей бутылки рому и своего торгового дела»[16].
[Каждый, кто хотел быть на хорошем счету у своих сограждан, выставлял напоказ свою религиозность и всегда имел наготове набор елейных фраз. На Западе и на Юге, и даже кое-где на Востоке, люди не говорили просто «мистер Смит» или «миссис Джонс» — нет, они величали друг друга «брат Смит» или «сестра Джонс», что отразилось в сказках «Дядюшки Римуса», где участвуют «братец Кролик» и «братец Лис». В наше время можно быть таким же верующим, как тогда, с тем преимуществом, что теперь человеку не надо до хрипоты разглагольствовать на религиозные темы. При такой набожности, во многих случаях вполне искренней, можно было бы ожидать, что услышишь ие один человеческий голос в защиту несчастных рабов; но нет, если и звучал такой одинокий голос, то десять тысяч голосов отвечало осторожным молчанием или начинало бормотать имеющиеся у них наготове тексты из священного писания, оправдывающие рабовладение.
Весь народ был до смешного чувствителен к критическим замечаниям иностранцев. Нельзя сказать, что люди были тонкокожими: у них просто никакой кожи не было, как будто их ободрали с головы до ног.
Такой была Америка, существовавшая в те годы, когда в постоянном изумлении по ней следовала эта вереница иностранных наблюдателей; но та Америка уже давным-давно тихо скончалась, оставив по себе лишь некоторый след. Конечно, мы ее оплакиваем, как того требует сыновний долг, но все же покойник вполне созрел для могилы.]
(Опущенная глава…
Характерные черты этой покойной Америки не совсем исчезли и в паше время. Кое-какие из них остались; одни черты по-прежнему бросаются в глаза, другие стали куда менее заметны и теряют значение.
В те времена кассиры банков весьма часто совершали тайные ловкие громадные хищения, удирая затем в Европу, чтобы насладиться своей добычей.
Взяточничество, спекуляция, всяческие мошенничества процветали в Вашингтоне.
Среди членов конгресса можно было найти несколько светлых умов — талантливых государственных деятелей, людей высоких устремлений и безупречной репутации; было там двадцать — тридцать человек независимых и мужественных, множество негодяев, а среди остальных, ничем не приметных людей — несколько честных малых. Но в общем это учреждение было притоном для воров и чем-то вроде приюта для умственно-отсталых. И не то чтобы эти воры крали для своего кармана — нет, они воровали для своих избирателей, выпрашивая бессмысленные и разорительные ассигнования.
В те дни если известный вам человек представлял своего знакомого просто как мистера такого-то, его принимали без всякого предубеждения или подозрения, по еслп бы его представили вам как мистера такого-то — члена конгресса, вы к нему отнеслись бы точно так же, как и в наше время.
Еще тогда поговаривали, что конгресс превратился в кладбище. Теперь слова стали делом. У нас уже есть этот уникальный некрополь.
В те старые времена «ни общественное мнение, ни газеты даже общими усилиями ие могли переубедить конгресс — не имели на него никакого влияния, не оказывали никакого воздействия, они значили меньше, чем случайный порыв ветра». В наши дни мы слыхали, как газеты и народ день и ночь требовалп реформы государственного аппарата, — и без всяких результатов. Слыхали мы, и как люди всех партий и газеты всех партий возражали против ненужного билля об эксплуатации рек и гаваней, — и результат был вот каков: конгресс спокойно принял его, несмотря на весь шум, после чего со всех сторон поднялась такая яростная буря возмущения, что президент наложил вето на этот законопроект, и поток благодарностей и похвал затопил всю страну от Тихого до Атлантического океана, — а на следующий день конгресс безмятежно утвердил билль через голову президента!
В те давние дни отдельные граждане никакой роли не играли. Редко случалось, что человек боролся со злом в одиночку. Реформаторы и бунтари либо выступали целой толпой, либо снделн дома. Одинокие защитники правды вызывали мало сочувствия и много насмешек. В наши времена ничто не изменилось. Если человек выйдет один защищать свои права против железнодорожной компании или управления городским транспортом, если он в одиночку схватится с кондуктором, извозчиком, портье отеля, билетным кассиром, мелким чиновником или с любым другим организованным или неорганизованным угнетателем — толпа зрителей предоставит ему справляться одпому и обычно даже будет над ним насмехаться. В Коннектикуте живет некий мистер Годвин, и он, совершенно один, вел войну с произволом железнодорожной компании много лет подряд и, случалось, добивался успеха на пользу всему народу. Никто ему не помогает, никто его не хвалит, многие над ним издеваются; газеты пишут о нем и о его борьбе с иронией. Но, несмотря на все, он весьма полезный гражданин и единственный совершенно незаменимый, ибо он — единственный гражданин, чья вакансия после его смерти будет пустовать: государство никого на нее назначить не сможет.
В те незапамятные дни мы считались народом, состоящим из долготерпеливых, угнетенных, обиженных, глотающих любое оскорбление, добродушных, всё терпящих моральных трусов, которые готовы были выносить что угодно, лишь бы обошлось без скандала, лишь бы не стать смешными. Иностранные туристы мягко и учтиво сообщали о нас ужасно неприятную правду, и их слова тут же подтверждались фактами. Одинокая, но блистательная борьба мистера Годвина с железнодорожной компанией — борьба, кончившаяся победой, которая сразу изменила всю железнодорожную спстему в Америке и заставила служить публике, а не ущемлять ее, — ясно доказывает, что нация моральных трусов еще существует, ибо произвол, на который ополчился храбрый мистер Годвин, но крайней мере лет тридцать ежедневно проявлялся на наших железных дорогах, а его жертвы всякий раз глотали обиду — и глотали в смиренном молчании. Мы во всем виним угнетателей, однако виноват главным образом не угнетатель, а угнетенный гражданин: в республике нет места угнетателям, если граждане выполняют свой гражданский долг и каждый в отдельности восстает, обличая всякую попытку ограничить его права.
В те дни управление городом Нью-Йорком находилось «в руках ирландцев».
В те дни бывалые люди — и свои и чужие — считали Нью-Йорк «самым грязным городом в подлунном мире». Смотрите, как повторяется история, если только столичная печать наших дней говорит правду.
В те дни Сент-Луис собирался стать столицей федерального правительства и в защиту своих притязаний выдвигал аргументы, знакомые нам и сейчас.
Взяточничество, как мы видели, существовало и в те старые времена, но это искусство находилось в совершенно зачаточном состоянии. Разве тот, кто давал взятки в старое время, понимал, какие возмояшости открыты перед ним? Только в наши дни мы постигли всю глубину человеческого падения. Наши предшественники воображали, что власть имущих можно подкупить только деньгами. Какому-нибудь незначительному мелкому чинуше в государственном аппарате платили, бывало, до сотни долларов. В наши дни мы его покупаем, надеваем на него медный ошейник с номером и кличкой и достаем ему бесплатный билет для проезда по местной железной дороге. Бесплатный проезд по железной дороге — самое деморализующее явление наших дней. Другие взятки деморализуют как-то ограниченно, действуют разлагающе в какой-нибудь узкой сфере; но этот способ проникает повсюду, заражает все слои общества, и в каждом, кого он коснется, и гордость и самоуважение частично отмирают. Другие способы деморализации — только кислоты, от которых золото темнеет сверху, но внутри сохраняется в целости; этот же способ похож на ртуть: он въедается в самую сердцевину, разлагает ее. Бесплатный проезд по железной дороге превратил большинство американских губернаторов, священников, судей, законодателей, мэров, редакторов газет, обычных чиновников и бесчисленное множество частных граждан в каком-то смысле в объекты благотворительности. Я видел, как богатый коммерсант — совершенно частное лицо, имеющее не больше законных прав на благотворительность железнодорожной компании, чем мы с вами, — предъявил бесплатные билеты, по которым он имел право проезда на расстояние в тридцать тысяч миль, — и если он при этом покраснел, то только в душе. Не раз приходилось слышать, как гостеприимный гражданин говорил своему гостю: «Не тратьте деньги впустую, я вам выхлопочу бесплатный проезд у начальника дороги». И гость радовался этому предложению, а не обижался, хотя тут, в сущности, так же нечему было радоваться, как если бы гостеприимный хозяин сказал: «Я попрошу соседа подарить вам брюки его хозяина». Нет ничего более обычного для самых уважаемых (во всех других отношениях) американцев, чем выпрашивать бесплатные билеты. Очевидно, эти люди считают, что такая просьба в корне отличается от попрошайничества на углу. У нас в стране повсюду, в какой вагон вы ни сядете, найдется два-три, а то и больше отлично одетых, вполне благопристойных граждан, которые предъявляют кондуктору эти символы разложившейся совести, и предъявляют не тихонько, не стыдливо — о нет! эти продажные души показывают пропуска с гордостью! Часто кондуктор осматривает такого пассажира с ног до головы неприязненно и подозрительно и задаст ему целый ряд ехидных вопросов, иногда он второй раз подходит и снова спрашивает пассажира, — но тот терпит расспросы без всякого видимого неудовольствия, зная, что этим он должен как-то расплачиваться за то, что находится на иждивении железной дороги. Судьи всяких верховных судов принимают эти пропуска — да к тому же еще с надписью: «За счет верховного суда»![17] Человеческое достоинство может пасть очень низко, но когда состоятельные люди настолько забывают свою гордость, что выпрашивают бесплатные билеты в театр, как англичане, или ездят по бесплатным железнодорожным билетам, как американцы, — то это уже предел падения. Наверно, в прежнее время бесплатные билеты выдавались первоначально редакторам местных газет. Для такого редактора есть известное оправдание. Ездить ему было необходимо, но единственное, чем он располагал, были «натуральные» ценности, — он с удовольствием запустил бы руку в своп саквояж и расплатился за проезд, как все люди, но на железных дорогах и пароходах никто не хотел брать ни птичьи перья, ни окорока, ни тряпье. Поэтому приходилось возить редактора бесплатно. Но тут никакой благотворительности ие было: за проезд он расплачивался с лихвой, потому что всегда защищал железнодорожную компанию и все несчастные случаи сваливал на всевышнего. Однако смотрите, что получилось из этих безобидных пропусков, — где только у людей совесть!
И наконец еще один обычай старой американской жизни сохранился в наше время, по он отмирает и давно но пользуется никаким уважением. Речь идет о дуэлях. Этот бессмысленный обычай, этот смешной обычай, этот жестокий, грубый обычай (потому что уязвленную честь победителя, в сущности, должны излечить своим страданием несчастная вдова и дети, хотя они-то его никогда не обижали и не заслуживают горя и страданий, которые он им приносит), — этот обычай уже совершенно исчез на Севере, в Англии и вообще среди штатских людей всех высокоцивилизованных стран, за исключением идиотов и редакторов во Франции и студентов в Германии. Студенты делают котлету из физиономий друг друга — процесс весьма неприятный и кровавый, хотя и не смертельный. Идиоты и редакторы во Франции дерутся на шпагах, и когда один из противников задет, то дуэль прекращают (рану стараются обнаружить, и если ее находят, значит «честь удовлетворена»), и обе стороны возвращаются домой, покрытые славой. Сначала французские хирурги брали с собой на поле чести корпию и инструменты, теперь берут арнику и липкий пластырь. Почему эти люди держатся за обветшалые традиции и употребляют шпаги вместо головных шпилек, так и остается самым загадочным на свете: головная шпилька дешевле, головная шпилька куда портативнее, а французский дуэлянт и шпагой наносит только такие раны, которые с успехом можно нанести головной шпилькой.
[Однако армейская дуэль и во Франции и в Германии — дело серьезное. Тут дерутся насмерть. Еще недавно французские офицеры позволяли рядовым драться на дуэли и назначали сержанта, который стоял тут же с саблей и следил, чтобы дрались «честно». Это старинный обычай, и я не слыхал, чтобы его отменили, — кажется, он сохранился. Ужасное зрелище! Двое солдат, обнаженных до пояса, дерутся на саблях, рубят и колют, как мясники. Одни из них должен умереть, но обычно они убивают друг друга. В наших штатах дуэль еще не совсем исчезла, но она, к счастью, приняла другие формы. Раньше в Новом Орлеане дрались на саблях, на длинных ножах и на винтовках, и обычно Дуэль кончалась похоронами. Теперь же дерутся на пистолетах, при расстоянии в двадцать шагов, и статистика показывает, как неуклонно падает меткость стрельбы, и это заставляет наблюдательный ум прийти к выводу, что дни такого оружия (а вместе с ним и дуэлей) уже сочтены. До сих пор в Луизиане люди калечат друг друга, однако в Виргинии цивилизация достигла гораздо более высокого уровня: там, в политических дуэлях, достаточно вспышки пороха и запаха его, чтобы излечить самую глубокую рану, нанесенную чести государственного деятеля. Это верный и радостный признак, что скоро дуэлянты вообще отвергнут пули и будут пользоваться холостыми патронами.
Исчезли ли турниры? Впрочем, эта детская забава никогда не была характерной для Америки. Она появилась в отдельных поселках, но никакого распространения не получила. Это была дешевая подделка, грубое подражание турниру в Ашби-де-ла-Зуш. Всякие юнцы наряжались в жестяные латы, называли себя Брианом де Буагильбером, Рыцарем Лишенным Наследства или еще как-нибудь в этом роде и к удовольствию собравшихся простаков тыкали друг в друга деревянными шпагами и палками вместо копий, а потом торжественно провозглашали какую-нибудь девицу Королевой Красоты.
А где же строгальщик палочек? Все ли он еще раздражает иностранного туриста своим постоянным присутствием и своим неутомимым складным ножом или он навеки ушел в царство теней вместе с грузчиками дров на Миссисипи? Мнится мне, что он совсем исчез и не оставил по себе наследников.
Я долго рылся во всех этих старых книгах, главным образом для того, чтобы узнать, что же все эти иностранные туристы думают о прибрежных городах на Миссисипи. Но по большей части они забывали о них написать.]
Глава XLI. СТОЛИЦА ЮГА
Окрестности Нового Орлеана я узнал сразу; общий вид их не изменился. Когда мчишься по Лондону но железной дорого, висящей в воздухе на высоких подпорах, можно сквозь открытые окна просмотреть целые мили спален в верхних этажах, но нижние этажи не достигают уровня железной дороги и остаются скрытыми от глаз. Точно так же в районе Нового Орлеана — во время высокого стояния воды в реке она оказывается на уровне насыпи, отгораживающей плоскую равнину, так что эта равнина за насыиью лежит ниже реки, напоминая дно тарелки, и когда пароход идет по реке в половодье, пассажиры смотрят вниз на дома и заглядывают в верхние окна. Только хрупкий земляной бруствер охраняет население от гибел.
Старые кирпичные строения соляных складов, которые теснятся в верхнем конце города, казались такими же, как прежде; а между тем эти склады за то время, что я не видел их, пережили нечто вроде истории с лампой Аладдина. Владелец их, когда разразилась война, однажды вечером лег спать, зная, что его склады набиты тысячами мешков обыкновенной солн стоимостью в каких-нибудь два доллара мешок, а встав поутру обнаружил, что его гора соли превратилалась, так сказать, в гору золота, — настолько впезаппо и головокружительно поднялась цена на соль при известии о войне.
Обширные дощатые пристани не изменились, и у них стояло, как и в прежнее время, много судов. Исчезла только длинная шеренга пароходов. Конечно, по вся, но осталось от нее немного.
Сам город — такой, как прежде, по крайней мере на первый взгляд. Он территориально очень разросся, и население его увеличилось, по внешний вид города но переменился. По-прежнему иа улицах лежит толстый слой пыли и бумажного мусора; глубокие сточные канавы вдоль тротуаров по-прежнему до половины наполнены стоячей водой, где плавает сор; по-прежнему тротуары в той части города, где торгуют сахаром и свининой, загромождены бочками, бочонками, ящиками; громады суровых и простых торговых зданий такие же пыльные, как и всегда.
Кэнэлстрит теперь красивее, привлекательнее и оживленнее, чем в былое время; по ней текут толпы людей, в несколько рядов мчатся экипажи, а к вечеру обширные веранды вторых этажей наполняются мужчинами и дамами, одетыми по последней моде.
Нельзя сказать, чтобы на Кэнэлстрит замечалась какая-либо «архитектура»; вообще говоря, в Новом Орлеане образцы интересной архитектуры можно встретить только на кладбищах. Странно слышать эго о богатом, передовом, деятельном городе с четвертью миллиона жителей, но это так. Здесь есть громадное гранитное здание Таможни Соединенных Штатов, достаточно дорого стоившее, достаточно солидное, но в эстетическом отношении оно ничтожнее какого-нибудь газового счетчика. Оно похоже на тюрьму. Дело в том, что оно построено до войны. Архитектура в Америке, можно сказать, зародилась после войны. Надо полагать, что в Новом Орлеане, к счастью (а в известном смысле — к несчастью), за последние годы не было больших пожаров. Несомненно так, в противном случае можно было бы, я думаю, узнать «сгоревший квартал» но радикальным улучшениям сравнительно со старой архитектурой. Это замечаешь в Бостоне и Чикаго.
В Бостоне «сгоревший квартал» до пожара был банален. Теперь ни в одном городе на свете не найти торгового квартала, который был бы лучше бостонского или хотя бы мог соперничать с ним по красоте, изяществу и изысканности.
Но и Новый Орлеан сейчас, можно сказать, уже вступает на этот путь. Новая хлопковая биржа, когда се достроят, будет величественным и красивым зданием — массивным, солидным, с множеством прекрасных архитектурных деталей. В нем не найдешь ничего фальшивого, претенциозного, безобразного. Оно во много раз окупит свою стоимость, став родоначальником других таких же построек. Если городу до сих пор чего-то недоставало, то именно образца, по которому можно было бы строить здания, которое воспитывало бы глаз и вкус, внушало бы, так сказать, новые идеи.
В городе много передовых людей «мыслящих, дальновидных, разумных. Контраст меясду духом города и архитектурой города подобен контрасту между бодрствованием и сном. Здесь чувствуется подъем во всем, кроме этой единственной мертвой области. Прежде вода в сточных канавах всегда застаивалась, загнивала и была грозным рассадником болезней. Теперь эти канавы два-три раза в день промываются потоками воды при помощи мощных машин; во многих канавах вода уже не стоячая, а проточная. Введены и другие санитарные улучшения, и с такими результатами, что Новый Орлеан (во время длительных промежутков между периодическими эпидемиями желтой лихорадки) претендует на признание его одним из самых здоровых городов Соединенных Штатов. Лед изготовляется в самом городе в таком количестве, что каждый может иметь его сколько угодно. Новый Орлеан — ведущий торговый центр; он развивает большую торговлю, пользуясь речным и океанским транспортом, а также железной дорогой. Ко времени нашего пребывания там он по освещению (электрическому) мог считаться наилучшим городом в Соединенных Штатах. В Новом Орлеане больше электрических фонарей, чем в Нью-Йорке, и светят они гораздо ярче. Этим искусственным полуденным светом залиты не только Кэнэлстрит и другие главные улицы, но и пятимильная набережная. В городе имеются прекрасные клубы — некоторые открыты совсем недавно, и превосходные, вполне современные увеселительные парки в Вест-Энде и Испанском форте. Телефон проведен повсюду. Особенно заметен прогресс в области печати. Газеты в Новом Орлеане, помнится, были далеко не на высоте. Теперь — другое дело. На них щедро расходуются деньги. Они добывают новости, сколько бы это ни стоило. Редакторская работа перестала быть ремеслом и стала творчеством. Как на пример достижений прессы в Новом Орлеане, можно указать на то, что в «Тайме-Демократе» от 26 августа 1882 года помещен годовой обзор промышленности и торговли во всех городах долины Миссисипи от Нового Орлеана и до Сент-Пола — на протяжении двух тысяч миль. В этом номере газеты было сорок страниц, но семи столбцов на странице, а всего двести восемьдесят столбцов, по тысяче пятьсот слов, в общем — четыреста двадцать тысяч слов. Это составляет почти втрое больше слов, чем в данной книге. Остается только с грустью сопоставить эти достижения с архитектурой Нового Орлеана.
Я говорю только об общественных зданиях. Архитектура жилых домов в Новом Орлеане безупречна, несмотря на то, что осталась такой же, как была. Все жилые дома деревянные (речь идет об американской части города), и все имеют комфортабельный вид. В богатом квартале — дома большие, обычно выкрашенные в ослепительно белый цвет, с широкими верандами, обыкновенными или двойными, поддерживае— мыми декоративными колоннами. Эти особняки окружены обширными садами и высятся, увитые розами, среди пышной блестящей зеленой листвы и пестрых цветников. Я не видывал домов, которые лучше гармонировали бы со своим окружением, больше радовали бы глаз и казались бы уютнее.
Начинаешь даже мириться с цистернами. Цистерна — это громадная бочка, иногда высотой с двухэтажный дом, выкрашенная в зеленый цвет и укрепленная на стояках на углу дома. Она вносит в стиль барского особняка какой-то элемент пивоварни, на первый взгляд весьма несовместимый с ним. Но дело в том, что здесь нет колодцев, и людям приходится собирать дождевую воду. Тут очень трудно выкопать хороший погреб или вырыть могилу[18], так как город выстроен на «искусственном» грунте, — но жители как-то обходятся. Из живых мало кто сетует на это, а из мертвых — никто.
Глава XLII. ГИГИЕНА И ЧУВСТВА
Здесь умерших хоронят в надземных склепах. Эти склепы похожи на дома, иногда на храмы; они обычно из мрамора, их архитектурпые формы стройны и изящны; склепы обращены фасадами к аллеям и дорогам кладбища, и когда проходишь среди тысяч этих усыпальниц и по обе стороны видишь их белые своды и фронтоны, уходящие вдаль, то смысл выражения «город мертвых» становится вдруг понятен. Многие кладбища очень красивы и содержатся в полном порядке. Когда с набережной или с одной из ближайших торговых улиц приходишь на кладбище, то невольно думаешь, что, если бы лежащие здесь люди жили среди такого же порядка и чистоты, какие окружают их после смерти, их жизнь была бы намного лучше; да и кроме того, их жилища привели бы в восторг и изумление весь деловой мир. У входа во многие склепы вы увидите в вазах с водой свежие цветы: они благоговейно поставлены здесь руками осиротевших детей, родителей, мужей или жен и каждый день возобновляются. Более умеренная скорбь находит свое дешевое и долговечное выражение в грубых и некрасивых, но никогда не вянущих «иммортелях»; это венок, или крест, или другая эмблема из черных полотняных розеток, иногда с желтой розеткой там, где сходятся перекладины креста, — что-то вроде траурной булавки в галстуке. «Иммортель» но требует никаких забот: ее вешают на склеп—и все; оставьте ее в покос — она без вас позаботится о вашей печали, запомнит ее лучше, чем вы; она прекрасно переносит непогоду и прочна, как железо.
В солнечные дни прелестные маленькие хамелеоны, самые грациозные из всех ящериц, вылезают на мраморные фасады склепов и принимаются ловить мух. Изменение их окраски в смысле многообразия далеко не соответствует общепринятому мнению. Хамелеоны краснеют всякий раз, как кто-нибудь подходит и вешает «иммортель». Но что ж из этого? Каждое порядочное пресмыкающееся сделало бы то же самое.
Я сейчас прекращу речь о кладбище. Я сделал все что мог, чтобы изобразить проявления чувствительности в этом деле, но но сумел. Мне кажется, что никакого подлинного чувства тут нет. Все это — жутко, ужасно, нелепо. Кладбища были еще, пожалуй, простительны в прошедшие времена, когда никто не знал, что из-за каждого зарытого трупа, насыщающего болезнетворными микробами землю, корни растений и воздух, умирает раньше времени пять, пятьдесят, а то и сотня людей; но вряд ли можно найти оправдание кладбищам в наши дни, когда даже детям известно, что умерший праведник, едва земля смыкается над его трупом, начинает карьеру убийцы, которая может длиться целое столетие. Эта мысль страшна. Мощи святой Анны в Канаде теперь, через тысячу девятьсот лет после ее смерти, начали исцелять больных десятками. Но совершенно несомненно, что после смерти и погребения святой Анны эти самые мощи в течение жизни одного только поколения были причиной болезни тысяч людей. Так что нынешние чудесные исцеления — только компенсация, не больше. Правда, святая Анна но очень-то скоро (для святой) платит долги; но лучше уплатить долг через тысячу девятьсот лет, когда он уже погашен по давности, чем совсем не уплатить; а большинство рыцарей святого ореола совсем не платит. И наряду с одним, платящим свои долги, подобно святой Анне, встречаешь полтораста таких, которые воспользовались законом о давности. И платят-то они только основную сумму долга — никто не вносит процентов, ни простых, ни сложных. И уж во всяком случае, никакой святой не в состоянии полностью уплатить долг, потому что его труп убивал людей, а мощи только исцеляют, но никогда не возвращают умершим жизнь. Эта часть счета всегда остается неоплаченной.
Доктор Ф. Джулиус Лемойн после пятидесятилетней врачебной практики писал: «Погребение трупов людей, умерших от заразных болезней, вызывает постоянное заражение воздуха и загрязнение воды не только миазмами, образовавшимися просто от гниения, но и специфическими микробами тех болезней, от которых произошла смерть».
Газы (от зарытых трупов) просачиваются на поверхность сквозь слой в восемь — десять футов земли совершенно так же, как углекислота, и практически невозможно помешать их выделению.
Во время эпидемии в Новом Орлеане в 1853 году, сообщает доктор Е. X. Бартон, на четвертом участке смертность достигла четырехсот пятидесяти двух человек на тысячу, то есть больше чем вдвое против других участков. На этом участке было три больших кладбища, где за предыдущий год было погребено более трех тысяч человек. И в других участках города соседство кладбищ, по-видимому; усиливало эпидемию.,
В 1828 году профессор Бьянки доказал, что страшная вторичная эпидемия чумы в Модепе была вызвана раскопками в местах, где за триста лет до того были погребены жертвы чумы. Мистер Купер, объясняя происхождение некоторых эпидемий, отмечает, что когда разрыли чумные кладбища в Эйяме, то сразу началась эпидемия чумы («Североамериканское обозрение», № 3, т. 135).
В речи, произнесенной перед членами Чикагского медицинского общества в защиту кремации, доктор Чарльз В. Парди привел некоторые очень интересные сравнения, чтобы показать, каким бременем для общества является погребение мертвых в земле:
«На похороны в Соединенных Штатах тратится за год в два с четвертью раза больше денег, чем правительство расходует на школы. Похороны за 1880 год обошлись стране в такую сумму, которой хватило бы на уплату долгов по всем коммерческим банкротствам в Соединенных Штатах за тот же год и на то, чтобы выделить каждому банкроту капитал в восемь тысяч шестьсот тридцать долларов, на который он мог бы снова вести дело. Ежегодный расход на погребения превышает стоимость всего добытого в Соединенных Штатах за 1880 год золота и серебра! В эту сумму не вошел еще капитал, вложенный в земельные участки, отведенные под кладбища, затраты на гробницы и памятники и убытки от обесценивания недвижимости благодаря соседству с кладбищами».
Для богатых кремация вполне может заменить погребение, так как связанный с этим церемониал можно сделать столь же дорогостоящим и пышным, как индусский обряд «сати». Для бедняков же кремация была бы удобнее погребения, так как обходилась бы очень дешево[19], — дешево до тех пор, пока бедняки не начнут подражать богачам, чего, впрочем, ждать недолго. Введение кремации избавило бы нас от навозной кучи избитых похоронных острот; но, с другой стороны, оно воскресило бы множество заплесневелых, старых кремационных шуток, лежавших под спудом две тысячи лет.
У меня есть знакомый негр, который зарабатывает свой хлеб чем придется — обычно тяжелым физическим трудом. он никогда но зарабатывает больше четырехсот долларов в год, и так как он женат и имеет несколько маленьких детей, то ему приходится урезывать себя во всем, чтобы прожить до конца года, не влезая в долги. Для такого человека похороны — настоящая финансовая катастрофа. В то время как я писал одну из предыдущих глав, у этого человека умер ребенок. Он вместе с одним из своих приятелей исходил весь город в поисках гроба, который был бы ему по карману. Купил самый дешевый, какой удалось найти, — из простых крашеных досок. За этот гроб он заплатил двадцать шесть долларов, А такой ящик, вероятно, не стоил бы и четырех долларов, если бы предназначался для того, чтобы хранить в нем что-нибудь полезное. Этот расход будет ощутим для негра и его семьи в течение многих месяцев.
Глава XLIII. ИСКУССТВО ПОГРЕБЕНИЯ
Приблизительно тогда же я встретил на улице человека, которого не видел лет шесть или семь, и между нами произошел примерно следующий разговор. Я сказал:
— Но ведь у вас был такой унылый и старообразный вид, а теперь вас просто не узнать. Где вы раздобыли такую молодость и кипучую жизнерадостность? Сообщите мне адрес!
Он блаженно хихикнул, снял лоснящийся цплиидр, показал мне наклеенный на донышке круглый розовый ярлык с какой-то надписью и продолжал посмеиваться, пока я читал: «Д. В. — гробовщик». Затем он снова надел цилиндр, ухарски сдвинул его набекрень и воскликнул:
— Вот вам и разгадка! В то время, когда вы меня знавали, мне жилось трудно, — сами понимаете, какие заработки у страхового агента: очень непостоянные. Случится большой пожар — хорошо, здорово поработаешь дней десять, пока люди еще напуганы и страхуются; а там — застой до следующего пожара. В таком городе, как наш, пожары случаются недостаточно часто, и столько недель подряд болтаешься без работы, что совсем падаешь духом. А вот это — настоящее дело, можете мне поверить! Уж умирать-то люди умирают, не дожидаясь, чтобы им подали пример! Нет, сэр, они отправляются на тот свет аккуратно, у гробовщика застоя в делах ие бывает. Я начал с двух— трех старых гробов и взятого напрокат катафалка, — а теперь посмотрели бы вы!.. Я создал дело, от которого не отказался бы каждый, кто бы он ни был! Пять лет тому назад я ютился на чердаке; теперь живу в шикарном доме с мезонином и со всякими этакими модными неудобствами.
— Разве гробами так выгодно торговать? Много вы наживаете на каждом гробе?
— Да полноте! Что вы говорите! — Затем, конфиденциально подмигнув мне и многозначительно взяв меня за рукав, он понизил голос: — Заметьте себе: на свете есть только одна-единственная вещь, которая никогда не дешевеет, — это гроб. Есть одна только вещь в этом мире, которую покупают не торгуясь, — это гроб. Есть одна только вещь в этом мире, относительно которой покупатель не скажет: «Я еще поищу, посмотрю в в других мостах, и если не найду ничего дешевле, то вернусь к вам», — это гроб. Есть одна только вещь в этом мире, которую не закажут из сосны, если можно купить из орехового дерева, и не возьмут из орехового дерева, если можно купить из красного дерева; и не возьмут из красного дерева, если можно купить из железа с серебряной дверной дощечкой и бронзовыми ручками, — это гроб. И есть одна только вещь в этом мире, из-за которой не приходится потом бегать за покупателем, чтобы он заплатил, — это гроб. Ремесло гробовщика? Самое верное дело в христианском мире и самое чистое!
Вот посудите сами: богатый человек требует самый лучший товар, какой у вас имеется. И вы можете запросить с пего сколько вздумается и всучить покупку, — он не будет торговаться. А когда к вам приходит бедняк, то, если вы его хорошенько обработаете, он в лепешку расшибается, чтобы щегольнуть. И в особенности женщины. Вот, например, приходит ко мне миссис О'Флаэрти, вдова, — утирает глаза, стонет, косится одним глазом из-под носового платка, осматривает сквозь слезу мой товар и говорит:
— А сколько бы вы спросили вон за тот?
— Тридцать девять долларов, сударыня, — отвечаю я.
— Да, цена изрядная, что и говорить, но Пат был джентльмен, и похоронить его надо как джентльмена, хотя бы мне пришлось от работы без рук остаться. Я возьму тот.
— Хорошо, сударыня, — говорю я. — Гроб отличный. Не из дорогих, конечно, но в этой жизни нам приходится по одежке протягивать ножки, как говорится. — А когда она направляется к выходу, я, как бы мимоходом, замечаю: — Вот этот, с белой атласной обнвкой, — просто красота! Но боюсь… да, шестьдесят пять долларов, конечно, цена… но все же я счел своим долгом сказать миссис О'Шонесси…
— Вы хотите сказать, что Бриджет О'Шонесси купила точно такой красивый гроб, чтобы послать в чистилище своего пьяного черта?
— Да, сударыня,
— Тогда Пат отправится на небо в таком же точно гробу, хотя бы семье О'Флаэрти пришлось истратить последнюю копейку! И знаете что, налепите еще ка— ких-нибудь украшений, я вам набавлю доллар.
А так как я в доле с извозчичьими дворами, то, конечно, не забываю ввернуть, что миссис О'Шонесси наняла кареты за пятьдесят четыре доллара и устроила своему Деннису такие пышные похороны, точно он был герцогом или убийцей. Тут, конечно, она попадается на удочку и перекрывает О'Шонесси на четыре извозчика и один омнибус. Так было, но теперь все переменилось; то есть переменилось у нас в городе. Ирландцы, бывало, так разорялись на кареты для похорон, что после похорон по два года голодали и ходили в отрепьях; наконец их священник вмешался и все это запретил. Он не позволяет теперь им нанимать больше двух извозчиков, а иногда — только одного.
— Отлично, — сказал я, — если вы так веселы и жизнерадостны в обыкновенное время, то каковы же вы во время эпидемий?!
Он покачал головой.
— Нет, тут вы ошибаетесь, мы эпидемий не любим. Эпидемия — дело недоходное. Впрочем, я не совсем то хотел сказать: она невыгодна по сравнению с нормальным временем. Неужели вы не догадываетесь почему?
— Нет,
— Подумайте!
— Понятия не имею. Почему же?
— Тут два обстоятельства.
— Ну, какие же?
— Одно — это бальзамирование.
— А другое?
— Другое — лед.
— Как так?
— Видите ли, в нормальное время человек умирает, и его обкладывают льдом, чтобы он мог пролежать один, два, может быть три дня и подождать, пока приедут друзья. Льда уходит уйма — быстро тает. Мы этот лед оцениваем чуть не на вес золота, а за уход за телом дерем втридорога. Ну а когда начинается эпидемия, умершего волокут на кладбище, как только он испустит дух. В эпидемию на лед совсем нет спроса. То же и с бальзамированием. Когда вам попадается семья, которой бальзамирование по карману, — ваше дело в шляпе. Можете указать им шестнадцать различных способов бальзамирования, хотя на самом-то деле их только одни или два, и родные покойника непременно выберут самый дорогой из всех. Такова человеческая натура — человеческая натура в горе. Они, понимаете, не рассуждают. При таких обстоятельствах им все нипочем. Человек одного только хочет — физического бессмертия для умершего, и готов за это платить. Вам остается только хладнокровно набавлять цену — они на все согласятся. Вы беретесь за мертвеца, которого у вас и даром никто не возьмет, и начинаете свои фокусы с бальзамированием, и через несколько часов он будет стоить ни более ни менее, как шесть сотен, — вот сколько он будет стоить! С этим ничто не может сравниться — разве обмен крыс на бриллианты во время голода. Ну а в эпидемию — как вы не понимаете? — люди не могут дожидаться бальзамирования. Нет, конечно не могут. Эпидемия для нашей торговли — ад. Мы, гробовщики, говорим: губительна, как здоровье. Это у нас такая шутка[20]. Однако мне пора идти. Заходите, когда вам понадобится, то есть я хотел сказать, когда вам случится проходить мимо.
От радостного возбуждения он, может быть, кое-что и преувеличивал. Я, во всяком случае, ничего но прибавил здесь к его словам.
Этими краткими сведениями о погребении мы ограничимся. Я лично надеюсь быть кремированным. Я как-то высказал это желание моему пастору, и он ответил, как ему казалось, многозначительно:
— На вашем месте, я бы не стал об этом беспокоиться, оно само выяснится — кому гореть, а кому — нет…
Много он понимает! Вся моя родня против кремации.
Глава XLIV. ВИДЫ ГОРОДА
Старый французский квартал Нового Орлеана — прежний испанский — совершенно непохож на американскую часть города, которая расположена за кирпичными зданиями торгового центра. Здесь дома стоят тесно, отличаются суровой простотой и важностью; они все выстроены по одному образцу, только местами заметно приятное разнообразие. Снаружи все они оштукатурены, и почти на каждом этаже есть длинные веранды с железными перилами. Главная красота этих домов в многоцветной окраске темного мягкого тона, который время и непогода придали штукатурке. Он гармонирует со всем окружающим и так же естествен здесь, как пурпур на закатных облаках. Эту красоту подделать невозможно, и ее не встретишь больше нигде в Америке.
Железные решетки — также местная особенность. Их узор часто необыкновенно легок и изящен, воздушен и грациозен; посредине большая монограмма или вензель — тонкая паутина сложных, запутанных очертаний, сплетенная из стали. Эти старинные решетки ручной работы теперь сравнительно редки и соответственно дороги. Они превратились в антикварную вещь.
Наша компания пользовалась счастливой возможностью бродить по этому старинному кварталу с талантливейшим писателем Юга, автором «The Grandissimes». В его лице Юг нашел искусного изобразителя своей истории и внутренней жизни. В самом деле, я определенно знаю, что неопытный глаз и рассеянный ум могут по книгам этого писателя увидеть Юг, понять его, судить о нем яснее и основательнее, чем при личном общении с Югом.
Когда мистер Кэбл рядом с вами, смотрит за вас, и описывает, и объясняет, и освещает вам все, то бродить но этому старому кварталу — истинная радость, к у нас появляется живое ощущение невидимых или неясно видимых вещей — ощущение живоо и вместе с тем смутное, расплывчатое; вы сами схватываете лишь резкие черты, но не улавливаете тонких оттенков или улавливаете их неясно, силой воображения; так не знающий Альпийских гор близорукий чужеземец стоит перед широкой и смутной панорамой Альп рядом с вдохновенным, всезнающим и дальнозорким местным уроженцем.
Мы побывали в старинном отеле «Сент-Луис», в котором теперь помещается городское управление. В нем ничего особо примечательного нет, но о нем, как и о нью-йоркской Музыкальной академии, можно сказать, что если когда-либо метла или лопата и поработали здесь, то, во всяком случае, этому нет никаких очевидных доказательств. Удивительно, что капуста, трава и тому подобное не растут в Музыкальной академии! Без сомнения, это объясняется тем, что скамьи заслоняют свет и что окучивать всходы мояшо только в боковых проходах. Уже тот факт, что капельдинеры выращивают букетики для бутоньерок в самом здании, показывает, чего можно было бы достичь, если бы во главе учреждения стоял человек, сведущий в земледелии.
Мы посетили также старинный собор и красивый сквер перед ним; в первом царил священный полумрак, второй был залит ярким, чисто земным светом и прелестен благодаря апельсиновым деревьям и цветущим кустам. Затем под жаркими лучами солнца мы проехали среди чащи домов и очутились иа широкой равнине — и увидели виллы, и водяные насосы для осушки города, и большой выгон, где разгуливали дети и коровы; затем проехали мимо старого кладбища, где, как нам сказали, лежит прах некоего бывшего пирата; но мы приняли это на веру и не посетили его. У этого пирата страшная, кровавая биография, но, пока он жил в уединении и хранил незапятнанными славу своего имени и величие своих прежних подвигов, все от мала до велика уважали и почитали его; когда же он в конце концов опустился до политики и стал презренным олдерменом, общество извергло его и отвернулось от него со слезами. Когда он умер, над ним поставили памятник и мало-помалу его опять стали почитать, — но почитать как пирата, а не как олдермена. Теперь все честные, великодушные люди помнят только, чем он был, и милосердно забывают, чем он стал.
Оттуда мы ехали несколько миль через болота, по высокой насыпной дороге, с каналом по одну сторону и с густым лесом — но другую; там и сям вдалеке виднелась верхушка растрепанного, с торчащими ветками, обросшего мхом кипариса, и четко рисовался на фоне неба его силуэт, причудливый, как яблони на японских картинах, — такова была наша дорога и ее окрестности. Порою в канале мирно проплывал аллигатор или на берегу мелькала, отражаясь в воде, живописная фигура негра, следившего за поплавком, подобно неподвижной статуе.
Наконец мы добрались до Вест-Энда — группы гостиниц летнего, дачного типа с просторными верандами вокруг всего дома, где у самых ступенек плескались волны широкого голубого озера Поншартрен. Мы обедали на нижней веранде, над самой водой; главным блюдом была знаменитая рыба «помпано», восхитительная, как не слишком тяжкий грех.
Тысячи людей приезжают каждый вечер по железной дороге и в экипажах в Вест-Энд и в Испанский форт, обедают здесь, слушают оркестр, прогуливаются на открытом воздухе при свете электрических фонарей, катаются на яхтах по озеру и вообще развлекаются.
Нам случалось и в другое время и в других местах пробовать «помпано», В частности на редакционном обеде в одном из городских клубов. Но здесь эта рыба была приготовлена с наивысшим совершенством и оправдывала свою славу. Вместе с ней подали высокую пирамиду пунцовых речных раков — крупных, величиной с большой палец, вкусных, нежных, аппетитных. Потом подали сильно наперченные жареные снетки, потом отборные креветки и блюдо мелких крабов с мягким панцирем — самого лучшего сорта. Остальные блюда, которые нам подавали, можно получить и у Дельмонико и в Букингемском дворце; но те, о которых я упомянул, бывают, по-моему, так изумительны только в Новом Орлеане.
На Западе и Юге имеется новая организация — Метельная бригада. Она состоит из молодых девушек, которые носят установленную форму и проходят пехотное учение с метлами вместо винтовок. Их очень приятно наблюдать в обычной обстановке. Когда же они выступают на театральной сцене, в блеске разноцветных огней, они, должно быть, представляют собой эффектное и очаровательное зрелище. Я видел, как они выполняли все свои сложные упражнения грациозно, с воодушевлением и удивительной точностью. Я видел, как они проделывают с метлой все, что только может проделать человек, за исключением подметания. Я не видел, чтобы они мели. Но знаю, что они могли бы этому научиться. Доказательством служит то, чему они уже успели научиться. И если они когда-нибудь этому научатся и двинутся в поход на Чупитулас или на другую из окружающих улиц, проезды примут через несколько минут гораздо лучший вид. Зато девушки потеряют вид, так что в конце концов выйдет то же на то же.
Учение происходило в Вашингтоновских артиллерийских казармах. Здесь нам удалось увидеть много интересных реликвий войны — между прочим, прекрасную картину масляными красками, изображающую последнее свидание Джексона, по прозвищу Каменная Стена, с генералом Ли. Оба верхом. Джексон только что подъехал и что-то говорит Ли. Картина представляет собой большую ценность так как портреты подлинны. Но, как и многие другие исторические картины, она ровно ничего не говорит без подписи. А подпись к ней годилась бы любая.
Первое свидание Ли и Джексона.
Последнее свидание Ли и Джексона.
Джексон представляется Ли.
Джексон принимает приглашение Ли к обеду.
Джексон с благодарностью отклоняет приглашение Ли к обеду.
Джексон извиняется за проигранное крупное сражение.
Джексон докладывает о великой победе.
Джексон просит у Ли спичку.
Картина рассказывает одно, и этого вполне достаточно; она говорит просто и ясно: «Вот тут вместе Ли и Джексон». Художник хотел бы оказать, что это последнее свидание Ли и Джексона, если бы мог это сделать. Но он не мог сделать, потому что сделать это не было никакой возможности. Четкая надпись под исторической картиной обыкновенно в смысле осведомления стоит большего, чем бесконечное множество многозначительных поз и выражений. В Риме люди тонкой и отзывчивой души стоят в слезах перед знаменитой «Беатриче Ченчи накануне казни». Вот что значит подпись. Если бы зрители не знали, в чем дело, они без всякого волнения смотрели бы на картину и говорили: «Девушка, больная сенной лихорадкой», или: «Девушка с мешком на голове».
Я нашел, что полузабытые южные интонации и пропуски звуков для моего уха так же приятны, как некогда. Речь южанина — музыка. По крайней мере для меня она — музыка, но я ведь родился на Юге. Для воспитанного южанина звук «р» не существует, разве только в начале слов. Он говорит: «к'асашец» или «завт'ак», или «пе'ед с'ажением», и так далее. Если написать слова так, как он их произносит, они, может быть, будут непривлекательны для глаза, но слух они чаруют. Когда звук «р» исчез из южной речи и как это случилось? Привычка проглатывать его не заимствована у Севера и не унаследована от англичан. Многие южане — даже большинство — вставляют после «к» звук «й» в некоторые слова, которые начинаются с «к». Например, они произносят: «Мистер Кйата» (Картер), говорят, что они играют в «кйаты» и т. д. И они сохранили приятный обычай, давно исчезнувший на Севере, — часто употреблять почтительное обращение «сэр». Вместо короткого «да» и отрывистого «нет» они говорят: «Да, сэ», «Нет, сэ».
Мы подслушали здесь одно замечательное словечко, — словечко, ради которого стоило съездить в Новый Орлеан, — отличное, гибкое, выразительное, удобное словечко: «леньяпп». Американцы его произносят: «ле-нни-яп». Слово это испанского происхождения, так нам сказали. Мы обнаружили его в первый же день в заголовке газетной статьи о разных разностях; на второй день слышали его от двадцати человек; на третий спросили, что оно означает; на четвертый усвоили его и стали легко распоряжаться им. Оно имеет ограниченный смысл, но, кажется, его несколько расширяют, когда это удобно. Это — как бесплатное прилонсение, нечто, получаемое даром, не в счет. Обычай этот возник в испанском квартале города. Когда ребенок или слуга, а может быть — бог его знает! — даже сам мэр или губернатор покупают что-либо в лавке, они, закончив покупку, говорят:
— Дайте мне что-нибудь на «леньяпп».
Лавочник всегда соглашается: даст ребенку кусочек лакричного корня, слуге — дешевую сигару или катушку ниток, губернатору… не знаю, что он даст губернатору, возможно голос на выборах.
Когда вам предлагают выпить, — а это время от времени бывает в Новом Орлеане, — и вы говорите: «Как, опять? Нет, я выпил достаточно», ваш собеседник отвечает: «Ну, еще один раз — это на «леньяпп». Когда какой-нибудь вздыхатель замечает, что он в любезностях немного перехватил меру, и по лицу своей мисс видит, что сооружение было бы надежнее без последнего, увенчавшего его комплимента, он, вместо того чтобы сказать: «Простите, я не хотел вас обидеть», выражается короче: «О, это на «леньяпп». Если лакей в ресторане споткнется и выльет чашку кофе вам на затылок, он говорит: «На «леньяпп», сэр», — и бесплатно приносит вам другую чашку.
Глава XLV. ЮЖНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На Севере упоминание о войне услышишь в разговорах разве что раз в месяц, иногда —раз в неделю; но как особая тема для разговора — война давно вышла из употребления. Для этого имеется достаточно причин. Если сегодня у вас к обеду приглашена компания из шести джентльменов, то легко может оказаться, что четверо из них, — а то и пятеро, — совсем не бывали на фронте. Так что четыре шанса против двух или пять против одного, что в течение вечера война ни разу не станет темой для разговора; и еще больше шансов за то, что если на эту тему и заговорят, то это будет длиться очень недолго. Если же вы вводите в компанию еще шесть дам, то вы добавляете шесть человек, видевших так мало ужасов войны, что им уже много лет тому назад нечего было об этом сказать, а в настоящее время разговоры о войне им очень скоро наскучили бы.
На Юге совсем другое дело. Здесь каждый встречный мужчина участвовал в войне, каждая встречная дама видела ее вблизи. Война — главная тема бесед., Интерес к войне — живой и постоянный, тогда как интерес к другим темам мимолетен. Упоминанием о войне вы оживите скучающую компанию, заставите работать языки тех, кого никакая другая тема не расшевелила бы. На Юге от войны ведут летоисчисление, как в других местах — от рождества Христова. Целый день вы только и слышите определения: то-то и то-то произошло в годы после войны, или во время войны, или до войны, или сразу же после войны, или года за два, или за пять, или за десять до войны, или через столько-то лет после войны. Из этого видно, как близко это ужасное событие коснулось лично каждого. Не пережившему войны чужестранцу это дает более ясное представление об огромном и разнообразном воздействии этого стихийного бедствия, чем все книги, прочитанные у камина.
Как-то вечером в клубе один господин, обратись ко мне, сказал конфиденциально:
— Вы, конечно, заметили, что мы почти всегда толкуем о войне. Это не потому, что нам не о чем больше разговаривать, а потому, что ничто другое не интересует нас так сильно. И есть еще причина: во время войны каждый из нас лично перенес, кажется, все виды.человеческих испытаний, — следовательно, о каком бы постороннем предмете вы ни заговорили, кто— нибудь из слушателей непременно (вспомнит о чем-либо случившемся во время войны и захочет рассказать об этом. Так разговор постоянно возвращается к войне. Вы можете пытаться как угодно поддерживать разговор на другие темы, и мы примем в нем участие и будем вас поддерживать, но результат получится один: любая выбранная наугад тома расшевелит в памяти каждого из присутствующих воспоминания о войне, — он станет молчалив, и беседа, вероятно, замрет, потому что невозможно говорить о бледных, незначительных вещах, когда у вас в голове вспыхивают оггаонно-яркие факты или представления и вы горите желанием поделиться ими.
Несколько поодаль от нас сидел поэт, и вот он заговорил о луне.
Джентльмен, беседовавший со мной, заметил вполголоса:
— Ну вот, луна, например, мало имеет общего с войной, но увидите, что и она кому-нибудь напомнит о войне,—не пройдет и десяти минут, как луна будет позабыта!
Поэт говорил, что он наблюдал нечто, удивившее его: ему показалось, будто здесь, у экватора, свет луны гораздо сильнее, ярче, чем на севере; ему показалось, что, когда он приезжал в Новый Орлеан много лет тому назад, луна…
Тут его перебивают с другого конца комнаты:
— Погодите, я вам объясню это. Мне ваши слова напомнили один случай. Со времени войны все изменилось — одно к лучшему, другое — к худшему; но есть такие и ри рожденные ворчуны, которые вшдят только одну перемену к худшему. Я знавал одну такую старуху негритянку. Один молодой человек из Нью-Йорка сказал при ней: «Какая у вас здесь чудная луна». Она вздохнула и сказала: «Эх, милый мой, благослови вас бог, — посмотрели бы вы на эту луну до войны!»
Новая тема иссякла. Но поэт попытался возобновить разговор и снова упомянул о луне.
Последовал короткий диспут о том, действительно ли существует разница между лунным светом на севере и на юге — или это только кажется. От лунного сияния разговор незаметно перешел на искусственные методы рассеивать темноту. Тут кто-то вспомнил, что когда Фаррагет подходил темной ночью к Порт-Гудзону, он, не желая облегчать прицел артиллерии южан, не зажигал боевых огней, а выкрасил палубы всех своих судов в белый цвет, так что создал тусклое, но достаточное освещение, позволявшее его людям довольно легко передвигаться. Тут война снова выступила на сцену, а между тем десять минут еще не истекли.
Меня это не огорчило, так как всегда интересно послушать, что говорят о войне люди, которые на войне были; разглагольствования же о луне поэта, который на ней не был, обычно весьма скучны.
В субботу днем мы отправились в Новый Орлеан, к месту, где на арене происходят петушиные бои. Раньше я никогда и не видывал петушиного боя. Там собрались мужчины и мальчишки, самые разнообразные по возрасту и цвету кожи, по языку и национальности. Но меня поразило отсутствие традиционных грубых физиономий: их совсем не было. Если бы не петухи, можно было бы уверить приезжего, что здесь молитвенное собрание, а когда бой уже начался — что это религиозный диспут (конечно, еслп бы вы сначала завязали глаза вашему приезжему), так как рев был потрясающий.
Внутри круга стояли один негр и один белый; остальные все — за чертой. Петухов принесли в мешках, и в назначенное время оба владельца вынули их оттуда, погладили, приласкали, подтолкнули друг к другу и наконец отпустили. Большой черный петух вмиг кинулся на маленького серого и ударил его по голове шпорой. Серый не остался в долгу. И тут поднялся многоголосый вопль, который больше не умолкал. Прошло немного времени, и я уже ожидал, что петухи вот-вот упадут мертвыми; оба они ослепли, были все в крови и так измучены, что то и дело падали. Но они не прекращали драпш и не умирали. Негр и белый то и дело подбирали их, обтирали, брызгали на них холодной водой и, взяв в рот их головки, держали их так с минуту, — вероятно, чтобы теплотой вернуть угасающую жизнь; впрочем, не знаю. Затем умирающих птиц снова спускали на землю, и они начинали ковылять словно ощупью, волоча крылья, сходились, наносили друг другу наугад один-два удара и опять падали в изнеможении.
Конца боя я но видел. Я заставлял себя терпеть зрелище, пока мог, по очень уж жаль было смотреть на птиц; и откровению в этом признался, и мы ушли. Нам потом сказали, что черный петух издох на арене, сражаясь до последней минуты.
Видно, этот «спорт» имеет в себе что-то необычайно притягательное для тех, кто до некоторой степени с ним знаком. Никогда я не видел, чтобы публика так наслаждалась другим зрелищем, как этим петушиным боем. И седовласые старцы и десятилетние мальчики одинаково безумствовали от восторга. Конечно, «петушиный бой» — бесчеловечная забава, в этом не может быть никакого сомнения; но это, пожалуй, более приличный и менее жестокий спорт, чем травля лисиц, — потому что петухи любят драться, они и сами испытывают удовольствие, а не только доставляют его другим, чего нельзя сказать о лисице.
Мы присутствовали однажды, — или, как говорят французы, ассистировали, — на скачках мулов. Мне они, я думаю, доставили больше наслаждения, чем любому бывшему там мулу, и больше наслаждения, чем любое виденное мною состязание. Обширная трибуна была переполнена «цветом красы и рыцарства» Нового Орлеана. Эта фраза не моя. Она принадлежит репортеру-южанину. он употреблял ее в течение жизни двух поколений. Он повторяет ее двадцать, или двадцать тысяч, или миллион раз на дню — смотря по надобности. Он вынужден употреблять ее миллион раз на дню, если ему приходится (а это бывает часто) писать о знатных и уважаемых людях, ибо в его распоряжении для этой цели имеется только эта единственная фраза. Она ему никогда не надоедает, она всегда звучит прекрасно для его уха. В ней есть что-то от средневекового великолепия и мишуры, что тешит его вульгарную душу варвара. Если бы он жил в древние времена в Палестине, мы бы не слышали от него сообщений о «множестве парода». Нет, он сказал бы: «Цвет красы и рыцарства Галилеи собрался слушать нагорную проповедь». Вероятно, и жителям Юга изрядно надоела уже эта фраза, им хотелось бы чего-нибудь нового, но скорой перемены пока не предвидится.
У новоорлеанского редактора слог энергичный, сжатый, простой, без украшений. он не тратит даром слов и не склонен к излияниям. Совсем не таков его корреспондент среднего типа. В приложении «А» я привел одну заметку, написанную опытной рукой. Средний же корреспондент так и сыплет фразами в совершенно другом стиле. Вот пример:
Газета «Таймс-Демократ» в минувшем апреле отправила спасательный пароход вверх по одному из рукавов реки. Пароход пристал у какой-то деревни, и капитан пригласил нескольких местных дам прокатиться. Дамы согласились, сели на пароход, и он пошел вверх по реке. Вот и все. И больше ничего не извлек бы из этого случая редактор газеты. Тут голый факт, и из него ничего не сделаешь. Он, вероятно, представил бы события даже в упрощенной форме — отчасти для полной ясности сообщения, отчасти для экономии места. Зато его специальному корреспонденту знакомы иные методы обработки фактов. Он откидывает всякие стеснения и начинает расписывать:
«Рано утром, в субботу, местные красавицы удостоили своим присутствием нашу каюту, и, гордясь своим очаровательным грузом, бравый пароходик заскользил вверх по реке».
Двадцать два слова понадобилось ему, чтобы сообщить, что дамы сели на пароход и пароход пошел вверх по реке. Здесь перерасход в добрых десять слов, который к тому же уничтожает «компактность» сообщений.
Несчастье южного репортера — женщины. Они лишают его спокойствия, выводят из равновесия. Он прост, рассудителен и вполне приемлем, пока в поле его зрения не появится женщина. Тут он пропадает окончательно: ум его мутится, он становится велеречивым идиотом. Прочитав приведенную цитату, вы, вероятно, вообразили, что этот ученик Вальтера Скотта — еще новичок и почти совсем не владеет пером. Наоборот, его длинная статья полна доказательств, что он отлично им владеет, когда вокруг него нет женщин, которые заражают его слог искусственной красивостью и цветистостью. Например:
«В четыре часа зловещие тучи начали собираться на юго-востоке, и вот с залива подул ветер, который каждую минуту усиливался. Покинуть пристань было небезопасно, и произошла задержка. Дубы, терзаемые ветром, роняли длинные космы из своих мшистых бород, и заводи спесиво вздымали миниатюрные волны, славно подражая гораздо более значительным водным пространствам. Воспользовавшись временным затишьем, мы снялись с якоря и двинулись домой под небом, черным, как чернила, при сильном ветре. Когда подкралась темнота, мало нашлось людей на пароходе, которые ие пожелали бы быть поближе к дому».
Тут придраться не к чему. Описано хорошо, сжато, А ведь у автора здесь было сильное искушение сгустить краски.
Однако вернемся к нашему мулу. С тех пор как я его оставил, я занялся изысканиями и нашел подробный отчет о скачках. Он подтверждает только что высказанную мною теорию: беда репортера-южанина — женщины, дополненные Вальтером Скоттом, его паладинами, и красавицами, и рыцарственностью, и так далее. Отчет превосходен, пока женщины не выступили иа сцену. Но как только они вторглись, начинается неистовство:
«Пройдет, вероятно, много времени, прежде чем трибуна для дам снова явит нам такое море воздушной, как пена, прелести, какое она являла вчера. Женщины Нового Орлеана всегда очаровательны, но более всего — в это время года, когда в своих изящных весенних туалетах они приносят с собой дыхание благоуханной свежести и аромат неизъяснимой непорочности. Трибуна была так переполнена, что многие мужчины, стоявшие внизу и не. имевшие возможности подойти к дамам, поняли, как никогда еще не понимали, чувства Пери у врат рая и спрашивали себя, какая неоценимая милость может помочь им очутиться в божественном присутствии дам. Их белые платья были украшены на груди и плечах цветами избранных ими рыцарей, и если бы не то, что доблестные герои сидели на неромантических мулах, легко можно было бы вообразить себя на одном из празднеств короля Артура».
В первом заезде было тринадцать мулов; тут были всевозможные мулы — разные масти, поступь, нрав, вид. Одни животные были красивы, другие — нет; на одних шкура лоснилась, другие были давно не чищены; одни проявляли невинную веселость и резвость, другие — злобность и всякие дурные наклонности; судя по виду, некоторые мулы считали, что здесь происходит война, другие — что это шуточная забава, а остальные принимали это за какой-то религиозный ритуал. И каждый мул вел себя соответственно своему впечатлению. Результатом была нестройность картины, но она вполне искупалась заметным разнообразием — разнообразием живописным и занимательным.
Наездники были все молодые люди из общества. Если читателя удивляло то, что новоорлеанские дамы присутствуют на таком скромном зрелище, как скачки мулов, то теперь дело объяснилось. Это — модное увлечение; все имеющие отношение к скачкам — местная знать.
Это очень веселая забава, всеми любимая. Скачки мулов — одно из выдающихся событий года. Они выявили несколько очень быстроходных животных. Одного пришлось отстранить от участия, так как он мчался с такой быстротой, что дело свелось к выступлению одного мула и пропадало самое главное — разнообразие. Но время от времени кто-нибудь выпускает его, скрыв под новым именем и новой мастью.
Наездники одеты в полные жокейские костюмы из шелка, атласа и бархата ярких цветов.
Тринадцать мулов после двух-трех фальстартов помчались все дружно и скакали с заметным воодушевлением. Так как у каждого мула и у каждого наездника было свое собственное четкое мнение о том, как следует вести скачку, и какая сторона дорожки лучше при различных обстоятельствах, и как часто следует пересекать эту дорожку, и когда столкновение нужно, а когда его следует избегать, — эти двадцать шесть противоречивых мнений создали весьма фантастическую и живописную путаницу — и получилось зрелище убийственно смешное.
Заезд — миля; время 2 : 22. Восемь мулов из тринадцати оставили других далеко позади. Я ставил на мула, который выиграл бы, если бы они скакали в обратном направлении. Второй заезд был очень забавен, точно так же как и «скачка-реванш для побежденных мулов», которая была позднее, но первый заезд был забавнее всего.
Я считаю, что самые приятные из всех состязаний — пароходные гонки, по после них я ставлю на первое место веселую и забавную скачку мулов. Когда два яростных парохода неистово несутся бок о бок, напрягая все свои мускулы, то есть каждую заклепку в котлах, качаются, и кряхтят, и дрожат от кормы до носа, плюются белым паром, изрыгают черный дым из труб, рассыпают дождь искр, разрезают реку длинными бороздами шипящей пены — вот это спорт, при виде которого даже печень в человеке играет от удовольствия. Конские скачки в сравнении с этим — пресное и бесцветное развлечение. Впрочем, и конские скачки могли бы быть в своем роде довольно хороши, если бы не скучные фальстарты. Зато тут никто никогда не погибнет. По крайней мере при мне на скачках никто не был убит. Искалеченные, правда, бывали, но это не в счет.
Глава XLVI. ЧАРЫ И ЧАРОДЕИ
Мы слишком поздно приехали в Новый Орлеан и не видели самого большого годового праздника — масленичного карнавала. Я видел процессию «таинственной свиты Комуса» двадцать четыре года тому назад: рыцари и знать, облаченные в золото и в шелк пышных парижских нарядов, специально заказанных и купленных ради одного этого вечера; за ними всякие великаны, карлики, чудовища и много забавных и веселых масок, — необычайная, чудесная процессия двигалась в торжественном молчании по улице в колеблющемся дымном свете факелов. Говорят, что в наши дни зрелище стало еще богаче, пышнее и разнообразнее. Там главный персонаж — Рекс[21]; и если я правильно понимаю, то ни сам этот король, ни огромная свита его подданных неизвестны непосвященным. Все это люди из хорошего круга, определенного общественного положения. Принадлежать к их организации — дело чести, и они скрывают свои имена только из романтических побуждений, а отнюдь не из страха перед полицией.
Масленичный карнавал, конечно, остался от французской и испанской оккупации; но религиозная подоплека теперь, по-видимому, уже совершенно исчезла. Сэр Вальтер Скотт взял верх над господами в капюшонах и с четками, и его влиянию сохранится. На его средневековье, дополненное чудовищами, уродами и прелестными созданиями из царства фей, гораздо приятнее смотреть, чем на жалкие выдумки и кривлянья разгулявшейся черни на поповских праздниках; а для того, чтобы отметить этот день и предупредить людей, что кончились дни развлечений и начался святой пост, и средневековье Вальтера Скотта вполне пригодно.
До недавних пор карнавальное шествие происходило в одном только Новом Орлеане. Сейчас этот обычай мы видим и в Мемфисе, и в Сент-Луисе, и в Балтиморе. Пожалуй, тут ему предел. Вряд ли такой обычай может существовать на трезвом Севере; может быть, он и привился бы там, но удержался бы очень недолго, — не дольше, чем он мог бы удержаться в Лондоне. Потому что душа его — романтика, а не шутовство и по гротеск. А если убрать романтическую тайну, королей и рыцарей и громкие титулы — этот обычай умрет даже на Юге. Основная черта этих празднеств — их наивная, сюсюкающая романтичность, благодаря которой они еще живы на Юге, — убила бы их на Севере или в Лондоне. «Пэк» и «Пенч» и все газеты напали бы на них с безжалостными издевательствами, и первый такой праздник стал бы последним.
Преступлениям французской революции и Бонапарта можно противопоставить два искупающих их благодеяния: революция разорвала цепи старого режима и церкви и из нации презренных рабов сделала нацию свободных людей, а Бонапарт поставил заслуги выше происхождения, и притом настолько лишил королевское звание его божественности, что с тех пор коронованные особы в Европе, считавшиеся раньше божествами, стали обыкновенными людьми и никогда больше богами ие будут, — они просто номинальные руководители и отвечают за свои поступки, как все простые смертные. Подобные благодеяния вполне возмещают тот временный ущерб, какой причинили Бонапарт и революция, и мир навсегда в долгу у них за великие услуги, оказанные ими свободе, человечности и прогрессу.
И тут является сэр Вальтер Скотт со своим колдовским наваждением и единоличной своею мощью останавливает волну прогресса и даже поворачивает ее вспять: он заставляет весь мир влюбиться в сны и видения, в сгнившие и скотские формы религии, в разрушившиеся и сгнившие системы управления, в глупость, пустоту, мнимое величие, мнимую пышность и мнимое рыцарство безмозглого и ничтожного, давно исчезнувшего общества. он причинил неизмеримый вред, быть может самый большой и стойкий вред, чем все доселе жившие писатели. Почти во всем мире этот вред изжит, хотя, может быть, не совсем, но у нас на Юге он чувствуется еще достаточно сильно. Не так сильно, конечно, как полвека тому назад, но все еще очень сильно. Здесь, иа Юге, подлинная, здоровая цивилизация девятнадцатого века странно перепутана и переплетена с мнимой цивилизацией вальтер-скотговекого средневековья, и наряду со здравым смыслом, прогрессивными идеями и прогрессивным строительством вы встречаете дуэли, напыщенную речь и худосочный романтизм бессмысленного прошлого, которое давно умерло и должно быть, хоть из сострадания, похоронено. Если бы не вальтер-скоттовская болезнь, то южанин, — или, как его чопорно назвал бы сэр Вальтер, «сын Юга», — был бы совершенно современным человеком, а не помесью современного и средневекового, и Юг был бы на целое поколение впереди. Это сэр Вальтер еще до войны сделал каждого южного джентльмена майором, или полковником, или генералом, или судьей, и это он научил таких людей ценить свои мишурные титулы. Именно он создал чины, создал касты и внушил почтительнее отношение к чинам и кастам, научил ими гордиться и радоваться им. Рабовладение и так обвиняют во многом, и не следует валить на него еще и ответственность за творения и дары сэра Вальтера.
К созданию довоенного типа южанина сэр Вальтер настолько приложил руку, что его можно в значительной мере считать ответственным и за войну. Пожалуй, немного жестоко по отношению к покойнику сказать, что у нас не было бы войны, если бы не сэр Вальтер, и все-таки можно привести но один убедительный аргумент в поддержку этого дикого предположения. Южанин времен американской революции был рабовладельцем; и южанин времен Гражданской войны тоже имел рабов; но первый похож на второго, как англичанин на француза. И это изменение характера больше всего объясняется влиянием сэра Вальтера.
По некоторым признакам легко наблюдать, как глубоко проникло это влияние и как крепко оно держится. Возьмите северный или южный литературный журнал сорокалетней — пятидесятилетней давности: он полон многословного, замысловато-цветистого «красноречия», полон романтики, сентиментальности, — и все это скопировано у сэра Вальтера, и притом весьма скверно; в сущности, это просто наивные подделки под его стиль и приемы. Так как этот род литературы был в моде и на Севере и на Юге, то обе стороны могли соревноваться иа равных условиях, и Юг смог дать столько же известных писателей (пропорционально своему населению), сколько дал Север.
Но наступила перемена, и сейчас уже Юг не может соревноваться с Севером на равных условиях. Ибо Север отбросил старинный напыщенный стиль, а южные писатели все еще цепляются за пего; цепляются за него — и поэтому, конечно, рынок сбыта их товаров очень ограничен. Разумеется, и сейчас на Юге не меньше литературных талантов, чем прежде, но в нынешних условиях их произведения расходятся очень плохо: авторы пишут для прошлого, а не для настоящего; они употребляют устарелые обороты, пишут мертвым языком. Но если талантливый южанин пишет на современном английском языке, его книга уже не тащится на костылях, но летит на крыльях, и они быстро проносят ее через Америку и Англию вплоть до больших германских издательств, перепечатывающих литературу на английском языке; доказательство этому — мистер Кэбл и «Дядюшка Римус»: они оба, как исключение среди южных писателей, пишут не в южном стиле. А ведь вместо трех-четырех широкоизвестных литературных имен на Юге их мог быть десяток-другой, и они появятся, когда время сэра Вальтера отойдет.
Любопытный пример доброго или злого воздействия одной книги виден во влиянии «Дон-Кихота» и влиянии «Айвенго». Первая смела с лица земли восхищение средневековой рыцарской чепухой, а вторая — воскресила это восхищение. Что же касается нашего Юга, то тут благотворное влияние Сервантеса — только мертвая буква, настолько его подточили губительные сочинения Вальтера Скотта.
Главa XLVII. «ДЯДЮШКА РИМУС» И МИСТЕР КЭБЛ
Мистер Джоэл Чандлер Гаррис («Дядюшка Римус») должен был приехать из Атланты в семь часов утра в воскресенье, поэтому мы встали и отправились встречать его. Мы смогли сразу узнать его среди приезжих, толпившихся в конторе отеля, — настолько он соответствовал описаниям, полученным нами из достоверных источников. Говорили, что он невысок, рыжеват и слегка веснушчат. Из всех приезжих он был единственным, кто в точности соответствовал этим приметам. Говорили, что он очень застенчив. Он действительно застенчив. В этом нечего сомневаться. Может быть, внешне это незаметно, но застенчивость в нем очень сильна. Странно видеть, как он смущается даже после долгих дней знакомства. Под застенчивостью скрывается тонкая и благородная натура, — это знают все, кто читал книгу «Дядюшки Римуса»,— и прекрасный талант, что доказывается той же книгой. Может показаться, что я слишком свободно говорю о ближнем своем, но, обращаясь к читателям, я обращаюсь к ого личным друзьям, а между друзьями это позволительно.
Он глубоко разочаровал толпу ребят, которые прибежали к мистеру Кэблу, мечтая хоть взглянуть на знаменитого мудреца и оракула всех американских детских. Они говорили:
— Да он — белый!
Они были очень огорчены этим. Пришлось в виде утешения принести книгу, чтобы они могли услышать «Сказку о черном малыше» из уст самого «Дядюшки Римуса», — нлн, вернее, от того, кто предстал вместо «Дядюшки Римуса» пред пх оскорбленным взором. Но оказалось, что он никогда не читал публично и был слишком застенчив, чтобы решиться на это. Мистер Кэбл и я прочли отрывки из своих книг, чтобы показать ему, до чего это просто; но его бессмертную застенчивость не удалось поколебать даже этой стратегической уловкой, и нам пришлось самим прочесть сказку о братце Кролике.
Мистер Гаррис, вероятно, сумел бы читать на негритянском диалекте лучше всех, потому что он лучше всех пишет на нем. Мистер Кэбл — лучший мастер, пишущий на американско-французском диалекте, и читает на нем превосходно. Мы испытали огромное удовольствие, слушая, как он читал о Жане Поклене и об Иннерарити, а также знаменитое его «изображение» того, как «Луизианна нэ пожэлалла прэсоэдиниться…» Он прочел также отрывок из романа в рукописи, где очень тонко передан и немецкий диалект.
Из разговоров выяснилось, что уже в двух случаях мистер Кэбл попадал в комические положения из-за того, что пользовался в своих книгах совершенно невероятными французскими именами, которые, однако, оказались принадлежащими живым и весьма обидчивым гражданам Нового Орлеана. То ли он выдумал эти имена, то ли взял их из очень старых, позабытых времен— не помню; во всяком случае, живые носители этих имен объявились и былл немало разобижены тем, что к ним и к их личным делам было привлечено столь широкое внимание.
У нас с мистером Уорнером была совершенно такая же история, когда мы писали книгу «Позолоченный век». В ней есть персонаж по фамилии Селлерс. Не помню, какое у него было имя, но во всяком случае мистеру Уорнеру оно не понравилось, и oн захотел его изменить. Он спросил меня, могу ли я себе представить, чтобы человека звали Эскол Селлерс. Разумеется, я ответил, что в трезвом виде — не могу. Тут он сказал, что когда-то на Западе встретил и созерцал человека с таким невозможным именем — Эскол Селлерс — и даже жал ему руку. Он добавил:
— Это было двадцать лет тому назад; вероятно, его имя давно свело его в могилу; но даже если он наш, он никогда не увидит нашей книги. Мы конфискуем его имя. То имя, которым вы пользуетесь, очень часто встречается и потому опасно: наверно, есть тысяча Селлерсов с таким именем, и вся эта орда на нас нападет. Но Эскол Селлерс — имя вполне надежное: это скала!
И мы позаимствовали это имя. Не прошло и недели со дня выхода книги, как к нам явился самый что ни на есть важный, изящный и красивый аристократ, с приготовленным в кармане самым что ни на есть грозным иском по обвинению в клевете, — и он… ну, короче говоря, он заставил нас задержать издание в десять миллионов экземпляров[22] и изменить имя в следующих изданиях на Бирайя Селлерс.
Глава XLVIII. САХАР И ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ
Однажды на улице я встретил человека, которого мне хотелось видеть больше всех на свете, — Гораса Биксби, который при мне, или, вернее, надо мной, был лоцманом, а теперь стал капитаном большого парохода «Город Батон-Руж» — самого нового и быстроходного парохода, принадлежащего Анкер-Лайн. Та же стройная фигура, те же густые кудри, та же эластичная походка, та же живость, тот же решительный взгляд и соответствующая твердость руки, та же строгая военная выправка; ни на йоту не потолстел и не похудел, ни на волос не изменился. Странно расстаться с тридцатипятилетним человеком, приехать через двадцать один год и опять застать его тридцатипятилетним. Со мной по крайней мере такого случая в жизни раньше не бывало. У него появились, правда, гусиные лапки у глаз, но они не шли в счет — настолько были незаметны.
Его пароход только что прибыл. Я ждал этого парохода несколько дней, собираясь вернуться на нем в Сент-Луис. Мы с капитаном присоединились к компании дам и мужчин — гостей майора Буда — и вместе с ними отправились на быстром катере на пятьдесят четыре мили вниз по реке, на сахарную плантацию бывшего губернатора Вормоса. За городом у берега стоял целый ряд дряхлых, расшатанных, устарелых пароходов, — ни одного из них мне не приходилось видеть раньше. Все они были выстроены, изношены и выброшены, с тех пор как я побывал тут в последний раз. Это дает представление о бренности миссисипского парохода, о его недолговечности.
В шести милях ниже города нам показали толстую обветшалую кирпичную трубу, торчавшую над магнолиями и виргинскими дубами,—это памятник, воздвигнутый благодарным государством в честь битвы под Новым Орлеаном — победы Джексона над британцами 8 января 1815 года. Война к этому дню была окончена, оба государства заключили мир, но известие о нем еще не дошло до Нового Орлеана. Если бы в те дни была телеграфная сеть, кровь не была бы пролита, жизни не были бы загублены, и — сверх того — Джексон, вероятно, не был бы президентом. Мы уже изжили беды, которые принесла нам война 1812 года, но еще долго не изживем бед, которые натворил Джексон за свое президентство.
Плантация Вормоса занимает обширную площадь, и гостеприимство дома Вормосов столь же широко. Здесь мы увидели впервые работу паровых плугов. Паровик-тягач сам передвигается на колесах до назначенного места, потом останавливается и стальным тросом тянет к себе громадный плуг за двести или триста ярдов, через поле, между рядами тростинка. Эта штука врезается в чернозем фута на полтора. Плуг похож на киль пароходе с реки Гудзон. Когда негр-рулевой усаживается на один конец, этот конец опускается к земле, а другой подымается высоко на воздух. Эти огромные качели идут, качаясь и перекатываясь, как корабль в море, и не каждый цирковой наездник сможет удержаться на них.
Плантация занимает две тысячи шестьсот акров, шестьсот пятьдесят из них — под сахарным тростником; кроме того, там есть отличная апельсиновая роща в пять тысяч деревьев. Тростник разводят каким-то сложным и трудным научным способом, слишком непонятным и запутанным, чтобы мне попытаться его объяснить, знаю только, что он принес сорок тысяч долларов убытку в прошлом году. Других подробностей не помню. Однако урожай этого года должен дать тысячу или тысячу двести тонн сахару, так что убытки прошлого года не имеют значения. Эти хлопотливые и дорогие научные способы обработки дают сбор от полутора до двух тонн с акра, а это втрое или вчетверо больше, чем получали с акра в мое время.
Дренажные канавы везде кишат мелкими крабами — «скрипачами». Видно было, как они рассыпались во все стороны при неожиданном шуме. Очень дорогое удовольствие эти крабы: они вгрызаются в деревянные пристани и разрушают их.
Сахарный завод представляет собой путаницу чанов, бочек, чашек, фильтров, насосов, труб и машин. Производство сахара исключительно интересно. Сначала троотгаик закладывают в центрифуги и выжимают из него сок; затем сок проходит испарительные чаны, где извлекают волокно; затем — сквозь костные фильтры, чтобы удалить спирт; затем — через осветляющие цилиндры, чтобы отделить патоку; затем — сквозь грануляционную трубу, чтобы сконденсировать; затем — через вакуум-аппарат, чтобы высушить. Теперь сахар готов в продажу. Я набросал эти сведения по памяти.. Процесс кажется простым и легким. Но не обманывайтесь. Производство сахара — одно из труднейших в мире. А сделать сахар хорошо—почти невозможно. Если вы сами время от времени будете проверять сахар в течение нескольких лет и запишете результаты, вы убедитесь, что из двадцати фабрикантов — может быть, двое сумеют выпустить сахар без примеси песка.
Мы могли бы опуститься к устью реки и посетить место грандиозных работ капитана Идза — дамбы, стиснувшие реку стенами, отчего ее глубина достигла двадцати шести футов, — но сообща решили, что ехать туда бесполезно, так как при теперешнем уровне воды все залито и ничего не видно.
Мы могли бы посетить оригинальный старинный поселок «Лоцманский городок», который, как рассказывали, стоит в воде на сваях и где почти все передвигаются в яликах и челноках, даже во время свадеб и похорон; где самые маленькие мальчики и девочки так же ловко обращаются с веслом, как дети сухопутные с велосипедами.
Мы могли бы сделать еще многое, но из-за ограниченного времени мы просто вернулись домой. Путешествие вверх по сверкающей реке, обдуваемой прохладным ветерком, было чудесно и могло бы стать достаточно сентиментальным и романтичным, если бы в наши разговоры не вмешивался ручной попугай, чьи неутомимые комментарии по поводу пейзажа и гостей были всегда чересчур земными, а иногда и богохульными. К тому же он обладал в излишестве свойственным его породе противным, режущим слух металлическим смехом Франкенштейна, — смехом, в котором нет души. Он сопровождал этим смехом каждую сентиментальную фразу, каждую трогательную песенку. Он кудахтал с отвратительной настойчивостью после того, как спели «Снова дома, снова дома, с дальних берегов», и крикнул, что он «гроша ломаного не даст за такой паршивый груз». Никакая романтика, никакие чувства не могут выдержать подобное издевательство; песни и разговоры вскоре умолкли, и это привело попугая в такой восторг, что он от радости стал ругаться, пока не охрип.
Затем мужская половина кампании прошла на бак покурить и поболтать. Я встретил нескольких старых пароходных служащих и узнал от них многое о том, что случилось с моими прежними товарищами по речной жизни за время моего долгого отсутствия. Я узнал, что лоцман, у которого я когда-то служил рулевым, стал спиритом и уже лет пятнадцать получает каждую неделю письма от покойного родственника через нью-йоркокого спиритического медиума по имени Манчестер, причем почтовые расходы соответствуют расстоянию: от почтового отделения в раю до Нью-Йорка — пять долларов; от Нью-Йорка до Сент-Луиса — три цента. Я отлично помню мистера Манчестера. Я как-то заходил к нему, лет десять тому назад, с несколькими приятелями, один из которых хотел справиться об умершем дядюшке. Этот дядя погиб на редкость жестокой и необычайной смертью лет за шесть до того: его пронес циклон мили три и свалил его телом дерево четырех футов в диаметре у основания и шестидесяти пяти футов в вышину. Этого триумфа он не пережил. На сеансе, о котором я начал рассказывать, мой приятель расспрашивал своего покойного дядю через мистера Манчестера, и покойный дядя писал ответы, пользуясь для этой цели рукой и карандашом мистера Манчестера. Вот запись заданных вопросов и плоской пошлятины, которую преподносил Манчестер в качестве ответов духа. Если этот человек не самый жалкий жулик в мире, прошу у него прощения.
«Вопрос: Где вы находитесь?
Ответ. В мире духов.
В. Вы счастливы?
О. Очень счастлив. Совершенно счастлив.
В. Как вы развлекаетесь?
О. Беседой с друзьями и с другими духами.
В. А еще как?
О. Никак. Нам больше ничего не нужно.
В. О чем вы говорите?
О. О том, как мы счастливы, и о друзьях, оставшихся на земле; о том, как влиять на них для их спасения.
В. А когда все ваши друзья перейдут в страну духов, о чем вам останется говорить тогда? Только о том, как вы счастливы — и все?
Ответа нет. Объясняют, что духи не отвечают на легкомысленные вопросы.
В. Как же духи, которые готовы всю вечность проводить в легкомысленных занятиях и считать это счастьем, так строго относятся к легкомысленным вопросам на эту тему?
Ответа нет.
В. Вы хотели бы вернуться?
О. Нет.
В. Готовы ли вы подтвердить это под присягой?
О. Да.
В. Что вы там едите?
О. Мы не едим.
В. Что вы пьете?
О. Мы не пьем.
В. Что вы курите?
О. Мы не курим.
В. Что вы читаете?
О. Мы не читаем.
В. Все ли добродетельные люди отправляются к вам?
О. Да.
В. Вы знаете мой теперешний образ жизни. Можете ли вы посоветовать, что еще предпринять, какое совершить преступление, чтобы наверняка попасть не к вам, а в какое-нибудь другое место?
Ответа нет.
В. Когда вы умерли?
О. Я не умер, я отошел в мир иной.
В. Ладно, когда вы отошли? Давно ли вы находитесь в мире духов?
О. Мы здесь не мерим времени.
В. В вашем нынешнем состоянии и окружении вы можете быть равнодушны к датам и времени и не знать их, но ведь это не имеет никакого отношения к вашей прежней жизни. Тогда у вас ведь были даты. Вот об одной из этих дат я и спрашиваю. Вы скончались в определенный день определенного года. Так водь?
О. Да.
В. Тогда назовите число и месяц.
(Медиум беспокойно вертит карандаш и в течение нескольких минут резко, судорожно дергает головой и туловищем. Наконец объясняет: духи легко забывают даты, так как для них это не имеет никакого значения.)
В. Значит, этот дух действительно забыл день своего перехода на тот свет?
Подтверждается, что именно так и есть.
В. Очень странно. Ну а в каком году это было?
(Снова беспокойство, подергивания, идиотские судороги медиума.) Наконец следует объяснение, что дух забыл и год.
В. Это действительно потрясающий факт. Разрешите мне задать еще один вопрос, один последний вопрос, прежде чем мы расстанемся навеки, ибо, даже если мне не удастся избежать вашего приюта для слабоумных, встреча там не будет, собственно говоря, встречей, так как к тому времени вы, наверное, забудете и меня и мое имя: вы умерли естественной смертью или в результате катастрофы?
О. (После долгого колебания и всяческих кривляний и корч.) Естественной смертью».
На этом разговор окончился. Мой друг сказал медиуму, что его родственник в нашем жалком мире обладал редким умом и совершенно безукоризненной памятью и что очень жалко, если ему не дали сохранить хоть остатки этих качеств для ого собственного удовольствия в царство вечного упокоения, на удивление и восхищение всем остальным обитателям того света.
У этого Манчестера была уйма клиентов — и сейчас их не меньше. Он получает письма от духов из всех частей того света и рассылает их на этом свете по почте Соединенных Штатов. Эти письма наполнены советами — советами «духов», которые знают не больше, чем головастики, — и этим советам набожно следуют получатели. Среди клиентов был человек, которого духи (если только ловкого Манчестера можно именовать во множественном числе) обучали, как изобрести улучшенное колесо для вагона железной дороги. Неважное занятие для духа, но, во всяком случае, это дело полезнее и здоровее, чем вечные разговоры о том, «как мы счастливы».
Глава XLIX. ЭПИЗОДЫ ИЗ ЛОЦМАНСКОЙ ЖИЗНИ
Из разговоров на катере выяснилась, что среди пяти прежних моих приятелей, расставшихся с рекой, четверо выбрали занятие фермера. И, конечно, не потому, что они обладали особенными талантами в области земледелия и надеялись в этой профессии преуспеть больше, чем в других, — причина их выбора кроется совсем в другом. Без сомнения, они стали фермерами потому, что жизнь фермера уединенна и в нее так же можно не допускать нежелательных чужаков, как в убежище лоцманской рубки. И несомненно они выбрали эту жизнь еще потому, что тысячи раз в темные бурные ночп, полные опасностей, они видели мигающие огоньки одиноких фермерских домиков, когда пароход несся мимо, и в такие минуты рисовали себе безмятежность, и безопасность, и уют таких пристанищ и постепенно стали мечтать об этой уединенной, спокойной жизни как о единственной желанной цели — достойной того, чтобы стремиться к ней, ждать ее, копить для нее и наконец наслаждаться ею.
Но мне не приходилось слышать, чтобы кто-либо из этих лоцманов-фермеров особенно удивил мир своими успехами. Их фермы не поддержка для них: приходится им искать поддержки для своих ферм. Лоцман-фермер исчезает с реки ежегодно с наступлением весны, и его не видят до первых морозов. Затем он снова является в потертом домотканом платье, выбирает клочки сена из волос и нанимается лоцманом на зиму. Этим путем он оплачивает долги, которые накопил на ферме за сельскохозяйственный сезон. Выходит, что он только наполовину свободен от речных уз: на полгода, притом самые тяжелые, он остается рабом реки.
Один из этих людей купил ферму, но не поселился на ней. Он придумал фокус почище. Он не собирался разорить ферму, пустив на ней в ход свое невежество. Нет, он сдал ее специалисту-агроному на паях: из каждых трех возов зерна специалист должен был получить два, а лоцман — третий. Но к концу сезона лоцман ничего не получил. Специалист объяснил, что до его доли вообще не дошло: ферма дала всего два воза.
С некоторыми из знакомых мне лоцманов бывали и приключения, иногда оо счастливым концом, но далеко не всегда. Капитан Монтгомери, у которого я был рулевым, когда он плавал лоцманом, командовал флотом южан в большой битве под Мемфисом; когда его корабль затонул, капитан вплавь достиг берега, пробил себе дорогу сквозь отряд солдат, и его храбрость чудом спасла его. Он всегда был хладнокровным человеком, ничто не могло поколебать его спокойствия. Однажды, когда он был капитаном «Кресчент-Сити», я подводил пароход к пристани у Нового Орлеана и ожидал приказаний с мостика, но ничего не услышал. Я остановил колеса, и на этом моя власть и моя ответственность кончались. Был вечер, стоял серый сумрак, шляпа капитана виднелась над большим колоколом, и я предполагал, что мыслящая часть капитана находилась под ней, но это было не так. Капитан был очень строг, поэтому я знал, что лучше не трогать колокол без приказания. Моя обязанность была держать пароход на его опасном курсе и предоставить события их собственному течению, — что я и сделал. Так мы и шли, с каждой минутой приближаясь к кормам других судов, — столкновение было неминуемо, и все же шляпа не шевелилась, ибо — увы!—капитан мирно дремал в рубке. Мне становилось не по себе, я нервничал; мне казалось, что капитан не появится вовремя и не увидит спектакля. Но он пришел как раз в тот момент, когда мы уже собирались врезаться в корму ближайшего парохода; он вышел на мостик и произнес с небесной кротостью: «Дай задний ход», что я и сделал; к сожалению, немного поздно: в следующую минуту мы с самым отчаянным треском врезались в хрупкую надводную часть того парохода. Капитан никогда потом и словом не обмолвился об этом происшествии и только заметил, что я поступил правильно, и он надеется, что я всегда, не колеблясь, буду поступать так же в подобных обстоятельствах.
Один из лоцмаиов, которого я знавал, когда работал на реке, умер весьма достойной смертью. Его пароход загорелся, и он оставался у штурвала, пока не подвел судно к берегу. Тогда он вышел на трап в пылающей одежде и последним сошел на берег. Он умер от ожогов два или три часа спустя и был единственной жертвой пожара.
В истории лоцманского дела на Миссисипи есть пять или шесть примеров такой мученической смерти и с полсотни примеров, когда люди избегали такой же судьбы буквально за несколько секунд до фатального исхода, но нет ни одного примера, когда бы лоцман покинул пост, спасая свою жизнь, если, оставшись на посту и жертвуя жизнью, он мог спасти других от гибели. Стоит отметить эту достойную черту и вполне стоит написать о ней курсивом.
Лоцманского «щенка» с самого начала приучают презирать все опасности, связанные с призванием лоцмана, и предпочитать любую смерть позору ухода с поста, если есть хоть малейшая возможность пригодиться на посту. И эта наука прививается так прочно, что даже на молодых, малоопытных лоцманов уже можно надеяться, зная, что они не оставят штурвал и умрут возле него, если потребуется. На мемфисском кладбище похоронен молодой парнишка, погибший у штурвала много лет тому назад на Уайт-Ривер, спасая жизнь другим людям. Он сказал капитану, что если успеет, несмотря на пожар, довести судно до песчаной мели намного подальше, то всех можно будет снасти; пристать же к крутому берегу реки — значило наверняка погубить много жизней. Он успел посадить судию на мель, но к этому времени пламя окружило его, и, пытаясь выбраться, он получил смертельные ожоги. Его уговаривали бежать раньше, по он ответил, как подобает ответить лоцману:
— Я не уйду. Если я уйду — никому не спастись; останусь — все спасутся, кроме меня. Я остаюсь.
На борту было около двухсот человек, и никто, кроме лоцмана, не погиб. На мемфисском кладбище этому юноше был поставлен памятник. Когда мы, плывя вниз по реке, остановились в Мемфисе, я пошел было разыскивать его, но у нас было так мало времени, что я должен был вернуться, так и не выполнив своего намерения.
Из разговоров на катере я еще узнал, что Дик Кеннет умер, — его пароход взорвался близ Мемфиса, и Дик был убит; что еще несколько человек, которых я знавал, пали на войне, двух или трех подстрелили у штурвала; что еще один очень близкий мой приятель, с которым я много раз ходил рулевым, вышел из своего дома в Новом Орлеане как-то ночью, несколько лет тому назад, чтобы получить какие-то деньги в отдаленной части города, и больше его не видели, — предполагали, что он убит и брошен в реку; что Бен Торнберг давно умер; что умер и его дикий «щенок», с которым я так часто ссорился всю дневную вахту. Это был горячий, отчаянный мальчишка, вечно попадавший в беду, вечно занятый проделками. Пассажир из Арканзаса привез как-то огромного медведя на корабль и привязал его на цепь к спасательной шлюпке, на нижней палубе. «Щенок» Торнберга не мог успокоиться, пока не пробрался туда и не отвязал медведя, чтобы «посмотреть, что он сделает». Его любопытство было немедленно удовлетворено. Медведь гонялся за ним по палубе, не переставая, милю за милей, а двести человек, в качестве безбилетной публики, гоготали, жадно глядя через перила; наконец медведь отхватил фалду от куртки парнишки и ушел в подпалубное помещение дожевывать ее. Вахтенный молниеносно удрал и оставил медведя в одиночестве. Скоро тот заскучал и вышел поразвлечься. Он обследовал весь пароход, посетил каждый его уголок, — впереди него авангардный отряд убегавших людей, а позади него — безгласная пустота. Когда наконец хозяин изловил его, то на всем пароходе только они двое и были видны: все остальные попрятались, и пароход казался совершенной пустыней.
Мне рассказали, что один из моих друзей умер у штурвала от разрыва сердца в 1869 году. Капитан в это время был наверху. Он увидел, что пароход несется к берегу, и окликнул лоцмана. Не получив ответа, капитан бросился к нему — и нашел его мертвым на полу.
Мистер Биксби пережил взрыв на Мадридской излучине; он не был ранен, по второй лоцман погиб.
Джордж Ритчи пережил взрыв у Мемфиса — он был отброшен от штурвала в воду и оглушен. Вода была страшно холодная; он держался за кипу хлопка, — главным образом зубами, — и плыл по течению, пока не обессилел; его вытащили матросы, находившиеся на обломке корабля. Они вспороли кипу и запаковали его в хлопок, разогрели замиравшую в нем жизнь и благополучно доставили его в Мемфис. Сейчас он служит лоцманом у Биксби на «Батон-Руже».
В жизнь одного из пароходных кассиров, ныне покойного, вплелось романическое приключение — правда, немного смешное, но все же романическое. Когда я с ним встречался, это был беспечный молодой гуляка, хвастун, добряк, беззаботио щедрый и довольно явственно обещавший растратить все свои способности и ничего не достигнуть. В одном из западных городков жил богатый бездетный старик иностранец с женой; в их семье жила хорошенькая девица — не то друг, не то служанка. Молодой кассир, о котором я говорю, — звали его не Джордж Джонсон, но пусть в этом рассказе он зовется Джордж Джонсон, — познакомился с этой девушкой, и они согрешили; старик иностранец узнал об этом и стал их упрекать. Им стало стыдно, и они солгали, сказав, что уже женаты, что они тайком поженились. Тогда старик иностранец забыл обиду, простил и благословил их. После этого они могли грешить не скрываясь. Затем жена иностранца умерла; вскоре и он последовал за ней. Друзья дома собрались отдать последний долг; среди друзей были и юные грешники. Завещание было вскрыто и торжественно оглашено. В нем все огромное состояние старика до последнего гроша переходило к миссис Джонсон.
А такой личности вообще не было. Тогда юные грешники скрылись и сделали весьма большую глупость: сочетались браком у какого-то подозрительного мирового судьи и уговорили его датировать брак задним числом. Ничего хорошего из этого не вышло. Дальние родственники слетелись, раскрыли обман необычайно быстро и легко и завладели всем богатством, а Джонсоны остались очень законно и по воем правилам нерасторжимо связанными узами честного брака, по без единого гроша для поддержания их супружеского счастья. Все это — подлинные факты; и не во всяксм романе встретишь столь многозначительную фабулу.
Глава L. НАШ «ПРАОТЕЦ»
Мы поговорили и о капитане Айсайе Селлерсе, сейчас уже давно покойном. Это был прекрасный человек, человек благородной души, и его уважали и на берегу и на реке. Он был очень высокого роста, хорошо сложен и красив; я его помню уже стариком, ню даже и тогда у него были черные, как у индейца, волосы, а его глаз и рука были вернее, нервы и мысль крепче и яснее, чем у любого члена лоцманского братства, будь то молодой или старик. Он был патриархом этого дела. До появления пароходов он служил лоцманом на барже; он уже плавал пароходным лоцманом, когда ни один из лоцманов, живых и здоровых ко времени, о котором я веду рассказ, еще и не трогал рулевого колеса. Поэтому его собратья питали к нему тот почтительный страх, каким всегда окружены знаменитые современники, сохранившиеся от прошлых времен. Он знал, как к нему относятся, и, вероятно, от этого его природная гордая осанка, и без того несколько чопорная, стала еще строже.
После него остался дневник, но, очевидно, он был начат не в первое его плавание на пароходе, которое, как говорят, было совершено в 1811 году, то есть в тот год, когда первый пароход взбудоражил воды Миссисипи. После его смерти корреспондент газеты «Сент-Луис Рипабликен» извлек из дневника капитана Селлерса следующие данные о нем:
«В феврале 1825 года он поступил на корабль «Скиталец» во Флоренсе, штат Алабама, и проделал за этот год три рейса в Новый Орлеан и обратно; этот пароход был грузоподъемностью в сто пятнадцать тонн. В 1826 году он нанялся на пароход «Генерал Кэролл», который ходил между Нашвиллом и Новым Орлеаном. Именно во время службы на этом пароходе капитан Селлерс ввел звонок в качестве сигнала, чтобы выбирали лот, меж тем как раньше лоцман просто кричал вниз, когда нужны были промеры. Конечно, тогда близость бака к рубке давала полную возможность обходиться таким средством, но это невозможно в наши дни, на наших плавучих дворцах!
В 1827 году мы находим его на «Президенте», пароходе с грузоподъемностью в двести восемьдесят пять тонн, курсирующем между Смитлэндом и Новьш Орлеаном. Отсюда он перешел в 1828 году на «Юбилей», и на этом судне впервые участвовал в качестве лоцмана в рейсах на Сент-Луис; первая его вахта была между Геркуланумом и Септ-Женевьов; 26 мая 1836 года он сдал испытании и ушел из Питсбурга капитаном парохода «Прерия», грузоподъемностью в четыреста тонн. Это был первый пароход с «салоном», который появился в Сент-Луисе. В 1857 году капитан Селлерс ввел предупредительный сигнал для встречных пароходов, который с небольшими изменениями сохранился до сих пор и утвержден обязательным постановлением конгресса.
Приведем некоторые факты, относящиеся к истории реки и почерпнутые из его заметок на полях судового журнала:
В марте 1825 года генерал Лафайет отбыл из Нового Орлеана в Сент-Луис на пароходе малой мощности «Натчез».
В январе 1828 года двадцать один пароход отошел от пристани в Новом Орлеане, дабы отметить посещение этого города генералом Джексоном.
В 1830 году «Североамериканец», прошел путь от Нового Орлеана до Мемфиса в шесть дней — лучшее время для тех лет. Ныне этот путь совершают в двое суток и десять часов.
В 1831 году образовался рукав у Ред-Ривер.
В 1832 году пароход «Гудзон» прошел путь от Уайт-Ривер до Хелины, расстояние в семьдесят пять миль, за двенадцать часов. Сие стало предметом многочисленных толков и размышлении и кругах, непосредственно заинтересованных.
В 1839 году образовался рукав «Большая подкова».
До настоящего времени, в течение тридцати пяти лет, Селлерс, как мы убедились из его дневника, совершил ровно четыреста шестьдесят рейсов в Новый Орлеан и обратно, что составляет путь длиной в один миллион сто четыре тысячи миль, или, в среднем, восемьдесят шесть миль в день».
Когда капитан Селлерс подходил к группе болтающих лоцманов, какой-то холодок пробегал меж ними и разговор замолкал. И вот почему: если собирается шесть лоцманов, среди них всегда попадутся один или два новичка, и старшие вечно бахвалятся перед этими беднягами; а те, слушая бесконечные россказни о добрых старых временах на реке, с горечью сознают, какие они ничтожества, какого недавнего происхождения их знатность и как скромна их должность; «старики» всегда стараются отодвинуть всякое событие как можно дальше в прошлое, чтобы новички как можно острее чувствовали, что они новички, и еще острее завидовали старшим. И до чего эти мирные лысые дяди хвастались, и чванились, и врали, отодвигая события на десять, пятнадцать, двадцать лет, и до чего были довольны, видя, какое впечатление они производят на восхищенных, полных зависти юнцов!
И вдруг в эту восхитительную минуту статная фигура капитана Айсайи Селлерса, этого настоящего, единственно подлинного Сына Древности, торжественно приближается к ним. Представьте себе, какое сразу наступало молчание. И представьте себе чувства этих «стариков» и восторг их недавних слушателей, когда престарелый капитан начинал ронять случайные и равнодушные замечания, вспоминая об исчезнувших островах и рукавах, которые образовались за целое поколение до того, как самый старый из всех этих лысых дядей впервые вошел в лоцманскую рубку.
Много-много раз этот старый моряк появлялся на сцене таким образом и распространял вокруг себя печаль и унижение. Если верить лоцманам, он всегда относил свои рассказы об островах к неясному далекому прошлому реки; никогда он не упоминал об одном и том же острове дважды, и никогда он не говорил о тех островах, какие существуют теперь, и не называл нх таким именем, какое самый старый из присутствующих мог когда-либо слышать. Если верить лоцманам, то он всегда особенно добросовестно относился к мелким подробностям: так, он никогда не говорил просто о штате Миссисипи, например, а всегда добавлял: «Когда штат Миссисипи был там, где сейчас Арканзас», Никогда он не говорил о Луизиане или Миссури вообще, чтобы этим создать у вас неправильное впечатление; нет, он всегда говорил: «Когда Луизиана была выше по реке», или: «Когда Миссури был на иллинойсском берегу».
Старый джентльмен не отличался особыми литературными интересами или способностями, но он, бывало, набрасывал коротенькие статейки с простыми практическими сведениями о реке, подписывал их «Марк Твен» и отправлял в новоорлеанский «Пикайюн». Они касались уровня воды, общего состояния реки и были точны и очень ценны; и в этом отношении — ничего язвительного в них не было. Но, говоря о состоянии реки на сегодняшний день, капитан вполне был способен бросить вскользь замечание о том, что он в первый раз видит такую высокую или такую низкую воду в данном пункте за последние сорок девять лет; иногда он упоминал об острове таком-то и в скобках вставлял замечание: «исчез, если не ошибаюсь, в 1807 году». И эти стародавние воспоминания были горьким ядом для других старых лоцманов, и они осыпали статейки «Марка Твена» беспощадными насмешками.
Случилась так, что одна из этих заметок[23] легла в основу моей первой газетной статья. И высмеял капитана крепко, очень крепко, разогнан свою фантазию слов на восемьсот или даже на тысячу. Был я в то время еще «щенком». Я показал свое произведение нескольким лоцманам, и они поторопились отправить его в печать в новоорлеанскую «Тру Делта». Это было очень жаль: никому никакой пользы статья не принесла, но глубоко уязвила сердце славного человека. Никакой злобы в этой чепухе не было, но в ней была насмешка над капитаном. В ней была насмешка над человеком, для которого это было неожиданно, странно и страшно. Я тогда не знал, — хотя знаю теперь, — что нет большего страдания, чем страдание обыкновенного гражданина, впервые ошельмованного в печати.
Капитан Селлерс оказал мне честь, начав глубоко ненавидеть меня с этого дня. Когда я говорю: «оказал мне честь» — это не пустые слова. Это была настоящая честь — занимать мысли такого большого человека, как капитан Селлерс, и у меня хватило ума оценить ее и гордиться ею. Большая честь — пользоваться любовью такого человека, но еще большая честь — быть предметом его ненависти, потому что он любил десятки людей, но никогда он не сидел ночи напролет, предаваясь ненависти к кому-нибудь другому, кроме меня.
Он никогда в жизни больше не напечатал ни одной заметки и никогда в жизни больше не подписывался «Марк Твен». Когда телеграф принес известие о его смерти, я находился на Тихоокеанском побережье. Я был новоиспеченным журналистом, и мне нужен был псевдоним; тоща я конфисковал брошенный псевдоним старого моряка и сделал все что мог, чтобы это имя стало тем же, чем было в руках старика, — знаком, символом, порукой в том, что все подписанное так — твердокаменная истина; удалось ли мне достичь этого, решать мне самому будет, пожалуй, нескромно.
Капитан законно гордился своей профессией и безгранично любил ее. Он заказал себе памятник и держал его у себя, пока не умер. Теперь этот памятник стоит над могилой, на кладбище Бельфонтэн, в Сент-Луисе. Это мраморная фигура, изображающая его у штурвала; памятник достойно выдержит любую критику, потому что изображает человека, который при жизни, если бы этого требовал долг, скорей сгорел бы заживо и обратился в пепел, чем покинул свой пост.
Самое прекрасное за время всего нашего путешествия по Миссисипи мы увидели, подходя к Новому Орлеану на нашем паровом катере. Полумесяцем развернулся наплывающий город, озаренный белым блеском пятимильной линии электрических огней. Это было зрелище необычайное и замечательно красивое.
Глава LI. ВОСПОМИНАНИЯ
Мы отплыли в Сент-Луис на «Батон-Руже» в чудесный жаркий день, но я так, собственно, и не выполнил того, ради чего приезжал. Я надеялся найти человек сто старых служак, надеялся поговорить с ними, но с таким увлечением погрузился в общую жизнь города, что мне пришлось перекинуться пятиминутными разговорами не больше чем с двумя десятками собратьев по профессии.
Я сидел на скамье в лоцманской рубке, когда мы дали задний ход, «легли на прямой курс», — пароход остановился «в полной готовности», совсем по-старому, и черный дым повалил клубами из трубы, тоже совсем как встарь. Потом мы стали набирать скорость и через минуту уже шли полным ходом. Все это было так привычно и знакомо мне, как и виды берега, — словно и не было перерыва в моей речной жизни. В рубке был «щепок», и я знал, что сейчас он возьмется за штурвал, — он так и сделал. Капитан Биксби вошел в рубку. «Щенок» повел пароход мимо ряда других судов. он раздражал меня: он вел наше судно на слишком большом расстоянии от других. Я прекрасно знал, что сейчас произойдет, потому что мог припомнить со всеми подробностями такой же случай из своей жизни. Капитан молча наблюдал с полминуты, потом сам взял штурвал и повернул корабль так, что тот пошел на расстоянии в ладонь от других судов. Совершенно такую же милость он оказал мне с четверть века тому назад, в этом самом месте в тот раз, когда я впервые выводил судно из новоорлеанского порта. Мно доставило большое и искреннее удовольствие видеть, как этот случай повторился, но уже с другой жертвой.
Мы прошли до Натчеза (триста миль) за двадцать два с половиной часа — самый быстрый переход, какой я когда-либо делал на этом участке реки.
На следующее утро я вышел с четырехчасовой вахтой и увидел, как Ритчи успешно прошел полдюжины поворотов в тумане, руководствуясь размеченной картой, которую составил и запатентовал сам вместе с Биксби. Такой переход был достаточным доказательством ценности карты.
Постепенно, когда туман стал рассеиваться, я заметил, что отраженно дерева в спокойной воде залитого берега, на расстоянии шестисот ярдов, обрисовывалось яснее и темнее, чем само призрачное дерево. Смутные, бесплотные деревья, еле просвечивающие сквозь завесу тумана, казались особенно красивыми.
В Натчезе мы перенесли очень сильную грозу, другая застала нас в Виксберге и третья — примерно милях в пятидесяти ниже Мемфиса. Все они бушевали с былою силой, какая мне давно уже была непривычна. Третью грозу сопровождал бешеный ветер. Мы пришвартовались к берегу, как только почуяли надвигавшуюся бурю, и вое, кроме меня, ушли из рубки. Ветер гнул молодые деревья, выворачивая бледную изнанку листьев; порыв налетал за порывом, без передышки, яростно швыряя ветви то вверх и вниз, то в стороны, и по деревьям пробегали то белые, то зеленые волны, смотря по тому, какая сторона листьев была видна, и волны эти шли, догоняя друг друга, как ходят волны по овсяному полю под ветром. Все цвета вокруг казались неестественными; любой оттенок отсвечивал свинцовым блеском тяжелой гряды туч наверху. Река казалась свинцовой, свинцовым было небо на горизонте, и даже на далеко уходивших рядах волн с белыми гребнями был тот же тусклый отсвет темной густой мглы, сквозь которую шли их мятущиеся полчища. Гром грохотал оглушительно и непрерывно; взрыв гремел за взрывом с небольшими промежутками, и раскаты становились все резче, все выше по тембру и нестерпимее для слуха; молния старалась не меньше грома и открывала такие картины восхищенному глазу, от которых тревожный восторг, словно электрический ток, неустанно пробегал по каждому нерву, по всему телу. Дождь лил ливмя, оглушительные удары грома надвигались все ближе и ближе; ветер свирепел все больше, срывал ветви и верхушки деревьев и уносил их прочь; лоцманская рубка стала трещать, шататься, скрипеть и раскачиваться, и я спустился в трюм — взглянуть, который час.
Многие хвастают грозами в Альпах; но те бури, что мне посчастливилось видеть в Альпах, не идут даже в сравнение с грозами в долине Миссисипи. Конечно, может быть, я видел в Альпах не самые лучшие их достижения, но если Альпы могут превзойти Миссисипи, я и не желаю об этом знать.
Во время этого рейса я обнаружил небольшую наносную мель (остров в младенчестве) длиной в полмили, которая выросла в последние девятнадцать лет., Если имеется так много свободного времени, что девятнадцать лет можно потратить на постройку одной маленькой мели, — к чему тогда, собственно, было торопиться закончить сотворение всего земного шара в шесть дней? Наверно, если бы с самого начала было потрачено побольше времени, мир можно было бы сделать лучше и все эти бесконечные поправки и переделки уже не понадобились бы. Но если в спешке строишь вселенную или дом, то позднее почти неизбежно обнаружишь, что забыл сделать мель, или чулан для щеток, или еще какое-нибудь необходимое приспособление, которое приходится пристраивать, каких бы издержек и хлопот это ни стоило.
Темные до черноты ночи сопровождали нас вовремя рейса вверх по реке, и когда мы приставали к берегу и внезапно заливали деревья потоками сильного электрического света, то каждый раз наблюдали забавное явление: сотни птиц сразу вылетали из гущи сверкающей зеленой листвы и кружились в белых снопах света, и часто певчая птица сначала чирикала, а потом начинала петь. Мы решили, что они принимают наш великолепный искусственный рассвет за подлинный.
Рейс на превосходно оборудованном пароходе был исключительно хорош, и мы жалели, что он так скоро окончился. Нам удалось, приложив много стараний и энергии, отыскать почти всех нашнх старых друзей. Одного все же не хватало: он ушел за воздаянием, какое бы оно там ни было, два года тому назад. Но я все о нем разузнал. Его пример помог мне понять, какое длительное влияние может иметь в жизни самый пустячный случай. Когда он был подручным у кузнеца в нашем поселке, а я — школьником, несколько молодых англичан заехали в этот городок и задержались на некоторое время; однажды они нарядились с мишурным великолепием и изобразили бой на мечах из «Ричарда III» с бешеной энергией и дикими выкриками, в присутствии толпы местных мальчишек. Ученик кузнеца присутствовал при этом, и театральная отрава пронизала его до костей. Этот большой, неуклюжий, необразованный и туповатый парень безнадежно заболел театроманией. Он исчез и потом появился в Сент-Луисе. Как-то я встретил его там. Он задумчиво стоял на углу улицы, упершись правой рукой в бедро, подперев подбородок большим пальцем левой; он нахмурил лоб и наклонил голову, надвинул широкополую шляпу на лоб, очевидно воображая, что он — Отелло или еще какой-нибудь герой и что проходящая толпа видит его трагическую позу и содрогается.
Я подошел к нему и пытался низвести его с облаков на землю, но безуспешно. Однако он вскоре как бы между прочим сообщил мне, что входит в состав труппы театра на Уолнат-стрит, — он пытался оказать это с равнодушным видом, но притворство было слишком очевидно: он весь светился необузданным восторгом. Он оказал, что будет в этот вечер играть одну из ролей в «Юлии Цезаре» и что, если я приду, я его увижу. Если я приду! Я ответил, что не пропущу этого зрелища, даже если умру.
Я ушел совершенно пораженный и мысленно говорил себе: «Как все это странно. Мы всегда считали этого парня дураком, но едва он попал в большой город, где столько умных и понимающих людей, как талант, скрытый в этой жалкой оболочке, был сразу открыт, оценен и принят с честью».
Но я вернулся в этот вечер из театра глубоко разочарованным и обиженным, потому что я не увидел своего героя и не нашел его имени в афишах. Я встретил его на улице на следующее утро и, прежде чем я заговорил, он спросил:
— Ты меня видел?
— Нет, тебя ведь там не было.
Он посмотрел на меня с удивлением и разочарованием. он сказал:
— Нет, я был; уверяю тебя, я там был. Я был римским солдатом.
— Которым?
— Как, разве ты не заметил римских солдат, которые стояли в строю сзади и иногда маршировали по сцене?
— Ты говоришь о римской армии? Об этих шести бродягах в ночных рубахах и сандалиях, с жестяными щитами и шлемами, которые ходили по сцене, наступая друг другу на пятки, под команду тонконогого, как паук, чахоточного человека в таком же костюме?
— Ну вот! Вот именно! Я был одним из этих римских солдат. Я стоял предпоследним. Раньше я всегда стоял последним, но недавно меня повысили.
Ну так вот, мне рассказали, что этот бедняга оставался римским солдатом до конца жизни — в течение тридцати четырех лет. Иногда ему давали «говорящую роль», но не сложную. Ему еще можно было поручить выйти и сказать: «Милорд, карета подана», но если пробовали добавлять к этому еще хоть одну-две фразы — его память не выдерживала, и он делал промах. И все же бедняга терпеливо более чем тридцать лет учил роль Гамлета и жил и умер, твердо веря, что когда-нибудь его пригласят на эту роль!
Вот что вышло из мимолетного посещения молодыми англичанами нашего городка так много лет тому назад. Какие прекрасные подковы мог бы делать этот человек, если бы не англичане, и каким скверным римским солдатом он стал вместо этого!
Дня через два после приезда в Сент-Луис я шел по Четвертой улице, как вдруг какой-то седовласый человек вздрогнул, проходя мимо меня, потом остановился, вернулся, пристально посмотрел на меня, нахмурив брови, и наконец проговорил сурово и серьезно:
— Слушайте, вы уже наконец напились?
Сначала я подумал, что это сумасшедший. Но вдруг, словно меня озарило, я узнал его. Я изо всех сил постарался покраснеть, так что каждый мускул во мне напрягся, и ответил так ласково и заискивающе, как только смог:
— Немножко задержался, по вот сейчас я как раз иду в то самое место, где можно выпить. Пойдемте со мной, помогите!
Он немного смягчился и оказал, что если я поставлю бутылку шампанского, то мое предложение будет вполне приемлемо. Он объяснил, что увидел мою фамилию в газетах, бросил вое свои дела и поехал с твердым намерением найти меня или умереть, заставить меня ответить как следует на его вопрос — или убить меня; впрочем, тут его суровость была в значительной мере напускной.
Наша встреча напомнила мне беспорядки в Сент-Луисе около тридцати лет тому назад. В то время я с неделю жил там в пансионе, а этот человек, тогда юноша, жил напротив меня через вестибюль. Мы видали и драки и убийства, затем как-то вечером мы отправились в арсенал, где собралось около двухсот человек, которых вызвали, чтобы вооружить и под командой военного отправить на усмирение участников беспорядков. Мы обучались до десяти часов вечера; тут принесли известие, что огромная толпа идет с окраины города и сокрушает все на пути. Тотчас же наша колонна двинулась. Ночь была очень жаркая, а мое ружье очень тяжело. Мы шли да шли; и чем ближе мы подходили к месту схватки, тем жарче мне становилось и тем больше хотелось пить. Я шел за своим приятелем и в конце концов попросил его подержать мое ружье, пока я схожу напиться. Я ускользнул и пошел домой. Разумеется, я не беспокоился о нем: теперь он был так прекрасно вооружен, что уж конечно мог справиться с любой опасностью. Если бы я в этом сомневался, я бы достал для него еще одно ружье. Я уехал из города на следующее утро довольно рано, и если бы этот седеющий человек не прочел теперь моего имени в газетах в Сент-Луисе и не решил меня отыскать, я бы до гроба находился в мучительной неизвестности: благополучно ли окончилась для него схватка, или нет. Я понимаю, что мне надо было узнать об этом тридцать лет тому назад. Я, конечно, узнал бы, если бы ружья были у меня, но при создавшихся обстоятельствах он лучше меня мог произвести эти розыски.
В один из понедельников, вскоре после нашего посещения Сент-Луиса, газета «Глоуб-Демократ» вышла с несколькими страницами воскресной статистики, из которой явствовало, что накануне сто девятнадцать тысяч четыреста сорок восемь жителей Сент-Луиса присутствовало на утреннем и вечернем богослужении, и двадцать три тысячи сто два ребенка посетило воскресную школу. Таким образом, сто сорок две тысячи пятьсот пятьдесят людей из четырехсоттысячиого населения города благочестиво провели воскресный день. Я нашел эти сведения в сокращенном впде, в телеграмме «Ассошиэйтед Пресс» и сохранил их. Из них явствует, что Сент-Луис стал гораздо религиознее, чем был в мое время. Но сейчас, внимательно рассматривая эти цифры, я подозреваю, что телеграф их исказил. Не может быть, чтобы в городе было больше ста пятидесяти тысяч католиков, — остальные двести пятьдесят тысяч должны быть протестанты. Из этих двухсот пятидесяти тысяч, как выходит по этой же сомнительной телеграмме, только двадцать шесть тысяч триста шестьдесят два были в церкви и в воскресной юколе, а из ста пятидесяти тысяч католиков сто шестнадцать тысяч сто восемьдесят восемь посетили церковь и воскресную школу.
Глава LII. ГОРЯЩЕЕ КЛЕЙМО
И вдруг мне в голову пришла мысль: «Я не отыскал мистера Брауна!»
По этому поводу я хочу немного отойти от прямого развития моей темы и сделать небольшое отступление. Я хочу открыть тайну, которую хранил девять лет, — теперь она стала меня тяготить.
Однажды, девять лет тому назад, я при некоторых обстоятельствах воскликнул с большим чувством: «Если я только еще когда-нибудь увижу Сент-Луис, я отыщу мистера Брауна, крупного хлеботорговца, и попрошу у него, как особой чести, разрешения пожать ему руку!»
А обстоятельства были следующие. Один из моих друзей, священник, пришел как-то вечером и сказал:
— У меня с собой изумительное письмо, которое мне хочется вам прочесть, если только я смогу сдержать слезы. Во всяком случае, нужно предпослать ему некоторые объяснения. Письмо написано бывшим вором, бывшим бродягой самого низкого происхождения, самого скверного пошиба, человекам, запятнанным всеми преступлениями и погрязшим в невежестве, но, благодаря богу, с целой россыпью чистейшего золота, сокрытой в его сердце, как вы сами увидите. Его письмо было адресовано грабителю но имени Уильяме, который отбывает девятилетнее заключение в одной из государственных тюрем за грабеж. Уильяме был особенно дерзким грабителем и занимался этим делом много лет, но в конце концов был пойман и посажен в тюрьму в том городе, где ночью вломился в дом с пистолетом в руке и заставил хозяина отдать ему восемь тысяч долларов. Уильяме был во всех отношениях человеком незаурядным; он окончил Гарвардский университет и происходил из хорошей новоанглийской семьи. Его отец был священником. В тюрьме здоровье Уильямса пошатнулось, и ему стала угрожать чахотка. Это обстоятельство и одиночное заключение, дававшее много времени для размышления, имели некоторые последствия — естественныепоследствия. Он стал много и серьезно думать; с новой силой в нем пробудились все принципы, привитые с детства, и его чувства, его мысли изменились под их влиянием. Он отрекся от своей старой жизни и стал истинным христианином. Услышав об этом, некоторые из городских дам посетили его и своими ободряющими речами старались поддерживать в нем добрые стремления и желание начать новую жизнь. Суд приговорил его к девятилетнему тюремному заключению, как я вам уже сказал. В тюрьме он познакомился с тем несчастным, о котором я упоминал в начале разговора, — с Джеком Хаитом, автором письма, которое я и собираюсь прочесть. Вы увидите, что это знакомство оказалось весьма плодотворным для Ханта. Когда срок заключения Ханта окончился, он отправился в Сент-Луис и оттуда написал свое письмо Уильямсу. Письмо, разумеется, не пошло дальше тюремной канцелярии: заключенным не часто разрешается получать письма с воли. Тюремные власти прочли это письмо, но они не уничтожили его. У них не хватило духу уничтожить ого. Его читали многим людям, и случайно оно попало в руки тем дамам, о которых я уже упоминал. На днях я встретил старого своего приятеля, тоже священника. Он видел это письмо и был весь под его впечатлением. Одно упоминание о нем трогало его так, что он не мог говорить без дрожи в голосе. Он обещал мне достать копию этого письма; вот она — точная копия, где сохранены все ошибки подлинника. В ней много специальных выражений на воровском жаргоне, но их значение объяснено в скобках тюремным начальством.
«Сент-Луис, 9 июня 1872 года.
Мистер У., — друг Чарли ежели смею назвать вас так, ну, вы не удивляйтесь, што пишу вам письмо, надеюсь, вы не будите сердица что я пишу. Я желаю высказать вам благодарность што вы так говорили со мной когда я был в тюрме — я из-за этого стал стараца штобы стать другим человеком. Наверное вы думали я не обрасчаю внимания што вы говорите и сперва я не обрасчал ну я знал што вы настоящий парень и работали с большими людьми ине сопля и не доносчик все ребята это знают.
Я все по ночам думал про што вы говорили и за его бросил ругаца за пять месяцен до срока я видел што толку никакого не будет с того а когда срок мой кончился и вы мне оказали што надо завязать (бросать воровство) и жить как порядочные три месяца ето будет самое лутчее для меня дело. Агент выдал мне билет досюда и в вагоне я ищо думал чего вы там говорили но не совеем решился. Когда мы попали в Чикаго на поезд с пересадкой сюды я стрельнул у старухи кожу (вытащил кошелек) и только взял я и сам пожелел зачем лутче не брать и я только што задумал чесную жизнь на три месяца по вашему слову, ну все я забыл как увидел что кожа верхняя (кошелек легко достать) — ну я от нее не отходил и как она стала выходить я и говорю мэм говорю, вы ничего не потеряли? И она как схватится что кожи нет, а вот не ета я говорю и подаю ей ах какой ты чесный она говорит, ну у меня нахальства не хватило слушать и я удрал. Когда я сюда приехал у меня был один доллар двадцать пять центов и три дня работа не находилась — не берут в матросы по причине слабости. А вечером на третий день стратил я свои последние десять центов на две кругляшки (круглые большие морские галеты) и сыр и стало мне чего то кисло и думаю вот надо снова идти по ширмам (обчищать карманы) и вспомнил как вы говорили как один парень помолился богу как ему было невезенье и я тоже стал пробовать ну застрял с самого начала и только сказал, господи, дай бедному человеку чесно пожить хоть три месяца ради Христа аминь, и все я думал и думал и все шел и шел, и вышел через час на Четвертую улицу и случилась такое, от чего я теперь там где я есть, и я расскажу вам што было перед тем как кончать письмо. Я шел и слышу страшный шум и вижу лошадь понесла а в коляске двое детей я схватил доску с мостовой и побежал на дорогу и как лошадь побегла я ее стукнул со всех сил по голове и доска разлетелась в щепки, а лошадь задержалась и я ее хватил подусцы и я тянул пока она не стала — и хозяин ее подбежал и как увидел что ребятишки целы стал мне жматъ руку и дал зелененькую в пятьдесят долл. И я вспомнил свою молитву штоб бог мне помог и прямо меня как громом ударело ни вожи выпустить, ни чего сказать не могу. Он видит што то неладно, подходит и говорит что с вами ушиблись или нет. А мне в голову тут пришло спросить у него работу и я прошу его возьмите деньги дайте работу — он говорит — садись ка сюда, поговорим и деньги бери себе — спрашивает как, могу ли я ходить за лошадьми, а я говорю да, я часто шлялся при конюшнях помогал чистить и выводить лошадей, ладно говорит, мне нужен человек и оказал што даст мне шишнадцать долларов в месяц и харчи. Сам понимаешь я сразу согласился. Ночью в своей комнатенке над конюшней я сидел долго и все думал какая была прошлая моя жизнь и как все случилось и просто стал на колени и благодарил бога за работу и просил иомоч мне в этом деле и благословить вас за то что надоумили меня и с утра опять помолился и купил себе новую оправу (одежду) и библию, потому я решил зато что бог так помог м не буду читать библию утром и вечером и просить его ищо за мной присматривать. Вот я прожил с неделю и м-р Браун, так ему фамилие, пришел вечером в мою комнату и видит я читаю библию — он спросил верующий ли я, нет, говорю, так чего говорит ты читаешь библию заместо газет и книжек. Ну Чарли я подумал лутче по-чесному сначала и я все рассказал про тюрму и насчет вас и как бог мне достал работу когда я попросил его и что я за это читаю библию и стараюсь и говорю дадите мне три месяца пожить — а он как отец стал со мной говорить долго, и говорит, можешь совсем у меня остатца и мне так стало хорошо как никогда в жизне, потому я чесно все оказал м-ру Брауну и нечего мне боятца что кто-нибудь вытащит старые тряпки (выдаст его прошлую жизнь) и сгонит меня с работы а на следующее утро он снова меня позвал и опять поговорил и велел занимаца каждый день и он мне один час или два часа будет помогать вечером и подарил мне арифметику, граматику и географию и тетрадку и каждый вечер он теперь меня провиряет и по утрам разрешил приходить в дом на обшчуто молитву и поместил меня в воскресную школу в класс по библее и я очень довольный потому библию лутче понимаю.
Вот Чарли три месяца чесной жизни исполнилось уже два месяца назад и как вы говорили — это было самое для меня лутчее в жизни время и я опять сразу стал продолжать эту жизнь и бог пусть мне поможет всю жизнь так жить Чарли и я пишу вам ото письмо и сообщаю что бог наверно простил мои грехи и услышал ваши молитвы — вы говорили что будете за меня молица а я знаю что я люблю читать его заповеди и жаловаца ему на свои дела и я знаю он мне помогает потому у меня много случаев красть а я уж не прежний и теперь мне в церков ходить приятней чем в театр а раньше было не то. Наш священник и другие часто со мной разговаривают и месяц назад звали меня присоединила к церкве, но нет, я оказал нет, еще подожду может я ошибся а теперь я уже знаю бог меня зовет и в первое воскресенье в июле я вступлю в церков — мой дорогой друг хотел бы я писать вам свои чувства но я знаю что я не умею еще вы то же самое знаете что я учился писать и читать в норме и еще не умею писать так как говорить я знаю и пишу с ошибками и неправильно, но ты меня прости и вы знаете я рос в бедной семье пока не смылся и никогда но знал ни отца ни матери, и я не знаю своего настоящего имени и я думаю вы но будете сердица на меня я имею на всякую фамилию одинаковое право и я принял вашу фамилию, вы уж ие будите называться так, когда выйдете из тюрмы, я знаю а вы для меня самый на свете главный человек. Так пожалуйста не злись, а я зарабатываю хорошо — я откладываю десять долларов в месяц к тем двадцати пяти из пятидесяти если вам нужно немного денег или все денги, то напишите и они ваши я бы хотел чтобы вы мне разрешили послать вам сичас денег. Посылаю вам кветанцию на подписку на год «Обозрения», я не знал что тебе понравица и м-р Браун посоветовал сказал что вам наверно понравица — хотелось бы мне быть поближе к вам и посылать по празникам жратвы, а то отсюда посылать при такой погоде наверно протухнет. Но уж к рождеству пошлю посылку обязательно — на будущей неделе м-р Браун меня берет в свою лавку разносчиком и повысит как я выучусь у него оптовая торговля зерном — я еще забыл оказать про свою работу в вечерней школе — это класс в воскресной школе,— в воскресенье вечером, я подобрал семь шалыганов (мальчишек) и заставил их пойти в воскресную школу, двое из них знают не больше моего, я их отправил в класс где их полутче выучат. Сам я мало чего знаю, да они и читать не умеют и мне с ними хорошо заниматься а штоб наверняка ходили так я за ними захожу каждое воскресенье за полчаса до школы и четырех девочек я тоже уговорил ходить. Расскажи про меня Маку и Гарри если они сюда приедут когда срок кончица я им всем достану работу. Я надеюсь вы извините што письмо длинное и много ошибок, хотел бы тебя я увидеть, я не могу писать так как могу говорить — надеюсь теплая погода вашим легким на пользу, я боялся когда у вас кров шла горлом што вы помрете. Кланяйтесь всем ребятам и скажите им как я живу — а я живу хороню, все со мной здесь обращаюца лутче нельзя — м-р Браун вам тоже напишет — я надеюсь вы мне тоже напишете когда нибудь, это письмо от вашего верного друга.
Ч. У.
бывшего Джека Ханта. Посылаю карточку м-ра Брауна. Перешлите ему мое письмо».
Вот истинное красноречие, неотразимое красноречие, без единого украшения, без единой прикрасы. Редко я бывал так тронут простым письмом. Читавший это письмо то и дело останавливался — так дрожал и прерывался его голос; а ведь он несколько раз читал это письмо наедине, чтобы улеглось волнение, прежде чем решил выйти с ним в свет. Он пробовал на мне — сможет ли он спокойно читать письмо своей пастве. Опыт был не особенно ободряющим. Однако он решил рискнуть и прочел письмо в церкви. он справился довольно удовлетворительно, но слушатели почти сразу перестали сдерживать свое волнение и плакали до самого конца.
Слава о письме разошлась но городу. Другой священник попросил одолжить ему рукопись, целиком вставил письмо в проповедь, произнес эту проповедь перед тысячной толпой в воскресенье, и при чтении письма аудитория утонула в слезах. Потом мой друг тоже ввел письмо в проповедь и выступил с этой проповедью в воскресенье на утренней молитве перед своей паствой. Еще одна победа была одержана. Все собравшиеся плакали как один человек.
Мой друг уехал на лето в рыбачьи поселки наших северных британских соседей и повез с собой эту проповедь, думая, что она может ему понадобиться. Как-то его попросили прочесть проповедь. Маленькая церковь была переполнена. Среди присутствующих был покойный доктор Дж.-Г. Холленд, покойный мистер Сеймур из «Нью-Йорк Тайме», мистер Пейдж, филантроп и борец за трезвость и, кажется, сенатор Фрай из штата Мэн. Чудесное письмо сослужило нужную службу: все были растроганы, все плакали; слезы непрерывным потоком струились по щекам доктора Холленда, и почти о каждом присутствующем можно было оказать то же самое. Мистер Пейдж был в таком восторге от письма, что он, по его словам, не мог успокоиться, пока не совершит паломничества в эту тюрьму и не поговорит с человеком, который сумел так вдохновить своего товарища по несчастью, что тот создал ото бесценное произведение.
Ах, какая злосчастная мысль пришла в голову Пейджу и еще одному человеку! Если бы они только находились подальше отсюда, это письмо продолжало бы звучать но всему миру и зажигать сердца всех народов еще тысячи лет, и никто даже не догадался бы, что это было наглейшее, бессовестнейшее, искуснейшее мошенничество, издевательство и подделка, когда-либо состряпанная для одурачивания бедных доверчивых смертных.
Письмо было чистейшим жульничеством, и другого такого жульничества, сколько ни старайтесь, вам не найти. Все было сделано безукоризненно, без сучка и задоринки, так — что не подкопаться, чисто, ловко, великолепно!
Читателю я открываю это сейчас, но мы сами узпа— ли правду только через много недель после этого происшествия и за много миль от этих мост. Мой друг вернулся из глубины лесов, и снова он и другие священники и светские ревнители веры начали наводнять аудитории своими слезами и слезами своих слушателей. Я усиленно просил позволения напечатать письмо в одном из журналов и рассказать слезную историю его триумфов; многие получили копии с письма и разрешение распространять его в рукописи, по не в печати; копии были отправлены на Сандвичевы острова и в другие дальние края.
Чарльз-Дадли Уорнер был однажды в церкви, когда там читали это уже потертое письмо, заливая его слезами. После, у выхода, он словно обрушил целый айсберг на спину священника, спросив:
— Вы уверены, что это письмо подлинное?
Это было первое подозрение, высказанное вслух, но оно произвело угнетающее действие, — как всегда бывает при первом выступлении против какого-нибудь кумира. Завязался разговор.
— Но… но что заставило вас усомниться в его подлинности?
— Я не могу оказать ничего определенно, но оно слишком подогнанно, слишком сжато и плавно, слишком хорошо составлено для невентоственпого человека, для неопытной руки. Я думаю, что написал его человек с образованием.
Литератор почувствовал руку литератора. Если вы сейчас просмотрите письмо, вы тоже это почувствуете, — это проглядывает в каждой строке.
Священник тут же ушел с растущим подозрением в душе и сейчас же написал другому священнику — в тот город, где Уильяме сидел в тюрьме и стал на путь истины; он просил разъяснений и разрешения человеку, имеющему отношение к литературе (он подразумевал меня), напечатать это письмо и рассказать его историю. Вскоре он получил следующий ответ:
« Преподобному.. .
Дорогой друг! В подлинности «письма заключенного» сомневаться но приходится. «Уильяме», которому оно было адресовано, сидел в тюрьме несколько месяцев, ожидая суда и объявил о своем обращении на путь истины, а преподобный мистер Н. — капеллан тюрьмы — весьма верил в искренность этого обращения, поскольку можно доверять в таком случае.
Письмо это было переслано одной нашей даме — учительнице воскресной школы — самим Уильямсом или, возможно, капелланом тюрьмы. Она была очень огорчена, что письмо получило такую огласку, так как это могло показаться нарушением доверия или оскорбить Уильямса. Что касается опубликования в печати, то дать на это разрешение я не могу; хотя, если будут выпущены имена и названия городов и особенно если письмо будет напечатано за границей, — вы, пожалуй, можете взять на себя ответственность за его опубликование.
Это замечательное письмо, и ни один гений христианского мира, тем более человек, не осененный благодатью божией, написать его не мог. Оно — проявление благодати в сердце человеческом, в падшем, грешном сердце, и тем самым обнаруживает свой источник, укрепляя нашу слабую веру в могущество всевышнего, побеждающего всяческий грех.
«Мистер Браун» из Сент-Луиса, как кто-то передавал, учился в Хартфорде. Все ли, кого выпускает Хартфордский университет, так же служат своему господу?
P. S. Уильямс все еще в тюрьме отбывает свой срок, — кажется, девять лет. Он был болен, ему угрожала чахотка, но за последнее время я о нем не справлялся. Дама, о которой я упоминал, как будто переписывается с ним и, наверно, заботится о нем».
Это письмо было получено через несколько дней после того, как было написано, и акции мистера Уильямса снова поднялись высоко. Низменное подозрение мистера Уорнера было схоронено в холодной-прехолодной могиле, где ему, казалось, и надлежало быть,, Во всяком случае, это подозрение основывалось исключительно на силе внутреннего убеждения, а когда дело доходит до «внутренних убеждений», открывается очень широкий простор и место для споров, — свидетельство тому другое внутреннее убеждение, высказанное автором только что процитированного письма: что «это — замечательное письмо, и ни один гений христианского мира, тем более человек, не осененный благодатью божией, написать его не мог».
Мне было разрешено напечатать эту историю, с тем чтобы не называть людей и городов и послать рассказ за пределы нашей страны. Я выбрал австралийский журнал, так как это достаточно далеко от нас, и принялся работать над моей статейкой. А священники снова пустили в ход слезные насосы, используя письмо вместо поршня.
Между тем брат Пейдж усиленно действовал. Он не поехал в тюрьму, но послал копию знаменитого письма капеллану этого учреждения и, очевидно, вместе с тем задал ему целый ряд вопросов. Ответ пришел на четыре дня позже, чем было получено успокоительное послание другого служителя церкви; и раньше, чем я дописал статью, ответ попал ко мне в руки. Письмо сейчас лежит передо мной, и я привожу его здесь. Оно тоже исполнено «внутреннего убеждения» самого внушительного свойства.
«Тюрьма штата. Канцелярия капеллана. 11 июля 1873 года.
Уважаемый брат Пейдж, при сем прилагаю письмо, любезно присланное вами. Боюсь, что подлинность его установить не удастся. Оно якобы адресовано одному из наших заключенных. Подобных писем ни один наш заключенный не получал. Все получаемые письма тщательно прочитываются тюремными властями, прежде чем попасть в руки заключенных, и такое письмо не было бы оставлено без внимания. Кроме того, Чарльз Уильяме — не благочестивый христианин, а распущенный и хитрый блудный сын, хотя его отец — служитель господа. Его имя вымышлено. Рад был с вами познакомиться. Я готовлю лекции о жизни, наблюдаемой через тюремные решетки, и хотел бы прочесть ее в вашей местности».
Так окончилась эта маленькая драма. Моя бедная статья полетела в огонь; несмотря на то, что теперь материал был несравненно обширнее и богаче, чем раньше, вокруг меня оыло много людей разных толков, которые, хотя и жаждали гласности раньше, теперь единодушно хотели замять это запутанное дело, принявшее другой оборот. Они говорили: «Подождите, рана еще слишком свежа». Все копни знаменитого письма, кроме моей, внезапно исчезли; и с тех пор прежняя унылая засуха наступила в церквах. В общем весь город некоторое время широко ухмылялся, но были дома, в которых никто не смеялся и где было опасно упоминать о письме бывшего заключенного.
Несколько слов в пояснение. Джек Хант, которому приписано авторство письма, — лицо вымышленное. Грабитель Уильяме — гарвардский студент, сын священника — написал это письмо сам себе; тайком отдал вынести это письмо из тюрьмы и передать дамам, которые подбодряли его во время его обращения; он знал, что таким путем добьется двух вещей: во-первых, в подлинности письма никто не будет сомневаться и никто ее не будет проверять, а во-вторых, самая соль письма будет замечена и даст ценнейшие результаты, а именно — заставит хлопотать об освобождении мистера Уильямса из тюрьмы.
Эта «соль» так остроумно, так незаметно вкраплена в конце письма, без всякого нажима и подчеркивания, что равнодушный читатель никогда бы даже не заподозрил, что в ней вся суть, вся цель письма, даже если бы он ее и заметил. Вот эта «соль»:
«…надеюсь теплая погода вашим легким на пользу, я боялся когда у вас кров шла горлом што вы помрете. Кланяйтесь…» и т. д.
Вот и все — одно напоминание, никакого подчеркивания. И все же эта фраза предназначалась для взора, который сразу отметил бы ее; она должна была растрогать доброе сердце и заставить попытаться освободить бедного исправившегося, раскаявшегося узника, захваченного цепкими когтями чахотки.
Когда мне в первый раз прочли это письмо, девять лет тему назад, я почувствовал, что ничего лучшего я не встречал. И оно так тепло настроило меня по отношению к мистеру Брауну из Сент-Луиса, что я сказал: если суждено мне еще попасть в этот город, я отыщу этого превосходного человека и поцелую край его одежды, если она новая. Вот я и посетил Сент-Луис, но я не искал мистера Брауна, потому что — увы! — благодетель Браун, как и Джек Хант, не существовал в действительности, а был только измышлением этого талантливого мерзавца Уильямса — грабителя, гарвардского студента, сына священника.
Глава LIII. МЕСТА МОЕГО ДЕТСТВА
Мы взяли билеты на один из быстроходных пароходов Сент-Луисской и Сент-Полской компании и отправились вверх по реке.
Когда я еще мальчиком впервые увидел устье Миссури, опо лежало, по расчету лоцманов, в двадцати двух или трех милях выше Сент-Луиса; из-за осыпания берегов устье с тех пор оказалось на восемь миль ниже прежнего; и лоцманы говорят, что через пять лет река пророет новое русло и устье окажется еще на пять миль ниже, то есть в десяти милях от Сент-Луиса.
В сумерках мы проехали большой цветущий город Олтон, штат Иллинойс, и, до рассвета, на следующий день прошли город Луизиану, штат Миссури, — сонную деревушку в мое время, ставшую теперь оживленным железнодорожным центром; впрочем, тут все города стали железнодорожными центрами. Я не совсем узнал город. Мне это показалось странным: ведь, отходя из рядов повстанческой армии в 1861 году, я отходил через Луизиану в полном порядке, во всяком случае — достаточно хорошо для человека, который еще не выучился, как надо отступать но всем правилам военного искусства, и полагался на свой врожденный талант. Мне казалось, что как первая попытка отступления оно было проделано совсем неплохо. Во всяком случае, ни одно мое наступление за всю кампанию не могло с ним сравниться.
Через реку был перекинут железнодорожный мост, весь унизанный сверкающими огнями,— он был удивительно красив.
В семь утра мы пришли в Ганнибал, штат Миссури, где я провел детство. Я заглядывал сюда пятнадцать лет тому назад, и другой раз — еще шестью годами раньше, но оба раза так ненадолго, что это но в счет. Я представлял себе мой город таким, каким он остался у меня в памяти с первого отъезда, двадцать девять лет тому назад. Образ его сохранился живым и четким, как фотография. Я вышел на берег, ощущая себя человеком умершего, позабытого поколения, вдруг вернувшимся сюда. Мне казалось, что я понимаю, какое чувство испытывали узники Бастилии, когда выходили на волю и смотрели на Париж после долгих лет заключения, замечая, как странно смешались знакомые и незнакомые черты города. Я видел новые дома — видел их совершенно ясно, но они не стирали старого образа в моей памяти; сквозь прочные кирпичи и известку я совершенно явственно видел исчезнувшие дома, стоявшие здесь.
Было воскресное утро, и все еще спали. Я шел по пустынным улицам, видя город таким, каким он был не теперь, а когда-то, узнавая и как бы пожимая руки тысяче знакомых предметов, давно не существующих; и наконец я взобрался на Холидэй-Хилл, чтобы, взглянуть на общий вид. Весь город лежал передо мной, и я мог разглядеть и назвать любое место, любую деталь. Конечно, я был очень растроган. Я сказал себе: «Многие из тех, кого я знавал в этой тихой обители детства, давно уже в раю, — впрочем, некоторые, пожалуй, попали в другое место».
Все, что я видел перед собой, заставляло меня снова чувствовать себя мальчиком, убеждало меня, что я — oпять мальчик и мне просто снился необычайно длинный сон; но моя собственная мысль все испортила, — она навязчиво твердила мне: «Вон я вижу пятьдесят старых домов, и в любой я могу войти и увижу мужчину или женщину, которые были детьми, а может быть, еще и совсем не родились, когда я видел эти дома в последний раз; там я могу встретить бабушку, бывшую в мое время пухленькой молодой невестой»,
С этого возвышенного пункта открывается широкий вид вверх и вниз по реке и далеко в лесистые просторы Иллинойса. Очень красивый вид — кажется, один из красивейших на всей Миссисипи. Впрочем, заявление это звучит довольно смело, потому что все восемьсот миль по реке между Сент-Луисом и Сент-Полом развертываются непрерывной цепью очаровательных панорам. Может быть, мое пристрастие к родным местам заставляет меня склоняться в их пользу, — мне трудно решить. Во всяком случае, этот вид был для меня прекрасным, и он имел еще одно преимущество перед всеми старыми друзьями, которых мне предстояло снова приветствовать: он не изменился, он был все так же молод, свеж, привлекателен и мил, как когда-то; а я знал, что лица других друзей постарели, что их избороздили житейские битвы, что горести и неудачи наложили на них свой отпечаток, — и смотреть на них я буду с тяжелым чувством.
Рядом со мной оказался пожилой господин, очевидно совершавший утреннюю прогулку, и мы, поговорив о погоде, перешли на другие темы. Я не мог вспомнить его лицо. Он оказал, что живет здесь уже двадцать восемь лет. Значит, он появился после меня, и я никогда его раньше не видел. Я задавал ему разные вопросы, и начал с одного своего товарища по воскресной школе — что с ним сталось?
— Он отлично окончил один из восточных университетов, уехал куда-то, шатался по свету, ничего не добился, исчез в безвестности и, забытый всеми, стал, говорят, совсем пропащим человеком.
— Он был очень способный и подавал большие надежды, когда был мальчиком.
— Да, но чем все это кончилось!
Я опросил еще об одном мальчике, самом способном ученике здешней школы, когда я учился там.
— Он тоже с наградой окончил один из восточных университетов, но с самого начала жизнь не баловала его, он терпел неудачи во всем, за что ни брался, и умер в какой-то из территорий много лет тому назад, совершенно разбитым человеком.
Я осведомился еще об одном из способных ребят.
— Он всегда преуспевал, преуспевает и будет преуспевать, по-моему.
Я спросил об одном юноше, — тогда я был мальчиком, он уехал в город учиться, чтобы стать то ли священником, то ли медиком, то ли юристом.
— Он всегда, не окончив одного, хватался за другое — переходил от медицины к юриспруденции, снова становился медиком, потом брался за новое дело; уехал на год, вернулся с молодой женой, стал пить, а потом тайком играть; в конце концов отвез жену и двух детишек к ее отцу и уехал в Мексику; падал все ниже и ниже и умер без гроша; даже не было денег на саван и ни одного близкого человека на похоронах.
— Жаль, он был одни из лучших, такой веселый, полный надежд…
Я назвал другого мальчика.
— О, с ним все благополучно. Все еще живет здесь, женился, имеет детей и процветает.
Еще о нескольких мальчиках он сказал то же самое.
Я назвал трех школьниц.
— Первые две живут здесь, вышли замуж, обзавелись детьми; третья давно умерла — замуж так и не вышла.
С волнением я спросил о ранней своей любви.
— Она хорошо живет. Была три раза замужем, похоронила двух мужей, развелась с третьим и — я слышал — собирается выйти замуж за какого-то старика в Колорадо. У нее дети живут и здесь и там — словом, везде.
Ответ на многие другие вопросы был краток и прост:
— Убит на войне.
Я назвал еще одного мальчика.
— Вот это — странный случай. Не было ни одного человека в городе, который бы не знал, что этот малый — совершенный тупица, совершенный балда, ну, проще говоря, форменный осел. Все это знали, все об этом говорили. Так вот, если он сейчас не первый адвокат в штате Миссури — пусть меня обзовут демократом!
— Да неужели?!
— Это совершению верно. Я вам говорю чистую правду.
— Как вы это объясняете?
— Объясняю? Какие тут могут быть объяснения? Разве только то, что ежели вы пошлете круглого дурака в Сент-Луис и не скажете, что он круглый дурак, так они сами ни за что не догадаются. Одно я знаю наверняка: если б у меня был круглый дурак — я бы знал, что с ним делать: переправить в Сент-Лупс — это лучший рынок на свете для сбыта такого товара. Да, как посмотришь на такие дела да подумаешь и поразмыслишь, — разве не скажешь, что дальше идти некуда?
— Да, как будто так. А не думаете ли вы, что ошибались-то в этом мальчике не жители Сент-Луиса, а жители Ганнибала?
— Какая ерунда! Да здесь люди знали его с колыбели, знали во сто раз лучше, чем эти идиоты из Сент-Луиса могли его узнать. Нет, если у вас есть круглые дураки, которых вам надо куда-нибудь пристроить, послушайтесь моего совета — шлите их в Сент-Луис!
Я расспрашивал о многих людях, которых раньше знал. Одни умерли, другие уехали, одни жили хорошо, других преследовали неудачи; но по крайней мере о десяти из них я получил успокаивающий ответ:
— Хорошо устроились, живут здесь, детей у них хоть пруд пруди!
Я спросил о мисс Н.
— Умерла в сумасшедшем доме три-четыре года тому назад — как туда попала, так и не выходила оттуда; и все время была больна, ни на минуту сознание не возвращалось к ней.
Если он говорил правду, тут крылась тяжелая драма. Тридцать шесть лет в сумасшедшем доме из-за глупой шутки сумасбродной молодежи! Я тогда был маленьким; я видел, как эти взбалмошные барышни на цыпочках вошли в комнату, где мисс Н. за полночь читала при лампе. На девушке, возглавлявшей процессию, были надеты саван и картонная маска; она подкралась сзади к жертве, тронула ее за плечо, — та повернулась, взвизгнула и упала, забившись в судорогах. Она не оправилась от испуга и сошла с ума, В наши дни кажется невероятным, что люди еще так недавно верили в духов. Но они действительно верили.
Расспросив обо всех людях, кого я мог припомнить, я наконец спросил о себе.
— Ну, этот процветает. Вот еще пример круглого дурака. Если бы его послали в Сент-Луис, он преуспел бы куда скорее!
С большим удовлетворением я подумал, как умно было с моей стороны в самом начале разговора сказать этому прямодушному господину, что моя фамилия — Смит.
Глава LIV. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Когда я остался один, я продолжал выискивать знакомые старые дома и вызывать в памяти образы их обитателей из далекого прошлого. Вдруг я узнал среди них дом отца Лема Хаккета (имя вымышленное). Сразу я перенесся на целое поколение назад, в те времена, когда жизненные события были не логическими и естественными следствиями великих всеобщих законов, но являлись результатом специальных приказаний и имели весьма точную и определенную цель — служить отчасти карой, отчасти предупреждением, всегда имея при этом в виду какого-нибудь определенного человека.
Когда я был еще маленьким мальчиком, Лем Хаккет утонул, — утонул в воскресенье: он упал с пустой баржи, на которой итрал. Так как он был отягощен грехами, он пошел ко дну, как топор. Он был единственным мальчиком во всем поселке, который спал в эту ночь. Мы, все остальные, лежали без сна и каялись. Нам не нужно было даже слушать в тот вечер проповедь, где говорилось, что Лем был осужден особым постановлением свыше, — мы и так это знали. В эту ночь разразилась жестокая гроза, и она бушевала почти до рассвета. Ветер выл, окна хлопали, дождь не переставая барабанил по крыше. Почти беспрерывно чернильная тьма ночи исчезала, дома через дорогу сверкали ослепительной белизной на одно трепетное мгновение, потом снова опускалась сплошная тьма и раздавался оглушительный раскат грома; казалось, все вокруг сейчас разлетится вдребезги. Я сидел в постели, трясясь и вздрагивая, ожидая конца света, по-видимому неизбежного. Для меня не было ничего странного и нелепого в том, что на небе поднялась такая буча из-за Лема Хаккета. Очевидно, так именно и полагалось. Я ничуть не сомневался, что все ангелы собрались, обсуждают дела этого мальчика и наблюдают ужасную бомбардировку нашего жалкого маленького поселка с удовлетворением и одобрением. Только одно смущало меня самым серьезным образом: это мысль о том, что раз небеса так сосредоточили интерес на нашем поселке, то, очевидно, внимание наблюдателей непременно будет привлечено кем-нибудь из нас, кто иначе многие годы мог бы прожить незамеченным. Я почувствовал, что я не только один из таких людей, по что именно меня раньше всех разоблачат. У этого разоблачения может быть только одно последствие: я буду гореть в вечном огне рядом с Лемом, раньше чем его успеют прогреть в аду после холода реки. Я знал, что это заслуженно и справедливо. Я еще ухудшал свое положение тем, что втайне не переставал досадовать на Лема за то, что он привлек ко мне это роковое внимание; но тут ничего нельзя было поделать — эта грешная мысль продолжала терзать мне грудь помимо моей воли. При каждой вспышке молнии я задерживал дыхание и думал, что погиб. В ужасе и отчаянии я стал подло подсказывать имена других мальчиков и перечислять их поступки, которые были грешнее моих и особенно заслуживали наказания, и старался себя уговорить, будто бормочу это между прочим, совсем не намереваясь привлечь внимание небес к другим и тем самым отвратить его от себя. Я очень хитро облек свои подсказки в форму грустных воспоминаний и при этом добавлял фальшиво и неловко просьбу, чтобы этим мальчишкам отпуспились их грехи, — «может быть, они раскаются»: «Конечно, Джим Смит разбил окошко и солгал, — но, может, он не замышлял ничего дурного. И хотя Том Холмс ругается хуже всех мальчишек поселка, он, наверно, собирается раскаяться, — хотя никогда об этом не говорит. Правда, Джон Джонс немножко удил рыбу в воскресенье, но ведь он ничего не поймал, кроме какой-то дрянной рыбешки; и, конечно, может быть все это было бы не так ужасно, если б он ее бросил обратно в воду, как говорил, — только он не бросил. Жаль, жаль, что они не раскаялись в своих ужасных грехах, но, может, они еще раскаются».
Пока я позорно старался вызвать внимание к бедным мальчикам, которые в это же время, несомненно, привлекали взоры неба ко мне, — что мне даже не пришло в голову, — я опрометчиво не тушил свечи. Но не такой был момент, чтобы пренебрегать хотя бы пустячными предосторожностями. Не следовало способствовать тому, чтобы на меня обратили внимание, — и я погасил свет.
Эта ночь была самой долгой и, вероятно, самой мучительной, какую мне приходилось пережить. Я мучился угрызениями совести за грехи, которые совершил, и за грехи, в которых я даже не вполне был уверен; но я знал, что они записаны в книгу ангелом, — он, наверно, был умнее меня и не вверял таких важных вещей памяти. И тут я вдруг сообразил, что делаю самую безумную и пагубную ошибку: нет сомнения, что я не только навлек на себя верную гибель, направляя гнев небес на других мальчиков, но погубил и их! Наверно, молния уже поразила их насмерть в постелях! Такой ужас и страх обуяли меня при этой мысли, что, по сравнению с ними, прежние страдания показались пустяками.
Дело принимало серьезнейший оборот. Я решил немедленно начать новую жизнь: я решил приобщиться к церкви на следующий же день, если только мне удастся дожить до восхода солнца. Я решил отречься от греха во всех его проявлениях навсегда и с этого дня начать вести жизнь возвышенную и безупречную. Не буду опаздывать ни в церковь, ни в воскресную школу; буду навещать больных; носить корзинки съестного бедным (только чтобы выполнять правила милосердия, потому что у нас не было никого настолько бедного, чтобы он не швырнул эту самую корзинку мне в голову за мои труды); я буду наставлять других мальчиков на путь истинный и смиренно выносить побои, которые мне за это достанутся; я буду читать только религиозные брошюры; я буду ходить по всем трактирам и увещевать пьяниц; и, наконец, если избегну участи тех, кто становится с ранних лет слишком хорошим для земной жизни, я стану миссионером.
Буря улеглась к рассвету, и я стал постепенно засыпать с чувством признательности к Лему Хаккету за то, что он так внезапно отправился на вечные муки и тем предотвратил гораздо более страшное несчастье — мою собственную погибель.
Но когда я встал, свежий и бодрый, и тут же узнал, что и остальные мальчики живы, у меня зародилась смутная мысль, что, может быть, все это было ложной тревогой, что вся сумятица поднялась исключительно из-за Лема — и никого больше не касалась. Мир казался таким веселым, таким благополучным, что не было как будто никакого существенного основания начинать новую жизнь. Я был слегка подавлен в этот день и, пожалуй, на следующий; а потом мои намерения исправиться постепенно улетучились из головы, и я зажил спокойно и хорошо до следующей грозы.
Следующая гроза разразилась через три недели; и для меня это было самое необъяснимое явление, какое я когда-либо испытал, потому что в этот самый день утонул «немчура». Немчура учился в нашей воскресной школе. Это был немецкий парнишка, который не хватал звезд с неба, но был потрясающе добродетелен и обладал изумительной памятью. В одно из воскресений он стал предметом зависти всех мальчишек, и о нем восхищенно заговорил весь поселок: он прочел наизусть три тысячи стихов священного писания, не пропустив ни слова; а на следующий день взял да утонул!
Обстоятельства его смерти придали ей особую внушительность. Мы все купались в грязном ручейке, где была глубокая яма; в эту яму бочары опустили мокнуть целую груду зеленых ивовых жердин для обручей, футов на двенадцать под воду. Мы ныряли, состязались, «кто дольше выдержит».. Под водой мы держались за ивовые жерди. Немчура так плохо нырял, что каждый раз, когда его голова появлялась над водой, его встречали хохотом и издевательствами. Наконец он, как видно, обиделся на наши насмешки и попросил постоять спокойно на берегу и по справедливости, честно посчитать для него время: «Будьте добры, будьте друзьями хоть раз и не считайте неверно, бросьте смеяться надо мной». Мы предательски подмигнули друг другу и заявили хором: «Ладно, немчура, лезь в воду, мы честно играем».
Немчура нырнул, но тут один из мальчишек бросился к зарослям ежевики у самого берега, и остальные, вместо того чтобы начать считать, последовали за ним и спрятались в кустах. Они представляли себо унижение немчуры, когда он вылезет после нечеловеческих усилий и увидит, что на берегу тихо и пусто и некому аплодировать. Их до того душил смех при одной этой мысли, что они то и дело прыскали и фыркали. Время шло, и наконец один, выглядывавший из— за веток, сказал удивленно:
— Смотрите, он еще не вынырнул.
Смех замолк.
— Ребята, он замечательно нырнул, — проговорил кто-то.
— Все равно, — ответил другой, — тем смешней выйдет шутка.
Послышалось еще несколько замечаний, и наступила пауза. Разговоры смолкли, и все стали выглядывать из-за веток. Скоро на лицах появилась тревога, потом страх, потом ужас. Но спокойная вода стояла неподвижно. Сердца стали биться сильнее, лица побледнели. Мы тихо выскользнули из-за кустов и молча стояли на берегу, с ужасом поглядывая то друг на друга, то на воду.
— Кто-нибудь пусть нырнет и посмотрит.
Да, надо было нырнуть, но никому не хотелось взять на себя такую жуткую обязанность,
— Тяните соломинки!
Сказано — сделано; наши руки так дрожали, что мы едва шевелили пальцами. Жребий пал на меня, и я нырнул. Вода была настолько мутная, что я ничего не видел, но я стал шарить меж ивовых жердей и вдруг схватил слабую руку, не ответившую на мое пожатие; впрочем, ответь она — я бы и не почувствовал: с такой быстротой я в ужасе выпустил ее.
Мальчик попал между жердей и безнадежно в них запутался. Я вылетел на поверхность и передал товарищам ужасное известие. Некоторые из нас знали, что, если мальчика сразу вытащить, его можно было бы откачать, но никто об этом не вспомнил. Мы ничего не соображали, мы не знали, что делать, мы ничего и не сделали, только младшие мальчики жалобно заплакали, и мы все лихорадочно стали напяливать на себя одежду, надевая что попало под руку, наизнанку и задом наперед. Мы помчались домой и подняли тревогу, но ни один из нас не вернулся взглянуть на конец трагедии. У нас было дело поважней: мы все бросились по домам и, не теряя ни минуты, стали готовиться начать праведную жизнь.
Скоро настала ночь. И вдруг разразилась эта ужасающая, ничем не объяснимая гроза. Я был совершенно поражен, я ничего по мог понять. Мне казалось, что тут произошла какая-то ошибка. Все стихии вырвались на свободу и грохотали, гремели и сверкали неудержимо и бешено. Сердце во мне упало, всякая надежда исчезла, и только удручающая мысль пронизывала мое сознание: «Если мальчик, знавший наизусть три тысячи стихов, тоже не годится, — так чего же ждать другим!»
Конечно, я ни на минуту не сомневался в том, что эта гроза разразилась из-за немчуры, и не задавался вопросом — достоин ли он, или другое столь же малозначащее животное такого величественного проявления свыше; меня интересовали только выводы: я решил, что раз уж от немчуры и всех его совершенств там не пришли в восторг, так мне и подавно не стоит начинать новую жизнь, — все равно я безнадежно отстану от этого мальчика, как бы ни старался. Все же я попытался начать новую жизнь, — неумолимый страх заставил меня пойти на это. Но следующие дни были полны такого веселья и солнца и так мешали мне, что через месяц я совсем сбился с пути и снова стал таким же пропащим и беззаботным, как всегда,
Пока я думал свои думы и вспоминал прошлые дела, подошло время завтракать; я снова вернулся в настоящее и спустился с холма.
По дороге через город в гостиницу я прошел мимо дома, где жил мальчиком. По нынешним ценам, люди, занимающие его, стоят не больше, чем я, зато и мое время за каждого из них дали бы не меньше пятисот долларов. Они — чернокожие.
После завтрака я снова пошел гулять один, собираясь отыскать какие-нибудь воскресные школы и посмотреть, можно ли сравнить нынешнее поколение с его предками, которые сидели со мной на этих скамьях и, может быть, даже брали с меня пример, — впрочем, этого я что-то не помню. В мои дни подле городского сада стояла плохонькая кирпичная церквушка под названном «Старый Сионский ковчег», — туда я ходил в воскресную школу; и я легко нашел это место, но старой церкви не было, она исчезла, а на ее месте стояло нарядное и даже веселенькое новое здание. Ученики были лучше одеты, и вид у них был лучше, чем в мое время, поэтому они как-то были непохожи на своих предков, и, следовательно, в их лицах я не нашел ничего знакомого. Но я разглядывал их с глубоким интересом, пытливо и напряженно; и будь я девочкой, я бы расплакался: ведь это были дети моих сверстников, сидевшие на местах тех мальчиков и девочек, которых я от души любил или от души ненавидел; но так или иначе, все они были мне дороги, —ведь сколько лет прошло, и, боже мой, — где-то они все сейчас!
Я был глубоко взволнован и был бы очень благодарен, если бы меня не трогали и не мешали вдоволь насмотреться на них, но лысый директор, который когда— то был белоголовым моим товарищем по этой самой воскресной школе, узнал меня, и я стал нести ребятам какую-то дикую чепуху, чтобы скрыть свои мысли, — иначе я выдал бы свои чувства, и, наверно, их сочли бы совершенно неподходящими для меня.
Говорить речи без подготовки я не умею, и я решил уклониться от другой такой возможности; но в следующей большой воскресной школе я очутился позади аудитории, поэтому я охотно согласился выйти на минуту на кафедру, чтобы получше разглядеть учеников. В эту минуту я никак не мог припомнить ни одной из тех идиотских речей, которыми так оскорбляли и меня посетители, когда я был учеником, и я даже пожалел об этом; я смог бы под этим предлогом подольше протянуть время и как следует, досыта насмотреться на аудиторию; смело говорю, что такой свежей, такой прелестной молодежи не найти в других больших воскресных школах. И так как я говорил, лишь бы только глядеть, и плел что попало, только бы смотреть на них подольше, я решил, что самое честное будет сознаться в моих низменных побуждениях; так я и сделал.
Если Примерный Мальчик и сидел в одной из этих школ, то я его не заметил. В мои времена Примерный Мальчик, — а у нас больше одного не бывало, — был совершенством; он был совершенством по манерам, совершенством в одежде, совершенством в поведении, совершенством в сыновнем почтении, совершенством в проявлениях набожности; но, в сущности, он был просто лицемером, а что касается до начинки его черепа, то он свободно мог ее обменять на начинку пирога, — и от этого пострадал бы только пирог. Безупречность Примерного Мальчика была ходячим укором всем мальчишкам нашего поселка. Им восхищались все мамаши, его ненавидели все их сыновья. Мне рассказывали о его дальнейшей судьбе, но так как для меня это — большое разочарование, мне не хочется входить в подробности. Он преуспел в жизни.
Глава LV. ВЕНДЕТТА И ДРУГИЕ ДЕЛА
За время моего трехдневного пребывания в этом городе я каждое утро просыпался с ощущением, что я — снова мальчик: во сне все лица опять молодели и становились такими, как прежде; но по вечерам я ложился спать столетним стариком, потому что за день я успевал увидеть, во что превратились эти лица.
Конечно, сначала меня подстерегали всякие неожиданности, пока я не привык к наметившемуся положению вещей. Я встречал молодых девушек, которые как будто ничуть не изменились; но они оказывались дочерьми тех молодых девушек, которых я помнил, а иногда — их внучками. Когда говорят, что какая-то незнакомая дама пятидесяти лет — уже бабушка, это ничуть не странно; но зато, если знал ее маленькой девочкой, это кажется совершенно невероятным. Думаешь: «Ну как это маленькая девочка может быть бабушкой?» И не сразу поймешь и почувствуешь, что, пока ты сам старился, и друзья твои тоже не отставали в этом деле.
Я заметил, что самые разительные перемены произошли с женщинами, а не с мужчинами. Я видел мужчин, которые за тридцать лет почти не изменились, зато их жены стали старухами. Все это были добродетельные женщины, — а добродетель очень изнашивает человека.
Мне очень хотелось повидать одного седельщика, но он умер. Говорили, умер много лет тому назад. Раз или два в день седельщик мчался по улице, на ходу надевая сюртук, — и тогда все знали, что к городу подходит пароход. Все знали, что Джон Стэйвли никого не ждет с пароходом и никакого груза тоже не ждет, и Стэйвли тоже, вероятно, знал, что все это знают, — но ему было все равно: он хотел, чтобы ему самому казалось, будто он ждет с этим пароходом сто тысяч тонн седел; и он всю жизнь бегал к пароходу, радуясь, что окажется на месте, чтобы принять под расписку эти седла, если они каким-нибудь чудом прибудут. Ехидная газета в Квинси в насмешку называла наш городок «пристань Стэйвли». Стэйвли был предметом моего детского восхищения: я завидовал размаху его воображаемых дел и уменью выставить их напоказ перед чужими, когда он летел по улице, воюя с развевающимся сюртуком.
Но главным моим героем был один плотник. Он был грандиозный лгун, однако я об этом не знал, я верил каждому его слову. Он был обманщиком романтическим, септимоктальным, мелодраматическим, и его вид внушал мне благоговение. Я живо помню, как он впервые посвятил меня в свои дела. Он строгал доску и время от времени останавливался и глубоко вздыхал; иногда он бормотал какие-то отрывочные фразы, запутанные и непонятные, но внезапно среди них вырывалось восклицание, от которого я вздрагивал и приходил в восторг, — например: «О боже, это—его кровь!» Я сидел на ящике с инструментами и смиренно, весь трепеща, любовался им: водь я считал, что на его совести лежит масса преступлений. Наконец он произнес приглушенным голосом:
— Мой юный друг, можешь ли ты хранить тайну?
Я с жаром подтвердил, что могу.
— Даже мрачную, страшную тайну?
Я и в этом его уверил.
— Тогда я расскажу тебе кое-что из моей жизни. О-о, мне необходимо облегчить мою отягченную душу — иначе я умру!
Оп еще раз предостерег меня, чтобы я был нем как могила, и потом сообщил мне, что его руки «обагрены кровью убитых». Он даже положил рубанок, протянул рукн, печально разглядывая их, и проговорил:
— Взгляни — этими руками я отнял тридцать человеческих жизней!
Впечатление, произведенное на меня его словами, так вдохновило его, что он пустился развивать эту тему особенно увлекательно и живо. Он перестал выражаться общими словами и стал входить в подробности: начал со своего первого убийства, описал его, рассказал, какие он принял меры, чтобы отвлечь от себя подозрение; затем он перешел ко второму убийству, к третьему, к четвертому и так далее. Он всегда совершал свои убийства охотничьим ножом, и у меня волосы встали дыбом, когда он внезапно выхватил этот нож и показал мне.
После этого первого сеанса я ушел, нагруженный, помимо всего прочего, шестью самыми ужасными его тайнами, и они чрезвычайно улучшили мои сны, которые в последнее время стали что-то скучноватыми. Каждую субботу в свободное время я снова и снова приходил к нему. По правде сказать, я провел с ним почти все лето, и это было самое лучшее время. Его обаяние ничуть не уменьшилось: каждое новое убийство он описывал с какими-нибудь новыми потрясающими подробностями. Он всегда точно называл фамилии, число и место, — словом, все. Постепенно я благодаря этому заметил две особенности: что он убивал свои жертвы во всех частях света и что все эти жертвы носили фамилию Линч. Истребление Линчей шло преспокойно, от субботы к субботе; первоначальные тридцать жертв превратились в шестьдесят, — и это было еще далеко не все; тогда мое любопытство превозмогло страх, и я опросил: как случилось, что все эти справедливо наказанные люди носили одну фамилию?
Мой герой объявил, что еще ни одному живому существу не открывал эту мрачную тайну, но чувствует, что мне можно верить, и поэтому раскроет предо мной историю своей печальной и загубленной жизни. Он любил девушку «неземной красоты», и она ему отвечала «всеми нежными чувствами своей чистой и благородной души». Но у него был соперник, «презренный наемник» по имени Арчибальд Линч, который заявил, что девушка будет принадлежать ему, — или «он обагрит руки кровью ее сердца». Плотник «в неведении и и счастье юных грез любви» не придавал значения угрозе и повел «свою златокудрую возлюбленную к алтарю», и там любящие были соединены воедино, и там же, в тот миг, когда благословляющие руки священника были простерты над их головами, свершилось гнусное дело: новобрачная, пораженная ножом — именно ножом,— упала к ногам своего супруга. Но что же сделал супруг? Он подобрал этот нож и, упав на колени подле утраченной возлюбленной, поклялся «посвятить свою жизнь истреблению всех исчадий рода человеческого, носящих ненавистную фамилию Линч».
Так он и сделал. В течение двадцати лет, с того дня и доныне, он преследовал Линчей и уничтожал их. Он всегда убивал их тем же священным ножом; им он изничтожил длинный ряд Линчей, им же он делал на лбу жертвы особый знак — глубоко вырезанный крест. И он добавил:
— Крест Таинственного Мстителя известен в Европе, в Америке, в Китае, в Сиаме, под тропиками, в полярных морях, в пустынях Азии — по всей земле. В какие бы дебри земного шара ни забирался Линч, всегда там находили Таинственный Крест, и тот, кто его видел, содрогался и говорил: «Это — его знак, он был здесь!» Ты слышал о Таинственном Мстителе, — так смотри же! Ибо пред тобой не кто иной, как он! Но берегись — ни слова об этом ни одной живой душе. Молчи и жди. В одно прекрасное утро весь город сбежится в испуге и узрит окровавленный труп; иа его лбу будет этот ужасный знак; и люди содрогнутся и шепнут: «Он был здесь — это знак Таинственного Мстителя!» Ты придешь сюда, но я исчезну. Больше ты меня не увидишь.
Этот осел, без сомнения, начитался дешевых книжонок, и они вскружили его бедную романтическую голову; но так как я тогда этих книжек не видел, то принимал все его измышления за правду и не подозревал, что он плагиатор.
Однако у нас в городе действительно жил некий Линч; и чем больше я размышлял над грозящей ему гибелью, тем хуже спал. Казалось, что мой прямой долг — предупредить его, и еще более прямой, более важный долг перед самим собой — вернуть себе спокойный сон; поэтому я наконец решился пойти к мистеру Линчу и под строжайшим секретом сообщить ему, что его ожидает. Я советовал ему «бежать» и был уверен, что он так и сделает. Но он только стал надо мной смеяться и даже сделал больше: он повел меня в мастерскую плотника и, презрительно издеваясь, отчитал его за его глупые выдумки, дал ему пощечину, заставил на коленях просить прощения — и ушел, оставив меня созерцать жалкие, ничтожные развалины того, кто еще недавно в моих глазах был великим, несравненным героем. Плотник горячился, потрясал ножом и обрек этого Линча на страшную смерть, по-прежнему изрытая торжественные угрозы и пышные слова; но для меня они уже звучали впустую: он больше не был для меня героем, он стал просто жалким, глупым, разоблаченным вралем. Мне было стыдно за него и стыдно за себя; больше я им не интересовался и в мастерскую к нему не ходил. Для меня это было тяжелой утратой; ведь он был величайшим героем, какого я знавал. Он, очевидно, обладал особым талантом; некоторые воображаемые убийства он описывал до того живо и наглядно, что я до сих пор помню все подробности.
Сам Ганнибал изменился не меньше, чем его жители. Теперь это уже не поселок, а настоящий город с мэром и муниципалитетом, с канализацией и, наверно, долгами. В нем пятнадцать тысяч жителей, — и это деловой и энергичный город, но вымощен он не лучше своих западных и южных соседей, где хорошая мостовая и приличный тротуар — вещи настолько редкие, что даже когда их видишь, то не веришь в них.
Сейчас Ганнибал — настоящий железнодорожный центр, тут проходит с полдюжины железных дорог и выстроен новый вокзал, который обошелся в сто тысяч долларов. В мое время у города по было никакой специальности, никакого расцвета торговли; пассажирский пароход раз в день высаживал одного пассажира и покупал одного сома, а забирал с собой другого пассажира и горсточку груза; зато сейчас выросла значительная торговля лесом и много подсобных к ней отраслей. Немало денег проходит теперь через руки жителей города.
Медвежий ручей, названныйтак, очевидно, потому, что там вовек не было медведей, —сейчас совсем спрятан за островами и материками сложенных штабелями досок, и никому, кроме специалиста, не найти его. Регулярно, каждое лето, я тонул в этом ручье, и меня оттуда выуживал и откачивал какой-нибудь случайный враг; но сейчас в ручье не осталось даже места, где можно было бы утопить человека. Ручей в свое время был рассадником простуды и лихорадки. Помню одно лето, когда все в городе переболели сразу. Много труб сорвало ветром, и ветер так растряс все дома, что город пришлось перестраивать заново. Пропасть, вернее — ущелье, между холмом «Прыжок Влюбленных» и холмом к западу от него создана, по мнению ученых, действием ледников. Но это ошибка.
В миле или двух ниже Ганнибала есть интересные пещеры. Мне хотелось снова посетить их, но я не ушел. В мое время владелец одной пещеры превратил ее в мавзолей для своей четырнадцатилетней дочери. Тело бедного ребенка поместили в медный цилиндр, наполненный спиртом, и его подвесили в одном из мрачных переходов пещеры. Верхняя крышка цилиндра отвинчивалась, и говорят, что часто туристы дурного пошиба открывали цилиндр и разглядывали мертвое лицо, отпуская разные замечания.
Глава LVI. ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС
Бойня у Медвежьего ручья исчезла; исчезла и маленькая тюрьма (или «кутузка»), которая была там раньше. Один из жителей спросил: «А помните, как городской пьяница Джимми Финн погиб при пожаре в кутузке?»
Смотрите, как с течением времени, да еще из-за плохой памяти людей, история извращается! Джимми Финн не погиб при пожаре — он умер естественной смертью, в дубильном чане, отчасти от белой горячки, отчасти от самовозгорания. Когда я говорю «естественной смертью», я хочу сказать, что эта смерть была вполне естественной для Джимми Финна. А жертвой пожара был не наш житель; это был человек пришлый, безобидный, насквозь проспиртованный бродяга. Я знаю об этом случае больше, чем все; я знал в те дни слишком много о нем, чтобы сейчас вспоминать с удовольствием. Этот бродяга как-то в сырой вечер ходил по улице с трубкой в зубах и просил спичек; но ни спичек, ни участия он не увидел, — наоборот, толпа злых мальчишек шла за ним следом и забавлялась тем, что дразнила его и досаждала ему. Я был с ними; но наконец он так жалобно запросил пощады, бормоча какие-то слова об одиночестве и несчастьях, что во мне проснулись остатки стыда и чувства справедливости, жившие где-то в глубине души, и я пошел и принес ему спички, а потом удрал домой и лег в постель с тяжелыми угрызениями совести и в подавленном настроении. Час или два спустя бродягу арестовал и запер и кутузке «маршал» — пышное наименование для полицейского, по уж таков был его титул. В два часа ночи церковные колокола ударили пожарную тревогу, и, конечно, все выскочили на улицу, и я тоже. Бродяга неосторожно пользовали л своими спичками: он поджег соломенный тюфяк, и дубовая обшивка камеры загорелась. Когда я подоспел к месту пожара, двести человек мужчин, женщин и детей уже стояли там плотной толпой, их лица были искажены ужасом, а глаза устремлены на решетчатые окна тюрьмы. Вцепившись в железную решетку, словно пытаясь вырвать прутья, бродяга отчаянно молил о помощи. Он был похож на черную тень на солнечном фоне — такой яркий огонь полыхал за ним. Маршала никак не могли найти, а у него был единственный ключ. Спешно сымпровизировали что-то вроде тарана, и удары его в дверь зазвучали так ободряюще, что толпа разразилась громкими криками «ура», и вео решили, что доброе дело сделано. Но случилось не так. Двери оказались слишком крепкими, они не поддались. Рассказывали, что бродяга судорожно сжимал перекладины решетки даже после смерти; в таком положении его охватил и пожрал огонь. Этого я не видел. После того как я узнал умоляющее лицо за решетной, зрителями остались другие, но но я.
Долгое время я каждую ночь видел это лицо за решеткой и считал, что виновен в смерти этого человека, как если бы дал ему спички нарочно, чтобы он себя сжег. Я и и минуты не сомневался, что меня повесят, если узнают о моем участии в этой драме. Все событии, все впечатления тех дней буквально выжжены в моем мозгу, и сейчас они вызывают во мне столь же сильный интерес, как тогда вызывали оилыюйшио мучения. Стоило кому-нибудь заговорить об этой жуткой истории, и я весь превращался в слух и напряженно ловил каждое сказанное слово: ведь я вечно ждал и боялся, что меня заподозрят; моя отягощенная совесть так чутко и остро ко всему прислушивалась, что часто мне мерещилось подозрение в самых безразличных замечаниях, в выражении лиц, жестах и взглядах, но имевших никакого значения и все-таки пронизывавших меня дрожью безудержного страха. И как скверно становилось мне, когда кто-нибудь совершенно нечаянно, без всякого умысла, говорил: «Убийства всегда раскрываются!» Для десятилетнего мальчишки это было весьма тяжким душевным бременем.
Все это время я, по счастью, совершенно забывал об одном: у меня была неискоренимая привычка говорить во сне. И вот как-то ночью я проснулся и увидел, что мой сосед по кровати — мой младший брат — сидит и разглядывает меня при свете луны. Я спросил:
— Что случилось?
— Ты столько говоришь, что я спать не могу!
Я сел на постели, душа моя ушла в пятки, а волосы встали дыбом.
— Что я сказал? Живо выкладывай: что я сказал?
— Ничего особенного.
— Ты врешь, ты все знаешь!
— Все? О чем?
— Ты сам знаешь. О том самом.
— Но о чем же? Не понимаю, что ты плетешь. По— моему, ты либо заболел, либо спятил с ума. Ну, раз ты проснулся, я попробую заснуть, пока мне не мешают.
Он заснул, а я лежал в холодном поту, и новый ужас вставал среди страшного хаоса, который творился у меня в мозгу. Неотвязна была мысль: насколько я выдал себя? что он узнал? В какое отчаяние приводила меня неизвестность! Наконец я придумал: я разбужу брата и проверю его на выдуманном случае, Я разбудил его и сказал:
— Предположи, что к тебе в пьяном виде явился человек…
— Что за ерунда! Я же не бываю в пьяном виде…
— Да не ты, идиот, а другой человек. Предположим, что к тебе явился человек в пьяном виде и взял у тебя нож, или томагавк, или пистолет, а ты забыл ему сказать, что он заряжен, и…
— А как же можно зарядить томагавк?
— Какой там еще томагавк, я не говорил, что томагавк, я сказал — пистолет. Не перебивай ты меня, тут дело серьезное. Тут человека убили!
— Как? У нас в городе?
— Да, у нас в городе.
— Ну, говори же! Я больше ни слова не скажу.
— Ну вот: предположим, ты забыл ему сказать, чтобы он был поосторожнее, потому что пистолет заряжен, а потом он ушел и застрелился — баловался пистолетом, понимаешь, и, наверно, застрелился случайно, оттого что был пьян. Так вот, как по-твоему, это убийство?
— Нет, самоубийство.
— Нет, нет. Я ведь говорю не об его поступке, я говорю о тебе: убийца ли ты, если ты ему дал пистолет?
После глубокомысленного раздумья последовал ответ:
— Да как сказать, —я, конечно, думал бы, что я в чем-то виноват—может, в убийстве,—да, пожалуй в убийство… сам не знаю.
Мне стало очень не по себе. Но все-таки приговор был не окончательный. Придется, видно, рассказать, как все было на самом деле, — выхода нет. Но я постараюсь сделать это поосторожнее и быть начеку, чтобы избежать подозрений, Я сказал:
— Сейчас я говорил предположительно, а теперь скажу, как было дело. Ты знаешь, как сгорел этот человек в кутузке?
— Нет,
— И ты даже ничуть не подозреваешь?
— Ничуть,
— Скажи: «Чтоб мне умереть, ие сходя с места».
— Чтоб мне умереть, но сходя с места,
— Ну, так вот как было. Этому человеку нужны были спички — раскурить трубку. Один мальчик ему достал. Он поджег кутузку этими самыми спичками и сам сгорел.
— Это правда?
— Да, Так как, по-твоему, — убийца этот мальчик или нет?
— Дай подумать. Тот был пьян?
— Да, он был пьян,
— Очень пьян?
— Да.
— А мальчик знал об этом?
— Да, знал,
Последовала долгая пауза. Потом прозвучал тяжкий приговор:
— Если этот человек был пьян и мальчик это знал, то мальчик убил этого человека. Это уж наверняка.
Смутная, тошнотворная слабость поползла у меня по всему телу, — я понял, как должен чувствовать себя человек, услышавший от судьи свой смертный приговор. Я ждал, что еще скажет брат. Мне казалось, будто я догадываюсь, что он скажет, — и я был прав. Он сказал:
— Я знаю, кто этот мальчик.
Мне нечего было сказать, так что я промолчал. Я только содрогнулся. Потом он добавил:
— Да ты еще и половины не досказал, а я уже прекрасно знал, кто этот мальчик. Это Бен Кунц!
Я вышел из оцепенения, как воскресают из мертвых. С изумлением я произнес:
— Слушай, да как же ты угадал?
— А ты сказал во сне!
Я подумал: «Вот замечательно! Эту привычку надо развивать».
Брат наивно продолжал трещать:
— Ты во сне говорил, все бормотал насчет спичек, только я ничего не мог разобрать; а вот сейчас, когда ты мне рассказал насчет того человека, и кутузки, и спичек, я вспомнил, что ты раза три во сне упоминал о Бене Кунце; тут я, понимаешь, все сопоставил и сразу догадался, что того бродягу сжег Бен.
Я горячо стал хвалить его сообразительность. Вдруг он спросил:
— Ты собираешься донести на него?
— Нет, — сказал я, — думаю, что это ему будет хорошим уроком. Разумеется, я буду за ним следить, — это необходимо; но если он на этом остановится и исправится, то никогда не бывать тому, чтобы я ого выдал.
— Какой ты добрый!
— Да, стараюсь. Знаешь, раз уж люди таковы, ничего другого не остается…
Все мои страхи исчезли, когда мое бремя переложили на чужие плечи.
За день до отъезда из Ганнибала я заметил занятную вещь: необычайную растяжимость, которую здесь приобретает обычное для каждой долготы и широты время. Я узнал это от самого незаметного человека — от чернокожего кучера одного из моих друзей, живущего в трех милях от города. Кучер должен был заехать за мной в Парк-Отель в семь тридцать вечера и отвезти меня за город. Но он очень опоздал он явилен и десяти часам. Вместо извинения он сказал:
— В деревне время часа на полтора медленнее идет, чем в городе; попадете вовремя, хозяин. Мы, бывало, в воскресенье спозаранку выедем из деревни и попадаем к самой середине проповеди. Время не сходится. И никак тут не рассчитаешь.
Я потерял два с половиной часа, но узнал факт, за который не жаль отдать и четыре.
Глава LVII. АРХАНГЕЛ
К северу от Сент-Луиса появляются обнадеживающие признаки того, что здесь живут деятельные, энергичные, толковые, зажиточные, практичные люди девятнадцатого века. Тут не мечтают — тут работают. И прекрасные результаты видны во всем — в солидном внешнем облике вещей, в тех признаках зажиточности и комфорта, которые встречаешь повсюду.
Квинси — неплохой пример: деловитый, красивый, благоустроенный город; и сейчас, как и прежде, там интересуются искусством, литературой и прочими высокими материями.
Зато Марион-Сити — исключение. Развитие Марион-Сити по совершенно непонятным причинам обратилось вспять. Этот город так много обещал, что его строители с самого же начала с полным доверием прибавили к его названию слово «Сити»; но пророчество оказалось плохим. Когда я впервые увидел Марион— Сити тридцать пять лет тому назад, в нем была одна улица и около шести, а может быть, и целых шесть домов. Сейчас в нем один только дом, и этот единственный дом совершенно разрушен и готовится проследовать за первыми пятью в реку.
Несомненно, Марион-Сити находился слишком близко к Квинси. И у него был еще один недостаток: он был построен в низменной, болотистой впадине, ниже уровпя высокой воды, тогда как Квинси стоит высоко нй склоне холма.
С самого начала Квинси имел облик и характер образцового новоанглийского города; это сохранилось и посейчас: широкие чистые улицы, аккуратные приятные дома и садики, красивые особняки, внушительные торговые кварталы. В городе просторная ярмарочная площадь, благоустроенный парк и много красивых аллей, библиотека, читальни, несколько колледжей, несколько красивых и роскошных церквей, а большое здание суда занимает целый квартал. Населения в городе тридцать тысяч. Имеется несколько крупных фабрик, выпускающих в больших количествах самые различные предметы.
Ла-Грандж и Кантон — города растущие. Но я не видел Александрии; мне объяснили, что она под водой, но к лету, наверно, вылезет подышать.
Я легко узнал Киокак. Там я жил в 1857 году — год, когда необычайно усиленно торговали земельной собственностью. «Бум» был совершенно невероятный. Все покупали, все продавали, кроме вдов и священников: эти всегда воздерживаются, а когда ажиотаж спадет, они остаются невредимы. Все, что хоть отдаленно походило на участок городской земли, в любом месте — всё продавалось, и за цену, которая была бы высока, даже еслп бы земля там была устлана кредитками.
Сейчас в городе пятнадцать тысяч населения, и он растет быстрым темпом. Стояла ночь, и мы по разглядели города подробно, о чем очень жалели, так как Киокак слывет красивым городом. Раньше в нем приятно было жить; очевидно, он в этом отношении пошел вперед, а не назад.
Огромное строительство, начавшееся в мое время, сейчас закончено. Это — канал через пороги. В нем восемь миль длииы, триста футов ширины и нет места мельче шести футов. Его архитектура имеет тот величавый вид, который свойствен сооружениям поенного ведомства; он сохранится, как римские акведуки. Стоило это строительство четыре или пять миллионов.
После нескольких часов, проведенных со старыми друзьями, мы снова пошли вверх по реке. В давние времена Киокак был случайным местопребыванием гениального бродяги — Генри-Клэя Дина. Кажется, мне пришлось его видеть только раз, но, когда я жил тут, о нем много говорили. Вот что о нем рассказывают:
Он родился бедняком и не получил образования. Но он занялся самообразованием — на мостовой Киокака. Он часто сидел часами на тротуаре с книгой, погруженный в занятия, не обращая внимания на шум, разговоры и тойот толпы, но меняя позы и только изредка поджимая ноги, чтобы не помешать проезжающей телеге; а когда он кончал книгу, то содержание ее, как бы оно ни было сложно, оставалось выжженным у него в памяти и навсегда делалось его достоянием. Таким образом, он приобрел обширные знания и разместил их у себя в голове но разделам, и все, что ему могло понадобиться, в любую минуту находилось у него как бы под рукой.
Его одежда ничем не отличалась от одежды «портовой крысы», разве что была еще более рваной, еще более сборной и нелепой (а тем самым и более живописной), и на ней лежало еще несколько дополнительных слоев грязи. Никто не мог бы по виду «здания» предположить, что в куполе этого здания царит мощный ум.
Он был оратором прежде всего по природе, да еще приобрел на практике огромный опыт. Когда он выступал на собраниях, его имя, как магнит, привлекало фермеров, и они нередко ехали за пятьдесят миль, чтобы послушать его. Его темой всегда была политика. Заметками он не пользовался, ибо вулкану не нужны заметки. В 1862 году мистер Клаггет, сын одного из умерших почтенных граждан Киокака, рассказал мне следующий случай о Дине.
Волна военного патриотизма высоко поднялась в Киокаке (в 1861 году), и однажды в новом Атенеуме должно было состояться большое собрание. Выступать должен был знаменитый приезжий оратор. Зал уже был до отказа набит изнывающей от духоты публикой обоего пола, а сцена оставалась пустой — знаменитый оратор не прибыл. Толпа стала выражать сначала нетерпение, потом возмущение и бурный протест. В это время один из отчаявшихся устроителей нашел Дина на тротуаре, объяснил ему создавшееся положение, отобрал у него книгу, протащил его с черного хода в здание и велел идти на сцену спасать отечество.
Внезапно в зале наступила тишина, и все глаза устремились в одну сторону — на огромную пустую, голую сцену. На ней появилась фигура, знакомая очень немногим из присутствующих. Это был Дин — воронье пугало: в совершенно раскисших башмаках, в рваных носках разного цвета, в драных брюках — реликвии старины, — слишком коротких, так что виднелось несколько дюймов голой лодыжки; в расстегнутой жилетке, тоже слишком короткой, — между нею и кушаком проглядывала полоса грязного, мятого белья; в раскрытой на груди рубашке; в длинном черном шарфе, обмотанном вокруг шеи, как компресс; в куцем синем сюртуке с рукавами, которые дюйма на четыре были короче, чем нужно; в маленькой жесткой солдатской шапчонке, торчащей на черепе, на шишке, чего-то — не знаю, какая это была шишка. Эта фигура серьезно прошла по сцене, размеренным, спокойным шагом подошла к рампе, остановилась и задумчиво уставилась на аудиторию, не говоря ни слова. На минуту все от удивления замолчали, потом еле заметная волна улыбок пробежала по лицам, как рябь по воде. Фигура не шелохнулась, глубокомысленно созерцая всех. Новая волна всколыхнула зал, на этот раз — смехом. И еще одна волна и третья — и зал уже гремел хохотом.
И тут незнакомец отступил на шаг назад, снял солдатскую шапку, бросил ее за кулисы и начал очень спокойно говорить. Никто не слушал — все смеялись и перешептывались. Оратор продолжал, не смущаясь, и вдруг выстрелил фразой, сразу попавшей в цель, — наступила тишина, напряглось внимание. За первой фразой без остановки, без передышки прозвучала другая, третья значительная фраза оратор разошелся, он уже не ронял отдельные слова, речь его лилась потоком; все больше распаляясь, он метал громы и молнии, — и зал разразился аплодисментами, на которые он не обращал внимания; он говорил не останавливаясь, он снял свой черный шарф и бросил его в сторону, не прерывая своей громовой речи; вдруг сдернул свой куцый сюртук и отшвырнул его, все больше воодушевляясь, наконец швырнул жилет вслед за пиджаком — и, как второй Везувий, стоял, изрыгая дым и пламя, лаву и пепел, сыпля золу и осколки, но трясая моральную почву одним толчком мысли за другим, одним взрывом красноречия за другим, в то время как обезумевшая толпа, как одни человек вскочив на ноги, отвечала неумолчным ураганом восторженных криков и снежным вихрем машущих платков.
— Когда Дин вошел,— говорил Клаггет, — люди думали, что он сбежавший сумасшедший, но когда он ушел — думали, что он беглый архангел.
Берлингтон, родина блестящего Бердетта, тоже расположен на холмах и тоже очень красив — воистину красив; великолепный, цветущий город, с населением в двадцать пять тысяч, опоясанный фабриками, где производится почти все, что можно вообразить. Кроме того, в данный момент зто был очень трезвый город: только что был объявлен весьма отрезвляющий закон, — закон, по которому в штате Айова запрещалось производить, вывозить, ввозить, покупать, продавать, брать взаймы, давать взаймы, красть, пить, нюхать, а также приобретать в собственность захватом, наследованием, намеренно или случайно все и всяческие вредные напитки, известные человечеству, кроме воды. Это мероприятие одобрили все разумные люди в штате, кроме судей.
В Берлингтоне имеется все, что нужно хорошему современному городу для правильного и дельного хозяйства, включая сюда состоящую на жалованье пожарную команду; даже в таком большом городе, как Новый Орлеан, постоянной пожарной команды нет, и город по старинке пользуется помощью добровольной пожарной команды.
В Берлингтоне, как и во всех городах по верховьям реки, вдыхаешь бодрящий воздух прогресса ощущение очень приятное. Недавно выстроен оперный театр, и он резко отличается от облезлых сараев, которые служат театрами в других городах такой же величины, как Берлингтон.
Нам но хватило времени, чтобы сойти на берег в Маскатипе, но мы видели его днем с парохода. Я жил там некоторое время, много лет тому назад, но город показался мне совсем незнакомым: очевидно, он перерос городок, что я знавал когда-то. Конечно, это было так: ведь я помнил его маленьким поселком, а сейчас совсем не то. Но больше всего город памятен мне встречей с одним сумасшедшим, который как-то поймал меня в воскресенье в поле, вытащил из-за голенища мясницкий нож и собирался искромсать меня в куски, если только я не признаю, что он — единственный сын дьявола.
Я пытался пойти на компромисс и признать, что он — единственный члон этой семьи, какого я встречал; но это его не удовлетворило, полумер он не признавал: я должен был подтвердить, что он единственный, единый сын дьявола, и он стал точить нож о сапог. Не стоило спорить о такой мелочи: я присоединился к его точке зрения и спас свою шкуру. Вскоре после этого он отправился навестить своего папашу; и так как он больше не показывался, то я думаю, что он и теперь там.:
У меня есть, однако, и более приятное воспоминание о Маскатине — его летние закаты. Ни по эту, ни по ту сторону океана я не видел им равных. Широкая гладкая поверхность реки служила полотном, и закат писал на ней всеми красками, какие может создать воображение: нежно-опаловый цвет, сгущаясь и усиливаясь, переходил в ослепительный пурпур и алое пламя, которые восхищали взор и утомляли его в то же время. Необычайные закаты — привычное зрелище в верховьях Миссисипи. Там настоящее царство закатов; я уверен, что ни один край не может предъявить больших прав на это имя. Говорят, что и восходы тут необычайно хороши. Но этого я не знаю.
Главa LVIII. В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ
Все чаще и чаще попадаются большие города, между ними тянутся ряды богатых ферм, — нет больше пустынного одиночества. Час за часом пароход глубже врезается в большой, оживленный Северо-Западный край; и с каждым новым открывающимся участком удивление и восхищение зрителя усиливаются и растут. Перед такими людьми и такими достижениями, как здесь, невольно преклоняешься. Это — независимые люди, самостоятельно мыслящие и имеющие на это полное право, потому что они образованны и культурны; они читают, они в курсе всех лучших и новейших идей, они укрепляют каждое слабое место в своем краю школой, университетом, библиотекой или газетой, и они живут по законам. Беспокоиться о будущем такого народа не приходится.
Край этот молод — так молод, что его можно назвать ребенком. Но по тому, чего он достиг, когда у него только стали прорезываться зубы, можно предсказать, какие чудеса он покажет в расцвете сил. Он так молод, что иностранные туристы еще не слышали о нем и еще не бывали здесь. В течение шестидесяти лет иностранный турист путешествовал вверх и вниз по реке, между Сент-Луисом и Новым Орлеаном, а потом отправлялся домой и писал книгу, считая, что видел на реке все, достойное обозрения, все, что можно увидеть. Из шести таких книг ни в одной нет упоминания о городах в верховьях реки, потому что те пять-шесть туристов, которые проникли в этот край, были там раньше основания этих городов. Самый последний нз этих туристов (в 1878 году) проделал тот же обычный путь, — и он не слышал, что севернее Сент-Луиса что-нибудь есть.
А там есть многое. Там изумительный край с множеством больших городов, которые спроектированы, так сказать, позавчера и на следующее утро построены. В десятках двух из них населения от полутора до пяти тысяч. Потом идет Маскатин —десять тысяч; Уинона — десять тысяч; Молия — десять тысяч; Рок-Айленд — двенадцать тысяч; Ла-Кроос — двенадцать тысяч; Берлингтон — двадцать пять тысяч; Дубьюк — двадцать пять тысяч; Давенпорт — тридцать тысяч; Сент-Пол — пятьдесят восемь тысяч и Миннеаполис — шестьдесят тысяч, если не больше.
Иностранный турист никогда об этих городах не слыхал. У него в книге даже нет упоминаний о них. Города выросли за ночь, пока он спал. Этот край до того молод, что даже я, человек сравнительно не старый, все-таки старше его. Когда я родился, все население Сент-Пола состояло из трех человек; население Миннеаполиса было втрое меньше. Тогдашнее «население» Миннеаполиса умерло два года тому назад; это «население» видело перед смертью, как оно за сорок лет возросло на пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять человек. Плодовитость — как у лягушки!
Должен пояснить, что вышеназванные цифры населения Сент-Пола и Миннеаполиса уже устарели на несколько месяцев. Эти города сейчас гораздо больше. Я только что видел газетную сводку, где населения Сент-Пола насчитывают семьдесят одну тысячу, а населения Миннеаполиса — семьдесят восемь тысяч. Моя книга попадет в руки читателей не раньше чем через шесть или семь месяцев, — все цифры к тому времени ничего не будут стоить.
Мы мельком видели Давенпорт; он тоже красив и увенчивает холм, — впрочем, такое описание подходит ко всем этим городам: все они красивы, хорошо построены, чисты, аккуратны, приятны с виду, производят прекрасное впечатление, и все они расположены на холмах. Поэтому оставим эту фразу в покое. У индейцев есть предание, что Маркет и Жолие в 1673 году разбили лагерь там, где сейчас стоит Давенпорт. Следующий белый человек расположился там через добрых сто семьдесят лет — в 1843 году. Давенпорт набрал свои тридцать тысяч населения за тридцать лет. Сейчас там в школах учится больше детей, чем было всех жителей двадцать три года назад. В городе, как везде в верховье реки, полный комплект фабрик, газет и учебных заведений; там есть телефоны, местный телеграф, электрическая сигнализация и превосходная наемная пожариая команда, состоящая на шести рот, с крюками, лестницами и четырьмя паровыми пожарными насосами; там есть также тридцать церквей. Давенпорт—официальная резиденция двух епископов: англиканского и католического.
Против Давенпорта лежит цветущий городок Рок-Айленд, расположенный у Верхних порогов. Большой железнодорожный мост соединяет оба эти города. Это один из тринадцати мостов, которые раздражают лоцманов и самое Миссисипи между Сент-Полом и Сент-Луисом.
Очаровательный остров Рок-Айленд, в три мили длиной и полмили шириной, принадлежит Соединенным Штатам, и государство превратило его в чудесный парк, посредством искусства увеличив естественную его привлекательность и прорезав ого чудесные леса многомильными дорогами. В центре острова сквозь деревья можно разглядеть десять громадных каменных четырехэтажных зданий; каждое занимает площадь в целый акр. Здесь помещаются государственные мастерские, ибо Рок-Айленд — это национальный арсенал.
Мы поднимаемся но реке, все время по чарующей местности — другой на верхней Миссисипи не бывает; проходим мимо города Молила—большого фабричного центра, мимо Клинтона и Лайонса — больших центров лесообработки, и подходим к Дубьюку, расположенному в районе, богатом рудными ископаемыми. Свинцовые копи очень богаты и велики. В Дубьюке много всяких заводов, и среди них — завод плугов, у которого есть заказчики во всем мире. Так по крайней мере заявил мне агент этой фирмы, который был с нами на пароходе. Он сказал:
— Покажите мне любую страну под солнцем, где умеют пахать по-настоящему, и если на плуге, которым они пашут, нет нашей марки, я готов съесть этот плуг; съем — и даже горчичного соуса не попрошу для приправы!
Вся эта часть реки связана с индейской историей и богата преданиями. Имя Черного Ястреба было так же известно здесь, как имя Киокака ниже по течению.
В нескольких милях ниже Дубьюка находится Tete de Mort (Мертвая Голова) обрыв или скала, на вершину которой французы когда-то встарь загнали отряд индейцев и окружили их, так что индейцам грозила верная смерть, оставалось только выбирать: умереть с голоду или спрыгнуть вниз и разбиться. Черный Ястреб к концу жизни принял обычаи белых людей; когда он умер, его похоронили около Де-Мойна по— христианскн, хотя и с соблюдением некоторых индейских обрядов, — иначе говоря, его одели в христианский военный мундир, дали в руки христианскую трость, но в могилу опустили в сидячем положении. Прежде с вождем всегда хоронили коня. То, что коня заменили тростью, указывает, насколько смирилась высокомерная натура Черного Ястреба — ибо он, следовательно, на том свете собирался ходить пешком.
Мы заметили, что выше Дубьюка вода в Миссисипи оливково-зеленая — густой красивый цвет, полупрозрачный под солнцем. Конечно, сейчас вода нигде не была так чиста и не имела такого чудесного цвета, как в другие времена года, — сейчас река стояла очень высоко и была мутной и грязной от примеси почвы размытых берегов.
Величественные утесы, нависшие над рекой на всем этом участке, чаруют глаз красотой и разнообразием форм, мягкой прелестью своих уборов. Над крутым зеленеющим откосом, чье подножье у края воды стоит, словно высокое укрепление, — изломы громоздящихся скал, восхитительно-сочной мягкой окраски от темно-коричневой до густо-зеленой, подцвеченной всеми оттенками. А сверкающая река вьется, меняя направление; иногда ее сжимают группы лесистых островов, прорезанных серебряными протоками; мелькают дальние деревни, спящие на мысах; медлительные плоты ползут в тени лесной стены; белые пароходы скрываются за дальними поворотами. И все тихо и покойно — словно во сне, словно нет вокруг ничего земного и ни о чем не надо волноваться или тревожиться. Покуда не налетит нечестивый поезд — что он проделывает довольно часто: он рвет благостную тишину в клочья дьявольским воинственным кличем, грохотом и громом мчащихся колос и сразу возвращает нас на землю, — и тут возникает одна из земных забот: вы вспоминаете для вящего развлечении, что это именно та самая дорога, чьи акции всегда падают, после того как вы их купите, и всегда подымаются, как только вы их продадите. До сих пор я содрогаюсь при воспоминании о том, как я однажды никак не мог избавиться от своих акций и они чуть не застряли у меня. Должно быть, страшно, когда целая железная дорога остается у тебя на руках.
Почти на всем пути от Сент-Луиса до Сент-Пола, то есть на расстоянии восьмисот миль, мы видим паровозы. Эта железная дорога наделала бед пароходству. Кассир нашего парохода служил пароходным кассиром еще до постройки железных дорог. и то дни наплыв населения был так велик и грузооборот так обширен, что пароходы не могли справиться со всеми требованиями, поэтому капитаны держали себя очень независимо и небрежно — здорово «задавались», как выразился бы «Дядюшка Римус». Наш кассир кратко и выразительно объяснил нам разницу между нынешним временем и стариной:
«Пароход пристал — капитан на мостике; стоит прямой, чинныйжелезный стержень вместо позвоночника, лайковые перчатки, сногсшибательный цилиндр, пробор до затылка. Человек на берегу снял шляпу, говорит:
— У меня двадцать восемь тонн пшеницы, капитан, — сделайте одолжение, возьмите!
А капитан в ответ:
— Две возьму, — и даже не снизойдет, но взглянет на него.
А теперь капитан снимает свою старую шляпу и улыбается все время до ушей и так кланяется, будто у него и позвоночника никогда не бывало, и говорит:
— Рад вас видеть, Смит, рад вас видеть. У вас прекрасный вид, я уж давно вас не видел в таком цветущем состоянии. Ну, что же вы для нас припасли?
— Ничего, — буркнет Смит и даже шапки не снимет; повернется спиной и заведет разговор с кем-нибудь другим.
Да, восемь лет назад капитан был выше всех, а нынче пришел черед Смита. Восемь лет назад, бывало, на пароходах все каюты переполнены, и в каждой каюте на полу люди лежали в пять-шесть рядов, чуть ли не друг на дружке, да палуба битком набита переселенцами, да добавьте еще жнецов внизу, в трюме. Чтобы получить отдельную каюту первого класса, надо было доказать, что в вашей семье объединено не меньше шестнадцати фамильных гербов, что вашему роду не меньше четырехсот лет, либо завести личное знакомство с негром, чистящим сапоги капитану. Теперь все изменилось: свободных кают наверху сколько угодно, и никаких жнецов внизу, — сейчас есть патентованные сноповязалки, и жнецы исчезли. Уехали на тридевять земель. Да и уехали-то они не на пароходе, а в поезде».
В этих краях мы встретили целые акры бревенчатых плотов, спускавшихся по течению, но они не плыли медленно, как бывало, с веселой, отчаянной, бесшабашной командой орущих песни, пьющих, пляшущих до упаду головорезов, — нет, всю вереницу быстро тянул мощный буксир с колесом за кормой — последнее слово техники; а небольшие команды состояли из спокойных, аккуратных людей, имевших солидный, деловой вид, — и ни намека на былую романтику вы бы в них не нашли.
Однажды, темной ночью, мы с помощью электрического освещения прошли несколько необычайно запутанных и узких проток. За нами стояла плотная тьма — стена без единой трещины; впереди узкая излучина, вьющаяся меж двумя стенами густой листвы, которая почти касалась наших бортов, и каждый отдельный листочек, каждая отдельная струя были видны в естественной окраске и залиты сиянием, ярким, как полуденное солнце. Картина была странная, очень красивая и очень эффектная.
Мы прошли мимо Прери-ду-Шен—тоже одно из мест, где останавливался отец Маркет, —— и через несколько часов пути но очень разнообразной и красивой местности прибыли в Ла-Кросс. Это город с двенадцатью — тринадцатью тысячами населения, с улицами, освещенными электричеством, и целыми кварталами домоп, настолько импозантных и я архитектурном отношении интересных, что ими мог бы гордиться любой город. Ла-Кросс превосходный город, и мы очень хорошо использовали час стоянки, исходив его вдоль и поперек, хотя погода была дождливее, чем требовалось.
Глава LIX. ПРЕДАНИЯ И ПЕЙЗАЖИ
В Ла-Кроссе к нам прибавилось несколько новых пассажиров; в числе прочих старый джентльмен, который прибыл сюда, в Северо-Западный край, с первыми поселенцами и знал здесь каждый уголок. Он очень гордился этим (что вполне простительно). Он говорил:
— Вы найдете между этим местом и Сент-Полом виды, которые дадут сто очков вперед Гудзону. Туг будет Скала Королевы в семьсот футов высотой — с любой скалой поспорит; затем вы увидите остров Тремпло, которому нет подобного во всей Америке, как я полагаю, ибо это гигантская гора с обрывистыми краями; он просто кишит индейскими легендами, а встарь кишел и гремучими змеями; если вы застанете его при солнце, вы увидите незабываемое зрелище. А за Уиноной будут прекрасные луга; затем идет Тысяча островов — их просто и описать невозможно, так они хороши. Зелень? Да вам нигде не увидеть такой зеленой, такой густой листвы! Точно тысяча плюшевых подушек плавает по зеркалу — это при тихой погоде; а чудовищные обрывы по обеим сторонам реки — крутые и темные — превосходное обрамление: сами знаете, что нужна строгая рамка, чтобы оттенить красоту нежного рисунка и выделить ее!
Старый джентльмен рассказал нам две-три трогательные индейские легенды — правда, не особенно интересные.
После этого исторического отступления он снова вернулся к пейзажу и стал его описывать необычайно подробно, от Тысячи островов до Сент-Пола; он сыпал названиями с такой беглостью, он так легко и непринужденно развивал эту тему, вставляя тяжеловесные слова с таким небрежным видом (для меня, мол, это пустяки, могу в любое время повторить) и тут же отпуская, в виде неожиданного сюрприза, такие перлы красноречия с такими обдуманными интервалами, что я скоро стал подозревать…
Впрочем, не важно, что я стал подозревать. Послушайте его:
— В десяти милях от Уиноны мы подходим к Фаунтин-Сити, очаровательно гнездящемуся у подножья скал, которые, словно Юпитер, вздымают свое грозное чело к лазурным глубинам небес, омывающих их девственно-чистым воздухом, не знавших иных касаний, кроме касаний ангельских крыл.
Дальше мы скользим по серебристым водам, среди упоительных, невыразимо прекрасных пейзажей, заставляющих наши сердца трепетать от нежного восторга; проходим двенадцать миль—и достигаем Маунт-Вернона, скалы в шестьсот футов высотой; поэтические развалины некогда существовавшего там первоклассного отеля вздымаются в тени облаков, пестрящих ее головокружительные высоты; это единственное, что уцелело от когда-то цветущего города Маунт-Вернона, старинного города, ныне разрушенного и совершенно покинутого.
Наш путь продолжается. Вот мы проносимся мимо Чимни-Рока — внушительной скалы в шестьсот футов; вот, недалеко от пристани Минниеска, наше внимание привлечено совершенно поразительным мысом в пятьсот футов высотой, имеющим форму правильной пирамиды; его конические очертания, густая поросль леса, опоясывающая его, его конусовидная вершина пробуждают в зрителе чувство изумления пред творениями природы; с этих головокружительных высот открывается великолепный вид на леса, потоки, скалы, горы и долы на мили вокруг. Можно ли представить себе более величественную обстановку на реке, чем когда с вершин этих скал глядишь в лежащие под ними долины, созерцая чарующие пейзажи? Первобытная нетронутость и внушающее благоговение одиночество этих великолепных созданий природы и творца вызывают чувство безграничного восхищения, которое никогда не изгладится из памяти.
Затем идут Голова Льва и Голова Львицы, изваянные искусной рукой природы, дабы они украсили кpaсавицу реку и вознеслись над нею; а далее река вновь расширяется, и нашим взорам внезапно открывается вид прелестной и величавой долины: суровые холмы, одетые с вершины до подножья зеленеющими лесами, ровные луга, охватившие прекрасный Уобашо — город целебных вод, могучего врага Брайтовой болезни, и величайшее из творений природы — несравненное озеро Пепин, — все это представляет картину, на которую глаз туриста может взирать несчетные часы, с наслаждением ненасытным и неутомимым.
И мы скользим дальше; подходит час, когда мы приближаемся к величественным возвышенностям: мощной Сахарной Голове и великолепной Скале Девы; поэтическое суеверие позднейших лет наделило ее даже голосом; часто, когда березовый челнок скользит мимо нее в сумерки, смущенному гребцу мнится, что он слышит тихую, нежную музыку давно ушедшей Виноны, любимицы индейских песен и легенд.
Далее пред нашим взором встает Фронтенак — прелестный уголок для летнего отдыха усталых туристов; затем быстро растущий Ред-Уинг и Даймант-Блафф, внушительный и подавляющий своим одиноким величием; затем Прескотт и Сент-Крой, — и пот уже мы видим купола и шпили Сент-Пола — молодого гиганта, вождя всего Севера; семимильной поступью шагает он по пути прогресса, вздымая знамя самой высокой, самой новой цивилизации, прокладывая свой благодетельный путь томагавком предприимчивой торговли, бросая воинственный клич христианской культуры, срывая дымящийся скальп с отсталости и суеверия, дабы насадить паровые плуги и школы, — и перед пим блекнут беззакония, невежество, преступление, горе; и по его следам расцветают тюрьмы, виселицы и церковные кафедры; и…
— Вы когда-нибудь разъезжали с передвижной панорамой?
— Прежде я этим занимался.
Мое подозрение подтвердилось.
— И все еще разъезжаете?
— Нет, панорама свернута до открытия осеннего сезона. Я сейчас помогаю разрабатывать материалы к «Путеводителю для туристов», который нынче летом собирается издать Пароходная компания Септ-Пол—Сент— Луис в помощь путешественникам, едущим по их линии.
— Когда вы говорили о Скале Девы, вы упомянули о давно ушедшей Виноне, любимице индейских песен и легенд. Она и есть дева этой скалы? Легенда их как-нибудь связывает?
— Да, они связаны очень трагическим и грустным преданием. Это, вероятно, самое знаменитое и одно из самых трогательных преданий на Миссисипи.
Мы попросили его рассказать нам эту легенду. Он сразу переменил простой разговорный тон на тон лекторский и начал:
— На недалеком расстоянии от Лейк-Сити находится знаменитое место под названием Скала Девы; это не только живописный уголок: он полон поэтического обаяния, так как там разыгралась история, давшая скале это имя. Не так давно благодаря тамошней прекрасной охоте и рыбной ловле это место было любимым пребыванием индейского племени Сиукс, и в окрестностях всегда находилось много индейцев. Среди семей, живших поблизости, была одна семья, принадлежавшая к племени Уобаш. Девушку, которая дала клятву верности своему возлюбленному из того же племени, звали Винона (перворожденная). Но суровые родители обещали ее руку другому — знаменитому войну, и настаивали на их браке. К великому горю девушки, родители назначили день брака. Она притворилась, что согласна, и отправилась с родителями на скалу, чтобы нарвать цветов для празднества. Когда они пришли на скалу, Винона взбежала на вершину и у самого края пропасти начала укорять своих родителей, стоявших внизу, за их жестокость, а потом запела предсмертную песню и бросилась с обрыва, размозжив их вдребезги о камень.
— Размозжив кого — своих родителей?
— Ну, это действительно, как вы говорите, трагическая история. И более того — в ней совершенно неожиданная драматическая развязка, какой и не ожидал. Видно, старые, затрепанные индейские предании основательно переработаны. По берегам Миссисипи есть по крайней мере пятьдесят скал «Прыжок Влюбленных», с вершины которых прыгали отчаявшиеся индейские девушки, — но это единственный прыжок, который окончился справедливо и удачно. Что стало с Виноной?
— Она сильно разбилась и исцарапалась; но она все же собрала силы и скрылась, прежде чем власти прибыли на роковое место; говорят, что она отыскала своего возлюбленного, вышла за него замуж и ушла с ним в дальние края, где жила счастливо до конца дней, а нежная ее душа еще более смягчилась и очистилась после романтического происшествии, которое так рано лишило ее нежной любви матери и надежной защиты отца и бросило, без друзей и близких, на милость холодного, безучастного света!
Я был доволен, что услышал описания местности от этого лектора: они помогли оценить увиденное и дали возможность вообразить то, что мы не могли видеть с наступлением ночи.
Как заметил лектор, вся местность буквально усеяна индейскими легендами и преданиями. Но я ему напомнил, что обычно люди только упоминают об этом — да так, что у человека слюнки текут, — и предусмотрительно на этом останавливаются. Почему? Потому что остается впечатление, что в этих сказках масса интересных событий, много фантазии, — впечатление очень приятное, но оно немедленно рассеялось бы, если бы рассказать эти легенды. Я показал лектору целую груду таких произведений, собранных мною, и он признал, что это жалкий хлам, удивительно унылая ерунда, а я осмелился добавить, что легенды, которые он рассказал, тоже все в том же роде, и единственное исключение — поразительная история Виноны. Он согласился со мной, но добавил, что, если я разыщу книгу Скулкрафта, которая вышла около пятидесяти лет тому назад и, вероятно, сейчас распродана, я найду в ней кое-какие индейские рассказы, о которых не скажешь, что они лишены фабулы и фантазии, как не скажешь этого о легендах «Гайаваты», — которые взяты из книги Скулкрафта, — и что в этой книге есть еще много легенд, которые мистер Лонгфелло мог бы с успехом переложить стихами. Например, там есть легенда о «Неумирающей Голове». Он не может ее передать, так как многие подробности стерлись из его памяти, но он очень советует мне отыскать легенду и составить по ней более высокое мнение о фантазии индейцев. Он сказал, что эта легенда, да и многие другие легенды в этой книге были очень популярны среди индейцев в этой части Миссисипи, когда он сам сюда впервые приехал, и что лица, дававшие материал для сборника Скулкрафта, записывали легенды непосредственно со слов индейцев, и записывали совершенно точно, без всяких прикрас,
Я разыскал эту книгу. Лектор был прав. В книге есть несколько легенд, которые подтверждают его слова. Я предложу читателю две из них: «Неумирающую Голову» и «Пибоан и Сигуан — аллегория о временах года». Последняя вошла в «Гайавату»; но ее стоит прочесть в подлинном виде, хотя бы для того, чтобы увидеть, какой сильной может быть истинная поэма без подспорья красот поэтического метра и ритма.
ПИБОАН И СИГУАН
Старик сидел одиноко в хижине на берегу застывшего ручья. Подходила зима, а его очаг почти потух. Он казался очень старым и очень беспомощным. Его кудри побелели of времени, и он дрожал всем телом. День за днем проходили в одиночестве, и он не слышал ничего, кроме воя вьюги, наметавшей свежевьтпавший снег.
Однажды, когда его огонь совсем угасал, к хижине приблизился прекрасный юноша и вошел в дверь. На его щеках горела румянцем юная кровь, глаза искрились оживлением, на губах играла улыбка. Легки и быстры были его шаги. На лбу вместо повязки воина был венок из душистых трав, а в руке он держал букет цветов.
— Сын мой, — проговорил старик, я рад видеть тебя. Войди! Войди и расскажи о своих приключениях. Поведай, какие чужие страны посетил ты. Проведем ночь вместе. Я расскажу тебе о своей доблести и своих подвигах, о том, что я умею делать. И ты ответишь мне тем же, — мы хорошо проведем время.
И он вынул из сумки старинную трубку с причудливой резьбой и, наполнив ее табаком, мягким от примеси особых листьев, вручил гостю. Когда эта церемония была закончена, они начали беседу.
— Я дуну — и потоки останавливаются, — сказал старик. — Вода делается плотной и твердой, словно прозрачный камень.
— Я дохну, — сказал юноша, — и цветы расцветают в долине.
— Я тряхну волосами, — проговорил старик, — и снег покрывает землю. Листья падают с деревьев по моему приказу, и дыхание мое уносит их прочь. Птицы подымаются с воды и улетают в дальние страны. Звери прячутся от моего дыхания, и даже земля становится тверже кремня.
— Я тряхну кудрями, — отвечал юноша, — и теплые потоки ласкового дождя падают на землю. Растения выглядывают из земли, раскрываясь, точно сияющие от радости детские глаза. Мой голос призывает птиц. Тепло моего дыхания расковывает реки. Музыка наполняет леса там, где я прохожу, и вся природа ликует.
Наконец взошло солнце. Нежное тснло разлилось по хижине. Речь старика смолкла. Реполов и малиновка запели на крыше. У дверей забормотал ручей, и весенний ветер мягко донес свежий аромат молодой травы и цветов.
При дневном свете юноша сразу узнал, кто его собеседник. Он увидел ледяное лицо Пибоана[24]. Ручьи потекли из глаз старика. Солнце грело все жарче, и он становился все меньше, меньше, а потом совсем растаял. На месте его очага не осталось ничего, кроме мискодида — маленького белого цветка с розовым ободком, который одним из самых первых распускается на севере,
«Неумирающая Голова» — довольно длинная сказка, но зато ее длинноты искупаются жутью вымысла, фантастическими подвигами, разнообразными приключениями и живостью действий.
Глава LX. РАЗМЫШЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Мы прибыли в Сент-Пол вместе с первыми из судов, идущих по Миссисипи, и тут окончилось наше двухтысячемильное путешествие от Нового Орлеана. Путь на пароходе занял около десяти дней. По железной дороге, вероятно, можно его проделать быстрее. Я так сужу, ибо знаю, что можно проехать поездом от Септ-Луиса до Ганнибала — около ста двадцати миль — за семь часов. Но это, как-никак, лучше, чем идти пешком, вот только бы никуда не надо было торопиться.
Когда мы были в Новом Орлеане, весна была уже на исходе, с роз и магнолий осыпались цветы, — но здесь, в Сент-Поле, еще шел снег. В Новом Орлеане до нас подчас долетало испепеляющее дыхание — словно из кратера вулкана; здесь, в Сент-Поле, мы ощущали леденящее дуновение — будто с ледника.
Я никого не собираюсь удивлять этими фактами. Ведь совершенно естественно, что должна быть резкая разница в климате между местами, лежащими в разных широтах, разделенными расстоянием в две тысячи миль. Я принимаю эту истину и буду утверждать ее, несмотря на газеты. Газеты считают, что в этом есть нечто сверхъестественное, и раз в году, в феврале, с проскальзывающими в их интонациях восклицательными знаками, они сообщают, что, пока мы здесь, на севере, боремся со снегом и льдом, там, на юге, поспевает свежая земляника и зеленый горошек, цветут олеандры и люди жалуются на жару.
Газеты никак не могут привыкнуть к этому. Регулярно, каждый февраль, они повергаются в изумление. Тут кроется какая-то тайна, она, очевидно, заключается в смене лиц за редакторским с,толом. Одного человека никак не удивишь больше двух раз одним и тем же чудом —даже февральскими чудесами южного климата; но если каждый год или два менять людей за редакторским столом и не делать им предохранительных прививок против ежегодных климатических удивлений, та же старая история будет повторяться и повторяться. Каждый год новый работник заражается этой болезнью и только потом становится невосприимчив к ней; но это но спасает газету. Нет, газета в очень скверном положении: вечно появляются новые работники, и всю свою жизнь газета в феврале испытывает припадки земляничного удивления. Новый работник излечим, сама газета—неизлечима. Пожалуй, постановление конгресса… впрочем, нет — конгресс не мог бы запретить земляничное удивление, не превысив значительно свои права. Поправка к конституции, пожалуй, помогла бы, и, очевидно, это самый быстрый и лучший способ достигнуть цели. Опираясь на такую поправку, конгресс мог бы ввести закон, грозящий пожизненным тюремным заключением за первое преступление и какой-нибудь мучительной смертью — за повторные случаи; и это, несомненно, сразу обеспечило бы нам спокойствие. Одновременно эту поправку и новый, вытекающий из нее, закон можно было бы применить и ко многим подобным преступлениям — например, к ежегодному «ветерану, который голосовал за всех президентов, начиная от Вашингтона, и который вчера явился на выборы с тем же ясным взглядом, той же твердой походкой, как всегда», и еще к десяти или двенадцати другим унылым ежегодным чудесам вроде «старейшего франкмасона», «старейшего печатника», «старейшего баптистского проповедника», «старейшего питомца университета» и тому подобных, а также и ко всяким «тройням» и прочее.
И, наверное, Англия взяла бы с нас пример и провела закон, запрещающий дальнейшее употребление острот Сиднея Смита, и назначила бы уполномоченного для создания новых острот. И жизнь стала бы прекрасной мечтой, полной покоя и тишины, и люди перестали бы грезить о рае.
Но я уклоняюсь от своей темы. Сент-Пол — чудеснейший город. Он состоит из солидных кварталов, из честного кирпича и камня, и вид у него такой, будто он собирается существовать вечно. Почта в нем была учреждена тридцать шесть лет тому назад, и когда через некоторое время почтмейстер получил письмо, он отвез его верхом в Вашингтон, чтобы узнать, что с ним делать. Так гласит предание, В тот год было выстроено два бревенчатых дома и к населению прибавилось несколько человек. В последнем номере центральной местной газеты «Пайонир пресс» есть некоторые статистические данные, какой резкий контраст со старым положением вещей: населения на осень нынешнего (1882) года 71000 человек; количество врученных писем за первое полугодие — 1 209 387; количество домов, построепных в первые три четверти года,— 989; их стоимость — 3 186 000 долларов. Прирост количества писем против соответствующих шести месяцев прошлого года — на пятьдесят процентов. В прошлом году город обогатился новыми постройками на 4 500 000 долларов. Сила Сент-Пола — в его торговле. Он, конечно, город промышленный, как, впрочем, и все города этого района, — но в нем особенно процветает торговля. В прошлом году было совершено торговых сделок свыше чем на 52 000 000 долларов,
В Сент-Поле есть таможня, и сейчас там строят дорогое здание Капитолия вместо недавно сгоревшего: ведь Сент-Пол — столица штата. В нем бесконечное количество церквей — и но простых, не бедных церквей, но таких, какие возводят богатые протестанты, или таких церквей, на построение которых со столь великим удовольствием подают бедные ирландские служанки. До чего же ирландская служанка питает страсть к постройке величественных церквей! Это, конечно, очень полезно для нашей архитектуры, но мы часто любуемся прекрасными храмами и не вспоминаем с благодарностью о той, что их построила.
И правда, вместо того чтобы вспомнить, что «каждый кирпич в этих прекрасных зданиях, каждый камень воплощает боль и печаль, капли пота и долгие часы тяжелой усталости и что они построены на согбенных спинах, на потных лбах и ноющих костях бедноты», мы обычно совершенно забываем такие вещи и только восхищаемся самим внушительным храмом, ни разу не похвалив мысленно скромного их строителя, чье широкое сердце и оскудевший кошелек воплощены в этом здании.
Здесь — царство библиотек и школ. В Сент-Поле 3 общественных библиотеки, и в них собрано около 40 000 книг. В городе 116 школ, и жалованье учителям составляет больше 70 000 долларов в год.
Железнодорожный вокзал замечательно красив. По правде сказать, он так велик, что сперва даже показался слишком большим; но через несколько месяцев выяснилось, что допущена ошибка явно противоположного свойства. Придется ее исправить.
Город стоит на высоком месте — около семисот футов над уровнем моря. Это настолько высоко, что с его улиц открывается широкий вид на реку и долниу.
Право, это удивительный город, и он еще не закончен. Все улицы загромождены строительным материалом, и из него складывают дома как можно быстрее, чтобы освободить место для других строительных материалов: ведь и другие торопятся строить, как только освободится улица под их кирпич и всякий прочий материал.
Сколько величия и краеоты заключено в мысли, что первым пионером цивилизации, вожатым цивилизации, был не пароход, не железная дорога, не газета, не воскресная школа, не миссионер — а всегда виски! Да, это так. Просмотрите всю историю — и увидите сами. Мисспонер идет за виски, — я хочу сказать, что он прибывает, когда виски уже прибыло; затем идет бедный переселенец с топором, мотыгой и ружьем; затем — торговец; затем начинается нашествие всякого народа; затем появляется игрок, гуляка, грабитель и вся их родня во грехе обоего иола; а затем — ловкий малый, который купил старую закладную на всю эту землю. Это привлекает стаю адвокатов; появляется комитет общественной безопасности, а вслед за ним и гробовщик. Все эти интересы создают газету; газета порождает политику и железную дорогу; все сообща начинают строить церковь и тюрьму, и глядишь — цивилизация навеки укоренилась в краю. Однако, как видите, вожатым благодетельной этой работы было виски. Виски всегда идет первым. Только иностранец мог (и только иностранцу простительно) не знать этой великой истины и обращаться к астрономии за символом. Если бы он был лучше знаком с фактами, он бы оказал:
«Бутыль империи грядет на запад…»
Великий этот вожатый появился иа месте, где стоит Сент-Пол, в июне 1837 года. Да, именно тогда канадец Пьер Парран построил первую хижину, откупорил свою бутыль и начал продавать виски индейцам. Результат — у нас перед глазами.
Все, что я говорил о новизне, быстром росте, богатстве, культурности, красивой и прочной архитектуре и вообще о бойкости, о росте и энергии Сент-Пола, относится и к его ближайшему соседу—Миннеаполису, с тем добавлением, что последний — больше первого.
Оба эти необыкновенных города несколько месяцев тому назад стояли на расстоянии десяти миль, но растут они так быстро, что сейчас, возможно, они уже соединились и живут под началом одного мэра. Во всяком случае, в течение пяти ближайших лет они будут так прочно связаны цепью построек, идущих от одного города к другому и соединяющих их, что посторонний человек не сможет сказать, где кончается один сиамский близнец и где начинается другой. В обоих вместе тогда будет насчитываться 250 000 населения, если они будут продолжать расти, как растут сейчас. И тогда центр верхней Миссисипи начнет соревноваться по численности населения с центром низовьев реки — с Новым Орлеаном.
Миннеаполис расположен у водопадов Сент-Антони, которые тянутся поперек реки на 1500 футов и имеют падение в 82 фута, и эта сила падения, искусно использованная, представляет собой неизмеримую ценность в коммерческом отношении, но, конечно, не без ущерба водопадам — как зрелищу или как фону, на котором можно фотографироваться.
Тридцать мельниц ежегодно дают 2 000 000 бочек самой лучшей муки; двадцать лесопильных заводов дают 200 000 000 футов деловой древесины; кроме того, там есть шерстепрядильные фабрики, бумажные и хлопчатобумажные фабрики, маслодавильни, а всяких поделочных, гвоздильных, мебельных, бондарных и других заведений не счесть; большие мельницы здесь и в Сент-Поле применяют «новый метод»: зерно перемалывается не жерновами, а вальцами.
Шестнадцать железнодорожных линий скрещиваются в Миннеаполисе, и шестьдесят пять пассажирских поездов прибывают и отбывают ежедневно.
В этом городе, как и в Сент-Поле, процветает периодическая печать — тут выходят три большие ежедневные газеты, десять еженедельников и три ежемесячника.
Здесь есть и университет с четырьмястами студентов, и, — что еще существеннее, — он несет просвещение не только сильному полу. Шестнадцать общественных школ расположены в зданиях стоимостью в 500 000 долларов, в них обучаются 6000 учеников и занято 128 преподавателей. В городе 70 церквей и еще предполагается возвести довольно много. Прибыли банков составляют около 3000 000 долларов, а торговые обороты города достигают 50 000 000 в год.
Около Сент-Пола и Миннеаполиса находится несколько интересных мест: форт Снеллинг — крепость, стоящая на прибрежном обрыве в сто футов высотой; водопады Миннегаги; озеро Белого Медведя и так далее. Красивейшие водопады Миннегаги достаточно прославлены, — им уже не нужна моя протекция. Озеро Белого Медведя менее известно. Это прелестное озеро служит местом летнего отдыха для избранной и богатой публики штата. Тут есть свой клуб, своя гостиница со всеми современными усовершенствованиями и комфортом; есть прекрасные летние дачи и много мест для рыбной ловли, охоты и катанья. Вблизи Сент-Пола и Миннеаполиса расположено около десятка летних курортов, но озеро Белого Медведя — самый изысканный из всех. С этим озером связана совершенно идиотская легенда. Я хотел бы побороть искушение и не печатать ее тут, но это выше моих сил. Путеводитель называет имя записавшего эту легенду и с похвалой отзывается о «легкости его пера». Без дальнейших комментариев и задержек запустим это самое «легкое перо» в читателя:
ЛЕГЕНДА ОБ ОЗЕРЕ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ
Каждую весну, в течение целого столетия, а может быть, с тех пор, как существуют краснокожие, на озеро Белого Медведя, на один из островов в середине его, приходило племя индейцев добывать кленовый сахар.
Предание рассказывает, что много весен тому назад, во время пребывания на острове молодой воин полюбил дочь вождя и добивался ее руки; и говорят, что и девушка любила воина. Но ее родители неуклонно отказывали ему: старый вождь считал, что юноша недостаточно храбр, а его престарелая супруга звала юношу бабой!
Солнце зашло за «сахарное дерево», и сверкающий месяц стоял высоко в сверкающем синем небе, когда молодой воин взял свою флейту и ушел один, чтобы еще раз сыграть на ней песню своей любви; тихий ветер слегка колебал два ярких пера в его головном уборе, а когда он уселся на ствол наклоненного дерева, мокрый снег тяжело упал с его ног. Когда он поднес флейту к губам, одеяло соскользнуло с его крутых плеч и легло краем на снег. Он начал свою дикую, странную любовную мелодию, но скоро почувствовал, что зябнет, а протянув руку назад за одеялом, почувствовал, что чья-то невидимая рука осторожно одела его плечи. Это была рука его возлюбленной, его ангела-хранителя. Она села рядом с ним, и в этот миг они были счастливы, ибо у индейца любящее сердце, и его любовь благородна, как благородна свободная жизнь этого сына лесов. Большой белый медведь, говорит предание, думавший, очевидно, что полярный снег и мрачная зимняя стужа царят повсюду, предпринял путешествие на юг. В конце пути он подошел к северному берегу озера, что ныне названо его именем, спустился по берегу и бесшумно прошел по глубокому плотному снегу к острову. Это было в те же весенние сумерки, когда встретились наши влюбленные. Они покинули свое первое убежище и сидели среди ветвей большого вяза, нависшего над озером (дерево и поныне стоит там и возбуждает всеобщее любопытство и интерес). Боясь, что их накроют, они разговаривали почти шепотом и как раз собрались уходить, чтоб вернуться на стоянку пораньше и тем самым избежать подозрении. Внезапно девушка пронзительно вскрикнула так, что на стоянке все услышали ее крик, и, бросившись к юному воину, схватилась за его одеяло; нога девушки соскользнула, и она упала с дерева вместе с одеялом в мощные объятия страшного чудовища. В ту же минуту все, кто был на стоянке — мужчины, женщины и дети, — очутились на берегу, но ни у кого не было оружия. Крики и стоны вылетали изо всех уст. Что было делать? А между тем дикий белый зверь держал бездыханную деву в могучих объятиях, играя драгоценной добычей, как будто ему привычны были такие сцены. Но оглушительный крик влюбленного воина покрыл сотни голосов его единоплеменников. Метнувшись к своему вигваму, хватает он свой верный нож, одним прыжком долетает туда, где разыгралась жуткая , грозящая гибелью сцена, мчится но наклоненному дереву к месту, куда упало его сокровище, и со свирепостью бешеной пантеры прыгает на свою жертву. Животное обернулось и одним движением мощной лапы сжало обоих влюбленных, но в следующий миг воин ударом ножа открыл багровые хляби смерти, и умирающий медведь выпустил добычу.
В эту ночь никто не спал на стоянке индейцев, не спали музыканты, и не спали влюбленные — все от мала до велика плясали вокруг туши убитого чудовища; храброму воину вручили еще одно перо, и не успела наступить новая луна, как его живое сокровище стало владычицей его сердца. Их дети много лет играли на шкуре белого медведя, от которого и получило имя это озеро; и оба они, и дева и храбрец, долго помнили жуткую сцену и спасение, которое соединило их воедино, ибо ни Ки-си-ми-па, ни Ка-го-ка не могли забыть страшной встречи с громадным чудовищем, чуть не отправившим их в обетованную землю счастливой охоты.
Запутанная история! Сначала дева упала с дерева— она и одеяло; и зверь схватил ее и стал играть с ней — с ней и с одеялом; потом она опять каким-то образом упала на дерево, то есть упала вверх, а одеяло осталось; потом любовник идет домой, испуская военные клики, и возвращается «подкованный» — лезет на дерево, прыгает вниз на медведя, девушка тоже прыгает на него, — ведь она была на дереве, — снова занимает свое место в объятиях медведя вместе с одеялом, любовник всаживает нож в зверя и спасает — кого? одеяло? Нет, совсем не одеяло. Вы до того увлечены, до того заинтересованы судьбой этого одеяла — и вдруг, когда счастливый конец как будто неизбежен, вы абсолютно разочарованы: спасли только девушку. А ведь девушкой, в сущности, никто не интересуется; не она — главное лицо предания. Но ничего не поделаешь — на этом вас бросают, и вы остаетесь ни с чем; можете прожить хоть тысячу лет — и все равно вам не узнать, кому же досталось одеяло. Право, даже покойник мог бы выдумать лучшую легенду! И я имею в виду не свежего покойника, а человека, который мертв уже несколько недель, а то и месяцев.
Мы пустились в обратный путь и через несколько часов очутились в изумительном Чикаго — в городе, где все трут волшебную лампу и вызывают духов, где задумывают и совершают все новые, небывалые чудеса. Случайному посетителю безнадежно гнаться за Чикаго: город перерастает все его предсказания раньше, чем он успеет их выговорить. Тут все всегда ново, и каждый раз это не тот Чикаго, что вы видели, проезжая последний раз.
Пенсильванская железная дорога примчала нас в Нью-Йорк, не опоздав против расписания на всем пути и на десять минут; и тут окончилось самое чудесное путешествие в пять тысяч миль, какое я имел счастье проделать.
ПРИЛОЖЕНИЕ «А»
Поездка на спасательном пароходе, посланном «Таймс-Демократом» в затопленную наводнением область
(Из новоорлеанской галеты «Таймс-Демократ» от 29 марта 1882 года)
В четверг, в девять утра, «Сузи» покинула Миссисипи и вошла в Староречье, по крайней мере так в мое время называлось устье Ред-Ривер. Сюда слева вливался водный поток, который прорвал и затопил плотины плантации Чендлера, самого северного пункта в приходе Пойнт-Купе. Вода покрывала все это место, хотя плотины рухнули подавно. Скот согнали на большую плоскодонку, и, проезжая мимо, мы видели, как некормленые животные теснились там в ожидании какого-нибудь парохода, который взял бы баржу на буксир. На правой стороне реки лежит остров Тернбулл, а на нем — большая плантация, которая некогда считалась одной из самых плодородных в штате. До сих пор во время обычных наводнений река оставляла остров нетронутым, теперь же только широкая полена воды говорила о том, что здесь были поля. Местами виднелись верхушки окружавших плантацию насыпей, по почти вся она была затоплена.
Листья деревьев, с тех пор как река разлилась, стали зеленее и леса имеют веселый и свежий вид, но безбрежная водная пустыня портит это приятное зрелище. Мы проплываем милю за милей, — а вокруг одни только деревья, погруженные в воду до самых ветвей. Порой лишь вспорхнет лысуха и летит вперед над далеко расстилающейся безмолвной гладью. Иногда из-за кустов скользнет пирога и пересечет Ред-Ривер, направляясь к Миссисипи, но печальные гребцы ни разу не повернут головы, чтобы взглянуть на наш пароход. Пыхтение его звучит музыкой среди этого мрачного безмолвия, которое очень странно действует на человека. Это не мрачное безмолвие глубокого леса или темных пещер, а какая-то странная, торжественная тишина, заставляющая поневоле испытывать благоговейный страх. Сегодня утром мы проплыли мимо двух привязанных среди ивняка плотов, на которых приютились две негритянские семьи. Они, видимо, принадлежали к зажиточному классу, так как у них имелись съестные припасы и три-четыре живых свиньи. Плоты были площадью футов в двадцать, и перед импровизированным убежищем была насыпана земля, на которой они раскладывали огонь.
Течение в Атчафалае было очень сильно, Миссисипи давно питает симпатию к этому руслу, и стоит только посмотреть на нее там, чтобы убедиться в яростных усилиях реки найти кратчайший путь к заливу. В разных мелких суденышках, лодках, яликах, пирогах здесь большая нужда, и много их было украдено пиратствующими неграми, отводящими их туда, где их можно продать всего дороже. По словам мистера К. П. Фер— гюссона (владельца плантаций близ пристани Ред-Ривер, усадьба которого только что затоплена), весь соседний район жестоко пострадал. Верхняя дамба держалась так долго, что негры совсем перестали думать о возможности прорыва, и когда он случился, они оказались во власти воды. В четверг некоторых сняли с деревьев и крыш, но их остается еще очень много.
Только после такого путешествия по затопленной наводнением местности начинаешь ценить землю. Во время плавания по морю ее не ждешь и не ищешь, здесь же, среди дрожащей листвы, тенистых лесных опушек, едва виднеющихся крыш, — здесь ее высматриваешь. Обрадовался бы, кажется, и кладбищу, если бы могильные холмики оказались над водой. Русло реки здесь угадаешь только по отсутствию деревьев — и больше ни по чему. От форта Адамс на левом берегу Миссисипи до берега Рапидс-Периш расстилается водная равнина шириной около шестидесяти миль. Большая часть этого пространства была возделанной землей, в особенности по берегу Миссисипи и за Ред-Ривер. Когда мы вошли в Ред-Ривер, ее перерезало поперек сильное течение в том же направлении, в каком течет Миссисипи.
Через несколько часов мы достигли Блэк-Ривер. Едва мы двинулись по ней, как стали замечать следы катастрофы. Все ивы вдоль берегов стояли без листьев. Один человек, с которым беседовал наш корреспондент, рассказал, что у него было полтораста голов крупного скота и сто свиней. Как только вода стала подниматься, он начал гнать скот в высокое место, в Эвейельс, за тридцать пять миль отсюда, но потерял пятьдесят голов рогатого скота и шестьдесят свиной. Блэк-Ривер весьма живописна, даже когда ее берега покрыты водой. Ясень, дуб, камедное дерево и гикори растут так густо, что берега почти непроходимы, и когда удается проникнуть взглядом в какую-нибудь прогалину между деревьев, то во мраке различаешь только неясные очертания дальних стволов.
В нескольких милях вверх по реке глубина воды на затопленных берегах достигала полных восьми футов, и со всех сторон виднелись крыши хижин, еще державшиеся, несмотря на силу потока. Местами опрокинутую хижину окружали прибитые к ней водой бревна, образуя, может быть, ядро какого-нибудь будущего острова.
Чтобы сберечь уголь (так как его невозможно было достать ни в одном из тех пунктов, которые мы должны были проезжать во время нашей экспедиции), мы высматривали какую-нибудь поленницу дров. Когда наш пароход огибал мыс, мимо нас проскочила пирога, которою искусно управлял юноша; на носу сидела девушка лет пятнадцати, очень красивая, с великолепными черными глазами и скромными манерами. Юноша попросил у нас газету, которую ему и бросили, — юная пара направила свое утлое суденышко на волну, вздымаемую пароходом.
Дальше маленькая девочка, никак не старше двенадцати лет, проплыла в крохотном челноке, управляя им с ловкостью опытного гребца. Девочка была скорее похожа на индианку, чем на дитя белых, и когда у нее спросили, не боится ли она, — она засмеялась в ответ. Она выросла в пироге и могла плыть куда угодно. Она объяснила, что едет собирать ивовые листья на корм скоту и указала домик неподалеку, где на полу вода стояла на три дюйма. К задней двери дома был привязан плот, приблизительно в тридцать квадратных футов, обнесенный чем-то вроде изгороди; на этом плоту стояло шестнадцать коров и двадцать свиней. Семья жаловалась только на то, что теряет свой скот, и тотчас же доставила нам на барке запас дров.
Отсюда до Миссисипи, на протяжении пятнадцати миль, мы не встретили ни клочка земли над водой, и на тридцать пять миль к западу простирались воды разлившейся реки. Блэк-Ривер за один четверг, 23-го, поднялась на дюйм и три четверти и иочью продолжала подниматься. 11о мере того как мы продвигаемся вверх по реке, жилища начинают попадаться чаще, но все еще на расстоянии нескольких миль одно от другого. Почти все они покинуты, и пристройки унесены водой. В довершение этой унылой картины здесь, кажется, не осталось почти ни одного живого существа, и в безмолвии не слышно ни птичьего свиста, ни крика белки. Порой плеснет хвостом угрюмая щука и исчезнет в реке, но больше ни звука, все тихо — тишина мертвая. По реке плывет то чисто выбеленный курятник, то куча аккуратно расщепленных перекладин для изгороди, или дверь, или раздувшийся труп животного, торжественно конвоируемый парой коршунов, — это единственные птицы, которые встречаются здесь; они пируют на трупе, уплывая вместе с ним. Дешевая литография в рамке, изображающая солдата верхом, проплывает мимо, напоминая о чьем-то затопленном доме, лишившемся этого украшения.
Когда стемнело, двигаться дальше стало небезопасно; мы выбрали для стоянки место близ леса и пришвартовали пароход на ночь к большому камедному дереву.
Красивый серп лупы бросал мягкий свет на лес и реку, создавая картину, которая была бы прелестным художественным произведением, если бы художник сумел запечатлеть пейзаж на полотне. Движение машин прекратилось, пыхтение пара смолкло, и тишина сомкнулась над пами; и какая это была тишина! В лесу можно обычно услышать ночью кваканье лягушек, жужжанье насекомых или паденье сучьев; здесь же природа была нема. Из темных глубин леса, приделов этого храма, не слышалось ни одного звука, даже жур чанье воды замерло.
В пятницу утром, как только рассвело, все принялись за работу, и мы двинулись вверх по Блэк-Ривер. Утро было чудное, и река, текущая удивительно ровно, нарядилась в свой лучший убор. Цветы боярышника наполняли воздух восхитительным благоуханием, и не сколько птиц весело щебетали у берегов. Здесь деревья были больше и лес казался старее, чем по реке. Поля попадались чаще, чем возле устья реки, по картина была та же: трубы домов, торчащие среди полей, плавучие негритянские убежища, в суматохе привязанные к какому-нибудь дубу, от скромного жилища только верхушка крыши над водой. Встало солнце в багряном сиянии, и деревья засверкали разнообразными оттенками зелени. Нигде не выглядывает ни фута земли, и вода, видимо, поднимается и поднимается, так как достигает уже ветвей самых высоких деревьев. Все ивы, растущие вдоль берегов, стоят без листьев,— что показывает, как давно уже люди собирают этот корм скоту. Кто-то спросил у старика в пироге, хороший ли это корм для животных. Он перестал грести и ответил, горестно качая головой: «Что же, сэр, этого достаточно, чтобы сохранить тепло в их теле, а нам только того и нужно; вот со свиньями беда, особенно с поросятами. Они ужасно быстро дохнут. Но что же делать? Нам нечем больше кормить их».
На тридцать миль вверх от устья Блэк-Ривер вода расстилается от города Натчеза на Миссисипи до поросших соснами холмов Луизианы, то есть на пространствев семьдесят три мили, — и вряд ли здесь найдется местечко, которое было бы меньше чем на десять футов под водой. Течение в верховьях Блэк-Ри— вер стремится к западу. Это привело к тому, что воды Ред-Ривер оттеснены к области Калкашу, и Блэк-Ривер вливается в Ред-Ривер милях в пятнадцати от своего обычного устья, чего раньше не приходилось видеть даже самым старым лоцманам; вся вода, какая теперь перед нами, прпшла из Миссисипи.
Местность до самой Тринити, или, точнее, до Трои, расположенной немного ниже, покинута почти всеми жителями; остались те, у кого достаточно запасов для удовлетворения своих личных потребностей. Но скот у них болеет и очень быстро вымирает, так как заключение на плотах и корм, который ему достается, порождают болезни.
После короткой остановки мы снова двинулись в путь и скоро попали в такое место, где было много выгонов для скота, густо окруженных хижинами. Здесь новая картина бедствий. Внутри домов обитателями сооружены помосты из ящиков, на которые поставлена мебель. Столбики кроватей спилены наверху, так как потолок находится всего в четырех футах от импровизированного пола. У этих сооружений вид очень ненадежный, и они грозят каждую минуту быть смытыми. Подле домов, по грудь в воде, стоит совершенно невозмутимо рогатый скот. Он не двигается с места и терпеливо ожидает спасения. Это было удручающее зрелище: бедным животным, конечно, предстояла гибель, если не подоспеет помощь. Этой особенностью рогатый скот отличается от лошадей: лошадь, видя, что помощь не приходит, поплывет на поиски пищи, а корова будет стоять на месте, пока от истощения не упадет в воду и не утонет.
В половине первого с баржи на затопленном берегу наш пароход окликнули. Сделав поворот, мы подошли к ней и взяли на борт генерала Йорка. Он как раз в то время был занят спасением скота и радостно приветствовал пароход «Таймс-Демократа», сказав, что присутствие его здесь крайне необходимо и что сообщения о бедствии ничуть не преувеличены. Трудно даже представить себе, в каких условиях очутилось население. Вода стоит так высоко, что домам грозит большая опасность быть снесенными. Она уже достигает карнизов, а в этом случае всегда неминуема опасность, что дома будут смыты водой. Если это случится, много людей погибнет. Генерал рассказывал о мужественных усилиях жителей, пытавшихся спасти cвой скот; однако, по его мнению, погибло не менее двадцати пяти процентов. Две с половиной тысячи людей уже получили продовольствие из Трои, города на Блэк-Ривер, и генерал успел вывезти большое количество скота, по его оставалось еще очень много, и оставшийся жестоко страдал. Уровень воды теперь на восемнадцать дюймов выше, чем во время наводнения 1874 года, и от Видейлии до холмов Катахулы совсем не видно суши.
В два часа «Сузи» дошла до Трои, расположенной шестьюдесятью пятью милями выше устья Блэк-Ривер; здесь в Блэк-Ривер впадает слева Литл-Ривер, тотчас за нею — Уошито, а с правой стороны — Тенсо. Эти три реки, сливаясь, и образуют Блэк-Ривер. Троя, вернее — часть ее, расположена на трех больших индейских курганах и вокруг них; эти курганы округлой формы и возвышаются футов на двенадцать над нынешним уровнем воды. Они имеют около ста пятидесяти футов в диаметре, и отстоят друг от друга приблизительно на двестиярдов. Все дома города выстроены между этими курганами и потому все залиты водой на восемнадцать дюймов от пола. Эти холмы, насыпанные туземцами сотни лет тому назад, — единственное убежище от наводнения на протяжении многих миль. По приезде мы увидели, что на них теснится скот — отощавший, едва держащийся на ногах. Здесь всо перемешалось— овцы, свиньи, лошади, мулы и рогатый скот. Один из курганов в течение многих лет служил кладбищем, и теперь отощавшие коровы лежали на мраморных надгробных плитах, с удовольствием пережевывая кукурузу, привезенную сюда генералом Йорком. Здесь, как и в низовьях, бросалась в глаза удивительная ловкость, с которой женщины и девочки управляют маленькими пирогами. Дети сновали повсюду в этих весьма ненадежных челноках со всей беспечностью опытных гребцов.
Генерал Йорк организовал тут превосходную систему оказания помощи. он личпо обследует всякое место, откуда к нему обращаются, определяет, что нужно сделать, и затем немедленно отправляет туда зафрахтованные им два парохода с баржами, чтобы погрузить скот и перевезти его на поросшие соснами холмы и плоскогорья Катахулы. Генерал обосновался в Трое, и сюда приходят пароходы за запасами корма для скота. На противоположном берегу Литл-Ривер, левого притока Блэк-Ривер, между Литл-Ривер и Уошито, расположен город Тринпти, которому ежечасно грозит уничтожение. Он стоит гораздо ниже Трои, и в его домах вода поднялась на восемь-девять футов над полом. Мощный поток несется через город, и удивительно, что ни один дом еще до сих пор не обрушился. Жители обоих городов — Трои и Тринити — уже получили помощь, но часть их скота еще нуждается в корме.
Как только «Сузи» добралась до Трои, ее передали в распоряжение генерала Йорка для скорейшей подачи помощи населению. Почти все привезенные нами запасы были выгружены на один из курганов, чтобы облегчить пароход, и его направили вниз по реке, на помощь населению тех мест. Подле усадьбы Тома Хупера, в нескольких милях от Троп, «Сузи» взяла на буксир большую 6apжy с грузом около пятидесяти голов скота. Животных накормили, и они вскоре немного оправились. Сегодня мы держим путь на Литл-Ривер, в область, пострадавшую сильнее всего.
Вниз по Блэк-Ривер
Суббота, 25 марта, вечер.
Выйдя очень рано, мы двинулись по Блэк-Ривер по указаниям генерала Йорка, с целью увезти весь скот, какой нам удастся подобрать. Спустившись вниз по реке, мы отцепили баржу, которую наш пароход тащил иа буксире, и отсюда наши матросы, отталкиваясь шестами, отправились объезжать плантации, подбирая животных всюду, где находили их. На чердаке одной хлопкоочистительной установки оказалось семнадцать голов, и, соорудив мостки, их без труда свели оттуда на баржу. Ваш корреспондент сел с генералом в ялик и был подвезен к домику в две комнаты, где иода стояла на высоте двух футов от пола. В одной из этих двух просторных комнат теснились лошади и коровы со всей усадьбы; в другой — вдова Тэйлор и ее сын сидели на помосте, сооруженном над полом. Две-три выдолбленные из дерева пироги сновали по комнате, готовые в любой момент к услугам. Когда подъехала баржа, пришлось проломить стену домика, — только таким путем и можно было вывести скот и перегнать его на баржу. Генерал Йорк и в этом случае, как всегда, осведомился, желает ли семьи покинуть дом, и объяснил им, что майор Борк из газеты «Таймс-Демократ» выслал «Сузи» именно для этой цели. Миссис Тэйлор ответила, что она весьма благодарна майору, но попытается продержаться здесь. Просто непостижимо упорство, с которым здешние жители цепляются за свои жилища. Неподалеку оттуда, в шестнадцати милях от Трои, мы получили известие, что дом мистера Тома Эллиса в опасности и вся его семья там. Мы немедленно отправились туда на пароходе и застали печальную картину. Из видневшейся над водой верхней половины окна выглядывала больная миссис Эллнс, а у дверей толпились ее семеро детей, из которых старшему не было еще четырнадцати лет. Часть дома была отведена для домашних животных, — их было штук двенадцать, не считая свиней. В соседней с этим помещением. комнате жила семья, и здесь вода только на два дюйма не доходила до постелей. Ночь была уже под водой, и пищу готовили на костре, разложенном на ее верхушке. Дом мог каждую минуту рухнуть; один его угол уже обваливался, и все строение казалось просто скорлупой. Когда пароход подошел, мистер Эл— лис выплыл навстречу в челноке, и генерал Йорк сказал ему, что приехал спасти их, что пароход «Таймс-Демократа» к его услугам и перевезет его семью сейчас же к холмам, а скот баржа заберет в понедельник, так как до этого времени опа будет занята. Но, несмотря на плачевное положение, в котором находились и он и его семья, мистер Эллис но пожелал уехать. он заявил, что, пожалуй, лучше подождет до понедельника, хотя дом и грозит обрушиться. Стоящие у дверей дети казались вполне довольными, — их, видимо, мало беспокоила опасность, которой они подвергались. Я привожу только два таких случая, а их множество. После целых недель лишений и страданий люди все еще держатся за свои дома и бросают их только тогда, когда между водой и потолком уже пет места, чтобы соорудить помост, на котором можно сидеть. Как это ни странпо, привязанность к насиженному месту оказывается сильнее стремления к безопасности.
После усадьбы Эллиса следующей нашей остановкой была усадьба Освальда. Здесь баржу подтянули к хлопкоочистительной, где стояло в воде пятнадцать животных; но так как стояли они на помостах, то их головы приходились выше притолоки дверп. Оказалось невозможным вывести их, не вырубив часть передней стены; пустили в ход топоры и прорубили отверстие. С большим трудом водворили благополучно на баржу лошадей и мулов.
Где бы мы ни останавливались, всегда появлялось три-четыре (а то и больше) челнока, доставляющих сведения о том, в каких еще местах нужно спасать скот. Несмотря на то, что очень многие из жителей уже некоторое время тому назад угнали часть своих стад в горы, все еще остается много скота, и генерал Йорк, работающий с неукротимой энергией, перевезет его до вторника к сосновым холмам.
На всем протяжении Блэк-Ривер «Сузи» посещало множество плантаторов; их рассказы о страданиях и потерях были повторением слышанного нами ранее. Одип старый плантатор, живущий у реки с 1844 года, утверждал, что такого наводнения здесь еще никогда не бывало и что погибло больше четверти всех стад. К счастью, люди первым делом заботились о своем рабочем скоте, и еслп удавалось собрать лошадей и мулов, их помещали в безопасное место. Разлив все еще продолжается, вчера ночью вода поднялась еще на два дюйма, и жители вынуждены отправлять скот на холмы; поэтому деятельность генерала Йорка имеет такое важное значение. С раннего утра до поздней ночи он разъезжает повсюду, ободряя людей ласковым словом и спокойно и обдуманно укалывая, что следует делать. По всему побережью рассказывают некрасивую историю об одном купце из Нового Орлеана. В течение нескольких лет плантаторы вели дела с этим субъектом, и многим из них причитались с него известные суммы. Когда началось наводнение, они написали ему, чтобы он прислал кофе, муку и всякие другие необходимые продукты. Ответа на письма не было; они написали снова, — и тем не менее он не послал старым своим клиентам, плаптацни которых были затоплены, даже самого необходимого для поддержания жизни. Нет надобности говорить, что теперь этот купец но пользуется популярностью на Блэк-Ривер.
Холмы, о которых я упоминал как о приюте для людей и скота с Блэк-Ривер, находятся в Катахуло, в двадцати четырех милях от Блэк-Ривер.
Загрузив всю баржу скотом, мы приняли на пароход семь человек семьи Т. С. Хупера, которая не смогла дольше оставаться в своем жилье, и везем их но Литл–Ривер к холмам.
ВОДА ВСЕ ЕЩЕ ПОДНИМАЕТСЯ
Троя, 27 марта 1882 г. Полдень.
Вода здесь поднимается приблизительно на три с половиной дюйма в сутки, и начались дожди, которые еще увеличат ее подъем. Генерал Йорк теперь думает, что нам следовало бы направить наши усилия на спасение людей, так как подъем воды угрожает множеству домов. Через несколько минут мы отправляемся вверх по Тенсо, потом вернемся и направимся вниз по Блэк— Ривер забирать оставшиеся там семьи. Пароходов но хватает. Генерал зафрахтовал три парохода с баржами на буксире, но нужда в баржах для перевозки скота настолько велика, что ее невозможно удовлетворить целиком. Все работают день и ночь, и «Сузи» почти нигде не стоит дольше часа. Вследствие разлива в большой опасности Тринити, и каждый миг ждут, что некоторые дома будут смыты водой. Троя стоит несколько выше, но и там все дома в воде. Поступило известие, что неподалеку вода унесла женщину с ребенком и разрушила две хижины. Обитатели этих хижин третьего дня отказались покинуть их. Трудно себе представить, до чего эти люди пассивны.
До сих пор нет никаких вестей о пароходе «Делия», и говорят, будто именно он затонул в озере Катахула во время вчерашнего шторма. «Делия» должна бы уже быть здесь, но она не прибыла. Даже почта здесь весьма нерегулярна, и это письмо я посылаю яликом в Натчез, а оттуда его доставят вам. Невозможно получить точные данные относительно погибшего урожая и т. д., так как те, кому это известно, уехали, а оставшиеся — все люди несведущие в этой области.
Генерал Йорк просит меня сообщить, что количество посылаемых продуктов следовало бы удвоить и выслать немедленно. Никакой предварительный расчет невозможен, так как вода быстро поднимается и население спасается на холмах. Тот, кто не видел этого, не может себе представить, в каком смятении здешние жители; среди них полная деморализация.
Если запасы отправляются для какого-либо определенного участка, то нельзя поручиться, что они будут там распределены, так что все посылайте в Трою, которая является центром, а уж генерал позаботится о надлежащем употреблении присланного. Он заказал сотню палаток, но если все, кто сейчас уходит со своих мест, отправляются на холмы, то потребуется не сто, а двести палаток.
ПРИЛОЖЕНИЕ «Б»
Состояние богатой долины Нижней Миссисипи непосредственно после войны и сейчас — одно из прискорбных последствий войны. Вместе со справедливым уничтожением вымышленного права собственности на рабов были прекращены или сильно запущены очень многие работы, державшиеся на рабском труде, в особенности но поддержанию системы насыпей.
Те, кто недостаточно знаком с этим вопросом, могли бы подумать, что такие важные мероприятия, как сооружение и ремонт насыпей, должны осуществляться сообща несколькими штатами. Но что может поделать штат там, где люди вынуждены платить от восемнадцати до тридцати процентов и закладывать свой урожай еще до посева на таких же условиях для того только, чтобы иметь возможность покупать все необходимое, переплачивая сто процентов!
Стоит только немного приглядеться — и станет совершенно очевидно, что река Миссисипи должна находиться в ведении национального правительства, а не может быть доверена штатам. Реку следует рассматривать как нечто целое; контроль над нею не может раздробляться между администрациями отдельных штатов.
Заинтересованные штаты недостаточно компетентны для совместного проведения необходимых мероприятий. Дело надо начинать далеко с верховья но меньшей мере от Каира, если не дальше; и проводить его следует по одному определенному общему плану на всем протяжении реки.
Чтобы разобраться в данном вопросе, не требуется никаких технических или научных познаний, только немного времени и терпения; поскольку Комиссия по управлению рекой Миссисипи составлена из толковейших людей различных специальиостой, разве нольан допустить, что их решение следует считать окончательным, — если вообще можно считать окончательной любую априорно принятую систему строительства или управления.
Напомним, что в этой Комиссии состоят генерал Гильмор, генерал Комсток и генерал Сютер — из Инженерного управления Соединенных Штатов; профессор Генри Митчел(солиднейший авторитет ввопросах гидрографии) из Гидрографического управленияСоединенных Штатов; Б. Б. Херрод, инженер штата в Луизиане; Дж. Б. Идз, чьи успехи при постройке дамб в Новом Орлеане доказывают его компетентность; и судья Тэйлор из Индианы.
Со стороны любого человека, хотя бы и специалиста, было бы самонадеянностью оспаривать мнение такой Комиссии.
Метод улучшений, предложенный Комиссией, согласуется как с данными технического опыта, так и с учетом явлений природы, которые могут быть использованы для нашпх нужд. В связи с тем, что естественно растущие по береговым склонам деревья обнаруживают стремление, когда они подмыты, падать так, что они укрепляют берег и в некоторых местах обеспечивают глубину фарватера и определенную его устойчивость, — в проекте пнженора все основано на применении леса и хвороста и на поощрении роста деревьев в нужных местах. Там, где река слишком широка, предполагается сузить ее при помощи фашинных гатей, вначале низких, но постепенно поднимающихся все выше и выше, по мере того как речной ил будет отлагаться под ними, и это приведет к возрождению откосов под таким углом, чтобы на них свободно росли пвы. Тут имеется целый ряд деталей, связанных с формой этих предохранительных гатей, и проектируется их устроить таким образом, чтобы они образовывали как бы ряд осадочных бассейнов и т. п.; описание всех этих деталей только затруднило бы понимание сути дела. В большей части реки не потребуется такого рода приспособлений, но почти весь берег на вогнутых сторонах излучин, образуемых рекой, придется укрепить, чтобы его не размывало течением, да и большую часть противоположного берега укрепить в опасных местах. Такие работы по предохранению берегов можно отнести к разряду так называемых обкладочных работ; материалом будет служить главным образом хворост, переплетенный в виде сплошных щитов или укрепленный металлической сеткой. Такой способ обкладки берега с успехом применен на реке Миссури; в некоторых случаях эти сооружения настолько покрылись отложениями и заросли ивами, что их можно рассматривать уже как постоянные. Такие настилы крепят небольшим количеством щебня, а в некоторых случаях созданную таким путем покатость на границе высокого и низкого уровней реки следует в большей или меньшей степени мостить камнем.
Кто бывал на Рейне, мог видеть сооружения, во многом схожие с теми, какие мы только что описали; и несомненно большинство рек в Европе, текущих между своими собственными наносами, нуждалось в таких же мероприятиях я интересах судоходства и земледелия.
Насыпь — сооружение, венчающее собой облицовку берега; но нет необходимости и непосредственной связи между разными частями его укреплении. Насыпь можно устраивать на небольшом расстоянии от укрепленного берега, но, в сущности, она служит необходимым барьером. Реку в половодье и реку при низкой воде невозможно заставить течь в пределах одного постоянного сечения русла, если не регулировать полностью все условия; следует принимать меры и против чрезвычайного подъема воды, который является угрозой длянасыпи:если вода прорвется через укреплении, она может снести и их.
Согласно общему принципу, по которому естественный уклон ложа реки является результатом и мерилом сопротивления ее русла, уклон узкого и глубокого потока относительно мал, так как у него относительно меньшая поверхность трения при данной емкости, — другими словами — меньший периметр при данной площади поперечного сечения. Окончательным следствием сооружения насыпей и укрепления берега, сдерживающих разлив реки и регулирующих все уровни ее стояния, являются углубление русла и уменьшение уклона. Первый же результат сооружения насыпей — поднятие уровня реки в половодье; но это ускоряет течение реки и неизбежно ведет за собой увеличение ее сечения, а если такое увеличение не может произойти за счет размыва берегов, то оно повлияет на дно, и форма русла настолько улучшится, что уровень реки станет ниже. Опыт устройства насыпей на реке Миссисипи без малейшего захвата берегов оказался удачным, и, учитывая приведенные в отчетах Комиссии доказательства, нельзя сомневаться в том, что, если бы прежде сооружение насыпей сопровождалось укреплением берегов и было доведено до конца, река была бы теперь судоходной и в мелководье, а прибрежная полоса — в безопасности от наводнений.
Конечно, нелогично было бы заключить, будто ограниченная укреплениями река когда нибудь настолько углубит свое русло, что насыпн станут не нужны; предполагается лишь, что укрепленная по обоим берегам река настолько улучшит форму своего русла, что даже те редкие наводнения, которые вызываются одновременно разливом нескольких притоков, найдут себе выход, не разрушая насыпей нормальной высоты. Неоднократно доказано, что действительное поперечное сечение речного фарватера, проходящего между наносными берегами, определяется его ролью при разливах, но это поперечное сечение рассчитано не на исключительные, а на нормальные периодические разливы.
Вряд ли стоит говорить о проектах уменьшения разливов Миссисипи путем создания новых отводов, так как эти сенсационные проекты могут одобряться только людьми поверхностными, среди же инженеров они не находят поддержки. Если бы у реки русло было чугунное, то, может быть, нужно было бы делать отверстия для отвода излишка воды, но, поскольку ложе реки поддается напору воды и наилучшей формой его является одни общий глубокий канал, осуществляющий наименьшее соотношение между периметром и площадью поперечного сечения, — невозможно придумать более необдуманный выход, чем увеличение числа отводящих путей.
Настоящее изложение — попытка пересказать настолько кратко, насколько допускает важность предмета, главные элементы проблемы и главные черты предполагаемого метода улучшения реки Миссисипи, принятого Комиссией.
Автор сознает, что с его стороны было некоторой самонадеянностью браться за изложение фактов, связанных с мероприятиями, требующими большой научной подготовки, но это дело интересует каждого граяедапина Соединенных Штатов, — ведь такой метод реконструкции нельзя не приветствовать. Ото — боевая задача, не обещающая никаких личных выгод и никакой компенсации, если не считать случаев, когда раз— рушепия, вызваны войной, — тут уж восстановительные работы должпы стать делом населения всей страны.
Эдвард Аткинсон. Бостон, 14 апреля 1882 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ «В»
КАК ПРИНЯЛИ КНИГУ КАПИТАНА БЭЗИЛА ХОЛЛА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
(Из книги миссис Троллоп)
Сейчас, когда мы почти закончили наше путешествие, мне снова хотелось бы, прежде чем завершить книгу, упомянуть о том, что я считаю одной из самых удивительных черт в характере американцев, а именно об их необыкновенной чувствительности и обидчивости по отношению ко всему, что сказано и написано о них. Мне, пожалуй, не подобрать лучшего примера, чем впечатление, какое произвел на читателей всех слоен общества выход в свет сочинения капитана Бэзила Холла «Путешествия но Северной Америке». Это было просто какое-то моральное землетрясение; и нервная дрожь, охватившая всю республику с одного конца Союза до другого, еще далеко не прекратилась, когда я уехала из этой страны в июле 1831 года, года через два после столь потрясающего для нее удара.
Я была в Цинциннати, когда эта книга вышла, но только в июле 1830 года я смогла ее достать. Один книготорговец, у которого я ее спросила, сказал мне, что у него было несколько экземпляров, пока он не понял, какого характера эта книга, но после того как он ознакомился с нею, ничто не заставит его продать хоть один экземпляр. Но, очевидно, другие лица его профессии были не столь щепетильны: книгу читали в городах, больших и малых, в деревнях и поселках, на пароходах, в дилижансах, и такой непрестанный воинственный вопль стоял по этому поводу, какого, на моей памяти, никогда еще не приходилось наблюдать.
Горячее желание похвалы и некоторая деликатная обидчивость при критике, но-моему, всегда считались хорошими чертами характера; но то состояние, в которое произведение капитана Холла повергло всю республику, ясно показывает, что эти же чувства в преувеличенном виде доводят до пристрастности, граничащей с глупостью.
Было совершенно поразительно слышать, как люди, которые в других вопросах обладают ясным умом, высказываются по этому поводу. Я никогда еще не видела примера, чтобы чувство здравого смысла, обычно проявляющееся в критических суждениях всех наций, так было бы отброшено отрастью. Я уж не говорю об отсутствии справедливости и честного, благожелательного толкования, — этого нечего было и ждать. Некоторые нации зовут тонкокожими, но тогда жители Соединенных Штатов просто совсем лишены кожи: они жалуются на малейшее дуновение ветерка, если только оно не напоено восхищением. Ничего странного, следовательно, не было в том, что к резким, непримиримым суждениям путешественника, к которым, как они знали, будут прислушиваться, они отнеслись с таким раздражением. Самым необычайным во всей этой истории была, во-первых, невероятная ярость, в которую они приходили, и во-вторых, те совершенно ребяческие выдумки, которыми они собирались отплатить за несправедливую, по их мнению, строгость, с какой к ним подошли.
Не довольствуясь заявлением, будто во всей книге от начала до конца нет ни единого слова правды (а это утверждение я слышала, как только заходил разговор об этом издании), вся страна стала выяснять, почему капитан Холл посетил Соединенные Штаты и почему он выпустил свою книгу.
Я слышала, как люди утверждали с такой серьезностью и уверенностью, словно получили эти сведения из официальных источников, что капитан Холл был послан британским правительством специально, чтоб охладить растущее в Англии преклонение перед формой правления Соединенных Штатов, что он приехал по казенному заданию и что только по приказу свыше он нашел множество недостатков.
Я повторяю: здесь не сплетни какой-нибудь кучки пристрастных людей, — нет, я уверена, что таково мнение очень значительной части населения страны. Эти удивительные люди глубоко убеждены, что с ними невозможно встречаться, ие восхищаясь ими, так что даже не допускают мысли, будто кому-нибудь, при всей его честности и искренности, могут не понравиться они сами или их родина.
Большинство американских журналов, по-моему, хорошо известно в Англии, поэтому я не стану их цитировать здесь; но мне иногда казалось странным, почему ни одному из них не пришло в голову перевести проклятие по адресу Обадии на классический американский язык; проделай они это, подставив в скобках (он, Бэзил Холл) соответственно вместо (он, Обадия), они избавили бы себя от многих хлопот.
Я не могу описать, с каким любопытством я взялась наконец за чтение томов, вызвавших такой ужас, и совсем не умею передать, как я была поражена их содержанием. Сказать, что я во всем произведении капитана Холла не нашла ни одного преувеличенного утверждения, еще недостаточно. Человек, который знает эту страну, не может не заметить, что капитан Холл добросовестно выискал все, что можно похвалить, чем можно восхищаться. Когда он хвалит, он делает это с явным удовольствием, а когда говорит о недостатках, то с явным неудовольствием и сдержанностью, исключая те моменты, когда из чисто патриотических побуждений он откровенно говорит о том, что, по его мнению, должна, себе на благо, знать его родина.
Капитан Холл видел Америку в наиболее благоприятном свете. Он был, разумеется, снабжен рекомендательными письмами к самым высокопоставленным лицам, а его собственная репутация служила ему еще более влиятельной рекомендацией; поэтому его принимали от одного конца Соединенных Штатов до другого на самый пышный и блестящий манер и лад. Он видел страну в полном параде, и у него почти не было возможности судить о том, какой она бывает, когда она не прибрана, не умащена, не начищена до блеска, но было случая видеть все ее недостатки, как видели их слишком часто я и моя семья.
Капитану Холлу представилась бесспорно блестящая возможность познакомиться с формой управления и законами страны, более того — он мог получить лучшие устные пояснения к ним в беседах с самыми выдающимися гражданами страны. Он прекрасно использовал все возможности; ни одна важная деталь не ускользнула от него без того, чтобы он не проанализировал ее с тем вниманием, какое может проявить только очень образованный и глубокомысленный путешественник. Его книгам это придало чрезвычайный интерес и ценность; но я глубоко уверена, что, будь на его месте столь же проницательный человек и попади он в Соединенные Штаты, имея возможность знакомиться только с будничной жизнью страны, он составил бы себе гораздо худшее мнение об ее моральной атмосфере, чем капитан Холл; у меня создалось глубочайшее внутреннее убеждение, что, если бы капитан Холл не сдерживал себя так решительно, его негодование приняло бы гораздо более резкие формы, чем высказанное им возмущение некоторыми сторонами американского характера, с которыми он был хорошо знаком, как это явствует из других обстоятельств. Он, очевидно, взял за правило говорить ровно столько правды, чтобы создать верное впечатление у читателей и как можно меньше задеть самолюбие чувствительных людей, о которых он писал. Он просто излагает свои мнения и чувства и предоставляет другим устанавливать, что они вполне обоснованны; но он старается избавить американцев от той горечи, которую несомненно вызвало бы более подробное изложение доказательств.
Если кому-нибудь угодно считать, что причиной моих суждений является некая злобная неприязнь к двенадцати миллионам чужестранцев, — мне придется с этим примириться; если бы речь шла просто о чьих-то праздных размышлениях, я, разумеется, не стала бы навлекать на себя обвинения, которые мне теперь предъявляют. Но это не так.
Искренность, с которой он выражается и, очевидно, чувствует, люди здесь ошибочно принимают за иронию или совершенно ей не верят; его нежелание доставить неприятность лицам, любезно его встретившим, они презрительно считают притворством, хотя сами превосходно понимают в глубине души, насколько больше он мог разоблачить их, чем сделал это; они пытаются уверить самих себя, что он преувеличил дурные свойства их характера и их учреждений; но в действительности он отнесся к ним со снисходительностью, которая, возможно, вполне уместна дли него, но мало заслужена ими; и в то же время он старательнейшим образом преувеличивал все их достоинства, когда представлялась ему возможность обнаружить хоть что-нибудь благоприятное.
ПРИЛОЖЕНИЕ «Г»
«НЕУМИРАЮЩАЯ ГОЛОВА»
В глуши, на Севере, жили брат и сестра; они никогда не видели другого человеческого лица. Очень редко приходилось брату надолго уходить из дому, ибо, как только наступала нужда в пище, ему достаточно было лишь отойти немного от дома и там в определенном место воткнуть свои стрелы в землю острием кверху. Он говорил сестре, где оставил стрелы, и каждое утро она отправлялась на поиски и всегда находила стрелу вонзившейся в сердце оленя. Ей тогда оставалось только дотащить добычу до дому и приготовить еду. Так она жила и уже стала совсем взрослой, когда однажды брат, которого звали Ямо, сказал ей:
— Сестра, подходит время, когда ты будешь нездорова. Слушай моего совета. Если ты его не исполнишь, то станешь причиной моей смерти. Возьми огниво, которым мы разжигаем костер, отойди на некоторое расстояние от дома и разведи отдельный костер. Когда тебе понадобится еда, я научу тебя, где ее взять. Ты должна готовить для себя, а я — для себя. Когда ты будешь нездорова, не пытайся приблизиться к нашему жилью и но приноси ничего, чем пользуешься. Не забудь привязать к поясу все нужное тебе для разведения огня, ибо ты не знаешь, когда придет твое время. Что касается меня, то я сделаю все что смогу.
Сестра обещала исполнить все, как он сказал.
Вскоре брату пришлось уйти из дому. Сестра сидела одна в доме, расчесывая волосы. Она только что развязала пояс, к которому были привязаны все принадлежности для разведения огня, как вдруг случилось то, о чем предупредил ее брат. Она выбежала на дому и второпях забыла там пояс. Боясь вернуться, она стояла в раздумье. Наконец она решила войти в дом и взять пояс. «Брата ведь нет дома, — подумала она, — и я зайду на минуточку, только чтобы схватить пояс». И она вернулась. Вбежав в дом, она схватила пояс и уже выходила, как вдруг из-за деревьев показался ее брат. Он сразу понял, в чем дело.
— О-о, — сказал он, — ведь я говорил тебе — будь осторожней! Теперь ты меня убила!
Она хотела уйти, но он сказал:
— Что же тебе теперь там делать? Беду уже не поправишь. Иди живи там, где жила всегда. Но что же будет с тобой? Ведь ты меня убила!
И он сложил свою охотничью одежду и оружие, и скоро обе его ноги начали чернеть, так что он даже не мог двинуться. Но он все еще учил сестру, где закапывать стрелы, чтобы всегда получать пищу. Воспаление продолжало увеличиваться и уже дошло до первого ребра, и он сказал:
— Сестра, мой конец близок. Ты должна сделать так, как я тебе велю. Видишь мою колдовскую сумку и привязанную к ней мою боевую палицу? В ней — все мои снадобья, мои военные перья и краски всех цветов. Как только воспаление дойдет до моей груди, возьми мою боевую палицу — у нее острые края — и отруби мне голову. Когда голова отделится от туловища, возьми ее и положи в мешок, а мешок пусть будет открыт с одного конца. Потом повесь его на прежнее место. Не забудь моего лука и стрел. Одну стрелу возьми, чтобы добывать ппщу. Остальные завяжи в мой мешок и повесь его так, чтобы я мог смотреть на дверь. Иногда я буду говорить с тобой, но не часто.
Сестра опять обещала ему повиноваться.
Через некоторое время его грудь была захвачена воспалением.
— Теперь, — сказал он, — бери палицу и руби мне голову.
Она испугалась, но он сказал, чтобы она собралась с духом.
— Ударь! — сказал он, и на его лице была улыбка.
Собравшись с духом, она ударила и отрубила ему голову.
— Теперь, — сказала голова, — положи меня туда, куда я велел.
Испуганно она повиновалась всем ее приказаниям. Голова продолжала жить, она по-прежнему смотрела за жильем и приказывала сестре идти туда, где можно найти потребное для пищи мясо диких животных. Однажды голова сказала:
— Недалек тот день, когда я буду освобожден от этого положения, но прежде мне придется перенести много горьких бед. Так приказал всемогущий манито, и я должен терпеливо сносить свою судьбу.
На этом мы временно оставим голову.
В отдаленной части страны была деревня, населенная многочисленным и воинственным индейским племенем. В этой деревне жила семья: десять юношей — десять братьев. Весной того года младший из братьев начернил лицо и стал поститься. Его сны были благоприятны. Окончив свой пост, он тайно ночью пришел за братьями, так чтобы никто в деревне но смог подслушать или узнать, в каком направлении они собираются пойти. Правда, их барабан был слышен, но это было привычно для жителей деревни. Проделав все предварительные церемонии, младший брат сказал, что его видения были благоприятны и что он созвал братьев, чтобы спросить их, согласны ли они сопровождать его в военном походе. Они все согласились. Когда младший брат кончил говорить, третий по старшинству брат, известный своими странностями, схватил свою боевую палицу и вскочил.
— Да, сказал он, — я пойду, и вот как я поступлю с теми, с кем буду биться. — И он ударил но столбу, стоящему в середине жилища, и испустил воинственный клич. Другие обратились к нему и сказали:
— Тише, тише, Маджикивис, не шуми в чужом доме.
Тогда он сел на место. Тут все по очереди били в барабан и пели песни, и ночь закончилась пиром. Младший велел им не говорить ни слова женам об их измерении и тайком приготовиться к походу. Все обещали повиноваться, а Маджикивис — прежде прочих.
Время отправления подходило. Они условились собраться в назначенную ночь и немедленно выступить. Маджикивис сердито потребовал сшить ему мокасины. Несколько раз жена спрашивала его — зачем.
— Ведь у тебя на ногах совсем хорошие мокасины, — сказала она.
— Ну, скорее, скорее, — сказал он, — если тебе нужно знать зачем, то знай: мы идем в военный поход, поэтому торопись.
Так он выдал тайну. Той жe ночью они встретились и выступили. Снег лежал на земле, и они шли всю ночь, чтобы другие не последовали за ними. Когда наступил день, вождь набрал снегу, сделал из него шар и, подбросив его вверх, сказал:
— Я видел во сне, что так падал снег и скрывал мои следы. — И он велел им держаться как можно ближе друг к другу, чтобы они не заблудились, так как снег стал падать громадными хлопьями. Несмотря на то, что они держались как можно ближе, они едва видели друг друга. Снег продолжал падать весь день и всю ночь, так что найти их следы стало немыслимо.
Так они шли несколько дней, и Маджикивис всегда шел последним. Но однажды, выбежав вперед, он крикнул: «Соу-соу-куан!»[25] и ударил по дереву боевой палицей так, что оно разлетелось, как от удара молнии.
— Братья! — воскликнул он. — Вот что я сделаю с теми, с кем буду биться!
Вождь ответил:
— Тише, тише Маджикивис! О том, на кого я веду вас, нельзя говорить так легкомысленно.
Маджикивис снова отстал и стал размышлять. «Что такое? Что такое? На кого он ведет нас?» Ему стало страшно, и он умолк. День за днем они шли, пока не пришли на широкую равнину, по краям которой лежали побелевшие на солнце человеческие кости. Вождь сказал:
— Это кости тех, которью были здесь до нас. Никто еще не вернулся рассказать печальную новость о своей судьбе.
Снова Маджикивис пришел в возбужденно и, выбежав вперед, издал свой обычный клич. Он подбежал к большой скале, возвышавшейся над равниной, ударил по ней палицей, и она рассыпалась тт куски.
— Смотрите, братья, — сказал он, — вот как и поступлю с теми, с кем мы идем сражаться!
— Тише, тише, — повторил вождь, — того, на кого я веду вас, нельзя сравнивать со скалой.
Маджикивис задумчиво отошел назад, повторяя про себя: «Хотел бы я знать, кто он мог быть тот, на кого он собирается напасть», — и страх обуял его. Все время они видели останки прежних воинов, которые были там, куда теперь шли они; некоторым из воинов удалось отступить туда, где виднелись теперь первые человеческие кости, но дальше этого места ни один человек не ушел. Наконец братья пришли к небольшому холму, с которого ясно увидели на далекой горе огромного спящего медведя.
Расстояние до него было очень велико, но огромные размеры животного позволяли его видеть ясно.
— Вот тот, — сказал вождь, — на которого я вас веду; здесь начнутся все наши трудности, ибо он есть мишемоква и манито. Но у него есть то, что мы так высоко ценим, — талисман «вампум», и за обладание им воины, чьи кости мы видели сейчас, пожертвовали жизнью. Не бойтесь, будьте мужественны. Мы застанем его спящим. — И вождь пошел вперед и дотронулся до пояса, повязанного вокруг шеи звери.
— Вот то, что мы должны добыть, — сказал он. — В нем содержится талисман.
Тогда все попросили старшего брата попробовать снять пояс через голову медведя, который, очевидно, очень крепко спал, так как его ничуть не потревожили их попытки. Но все усилия были тщетны, пока очередь не дошла до предпоследнего брата. Он тоже попробовал, — и пояс почти уже прошел через голову чудовища, но дальше не сдвинулся. Тогда самый младший — их вождь — попытался, и с успехом. Он положил пояс на спину старшему и сказал:
— Ну, теперь нам надо бежать.
И они пустились бежать. Когда уставал один от тяжести пояса, другой сменял его. Так они бежали, пока не достигли костей тех воинов, что приходили прежде; онп уже миновали и эти кости, когда, оглянувшись, увидели, что чудовище медленно подымается. Оно постояло несколько минут, пока не заметило пропажи своего вампума. И тут братья услышали потрясающий рык, который, словно отдаленный гром, медленно заполнил все небо; а потом они услышали слова:
— Кто мог осмелиться украсть мой вампум? Земля не столь велика, чтобы мне не найти его.
И он пустился с холма в погоню. От каждого его прыжка земля сотрясалась, словно в судорогах. Вскоре он стал догонять их. Но опи не выпускали пояса, передавая его друг другу и подбадривая один другого; однако зверь уже догонял их.
— Братья, — сказал вождь, — разве никто из вас во время поста не видел во сне какого-нибудь дружественного духа, который мог бы охранить нас?
Мертвое молчание было ему ответом.
— Так вот, во время поста, — сказал он, — я видел во сне, будто мне грозит неминуемая смерть, но тут мне представилась маленькая хижина с дымом, вьющимся над крышей. В хижине жил старик, и мне снилось, что он спас меня; пусть это окажется правдой, — сказал он, и выбежал вперед, и издал тот странный, воющий клич, когда звук, кажется, исходит из недр живота, — клич, который зовется «чикодам». И внезапно, едва только они поднялись на холм, они увидели хижину, и дым вился над крышей. Это придало им новые силы, и они побежали вперед и вошли в хижину. Вождь обратился к старику, сидевшему в хижине, и сказал:
— Нимишо, помоги нам; мы молим тебя о защите, иначе великий медведь убьет нас.
— Садитесь и ешьте, мои внуки, — отвечал старик. — Кто же великий манито? — сказал он. — Ведь здесь нет другого манито, кроме меня; впрочем, я сейчас взгляну, — и он отворил дверь и внезапно увидел на близком расстоянии взбешенного зверя, который медленными, но мощными прыжками приближался к ним. Старик затворил дверь.
— Да, — сказал он, — это поистине могучий манито. Внуки мои, вы будете причиной моей гибели; вы просили моей защиты, и я вам обещал ее; и будь что будет — я вас защищу. Когда медведь подойдет к двери, вы должны выбежать в другую дверь хижины. — Тут он протянул руку к стене, у которой сидел, вытащил мешок и открыл его. Оттуда он вынул двух маленьких черных собачек и поставил их перед собой.
— Вот кто помогает мне в бою, — сказал он и начал обеими руками похлопывать одну из собак но бокам, и собака стала расти так, что скоро заполнила собой всю хижину, и у нее были большие, сильные зубы. Когда она выросла в свой полный рост, она зарычала и в ту же минуту, словно по чутью, прыгнула к двери и встретилась с медведем, которому оставался лишь один прыжок до хижины. Началась страшная борьба. Небо дрожало от рева двух свирепых чудовищ. Вторая собака тоже вмешалась в борьбу. Братья, сразу же послушавшись совета старика, убежали в противоположную дверь хнжпны. Но они успели уйти недалеко и услышали предсмертный вой первой собаки, а вскоре — и второй.
— Что же, — сказал вождь, — старик разделит их судьбу. Бежим! Сейчас медведь кинется за нами.
Теперь они бежали с новыми силами, ибо старик их накормил; но медведь вскоре показался в виду и уже снова начал их догонять. Снова вождь спросил своих братьев, не знают ли они, как им спастись. Все молчали. Тогда вождь, выбежав вперед, повторил свои слова:
— Мне снилось, — крикнул он, — что в тяжелую минуту мне помог старик, который был манито; скоро мы увидим его жилище.
И, ободрившись, они побежали дальше. Через некоторое время они увидели хижину старого манито. Они сразу вошли и попросили защитить их, ибо за ними гнался манито. Старик поставил перед ними мясо и проговорил:
— Ешьте. Кто же этот манито? Здесь нет ни одного манито, кроме меня, пет никого, кто был бы мне страшен.
А земля дрожала от приближения чудовища. Старик отворил дверь и увидел его. Он медленно затворил дверь и сказал:
— Да, внуки мои, вы принесли мне несчастье.
Взяв свою колдовскую сумку, он вынул оттуда маленькие боевые палицы из черного камня и велел юношам бежать через другую дверь хижины. Когда старик коснулся палиц рукою, те стали огромными, и он вышел с ними из хижины в тот миг, когда медведь достиг ее. он ударил его одной палицей — она разлетелась на куски, но медведь зашатался. Старик снова ударил его, другой палицей; она тоже сломалась, по медведь упал оглушенный. Каждый удар, который старик обрушивал на медведя, раскатывался громом, а рев медведя подымался до самого неба.
Юноши пробежали немного и оглянулись. Они увидели, что медведь оправляется от ударов. Сначала он зашевелил лапами, а вскоре они увидели, что он поднялся на ноги. Второго старика постигла та же участь, что и первого, и юноши услышали его вопли, когда медведь стал рвать его на куски. Снова чудовище погналось за ними и уже стало их настигать. Юноши не теряли падежды и продолжали бежать; но медведь был так близко, что вождь снова обратился за советом к братьям, но они ничего не могли придумать.
— Что же, — сказал он, — скоро мои сны будут исчерпаны; из них у меня остался еще только один.
Он вышел вперед, призывая своего духа-покровителя помочь ему.
— Однажды, — сказал вождь, — мне снилось, что, будучи в большой беде, я подошел к берегу озера; на берегу я увидел выдвинутую из воды лодку с десятью веслами наготове,
— Нe бойтесь, — крикнул он, — скоро мы ее добудем.
И случилось так, как он сказал. Подойдя к озеру, они увидели лодку с десятью веслами и сразу же пустились в путь. Не успели они доплыть до середины озера, как медведь добрался до берега. Встав на задние лапы, он стал озираться вокруг. Потом он вошел в воду, но потерял дно под ногами, вернулся на берег и начал огибать озеро. А братья остановились в середине озера и следили за движениями зверя. Он обогнул все озеро и вернулся наконец к месту, откуда начал обход. Тогда он принялся пить воду, и братья увидели, как течение озера пошло по направлению к его открытой пасти. Вождь стал их подбадривать и заставил грести изо всех сил к противоположному берегу. Когда они уже почти подошли к берегу, течение настолько ускорилось, что их потянуло назад, и все попытки достичь берега оказались тщетными.
Тут снова заговорил вождь, призывая их мужественно идти навстречу судьбе.
— Сейчас пришло тебе время, — обратился он к Маджикивису, — проявить свою храбрость. Соберись с духом и сядь на нос лодки, и когда течение потянет лодку к пасти чудовища, испробуй свою боевую палицу на его голове.
Тот повиновался и стоял наготове для удара; а вождь, стоявший у руля, направил лодку в открытую пасть чудовища.
Они двигались очень быстро, и уже их чуть не втянуло в пасть чудовища, как вдруг Маджикивис нанес ему страшный удар по голове, испустив боевой клич. Лапы медведя подкосились, и он упал, оглушенный ударом. Но прежде чем Маджикивис мог повторить удар, чудовище изрыгнуло всю выпитую им воду с такой силой, что лодку отбросило к противоположному берегу. Немедленно они выскочили из лодки и снова побежали, пока силы совершенно не покинули их. А земля снова задрожала, и они увидели, что чудовище почти догоняет их. Они пали духом и пришли в отчаяние. Вождь пытался и действиями и словами подбодрить их, и еще раз он спросил их, не могут ли они придумать что-нибудь или сделать что-нибудь дли спасения; но, как и прежде, все молчали.
— Теперь, — проговорил он, — я в последний раз могу прибегнуть к своему духу-покровителю. Если мы и теперь не победим, наша участь решена.
Он выбежал вперед, призывая духа-покровителя, и испустил клич.
— Сейчас мы придем к месту, — сказал он братьям, — где живет мой последний дух-покровитель. В него я очень верю. Не бойтесь, ие бойтесь жe, не то страх скует вам тело. Скоро мы доберемся до его жилья. Бегите, бегите!—воскликнул он.
Возвратимся теперь к Ямо. Он все время пребывал в том состоянии, в каком мы его оставили; его голова всегда указывала сестре те места, где можно было добыть пищу, вкапывая в землю волшебные стрелы, и изредка говорила с ней. Однажды сестра увидела, как глаза головы засияли, словно от радости, и она заговорила.
«О сестра, — сказала голова, — ты была причиной того, что я оказался в столь жалком состоянии. Скоро, очень скоро отряд юношей прибудет к нам и обратится ко мне за помощью. Но — увы! Как я могу дать им то, что сделал бы для них с великим удовольствием? Все же возьми две стрелы и отнеси их на обычпое место, добудь и зажарь мясо до их прибытия. Как только ты услышишь, что они подходят и зовут меня по имени, выйдн и скажи: «Увы! Уже давно несчастье постигло его, и я была тому причиной». Если они все же подойдут, попроси их войти и поставь перед ними мясо. И тогда следуй точно моим приказаниям. Когда медведь приблизится, выйди и встреть его. Возьми мою колдовскую сумку, лук и стрелы и мою голову. Затем ты должна развязать мешок и разложить перед собой мои разноцветные краски, мои орлиные перья, пучки сухих волос и все, что есть в мешке. Когда медведь приблизится, бери все эти вещи одну за другой и говори ему: «Вот вещи моего покойного брата», и так поступай с каждой вещью и бросай ее как можно дальше. Свойства, заключенные в них, заставят его зашататься, а для того, чтобы окончательно погубить его, возьми мою голову и тоже брось как можно дальше, громко воскликнув: «Смотри! Вот голова моего покойного брата». Он упадет тогда без чувств. К этому времени юноши уже насытятся, и ты позовешь их на помощь. Вы должны разрезать тушу медведя на куски, да, на мелкие кусочки, и разбросать их по всем четырем ветрам, ибо, если вы не сделаете этого, он оживет.
Сестра обещала, что все будет сделано, как он приказал. Только она успела приготовить мясо, как послышался голос вождя, взывавшего к Ямо о помощи. Женщина вышла и сказала, как велел ей брат. Но отряд, преследуемый по пятам, все же подошел к дому. Она пригласила их войти и поставила перед ними мясо. Во гремя еды они услышали приближение медведя. Сестра приготовила все и, развязав колдовскую сумку, вынула голову. Когда зверь показался, она проделала все, как ей было приказано; и нреяеде чем она побросала все краски и перья, медведь стал шататься, но все еще нодходпл, приближаясь к женщине. Сказав, что eй было приказано, она взяла голову и отбросила ее так далеко, как могла. Когда голова покатилась по земле, кровь, закипевшая в голове при виде всех этих ужасов, хлынула из носа и ушей. Медведь, шатаясь, упал со страшным грохотом. Тогда она позвала на помощь, и юноши выбежали из дому, восстановив и подкрепив свои силы и мужество.
Маджикивис, выйдя вперед, издал крик и ударил медведя по голове. он продолжал его бить до тех пор, пока голова не превратилась в сплошное месиво мозгов, а другие в это время торопливо резали медведя на мелкие кусочки, которые разбрасывали но всем направлениям. Занятые своим делом, они вдруг случайно посмотрели кругом, где было разбросано мясо, и — о, чудо!—они увидели, как возникают и разбегаются во все стороны маленькие черные медведи, какие живут и по нынешний день. Скоро по всей стране развелись эти черные звери. От этого чудовища и произошла живущая теперь порода медведей.
Избавившись так от своего преследователя, братья вернулись в дом. Тем временем женщина собрала все то, что было ею выброшено, и вместо с головой снова положила в мешок. Но голова не разговаривала, очевидно от большого напряжения, которого ей стоила победа над чудовищем.
Теперь, после того как они истратили столько времени и пробежали столь большое расстояние, спасаясь от медведя, юноши не захотели возвращаться к себе на родину, и так как в этом месте дичи было великое множество, они решили поселиться тут. Однажды они ушли далеко от дома на охоту и оставили вампум у женщины. Охота была успешной, и они веселились, как веселятся молодые люди, предоставленные самим себе, смеялись и шутили друг с другом. Один из них обратился к братьям и сказал:
— Мы одни веселимся; пойдем и попросим нашу сестру — не разрешит ли она взять нам сюда голову, ибо та еще совсем жива. Может быть, голове будет приятно послушать наши беседы и побыть в нашем обществе. Пока же снесем пищу нашей сестре.
Они пошли и попросили у нее голову. Она позволила им взять ее, и они взяли голову в свой охотничий стан и старались ее развлечь, но только изредка они видели, как ее глаза светились от удовольствия. Однажды, когда они были заняты делами у себя в стане, на них неожиданно напали неизвестные индейцы. Стычка была затяжная и кровавая, много врагов пало, но все еще их оставалось тридцать на одного. Юноши сражались отчаянно, пока враги не перебили их всех. Нападавшие отошли тогда на небольшой холм, чтобы проверить своих людей и посчитать недостающих и убитых. Один юноша из их отряда отстали, пытаясь догнать своих, попал на то место, где висела голова. Видя, что она сохранила в себе жизнь, он разглядывал ее некоторое время с испугом и изумлением. Но все-таки он снял ее и открыл сумку — и очень обрадовался, увидев прекрасные перья; одно из них он укрепил на своей голове.
Когда он шел, перо легко покачивалось над ним; он подошел к своему отряду и, бросив на землю голову и сумку, рассказал, как нашел их, и показал сумку, полную красок и перьев. Все стали разглядывать голову и насмехаться над ней. Многие юноши взяли краски и раскрасили себе лица, а один из отряда взял голову за волосы и сказал:
— Смотри, образина, видишь — твои краски уже на лицах воинов.
Но перья были так красивы, что многие из них тоже укрепили их у себя на голове. И снова они стали осыпать голову издевательствами, за что были наказаны смертью тех, кто взял перья. Тогда вождь приказал им бросить все, кроме головы.
— Посмотрим, — сказал он, — что мы сможем с ней сделать, когда вернемся домой. Мы попытаемся заставить ее закрыть глаза.
Когда они вернулись к себе домой, они перенесли голову в хижину совета и повесили ее перед огнем, стянув ее сырыми, смоченными ремнями, которые от огня коробятся и сохнут.
— Посмотрим, — сказали они, — не сумеем ли мы заставить ее закрыть глаза.
А между тем много дней сестра ждала возвращения юношей, ожидая, что они вернут ей голову; наконец, обеспокоившись, она отправилась на поиски. Она нашла юношей лежащими недалеко друг от друга, — все были мертвы, и тела их были изранены. Множество других тел было разбросано вокруг них. Она искала голову и сумку, но нигде не могла их найти. Она заплакала и начернила себе лицо. Потом она бродила по всем направлениям, пока не пришла к месту, откуда унесли голову. Тут она нашла волшебный лук и стрелы, где их оставили юноши, но знавшие об их волшебных свойствах. Она решила, что найдет голову брата, и пошла на холм, где увидела остатки его красок и перьев. Она их тщательно собрала и повесила на сук дерева до своего возвращения.
В сумерки она подошла к крайней хижине обширной деревни. Тут она произнесла заклинание, обычное у индейцев, когда они хотят встретить радушный прием. Обратившись к жившим в хижине старику со старухой, она была радушно принята ими. Она рассказала о цели своего путешествия. Старик обещал ей помочь и сказал, что голова висит перед костром совета и что старейшины деревни вместе с юношами несут постоянную стражу подле нее. Старейшины считаются маннто. Она сказала, что хочет только взглянуть на голову и будет довольна, если ей удастся подойти к двери той хижины. Она знала, что у нее не хватит силы отобрать голову.
— Пойдем со мной, — сказал индеец, — я отведу тебя.
Они пришли туда и сели у двери. Хижина совета была полна воинов, которые развлекались играми и поддерживали постоянный огонь, чтобы окуривать голову, — как они говорили, сделать из нее сушеное мясо. Они увидели, что голова задвигалась и, не зная, как это объяснить, один из них обратился к другим и сказал:
— Ха-ха! Она начинает чувствовать действие дыма.
Сестра заглянула в дверь, и ее глаза встретились с глазами брата, и у головы слезы покатились по щекам.
— Ага, — сказал вождь, — я знал, что мы наконец заставим тебя что-нибудь сделать. Глядите на нее, она проливает слезы, — сказал он окружающим, и все засмеялись и стали издеваться над головой. Вождь оглянулся и, заметив женщину, сказал человеку, с которым она пришла:
— Кого это ты привел? Я никогда прежде не видел этой женщины в нашей деревне.
— Нет, — отвечал тот, — ты ее видел: это моя родственница, но она редко выходит. Она живет у меня в хижине и попросила, чтобы я разрешил ей прийти со мной сюда.
Посреди хижины сидел один из тех юношей, которые всегда дерзки и любят хвастать и похваляться перед другими.
— Ну конечно, — сказал он, — я часто ее видел, и в эту хижину я xoжy почти каждую ночь любезничать с нею.
Все остальные рассмеялись и продолжали свою игру. Юпоша не знал, что его ложь пошла на пользу женщине и помогла ей беспрепятственно удалиться.
Она вернулась в хижину старика и сразу же пустилась в путь, к себе домой. Придя на место, где лежали тела ее названых братьев, она положила их рядом, ногами на восток. Потом, взяв топор, который у нее был при себе, она бросила его вверх, восклицая:
— Братья, встаньте и отойдите, не то он упадет на вас. — Она проделала это трижды, и на третий раз братья все поднялись и встали на ноги.
Маджикивис стал тереть глаза и потягиваться.
— Вот как я заспался! — сказал он.
— Да разве ты не знаешь, — сказал другой, — что мы все были убиты и наша сестра возвратила нам жизнь?
Юноши взяли тела врагов и сожгли их. Вскоре женщина ушла в отдаленную страну добывать дли юношей жен, — они не знали, куда именно. Она вернулась с десятью девушками и отдала их десяти юношам, начиная со старшего. Маджикивис топтался взад и вперед, беспокоясь, что не получит ту, которая ему понравилась. Но он не разочаровался, так как она досталась ему. Пары были хорошо подобраны, ибо сестра была волшебницей. Всо они поселились в огромной хижине, и их сестра сказала, что женщины должны каждую ночь по очереди ходить к голове ее брата и пытаться ее отвязать. Те охотно согласились на это. Старшая из женщин сделала первую попытку и со свистящим шумом полетела по воздуху.
К рассвету она вернулась. Ей не повезло, так как она успела развязать только один узел. Все по очереди отправлялись туда, и каждая за один раз успевала развязать только один узел. Но когда отправилась младшая, она начала работу, как только попала на место; хотя хижина всегда была занята людьми, индейцы никого не могли видеть. Уже десять дней дым не поднимался, но наполнял хижину и выгонял их. В эту последнюю ночь дым выгнал их всех, и молодая женщина унесла голову.
Юноши и сестра услышали, как высоко в воздухе летит молодая женщина, и услышали, как она говорит:
— Приготовьте тело нашего брата.
Услышав это, они тотчас же отправились в маленькую хижину, где лежало почерневшее тело Ямо. Его сестра начала надрезать шею, от которой была отделена голова. Она надрезала так глубоко, чтобы шея стала кровоточить, а другие, кто был там, растирали тело и с помощью разных снадобий уничтожили черноту. В то же время и женщина, принесшая голову, сделала надрез на голове и вызвала кровотечение.
Как только она подошла, они приложили голову вплотную к телу, и при помощи разных снадобий и всяческих других средств они воскресили Ямо в прежней красоте и мужестве. Все радовались счастливому окончанию несчастий и веселились все вместе; потом Ямо сказал: «Теперь я разделю вампум», — и, взяв пояс, в котором был заключен вамнум, он начал со старшего, раздавая талисман равными долями. Но младший получил самую богатую и прекраснейшую долю, так как на дне пояса лежали драгоценнейшие и редчайшие сокровища.
Братьям было сказано, что, так как они уже были мертвы и воскрешены, они перестали быть смертными, а стали духами и им предназначены различные места в невидимом мире. Только Маджикивису было точно сказано, где он будет находиться. Ему было поручено на веки веков управлять западным ветром, который до того времени назывался Кибеян. Всем им было приказано, насколько в их силах, делать добро обитателям земли и, забыв все страдания, которые онн испытали, добывая вамнум, щедрой рукой раздавать добро. И было им также приказано считать вампум священным: камешки или раковины светло-голубого цвета должны служить эмблемой мира, а темные, синие, будут вести к злу и войне.
С песнями и кликами поднялись тогда духи и полетели — каждый к своему месту — ввысь, а Ямо и сестра его Ямоква спустились в глуби земные.
Примечания
1
Взято М. Твеном в качестве предисловия из «Харперс Мэгэзин» (февраль 1863 года). Печаталось во всех изданиях книги, выходивших при жизни писателя.
(обратно)2
Город Ганнибал, штат Миссури. (Прим. автора.).
(обратно)3
Относится к тому времени; сейчас это неверно (1882 год). (Прим. автора.).
(обратно)4
Если вспомнить, что власть капитана была пышной, но пустой видимостью, а настоящая власть принадлежала лоцману, — в этой фразе было нечто цинично-меткое и удачное в смысле формулировки. (Прим. автора.).
(обратно)5
Время спорное: некоторые добавляют еще час и шестнадцать минут. (Прим. автора.).
(обратно)6
Капитан Марриэт, писавший сорок пять лет тому назад, говорит: «В Сент-Луисе двадцать тысяч жителей. Река у города вся заполнена пароходамя, стоящими в два, а то и в три ряда». (Прим. автора.).
(обратно)7
«Большая башня» (англ.).
(обратно)8
Здесь и ниже в квадратных скобках приводятся отрывки из «Жизни на Миссисипи», которые при жизни М. Твена не печатались.
(обратно)9
В те времена было довольно распространено глупое суеверно, будто пода Миссисипи не поддерживает пловца и не дает толу утоплеипика всплыть на поверхность. (Прим. автора.).
(обратно)10
«Тебе, бога, хвалим», «Да услышит молитву мою», «Господи, храни короля» (лат.).
(обратно)11
Владения Людовика Великого, короля Франции и Наварры; 9 апреля 1682 (франц.).
(обратно)12
Новоорлеанский «Таймс-Демократ» от 26 августа 1882 года. (Прим. автора).
(обратно)13
Авторы объявления легкомысленно забыли иллюстрировать свое утверждение примерами, вот они:
«Ноксвилл, штат Теннесси, 19 октября. Сегодня утром, в десять часов с минутами, генерал Джозеф А. Мабри, Томас О'Коннор и Джозеф А. Мабри-младший были убиты в перестрелке. История началась с того, что вчера днем генерал Мабри напал на майора О'Коннора и грозил убить его. Произошло ото иа ярмарочной площади, и О Коннор сказал Мабри, что здесь не место сводить счеты. Мабри тогда сказал О'Кониору, что он его и живых не оставит. Мабри был вооружен, а О'Коннор — нет. Причиной столкновения послужила старая вражда из-за перехода какой-то собственности Мабри к О'Коннору. В тот же день Мабри послал записку О'Коннору, что убьет его, как только увидит. Сегодня утром майор О'Коннор стоял в дверях Национального ремесленного банка, директором которого был. Генерал Мабри с каким-то джентльменом шел но противоположной стороне Гэйстрит. О'Коннор вошел в банк, взял ружье, спокойно прицелился в генерала Мабри и выстрелил. Мабри упал мертвым, так как выстрел попал в левый бок. Когда он упал, О'Коннор выстрелил вторично и попал Мабри в бодро. После итого О'Коннор бросился и банк и достал другое ружье. Тем временем Джозеф А. Мабри-младший, сын генерала Мабри, не замеченный О'Коннором, промчался по улице и, очутившись в сорока шагах от О'Коннора, выстрелил в него из пистолета; нуля попала в правую сторону груди и прошла навылет вблизи сердца. В ту секунду, когда Мабри выстрелил, О'Коннор обернулся и также выстрелил; заряд попал молодому человеку в правый бок. Мабри упал, изрешеченный крупной дробью в двадцати местах, и почти тотчас же свалился мертвым и О'Коннор. Мабри пробовал подняться, но упал снова — и умер. Вся драма произошла в течение двух минут, и все трое умерли на месте. У генерала Мабри обнаружено в теле около тридцати дробинок. Тяжело ранены двое прохожих — один в бедро, другой в руку. У четырех других одежда пробита дробью. Происшествие наделало много шуму, и Гэйстрит была запружена тысячной толпой. Генерал Мабри и его сын Джо были лишь за несколько дней до того оправданы но делу об убийство Мозеса Ласби и его сына — Дона Ласби, которых они застреляли несколько недель тому назад. Уилл Мабри был убит Доном Ласби в прошлое рождество. Майор Томас О'Коннор состоял директором Национального ремесленного банка и был самым состоятельным человеком в нашем штате». (Телеграмма «Ассошиэйтед Пресс»).
«В прошлом месяце профессору Сомервиллского (штат Теннесси) женского колледжа Шарпу, «человеку спокойному и порядочному», сообщили, будто его шурин, некий капитан Бертон, грозит, что убьет его. Бертон, как говорили, уже убил одного человека и пырнул ножом другого. Профессор вооружился двустволкой, отправился на поиски своего шурина, нашел его за бильярдом и кафе и прострелил ему голову. Мемфисская «Лавина» сообщает, что поведение профессора вызвало всеобщее одобрение. Понимая, что при нынешних правах закон бессилен защищать его, он защитил себя сам.
Приблизительно в это же время двое молодых людей и Северной Каролине поссорились из-за девушки и обменялись «враждебными посланиями». Друзья пытались их помирить, но все было напрасно. 24 числа молодые люди встретились на дороге. У одного из них в руках была тяжелая дубина, у другого — топор. Тот, что с дубиной, отчаянно боролся за свою жизнь, но борьба была безнадежна. Метко направленный удар вышиб дубину у него из руки, и через мгновение он был мертв.
Приблизительно в это же время два молодых человека из «высшего круга» Виргинии, клерки скобяного склада в Шарлоттсвилле, как-то дурачились, пока дело не дошло до драки. Питер Дик засыпал Чарльзу Родсу глаза перцем. Роде потребовал извинения. Дик извиниться не пожелал, и они решили, что остается только дуэль, но тут возникло затруднение: у них не было пистолетов, а достать их было невозможно, так как случилось все это поздно вечером. Тогда один из них сказал, что годятся и мясницкие ножи, и другой согласился. В результате Роде упал с распоротым животом, и рана, может быть, окажется смертельной. Возможно, Дика и арестовали, однако нам об этом ничего не известно. Но он «выразил глубокое сожаление», и, как сообщает стонтоновский корреспондент филадельфийской «Прессы», были приняты все меры к тому, чтобы замять дело». (Выдержки из газет.) (Прим. автора.).
(обратно)14
«Записки о Соединенных Штатах, 1838/39/40». Автор — Джордж Коум. Этот шотландец всегда хвалил нас где только можно и бранил весьма неохотно. (Прим, автора).
(обратно)15
Семьдесят лет тому назад преподобный Лаймен Бичер участвовал в собрании священников в доме одного из них, когда посвящали в сан нового собрата. он пишет об этом так: «Там (на буфете) мы увидели всо напитки, бывшие тогда в ходу. Пили все поголовно… Когда они (священники) не могли пить все сразу, они были вынуждены стоять и ждать очереди, как люди ждут у мельницы. Никто из собравшихся не был пьян, но…» — тут автор намекает, что все были здорово под мухой. Потом на сцене появился табак и трубки, и «через четверть часа, если не меньше, стоял такой дым, что ничего нельзя было видеть. А шум и описать трудно; это был верх веселья». (Автобиография Лаймена Бичера, доктора богословия, стр. 245.) (Прим. автора.).
(обратно)16
Генри Брэдшоу Фирон, Повествование о путешествии в пять тысяч миль по восточным и западным штатам Америки, Лондон, 1819. (Прим. автора.).
(обратно)17
Вот копия такого билета:
Центральная Нью-Йоркская и Гудзоновская жел. дор.
1881 г.
ПРОПУСК
Условия пользования см. на обор.
Нью-Йорк — Утика.
(обратно)18
Евреев хоронят в могилах с особого разрешения, насколько я понял, а не по требованию. И больше никого, только бедняков, которых погребают на общественный счет. Могилы роются не глубже трех-четырех футов. (Прим. автора).
(обратно)19
Минимальный расход четыре-пять долларов. (Прим. автора).
(обратно)20
Игра слов: health (здоровье) напоминает по звучанию hell (ад).
(обратно)21
Рекс (Rex) — король (лат.).
(обратно)22
Цифра дана по памяти и, возможно, неточна, Кажется, было больше. (Прим. автора.).
(обратно)23
Подлинник этой заметки, написанный рукою капитана, мне переслали из Нового Орлеана. Вот что она гласит:
«Виксберг, 4 мая 1859 года.
Для блага граждан Нового Орлеана сообщаю свое мнение. Вода ныне стоит выше, чем наблюдалось с 1815 года. Мое мнение таково: вода, несомненно, зальет фута на четыре Кэнэлстрит к 1 сего июня. Плантация миссис Тернер у острова Большая Глыба уже под водой, чего по бывало с 1815 года. А. Селлерс». (Прим. автора.).
(обратно)24
Зима. (Прим. автора.).
(обратно)25
Боевой клич индейцев. (Прим. автора.).
(обратно)

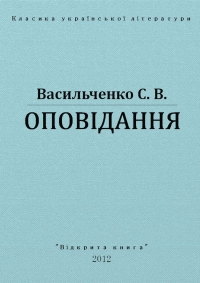

Комментарии к книге «Жизнь на Миссисипи», Марк Твен
Всего 0 комментариев