Франсуа Мориак Клубок змей
Враг своих близких, душа, пожираемая ненавистью и алчностью, — низкое существо! И все же я хотел бы вызвать в вашем сердце жалость и хоть каплю сочувствия к нему. Всю жизнь убогие страсти заслоняли от него свет, сиявший так близко, что порою жаркие лучи касались и обжигали его. Да, страсти... Но прежде всего — люди, не очень-то милосердные христиане. Он оказался их жертвой и мучителем. Ведь сколько среди нас строгих судей презренного грешника, — они-то и отвращают его от истины, ибо ей уж не воссиять сквозь их толпу.
Нет, не деньги были кумиром этого скупца, не мести жаждал этот бесноватый. Что он любил в действительности, вы узнаете, если у вас хватит терпения и мужества выслушать его исповедь, вплоть до последнего признания, прерванного смертью...
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Как ты будешь удивлена, найдя это послание у меня в сейфе на пачке ценных бумаг! Быть может, лучше было бы отдать письмо на хранение нотариусу, и он вручил бы его тебе после моей смерти; или положить его в ящик письменного стола, — наследники, конечно, поспешат взломать стол еще до того, как остынет мой труп. Но ведь долгие годы я столько думал и передумал об этом письме и в бессонные ночи так ясно представлял себе, как оно будет лежать на полочке сейфа — совершенно пустого сейфа, где не будет ровно ничего, кроме этого акта мести, которую я подготовлял почти полвека. Успокойся (да ты, впрочем, уже успокоилась), — процентные бумаги целы! Я так и слышу этот ликующий возглас. Как только ты вернешься из банка, ты крикнешь детям, еще не откинув с лица траурный креп: «Процентные бумаги целы!»
А ведь они чуть было не исчезли из сейфа: я уже готовился принять для этого меры. Стоило мне захотеть, и я всего бы вас лишил, оставил бы вам только дом и землю. На ваше счастье, ненависть моя умерла. Я долго думал, что у меня ненависть — самое живучее из всех чувств. А вот я ее не испытываю больше, — по крайней мере, сегодня не испытываю.
Я состарился, одряхлел, и мне трудно представить себе — неужели я был когда-то безумцем, больным существом, одержимым ненавистью? Неужели я ночи напролет обдумывал — не средства отмщения (эта бомба замедленного действия была уже изготовлена с величайшей тщательностью, чем я очень гордился) — я размышлял о том, как буду наслаждаться своей местью. Как мне хотелось дожить до той минуты, когда ты вернешься из банка, вскрыв пустой сейф. Как бы у вас вытянулись физиономии! Нужно было только постараться все устроить умно, выдать тебе доверенность на вскрытие сейфа не слишком рано и не слишком поздно, чтоб не лишить себя радости услышать, как все вы с отчаянием в голосе будете вопрошать: «Где ценные бумаги?» Даже самая мучительная агония, пожалуй, не испортила бы мне этого удовольствия. Да, я был способен на такое вероломство. Как меня довели до этого? Ведь я не был извергом.
Уже четыре часа дня, а на столе в моей спальне все еще стоит поднос с остатками завтрака; по грязным тарелкам ползают мухи. Я звоню, но все без толку. В деревне звонки всегда испорчены. Набравшись терпения, жду, когда кто-нибудь наконец заглянет ко мне. В этой комнате я спал в детстве, и здесь же я, вероятно, умру. А в день моей смерти милая дочь Женевьева первым делом потребует отцовскую спальню для своих детей. Ведь я занимаю самую большую и самую хорошую комнату в доме. Будьте справедливы и вспомните, пожалуйста, что я предлагал Женевьеве уступить ей место и, конечно, сделал бы это, если б не вмешался доктор Лаказ, заявивший, что для моих бронхов вредна сырость и мне поэтому не годится жить в нижнем этаже. Я-то, разумеется, переселился бы туда, но с затаенной обидой, и рад, что мне в этом помешали. (Постоянно я приносил своим близким жертвы, отравлявшие мне жизнь, и чувство горькой обиды, которое они оставляли в душе, не только не утихало со временем, но возрастало и крепло от воспоминаний об этих жертвах.)
Злопамятство и гневливость — черты наследственные в нашей семье. Я не раз слышал от матери, что мой отец долгие годы был в ссоре со своими родителями, а они тридцать лет не желали встречаться со своей дочерью, которую выгнали из дому, и до самой своей смерти не помирились с ней (от нее пошла наша марсельская родня, с которой мы не знакомы). Младшее поколение в нашей семье никогда не знало причин этих раздоров, но, доверяя старшим, впитало в себя их ненависть; я и сейчас, пожалуй, отвернулся бы от своих марсельских кузенов, если б встретился с ними на улице. Можно не видеться с дальними родственниками, а куда денешься от своей законной жены и от своих собственных детей? Бывают, конечно, хорошие, дружные семьи, но как подумаешь, сколько у нас супружеских союзов, в которых муж и жена раздражают друг друга до последней степени, терпеть друг друга не могут, а между тем едят за одним столом, умываются из одного умывальника, спят на одной постели, — то просто диву даешься, что у нас еще мало разводов! Ненавидят друг друга, а спастись бегством не решаются; так и живут под одной кровлей...
Почему это у меня нынче такое лихорадочное желание писать о своей жизни, именно сегодня — в день моего рождения? Мне пошел шестьдесят восьмой год, но только я один об этом знаю. День рожденья Женевьевы, Гюбера и их деток у нас всегда отмечается; пекут сладкий пирог, втыкают в него свечечки, дарят виновникам торжества цветы... Я уже много лет ничего не дарил тебе на день рождения — и не потому, что забываю, а из мести... Довольно!.. Последний букет, полученный мною на день рождения, был подарком моей бедной мамы — она нарвала для меня эти цветы своими старческими руками, обезображенными подагрой; не думая о своей грудной жабе, о всех своих недугах, она с трудом добрела до розария.
Так о чем это я говорил? Ах да, — ты, конечно, удивляешься, почему вдруг на меня напало неистовое желание писать, — именно неистовое. Можешь судить об этом хотя бы по моему почерку: все буквы скривились в одну сторону, как сосны под западным ветром. Послушай, в начале письма я говорил, что долго обдумывал свою месть, и вот отказываюсь от нее. Но есть кое-что в тебе, кое-что, исходящее от тебя, над чем мне хочется восторжествовать, — я имею в виду твое молчание. Не пойми меня превратно. Я очень хорошо знаю, какая ты тараторка — ты можешь часами беседовать с Казо по поводу домашней птицы или огорода. С детишками, даже самыми маленькими, ты весело болтаешь и сюсюкаешь целые дни. Зато со мной!.. Ах, это мрачное молчание за семейными трапезами! Я вставал из-за стола нисколько не отдохнув — голова пустая, сердце гложут заботы, а поговорить о них не с кем... И особенно тяжело мне стало дома после дела Вильнава, когда я сразу прославился в качестве крупнейшего адвоката-криминалиста, как называют меня в газетах. Чем больше я склонен был возомнить о себе, тем больше ты старалась показать мне, что я ничтожество... Впрочем, не в том дело, — мне хочется отомстить тебе за другое, за твое упорное молчание, когда дело касалось нашей семейной жизни, глубочайшего нашего разлада. Сколько раз, слушая пьесу в театре или читая книгу, я задавался вопросом: а бывают ли в жизни любовники или супруги, которые делают друг другу «сцены», объясняются начистоту, и у них становится легче на душе после таких объяснений.
Сорок с лишним лет мы оба страдали, живя бок о бок, и все эти сорок с лишним лет ты как-то ухитрялась не произнести ни единого слова, затрагивающего что-нибудь глубокое; ты всегда ускользала.
Я долго думал, что это сознательно выработанная тобою система, и все хотел понять, зачем и почему ты к ней прибегаешь. Но в один прекрасный день меня осенила догадка: моя жизнь просто-напросто не интересовала тебя. Я оказался вне круга твоих забот, занятий, развлечений и стал настолько чужд тебе, что ты всегда избегала меня, и не из страха, а потому, что тебе было скучно со мной. У тебя тонкое чутье, ты сразу угадывала малейшую мою попытку к сближению, и если я заставал тебя врасплох, находила какие-нибудь пустячные отговорки или же, похлопав меня по щеке и наскоро поцеловав, убегала по своим делам.
Конечно, можно опасаться, что ты разорвешь мое письмо, как только прочтешь первые строки. Но нет, ты этого не сделаешь, — уже несколько месяцев, как в тебе затронуто любопытство: ты удивлена, заинтригована. Хоть ты и мало ко мне присматриваешься, но как же тебе было не заметить разительную перемену в моем настроении? Да, да, я уверен, что на этот раз ты не ускользнешь от объяснения. А я хочу, чтобы и ты, и твой сын, и твоя дочь, и зять, и внуки узнали наконец, что за человек жил одиноко в стороне от вашего тесного кружка, что представлял собою тот измученный, усталый адвокат, за которым им приходилось ухаживать, потому что кошелек был у него в руках. Человек, который томился и страдал где-то на другой планете. На какой планете? Тебе и в голову не приходило полюбопытствовать, посмотреть на нее. Успокойся, я не собираюсь угостить тебя надгробным словом во славу моей особы, заранее сочиненным мною самим, или же обвинительной речью против вас. В моей натуре преобладает свойство, поражающее всякую женщину (за исключением тебя, разумеется), а именно беспощадная ясность мысли.
Никогда у меня не было той утешительной способности к изворотливому самообольщению, которая облегчает жизнь большинству людей. Если мне случалось совершить что-либо гадкое, низкое, то я первый отдавал себе в этом отчет...
Пришлось отложить перо — дождаться, когда принесут лампу. Пока ее не зажгли и не заперли ставни, я смотрел в окно, любовался красивыми тонами черепиц на крышах сараев и винного подвала — одни яркие, как цветы, а другие переливчатые, словно грудка у голубя. Слушал, как дрозды поют в густой листве плюща, обвившего и ствол, и ветви пирамидального тополя, как стучит бочка, которую катят по двору. Мне все-таки повезло: я дожидаюсь смерти в милом сердцу уголке, где все осталось таким же, каким было в моем детстве. Только вот гудит и стучит движок, поднимая воду из реки, а прежде скрипело колесо водочерпалки, которое вертела старая ослица... (Да еще рокочет этот противный почтовый самолет, который ежедневно в час вечернего чая уродует небесную лазурь.) А ведь немногим удается видеть в живой действительности, совсем близко, рядом с собою, мир своего прошлого, который большинство людей воскрешает лишь перед своим мысленным взором, когда у них хватает мужества и терпения погрузиться в воспоминания. Прикладываю руку к груди, прислушиваюсь к частому и слабому биению сердца, смотрюсь в зеркало, вделанное в дверцу шкафа, в котором хранятся шприц, ампулы с атропином, камфорой и вообще все, что необходимо в случае приступа удушья. А услышат меня, когда я позову на помощь? Они уверяют, что у меня «ложная грудная жаба», но говорят так не столько для моего, сколько для собственного утешения, чтобы им спокойнее спалось. Осторожно делаю вдох. Ощущение неприятное — как будто кто-то положил мне руку на левое плечо и нажимает на него, не дает ему свободно подняться, словно хочет напомнить: «Я тут, не забывай». Да, надо отдать справедливость смерти — ко мне она не подкрадывается по-воровски. Она уже несколько лет открыто бродит вокруг меня, я слышу ее шаги, чувствую ее дыхание; она со мной терпелива, не зря же я подчиняюсь строгой дисциплине, к которой обязывает ее приближение. Вот и доживаю свой век в халате, создав вокруг обстановку, приличествующую больному старику; сижу в том самом глубоком кресле с подушечками, в котором и моя мать ждала смертного часа; и так же, как у нее, возле меня стоят на тумбочке всякие пузырьки и коробки с лекарствами; я плохо выбрит, от меня плохо пахнет, я стал рабом отвратительных мелочных причуд. Но не доверяйте этому: когда приступов нет, я оживаю и еще могу постоять за себя. Я вновь появляюсь в конторе моего поверенного Буррю, который уже считал, что я отправился на тот свет; у меня хватает сил целыми часами просиживать в подвалах банка и стричь купоны.
Надо мне еще пожить немножко, чтоб дописать свою исповедь. Должна же ты выслушать меня наконец, а то ведь в те долгие годы, когда я разделял с тобой ложе, ты всегда твердила вечером, стоило мне приблизиться к тебе: «Ах, я падаю от усталости, смертельно хочу спать, я уже сплю, сплю!..»
Ты старалась избежать не столько моих ласк, сколько моих слов.
И правда, ведь наше несчастье и породили разговоры — те бесконечные беседы, которые мы так любили, когда только что поженились. Мы были очень молоды: мне исполнилось двадцать три года, а тебе — восемнадцать, и, пожалуй, любовные утехи доставляли нам меньше радости, чем откровенные, доверчивые излияния. Как в детской дружбе, мы поклялись ничего не таить друг от друга. Мне, в сущности, не в чем было исповедоваться, даже приходилось приукрашать свои жалкие похождения, и я не сомневался, что и у тебя такое же скудное прошлое: я просто не мог себе представить, чтобы ты до встречи со мною произносила имя какого-нибудь другого юноши; я был уверен в этом до того вечера, когда...
Было это в той самой спальне, где я сейчас пишу. Обои на стенах с тех пор переменили, но мебель красного дерева все та же и так же расставлена, и попрежнему стоит на столике кувшин из переливчатого опалового стекла и чайный сервиз, выигранный в лотерею. По ковру тянулась тогда полоса лунного света. Теплый южный ветер, пролетавший над ландами, доносил до нашей постели запах гари.
Ты не раз говорила мне о каком-то Рудольфе, своем друге, и всегда это бывало ночью, в спальне, как будто его призраку полагалось появляться меж нами в часы самой глубокой нашей близости; ты и в тот вечер опять произнесла его имя — помнишь? Но этого тебе показалось мало. «Мне бы следовало, милый, кое о чем сказать тебе перед нашей помолвкой. Право, меня совесть мучит, что я тебе не призналась... О, ничего особенного, успокойся!»
Я нисколько не встревожился и не намеревался ничего выпытывать. Но ты была так любезна, что сама принялась развлекать меня признаниями и преподносила их с такой готовностью, что я сначала смутился. И пустилась ты в откровенности вовсе не потому, что тебя мучила совесть или заговорило в тебе чувство деликатности, в чем ты меня убеждала, да и сама была убеждена. Нет, ты просто наслаждалась сладостными воспоминаниями, ты больше не могла молчать. Может быть, ты и чувствовала опасность, грозящую гибелью нашему счастью, но, как говорится, это было сильнее тебя. Тень Рудольфа против твоей воли витала вокруг нашей постели.
Не думай, пожалуйста, что источником нашего несчастья была ревность. Позднее я действительно бешено ревновал тебя, но в ту летнюю ночь 1885 года, о которой идет речь, я не испытывал ничего похожего на это жестокое чувство, когда ты призналась мне, что прошлым летом в Эксе, куда вы ездили всем семейством, этот незнакомый мне юноша был твоим женихом.
Подумать только! Лишь через сорок лет я получил возможность объясниться по этому поводу. Но прочтешь ли ты мое письмо? Ведь все это тебя совсем не занимает. Все, что меня касается, для тебя скучно. Когда-то тебя поглощали дети — дети мешали тебе видеть и слышать меня, а теперь у тебя растут внуки... Что ж, тем хуже. Надо все-таки попробовать, в последний раз попытать счастья. Быть может, мертвый я буду для тебя интереснее, чем живой, хотя бы в первые дни, и ты из чувства долга прочтешь эти страницы до конца. Мне так хочется верить в это. И я верю.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Нет, я не испытывал ревности во время твоей исповеди. Но поймешь ли ты, что она разрушила во мне? Как тебе это объяснить? Я был у матери единственным ребенком. Она рано овдовела и одна растила меня. Ты знала ее, вернее сказать, долгие годы жила рядом с ней, не зная ее. Даже если б тебя это интересовало, тебе было бы трудно понять душевную близость, соединявшую два одиноких существа — мать и сына; ведь у вас была совсем другая семья — богатая и влиятельная, многочисленная буржуазная семья, с твердо установленной домашней иерархией, со сложными правилами и распорядком. Нет, тебе не понять, какими страстными, нежными заботами может окружить сына, единственное свое сокровище на земле, вдова мелкого чиновника, начальника одного из отделов префектуры. Мои школьные успехи переполняли ее гордостью. У меня же, кроме них, и не было других радостей. В те времена я был твердо уверен, что мы очень бедны. На мой взгляд, об этом свидетельствовала наша скромная жизнь и строжайшая экономия, которую мама сделала для себя законом. Я, конечно, ни в чем не знал недостатка. Теперь-то я вижу, как меня холила и баловала мать. В Остейне у нее была ферма, оттуда нам по дешевой цене доставляли провизию, и в детстве я был бы очень удивлен, если б мне сказали, что в нашем доме изысканный стол: откормленные пулярки, зайцы, паштеты из дичи — все это нисколько не казалось мне роскошью. Я всегда слышал разговоры о том, что наша ферма ничего не стоит. И правда, когда она досталась матери в наследство, то земля вокруг нее была бесплодной пустошью, — там мой дед в детстве сам пас коров. Но мне было неизвестно, что мои родители прежде всего позаботились о том, чтоб ее распахали, засеяли семенами сосны, и когда мне исполнился двадцать один год, я оказался владельцем двух тысяч гектаров молодого сосняка, где уже вели вырубку, поставляя крепежный лес в шахты. Мать делала также сбережения из своих скромных доходов. Еще при жизни отца, «вытянув из себя все жилы», купили усадьбу Калез (за сорок тысяч франков, а я теперь эти виноградники и за миллион не отдам). Мы жили на улице Сент-Катрин в собственном доме на четвертом этаже (дом этот и несколько незастроенных участков отец получил от родителей перед женитьбой). Из деревни два раза в неделю присылали корзину с провизией: мама старалась как можно реже «ходить к мяснику». Я был одержим неотвязной мыслью попасть в Эколь Нормаль. По воскресеньям и четвергам приходилось меня чуть не силой прогонять из дому «подышать воздухом». Я нисколько не походил на тех хвастунишек, которые делают вид, что они без всякого труда стали первыми учениками. Я был «зубрила» и гордился этим: да, мол, я зубрила, вот и все! Помню, что в лицее мне не доставляло никакого удовольствия изучать Вергилия или Расина. Раз задано «по курсу» — значит, зубри, и только. Из всех творений человеческого гения я выделял те, которые «входили в программу», лишь они имели значение в моих глазах, и по поводу их я писал в своих сочинениях то, что полагается писать в угоду экзаменаторам, то есть то, что говорилось и писалось многими поколениями юношей, поступающих в Эколь Нормаль. Вот каким я был идиотом, возможно, таким и остался бы, если б за два месяца до конкурсных экзаменов не началось у меня кровохарканье, которое привело мою мать в такой ужас, что мне пришлось все бросить.
Так я поплатился за то, что слишком много зубрил в детстве и в юности; когда мальчик растет, развивается, нельзя ему безнаказанно сидеть до глубокой ночи за письменным столом, согнувшись над тетрадями и книгами, знать не зная никаких физических упражнений.
Письмо мое наскучило тебе? Ужасно боюсь наскучить. Но, умоляю, не пропускай ни одной строчки. Уверяю тебя, я говорю только о самом необходимом: вся трагедия нашей с тобой жизни проистекает из этих мелких событий, ты их не знала или забыла о них.
К тому же я, как ты могла убедиться из первых же строк моего письма, вовсе не собираюсь щадить себя. Тут немало найдется приятного для твоей ненависти... Ну да, да... не возражай, пожалуйста: ведь если ты когда-нибудь и думаешь обо мне, то всегда враждебно.
Боюсь, однако, что я несправедлив к тому хилому мальчугану, каким я был, к заморышу, корпевшему над толстыми справочниками и словарями. Когда я читаю воспоминания детства других людей и вижу, какой светлый рай встает у них у всех перед глазами, я думаю с тоской: «А я? Почему моя жизнь всегда была такой унылой пустыней? Может быть, я просто позабыл то, о чем вспоминают другие? Может быть, и я знал в детстве такие же дивные радости?..» Увы! Я вижу и на заре жизни только остервенелую зубрежку, яростную борьбу за первое место, злобное соперничество с двумя моими одноклассниками по прозвищу Енох и Родриго. Я инстинктивно отвергал всякую дружбу с товарищами. Ореол моих успехов и даже мое высокомерие, помнится, привлекали ко мне некоторых школьников. Я свирепо отталкивал всякого, кто выражал мне свою симпатию, терпеть не мог «сантиментов». Будь я даже профессионалом-литератором, и то мне бы не удалось извлечь из воспоминаний о своей школьной жизни ни одной умилительной страницы. Погоди... все-таки был один проблеск чувствительности, но очень слабый, почти незаметный. Я часто думал об отце, которого едва помнил, и мне иногда удавалось убедить себя, что папа не умер, — нет, были какие-то необыкновенные обстоятельства, и он куда-то исчез. Возвращаясь из лицея, я бегом бежал домой по улице Сент-Катрин, прямо по мостовой, лавируя между экипажами, — по тротуару идти было слишком долго, очень уж много там сновало прохожих. Я стремглав взлетал по лестнице. Мать сидела у окна, чинила белье. Папина фотография висела на обычном своем месте — справа от кровати. Я милостиво позволял матери целовать меня, но едва отвечал на ее расспросы и сразу же садился за уроки.
Лишь только у меня началось кровохарканье, так круто изменившее мою судьбу, мать увезла меня в Аркашон, и я провел в сельском домике на берегу залива долгие и такие мрачные месяцы: ведь из-за того, что здоровье мое было подорвано, рухнули мои мечты о профессорской карьере. И я очень сердился на маму: для нее такая трагедия совсем не имела значения, и мне казалось, что она не заботится о моей будущности. А бедная мама каждый день с трепетом ждала «часа термометра». От еженедельного взвешивания моей особы зависела и ее скорбь, и ее радость. Много лет спустя, когда мне пришлось изведать, как горько лежать больным, если никого решительно твоя болезнь не тревожит, я подумал: судьба справедливо наказывает меня за мою черствость, за то, что я не ценил обожавшую меня мать.
С первых же весенних дней я «выправился», как говорила мама, и буквально воскрес. Стал шире в плечах, возмужал. Мой организм, совсем было захиревший от нездорового образа жизни, окреп и развился в сухой лесистой местности, покрытой зарослями толокнянки, дрока и соснами, под которыми приютился Аркашон, — в те годы он еще был просто деревней.
И как раз в это время мать сообщила мне, что она нисколько не боится за мою будущность, ибо у нас с ней есть весьма недурное состояние и оно с каждым годом все увеличивается. Спешить мне ни к чему, тем более что от военной службы меня, наверно, освободят. У меня врожденный дар слова, поражавший всех моих учителей. Мне лучше всего поступить на юридический факультет; там все науки я постигну без особого труда и очень скоро стану знаменитым адвокатом, а если захочу, могу заняться политической деятельностью. Размечтавшись, мама говорила, говорила, открывая мне свои планы, а я слушал ее в угрюмом, злобном молчании, рассеянно глядя в окно.
Я уже начал «ухаживать». Мама наблюдала за мной с боязливой снисходительностью. Позднее, когда мне пришлось жить в кругу твоих родных, я увидел, каким важным пороком считают в религиозной семье распущенность. Но моя мать видела тут лишь одну опасность: как бы это не повредило моему здоровью. Убедившись, что я не злоупотребляю такого рода удовольствиями, она стала смотреть сквозь пальцы на мои вечерние отлучки и требовала только, чтобы к двенадцати часам я был дома. Не бойся, я не стану рассказывать о своих юношеских любовных шалостях. Я знаю, тебя приводят в ужас такие истории, да и похождения-то у меня были весьма убогие.
Но они стоили мне довольно дорого, и я страдал из-за этого. Мне было обидно, что во мне самом так мало привлекательного, что и молодость мне не помогает. А ведь, кажется, я не был уродом. Черты лица у меня, как говорится, правильные. Женевьева — вылитый мой портрет, а в девушках она была очень хороша. Но я принадлежу к той породе людей, про которых говорят, что у них нет молодости. Неприятно смотреть на угрюмого малого, когда в нем совсем нет юной свежести. Одним уж своим хмурым видом я замораживал людей. И чем лучше я это сознавал, тем больше мрачнел. Я никогда не умел одеваться, выбрать галстук, красиво завязать его. Никогда я не умел беззаботно отдаться минуте веселья, посмеяться, подурачиться. Невозможно даже было представить, чтоб меня кто-нибудь пригласил на веселую приятельскую пирушку; такие гости, как я, своим мрачным обликом испортят всем настроение. К тому же я был очень обидчив и не выносил ни малейшей насмешки. Зато уж если мне, бывало, вздумается пошутить, то я, совсем того и не желая, наносил удары дубиной, а такие насмешки не прощаются. Я грубо издевался над какой-нибудь смешной чертой в человеке, над его физическим недостатком, о котором следовало бы молчать. С женщинами же из робости и из гордости я говорил наставительным, снисходительным тоном, а они этого, как известно, терпеть не могут. Я не понимал толку в их туалетах. Чувствуя, что я не нравлюсь женщинам, я «назло им» старался подчеркнуть в себе все, что им внушает отвращение. Словом, моя молодость была длительным самоубийством. Я нарочно спешил не понравиться, боясь, что это выйдет и без моих стараний, само собой.
Не знаю, прав я тут был или нет, но я во всем винил мать. Мне казалось, что я расплачиваюсь за то, что в детстве она, на мою беду, слишком меня нежила, лелеяла, опекала, от всего оберегала. И в юности я был с ней невероятно жесток и груб. Я упрекал ее за то, что она чересчур сильно любит меня. Я не прощал ей того великого чувства, которое лишь она одна в целом свете дарила мне, той самоотверженной любви, которую никто другой никогда не дал мне изведать. Прости, что я опять говорю об этом, но в мыслях о матери я черпаю силу переносить свое одиночество, твое глубокое равнодушие ко мне. Ведь это справедливая расплата. Бедная мама уже давно уснула вечным сном, воспоминание о ней еще живет только в усталом сердце старика, каким я стал, — а как бы она страдала, если б могла предвидеть, что судьба отомстит мне за нее.
Да, я был жесток с матерью. Как невеселы были наши трапезы в маленькой столовой сельского домика при свете висячей лампы! Я едва отвечал на ее робкие вопросы или же, вдруг вспылив, разражался гневом по малейшему поводу, а то и совсем без всякого повода. Она не пыталась понять, разобраться в причинах моей злобы, принимая ее как гнев какого-то божества. «Это болезнь, — говорила она, — тебе просто нужна нервная разрядка...» И она добавляла, что как женщине малообразованной, невежественной, ей меня не понять: «Конечно, какая же я тебе компания? Молодому человеку не очень-то весело со стариками и старухами». И хотя она была всегда очень бережлива, чтоб не сказать скуповата, она теперь давала мне больше денег, чем я просил, сама толкала меня на всякие траты, привозила мне из Бордо нелепые пестрые галстуки, которые я не желал надевать.
Мы подружились с соседями. Я стал ухаживать за их дочерью, хотя она мне совсем не нравилась; девушка эта проводила зиму в Аркашоне по предписанию врачей: мама с ума сходила от страха, что я заражусь чахоткой или же скомпрометирую девицу и вынужден буду жениться на ней. Я теперь уверен, что, упорно (хотя и тщетно) добиваясь победы над этой барышней, я просто хотел доставить неприятность матери.
Через год мы вернулись в Бордо. Жили мы уже в другом месте. Мать купила дом на бульваре и ничего мне об этом не говорила, желая сделать сюрприз. Я был поражен, когда дверь нам отпер лакей. Мать отвела мне весь второй этаж. Все вокруг блестело новизной. Втайне я был восхищен роскошной обстановкой (хотя, думается, теперь бы она мне показалась ужасной), но все беспощадно раскритиковал и выразил беспокойство по поводу огромных расходов.
И тогда мама, ликуя, отдала мне отчет в положении наших дел, хотя и не обязана была это делать (большая часть нашего состояния принадлежала лично ей как ее приданое). Пятьдесят тысяч франков ежегодного дохода, не считая тех денег, какие давала вырубка лесных дач, — следовательно, по тем временам, да еще по понятиям провинциалов я обладал «недурным» состоянием, и любой молодой человек, оказавшись на моем месте, постарался бы воспользоваться им, чтоб получить доступ в высшее общество города. Честолюбия во мне было достаточно, но я не мог скрывать от своих товарищей по факультету, какие враждебные чувства я к ним питал. Почти все они были отпрысками аристократических семейств, воспитывались у иезуитов, а я учился в казенном лицее, мой дед был пастухом; я не мог им простить своей зависти к их изысканным манерам. Правда, я находил, что эти молодые щеголи гораздо ниже меня по своему умственному развитию. Завидовать ничтожным фатам, которых презираешь! Такое постыдное чувство может отравить человеку жизнь. Да, я завидовал этим юношам и презирал их; а их надменность (может быть, мнимая) еще больше распаляла во мне злобу против них. И такая уж у меня натура, что мне ни разу и в голову не приходило попробовать завоевать их симпатию, напротив, я с каждым днем все больше сближался с их противниками. Ненависть к религии, так долго являвшаяся моей преобладающей страстью, доставившая тебе столько страданий и навсегда сделавшая нас врагами, родилась во мне на юридическом факультете в 1879 и в 1880 годах — в те годы, когда в палате вотировали статью седьмую знаменитого декрета и когда изгнали из Франции иезуитов.
До той поры я был равнодушен к вопросам религии. Мать никогда их не затрагивала, разве только скажет, бывало: «Что мне беспокоиться? Если уж такие люди, как мы, не попадут в царство небесное, так, значит, и никого туда не пустят». В младенчестве она меня окрестила. Я ходил к первому причастию, когда учился в лицее, но эта церемония оставила во мне лишь смутное воспоминание, как о какой-то скучной формальности. Во всяком случае, больше я уже никогда не причащался. В вопросах религии я по-прежнему оставался круглым невеждой; в детстве, встречая на улице священников, я смотрел на них как на забавных ряженых, как на карнавальные маски. Я никогда не задумывался над такого рода проблемами, а когда наконец столкнулся с ними, то подошел к религии исключительно с политической точки зрения.
Я организовал из бывших студентов кружок; мы собирались в «Кафе Вольтера», и там я упражнялся в красноречии. В личной своей жизни я был весьма застенчив и робок, а в публичных словопрениях становился совсем другим человеком. У меня нашлись почитатели, мне приятно было слыть их главой, хотя в глубине души я презирал их не меньше, чем богатых буржуа. Я злился на них за то, что они простодушно раскрывали те жалкие побуждения, которые руководят ими в жизни, — точно такие же побуждения были и у меня самого, что заставляло меня вдумываться в свои чувства. Все эти молодые люди были сыновьями мелких чиновников, учились в школах на стипендиях, были умны и честолюбивы, но отравлены желчной завистью и злобой. Мне они льстили, но не любили меня. Иногда я угощал их обедом в ресторане — это бывало для них целым событием, о котором они долго потом толковали. Но мне были противны их манеры. Иной раз я не мог удержаться от язвительной насмешки, которая жестоко их оскорбляла и навсегда занозой впивалась им в сердце.
А вот моя ненависть к религии была вполне искренней. Мучило меня также и некоторое стремление к социальной справедливости. Я заставил мать снести саманные лачуги, в которых жили наши арендаторы-испольщики, питавшиеся черным хлебом и маисовой кашей. Впервые она попыталась было воспротивиться мне:
— Ты что ж, думаешь, они тебе будут благодарны?..
Но никаких иных подвигов я не совершил. Я страдал от сознания того, что меня сближает с моими противниками общая нам всем алчность: к землям, к деньгам. Есть на свете классы собственников и есть неимущие. Мне стало ясно, что я всегда буду в лагере собственников. Состояния у меня не меньше, а может быть, и больше, чем у тех спесивых денди, которые, как мне казалось, отворачивались, когда замечали меня, но, конечно, не отказались бы пожать мне руку, если б я протянул ее. Кстати сказать, и правые, и левые не раз попрекали меня на публичных собраниях за то, что я — владелец двух тысяч гектаров леса да еще виноградников. Прости, что я так мешкаю. Но без всех этих подробностей тебе не понять, что значила для такой уязвленной души, как моя, встреча с тобой и наша любовь. Я, крестьянский сын, у которого мать «ходила в платочке», и вдруг стал женихом мадемуазель Фондодеж! Это было просто невероятно, непостижимо.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Прервал свое послание — во-первых, потому что стемнело, а во-вторых, услышал внизу разговор. Не очень громкий разговор. Наоборот, вы говорили, понизив голос, и как раз это меня беспокоило. Когда-то из своей спальни я прекрасно мог следить за вашими беседами. Но теперь вы от меня таитесь, все шушукаетесь. Недавно ты мне сказала, что я стал туг на ухо. Вовсе нет: я хорошо слышу далекий стук поезда на железнодорожном мосту. Нет, нет я не глухонемой. А вы нарочно говорите вполголоса, вы не хотите, чтоб я слышал ваши слова. Что вы от меня скрываете? Дела, что ли, идут плохо? Недаром же вокруг тебя собралась вся семья, и все идут, высунув язык, как собаки. Тут и милый зять — маклер по продаже вин, и муж нашей внучки, убежденный бездельник, и любезный сынок Гюбер.. А между тем ведь он банкир, к нему отовсюду текут деньги, и этот малый дает по двадцать процентов дивидендов. На меня не рассчитывайте: я из своих рук ничего не выпущу. Уверен, что ты нынче вечером будешь мне нашептывать: «Очень было бы просто продать на сруб сосняк». Ты мне припомнишь, что обе дочки Гюбера живут у родителей своих мужей, ибо не получили денег на то, чтоб зажить своим хозяйством и обзавестись обстановкой. «У нас на чердаке уйма всякой мебели, она там только пылится, портится. Ну что нам стоит дать им на время эти вещи?» Да, да, уверен, что ты сейчас будешь ко мне с этим приставать. «Обе внучки на нас сердятся и больше не ездят к нам... Я лишена радости видеть милых внучек...» Несомненно, вы как раз об этом и шепчетесь.
Перечел эти строки, написанные вчера, словно в каком-то бреду. Как я мог поддаться такой злобе? И в сущности, я не письмо пишу, а веду дневник. Возобновляю свое послание. Как быть? Зачеркнуть написанное и начать по-другому? Невозможно. Время не терпит. Как написалось, так пусть и остается. Да ведь я и хотел все тебе открыть без утайки, чтоб ты заглянула в самые глубокие тайники души моей. Вот уже тридцать лет, как я в твоих глазах автомат, выбрасывающий тысячефранковые кредитки, — автомат неисправный, работающий плохо, надо его постоянно встряхивать, пока не удастся его вскрыть и выпотрошить, полными пригоршнями вытаскивая запрятанные в нем деньги.
Вот опять я поддался необузданной злобе. Возвращусь-ка лучше к тому, на чем я остановился вчера. Постепенно я дойду до истоков моего неистовства. Припомню ту роковую ночь... Но сначала надо воскресить в твоей памяти нашу первую встречу.
В августе 1883 года я находился с матерью в Люшоне. В те времена в «Отеле Скарона» полно было мягких кресел, диванов, пуфов, искусно сделанных чучел пиренейских серн. А благоуханья липовых аллей в Этиньи мне не забыть! Прошло столько лет, но когда цветут липы, мне все кажется, что я слышу именно тот дивный запах. По утрам меня будили ослики, постукивавшие копытцами по мостовой, позвякивание их бубенцов, щелканье бича погонщиков. Горные ключи бежали даже по улицам. Мальчишки-разносчики выкрикивали «розанчики», «рогульки» и молочные хлебцы. Проезжали конные проводники; я смотрел, как отправляются на прогулку кавалькады.
Весь второй этаж занимало семейство Фондодеж. Им отвели апартаменты короля Леопольда. «Вот транжиры!» — говорила мама. Это не мешало им всегда платить с запозданием (в Бордо они арендовали большой земельный участок для хранения товаров, который у нас имелся близ пристани).
В гостинице мы с мамой обедали за общим столом, а вам подавали отдельно. Я хорошо помню ваш круглый столик у окна и сидевшую за ним вашу тучную бабушку, прикрывавшую лысую голову черной кружевной наколкой, на которой дрожали бисерные висюльки. Мне все казалось, что старуха улыбается мне, это обманчивое впечатление создавалось из-за того, что у нее были крошечные прищуренные глазки и рот до ушей, узкий, как щель. Ей прислуживала монахиня с одутловатым желчным лицом, окаймленным белыми лопастями туго накрахмаленного «апостольника». А как хороша была твоя мать!.. Красавица! Всегда в черном: она носила траур по двум своим умершим сыновьям. Я сначала влюбился не в тебя, а в нее и потихоньку ею любовался. Меня волновали ее прекрасные обнаженные руки и шея. Она не носила никаких драгоценностей. Я строил в своем воображении чисто стендалевскую завязку романа и давал себе слово к вечеру обязательно заговорить с ней или сунуть ей записку. Тебя же я почти не замечал. Я внушил себе, что в молодых девицах нет ничего интересного. А к тому же у тебя была такая надменная, уничтожающая манера не обращать внимания на окружающих — ты таким способом выражала им свое презрение.
Однажды, возвратившись из казино, я оказался свидетелем разговора между моей матерью и г-жой Фондодеж, которая говорила чересчур любезным, вкрадчивым тоном, как полагается воспитанному человеку, не желающему опуститься до низкого уровня своего неотесанного собеседника. Мама, наоборот, нисколько не стеснялась и не понижала голоса: ты в моих руках, голубушка, и я тебя прижму. В ее глазах господа Фондодеж были просто-напросто неаккуратными плательщиками. Она по-крестьянски ценила только землю, не доверяя торговым делам и непрочному купеческому богатству, над которым всегда висит угроза банкротства. Я прервал ее на середине язвительной фразы: «Конечно, я верю подписи вашего супруга, а только, знаете ли...»
Впервые я вмешался в деловой разговор. Г-жа Фондодеж получила желательную для нее отсрочку. Впоследствии мне не раз приходила мысль, что крестьянская смекалка моей матери ее не обманула: твое семейство стоило мне довольно дорого, и если б я поддавался вам, твой сын, твоя дочь, муж твоей внучки живо бы пустили по ветру все мое состояние, все бы пожрала их коммерция. Их коммерция! Контора в первом этаже, телефон, машинистка... А за этой скромной деловой декорацией сотни тысяч так и летят! Да что ж это я отвлекся... Мы ведь вспоминаем о нашем с тобой знакомстве в Баньер-де-Люшоне в 1883 году.
Теперь все ваше семейство встречало меня любезными улыбками. Бабушка за столом говорила без умолку, не дожидаясь ответов, так как была глуха. А твоя мама разочаровала меня — несколько раз мне случалось поболтать с ней после обеда, и она оказалась весьма скучной особой, совсем не отвечающей моим романтическим представлениям о ней. Не сердись, пожалуйста, за такие воспоминания, но, право, всегда она лепетала что-то плоское, ничтожное; все мысли ее вращались в узком, тесном мирке, а язык поражал своей скудостью, — словом, через три минуты мне уже становилось скучно, и я не знал, о чем с ней говорить.
Разочаровавшись в матери, я обратил внимание на дочь. Я не сразу заметил, что нам с тобой весьма охотно предоставляли возможность беседовать. Мог ли я подумать, что семейство Фондодеж видит во мне завидного жениха? Мне вспоминается прогулка в долину Лилий. Ехали туда в коляске — бабушка и ее монахиня на заднем сиденье, а мы с тобой на передней скамеечке. Наемных экипажей в Люшоне, слава богу, было достаточно. Только господам Фондодеж могла взбрести в голову фантазия выписать на воды свою собственную коляску.
Лошади шли шагом, над ними вилась целая туча мух. У монахини лицо лоснилось от пота, она дремала, полузакрыв глаза. Бабушка обмахивалась купленным в парке Этиньи веером, на котором был нарисован матадор, закалывающий шпагой черного быка. Несмотря на жару, ты была в длинных, по локоть, перчатках. Все на тебе было белое, даже высокие ботинки. Ты сказала: «После смерти братьев я дала обет носить только белое». Я тогда не понимал, что это значит — носить по обету тот или иной цвет. Впоследствии мне пришлось узнать, что в вашей семье питали склонность к таким нелепым религиозным обычаям. Но при том душевном состоянии, в каком я был тогда, мне это казалось очень поэтичным. Как тебе объяснить тогдашние мои переживания? Вдруг почувствовать, что ты не внушаешь отвращения, что ты не противен девушке и, может быть, даже нравишься ей! Каким знаменательным для меня стал тот вечер, когда ты мне сказала: «У вас длинные ресницы, удивительно длинные для мужчины!»
Я старательно скрывал свои передовые взгляды. Помню, во время этой прогулки мы с тобой на подъеме вылезли из коляски, чтобы лошадям легче было тянуть ее в гору; твоя бабушка и монахиня тем временем принялись перебирать четки и бормотать молитвы, а кучер, вышколенный за долгие годы службы у вас, возглашал с козел: «Аминь!» Ты улыбалась, поглядывая на меня. Но я сохранял невозмутимую серьезность. Без всякого усилия над собой я сопровождал по воскресеньям тебя и твою мать к поздней обедне, начинавшейся в одиннадцать часов. Церковные службы не вызывали у меня никаких метафизических мыслей. Религиозный культ — только и всего, вполне обычный для того класса, к которому и я теперь принадлежу (я с гордостью это сознавал); своего рода традиция, религия предков, хранимая буржуазией, система обрядов, имеющая лишь социальное значение.
Иной раз в церкви ты украдкой посматривала на меня, и воспоминание об этих обеднях связывалось у меня с чудесным открытием, переполнявшим мою душу восторгом: оказывается, я могу нравиться, пленять, взволновать девичье сердце. Моя любовь, как мне казалось, сдваивалась с твоей любовью ко мне. Впрочем, какое значение имели мои собственные переживания. Самым важным была моя вера в твою любовь; я, как в зеркале, отражался в женской душе, и, как видно, образ мой ее нисколько не отталкивал. Какое дивное отдохновение! Все существо мое расцвело. Никогда мне не забыть, что твои глаза растопили лед, сковывавший мою душу, и в ней забили животворные родники чувств. Самые обыкновенные знаки нежного внимания — пожатие руки, цветок, хранимый в книге, восхищали меня, все было для меня так ново.
Только моей матери не доставалось ни единой крохи от этого пиршества возрождения. Ведь я видел, как враждебно она относится к постепенно созревавшему у меня замыслу, к моей мечте, которую я и сам считал безумной. Я сердился, что она нисколько не разделяет моих восторгов. «Разве ты не понимаешь, что тебя завлекают в сети? Это уж такие люди!» — твердила она, не подозревая, что ее слова могли погубить беспредельную радость, горевшую во мне от сознания, что я наконец любим. Есть на свете девушка, которой я нравлюсь, и, может быть, она даже хочет выйти за меня замуж: я верил в это, несмотря на подозрительность моей матери.
«Такие богатые, такие влиятельные люди! Что им за выгода породниться с нашей семьей», — думал я. И я гневался на мать, почти ненавидел ее за то, что она ставила под сомнение мое счастье.
Все же она собрала некоторые интересовавшие ее сведения, так как у нее были связи в крупных банках. Как я ликовал, когда ей пришлось признать, что фирма Фондодеж, несмотря на временные затруднения, пользуется большим доверием и ей охотно дают кредит. «Они наживают бешеные деньги, но слишком уж широко живут, — говорила мама. — Все уходит на лошадей, на экипажи да на ливрейную челядь. Любят пускать пыль в глаза, не умеют беречь денежки...
Сведения, полученные из банков, окончательно уверили меня, что пришло счастье. У меня было теперь доказательство бескорыстия твоих близких: значит, они улыбаются мне только потому, что я приятен им; мне вдруг показалось вполне естественным нравиться людям, всем без исключения. Нам с тобой позволяли проводить вечера наедине, гулять в тенистых аллеях парка вокруг казино. Как странно, что в начале жизни, когда человеку выпадает немножко счастья, внутренний голос не предупреждает его, не говорит ему: «Живи ты хоть до ста лет, не знать тебе иной радости, кроме вот этих немногих часов. Наслаждайся же ими, выпей чашу счастья до дна, больше тебе уж ничего не достанется. Встретился на твоем пути родник счастья, помни — это первый и последний. Утоли жажду раз и навсегда, больше тебе пить не придется».
А я, наоборот, убеждал себя, что это только еще начало долгой счастливой жизни, полной страстной любви, и я недостаточно ценил те вечера, когда мы с тобой неподвижно сидели на садовой скамье под дремлющей листвой.
Но ведь уже и тогда были некоторые тревожные признаки, только я не умел их разгадать. Помнишь тот темный вечер, когда мы сидели на скамье у поворота дорожки, что петлями идет в гору позади водолечебницы? Ты вдруг, без всякой, казалось бы, причины, разрыдалась. Я помню запах твоих щечек, по которым струились слезы, запах непостижимого для меня горя. Я думал, что ты плачешь от счастья. По молодости лет я не мог иначе истолковать душившие тебя рыдания. Правда, ты ведь говорила мне такие успокоительные слова: «Это ничего, это оттого, что я возле вас...»
И ты не лгала, лгунья! Ты действительно плакала из-за того, что была возле меня, а не возле другого — возле того, чье имя ты наконец выдала мне несколько месяцев спустя вот в этой самой спальне, где я пишу в те дни, когда ко мне, старику, уже стучится в окошко смерть, а кругом меня собралась милая моя семейка и ждет минуты вожделенного дележа добычи.
А я-то, глупец, в тот вечер был так счастлив возле тебя, на повороте тропинки, змеившейся над Баньером. Я прижимался лицом к твоему плечу, к твоей тоненькой шейке, я вдыхал свежее, чистое благоухание, исходившее от моей маленькой плачущей девочки. Влажная и теплая пиренейская ночь, пахнувшая мокрой, росистой травой и мятой, восприяла и твой аромат. Под горой на площади Источников листва старых лип вокруг раковины для оркестра была освещена фонарями. Было видно, как старик англичанин из нашей гостиницы ловит сачком с длинной палкой ночных бабочек, слетавшихся на огонь Ты мне сказала: «Дайте мне носовой платок...» Я вытер тебе глаза и спрятал платок на груди, под рубашкой.
Я стал совсем другим человеком — думаю, этим все сказано. Совсем другим!.. Даже лица моего коснулся светлый луч счастья. Я это чувствовал по взглядам женщин. После этого вечера, после твоих слез, ни малейшего подозрения у меня не могло бы возникнуть. А сколько было вслед за этим других вечеров, когда ты вся искрилась радостью, так доверчиво опиралась на мое плечо, держалась за мою руку. Я поднимался по тропинке слишком быстро, ты говорила: «Ой, тише, тише! Я совсем задохнулась!» Я был целомудренным женихом. Ты пробудила во мне нетронутые чувства. Ни разу у меня не возникало искушения злоупотребить доверием, которое оказывали мне твои родные, мне и в голову не приходила мысль, что за этим доверием, быть может, кроется расчет.
Да, я стал другим человеком, до такой степени другим, что однажды со мной произошло нечто странное, — теперь уж можно в этом признаться, ибо вряд ли ты будешь торжествовать, читая это письмо. Это было на дороге в долину Лилий. Мы с тобой выпрыгнули из коляски и пошли пешком. Журчала вода в речке; я растирал в руке стебелек дикого укропа; внизу уже сгущалась тьма, а на вершинах гор еще сияли очаги света... И вдруг у меня возникло ощущение, нет — почти физическая уверенность, что существует иной мир, кроме нашего, существует вполне реально, но мы знаем лишь тень его...
Ощущение это длилось одно мгновение, и на протяжении моей печальной жизни оно повторялось редко и через очень большие промежутки. Но сама необычайность этого ощущения усиливала его значимость в моих глазах. Вот почему позднее, когда у нас начались бесконечные распри из-за религии, мне приходилось отгонять от себя такие воспоминания.
Я считаю своим долгом сказать тебе об этом. Но теперь уж поздно касаться этих вопросов.
Вспоминать о нашей помолвке не стоит. Однажды вечером мы стали женихом и невестой, и вышло это как-то помимо моей воли. Ты, думается мне, поняла вырвавшиеся у меня слова совсем не в том смысле, какой я хотел вложить в них, и я вдруг оказался связанным с тобою. Я просто не мог опомниться от неожиданности. Не стоит об этом вспоминать. Но тут было одно неприятное обстоятельство, на котором я заставлю себя остановиться. Ты сразу же мне сообщила, что ставишь некоторые условия, и в том числе следующие: «ради доброго согласия» ты не желаешь вести общее хозяйство с моей матерью и даже жить с нею в одном доме. Не только твои родители, но и ты сама твердо решили ни за что в этом не уступать.
Сколько лет прошло, а как отчетливо я помню свое объяснение с матерью в душном номере гостиницы. Окно было раскрыто, за ним зеленели деревья парка. Все вспоминается так ясно: золотые пылинки, пляшущие в солнечном луче, который протянулся сквозь решетчатые ставни, звон бубенчиков, доносящийся с улицы и переливчатая мелодия тирольской песни. У матери разболелась от жары голова, и она лежала на диване, одетая в юбку и в широкую кофту (она никогда не знала, что такое изящное домашнее платье, пеньюар, нарядный халатик). Я воспользовался тем, что мать говорила, как мы устроимся после моей женитьбы: она собиралась отдать нам весь нижний этаж, а себе оставить одну комнату в четвертом этаже.
«Послушай, мама... Иза думает, что было бы лучше... Излагая твои соображения, я украдкой бросал взгляд на старческое лицо матери и смущенно опускал глаза. А она все комкала изуродованными, распухшими в суставах пальцами оборку на своей широкой кофте. Если б она стала спорить, упрекать, мне было бы за что ухватиться, но ее молчание не давало мне повода разразиться гневом. Она слушала, не показывая ни обиды, ни удивления. Наконец она заговорила, подыскивая такие слова, чтобы я поверил, будто она заранее знала, что мы будем жить врозь, и не находит в этом ничего необыкновенного.
— Я почти круглый год буду проводить в Оринье, — сказала она. — Там домик поприличнее, чем в других наших мызах, а вам оставлю Калез. В Оринье я построю себе флигелек — трех комнат мне вполне достаточно. Недорого будет стоить. Конечно, жаль зря тратиться, — на будущий год меня, может, и в живых не будет. Но ведь позднее флигелек может тебе пригодиться, — сделай из него охотничий домик. Будешь осенью, в октябре месяце, приезжать в Оринье охотиться на диких голубей, — очень даже удобно будет жить в нем. Ты, правда, охоты не любишь, но, может, у тебя пойдут дети, и им полюбится птиц стрелять.
Как бы далеко ни заходила моя неблагодарность, любовь матери была беспредельна. Я гнал ее с насиженного места, она покорно отходила и соглашалась ютиться в другом уголке. Она ловила крохи внимания, которые я бросал ей, и готова была ко всему приноровиться. Но после этого разговора вечером ты меня спросила:
— Что с вашей мамой? Она больна?
На следующий день мама оправилась и была такая же, как всегда. Из Бордо приехал твой отец со старшей дочерью и зятем. Пришлось, конечно, сообщить им о нашей помолвке. Каким презрительным взглядом они окидывали меня. Мне казалось, что я слышу, как они спрашивают друг друга: «Ну, как, по-твоему, можно с ним "показываться"?.. Мамаша просто невозможна...» Никогда не забуду, какое удивление вызвала у меня твоя сестра Мари-Луиза, которую вы называли Маринеттой; она была на год старше тебя, а казалась моложе — такая хрупкая, тоненькая, с длинной гибкой шейкой, с тяжелым шлемом золотых волос и такими детскими глазами. Старик муж, за которого ее выдал твой отец, внушал мне ужас. Я с отвращением смотрел на этого барона Филипс Но после его смерти мне не раз приходила мысль, что он был несчастнейшим человеком. Какие муки терпел этот старый болван, стараясь, чтобы его молоденькая жена забыла, что ему идет седьмой десяток. Он затягивался в корсет до потери дыхания. Широкий и высокий крахмальный воротничок скрадывал обвислые щеки и дряблую складку под подбородком. Чернота лоснящихся крашеных усов и бакенбард только подчеркивала лиловатую бледность потрепанного лица. Он едва слушал, что ему говорили, — все норовил посмотреться в зеркало, и если это ему удавалось, вспомни, как мы хихикали, когда бедняга испытующе-тревожно всматривался в свое отражение. Вставные челюсти не позволяли ему улыбаться. Неослабевавшим усилием воли он заставлял себя никогда не разжимать в улыбке губы. Мы заметили также, как он осторожно надевал свой цилиндр, чтобы не сдвинуть чрезвычайно искусно зачесанную прядь волос, которая тянулась от затылка и разбегалась на плешивой макушке головы жиденькими струйками, как дельта мелководной речки.
Твой отец был ему сверстник, но, несмотря на седую бороду, лысину и толстый живот, еще нравился женщинам и умел их очаровать даже в деловых отношениях. Только моя мать давала ему решительный отпор. Может быть, она ожесточилась и очерствела из-за того удара, который я нанес ей. Мать оспаривала каждый пункт брачного контракта, как будто речь шла о торговой сделке или о договоре на аренду земли. Я выражал притворное негодование, возмущался ее требованиями, но втайне радовался, что она так хорошо отстаивает мои интересы. И если ныне мое состояние совершенно четко отграничено от твоего и вы не имеете никакой власти надо мной, я обязан этим моей матери — она потребовала для обоих супругов строго раздельного владения имуществом, как будто я был девицей, которой вздумалось выйти замуж за распутного кутилу.
Поскольку родители моей невесты приняли эти требования, я мог быть спокойным: значит, они дорожили мной, считаясь с твоей любовью ко мне.
Мама и слушать не хотела, чтобы твое приданое выплачивалось в виде пожизненной ренты, и требовала, чтоб его выдали наличными. «Они мне все ставят в пример этого самого барона Филипо, — рассказывала мне она, — смотрите — барон взял старшую дочку без гроша приданого. Еще бы! Этой развалине да приданое требовать! Пусть радуется, что за него молоденькую красавицу выдали. Бедная девочка! Ну, а с нами совсем другое дело. Они вообразили, что я без ума от радости, — вот, мол, с какими людьми породнюсь... Плохо они меня знают...»
А мы с тобой тем временем изображали «двух голубков», делая вид, будто все эти меркантильные споры нас нисколько не интересуют. Ты полагалась на финансовый гений своего отца не меньше, чем я на мамину гениальность. Да, может быть, мы еще тогда не знали, ни ты, ни я, до какой степени мы любим деньги.
Нет, я несправедлив к тебе. Ты всегда любила деньги только из-за детей. Ты, пожалуй, способна была бы убить меня ради обогащения своих ненаглядных деток, а не ради себя, ведь ты отдала бы им последний кусок хлеба.
А вот я... признаюсь, я люблю деньги, с ними мне спокойнее. До тех пор пока я сам хозяин своего богатства, вы бессильны в борьбе против меня. Ты вот все твердишь: «Нам с тобой в наши годы так мало нужно». Какое заблуждение! Старика считают человеком лишь постольку, поскольку у него есть имущество. А как только мы его лишаемся, нас выбрасывают на свалку. У нас нет выбора: или приют для престарелых, богадельня, или крепко держись за свое добро. О крестьянах рассказывают с возмущением, что они все выманят у своих стариков, ограбят их до нитки, а после этого морят их голодом, чтоб умерли поскорее. Но сколько раз я подмечал подобные мерзости и в почтенных буржуазных семьях — правда, там действуют тоньше и стараются соблюдать приличия. Ну так вот, я боюсь обеднеть. Мне все кажется, что я еще мало, мало накопил золота. Вас золото привлекает, а меня обороняет.
Пришел час вечерней молитвы, а я не слышал колокольного звона... Впрочем, его и не было, ведь сегодня страстная пятница. Нынче из города приедут в автомобиле все наши мужчины — сын и зятья; я спущусь в столовую, буду обедать со своими домочадцами. Хочу посмотреть на них, когда все они будут в сборе: мне легче бороться против всей их стаи, чем давать им отпор в беседах наедине. Да и недурно будет съесть у них на глазах в покаянный, великопостный день мясную котлетку — не затем, чтобы подразнить их, а просто хочется показать, что воля моя не ослабела и я ни в чем не собираюсь им уступить. Сорок пять лет я занимаю определенные позиции — тебе так и не удалось меня выбить из них, но все мои редуты рухнут один за другим, если я сделаю хоть одну-единственную уступку. Пред лицом моей семьи, где все питаются в страстную пятницу фасолью и сардинами на постном масле, я съем мясную котлету в знак того, что я непоколебим и не удастся им заживо ограбить меня.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Я не ошибся. Вчерашнее мое появление за семейной трапезой расстроило ваши планы. Только за детским столом было весело, потому что в страстную пятницу детям у нас дается на обед шоколад и хлеб с маслом. Я плохо различаю эту мелюзгу. У моей внучки Янины уже есть дочурка, которая недавно начала ходить... Я перед всеми продемонстрировал, что у меня прекрасный аппетит. Ты постаралась оправдать в глазах детей мое прегрешение, сославшись на мое слабое здоровье и преклонный возраст: «Дедушке доктор велел есть котлетки».
Мне ужасно не понравился оптимизм Гюбера. Он выразил полную уверенность, что скоро дела на фондовой бирже оживятся, но так стараются подбодрить себя люди, когда речь идет об их жизни или смерти. А ведь он все-таки мне сын. Этот сорокалетний мужчина — мой сын! Знаю это, но не чувствую. Право, невозможно смотреть в глаза этой истине. А что, если дела у него все-таки пойдут плохо? Банкир, который дает вкладчикам такие дивиденды, ведет крупную и рискованную игру... Вдруг в один прекрасный день окажется, что честь нашей семьи в опасности™ Честь семьи! Ну уж этому идолу я не согласен приносить жертвы На этот счет заранее принимаю решение: выдержать удар. Им не растрогать меня. Тем более, что, кроме меня, есть еще и старик Фондодеж — он-то даст себя подковать, если я откажу™
Да что ж это я разболтался, несу какой-то вздор! Должно быть, не хочется вспоминать о той ночи, когда ты, сама того не ведая, разрушила наше счастье.
Странное дело, ты ведь как будто совсем и не помнишь об этом, А между тем в те недолгие часы душной летней ночи откровенный разговор в темной спальне решил всю нашу судьбу. Каждое слово, произнесенное тобою, все больше разъединяло нас, а ты ничего и не заметила. Твоя память хранит тысячи ничтожных мелочей, но об этой катастрофе ты ровно ничего не помнишь. Ты с гордостью заявляешь о своей глубокой вере в загробную вечную жизнь, так подумай хорошенько — ведь ты лишила меня вечной жизни в ту ночь! Ведь первая моя истинная любовь сделала меня чувствительным к той атмосфере веры и поклонения божеству, в которой ты жила. Ведь я любил тебя и готов был полюбить все, что составляло твое духовное существо. Я умилялся, когда ты в длинной ночной сорочке, точно девочка-школьница, преклоняла колени и складывала руки для молитвы...
Мы жили в той самой комнате, где я пишу сейчас. Почему же после свадебного путешествия мы поселились в Калезе, у моей матери? (Я не допустил, чтобы она отдала нам Калез, который она сама создала и так сильно любила.) Позднее, стараясь побольше озлобиться против тебя, я припомнил некоторые обстоятельства, — сперва они как-то ускользали от моего внимания, а может быть, я и нарочно старался не замечать их. Прежде всего твое семейство под предлогом смерти какого-то вашего четвероюродного дядюшки решило обойтись без всякого свадебного торжества. Ясно было, что они просто-напросто стыдятся твоего незавидного брака. В Баньер-де-Люшоне барон Филипо рассказывал всем и каждому, что его молоденькая свояченица «до безумия» влюбилась в какого-то безвестного юношу, правда, очаровательного и несомненно, человека с будущим, да ко всему прочему еще и очень богатого, но весьма скромного происхождения. «Ну понимаете, никакого родства!» — говорил он, как будто я был подкидышем, незаконнорожденным. Но в конечном счете он находил довольно удобным, что у меня нет родственников, — по крайней мере, не придется за них краснеть. Моя мама — в общем, почтенная старушка — явно решила держаться в тени. И, наконец, надо же посчитаться с тобой, ведь ты, по его словам, росла балованной дочкой и вертела родителями, как хотела. У меня, твоего избранника, оказалось прекрасное состояние; и даже такое семейство, как Фондодеж, могло примириться с этим браком, закрыв глаза на все его минусы.
Мне, конечно, передали все эти сплетни, но, в сущности, я не узнал из них ничего нового. Я был так счастлив в то время, что не придал им никакого значения; да, надо признаться, я счел даже удобным для себя то, что свадьба наша состоялась чуть ли не тайно: разве я мог бы найти приличных шаферов в той голодной шайке, которая считала меня своим главарем? А гордость не позволяла мне обратиться к моим вчерашним врагам. Блестящий брак давал мне полную возможность сблизиться с ними; но я рисую себя в этой исповеди такими черными красками, что могу и не скрывать одной хорошей черты моего характера: непреклонную волю к независимости. Я ни перед кем и никогда не унижался, всегда хранил верность своим убеждениям. Надо сказать, что в нашем браке я пошел на некоторый компромисс, и меня даже мучила совесть. Я обещал твоим родителям не мешать тебе выполнять религиозные обряды, но относительно себя самого обязался только не вступать в франкмасонские общества. Впрочем, других требований ко мне и не предъявляли. В те годы считалось, что религия — это женское дело. В обществе находили вполне достаточным и приличным, если муж сопровождал жену на церковные службы А в Люшоне я уже доказал всей вашей родне, что мне это нисколько не противно.
В сентябре 1895 года, когда мы вернулись из Венеции, твои родители не пригласили нас к себе в усадьбу Сенон под тем предлогом, что туда съехалось на открытие охоты множество знакомых — их собственных друзей, а также приятелей барона Филипо, в доме нет ни одной свободной комнатки. И тогда мы сочли выгодным для себя поселиться на время у моей мамы. Нас нисколько не смущала мысль о нашем грубом эгоизме и бесцеремонном отношении к ней. Мы милостиво согласились жить вместе с нею до тех пор, пока нам это будет удобно. Она и не думала торжествовать.
— Весь дом в вашем распоряжении, — говорила она. — Пожалуйста, приглашайте кого угодно, я съежусь в комочек, никто меня и не увидит. Я умею стушевываться. — И она добавляла: — Да меня и дома-то никогда не бывает.
Действительно, она много времени проводила на виноградниках, в винном подвале, на скотном дворе, в птичнике, в прачечной, наблюдая за стиркой. После обеда мама поднималась к себе в комнату прилечь на минутку. Если встречала нас в гостиной, то всегда робко извинялась. Прежде чем войти, она стучалась в дверь Мне пришлось ее предупредить, что это не принято. Она даже предложила исполнять в доме обязанности экономки и кухарки, но ты не причинила ей такого огорчения. У тебя не было желания унижать ее, ты относилась к ней снисходительна И какой глубокой благодарностью к тебе преисполнилось смиренное сердце! Напрасны оказались ее страхи: ты не так уж сильно разлучила ее с сыном. Я даже был ласковее с нею, чем до женитьбы. Ее очень удивляло наше безудержное веселье, наш звонкий хохот. Да неужели этот счастливый молодой супруг — ее родной сын, прежде такой замкнутый, такой угрюмый? «Значит, я не умела подойти к нему, — думала она — Где уж мне! Ведь он и умом, и образованием много выше меня. Вот теперь жена исправляет зло, которое я причинила ему».
Помню, с каким восхищением она смотрела на тебя, когда ты размалевывала экраны и тамбурины, или пела романсы, или играла на пианино мендельсоновскую «Песню без слов», неизменно сбиваясь все на одном и том же пассаже.
Иногда к тебе приезжали из города твои прежние девичьи подруги. Ты их предупреждала:
— Сейчас увидите мою свекровь. Удивительно своеобразный тип! Настоящая сельская аристократка. Теперь таких уж не встретишь.
Ты находила, что у мамы есть свой оригинальный стиль и много такта. Мама умела говорить с прислугой на местном диалекте, и ты снисходительно замечала, что держится она «с простонародьем» прекрасно. Ты простирала свою любезность до того, что показывала гостям дагерротип, запечатлевший маму пятнадцатилетней девушкой в шелковом платочке. Ты даже разучила песенку, восхвалявшую старые крестьянские семьи, «благородней дворянских семей благородных»... Какой ты была тогда либералкой! Материнство вернуло тебе простоту и естественность.
...А все-таки надо же наконец рассказать о той ночи. Душная была ночь — мы даже не решались закрыть ставни, хотя ты страшно боялась летучих мышей. Под окном шелестела старая липа, а нам все казалось, что кто-то дышит в углу комнаты. Порой листья шуршали на ветру так громко, словно шел сильный дождь. По полу протянулась лунная дорожка, бледными пятнами выделялась раскиданная по стульям одежда. Уже не слышно было неумолчного гула, стоявшего днем над лугом, настала глубокая тишина.
Ты Сказала: «Спать хочется... Давай уснем...» Но и во сне, усталые, мы не находили отдохновения. Из бездны забытья поднимался призрак. Тень неведомого мне Рудольфа. Как только мои руки смыкались, обнимая тебя, в твоем сердце воскресал его образ. А когда кольцо объятий размыкалось, мы угадывали его присутствие. Я не хотел, я боялся страдать. Инстинкт самосохранения заставляет нас защищать свое счастье. Я знал, что нельзя расспрашивать тебя. Пусть его имя будет словно водяной пузырь: мелькнет и лопнет на поверхности нашей жизни. Пусть не всколыхнутся стоячие воды; не надо трогать того, что лежит на дне в вязкой тине, заражая воду, как гниющий смрадный труп. Я молчал. Но тебя, несчастную, томила потребность излить в словах обманутую, неутоленную страсть. Стоило только сорваться с моих уст вопросу: «Да кто же, наконец, этот Рудольф?» — и ты тотчас заговорила:
— Да, мне, конечно, давно следовало тебе рассказать... Только ты не думай... Ничего серьезного. Не волнуйся...
И в темноте зажурчал тихий торопливый шепот. Твоя голова уже не покоилась на моем плече. Ничтожно малое расстояние, которое разделяло два рядом простертые на ложе существа, стало непреодолимым.
Оказывается, Рудольф был по матери австриец, а отец его — француз, крупный фабрикант в Северном департаменте... Познакомился он с тобой в Эксе, куда тебя возили в сопровождении бабушки позапрошлым летом, до нашей с тобой встречи в Люшоне. Он приехал из Кембриджа. Наружность его ты не стала описывать, но я тотчас же наделил его в воображении всеми пленительными чертами, которых я сам лишен. Луна освещала мою руку, лежавшую на простыне, — большую мужицкую руку с узловатыми пальцами и короткими ногтями. По твоим словам, вы ничего не делали предосудительного, хотя он вел себя менее почтительно, чем я. Не помню я дословно твоих признаний. Да и зачем они мне? Разве в этом дело? Если б ты его не любила, я бы постепенно утешился и простил бы короткий неудачный роман, в котором вдруг погибла чистота доверчивой девочки. Но сразу же у меня возник вопрос: «И года не прошло после этой великой любви, а как же она могла полюбить меня?» И я весь похолодел от ужаса. «Значит, все это фальшь, — думал я, — она лгала мне. Не пришло ко мне избавление. Как это я вдруг вообразил, будто девушка может полюбить меня? Таких, как я, никто не любит!»
Еще мерцали предрассветные звезды. Проснулся дрозд. Ветер зашуршал в листве, потом надул занавески на окнах, долетел до нас, и мы почувствовали его прохладное дуновение, приятно освежавшее воспаленные от бессонницы глаза. Все было таким же, как во времена моего счастья. Так недавно, всего лишь десять минут назад, я был счастлив, а вот теперь уже говорю: «во времена моего счастья...» Я задал вопрос:
— Он не хотел на тебе жениться?
Помню, как ты возмутилась, каким шипящим голосом ты заговорила, когда я затронул твое самолюбие. Разумеется, я ошибался, — как раз наоборот! Рудольф был влюблен и очень гордился, что возьмет жену из рода Фондодеж. Но его родители узнали, что два твоих брата умерли в юношеские годы от чахотки. А так как у самого Рудольфа были слабые легкие, то его семья и слышать не хотела о таком браке.
Я задавал вопросы спокойным тоном, и у тебя даже мысли не возникало, что ты сама губишь свое счастье.
— Вот видишь, дорогой, значит, так судьба решила — выйти мне не за него, а за тебя. Ты ведь знаешь, у меня папа и мама ужасные гордецы, — право, даже смешно немножко! Они оскорбились, что свадьба моя расстроилась, и это принесло нам с тобой счастье. В нашем кругу, как тебе известно, придают просто невероятное значение здоровью, когда дело касается брака. И вот мама испугалась, вообразила, что всему городу известно, почему Рудольф вдруг разошелся со мной, и теперь никто на мне не женится. Я обязательно останусь старой девой. Все думала, думала об этом, просто с ума сходила Несколько месяцев она мне житья не давала. Как будто мало еще мне было горя... И в конце концов она убедила и папу, и меня, что выдать меня замуж невозможно.
Я держал себя в руках, не произнес ни одного слова, которое заставило бы тебя насторожиться. А ты все твердила, что такова уж была воля провидения, благодаря всему этому и родилась наша любовь.
— Я полюбила тебя с первого взгляда. Перед тем, как отправиться в Люшон, мы съездили в Лурд на богомолье. И как только я тебя увидела, то сразу поняла, что молитвы наши услышаны...
Ты и не подозревала, как меня возмутили эти слова. У ваших противников втайне складывается более возвышенное представление о религии, чем это кажется вам и даже чем это кажется им самим. Несомненно, так, иначе почему же их оскорбляет ваше низменное применение религии. А в ваших глазах самое простое и естественное дело — просить всяких земных благ у того самого Бога, которого вы называете Отцом небесным. Впрочем, что мне до этого? Важно другое: из твоих слов явствовало, что твои родные и ты сама жадно набросились на первого попавшегося жениха и подцепили меня на удочку.
Только в эти минуты я по-настоящему понял, до какой степени наш брак был неравным. Он стал возможен лишь потому, что на твою мамашу напало какое-то безумие, которым она заразила и отца, и тебя... Ты мне сообщила, что барон Филипо преисполнился негодованием и даже грозился отречься от тебя, если ты вздумаешь выйти за меня замуж. Да, да. Мы в Люшоне подсмеивались над этим старым болваном, а он, оказывается, всячески старался убедить весь клан Фондодежей в необходимости расторгнуть нашу помолвку.
— Только напрасно он старался, дорогой мой. Решение мое было твердо.
И ты несколько раз повторила, что, разумеется, нисколько об этом не жалеешь. Я не перебивал тебя, не мешал твоим излияниям. Я слушал, затаив дыхание. Ты заверила меня, что с Рудольфом не знала бы счастья. Он был слишком красив и, в сущности, не умел любить — он милостиво позволял, чтоб его любили. Первая попавшаяся женщина могла бы отнять его у тебя. Вот что ты говорила. И ты не замечала, что даже голос у тебя менялся, когда ты произносила его имя: обычно голос твой немного жестковат, а тут в нем появлялись такие мягкие и трепетные, воркующие нотки, как будто из груди твоей рвались на свободу нежные, любовные вздохи, долго не находившие себе выхода.
Итак, твой Рудольф не дал бы тебе счастья, потому что был красив, обаятелен и нравился женщинам. Иными словами, со мной ты могла жить в полном спокойствии, себе на радость, благодаря моей невзрачной наружности и угрюмому характеру, которым я отталкивал от себя все сердца. У Рудольфа были, как ты говорила, несносные повадки, как у многих молодых повес, которые учились в Кембридже и старательно подражали английским манерам. Так неужели ты предпочла выйти замуж за мужлана, который не способен выбрать материю для костюма, завязать галстук, не занимается спортом, не блещет светскими манерами, не обладает тонким искусством избегать серьезных разговоров, сердечных излияний, признаний, не умеет жить изящно и весело? Нет, ты взяла себе в мужья несчастного малого только потому, что он подвернулся тебе в том году, когда твоя мать, истеричка, вступившая в критический возраст, вбила себе в голову, что дочь «выдать замуж невозможно», и так тебя измучила, что ты не желала и не могла подождать еще полгода, а у меня оказалось достаточно денег, чтоб оправдать наш брак в глазах хорошего общества.
Я молча слушал, сдерживая короткое, быстрое дыхание, я сжимал кулаки, кусал себе губы. И до сих пор еще, когда я сам себе становлюсь противен, когда мне невыносимы бывают собственное мое тело и душа, я все думаю о том, каким я был в тот далекий 1885 год. Мне вспоминается юноша двадцати трех лет, несчастный муж, который в исступлении прижимал к груди руки, словно хотел задушить в себе свою молодую любовь.
Я весь дрожал. Ты заметила это и, прервав свои признания, спросила:
— Тебе холодно, Луи?
Я ответил, что озяб немножко, пустяки, сейчас согреюсь.
— Слушай, ты, надеюсь, не ревнуешь? Это было бы просто глупо...
Я поклялся, что у меня нет и тени ревности, и я не солгал. Но разве ты могла бы понять, что трагедия моя была совсем не в ревности?
Ты и не подозревала, не догадывалась, какую глубокую рану нанесла мне, но все же мое молчание встревожило тебя. Ты в темноте протянула руку, пощупала мой лоб, погладила меня по лицу. Ни единая слеза не оставила на нем влажного следа, но, быть может, твоя рука не узнавала привычных черт — такими они стали жесткими, окаменелыми, так крепко я стиснул зубы. Ты испугалась. Ты хотела зажечь свечу и, перегнувшись через меня, долго отыскивала спички на ночном столике; я задыхался, чувствуя на своей груди твое проклятое тело.
— Что с тобой? Скажи что-нибудь. Ты меня пугаешь.
Я притворился удивленным. Стал уверять, что ты совершенно напрасно беспокоишься.
— Ах, глупыш ты мой дорогой! Как ты меня напугал! Ну, я тушу свечку. Спать, спать!
Ты больше не сказала ни слова. Я смотрел, как занимается заря, первое утро моей новой жизни. На черепичной крыше щебетали ласточки. По двору проходил какой-то человек, волоча ноги в тяжелых сабо. Я так ясно слышу до сих пор все, что слышал тогда, сорок пять лет назад: пение петухов, колокольный звон, далекий грохот поезда на железнодорожном мосту; и все еще я вдыхаю запах, вливавшийся тогда в окно: пахло дымком — ветер нес этот приятный мне запах с побережья, когда там выжигали сухой терновник и траву. Вдруг я приподнялся.
— Иза, помнишь, ты плакала в тот вечер, когда мы сидели на скамье у Верхнего Баньера? Ты из-за него плакала?
Ты ничего не ответила, я схватил тебя за руку выше локтя, ты вырвалась и зарычала, как зверек. Потом повернулась на бок. Ты крепко спала в волнах длинных волос. Озябнув от предрассветного холодка, ты натянула на себя скомканные простыни и свернулась во сне клубочком, как спят молодые животные. Зачем же было тревожить твой детский безмятежный сон? Ведь то, что я хотел услышать от тебя, я уже знал. Не правда ли? Я бесшумно встал, подошел к зеркальному шкафу и долго всматривался в свое отражение, как будто передо мною стоял чужой человек или как будто я вновь стал самим собою — человеком, которого никто не любит, из-за которого никто не будет страдать. Жалко мне стало своей молодости; большой мужицкой рукой я провел по своей щеке, на которой уже темнела жесткая рыжеватая щетина небритой бороды.
Я молча оделся и вышел в сад. Мама была в розовой аллее. Она всегда вставала вместе с прислугой и принималась проветривать комнаты. Она сказала мне:
— Что, вышел прохладой подышать? — И, указывая на дымку, окутавшую равнину, добавила: — Знойно будет нынче. В восемь часов я везде закрою ставни...
Я поцеловал ее нежнее, чем обычно. Она сказала вполголоса:
— Дорогой ты мой...
Сердце у меня (ты, верно, удивишься, что я говорю о своем сердце) разрывалось от муки. Слова горького признания просились на уста... Но с чего начать? Да и поймет ли меня бедная мама? Молчать гораздо легче, и я всегда поддаюсь соблазну ничего не говорить. Я спустился к террасе. Над виноградником смутно вырисовывались хрупкие силуэты плодовых деревьев. Холмы словно плечом приподнимали пелену тумана и разрывали ее. Из серой дымки возникла колокольня, а потом и сама церковь, — они поднялись, как живые существа. Ты вот воображаешь, что я ровно ничего не понимаю в таких вещах... Однако в ту минуту я понял, что человеку, жизнь которого разбита, как у меня, надо искать причину и смысл своего крушения и что решающие события нашей судьбы, особенно те, которые касаются сердца нашего, ниспосланы нам с сокровенным значением, и мы должны разгадать его... Да, в иные часы своей жизни я был способен постичь такие тайны, и это могло бы сблизить меня с тобою. Впрочем, в то утро волнение мое длилось лишь несколько минут. Помню, как я шел обратно, к дому. Еще не было восьми часов, а солнце уже палило. Ты сидела у окна, наклонив голову, придерживала одной рукой свои распущенные волосы, а другой причесывала их щеткой. Ты не видела меня. Я остановился и, подняв голову, мгновение смотрел на тебя с глубокой ненавистью. Прошло столько лет, а мне кажется, что до сих пор еще во рту у меня горечь этой ненависти.
Я побежал к себе в кабинет, отпер ящик, где у меня хранился скомканный платок, которым я вытер твои слезы в тот вечер, когда мы были в Верхнем Баньере, тот платочек, который я, болван, спрятал у себя на груди. Теперь я вытащил его, привязал к нему камень, словно к шее живого пса, которого решил утопить, и бросил его в болотце, именуемое у нас «водомоина».
ГЛАВА ПЯТАЯ
И с того дня началась долгая эра великого молчания, которая длится уже пятое десятилетие. Внешне крушение нашего счастья не было заметно. Все как будто шло по-старому. Не прекратилась и телесная наша близость, но в минуты объятий уже не возникал перед нами призрак Рудольфа, и ты никогда не произносила теперь опасного имени. Он появился по твоему призыву, некоторое время бродил вокруг нашего ложа и сделал свое дело — разрушил супружеское счастье. После этого оставалось только молча ждать, как потянутся вереницей связанные меж собою последствия тайной катастрофы.
Ты, вероятно, упрекала себя, зачем все рассказала мне. Конечно, ты не придавала своей исповеди большого значения, а просто считала, что было бы куда умнее изгнать это имя из наших разговоров. Не знаю, заметила ли ты, что мы уже не шептались, как прежде, по ночам. Кончились наши бесконечные беседы. И разговаривая друг с другом, мы обдумывали каждое свое слово. Оба держались теперь настороже.
Ночью я просыпался — меня будило страдание. Я думал: «Теперь я, как лиса, попавшая в западню, — мне уж не вырваться». И мысленно я рисовал себе сцену нашего объяснения. Вот я грубо встряхиваю тебя за плечо и сбрасываю с постели. А ты — ты вскрикнешь: «Нет, я не лгала тебе, клянусь, я полюбила тебя!..»
Да, за неимением лучшего! И ведь так легко уверить своего партнера, что ты его обожаешь, стоит только прибегнуть к чувственному волнению, хотя оно ровно ничего не значит. А между тем я не чудовище: первая попавшаяся девушка, которая искренне полюбила бы меня, сделала бы из меня все, что ей угодно.
Иной раз я в темноте стонал от жестокой муки, а ты не просыпалась.
Впрочем, с первой твоей беременностью все объяснения стали излишними, отношения наши постепенно изменились. Беременность твоя определилась незадолго до сбора винограда. Мы вернулись в город. У тебя случился выкидыш, и несколько недель тебе пришлось провести в постели Весною ты снова понесла Надо было беречь тебя. И вот пошли годы, когда ты зачинала, рожала, хворала, кормила — предлогов было больше чем достаточно для того, чтобы отдалиться от тебя. Я повел жизнь, полную тайного распутства, — весьма тайного. Ведь я уже много выступал в суде, был «при деле», как говорила мама, и мне полагалось строго соблюдать приличия. Похождениям были отведены определенные часы, они вошли у меня в привычку. Жизнь в провинциальном городе вырабатывает у развратника инстинктивную хитрость, как у преследуемой дичи. Успокойся, Иза, я милосердно избавлю тебя от рассказов о «мерзостях». Не бойся, я не стану описывать адскую скверну, которой я, однако, осквернял себя почти ежедневно. Ты когда-то спасла меня от ада, и ты же вновь ввергнула меня в ад.
Но если б я даже вел себя менее осторожно, ты все равно ничего бы не заметила. С рождением Гюбера проявилась твоя истинная натура: ты по природе своей — мать, и только мать. Меня ты совсем забросила, просто не замечала; вот уж действительно можно сказать про тебя: «У нее только и света в окошке, что дети». Сделав тебя матерью, я, очевидно, совершил все, чего ты ждала от меня.
Пока дети были бессмысленными червячками, они не интересовали меня, и у нас с тобой не было никаких столкновений из-за них. Встречались мы только в часы, отведенные по супружескому ритуалу для привычного акта плотского сближения, в котором мужчина и женщина бесконечно далеки душою друг от друга.
Ты вспомнила о моем существовании лишь тогда, когда я, по твоему мнению, стал опасен для твоих детенышей. Ты возненавидела меня, когда я предъявил свои права на них. Сейчас обрадую тебя признанием: никакого отцовского инстинкта у меня не было. Во мне просто говорила ревность, я завидовал этим малышам, пробудившим в тебе такую страстную любовь. Да, да, в наказание тебе я старался отнять их у тебя. Я выставлял, конечно, высокие соображения, говорил о требованиях долга. Я, видите ли, не желал, чтобы закоренелая святоша исковеркала своим воспитанием умы моих детей. Вот в какую гордую позу я становился. А на деле шла речь не об этом.
Кончу ли я когда-нибудь свое повествование? Я предназначал его для тебя, а теперь мне кажется, что ты не станешь читать его дальше — не хватит ни терпения, ни желания. В сущности, пишу я для самого себя. Я ведь старый адвокат, вот и привожу в порядок папку с начисто проигранным делом о моей жизни, разбираюсь в документах, провалив тяжбу.
Опять звонят колокола... Завтра Пасха. Придется спуститься и посидеть с домочадцами ради «Святого праздника», как я тебе обещал. «Дети жалуются, что совсем тебя не видят», — сказала ты сегодня утром. Рядом с тобой стояла у моей постели Женевьева. Ты вышла, желая оставить нас с дочерью наедине. Женевьеве нужно было что-то попросить у меня. Я слышал, как вы шептались в коридоре: «Лучше тебе первой с ним поговорить», — убеждала ты Женевьеву. Я догадывался, что речь пойдет о муже моей внучки, об этом шалопае и бездельнике Фили. А все-таки я молодец! Перехитрил вас, сумел повернуть разговор в другую сторону и не дал Женевьеве заговорить о своем зяте. Она ушла не солоно хлебавши. Я знаю, чего им от меня надо. Недавно я слышал, как они сговаривались. Окно гостиной как раз под моим окном, и когда оба окна открыты, мне все слышно. Надо только наклониться. Они хотят, чтобы я дал Фили «взаймы» крупную сумму, тогда он внесет залог на биржу и будет из четвертой доли работать с известным маклером. Дело, видите ли, надежное, отчего не вложить в него деньги. Ну, уж извините! Я ведь чую — надвигается буря. Деньги держи под замком... Если б они знали, сколько я продал разных акций в прошлый месяц: я почуял, что на бирже пойдет на понижение, и опередил игру...
Все уехали к вечерне. Из-за Пасхи обезлюдел дом и поля. Сижу я тут один, старый Фауст, отрешенный от всех радостей мира, отделенный от них непреодолимой преградой — своей старостью.
Они не знают, что такое старость. А как внимательно они слушали меня за завтраком, когда я заговорил о бирже, о торговых делах, — так и впивались в меня глазами, ловили каждое слово. Говорил-то я главным образом для Гюбера — пусть дает отбой, если еще не поздно.
Весьма встревоженный был у него вид! Вот уж кто не умеет скрывать свои неприятности! Но ел он за двоих, машинально опустошая тарелку, а ты ему все подкладывала. Все матери, бедняжки, так поступают: когда видят, что любимого сына томит забота, они чуть не силой заставляют его есть, словно от этого у него прибавится бодрости и он справится с бедой. А Гюбер тебя обрывал, грубил, как я когда-то грубил своей матери.
Зато Фили, муж моей внучки, усердно ухаживал за мной, подливал мне вина в бокал. А уж как старалась сама Янина выразить нежное беспокойство о своем дедушке:
— Дедушка, миленький, ну зачем вы курите? Ведь вам вредно! Даже одну папироску, и то нельзя. А вы уверены, что этот кофе действительно без кофеина?
Плохая она актриса, в каждом слове чувствуется фальшь, даже звук голоса выдает ее с головой, бедняжку. Когда ты была молодой, ты тоже фальшивила, притворялась. Но с первой же беременности перестала кривляться и стала естественной А вот Янина до конца жизни останется глупенькой дамочкой, которая стремится узнать все новости, все моды, повторяет чужие слова, показавшиеся ей верхом изысканности, обо всем высказывает чужое мнение, ибо своего не имеет, и ровно ничего на свете не понимает. Как же это Фили, такой непосредственный малый и такой повеса, может жить с этой дурочкой и ломакой? Впрочем, не все в ней фальшиво — она полна непритворной страсти к красавчику Фили. Только потому Янина так плохо и разыгрывает свою роль, что для нее ничего на свете не существует, кроме ее любви.
После завтрака мы вышли посидеть на веранде. Янина и Фили смотрели на Женевьеву молящим взглядом, а она, в свою очередь, глядела на меня и все порывалась что-то сказать. Ты, Иза, еле заметно покачала головой: здесь, нельзя. Тогда Женевьева поднялась и спросила:
— Папа, хочешь, пойдем с тобой погуляем немножко?
Как вы все меня боитесь! Мне даже стало жалко Женевьеву, и хотя я сначала решил, что с места никуда не двинусь, но тут поднялся и взял ее под руку. Мы прошлись с нею по лужайке. Все семейство наблюдало за нами с веранды. Женевьева сразу же начала:
— Папа, я хотела поговорить с тобой о Фили...
Она дрожала. Право, очень неприятно, когда родные дети тебя боятся. Но как вы думаете, возможно в шестьдесят восемь лет избавиться от укоренившегося в твоих чертах жестокого выражения? В таком возрасте его не изменишь. А душе больно, что она не мажет отразиться в наружности человека...
Женевьева торопливо выкладывает свою просьбу, в которой каждое слово было заранее обдумано. Как я и ожидал, речь идет о залоге на биржу. Только напрасно она напирала на те доводы, которые меня только раздражают. Послушать ее, так безделье сего молодого человека угрожает разрушить счастье и будущность его семьи. Фили, видите ли, начинает портиться. Я ответил, что для такого малого занятия биржевого маклера послужат только удобной ширмой. Женевьева встала на его защиту. Решительно все любят этого Фили.
— Зачем же, папочка, относиться к его шалостям строже, чем сама Янина относится к ним...
Я возразил, что вовсе не собираюсь его осуждать. Любовные похождения этого красавца мало меня занимают.
— Разве он интересуется мною? Ведь нет, не так ли? Почему же я должен им интересоваться?
— Он тебя глубоко уважает...
Эта глупая ложь дала мне повод подпустить шпильку, которую я держал в запасе:
— Должно быть, из уважения твой Фили и называет меня «старым крокодилом». Пожалуйста, не спорь, я сколько раз сам слышал, как он меня за моей спиной так величал... Да я и не возражаю: крокодил так крокодил, крокодилом и останусь. Чего ждать от старого крокодила? Только его смерти. Да еще погодите, — неосторожно добавил я, — берегитесь, как бы покойник не выкинул с вами какой-нибудь неприятной штуки. (Очень сожалею, что сказал это, — теперь у них заработает смекалка!)
Женевьева испуганно запротестовала, вообразив, что я обиделся на оскорбительное прозвище «крокодил». Меня оскорбляет не эта дурацкая кличка, а молодость Фили. Может ли он понять, что представляет в глазах старика, во всем разочарованного, всеми ненавидимого, — торжествующая молодость счастливого глупца, который с юных лет упивался наслаждениями, каких мне и за пятьдесят лет жизни ни разу не привелось изведать? Я ненавижу этих молокососов, я полон лютой злобы против них. А этот Фили особенно мне противен. Как бродячий кот бесшумно прыгает в чужое окно, учуяв соблазнительный запах, так и он мягкой поступью, на бархатных лапках, проник в мой дом, услышав заманчивый аромат богатства. Приданого за моей внучкой дали немного, зато у нее были великолепные «надежды». Ах, эти надежды наших дорогих деток! Чтобы дорваться до их осуществления, наследники рады перешагнуть через наш труп.
Женевьева расплакалась, всхлипывала, утирала слезы, и тут я сказал вкрадчивым тоном:
— Послушай, ведь у тебя есть муж. Твой Альфред коммерсант — торгует ромом. Что ему стоит взять зятя в свое дело, создать ему положение. Почему я должен великодушничать больше, чем вы?
И тут вдруг пошла совсем иная песня. Женевьева заговорила о бедняге Альфреде с величайшим презрением и брезгливостью! Послушать ее, так он просто трус, жалкое, робкое существо — он не только не расширяет, а с каждым днем сокращает торговые обороты. Какая прежде была внушительная фирма, а теперь двоим директорам в ней делать нечего.
Я поздравил Женевьеву с тем, что ее муж осторожный человек: когда надвигается буря, нужно убирать паруса. Будущее за теми, кто, как Альфред, играет по маленькой. Нынче самый большой недостаток делового человека — широкий размах. Женевьева решила, что я смеюсь над ней, а я действительно так думаю — это мое глубокое убеждение, недаром же я держу деньги у себя под замком и даже не рискую положить их в сберегательную кассу.
Мы повернули обратно к дому. Женевьева теперь не осмеливалась слова промолвить. Я шел, нарочно не опираясь на ее руку. Все домочадцы сидели кружком, смотрели на нас и, несомненно, толковали о явных зловещих признаках разлада меж нами. Вероятно, наше возвращение прервало спор между семейством Гюбера и семейством Женевьевы. Ох, какая великолепная свалка произойдет из-за наследства, если только я соглашусь отдать вам когда-нибудь свои деньги! Из всей родни, собравшейся на веранде, стоял на ногах только Фили. Ветер трепал его непокорные волосы. На нем была рубашка с открытым воротом и короткими рукавами. Терпеть не могу нынешних молодых людей — они похожи на девиц атлетического сложения. Его круглые детские щеки вспыхнули, когда на глупый вопрос Янины: «Ну, как побеседовали?» — я ласково ответил: «Да, мы беседовали о старом крокодиле...
Еще раз скажу: я ненавижу его не за эту насмешливую кличку, а за то, что молодежь не понимает, что такое старость. Не может представить себе пытки старика, который ничего не получил от жизни и ничего не ждет от смерти. Пусть нет ничего за гробом, и никакого этому нет объяснения, и не дано нам разгадать эту тайну... Но все-таки ты ведь, Иза, не выстрадала того, что я выстрадал. Дети не ждут твоей смерти. Они тебя по-своему любят, обожают тебя. Они без колебаний стали на твою сторону. А между тем я их любил. Женевьева — теперь толстая сорокалетняя женщина, и только что она пыталась вытянуть у меня для своего беспутного зятя четыреста тысяч франков, а ведь я помню, как она маленькой девчушкой сидела у меня на коленях. Ты, бывало, как увидишь наши нежности, сейчас же зовешь ее к себе. Да что ж это я! Никогда мне не кончить своей исповеди, если я буду говорить вперемежку о настоящем и о прошлом. Призываю себя к порядку.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Думается, я возненавидел тебя, Иза, не сразу, не в первый же год после той роковой ночи. Нет, ненависть росла во мне постепенно, по мере того как я убеждался в полном твоем равнодушии ко мне, ибо для тебя ничто на свете не существовало, кроме твоих визгливых, жадных крикунов-ребятишек. Ты даже не заметила, что я, хотя мне еще не было тридцати лет, стал известным адвокатом по гражданским делам, был завален работой и что меня уже прославляли как крупную величину в нашем судебном округе, самом знаменитом во Франции после Парижского округа. А начиная с дела Вильнава (1893 год) я прославился, кроме того, и как адвокат-криминалист (а ведь очень редко у адвокатов бывают выдающиеся способности в обеих этих областях юриспруденции), и только ты одна не знала, что моя защита в этом процессе прогремела по всему миру. И как раз в этом году наш разлад перешел в открытую войну.
Начиная с дела Вильнава, принесшего мне славу, меня еще сильнее сдавили тиски, в которых я задыхался; до тех пор у меня в душе еще, пожалуй, тлела искорка надежды, но мой громкий триумф доказал мне, что я для тебя не существую.
Супруги Вильнав (помнишь ли ты их историю?) прожили в браке двадцать лет и все еще любили друг друга так нежно, что любовь их вошла в пословицу — люди стали говорить «Вот у кого мир да согласие!» Жили они вместе со своим единственным сыном, подростком пятнадцати лет, в пригородной усадьбе Орион; жили довольно замкнуто, вполне довольствуясь обществом друг друга: «Такая любовь только в книгах бывает!» — восхищалась твоя мать, всегда говорившая избитыми фразами (Женевьева унаследовала от бабушки секрет такого искусства).
Уверен, что ты уже ничего не помнишь о драме Вильнавов. Если я стану рассказывать о ней, ты будешь надо мной смеяться, как ты смеялась однажды, когда я за обедом предался воспоминаниям о своих школьных и студенческих экзаменах... но что ж делать. Как-то раз лакей, прибирая утром комнаты в первом этаже, услышал раздавшийся во втором этаже выстрел и отчаянный крик. Он бросился наверх. Спальня хозяев заперта. Слышно, как там переговариваются вполголоса, передвигают мебель, кто-то пробежал в ванную. Лакей все дергает дверную ручку. Наконец дверь отворяется. Вильнав лежит на постели без памяти, у него вся рубашка в крови. А его жена, непричесанная, в халате, стоит у спинки кровати с револьвером в руке. Она сказала лакею: «Я ранила мужа, привезите скорее доктора и полицейского комиссара. Я никуда отсюда не уйду». От нее ничего не могли добиться — говорила только одно: «Я ранила мужа». Это подтвердил и Вильнав, когда оказался в состоянии говорить. Больше ничего от пострадавшего не узнали — он, так же как и жена, отказывался от показаний.
Обвиняемая не пожелала пригласить себе адвоката; так как я был зятем г-на Фондодежа, большого их приятеля, то мне предложили выступить на суде в качестве защитника по назначению. Я ежедневно ездил в тюрьму, посещал свою подзащитную, но ничего не мог выпытать — она упрямо отказывалась отвечать. По городу ходили о ней самые нелепые слухи, но я с первого же дня не сомневался в ее невиновности: она сама взвалила на себя вину, и муж, горячо ее любивший, поддержал эту клевету. О, у людей, не знавших взаимной любви, есть особое чутье, и они безошибочно угадывают у других страстную любовь. Эта женщина была вся во власти любви к своему мужу. Она, конечно, не стреляла, не могла выстрелить в него. Может быть, она даже бросилась к нему на защиту и заслонила его от револьвера какого-нибудь изгнанного поклонника. Но никто из посторонних не приезжал к ним накануне покушения на убийство. Никто из их знакомых не был частым посетителем в их доме. Впрочем, не стоит рассказывать во всех подробностях эту старую историю.
До того самого дня, когда я должен был выступить в суде, я считал необходимым только отрицать, что моя подзащитная совершила преступление, в котором ее обвиняли, и доказывать, что она не могла этого сделать. И только в последнюю минуту меня осенила гениальная мысль, разорвалась завеса, скрывавшая тайну: все раскрыло показание сына обвиняемой, юного Ива Вильнава, — вернее, не само показание, так как оно было малозначительным и не дало ничего нового, а тот молящий и властный взгляд, которым смотрела на него мать: она глаз с него не сводила до тех пор, пока он не кончил своего показания и его не увели из зала суда, — тогда ее лицо вдруг просветлело, все в ней изобличило внутреннее чувство успокоения. И тут меня осенила мысль: я в своей речи обвинил сына, болезненного подростка, ревновавшего мать к отцу, слишком горячо ею любимому. Я поразил всех неопровержимой логикой и страстным красноречием. Моя импровизированная речь знаменита до сих пор, ибо профессор Ф., по собственному его признанию, нашел в ней в зародыше основу своей системы: она способствовала более глубокому проникновению в психологию подростков, помогла появлению новых методов лечения их неврозов.
Если я воскрешаю сейчас эти воспоминания, дорогая Иза, то вовсе не потому, что надеюсь вызвать у тебя запоздавшее на сорок лет восхищение моими талантами, которого ты не чувствовала в дни моего триумфа, когда газеты обоих полушарий печатали статьи обо мне и помещали мой портрет. Важно тут другое. Полное твое равнодушие в этот торжественный для меня час моей жизни в полной мере показало мне, как я чужд тебе и как одинок. А в это время у меня в течение нескольких недель был перед глазами пример женской самоотверженной любви — в тюремной камере я видел женщину, которая приносила себя в жертву ради спасения своего ребенка, видя в нем не столько своего любимого сына, сколько дитя своего любимого мужа, наследника его имени. Ведь муж, жертва покушения, умолял ее: «Прими вину на себя...» И из любви к нему жена решилась уверить весь мир, что она преступница, что она хотела убить мужа, который был ей дороже всех на свете. Побудила ее к этой жертве супружеская, а не материнская любовь. (Дальнейшее развитие событий это подтвердило: она рассталась с сыном и под разными предлогами всегда жила вдали от него.) А ведь какая-нибудь женщина могла бы полюбить меня так же, как любила Вильнава жена. Во время процесса мне часто приходилось с ним встречаться. Чем он был лучше меня? Довольно красивый мужчина. В нем чувствовалась порода, но, должно быть, он был недалек — это доказывается его враждебным отношением ко мне после процесса. А ведь я даровитый человек. Будь возле меня в ту пору любящая женщина — каких только высот я бы не достиг! Но ведь одинокий человек не может всегда хранить веру в себя. Нам надо, чтоб возле нас был свидетель нашей силы — кто-нибудь, кто ведет счет нанесенным ударам, отмечает удачи, неудачи и увенчивает нас лаврами в день победы — как когда-то в школе, в день раздачи наград, получив похвальный лист и стопку книжек, я искал глазами маму в толпе родителей, и под звуки военного оркестра, игравшего туш, она мысленно возлагала на мою головенку, остриженную под машинку, золотой лавровый венок.
Ко времени процесса Вильнава мама сильно сдала. Я далеко не сразу заметил это; первым признаком этого упадка была ее неожиданная привязанность к черной собачонке, которая всегда неистово лаяла, как только я приближался. Всякий раз, когда я навещал маму, у нее только и разговору было, что об этой собачке.
Впрочем, мамина нежность не заменила бы мне той любви, которая могла бы спасти меня на решающем повороте моего жизненного пути. У мамы был один порок: она слишком любила деньги, и этот порок я унаследовал от нее — сребролюбие у меня в крови. Мама, конечно, всячески уговаривала бы меня не бросать адвокатуру, которая дает мне «хорошие деньги». А ведь я мог бы стать литератором, меня усиленно приглашали сотрудничать и газеты, и все толстые журналы; на выборах левые партии предлагали мне выставить свою кандидатуру в парламент от округа Ла-Бастид (человек, который после моего отказа дал согласие баллотироваться, прошел без труда), но я поборол свое честолюбие, потому что хотел «зарабатывать хорошие деньги».
Да ведь и тебе этого хотелось, и ты дала мне понять, что никогда не расстанешься с провинцией; меж тем женщине, которая любила бы меня, была бы дорога моя слава и она убедила бы меня, что искусство жить состоит в том, чтобы жертвовать низменными аппетитами во имя высокой страсти. Дураки газетчики поднимают шумиху и выражают притворное негодование по поводу того, что тот или иной адвокат, став депутатом или министром, извлекает кое-какие мелкие преимущества из своего положения. А лучше бы господа борзописцы выражали свое восхищение твердостью выдающихся людей, которые сумели установить разумную иерархию в мире своих страстей и предпочли славу политического деятеля самым прибыльным судебным процессам. Если б ты любила меня, ты исцелила бы меня от глупой алчности, которая выше всего ставит непосредственную выгоду, заставляет гоняться за мелкой, жалкой добычей — за гонорарами — и пренебрегает «тенью могущества». А ведь не бывает тени без реальности, тень — это часть реальности. Но куда там! У меня оставалось одно утешение: «зарабатывать хорошие деньги». Идеал любого лавочника!
Вот и все, что мне осталось — деньги, нажитые за долгие и ужасные годы. Вас одолевает безумное желание выманить их у меня. А мне невыносима мысль, что они попадут в ваши карманы, хотя бы после моей смерти. Я ведь говорил в начале своего письма, что хотел принять кое-какие меры, и вам бы тогда ничего не досталось. И тут же я дал тебе понять, что я отказался от этой мести. Но говорил я так, не зная, что в моем сердце ненависть — как море: есть у нее свои приливы и отливы. Отхлынет она — я смягчаюсь. А потом снова прилив, и мутная волна захлестывает меня.
С нынешнего дня, со дня «светлого праздника Пасхи», когда вы сделали попытку обобрать меня ради Фили и когда я видел, как вся семья собралась у двери в кружок и следит за мной, меня преследует картина будущего дележа моего наследства. Вот-то поднимется драка! Вы, как собаки, начнете грызться из-за моих земель, из-за акций и прочих ценных бумаг. Земли вы получите. А вот ценных бумаг уже нет. Да-с, те самые ценные бумаги, о которых я упоминал в начале письма, — фью! Нет их, проданы на прошлой неделе! И хорошо я сделал, что сбыл их с рук: с тех пор курс бумаг на бирже падает с каждым днем. Все корабли идут ко дну, лишь только я убегаю с них. Я никогда не ошибаюсь. Теперь у меня миллионы, миллионы чистоганом! Вы их тоже получите... Получите, если мне это будет угодно. Но бывают дни, когда я говорю: «Не достанется вам ни гроша!»
Слышу, как вы идете целой оравой по лестнице, перешептываетесь, останавливаетесь на площадке, разговариваете, не боясь разбудить меня (у вас уже решено, что я оглох); сквозь щель под дверью вижу свет от зажженных свечей. Узнаю фальцет вашего милейшего Фили (у него как будто все еще ломается голос), и вдруг раздается приглушенный женский смех, фырканье, кудахтанье. Ты их журишь: «Перестаньте, как не стыдно! Он же не спит!» Ты подходишь к моей двери, прислушиваешься, смотришь в замочную скважину. Меня выдает лампа Ты возвращаешься к своей стае и, должно быть, шепчешь: «Не спит еще! Подслушивает». Все уходят на цыпочках. Опять скрипит лестница, потом одна за другой затворяются двери. В пасхальную ночь в доме собрались супружеские пары нашей семьи. И ведь я мог бы стать живым стволом нашего генеалогического древа, тесно связанным со своими молодыми отпрысками. По большей части в семье любят отца Но ты была моим врагом, и дети оказались во вражеском стане.
Пора теперь перейти к нашей междоусобной войне. Но сегодня уже не могу писать, нет сил. Однако в постель я не лягу. Терпеть не могу лежать в постели, даже когда здоровье этого требует. Зачем прятаться от смерти, притворяясь покойником. Мне кажется, смерть не посмеет прийти, пока я держусь на ногах. Чего же я боюсь? Страданий, мучительной агонии, предсмертной икоты? Нет. Но ведь смерть — это небытие, ее можно выразить лишь знаком отрицания — минус.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Пока трое наших детей были крошками, наша вражда оставалась скрытой. Атмосфера в доме создалась тяжелая. Ты была глубоко равнодушна ко мне и ко всему, что меня касалось, а поэтому не страдала из-за этой атмосферы — ты просто ее не замечала. Да меня почти никогда и дома не было. Утром я завтракал один и в одиннадцать часов уезжал в суд. Меня поглощали дела, семейным радостям я мог бы посвящать очень немного времени, но и это время я, как ты, конечно, догадываешься, тратил на удовольствия совсем иного рода. Почему же меня соблазнял самый грубый разврат, лишенный всего, что обычно служит извинением распутству, сведенный к самой неприкрашенной мерзости, без малейшей тени чувства, без малейшей, хотя бы притворной, нежности? Ведь мне нетрудно было бы заводить романы, которые вызывают в хорошем обществе восхищение. Разве адвокату, и к тому же еще довольно молодому, не приходится сталкиваться с соблазнительными просительницами? Очень многие женщины, обращаясь ко мне по делу, видели во мне мужчину и старались очаровать меня. Но я потерял веру в лукавых обольстительниц или, лучше сказать, не верил, что действительно могу понравиться. С первого же взгляда я угадывал, что женщины, готовые стать моими любовницами и прилагающие все усилия к тому, чтобы я откликнулся на их призыв, руководились корыстью. Меня замораживала предвзятая мысль, что все они ждут для себя выгоды от этого сближения. Да почему не признаться еще в одной причине? К трагической уверенности в том, что никто меня не любит и не может полюбить, присоединилась подозрительность богатого скупца, который боится, как бы его не надули, не стали бы вытягивать у него деньги. Тебе-то я назначил определенную сумму на расходы. Прекрасно зная мой характер, ты не решилась бы попросить у меня хоть на грош больше. Впрочем, сумма была довольно солидная, и ты никогда ее не превышала. С этой стороны мне ничто не угрожало. Но другие женщины! Я принадлежал к числу тех дураков, которые убедили себя, что на свете существуют только две категории женщин: бескорыстные, жаждущие любви, и пройдохи, которые хотят только денег. А между тем у большинства женщин жажда любви уживается с потребностью в поддержке, покровительстве — им хочется, чтоб кто-нибудь заботился о них, защищал, баловал... В шестьдесят восемь лет я вижу это так ясно, что иной раз готов выть от отчаяния, — зачем я сам, собственными руками отталкивал от себя любовь, и не из добродетельных чувств, а из недоверия и мелкой скаредности. Было у меня в жизни несколько связей, но, едва начавшись, они обрывались — то из-за моей нелепой подозрительности, ибо я дурно истолковывал самую невинную просьбу, то я сам становился противен женщине за кое-какие мои повадки, которые и ты недолюбливала: за споры с официантами в ресторанах или с извозчиками из-за чаевых. Я хочу заранее знать, сколько должен платить. Я люблю, чтобы на все была такса. Придется сделать постыдное признание: пожалуй, в разврате меня привлекало то, что на него заранее установлены определенные цены. И разве у такого человека, как я, есть что-нибудь общее между влечением сердца и голым желанием? Влечение сердца, как мне казалось, у меня уж никогда не может быть удовлетворено, а потому, едва оно зарождалось, я спешил его подавить. Я стал великим мастером в искусстве убивать в себе всякое чувство в ту минуту, когда воля еще играет в любви решающую роль, когда мы стоим на грани страсти и еще вольны всецело отдаться ей или же вырваться из ее оков. Я довольствовался простейшими отношениями — теми, которые покупаются за условленную заранее цену. Терпеть не могу, когда меня надувают, но то, что я обязан заплатить, я всегда плачу. Вы вот все кричите о моей скупости; между тем я никогда не задерживаю деньги по счетам, не выношу долгов и всегда плачу наличными: все мои поставщики это знают и восхваляют меня. Мне просто бывает невыносима мысль, что я кому-то должен, хотя бы ничтожную сумму. Точно так же я понимал и «любовь». За услугу плати чистоганом... Какая гадость! Нет, я слишком уж сгущаю краски, слишком черню себя: все-таки я любил одну женщину, и она, кажется, любила меня... Было это в 1909 году, на исходе моей молодости. Зачем обходить молчанием этот роман? Ты знала о нем и припомнила мне его, когда тебе понадобилось кое-что выторговать у меня.
Она была молоденькой гувернанткой, я спас ее от суда (она была под следствием по обвинению в детоубийстве). Сначала она отдалась мне из благодарности, но затем... Да, да, в тот год я изведал искреннюю любовь... только все погубил мой ненасытный эгоизм. Мало того что я держал ее в бедности, чуть ли не в нищете, я еще требовал, чтобы она всегда находилась в моем распоряжении, ни с кем бы не виделась, была бы всецело в моей власти, зависела от приливов и отливов моего желания и услаждала меня в редкие часы моего досуга. Она была моей собственностью, моей вещью. Владеть, пользоваться, использовать себе на потребу — эти мои стремления распространялись и на людей. У меня натура рабовладельца. И вот однажды в жизни я как будто нашел себе покорную жертву, отвечавшую всем моим требованиям. Я держал ее под надзором, следил за каждым ее взглядом... Ах, что ж это я!.. Забыл свое обещание не вести с тобой разговор на такие темы. Скажу кратко: она уехала в Париж — не могла выдержать.
«Ведь если б ты только с нами не мог ужиться, — не раз говорила мне ты, — а то ведь все, решительно все боятся тебя, избегают тебя, Луи. Ты же сам видишь!» Да, я видел это. В судебной палате меня всегда сторонились. Очень долго меня не выбирали в Совет присяжных поверенных. А на пост старшины сословия адвокатов выбирали не меня, а всяких кретинов, после которых мне было бы стыдно занимать этот пост. Да, в сущности, зачем мне он? Только лишние расходы на представительство, на приемы. Все эти почести обходятся дорого, игра не стоит свеч. Тебе, наоборот, хотелось почета — ради детей. Ты никогда ничего не хотела ради меня самого, всегда твердила: «Сделай это ради детей».
Через год после нашей свадьбы у твоего отца случился первый удар, и доступ в усадьбу Сенон был для нас закрыт. Ты очень скоро привыкла к Калезу и свила в нем себе гнездо. Меня ты отринула, но родной мой край полюбила. Ты пустила корни в моей земле, но они не переплелись с моими корнями Дети всегда проводили каникулы в этом доме, в этом саду. Здесь умерла наша дочка Мари. И смерть ее не исполнила твою душу ужасом, наоборот, ты считаешь священным местом ту комнату, где она, бедняжка, страдала. Здесь ты лелеяла свой выводок, ухаживала за больными детьми, сидела у их колыбели, читала наставления нянькам и гувернанткам. Между этими вот яблонями натягивали веревки, на которых сушились выстиранные платьица Мари и все эти милые детские одежки. Вон в той гостиной аббат Ардуэн садился за пианино, собрав вокруг себя детей, и они пели хором, причем пели не только псалмы и духовные гимны, «чтобы не рассердился папа».
Летними вечерами, покуривая возле дома в саду, я слышал детские чистые голоса, выводившие арию Люлли: «Ах, леса и скалы, прозрачные ключи...» Спокойное счастье, в котором мне не было доли, — я это знал; запретная для меня сфера чистоты и светлых грез: спокойная любовь, дремлющая волна, льнувшая к берегу в нескольких шагах от моей скалы.
Стоило мне войти в гостиную, голоса умолкали. При моем появлении обрывались все разговоры. Женевьева уходила, захватив с собой книгу. Одна лишь Мари не боялась меня. Я подзывал ее, и она бежала ко мне; я хватал ее в объятия, да она и сама ласково прижималась ко мне. Я слышал, как бьется ее сердечко — часто-часто, как у птички. А как только я, бывало, выпущу ее, она упорхнет в сад... Мари!
Очень рано детей стало тревожить то, что я не хожу в церковь и ем скоромное по пятницам. На их глазах между отцом и матерью шла борьба, но очень редко она приводила к бурным стычкам, в которых, надо сказать, я чаще всего терпел поражение. После каждой схватки продолжалась подземная война. Ареной ее всегда был Калез, потому что в городе меня никогда не бывало дома. Но перерыв в сессиях судебной палаты совпадал со школьными каникулами, и два месяца (август и сентябрь) мы все были здесь в сборе.
Помню тот день, когда мы бросились друг на друга в лобовую атаку (по поводу шуточки, которую я позволил себе в присутствии Женевьевы, отвечавшей аббату Ардуэну урок по «Закону Божьему»); в этой ссоре я заявил о своем праве оберегать разум моих детей, а ты — о своем долге охранять их души. Я был разбит впервые, так как согласился, чтобы воспитание Гюбера доверили отцам иезуитам, а девочек отдали в пансион при женском монастыре. Я уступил, поддавшись престижу, который всегда имели в моих глазах «традиции семейства Фондодеж». Но я жаждал отплатить за поражение, а кроме того, сделал в тот день важное открытие — нащупал единственное твое больное место, я знал теперь, на какую тему завести разговор, чтобы ты вышла из себя, позабыв о своем обычном равнодушии ко мне, и подарила бы меня вниманием — хотя бы из ненависти. Наконец-то я нашел почву для столкновений. Наконец-то я заставлю тебя вступить со мной в рукопашный бой! Когда-то мое неверие в Бога было для меня пустой формой, в которую изливались, как струи расплавленного металла, унижения мелкого крестьянина, разбогатевшего, но презираемого своими товарищами из высшей буржуазии; теперь эта изложница заполнилась любовным разочарованием и почти беспредельной ненавистью.
Как-то раз за столом снова разгорелась ссора. (Я спросил у тебя, что за радость Предвечному смотреть, как ты ешь в постные дни форель или лососину вместо говядины.) Ты вышла из-за стола. Я помню, каким взглядом смотрели на меня наши дети! Я направился вслед за тобой в твою спальню. Ты не плакала, говорила со мной совершенно спокойно. В тот день я понял, что ты вовсе не смотришь сквозь пальцы на мой образ жизни, как я думал. Оказалось, ты наложила руку на кое-какие письма — они давали тебе основание требовать в суде развода. «Я осталась с тобою из-за детей. Но если жизнь с тобою будет грозить гибелью их душам, я колебаться не стану...»
Да, ты без колебаний распростилась бы со мной и даже с моими деньгами. При всей своей корысти ты готова пойти на любую жертву, лишь бы в душах твоих детей остались нетронутыми заложенные в них «основы веры», то есть куча ханжеских привычек, правил, формул — чистейшая ерунда.
Тогда еще у меня не было в руках оружия против тебя — оскорбительного письма, которое ты написала мне после смерти Мари. Сила была на твоей стороне. Да и положение мое сильно бы пошатнулось в случае бракоразводного процесса: в те времена, особенно в провинции, порядочное общество не шутило с такими вещами. И так уж ходили слухи, что я франкмасон; мои взгляды оказались неприемлемы для света, из-за них меня сторонились, и если б не престиж твоей родни, они бы сильно повредили моей карьере. Главное же, в случае развода пришлось бы вернуть акции Суэцкого канала, которые дали за тобой в приданое. А я привык считать эти акции своими. Меня удручала мысль, что надо будет с ними расстаться (да, кроме того, расстаться и с рентой, которую выплачивал нам твой отец...).
Я смирился и дал согласие на все, что ты потребовала от меня, но втайне решил посвятить свои досуги завоеванию своих детей. Я принял такое решение в начале августа 1896 года. Воспоминания о тех годах, когда мы проводили в усадьбе знойные и унылые летние месяцы, перемешались у меня в голове, и те воспоминания, которые я буду приводить сейчас, охватывают лет пять (1895—1900 года).
Я думал, что будет не так уж трудно отвоевать у тебя детей... Я рассчитывал на свой отцовский авторитет, на свой ум. Ну что стоит, — думалось мне, — привлечь к себе двух девчурок и мальчика десяти лет? Пустяки, я шутя этого добьюсь. Помню, как ты была удивлена и встревожена, когда я предложил детям пойти с папой на большую прогулку. Ты сидела тогда во дворе под серебристым тополем, дети вопрошающе посмотрели на тебя.
— Ну, конечно, дорогие, можно. Раз вас зовет с собой папа, нечего и спрашивать у меня разрешения.
Мы отправились. Как надо говорить с детьми? Для меня привычное дело давать на суде отпор суровому прокурору или ловкому защитнику обвиняемого, когда я выступаю на стороне истца, даже выдерживать враждебность целого зала; на сессиях меня боится сам председатель суда, а вот перед детьми я робею — перед детьми и перед простым народом, даже перед крестьянами, хотя я сам из крестьянского рода. Тут я теряю почву под ногами, запинаюсь, говорю что-то невнятное.
Дети были со мной очень милы, но посматривали на меня как-то недоверчиво. Ты завоевала их сердца и держала в своих руках все подступы к ним. Невозможно было проникнуть туда без твоего разрешения. «По долгу совести» ты старалась не умалять моего отцовского авторитета, но не скрывала от детей, что надо усердно молиться за «бедного папу». И что бы я ни делал, мне было отведено определенное место в их представлениях о мире: для них я был «бедным папой», за которого надо усердно молиться, стараться, чтобы он обратился душой к Богу. Все мои «оскорбительные» выпады против религии только усиливали создавшееся у них наивное представление о грешнике-папе. Жили они в волшебном мирке, где вехами служили церковные праздники, которые в нашем доме справлялись торжественно. Ты могла добиться от детей образцового послушания, напоминая им о первом причастии, к которому кто-нибудь из них готовился или которого уже сподобился. Вечерами, когда они пели хором на веранде в Калезе, мне приходилось слышать не только арии Люлли, но и духовные псалмы. Я смутно видел издали фигурки детей, собравшиеся вокруг тебя, а когда светила луна, различал три ангельских личика, поднятые к небу. Мои шаги, раздававшиеся на дорожке, посыпанной гравием, прерывали это благочестивое пение.
Каждое воскресенье начиналась суета, шумные сборы к обедне. Ты всегда боялась, как бы не опоздать, не приехать к шапочному разбору. Лошади фыркали у крыльца. Звали замешкавшуюся кухарку. Кто-нибудь из детей забывал свой молитвенник. Чей-то пронзительный голос вопрошал: «Которое сегодня воскресенье после Пасхи?» Возвратившись, дети прибегали поздороваться со мной и заставали меня еще в постели. Малютка Мари, вероятно, усердно молилась в церкви о спасении души своего папы, читала все молитвы, какие знала, и теперь она внимательно вглядывалась в мое лицо, надеясь прочесть на нем, что я уже чуть-чуть исправился. Только она одна не раздражала меня. Двое старших уже восприняли все твои верования спокойно, бездумно, с инстинктивным стремлением буржуа к комфорту, которое впоследствии уберегало их от всех героических добродетелей, от всего возвышенного безумия христианства; в противоположность им Мари была полна трогательного усердия в вере, сердечно и ласково относилась к прислуге, к арендаторам наших мыз, к беднякам. О ней говорили: «Да она все готова раздать, деньги у нее в руках не держатся. Это очень мило, но надо все-таки приглядывать за ней...» И еще говорили про нее: «Никто перед ней не может устоять, даже отец». Вечерами она сама подходила ко мне, взбиралась на колени. Как-то раз она заснула, уронив головку мне на плечо. Ее кудряшки щекотали мне щеку. Сидеть не двигаясь, да еще в неудобной позе, было мучительно трудно, и хотелось покурить. И все же я не шелохнулся. В девять часов за ней пришла нянька, но я сам отнес Мари в детскую, и вы, видимо, были потрясены, словно перед вами предстал покоренный хищный зверь, подобный тем львам и тиграм, которые лизали ноги юным мученикам на арене Колизея. Несколько дней спустя — четырнадцатого августа, утром — Мари сказала мне (знаешь, как это делают дети):
— Папочка, дай слово, что исполнишь мою просьбу... Нет, ты сначала скажи: «Честное слово!», а потом я тебе скажу...
И она мне напомнила, что на следующий день, в воскресенье, ты поешь в церкви соло — запричастную молитву на поздней обедне, и с моей стороны было бы очень мило пойти послушать маму.
— Ведь ты обещал! Ты обещал! — твердила она, целуя меня. — Ты сказал: «Честное слово!»
Мой ответный поцелуй она приняла за знак согласия. Весь дом узнал о предстоящем событии. Я чувствовал, что за мной наблюдают. Барин пойдет завтра к обедне, а ведь он никогда и не заглядывает в церковь! Событие огромной важности.
Вечером я сел за стол в крайнем раздражении и долго не мог скрыть его. Гюбер спросил у тебя о чем-то, связанном с делом Дрейфуса. Помню, я разразился негодованием, услышав, что ты ответила. Я вышел из-за стола и больше не появлялся. Пятнадцатого августа на рассвете я, захватив чемоданчик, вышел из дому, уехал шестичасовым поездом в Бордо и провел ужасный день в душном опустевшем городе.
Странно, что после этого я все-таки вернулся в Калез. Почему я всегда проводил с вами свой отпуск, а не отправлялся путешествовать? Я мог бы сочинить какие-нибудь благовидные причины А по правде говоря, я просто боялся лишних расходов. Я не мог себе представить, что можно отправиться путешествовать, потратить столько денег, не погасив предварительно плиту в кухне и не заколотив наглухо двери своего дома. Мне не доставило бы никакого удовольствия разъезжать по чужим местам, зная, что без меня хозяйство идет обычным ходом. Я всегда в конце концов возвращался к общей кормушке. Раз для меня в Калезе готов стол и дом, зачем это я стану тратиться на гостиницы и рестораны? Я унаследовал от матери дух строжайшей бережливости и считал его своей добродетелью.
Итак, я вернулся домой, но в страшно злобном настроении, даже Мари не могла его рассеять. И с того времени я применил другую тактику против тебя. Я теперь не нападал прямо на твои верования, а, пользуясь малейшим поводом, старался показать, что ты живешь не так, как того требует твоя вера. И хоть ты была доброй христианкой, а все-таки, признайся, бедняжка Иза, я без труда доказывал противное. Ты, например, никогда не знала, а если и знала, то позабыла, что помощь ближнему — первый долг христианина. Под словом «милосердие» ты понимала некоторое количество необременительных обязанностей по отношению к беднякам и, заботясь о спасении своей души, добросовестно выполняла эти обязанности. Должен признать, что теперь ты сильно изменилась: ты самолично ухаживаешь за «недугующими» — лечишь больных неизлечимым раком, это дело другое! Но в те времена, дав подачку какому-нибудь бедняку — из числа твоих подопечных, ты с особой энергией выжимала соки из других бедняков, которые находились в зависимости от тебя. Ты ни в коей мере не желала поступиться своим правом хозяйки дома — платить слугам как можно меньше и требовать от них работы как можно больше. По утрам нам привозила овощи зеленщица, жалкая старуха, которой ты подала бы щедрую милостыню, если б эта несчастная протянула руку за подаянием, но так как она не хотела побираться, а развозила по домам зелень, ты считала для себя делом чести торговаться с нею за каждый кочешок капусты и урезать на несколько грошей ее убогий барыш.
Робкие намеки прислуги или батраков на то, что надо бы им прибавить жалованья, сначала вызывали у тебя изумление, затем яростный гнев, и ты давала просителям отпор с такой страстной силой негодования, что последнее слово всегда оставалось за тобой. Ты обладала своеобразным даром убеждать этих маленьких людей, что им ровно ничего не нужно. Начинался бесконечный перечень преимуществ, которые дает им их необыкновенно выгодное положение: «Вы получаете бесплатную квартиру, бочонок вина, половину свиньи, которую откармливаете моей же картошкой, вам дается огород для выращивания овощей». Бедняги батраки опомниться не могли: да неужели у них столько сокровищ? Ты уверяла, что твоя горничная может не тратить ни гроша из тех сорока франков жалованья, которые ты ей платишь ежемесячно, может все их целиком класть на книжку в сберегательной кассе.
— Ведь я ей отдаю все свои старые платья и нижние юбки, свои старые ботинки. На что ей деньги? Только чтоб гостинцы посылать в деревню...
Впрочем, когда слуги заболевали, ты усердно ухаживала за ними, ты никогда не оставляла их в беде, и я должен признать, что, в общем, тебя всегда уважали и зачастую даже любили, так как слуги презирают слабохарактерных хозяев. На все житейские вопросы у тебя были взгляды, обычные для твоей среды и твоего времени. Но ты никогда не сознавалась, что Евангелие их осуждает. «Послушай, — говорил я, — а ведь, кажется, Христос сказал то-то и то-то...» Ты сразу умолкала, огорченная, разгневанная из-за того, что такой спор идет при детях. И в конце концов ты всегда попадала в ловушку. «Нельзя же все понимать буквально...» — растерянно лепетала ты. Я с легкостью опровергал подобные возражения и совсем тебя забивал, приводя примеры, доказывающие, что святость как раз и состоит в том, чтобы в точности следовать евангельскому учению, принимать его буквально. Если ты, на свое несчастье, возражала, что ты не святая, я приводил евангельские слова: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный».
Признайся, бедная моя Иза, что я тебя по-своему направлял на путь высоких добродетелей, и если теперь ты ухаживаешь за больными, умирающими от рака, они этим отчасти обязаны мне. Ведь в прежние годы любовь к детям всецело поглощала тебя, ты отдавала им все свои нерастраченные сокровища доброты, на них обращала ты свою жажду самопожертвования. Дети заслоняли от твоих глаз весь мир. Они отвратили тебя не только от мужа, но и от всех людей. Даже Богу ты могла молиться только о здоровье и будущности своих детей. Вот тогда-то я поиздевался над тобой... Я спрашивал тебя — а не следует ли христианину желать, чтоб детям его были ниспосланы всяческие тяжкие испытания, бедность и болезни. Ты обрывала меня: «Я больше с тобой разговаривать не желаю. Ты уж сам не знаешь, что говоришь...»
Но, на твое несчастье, я привлекал к спору наставника детей, двадцатитрехлетнего семинариста, аббата Ардуэна. Я призывал его в свидетели наших разногласий и безжалостно ставил его в затруднительное положение, так как требовал его вмешательства только в тех случаях, когда был уверен, что я прав, а он в этих своеобразных прениях о вере не умел таить свои мысли. Когда развернулось дело Дрейфуса, у меня появилось столько поводов натравливать на тебя беднягу аббата «Из-за какого-то несчастного еврея подрывать престиж армии!» — возмущалась ты Ухватившись за эти слова, я выражал притворное негодование и не унимался до тех пор, пока не добивался от аббата Ардуэна заявления, что христианин даже ради спасения родины не может согласиться с осуждением невиновного.
Впрочем, я не особенно старался внушить тебе и детям истинное представление о деле Дрейфуса, которое вы знали только по карикатурам, помещаемым в благомыслящих газетах. Вы представляли собой несокрушимую скалу. Даже когда казалось, что я одолел вас в споре и доказал свою правоту, вы оставались при своем убеждении, что мне это удалось сделать только при помощи хитрых уловок. И тогда вы решили молчать в моем присутствии. Стоило вам завидеть меня, как вы разом обрывали все споры, что, кстати сказать, случается и теперь. Но иной раз вы не знали, что я подслушиваю, притаившись за кустами; я появлялся перед вами совершенно неожиданно, вы не успевали дать отбой и поневоле принимали сражение.
— Это святой человек, — говорила ты про аббата Ардуэна, — но ведь он сущий младенец и не верит, что есть на свете зло. Мой муж играет им, как кошка с мышью, и поэтому терпит его, несмотря на свое отвращение к духовенству.
По правде сказать, я позволил, чтоб наняли в гувернеры семинариста, только потому, что никто другой не согласился бы за сто пятьдесят франков заниматься с детьми целое лето. На первых порах я принимал этого долговязого и близорукого черноволосого малого, не смевшего от робости пошевелиться, за существо самое ничтожное и не обращал на него никакого внимания, словно передо мной был стол или стул. Он давал уроки детям, ходил с ними на прогулки, мало ел и не говорил ни слова. Проглотив последний кусок, он тотчас же удалялся к себе в комнату. Иной раз, когда в доме никого не было, он садился за пианино. В музыке я ничего не понимаю, но, как ты говорила, «слушать его было приятно».
Ты, вероятно, не забыла случай, который произошел в нашем доме с аббатом Ардуэном, но ты и не подозревала, что из-за этого случая между мной и беднягой Ардуэном втайне протянулась ниточка взаимной симпатии. Однажды дети объявили, что к нам идет приходский священник. Я тотчас же, как обычно, удрал в виноградник. Но вскоре ты прислала за мной Гюбера: священнику понадобилось срочно поговорить со мной по какому-то важному делу. Кляня все на свете, я всетаки двинулся обратно к дому, потому что очень боялся этого сухонького старичка. Он заявил мне, что пришел покаяться передо мной, его, оказывается, замучила совесть. Он рекомендовал нам аббата Ардуэна как знающего и добродетельного молодого человека, прекрасно окончившего семинарию, полагая, что посвящение его в сан отложено лишь по состоянию его здоровья. Однако он недавно узнал на собрании священнослужителей всей епархии, что эта отсрочка является дисциплинарной мерой. Аббат Ардуэн при всем своем благочинии до безумия любит музыку и как-то раз, соблазненный одним из своих товарищей, тайком отправился в театр на благотворительный концерт и из-за этого даже не ночевал в семинарии. Хотя он был в штатском, его узнали в театре и донесли на него. Скандал усугублялся еще тем обстоятельством, что в программе участвовала исполнительница арии Таис, г-жа Жоржетта Лебрен; когда она появилась на сцене с голыми ногами, в короткой греческой тунике, перехваченной под грудью серебряным поясом («Говорят, больше ничего на ней не было, даже самых тоненьких перемычек на плечах»), по залу прокатилось испуганное: «А-ах!» В ложе, где сидели члены союза «Единение», какой-то старый господин возмутился: «Ну уж это чересчур!.. Куда мы попали?» Вот что пришлось увидеть аббату Ардуэну и его спутнику! Один из преступников был немедленно исключен из семинарии, Ардуэна простили за его выдающиеся успехи, но начальство предписало отсрочить для него на два года посвящение в сан. Мы с тобой единодушно возразили, что наше доверие к аббату Ардуэну от этого не уменьшится. Священник, однако, с тех пор выказывал провинившемуся семинаристу величайшую холодность, заявляя, что «этот несчастный Ардуэн обманул его». Ты, разумеется, помнишь этот инцидент, но тебе осталось неизвестным, что было дальше. В тот же вечер, когда я курил на террасе над обрывом, я увидел при лунном свете приближавшуюся ко мне тощую черную фигуру. Ардуэн неуклюже остановился возле меня и попросил извинения за то, что, вступая в мой дом, не сообщил мне о своем недостойном поступке. Я заверил аббата, что его выходка скорее вызывает у меня симпатию к нему, а он стал мне возражать с неожиданной твердостью и произнес целую обвинительную речь против самого себя. Он заявил, что я, должно быть, не представляю себе, как велика его вина: оказывается, он нарушил долг повиновения, осквернил свое призвание, погрешил против нравственности. Кроме того, он навлек позор на семинарию. Словом, всю жизнь ему не искупить того, что он натворил... До сих пор у меня стоит перед глазами эта длинная, согбенная фигура, озаренная лунным светом, и падающая от нее тень, перерезанная пополам парапетом террасы.
При всем моем предубеждении против духовных особ, я не мог заподозрить Ардуэна хотя бы в малейшем лицемерии — он был полон искреннего стыда и скорби. И бедняга все просил извинить его за то, что он умолчал о своем проступке, а в оправдание приводил свою бедность — ему необходимо было найти себе заработок, иначе он два месяца каникул должен был бы сидеть на шее у матери, а она вдова, очень бедна, ходит по домам стирать белье в Либурне. Я ему ответил, что, по-моему, он вовсе не был обязан сообщать нам об инциденте, касавшемся лишь нарушения семинарской дисциплины. Тогда он взял меня за руку и сказал нечто неслыханное — такие слова мне говорили впервые в жизни, и я был потрясен:
— Вы очень добрый.
Тебе ведь хорошо знаком мой смех — даже в начале нашей совместной жизни он действовал тебе на нервы, смех совсем не заразительный, в дни моей юности убивавший всякое веселье вокруг меня. В тот вечер я весь трясся от смеха, уставившись на ошеломленного семинариста.
Наконец я успокоился и сказал:
— Нет, вы даже не представляете себе, господин аббат, какую нелепость вы сказали! Спросите-ка у людей, которые меня знают, добрый я или нет. Спросите моих домочадцев, моих собратьев: злоба — вот моя сущность.
Он смущенно ответил, что злой человек, по-настоящему злой, не стал бы говорить откровенно о своей злобе. И, намекая на мою адвокатскую профессию, привел слова Христа: «В темнице я был, и вы посетили меня...»
— Да это я для своей выгоды делаю, господин аббат. Профессия обязывает. Когда-то я платил тюремным надзирателям, чтобы они вовремя шепнули на ухо мою фамилию подследственному заключенному... так что видите!..
Не помню уж теперь, что он мне ответил. Мы шли с ним рядом по липовой аллее. Как бы ты удивилась, скажи я тебе, что мне почему-то было приятно присутствие этого человека в сутане! А между тем мне и вправду было с ним хорошо.
Случалось, я вставал на рассвете и выходил в сад подышать предутренней прохладой. Я смотрел, как аббат отправляется к ранней обедне, шагает так быстро и так погружен в свои мысли, что, проходя рядом, не замечает меня. Как раз в эти дни я преследовал тебя своими насмешками и старался доказать, что живешь ты в полном противоречии со своими принципами. И все же совесть упрекала меня: всякий раз, как я ловил тебя, так сказать, с поличным и упрекал в грехе скупости или черствости, я хоть и выражал уверенность, что у вас, набожных людей, не осталось и следа христианского духа, я все-таки знал, что под моей кровлей обитает человек, жизнь которого, неведомо для всех, исполнена этого духа.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Был, однако, один случай, когда я без всякой натяжки мог считать твое поведение отвратительным. В 1896 или 1897 году — тебе это лучше знать — умер наш зять барон Филипо. Как-то утром твоя сестра Маринетта проснулась, заговорила с мужем, а он ничего не ответил ей. Она открыла ставни, увидела, что глаза у него закатились, нижняя челюсть отвисла. Маринетта не сразу поняла, что муж ее умер и что она несколько часов спала возле трупа.
Вряд ли кто-нибудь из вас почувствовал всю подлость завещания этого жалкого старика: он оставил жене огромное состояние, но при условии, что она вторично не выйдет замуж В противном случае большая часть наследства должна была перейти к племянникам покойного.
— Надо окружить ее заботами, — твердила твоя мать. — К счастью, семья у нас очень дружная, все друг за друга. Не надо оставлять бедную девочку одну.
Маринетте исполнилось в ту пору тридцать лет, но ведь ты помнишь, конечно, что у нее был совсем юный и девический облик. Ее выдали за старика, она послушалась родителей и покорно сносила это супружество. Вы не сомневались, что она безропотно подчинится требованию остаться неутешной вдовой. Вы считали пустяком тот толчок, который дало ей неожиданное освобождение, резкий переход из темного подземелья на солнечный свет.
Нет, Иза, ты не думай, я не стану злоупотреблять преимуществом вести монолог, которое я себе тут присвоил. Вполне естественно было твое желание, чтобы завещанные миллионы остались в семье Фондодеж и твои дети попользовались бы наследством барона. По вашему твердому убеждению, Маринетта должна была во что бы то ни стало сохранить огромный капитал, который ей достался ценою десятилетнего рабства, приковавшего ее к старику мужу. Вами руководили родственные чувства. Молодой вдове не выходить вторично замуж — это казалось вам вполне естественным. Да вспоминала ли ты, Иза, когда-нибудь, что десять лет назад ты была молодой супругой? Нет, на супружеской любви ты поставила крест: ты была только матерью, никакой любви для тебя не существовало — ни для тебя, ни для других, как тебе казалось. У вас в семье никто не грешил избытком воображения: вы не могли бы поставить себя на место кого-либо другого — не только какого-нибудь мерзавца, но и на место порядочного человека.
Решено было, что первое лето после смерти мужа Маринетта проведет в Калезе. Она с радостью согласилась. Нельзя сказать, чтоб ты была очень дружна с сестрой, но Маринетта очень любила наших детей, особенно маленькую Мари. Я лично почти ее не знал, и меня прежде всего поразила ее миловидность и грация; она была на год старше тебя, а казалась на несколько лет моложе. Дети, которых ты носила под сердцем, испортили твой тонкий стан, ты отяжелела; она же как будто вышла девственницей из постели этого старика. Личико у нее было детское. Она носила высокую прическу по тогдашней моде, ее золотистые волосы пушистыми завитками окаймляли затылок (нынче позабыли эту прелесть — облачко пушистых завитков). Глаза были, пожалуй, слишком круглые, словно она всегда чему-то удивлялась. Я для забавы обхватывал ладонями ее «осиную талию», но бюст и бедра были у нее по нынешним понятиям чрезмерно развиты; ведь женщины в те годы походили на какие-то искусственно выведенные цветы.
Меня удивляла жизнерадостность Маринетты. Она всячески старалась повеселить детей, играла с ними в прятки, причем тайниками служили все закоулки в доме и даже чердак; по вечерам устраивала живые картины. «Маринетта у нас немножко легкомысленная, — говорила ты, — и не совсем понимает, как ей надо вести себя в ее положении».
Ей сделали большую уступку — допустили, чтобы по будням она носила белые платья, но ты считала страшно неприличным, что по воскресеньям она бывала на обедне без длинной вдовьей вуали, без накидки, обшитой траурным крепом. Ты считала, что жара не может служить тут оправданием.
Единственным развлечением, которым Маринетта пользовалась при муже, была верховая езда. До самой своей смерти барон Филипо оставался известным знатоком конских ристалищ, прекрасно ездил верхом и почти никогда не пропускал утренней прогулки на лошади. Маринетта выписала в Калез свою лошадь и, так как некому было ее сопровождать, сначала ездила верхом одна; но это казалось тебе вдвойне скандальным: женщина, овдовевшая лишь три месяца назад, не должна заниматься никаким спортом, а уж разъезжать верхом на лошади без телохранителя — это переходит всякие границы.
«Я ей скажу, что у нас в семье о ней думают», — твердила ты. И ты говорила ей это, но Маринетта все равно делала по-своему. Наконец, устав сражаться, она обратилась ко мне с просьбой сопровождать ее на прогулках, причем обязалась достать для меня очень смирную лошадь. (Все расходы она, разумеется, принимала на себя.)
Мы обычно выезжали на рассвете, спасаясь от слепней и мух и зная, что до первых лесных дач, то есть километра два, надо подниматься в гору шажком. Лошадей подводили к крыльцу. Маринетта шаловливо показывала язык окнам твоей спальни, закрытым ставнями, и прикалывала к своей амазонке розу, окропленную росой. «Хотя вдове цветочков носить не полагается», — шутила Маринетта. Звонили к ранней обедне — звон был торопливый, жиденький. Аббат Ардуэн, робко поклонившись нам, исчезал в дымке тумана, поднимавшейся над виноградниками.
Итак, до леса мы ехали не спеша и разговаривали. Я заметил, что пользуюсь некоторым авторитетом у моей свояченицы — не столько из-за моего положения в суде, сколько из-за крамольных идей, которые я проповедовал в семейном кругу. Твои же взгляды, Иза, слишком уж походили на взгляды ее покойного мужа. А ведь у женщин и религия, и всякие идеи обязательно олицетворяются в образе какого-нибудь человека — любимого или ненавистного.
От меня зависело, чтобы мой престиж возрос еще больше в глазах этой бунтовщицы. Но вот беда — пока она восставала против вас, я без труда присоединялся к ее возмущению, но я не мог разделять ее презрения к миллионам, которых она должна была лишиться в случае вторичного замужества. Мне было бы выгодно говорить то же, что и она, и разыгрывать возвышенное благородство, чтобы взволновать ее сердце; но я не в силах был притворяться в таком вопросе и делать вид, будто я одобряю ее, когда она заявляла, что ее нисколько не страшит возможная утрата мужниного наследства. И уж если говорить начистоту, то меня преследовала мысль, что Маринетта может внезапно умереть и мы будем ее наследниками (я думал не о детях, а о самом себе).
Бывало, я заранее подготовлюсь к разговору, словно вытвержу урок, — нет, это оказывалось сильнее меня: «Семь миллионов! Маринетта, вы с ума сошли! Да на свете не сыщешь ни одного человека, ради которого стоило бы пожертвовать таким состоянием!» Она заявляла, что ставит счастье выше богатства, а я ее уверял, что нельзя быть счастливым, пожертвовав таким богатством.
— Ах, так? — восклицала она. — Напрасно вы говорите, что ненавидите наших, вы совершенно такой же, как они, одного поля ягода.
Она поднимала лошадь в галоп, я трусил позади нее. Итак, она вынесла мне приговор, все было потеряно. Ах, эта мания, эта бешеная страсть к деньгам! Чего они лишили меня! Я мог бы найти в Маринетте милую сестру, быть может, подругу... И вы еще хотите, чтобы я отдал вам деньги, ради которых я всем пожертвовал? Нет, нет, мои капиталы стоили мне слишком дорого, и до последнего моего вздоха вы не получите ни сантима.
А вы все-таки неустанно ведете осаду. В воскресенье пожаловала ко мне жена Гюбера. Интересно, по собственному почину она приехала или это вы ее подослали? Вот уж убогое существо эта Олимпия! (Почему, спрашивается, Фили окрестил ее Олимпией? А ведь привилось прозвище, мы даже забыли ее настоящее имя...) Но мне кажется, она не сказала о своем намерении навестить меня. Вы не приняли ее в свой клан, не считаете ее настоящей родней. Эта особа равнодушна ко всему, что находится за пределами ее узкого мирка, ко всему, что непосредственно ее не касается; знать не хочет, что обо мне «люди говорят», не считает их мнения законом, не ведает, что я вам враг. И нельзя сказать, что так у нее получается по доброте душевной или из ее личной симпатии ко мне: она никогда не думает о других, даже не способна возненавидеть когонибудь. Если при ней бранят меня, она заявляет: «Он всегда очень любезен со мной». Она не чувствует моей язвительности. А так как иной раз я, из духа противоречия, встаю на ее защиту, когда вы все нападаете на нее, то Олимпия убеждена, что она мне очень нравится.
Из ее путаных речей я понял, что Гюбер вовремя дал отбой, но, чтобы спасти свое положение, ему пришлось пустить на бирже в ход все свое личное состояние и приданое жены.
— Он говорит, что обязательно вернет свои деньги, но только ему нужен сейчас... ну как это называется?.. Аванс в счет наследства.
Я одобрительно покачивал головой и как будто соглашался с ней, делая вид, что даже и не подозреваю, чего она от меня хочет. Каким наивным дурачком я умею прикидываться в такие минуты!
Если б ты, бедняжка Олимпия, знала, чем я пожертвовал ради денег, когда мне все-таки еще было далеко до старости! Мне шел тридцать пятый год. Ах, как волнующи были утренние часы, когда мы с Маринеттой возвращались шагом по дороге, которую уже припекало солнце, а кругом была голубоватая зелень виноградника, опрысканная купоросом. Я красноречиво убеждал молодую насмешницу, что никак нельзя терять унаследованные ею миллионы; меня преследовала мысль об этих миллионах, которых она грозила нас лишить. А когда я умолкал, оторвавшись от этого наваждения, она смеялась и вышучивала меня с презрительной снисходительностью. Я начинал защищаться и совсем запутывался в своих доводах.
— Я же в ваших интересах говорю, Маринетта. Неужели вы считаете, что у такого человека, как я, на уме только будущность моих детей? Иза, конечно, не хочет, чтобы ваше богатство ускользнуло от них из-под носа Но я...
Она смеялась и говорила сквозь зубы:
— Право, вы настоящее чудовище!..
Я заверял ее, что забочусь только об ее счастье. Она с отвращением мотала головой: «Нет, нет!» А в сущности, хотя Маринетта не признавалась в этом, она не столько мечтала о замужестве, сколько о детях, о материнстве.
После завтрака я, невзирая на жару, уходил из дому, где в наглухо запертых холодных и темных комнатах дремали мои домашние, развалившись на кожаных диванах или в плетеных креслах, и когда я, приоткрыв закрытую ставнем стеклянную дверь, выскальзывал в огненное пекло и лазурь, мне не надо было и оборачиваться: я знал, что эта презиравшая меня женщина сейчас выйдет вслед за мной, я слышал ее шаги на дорожке, посыпанной гравием. Ей было неудобно, она спотыкалась на неровном скате, высокие каблуки подворачивались. Наконец мы добирались до террасы, устроенной над обрывом, и останавливались там, облокотившись о парапет. Маринетта для забавы производила испытание: долго ли она может продержать обнаженную руку на раскаленном камне.
Внизу расстилалась равнина, залитая знойным солнцем и объятая такой же тишиной, как в лунные ночи, когда она спит, озаренная голубоватым светом. Каменистые холмы смыкались на горизонте в черную арку, придавленную светлым металлическим небом. До четырех часов не увидишь ни одной живой души. Столб мошкары трепетал в воздухе все на одном месте, такой же неподвижный, как единственный на всей равнине дымок, которого не колебало ни малейшее дуновение ветерка.
Я знал, что женщина, стоявшая рядом со мной, не могла бы меня полюбить — решительно все в моей душе было ей мерзко. Но лишь мы с ней одни дышали воздухом среди мертвого оцепенения, царившего в этом глухом углу; это молодое, тоскующее существо, за которым строго надзирала жадная родня, искало моего взгляда так же бессознательно, как поворачивается к солнцу цветок гелиотропа. Однако в ответ на малейший, даже неясный, намек я услышал бы только насмешки. Я прекрасно знал, что она с отвращением оттолкнет мою руку, хотя бы очень робко протянувшуюся к ней. И вот так мы стояли друг возле друга на краю котловины, где, как в огромном бродильном чане, наливались хмельным соком гроздья винограда среди дремлющих голубоватых листьев.
А ты, Иза, что ты думала о наших утренних прогулках и о наших беседах, происходивших в тот час, когда вокруг было сонное царство? Впрочем, я знаю, как ты относилась к этому, я слышал твои слова. Да, однажды я слышал сквозь запертые ставни, как ты разговаривала со своей матерью в зале (она гостила тогда у нас в Калезе, приехав, несомненно, для того, чтобы надзор за Маринеттой был построже).
— В отношении взглядов он оказывает на нее дурное влияние, — говорила ты, — но во всем остальном это неопасно. Он развлекает ее, и только...
— Да, пусть развлекает, это самое главное, — ответила тебе мать.
Вы радовались, что я развлекаю Маринетту. «Но когда осенью вернемся в город, надо будет найти что-нибудь другое». Как бы ты ни презирала меня, Иза, я сам почувствовал к тебе презрение за такие слова. Ты и в самом деле воображала, что тут не может быть для тебя ни малейшей опасности. Женщины быстро забывают то, что в них самих уже перегорело.
Правда, когда мы с Маринеттой стояли днем над обрывом, ничего «предосудительного» и не могло случиться; хотя кругом царило безлюдье, а все-таки мы на этой террасе чувствовали себя у всех на виду, словно на сцене. Если б нашелся на соседних фермах такой храбрец, который не спал бы в жаркие часы, он бы увидел, как стоят рядом, неподвижно, словно два тополя, мужчина и женщина, устремив взгляды на раскаленную равнину, стоят так близко, что при малейшем движении невольно касаются друг друга.
Но и ночные наши прогулки были столь же невинны.
Помню один августовский вечер. За обедом шли бурные споры из-за дела Дрейфуса. Маринетта, так же как и я, принадлежала к лагерю «дрейфусаров», требовавших пересмотра дела. Она теперь превосходила меня в искусстве вовлекать аббата Ардуэна в прения и умела заставить его встать на ту или другую сторону. Ты за столом восхваляла газетную статью Дрюмона, а Маринетта вдруг спросила звонким голоском, словно девочка на уроке «Закона Божьего»:
— Господин аббат, скажите, — дозволительно христианам ненавидеть евреев?
В тот вечер аббат Ардуэн, к нашему с ней большому удовольствию, не отделался туманными отговорками. Он заговорил о важной роли народа, избранного свидетелем деяний Господа, о предсказанном его обращении в истинную веру, которое будет возвещать «конец времен». Гюбер стал возражать, заявил, что надо ненавидеть палачей Спасителя нашего, и тогда аббат ответил ему, что каждый из нас имеет право ненавидеть только одного палача, виновного в муках Иисуса Христа: «Ненавидеть только самого себя, и больше никого...»
В расстройстве чувств ты ответила, что в таком случае ничего другого не остается, как предать Францию во власть чужестранцев. К счастью для аббата, ты вспомнила о Жанне д'Арк, и на ней вы помирились. На веранде кто-то из детей воскликнул:
— Ой, как луна светит! Вот красиво!
Я вышел и направился к обрыву. Я знал, что Маринетта пойдет вслед за мною. И в самом деле, я услышал, как она окликнула меня, задыхаясь от быстрого бега: «Подождите меня...» Она накинула на плечи боа.
На востоке поднималась полная луна. Маринетта смотрела, как длинные косые тени буков протянулись по траве. Лунный свет заливал крестьянские домики с наглухо запертыми ставнями. Вдалеке лаяли собаки. Маринетта спросила, почему ни один листок на деревьях не шелохнется, не заколдовала ли их луна. Еще она сказала, что такие ночи созданы нарочно для того, чтобы мучить одиноких людей.
— Пустая декорация! — негодовала она. — Сколько влюбленных льнут друг к другу в этот час, сидят щека к щеке или касаясь друг друга плечом. Сообщница луна!
На ее ресницах дрожали слезы. Кругом все было недвижно, все замерло, живым было лишь ее дыхание. Она все еще немного задыхалась. Что осталось от тебя сейчас, Маринетта, от тебя, умершей в 1900 году? Что остается от тела, пролежавшего в могиле тридцать лет? А я так хорошо помню аромат твоих волос в ту ночь. Для того чтобы верить в воскресение мертвых, в воскресение их плоти, быть может, надо победить плотские вожделения. А тех, кто злоупотреблял ими, постигает кара: они уже не могут не только поверить в воскресение во плоти, но и вообразить его себе.
Я взял ее за руку, словно хотел утешить маленькую обиженную девочку, и она, как ребенок, прижалась головкой к моему плечу. Я принял этот дар, как принимает земля упавший с дерева персик. Большинство людей сближаются меж собой не по выбору, так же как не выбирают своих соседей деревья, а просто вырастают случайно друг возле друга и переплетаются ветвями лишь потому, что они разрослись.
Но в эту минуту я совершил подлость — я подумал о тебе, Иза, и возмечтал отомстить: воспользоваться увлечением Маринетты и заставить тебя страдать. Мысль эта овладела мною на краткий миг, но все же она возникла у меня, я замышлял это преступление. Мы двинулись неверным шагом туда, где не было лунного света, к гранатовой и жасминовой роще. Но, по воле судьбы, я вдруг услышал шаги в аллее под сводом переплетавшихся виноградных лоз — этой аллеей аббат Ардуэн ходил в церковь к обедне. Несомненно, это был он... И мне вспомнилось, как он сказал мне однажды вечером: «Вы очень добрый...» Если б он мог заглянуть в мое сердце, прочесть, что там делалось в эту минуту! Мне стало стыдно. Быть может, это и спасло меня?
Я вновь привел мою спутницу в полосу света, усадил ее на скамью. Я вытер ей слезы своим носовым платком. Я говорил ей ласковые слова — вот так же я утешал свою дочку Мари, когда она, бывало, бежит по липовой аллее, упадет, а я ее подниму и приласкаю. Я притворялся, что ничего не заметил, не угадал смутного волнения в ее невольном порыве и в ее слезах.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
На следующее утро она не поехала кататься верхом. Я отправился в Бордо. (Несмотря на каникулы в судебной палате, я два раза в неделю ездил в город и проводил там целый день, не желая прерывать своих юридических консультаций.)
Когда я садился в поезд, направляясь обратно домой, у платформы стоял Южный экспресс, и, к великому моему удивлению, за зеркальными стеклами вагона, на котором было написано «Биарриц», я увидел Маринетту, без креповой вуали, одетую в серый английский костюм. Мне вспомнилось, что одна из ее подруг, поехавшая в Сен-Жан-де-Люц, все звала ее туда. Маринетта перелистывала какой-то иллюстрированный журнал и не замечала знаков, которые я ей делал. Вечером я доложил тебе об этой встрече, но ты едва обратила внимание на мои слова, так как считала путешествие Маринетты короткой вылазкой. Ты сказала, что вскоре после моего отъезда в город Маринетта получила телеграмму от своей подруги. Тебя как будто удивляло, что мне об этом ничего не известно. Может быть, ты заподозрила, что мы сговорились тайно встретиться в Бордо? Впрочем, тебе было не до того — маленькая наша Мари лежала в постели вся в жару, а перед этим у нее несколько дней было расстройство кишечника. И ты очень тревожилась. Надо тебе отдать справедливость: когда кто-нибудь из детей заболевал, ты думала только об этом, ничего другого для тебя больше не существовало.
Страшно останавливаться на том, что случилось через несколько дней. Прошло тридцать лет, а только огромным усилием воли я могу заставить себя вспоминать об этом. А ты еще посмела сказать мне прямо в лицо, что я не позволил вызвать врача из города. Конечно, если б мы пригласили профессора Арнозана, он установил бы, что у ребенка брюшной тиф, а вовсе не грипп, как мы думали. Но ты вспомни хорошенько. Ты меня спросила: «Не позвать ли Арнозана?» Я ответил: «Доктор Обру уверяет, что у него в деревне человек двадцать больны таким же гриппом...» Ты больше не настаивала. Зачем же ты потом стала уверять, будто ты и на следующий день умоляла меня телеграфировать Арнозану? Не может этого быть, иначе я помнил бы. Правда, я столько думал обо всем этом, думал дни и ночи, столько перебирал, ворошил воспоминания, что совсем запутался. Допустим, что я скуп, — согласен, я скуп... Но не до такой же степени, чтобы скаредничать, когда речь шла о здоровье Мари. Да это просто невероятно, тем более что профессор Арнозан всех готов лечить даром, из любви к Богу и к людям. Если я даже его и не позвал, то только потому, что мы все были уверены, что у Мари самый обыкновенный грипп, «осложнившийся расстройством кишечника». Этот невежда Обру предписывал Мари побольше есть, для того чтобы она не ослабела. Он ее убил, он, а не я! Нет, у нас с тобой не было тогда никаких споров, ты не настаивала, не требовала, чтобы вызвали Арнозана, ты лжешь! Я не виновен в смерти Мари. Ужасно, что ты обвиняешь меня в ее смерти! И ты действительно в это веришь, всегда этому верила.
Мучительное лето! Страшное лето! Неугомонные, жестокие кузнечики. Мы не могли достать льда. В те знойные дни я непрестанно вытирал влажным полотенцем ее личико, покрывавшееся испариной, и отгонял от нее мух. Арнозана вызвали слишком поздно. Лечение переменили, когда уже ничто не могло ее спасти. Она все шептала — бредила, наверно: «Ради папы! Ради папы!» А помнишь ее душераздирающий крик: «Больно, больно! Боже мой, ведь я же маленькая! — И вдруг добавила, сдерживаясь: — Нет, я еще могу терпеть». Аббат Ардуэн поил ее «святой водой», привезенной из Лурда. Мы склоняли головы над ее исхудалым тельцем, руки наши соприкасались. А когда все было кончено, ты меня обвиняла в бесчувственности.
А хочешь знать, что творилось у меня в душе? Странное дело — ты, верующая женщина, никак не могла оторваться от мертвого тела дочери. Тебя умоляли поесть, подкрепиться, говорили, что иначе ты не выдержишь. Но из комнаты умершей тебя приходилось уводить насильно. Ты сидела у изголовья Мари, трогала то ее лобик, то холодные щеки, словно щупала, нет ли жару, а то приникала губами к ее кудрявым, еще живым волосам; иногда ты бросалась на колени, как будто хотела помолиться, — но нет, ты хотела лишь прижаться лбом к ледяным, окаменелым ручкам.
Аббат Ардуэн поднимал тебя и говорил о детях, на которых надо походить, чтобы войти в царство Отца небесного: «Она жива, она вас видит, она ждет вас». Ты качала головой; слова эти не доходили до тебя, твоя вера ничем не могла тебе помочь. Ты думала лишь о лежащем перед тобой мертвом теле, которое было плотью от плоти твоей, о мертвом теле, которое скоро предадут земле, где завершится уже начавшееся в нем тление. А я, неверующий, глядя на останки своей дочери, понял все страшное значение слова «прах». У меня было чувство невозвратимой утраты, вечной разлуки, отсутствия. Ее больше нет, ушла навсегда. А это уже не она. «Вы ищете Мари? Ее уже здесь нет...»
Позднее ты обвиняла меня в том, что я быстро ее забыл. А ведь ты не знаешь, что оборвалось во мне, когда я подошел к гробу проститься с Мари и в последний раз ее поцеловал. Ведь это уже была не она! Ты презирала меня за то, что я не ходил с тобой на кладбище, где ты бывала почти каждый день. «Как ему не совестно! — возмущалась ты. — А ведь, кажется, одну только Мари он и любил немножко. Бессердечный человек!»
Маринетта приехала на похороны, но через три дня опять уехала. Горе ослепило тебя, ты не видела опасности, надвигавшейся с этой стороны, и как будто отъезд сестры даже доставил тебе облегчение. А через два месяца мы узнали о ее помолвке с каким-то журналистом, с которым она познакомилась в Биаррице. Было уже поздно отвести удар. Ты не могла простить ей этого брака, ты кипела неукротимой злобой, как будто прорвалась вся твоя подавленная ненависть к Маринетте. Ты знать не желала ее мужа, этого, как ты говорила, негодяя, хотя он был самым обыкновенным человеком, каких очень много на белом свете. Но ведь он совершил великое преступление: лишил наших детей богатого наследства, которым, кстати сказать, он и не воспользовался, так как большая часть состояния досталась племянникам барона Филипо.
Но ведь ты никогда не рассуждаешь, и ты чернила этого «преступника» без зазрения совести. Право, никогда я не встречал человека столь искренне несправедливого, как ты. На исповеди ты, наверно, каешься в каких-нибудь мелких грешках, не замечая того, что вся твоя жизнь — сплошное нарушение всех евангельских заповедей. Тебе ничего не стоит нагромоздить целую кучу ложных доводов, чтобы уничтожить ненавистного тебе врага. Ты никогда не видела мужа своей сестры, ровно ничего о нем не знала, но убежденно говорила о нем: «В Биаррице Маринетта попала в сети и стала жертвой какого-то проходимца, просто-напросто альфонса, промышляющего в отелях».
Когда бедняжка умерла от родов (ах, не хочется мне судить тебя так жестоко, как ты судила меня после смерти Мари!), — мало сказать, что ты не проявляла никакого горя, ты как будто торжествовала: «Ну, что, я была права? Так и должно было кончиться, она сама шла навстречу своей гибели...» А тебе, конечно, не в чем себя упрекнуть: ты выполнила свой долг. Несчастная Маринетта знала, что родные всегда примут ее с распростертыми объятиями, что ее ждут, стоит ей только подать знак. И, по крайней мере, ты можешь сказать, положа руку на сердце: «Я не была ее сообщницей». Тебе, оказывается, дорого стоило сохранять твердость. Но ведь бывают случаи, когда надо принудить свое сердце замолчать.
Нет, я не стану корить тебя. Я даже готов признать, что ты была добра к маленькому Люку, сыну Маринетты, и приняла в нем участие, когда уже не было в живых твоей матери, которая до самой смерти заботилась о нем. Ты брала его к себе на летние каникулы, а раз в год, зимой, ездила навещать его — он учился в пансионе в окрестностях Байонны. Ты говорила: «Я исполняю свой долг, раз его отец не желает заботиться о сыне».
Я никогда тебе не рассказывал, что в сентябре 1914 года видел в Бордо отца нашего Люка. Я все пытался тогда достать себе сейф в банке, но все сейфы разобрали люди, бежавшие из Парижа. Наконец дирекция Лионского кредита сообщила мне, что один из клиентов банка возвращается в Париж и, может быть, согласится уступить мне свой сейф. Когда мне назвали фамилию этого клиента, я понял, что речь идет об отце Люка. Не думай, он совсем не чудовище, каким ты себе его представляешь. Самый обыкновенный человек. Возраст — тридцать восемь лет, вид изнуренный, глаза блуждающие, и, несомненно, все время терзается страхом, что его возьмут в армию. Как он не похож на того молодого человека, которого я видел четырнадцать лет назад на похоронах Маринетты и потом имел с ним деловой разговор. Он говорил со мной совершенно откровенно. Оказывается, у него есть сожительница — по-видимому, женщина недостойная, ибо он хотел избавить Люка от общения с ней. И, желая сыну добра, он отдал его бабушке, мадам Фондодеж. Бедная моя Иза, если б ты и наши дети знали, что я предлагал в тот день этому человеку! Теперь-то я могу тебе рассказать. Я хотел, чтобы сейф он оставил за собой, а мне выдал бы доверенность. Тогда все мое состояние в наличных деньгах и в ценных бумагах хранилось бы в этом сейфе вместе с документом, свидетельствующим, что все это принадлежит Люку. Пока я жив, отец Люка не имел бы доступа к сейфу. Но после моей смерти он стал бы полным его владельцем, о чем вы ровно ничего бы не знали...
Разумеется, я бы отдал таким образом в руки этого человека свою судьбу и все свое состояние. Вот до чего я вас тогда ненавидел! И что ж! Он не согласился на такую сделку. Не посмел! Заговорил о своей чести!
Как же я мог дойти до такого безумия?! К тому времени детям было уже под тридцать лет, Женевьева была замужем, а Гюбер женат; оба окончательно и бесповоротно оказались на твоей стороне и во всех возможных случаях — против меня. Вы действовали исподтишка, я стал для вас врагом. А ведь ты с ними обоими, особенно с Женевьевой, не очень-то ладила. Ты упрекала дочь, что она всегда оставляет тебя одну, ни в чем у тебя не спрашивает совета, все делает по-своему; но как только дело касалось меня, согласие восстанавливалось — вы выступали единым фронтом. Все, впрочем, шло под сурдинку, за исключением торжественных моментов жизни; так, например, у нас происходили ужаснейшие баталии, когда пришла пора женить Гюбера и выдавать замуж Женевьеву. Ни тому, ни другому я не желал дать в руки наличный капитал, а решил назначить им ежегодную ренту. Родителям жениха моей дочери и невесты моего сына я отказался сообщить, каково мое состояние, из чего оно состоит, где хранится. И я держался твердо, я выиграл сражение, меня поддерживала ненависть, да, ненависть, а кроме того — любовь, моя любовь к маленькому Люку. Родители моего будущего зятя и будущей снохи скрепя сердце согласились на все: они не сомневались, что в кубышке у меня огромная сумма.
Но мое молчание вас тревожило. Вы пытались выведать тайну. Женевьева иной раз принималась ластиться ко мне. Ах, какая неуклюжая дипломатия! Деревенщина! Я уже издали слышал, как она тяжело шагает, волоча деревянные башмаки. И я частенько говорил ей: «После моей смерти вы меня будете благословлять». Конечно, я говорил это забавы ради: хотелось поглядеть, как вы все всполошитесь, как у вас глаза заблестят от алчности. Ведь Женевьева передавала тебе эти волшебные слова. Вся родня млела от восторга. А я в это время старался найти такую уловку, чтоб оставить вам лишь то, что невозможно было утаить. Я думал только о маленьком Люке. Мне даже пришла в голову мысль заложить землю...
И все-таки однажды я попался и принял ваши кривляния за чистую монету — это было после смерти Мари, в том же году. Я расхворался. По некоторым симптомам можно было предположить, что у меня та же болезнь, которая унесла нашу девочку. Я терпеть не могу лечиться, не выношу докторов и лекарства. Но ты до тех пор приставала ко мне, пока я, смирившись, не согласился лечь в постель и вызвать Арнозана.
Ты ухаживала за мной усердно, это уж само собой разумеется, и, видимо, даже волновалась за меня; а порой, когда ты спрашивала, как я себя чувствую, в твоем голосе звучала глубокая тревога. Ты щупала мне лоб, как больным детям, ты пожелала, чтоб тебе стелили постель в моей комнате. Если ночью я метался в жару, ты вставала и давала мне пить. «Кажется, она дорожит мной, — думал я, — кто бы поверил!.. Может быть, из-за того, что я «хорошо зарабатываю»? Но нет, деньги сами по себе не доставляют ей радости... А может быть, она боится, как бы после моей смерти не пошатнулось положение наших детей? Вот это правдоподобное объяснение». Но оказалось, что я не угадал.
Когда Арнозан осмотрел меня, ты вышла с ним на веранду, и я слышал ваш разговор — от волнения ты позабыла об осторожности, как это частенько бывает с тобой, и раскаты твоего голоса долетали до меня:
— Ради бога, доктор, говорите всем, что Мари умерла от брюшного тифа. А то ведь, знаете, у меня два брата умерли, бедняжки, от чахотки, и теперь по городу пошли слухи, будто и Мари умерла от той же болезни. Люди так злы! Покоя от них нет. Я очень боюсь, как бы мужнина болезнь не отозвалась на судьбе Женевьевы и Гюбера. Если он тяжело болен, опять начнутся неприятные толки. Он ужасно меня напугал; несколько дней я просто была сама не своя, все думала о своих несчастных детях. Вы же знаете, доктор, что у него в молодости, еще до женитьбы, одно легкое тоже было задето. Это стало известно — у нас ведь все и про всех знают, сплетников ужасно интересуют чужие неприятности! Даже если б мой муж умер от какой-нибудь эпидемической болезни, никто бы этому не поверил, ведь не верят же, что наша Мари умерла от тифа! И бедным моим детям пришлось бы за это поплатиться. Я, знаете, так злилась на него, — не хочет лечиться, не желает лечь в постель, да и все тут! Как будто это касается только его одного! Да что ему другие, он о других никогда не думает, даже о собственных своих детях не беспокоится!.. Нет, нет, доктор, такому человеку, как вы, трудно поверить, что существуют люди, подобные моему супругу. Вы ведь такой же, как аббат Ардуэн, вы не верите, что на свете есть зло.
Я смеялся в одиночестве, лежа на одре болезни, и возвратившись, ты спросила меня, чему я смеюсь. Я ответил словами, которые у нас с тобой в большом ходу:
— Да так, ничему. — «Чему ты смеешься? — Ничему. — О чем ты думаешь? — Ни о чем».
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Снова принимаюсь за свои записи — после тяжелого припадка, почти месяц продержавшего меня в вашей власти. Как только болезнь обезоруживает меня, вы все уже тут как тут, вся семейка смыкает свои ряды и, расположившись у моей постели, зорко следит за мной.
В прошлое воскресенье пожаловал Фили, чтобы посидеть со мной, составить мне компанию. Было жарко, душно, я отвечал односложно на его любезные речи, мысли у меня путались, я задремал... Долго ли я спал? Не могу сказать. Разбудил меня звук его голоса. Я увидел в полумраке, что он весь подобрался, насторожился. Глаза у этого молодого волка блестели. На руке выше часов он носил еще золотую цепочку. Рубашка была расстегнута на худенькой мальчишеской груди. Я снова задремал. Проснулся я от скрипа башмаков, чуть-чуть открыл глаза и стал наблюдать за ним из-под опущенных ресниц. Он принялся ощупывать мой пиджак, где у меня во внутреннем кармане лежал бумажник. Сердце у меня бешено колотилось, но я усилием воли заставил себя лежать неподвижно. Уж не догадался ли он? Почему-то вернулся на свое место.
Я сделал вид, будто только что проснулся, спросил, долго ли я спал.
— Какое там! Несколько минут, дедушка.
Меня пробрала дрожь — ведь страшно одиноким старикам, когда их выслеживает какой-нибудь отчаянный малый. Не сошел ли я, право, с ума. Мне кажется, что этот молодец может убить меня. Сказал же Гюбер однажды, что, по его мнению, Фили способен на все.
Видишь, Иза, как я был несчастлив. А когда ты прочтешь эти строки, поздно уж будет жалеть меня. Но мне все-таки приятно думать, что хоть тогда ты почувствуешь ко мне сострадание. Не верю я в ваш вечный ад. Зато знаю, что такое проклятый, окаянный грешник здесь, на земле, заблудший человек, который, куда бы он ни пошел, идет ложным путем, человек, путь которого всегда был ложным: неудачник, не умевший жить — не в житейском понимании смысла этих слов, а в глубоком их смысле. Иза, я страдаю. Дует южный, знойный ветер. Мне душно, меня томит жажда, и нечем ее утолить, кроме тепловатой противной воды в умывальнике. Нажил человек миллионы, и нет у него стакана холодной воды!
Если я еще выношу ужасающие для меня посещения Фили, то, может быть, потому, что он напоминает мне другого юношу, нашего племянника Люка, которому, впрочем, было бы сейчас уже за тридцать. Я никогда не отрицал христианских добродетелей и видел, что этот мальчик дал тебе много поводов развивать их в себе. Ты его не любила, в нем не оказалось никаких фамильных ваших черт, хоть он и был сыном Маринетты; не любила ты этого черноглазого мальчика с низким и широким лбом, окаймленным «височками, как у испанцев», — говорил Гюбер. Его отдали в пансион в Байонну, учился он плохо, но тебя это, по твоему мнению, не касалось: «Вполне достаточно с меня и того, что я вожусь с ним, когда он приезжает на каникулы».
Нет, вовсе не книги его занимали. В наших краях, где, кажется, давно перебили всю дичь, он почти ежедневно возвращался домой с охотничьими трофеями. Если раз в году появлялся в наших полях заяц, в конце концов он обязательно становился добычей Люка: я, как сейчас, вижу — мальчик идет по длинной аллее сада и весело поднимает вверх убитого зайца, зажав в кулаке его длинные уши. Я всегда слышал, как Люк отправляется из дому на рассвете; я отворял окно — из дымки тумана раздавался звонкий голос:
— Пойду осмотреть переметы.
Он всегда смотрел мне прямо в лицо и спокойно выдерживал мой взгляд, он не боялся меня, никакие страхи ему в голову не приходили.
Иногда я уезжал на несколько дней и если неожиданно возвращался, не предупредив вас, то обычно, входя в дом, слышал запах сигар, на полу в гостиной не видел ковра и находил все признаки прерванного празднества. (Лишь только я, бывало, со двора, Женевьева и Гюбер приглашали своих приятелей и устраивали пирушку, несмотря на строгое мое запрещение; а ты им потакала, ты поощряла это непокорство: «Ведь надо же поддерживать отношения», — заявляла ты.) И в этих случаях умиротворителем подсылала ко мне Люка. Его очень смешило, что я навожу на всех ужас.
— Они, знаешь, вертелись, плясали в гостиной, а я взял да и крикнул: «Дядя идет! Глядите, вон он на дорожке!.» Если б ты видел, как они прыснули во все стороны! Тетя Иза и Женевьева схватили поднос с бутербродами и потащили обратно в буфетную. Вот переполох был!
Только для одного этого мальчишки я не был пугалом. Иногда я спускался с ним к реке посмотреть, как он удит рыбу. Этот непоседа, живой как ртуть, этот шалун, весельчак мог часами смотреть на поплавок, застыв на берегу, как ствол дерева, только рука его порой шевелилась медленно и бесшумно, как гибкая ветка ивы. Женевьева с полным основанием утверждала, что у него совершенно неэстетическая натура. Действительно, он никогда не утруждал себя вечерними прогулками к обрыву, не любовался равниной при лунном свете. Он не мог восторгаться природой, потому что сам был частицей природы, слитой с нею, одной из сил ее, живым родником среди чистых родников.
Я думал о том, какой невеселой была его юная жизнь: мать умерла, об отце запрещалось говорить в нашем доме, с детских лет в пансионе, среди чужих — бедный, заброшенный ребенок. Таких обстоятельств для меня, например, вполне было бы достаточно, чтоб моя душа переполнилась горечью и ненавистью к людям. А вот от него исходила радость жизни. Все его любили. Как мне это казалось удивительным — ведь меня-то все ненавидели! Да, все его любили, даже я. Он всем улыбался, и мне тоже; хотя улыбался мне не больше, чем другим.
Все в этом мальчике было естественно, непосредственно и очень чисто. По мере того как он подрастал, меня больше всего поражала эта чистота, это неведение зла, равнодушие к соблазнам зла. Наши дети тоже были хорошими, согласен, Гюбер был поистине примерным юношей, как ты говорила. Должен отдать тебе справедливость — это плоды твоего воспитания. Если б Люк пожил на свете подольше и стал бы взрослым мужчиной, можно ли было бы не беспокоиться за его нравственность? Чистота его не казалась основанной на каких-то принципах, благоприобретенной и сознательной: это была прозрачность ручья, бегущего по камешкам. Его облик блистал чистотой, как блещет росою трава на лугу. Я останавливаюсь на этой его черте, потому что она произвела на меня глубокое впечатление. Твои высоконравственные рассуждения, намеки, презрительно-брезгливые гримасы, поджатые губы — не могли бы внушить мне истинного понимания сущности порока. Я постиг ее, неведомо для себя, лишь благодаря этому мальчику, что стало мне ясно только гораздо позднее. Ты вот воображаешь, что все смертные носят на себе печать первородного греха, но ни один человек не нашел бы этой гнойной язвы у Люка: он вышел из рук ваятеля, вылепившего его, без всякого изъяна, цельным и прекрасным. Зато я, сравнив себя с ним, почувствовал все свое уродство.
Можно ли сказать, что я любил его, как сына? Нет, я любил его за то, что он совсем не был похож на меня. Я прекрасно вижу, какие черты Гюбер и Женевьева унаследовали от меня: алчность, жажду материальных благ, которые для них превыше всего в жизни, презрительную властность (Женевьева безжалостно третирует своего мужа и высокомерна, как я). А Люк совсем другой; я был уверен, что не увижу в нем свое подобие.
Большую часть года я о нем совсем не думал. Отец брал его к себе из пансиона на Новый год и на Пасху, а летние каникулы он всегда проводил у нас. Уезжал он в октябре, когда покидали наши края и перелетные птицы.
Был ли он набожным? Ты о нем говорила так:
— Даже на таком глупом звереныше, как этот мальчик, сказывается влияние отцов иезуитов. По воскресеньям он ни за что не пропустит обедни, исповедуется, причащается... Конечно, молится он не очень усердно, на скорую руку. Ну что ж поделаешь! Каждый дает что может, большего и нечего с него требовать.
Со мной он никогда не затрагивал этих вопросов, не делал ни малейшего намека. Все его разговоры носили вполне конкретный характер. Иной раз, когда он вытаскивал из кармана складной нож, поплавок, дудочку, чтоб подманивать жаворонков, на траву выпадали короткие черные четки, и он проворно поднимал их. Пожалуй, по утрам в воскресенье в нем было больше степенности, чем в будни, меньше жизнерадостности, легкости, как будто он нес тогда на плечах какой-то груз.
Среди всего, что привязывало меня к Люку, было одно обстоятельство, которому ты, вероятно, удивишься. Не раз случалось, что в воскресенье я узнавал в этом олененке, который в те часы переставал прыгать, брата нашей девочки, умершей двенадцать лет тому назад, хотя Мари совсем не походила на него характером: она не выносила, когда кто-нибудь раздавит букашку, и очень любила, устлав мхом дупло дерева, ставить туда статуэтку Богоматери, — помнишь? Ну так вот, для меня в этом «звереныше», как ты называла Люка, оживала наша Мари: вернее сказать, тот самый светлый родник, который был в ее душе и вместе с нею скрылся под землю, вновь бил у моих ног.
В начале войны Люку было почти пятнадцать лет. Гюбера взяли в армию, во вспомогательные части. Все процедуры осмотра во врачебной комиссии он переносил с философским спокойствием, ты же места себе не находила от тревоги. Долгие годы его узкая грудь вызывала у тебя мучительное беспокойство. Теперь ты только на нее и возлагала надежды. Когда нудная канцелярская работа и какие-нибудь неприятности вдруг внушали Гюберу желание пойти на фронт добровольно и он принимался (впрочем, бесплодно) хлопотать об этом, ты доходила до того, что откровенно высказывала опасение, которое до тех пор с таким трудом скрывала от всех, — ты твердила: «При такой наследственности, как у него...»
Бедная Иза, не бойся, что я брошу в тебя камень. Я-то лично никогда тебя не интересовал, ты никогда не присматривалась ко мне, а уж в то время меньше, чем когда-либо. Ты не замечала, не угадывала, как в годы войны с каждой зимой возрастала во мне жестокая тревога. Отец Люка был мобилизован и направлен в какое-то министерство, и теперь мальчик проводил у нас не только лето, но и рождественские и пасхальные каникулы. Война вызывала в нем энтузиазм. Он все боялся, что военные действия кончатся до того, как ему исполнится восемнадцать лет. Раньше он никаких книг в руки не брал, а тут поглощал специальное труды, изучал карты. Он занимался физическими упражнениями. В шестнадцать лет он был уже взрослым мужчиной и совсем не из мягкосердечных людей. Вот уж кого нисколько не трогали разговоры о раненых и убитых! Из самых страшных рассказов о жизни в окопах, которые я заставлял его читать, он извлекал свое собственное представление о войне как о грозном, но великолепном спорте, которым не всегда дается право заниматься: нужно было торопиться. Ах, как он боялся опоздать! У него уже было в кармане разрешение его болвана папаши. А я по мере того как приближался роковой день января 1918 года, когда ему должно было исполниться восемнадцать лет, с трепетом следил за карьерой старика Клемансо, подобно тому как некогда родители заключенных ждали падения Робеспьера, надеясь, что тиран падет раньше, чем их сыновья предстанут перед судом.
Когда Люк был в лагере, в Суже, и проходил там обучение, ты посылала ему вязаные теплые вещи и всякие лакомства, но говорила иной раз такие слова, что я готов был изничтожить тебя, Иза. Ты преспокойно заявляла: «Конечно, если бедного мальчика убьют, будет очень печально... Но он-то, по крайней мере, не оставит после себя сирот...» Разумеется, ничего позорного в этих словах не было.
И вот настал день, когда все стало ясно: нет надежды, что война кончится раньше, чем Люка отправят на передовые. Когда фронт был прорван в Шмен-де-Дам, он приехал к нам проститься — на две недели раньше, чем это. предполагалось. Как было больно! Наберусь мужества и приведу одну ужасную подробность — воспоминание о ней иногда будит меня ночью, и я просыпаюсь с громким стоном. В тот день я пошел к себе в кабинет, достал кожаный пояс, сделанный шорником по образцу, который я сам дал ему. Я взобрался на скамейку и, дотянувшись до верхушки книжного шкафа, попытался придвинуть к себе стоявшую там гипсовую голову Демосфена. Это оказалось мне не под силу. Голова была битком набита луидорами, которые я прятал в этой копилке со дня мобилизации. Я погрузил руку в золото — в золото, которым дорожил больше всего на свете, достал несколько пригоршней золотых монет и засунул их в пояс. Когда я слез со скамейки, эта кожаная змея, проглотившая столько луидоров, стала твердой, как камень; я обвил ее вокруг своей шеи, и она тяжело давила мне на затылок.
Я робко протянул пояс Люку. Он сначала не понял, что я ему даю.
— А зачем мне эта штука, дядя?
— Как «зачем»? Может очень пригодиться, когда вы будете на стоянках или если в плен попадешь... и во многих других обстоятельствах... Ведь золото всемогуще.
— Ой-ой! — воскликнул он, смеясь. — У меня и так всякого барахла много. Неужели ты думаешь, что я навьючу на себя еще этот пояс? Да ну его! При первой же атаке швырну его в отхожее место.
— А в начале войны, дружок, все брали с собой золото — у кого оно было, конечно.
— Да потому, что тогда люди не знали, дядя, что их ждет на фронте.
Он стоял посреди комнаты, пояс же, набитый золотом, бросил на диван. Юноша он был крепкий, сильный, а каким казался хрупким в большом, не по росту, мундире. Из широкого ворота выступала тоненькая детская шея. Волосы уже были острижены под машинку, и лицо как-то потеряло из-за этого индивидуальность — стало «общесолдатским». Его уже приготовили к смерти, «обрядили», он стал подобен другим, неотличимым от них, уже стал безымянным, уже исчез... Он рассеянно посмотрел на пояс, потом вскинул глаза на меня, и во взгляде его были насмешка и презрение. Все-таки он поцеловал меня на прощанье. Я проводил его до парадного. На пороге он обернулся и крикнул мне:
— Сдай ты все это во Французский банк.
А у меня слезы застилали глаза, я ничего не видел.
Я слышал, как ты ему ответила, смеясь:
— Ну уж на это не рассчитывай. Такого подвига нельзя от него ждать!
Дверь захлопнулась, я стоял, не двигаясь, в вестибюле, а ты мне сказала:
— Признайся, ты знал, что он не возьмет от тебя золота? Ты просто сделал широкий жест.
Я вспомнил, что пояс остался на диване. Кто-нибудь из прислуги полюбопытствует заглянуть в него... Кто их знает... Такой уж народ!
Я торопливо поднялся в спальню и взвалил пояс себе на плечи, решив снова высыпать оттуда все золото в голову Демосфена.
Несколько дней спустя скончалась мама, а я почти и не заметил этого: уже несколько лет она ничего не сознавала; жила она не с нами. Теперь вот я каждый день думаю о ней, но мама мне вспоминается такой, какой она была в дни моего детства и молодости, воспоминание о той старухе, какой она стала, стерлось. Кладбищ я не выношу, но к маме на могилу хожу иногда. Цветы я перестал приносить — с тех пор, как заметил, что их воруют с могилы. Нищие таскают розы богачей, наживаются за счет покойников. Надо бы поставить ограду, но нынче это ужасно дорого стоит. А вот у Люка совсем нет могилы. Он пропал — так и числится: «без вести пропавший». Я храню в бумажнике ту единственную открытку, которую он еще успел мне написать: «Все благополучно. Посылку получил. Крепко целую». Так и написано: «Крепко целую». Все-таки сказал мне ласковое слово бедный мой мальчик.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Нынче ночью проснулся от удушья. Пришлось встать. Дотащился до своего кресла и там, под громкие завывания бешеного ветра, перечитал последние страницы своих записей. Поразительно, какие мерзкие подонки души они освещают!.. Перед тем как снова взяться за перо, я посидел у окна. Ветер стих. Ни единого дуновения. Калез мирно спал под звездным небом. И вдруг около трех часов ночи снова налетел шквал, в небе загромыхало, упали первые, тяжелые капли холодного дождя. Так громко барабанили они по черепичной крыше, что я испугался — не пошел ли град. Право, я думал, сердце у меня остановится. Ведь с виноградников только что «сошел цвет». По всему холму на лозах завязи — зачатки будущего урожая, но они как те ягнята, которых охотник привязывает к дереву и оставляет в ночном мраке, приманивая хищных зверей. Над моими обреченными виноградниками ползут тучи, грозящие градом, и гремят раскаты грома.
А в сущности, что мне до урожая, до сбора винограда? Что я теперь могу собирать в этом мире? Мне остается только одно: немного лучше познать самого себя. Послушай, Иза, после моей смерти ты найдешь в столе среди других бумаг листок, на котором выражена моя последняя воля. Сделал я свои распоряжения через несколько месяцев после смерти Мари, когда я был болен и из-за детей ты тревожилась о моей участи В этом завещании ты найдешь мой символ веры, выраженный приблизительно в следующих словах: «Если я перед смертью соглашусь принять напутствие священника, то, будучи сейчас в здравом уме и твердой памяти, я заранее против этого протестую, ибо только воспользовавшись ослаблением умственных способностей и физических сил больного, смогут добиться от меня того, что мой разум отвергает».
Ну так вот, должен сознаться, что за последние месяцы, когда я, преодолевая свое отвращение к себе, с пристальным вниманием вглядываюсь в свой внутренний облик и чувствую, как все мне становится ясно, — именно теперь меня мучительно влечет к учению Христа. И я больше не стану отрицать, что у меня бывают порывы, которые могли бы привести меня к Богу. Если б я переменился, настолько переменился, что не был бы противен самому себе, мне нетрудно было бы бороться с этим тяготением. Да, с этим было бы покончено, я просто-напросто считал бы это слабостью. Но как подумаю, что я за человек, сколько во мне жестокости, какая ужасная сухость в моем сердце, какой удивительной я обладаю способностью внушать всем ненависть к себе и создавать вокруг пустыню, — страшно делается, и остается только одна надежда... Вот что я думаю, Иза: не для вас, праведников, твой Бог сходил на землю, а ради нас, грешников. Ты меня не знала и не ведала, что таится в моей душе. Быть может, страницы, которые ты прочтешь, уменьшат твое отвращение ко мне. Ты увидишь, что все-таки были у твоего мужа сокровенные добрые чувства, которые, бывало, пробуждала в нем Мари своей детской лаской да еще юноша Люк, когда, возвратившись в воскресенье от обедни, он садился на скамью перед домом и смотрел на лужайку. Только ты, пожалуйста, не думай, что я держусь о себе очень высокого мнения. Я хорошо знаю свое сердце, мое сердце — это клубок змей, они его душат, пропитывают своим ядом, оно еле бьется под этими кишащими гадами. Они сплелись клубком, который распутать невозможно, его нужно рассечь острым клинком, ударом меча: «Не мир, но меч принес я вам».
Быть может, завтра я отрекусь от того, что доверил тебе здесь, так же как отрекся нынешнею ночью от того, что написал тридцать лет назад как последнюю свою волю. Ведь я ненавидел, простительной ненавистью, все, что ты исповедовала, и до сих пор я ненавижу тех, кто лишь именует себя христианами. Разве не правда, что многие умаляют надежду, искажают некое лицо, некий светлый облик, светлый лик? «Но кто тебе дал право судить их? — скажешь ты мне. — В самом-то тебе столько мерзости!» Иза, а нет ли в мерзости моей чего-то более близкого символу, которому ты поклоняешься, чем у них, у этих добродетельных? Вопрос мой кажется тебе, конечно, нелепым кощунством. Как мне доказать, что я прав? Почему ты не говоришь со мной? Почему никогда ты не говорила со мной? Быть может, нашлось бы у тебя такое слово, от которого раскрылось бы мое сердце. Нынче ночью я все думал: может быть, еще не поздно нам с тобой перестроить свою жизнь. А что, если бы не ждать смертного моего часа — теперь же отдать тебе эти страницы? И просить тебя, именем Бога твоего заклинать, чтобы ты прочла все до конца? И дождаться той минуты, когда ты закончишь чтение. И вдруг бы я увидел, как ты входишь ко мне в комнату, а по лицу твоему струятся слезы. И вдруг бы ты раскрыла мне свои объятия. И я бы вымолил у тебя прощение. И оба мы пали бы на колени друг перед другом.
Буря, наверно, кончилась. В небе мерцают предрассветные звезды. Показалось мне, будто снова дождь пошел, но нет, это падают капли с листьев. Не лечь ли мне в постель? Может быть, не станет мучить удушье. Устал я, уж не в силах больше писать, все чаще бросаю перо и откидываюсь на жесткую спинку стула.
Какое-то змеиное шипение, свист, потом оглушительный грохот и молния, полыхнувшая по всему небу. И наступила зловещая тишина, а за ней на холмах стали взрываться бомбы, которые бросают виноградари, чтобы ушли тучи, грозящие градом, или же разрешились дождем. С той стороны, где Барзак и Сотерн трепещут, ожидая града — бедствия, страшного для нашего края, — взлетают во мраке ракеты. На колокольне в Сен-Венсене звонят во всю мочь, в надежде отвратить градобитие, подобно тому как человек поет во весь голос, когда ему страшно. И вдруг по черепичной крыше что-то застучало, словно кто-то швырнул на нее сверху горсть мелких камешков... Градины! В прежнее время я бросился бы к окну. Слышно было, как с резким стуком отворились ставни в спальнях. Ты крикнула какому-то человеку, торопливо проходившему по двору: «Сильный град?» Он ответил: «Довольно сильный. К счастью, вперемешку с дождем идет». По коридору прошлепали босые детские ножки — видно, кто-то из ребятишек испугался. Я прикинул по привычке: сто тысяч франков убытку — но не тронулся с места. А когда-то ничто бы меня не удержало, я бы выбежал из дому. Ведь нашли же меня однажды грозовой ночью посреди виноградника — в домашних шлепанцах, с потухшей свечой в руке, я стоял под сильным градом, падавшим мне на голову. Меня повлек туда глубокий инстинкт крестьянина, мне хотелось броситься на землю, как будто я мог прикрыть своим телом виноградники, спасти их от градобития. Но нынче вечером мне вдруг стало чуждо все то, что было, в глубоком смысле этого слова, моим достоянием. Наконец-то порвались узы! Не знаю, кто, не знаю, что избавило меня от них, Иза, но веревки, опутавшие меня, порвались: я иду куда-то. Какая сила влечет меня? Слепая сила? Любовь? Быть может, любовь.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Париж. Улица Бреа
Зачем вздумалось мне сунуть в чемодан эту тетрадь? Что мне теперь делать со своей исповедью, со своей длинной исповедью? Между мною и моей семьей все кончено. Та, для которой я раскрывал в этих записях всю свою душу, до самого дна, больше не должна существовать для меня. Для чего же мне и дальше трудиться? Да вот в чем дело: неведомо для себя я, несомненно, находил в этом облегчение, избавление. А в каком странном свете показывают меня строки, написанные в ту ночь, когда пошел град!.. Уж не нашло ли тогда на меня безумие? Нет, нет, не надо здесь говорить о безумии. Не надо даже упоминать это слово. А то они, пожалуй, способны обратить его против меня, если эти страницы когда-нибудь попадут им в руки. Теперь мои записи ни к кому не обращены Надо будет их уничтожить, как только мне станет хуже... А может быть, я завещаю их своему сыну — я еще его не знаю, но сейчас разыскиваю в Париже. Как мне хотелось открыть Изе тайну на тех страницах, где я намекал на роман, который у меня был в 1909 году; я чуть было не признался, что моя любовница была беременна от меня, когда уехала в Париж: она решила там скрыться.
Я считал себя человеком великодушным, так как до войны посылал матери и ребенку по шесть тысяч франков в год. Мне никогда и в голову не приходила мысль увеличить эту сумму. Значит, я сам и виноват, что и мать, и сын, которых я разыскал здесь, оба оказались существами, приниженными нуждой, зависимым положением и неблагодарной черной работой. Под тем предлогом, что они живут в этом квартале, я снял каморку в дешевом семейном пансионе на улице Бреа. У одной стены — кровать, у другой — шкаф, едва осталось место для столика, за которым я пишу. А какой на улице грохот! В мое время на Монмартре было тихо. Теперь же мне чудится, что сюда напустили сумасшедших, которые никогда не спят. Моя милая семейка не шумела так, собравшись в Калезе у подъезда в ту ночь, когда я собственными своими глазами видел, собственными ушами слышал... Зачем об этом вспоминать?.. Да затем, чтоб облегчить душу, закрепив хоть ненадолго в своих записях жестокое воспоминание... А впрочем, зачем мне уничтожать эту тетрадь? Мой сын и наследник имеет право все узнать о своем отце. Этой исповедью я хоть немного исправлю свою вину перед ним, ведь я с самого рождения сына держал его в отдалении от себя, как чужого.
Увы, достаточно было мне увидеться с ним два раза, как у меня уже сложилось вполне определенное мнение о нем. Для такого существа, как он, мое послание не представит ни малейшего интереса. Что тут может понять этот приказчик, эта мелкая сошка, это отупевшее существо, у которого в жизни одно удовольствие — игра на бегах?
Ночью, когда поезд мчал меня в Париж, я старался представить себе, какие упреки мне придется услышать от него, и заранее готовился защищаться. Как на нас влияют мелодраматические шаблоны романов и театральных пьес! Я не сомневался, что у моего незаконного сына душа полна горечи и высоких чувств. То я наделял его суровым благородством Люка, то красотою Фили. Я все предвидел, только не то, что он может походить на меня. Неужели существуют отцы, которым приятно, когда им говорят: «Ваш сын походит на вас!» Мерилом моего отвращения к самому себе может служить тот ужас, который я испытал, увидев перед собою своего двойника. Я страстно любил своего приемного сына Люка — может быть, за то, что он нисколько на меня не походил. Робер, однако, кое в чем отличается от меня: он тупица, не мог выдержать каких бы то ни было, самых легких, экзаменов. После многократных неудачных попыток он махнул на ученье рукой. Мать, которая все жилы из себя вытягивала, чтобы дать ему образование, стала презирать его. Она не может удержаться и постоянно его шпыняет, намекая на все его провалы; он молча слушает, понурив голову, ибо не может утешиться, что зря потрачено столько денег. Вот в этом он действительно мой сын. Но то, что я собираюсь преподнести ему сказочный дар — огромное состояние, он не в силах постигнуть, не хватает воображения. Такого богатства он не в силах представить себе и не верит нежданному чуду. По правде говоря, и мать, и он сам боятся: «Это ведь незаконно... нас могут посадить...»
Пухлая бледная особа, крашеная блондинка, казавшаяся карикатурой на ту женщину, которую я когда-то любил, не сводила с меня все еще красивых больших глаз: «Если б я встретила вас на улице, — сказала мне она, — я бы вас не узнала!» А разве я узнал бы ее? Я боялся, что она затаила злобу против меня, захочет отомстить мне. Всего я опасался, только не мог предвидеть этого унылого равнодушия. Она очерствела, отупела от ежедневного восьмичасового выстукивания на пишущей машинке, она боится «скандальных историй». У нее остался болезненный страх перед судебными властями, с которыми у нее было столкновение в прошлом. А ведь я хорошо объяснил ей и Роберу свой план. Робер возьмет в каком-нибудь банке сейф на свое имя, я перенесу туда свое состояние. Он даст мне доверенность на право вскрывать сейф и обязуется не касаться этого сейфа до дня моей смерти. Я, разумеется, потребую, чтобы Робер подписал заявление, в котором он признает, что все, находящееся в этом сейфе, принадлежит мне. Не могу же я все-таки отдаться ему во власть, я совсем его не знаю. Мать и сын возражают — ведь после моей смерти найдут этот документ. Какие идиоты! Не хотят положиться на меня! Я попытался было втолковать им, что можно вполне довериться деревенскому поверенному Буррю, он мне всем обязан, и я веду с ним дела уже сорок лет. У него лежит на хранении пакет, на котором я написал: «Сжечь в день моей смерти». И я уверен, что Буррю выполнит распоряжение, уничтожит пакет вместе со всем его содержимым. Я вложил туда и заявление, подписанное Робером. Я глубоко уверен, что Буррю все сожжет, тем более, что в этом запечатанном конверте лежат документы, которые ему выгодно уничтожить.
Но Робер и его мать боятся, что после моей смерти Буррю ничего не сожжет и станет их шантажировать. Признаться, я тоже об этом подумал и решил передать им в собственные руки кое-какие документы, вполне достаточные для того, чтобы отправить вышеозначенного Буррю на каторгу, если он вздумает фокусничать. Заявление Робера мой поверенный Буррю должен будет сжечь на их глазах, и лишь тогда они возвратят ему оружие, которым я их снабжу. Ну, чего им еще надо?
Но эта идиотка и этот дурачок ничего не могут сообразить, ничего не понимают, уперлись и твердят свое. Я им преподношу миллионы, а они, вместо того чтобы броситься мне в ноги, благодарить, как я воображал, спорят, рассуждают... Допустим, что в этом деле есть некоторый риск, — ну и что же? Игра стоит свеч! Так нет, — они не желают подписывать заявления: «А как же мы будем подавать декларацию для подоходного налога? Опасно! У нас могут быть неприятности...»
Ах, как же я, значит, ненавижу свою семью, если не выгнал этих двух дураков и не захлопнул у них перед носом дверь. Оба боятся моих законных наследников: «Знаете, опасно! Они все пронюхают и подадут на нас в суд...» Робер и его мать воображают, что моя жена и дети уже подняли тревогу, заявили в полицию и за мной следят сыщики. Поэтому они соглашаются встречаться со мною только по ночам или на окраине города. Да разве мне с моим здоровьем можно не спать по ночам и целыми днями разъезжать в такси! Не думаю, чтоб у моих домашних возникли какие-нибудь подозрения: я не первый раз путешествую один, и откуда им знать, что недавно ночью в Калезе я, невидимо для них, присутствовал на их военном совете. Словом, они еще не выследили меня в Париже. И ничто на этот раз не помешает мне добиться своего. А с того дня, как Робер согласится на предложенную махинацию, я буду спать спокойно. Он трус, а посему не совершит никакой неосторожности.
Нынче вечером, тринадцатого июля, играет оркестр на вольном воздухе, на углу улицы Бреа кружатся пары. О, тихий, мирный Калез! Вспоминаю последнюю ночь перед моим отъездом. Вопреки запрещению доктора, я принял таблетку веронала и уснул глубоким сном. Вдруг я вздрогнул и проснулся. Смотрю на часы — только еще час ночи. Меня напугал шум — откуда-то доносился многоголосый говор. Окно с вечера осталось открытым. Прислушиваюсь — ни во дворе, ни в гостиной никого нет. Направляюсь в ванную — она выходит окном на север, то есть в сторону подъезда. Вижу — у крыльца в необычно поздний час сидит вся семья. Ночью им некого было опасаться: кругом ни души, и в эту сторону выходят только окна умывальных комнат и коридора.
Ночь была теплая и необыкновенно тихая. В краткие мгновения молчания я слышал немного хриплое дыхание Изы, слышал, как чиркают спичкой. Тишина. На черных кронах вязов не колышется ни единый листок. Я не решался выглянуть из окна, но узнавал каждого своего врага — по голосу, по смеху. Они не спорили, не ссорились. Кто-то (Иза или Женевьева) бросил реплику, и после этого настало долгое молчание. Потом вдруг, в ответ на замечание Гюбера, что-то возразил Фили, и тут они заговорили наперебой.
— А ты уверена, мама, что он держит у себя в несгораемом шкафу только маловажные документы? Скупцы народ неблагоразумный. Вспомни, как он хотел дать Люку, какому-то мальчишке, уйму золота... Где он прятал это золото?
— В несгораемом шкафу у него ничего нет. Он же знает, что мне известен шифр, которым открывается замок: Мари. Он в шкаф лазит, только когда ему нужно возобновить страховой полис или проверить, сколько налогу он уплатил.
— Мама, да ведь это очень важно! Может быть, хоть по налоговому листу мы узнаем сумму его доходов, он ведь их упорно скрывает от нас.
— Да там только то, что относится к недвижимости. Я уже смотрела.
— Это тоже очень показательно, вы не находите? Чувствуется, что он принял все меры предосторожности.
Фили, позевывая, пробормотал:
— Нет, вы подумайте только — сущий крокодил! Вот уж не повезло мне! Нарвался на такого крокодила!
И если хотите знать мое мнение, — заметила Женевьева, — то, мне думается, ничего вы не найдете и в сейфе, который у него есть в Лионском кредите. Ты что, Янина?
— Мама, да что ж это такое! Ведь все говорят, будто он тебя любит немножко. А когда ты и дядя Гюбер были маленькими, разве он иногда не баловал вас? Разве нет? Так, значит, вы сами виноваты. Не умели взять его лаской. Вы просто неловкие, неуклюжие! Надо было вертеться около него, ластиться, очаровывать его. Я бы всего добилась, я уверена Да только вот он не выносит моего Фили
Гюбер сердито оборвал племянницу:
— Можешь быть уверена, наглость твоего мужа дорого нам обойдется...
Послышался смех Фили. Я чуть-чуть выглянул из окна; огонек зажигалки осветил на мгновение его сложенные ладони, округлый подбородок, толстые губы.
— Будет вам! Он и без меня терпеть вас не мог.
— Нет, прежде все-таки меньше ненавидел нас.
— А вы вспомните-ка, что бабушка рассказывала, — заговорил опять Фили. — Как он себя вел, когда потерял дочку... С таким видом на всех посматривал, будто ему наплевать было, что она умерла... Никогда и не заглядывал на кладбище...
— Нет, Фили, вы уж слишком далеко заходите. Мари он любил, только ее одну в целом мире и любил.
Если б не это возражение Изы, которое она сделала слабым, дрожащим голосом, я бы не мог сдержаться. Я сел на низкий стул и, вытянув шею, прижался головой к подоконнику. Женевьева сказала:
— Если б Мари осталась жива, ничего бы этого не было. Он бы просто не знал, чем одарить ее, как ей угодить...
— Да бросьте вы! Так же возненавидел бы, как и всех остальных. Ведь он — чудовище! Никаких человеческих чувств!..
Иза опять запротестовала:
— Прошу вас, Фили, не говорите так о моем муже, да еще при мне и при его детях. Вы должны относиться к нему почтительно.
— Почтительно! Почтительно! — И Фили, кажется, пробормотал: — Вы, может, воображаете, что очень весело войти в такую семью...
Женевьева сухо заметила:
— А вас никто насильно и не тянул...
— А зачем же вы мне пыль в глаза пускали? «Ах, у нас впереди надежды, надежды...» Ну вот еще, теперь Янина ревет! Ну что? Что я такого сказал? — И он с досадой заворчал: — До чего ж все это надоело!
Наступило молчание, слышно было только, как Янина всхлипывает и сморкается. Чей-то голос (чей — я не мог разобрать) произнес: «Сколько звезд!» В Сен-Венсене на колокольне пробило два часа.
— Дети мои, пора спать.
Гюбер заволновался, заявил, что нельзя расходиться, не приняв решения. Да, давно пора действовать. Фили согласился с ним. Он заявил, что долго мне не протянуть, а тогда уж ничего нельзя будет сделать. Старик принял все меры...
— Да, наконец, скажите, дорогие дети, чего вы от меня ждете? Я уже все испробовала. Больше ничего не могу сделать.
— Нет, можешь, — возразил Гюбер, — все от тебя зависит.
И он что-то зашептал. Я ничего не мог расслышать. Самого-то главного я, значит, и не узнаю? Наконец заговорила Иза, и по ее голосу я понял, что она возмущена, шокирована:
— Нет, нет! Мне это совсем не нравится!
— А разве важно, мама, нравится тебе это или не нравится? Надо спасти наше состояние — вот и все.
Опять началось шушуканье, и снова его прервал возглас Изы:
— Это очень жестоко, дитя мое.
— Но не можете же вы, бабушка, и впредь оставаться его сообщницей! Ведь он отнимает у нас наследство именно с вашего разрешения. Вы своим молчанием выражаете свое согласие с ним.
— Янина, детка моя, как ты можешь!..
Бедная Иза, сколько ночей она провела у изголовья этой ревы, которую она взяла к себе в комнату, потому что родители желали спать спокойно, а никакая нянька не соглашалась возиться с такой визгливой плаксой. Янина говорила сухим, дерзким тоном. (Я бы ей задал за этот тон!) И в заключение добавила:
— Мне, конечно, неприятно говорить вам, бабушка, такие вещи. Но это мой долг.
Долг! Ее долг! Так она называет свою чувственную страсть, свой страх, что ее бросит бездельник, засмеявшийся в эту минуту дурацким смехом...
Женевьева поддержала свою дочь: несомненно, что слабодушие можно считать сообщничеством. Иза вздохнула:
— Может быть, дети, лучше всего будет написать ему письмо?
— Ну уж нет! Никаких писем! — возмутился Гюбер. — Письма-то и губят людей. Надеюсь, мама, ты ему никогда не писала?
Иза призналась, что раза два-три она писала мне.
— Надеюсь, не грозила ему и не оскорбляла?
Иза молчала, не решаясь признаться. А я смеялся втихомолку. Да, да, она писала мне, и я бережно храню эти письма: в двух она меня жестоко оскорбляла, а третье письмо было почти нежное, — словом, пришлось бы ей проиграть процесс, если б милые деточки, по своей несказанной глупости, уговорили бы ее подать на меня в суд и требовать расторжения брака. Теперь все они всполошились — так бывает у собак: одна собака зарычит, и тогда вся свора начинает рычать.
— Вы ему не писали, бабушка? Скажите же! У него нет никаких ваших писем, опасных для нас?
— Нет, пожалуй, опасных нет... Вот только Буррю, — ну, знаете, этот поверенный из Сен-Венсена, которого мой муж какими-то путями прибрал к рукам, — однажды он сказал мне ужасно жалостливым тоном (но ведь он пройдоха и лицемер)... да, он сказал мне: «Ах, сударыня, зачем вы ему писали! Это большая неосторожность с вашей стороны!..»
— Что ж ты ему написала? Надеюсь, в письме не было оскорблений?
— В одном письме были упреки, и довольно резкие, — это после смерти Мари. И потом я еще раз написала — в тысяча девятьсот девятом году. Тогда у него была связь, более серьезная, чем другие его связи, — по этому поводу я и писала.
Гюбер заворчал: «Это очень важно, крайне важно...» — и, желая его успокоить, Иза сказала, что она потом все уладила — выразила в другом письме сожаление в своей резкости, признала, что не раз была передо мной виновата.
— С ума сойдешь! Целый букет нелепостей!..
— Н-да! Теперь уж ему нечего бояться бракоразводного процесса...
— Но почему же вы думаете в конце концов, что у него черные замыслы против вас?
— Послушай, мама! Надо быть слепым, чтоб этого не видеть! А непроницаемая тайна, в которой он совершает свои финансовые операции? А его намеки? А те слова, которые вырвались однажды у Буррю при свидетелях: «Ну и кислые же у них будут физиономии после смерти старика!..»
Они спорили теперь с таким остервенением, как будто старухи матери и не было тут. Громко застонав, она поднялась с кресла. «Вредно мне при моем ревматизме сидеть по ночам на воздухе». Дети не отозвались ни единым словом.
Потом я услышал, как они, не прерывая своих разговоров, небрежно бросали матери: «Покойной ночи». Должно быть, ей самой пришлось обойти их всех и самой целовать всех по очереди, они же нисколько и не побеспокоили себя. Осторожности ради я тотчас же лег в постель. На лестнице послышались тяжелые шаги. Иза подошла к двери, я услышал ее шумное дыхание. Поставив свою свечу на полочку, она отворила дверь. Подошла к постели. Наклонилась надо мной, хотела удостовериться, что я сплю. Как долго она всматривалась в меня! Я боялся, что выдам себя. Она дышала коротко и быстро. Наконец она вышла и затворила за собой дверь. Когда щелкнула задвижка в ее спальне, я вновь вернулся в ванную на свой «пост подслушивания».
Дети еще не разошлись. Но разговаривали теперь вполголоса. Многих слов я так и не расслышал.
— Он был не из ее круга, — говорила Янина. — Это тоже играло роль. Фили, душенька, ты кашляешь. Накинь на себя пальто.
— Да, в сущности, больше всего он не жену, а нас ненавидит. Нет, это просто невероятно, неслыханно! В романах и то такого не найдешь. Мы, конечно, не должны судить маму, но все-таки она, по-моему, слишком снисходительна к нему...
Послышался голос милейшего Фили:
— А ей-то что! Приданое свое она всегда вернет. Дедушка Фондодеж дал за ней акции Суэцкого канала...
С тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года цена на них, верно, вздулась до небес!
— Акции? Акции Суэцкого канала? Они уже проданы...
Это сказал Альфред, супруг Женевьевы (я сразу узнал его нерешительные интонации, его заиканье). До сих пор бедняга Альфред не промолвил ни слова. Женевьева и тут его оборвала резким, крикливым голосом, каким она всегда говорит с мужем:
— Ты с ума сошел! Откуда ты взял, что акции проданы?
Альфред рассказал, что в мае месяце он зашел в комнату тещи как раз в ту минуту, когда она подписывала распоряжение о продаже, и она ему сказала: «Кажется, сейчас самое подходящее время их продать — выше курс не поднимется, теперь пойдет на понижение».
— И ты нам ничего не сообщил? — заорала Женевьева. — Вот дурак набитый! Папа, значит, велел ей продать эти акции. Боже мой, такие акции! А ты говоришь об этом совершенно спокойно, как будто ничего особенного не случилось...
— Да я же полагал, Женевьева, что мама поставила вас в известность. А поскольку по брачному контракту муж не имеет прав на ее приданое...
— Ну-с, а в чей карман попала прибыль от этой продажи? Как ты думаешь? Представьте себе, милый мой супруг ни слова нам не сказал! Боже мой! Всю жизнь прожить с таким человеком...
Вмешалась Янина — попросила говорить потише, а то разбудят ее дочурку. Несколько минут они говорили так тихо, что я уже ничего не мог разобрать. Потом послышался голос Гюбера:
— Я все думаю о том плане, который вы сегодня предложили. На маму надеяться нечего, сама она на это не пойдет... Надо, по крайней мере, ее постепенно подготовить к нашему решению...
— А может, она найдет, что это все-таки лучше, чем развод. Ведь развод по суду приведет неизбежно и к расторжению церковного брака, и значит, тут замешаются вопросы совести... Разумеется, то, что предложил Фили, на первый взгляд не очень красиво... А впрочем, что тут особенного? Не мы же будем судьями. В конечном счете все зависит вовсе не от нас. Наша задача только поднять вопрос. Решен он будет в нашу пользу только в том случае, если соответствующие компетентные учреждения сочтут это необходимым.
— А я вам говорила и еще раз скажу: ничего у вас не выйдет. Зря вы замахиваетесь, — заявила Олимпия.
Должно быть, жену Гюбера довели, как говорится, до белого каления, раз она заговорила так громко и решительно. Она выступила с утверждением, что я человек уравновешенный, положительный, здравомыслящий.
— Должна сказать, — добавила она, — что зачастую я бываю с ним вполне согласна, и я прекрасно сумела бы с ним поладить и добилась бы чего угодно, если б только вы не портили моих начинаний...
Я не расслышал, что ей ответил Фили, должно быть, отпустил какую-нибудь наглую шуточку, потому что все засмеялись, и стоило Олимпии раскрыть рот, как опять поднимался хохот. До меня долетали обрывки разговора.
— Вот уже пять лет, как он не выступает в суде. Не может больше выступать.
— Из-за сердца?
— Да, теперь из-за сердца. Но когда он вышел из суда, то еще не был серьезно болен. Просто у него были неприятные столкновения с коллегами. Происходили они публично, при свидетелях, и я уже собрал о них соответствующие сведения...
Напрасно я напрягал внимание и слух, дальше ничего нельзя было разобрать: Фили и Гюбер, несомненно, придвинулись поближе друг к другу, и я слышал только неясное бормотание, вслед за ним возмущенный возглас Олимпии:
— Перестаньте вы! Единственный человек, с которым я могу поговорить о хороших книгах, обменяться мыслями, человек с широким кругозором, и вы хотите...
Из ответа Фили я расслышал только одно: «Не в своем уме». А потом вдруг заговорил вечный молчальник — зять Гюбера; он произнес сдавленным голосом:
— Прошу вас, Фили, говорите вежливо с моей тещей.
Фили заявил, что он просто пошутил. Чего там, ведь оба они оказались жертвами в этом деле. Зять Гюбера с дрожью в голосе стал заверять, что он совсем не считает себя жертвой и женился на дочери Гюбера по любви, и тогда все хором закричали: «И я по любви!», «И я!», «Я тоже!». Женевьева насмешливо сказала мужу:
— Ах, и ты тоже? Вот хвастун! Ты, оказывается, женился на мне, ничего не зная о папином богатстве? А помнишь, что ты мне шепнул в вечер нашей помолвки? «Он ничего не хочет нам говорить. Но какое это имеет значение? Ведь мы все равно знаем — состояние у него огромное!»
Раздался взрыв хохота, потом гул разговоров, и снова послышался голос Гюбера. Несколько секунд он говорил один, я расслышал только конец его речи:
— Это прежде всего вопрос справедливости, вопрос нравственности. Мы защищаем свое законное достояние и священные права семьи.
В глубокой предрассветной тишине слова их доходили до меня очень явственно.
— Установить слежку за ним? У него большие связи в полиции, как я не раз в том убеждался. Его предупредят...
А через несколько мгновений до меня донеслось:
— Всем известны его резкость, его алчность. Надо откровенно сказать, что в двух-трех процессах он как будто вел себя не совсем деликатно. Но что касается здравого смысла, уравновешенности...
— Во всяком случае, никто не станет отрицать, что его отношение к нам просто бесчеловечное, чудовищное, какое-то сверхъестественное.
— И ты думаешь, дорогая детка, — сказал Альфред своей дочке, — что этого достаточно для установления диагноза?
Я понял. Теперь я все понял! В душе у меня было глубокое спокойствие, буря стихла, явилась непоколебимая, твердая уверенность: они сами — чудовища, а я — их жертва. Мне приятно было, что моей жены нет среди них. Пока Иза была тут, она все же немного защищала меня, и при ней они не решались заикнуться о своих замыслах. Теперь-то эти подлые замыслы мне известны, однако я их не боюсь. Болваны несчастные! Да разве вам удастся учредить опеку над таким человеком, как я, или запереть меня в сумасшедший дом? Попробуйте только пальцем пошевельнуть, я живо поставлю Гюбера в отчаянное, безвыходное положение. Он и не подозревает, что его судьба в моих руках. А что касается Фили, то у меня хранятся некие опасные для него материалы из папки полицейских сведений... Я не собирался ими воспользоваться. Впрочем, я и теперь не пущу их в ход. Достаточно мне будет показать им всем клыки.
Впервые в жизни я испытывал утешительное сознание, что я не самый плохой человек, другие гораздо хуже меня. У меня нет желания отомстить им. Во всяком случае, я не стану придумывать для них иной мести, кроме лишения наследства. А они-то как ждут его! Иссохли от нетерпения, обливаются потом от мучительной тревоги.
— Звезда упала! — крикнул Фили. — Не успел я загадать желание.
— Никогда не успеть! — сказала Янина. А муж подхватил с неизменной своей детской жизнерадостностью:
— Как увидишь падучую звезду, сразу кричи: «Миллионы!»
— Глупый ты, Фили!
Все поднялись. Слышно было, как отодвигают садовые кресла по хрустящему гравию. Щелкнула задвижка в парадном, потом в коридоре захихикала Янина. Одна за другой закрылись двери спален. Я принял твердое решение. У меня уже два месяца не было припадков удушья. Значит, ничто не помешает мне поехать в Париж Обычно я уезжаю без предупреждения. Но я не хочу, чтоб эта моя поездка походила на бегство. До утра я не спал, обдумывал свой давний план — извлек его из архива и тщательно разработал.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Я встал в полдень. Усталости нисколько не чувствовал. Вызвал по телефону Буррю, он явился после завтрака. Почти час мы с ним беседовали, прогуливаясь под липами вокруг лужайки. Иза, Женевьева и Янина издали наблюдали за нами, и я наслаждался их явным беспокойством. Как жаль, что мужчины — в Бордо. Они говорят про низенького старичка поверенного: «Буррю за него в огонь и в воду готов броситься». А Буррю просто мой раб, связан по рукам и ногам. Как же он, бедняга, молил меня в то утро, чтоб я не давал оружия против него в руки возможного моего наследника!.. «Да чего ж вы боитесь? — успокаивал я его. — Ведь он возвратит вам этот документ, когда вы сожжете подписанное им заявление...»
Прощаясь, Буррю отвесил дамам глубокий поклон, они ответили чуть заметным кивком. Потом он с грехом пополам оседлал свой велосипед и укатил. Я направился к женщинам и известил их, что вечером уезжаю в Париж. Иза стала отговаривать: неблагоразумно ехать одному при таком состоянии здоровья.
— Ничего не поделаешь, — ответил я. — Мне надо отдать некоторые важные распоряжения. Вы хоть этого и не замечаете, а я думаю о вас.
Они смотрели на меня испытующим, тревожным взглядом. Иронический тон выдал меня. Янина посмотрела на мать и осмелилась возразить:
— Бабушка или дядя Гюбер могли бы вас заменить.
— Удачная мысль, дитя мое... Весьма удачная!.. Но, знаешь ли, я привык все делать сам. И потом — это, конечно, плохо, я и сам знаю, что плохо, но я никому не доверяю.
— Даже своим детям? Ах, дедушка!
Она так жеманно протянула слово «дедушка», что меня злость взяла. Какая самоуверенность! Подумаешь, неотразимая очаровательница! А этот пронзительный, писклявый голос. Я хорошо различал его прошлой ночью в хоре милых родственников... И я расхохотался, весьма опасным для моего сердца смехом — кашляя, задыхаясь. Видимо, я их перепугал. Никогда мне не забыть жалкого, измученного лица Изы. У нее, верно, и тогда уже были припадки. Янина, несомненно, стала к ней приставать, как только я отошел от них: «Бабушка, не пускайте его, не позволяйте ему ехать...» Но моя жена уже не в силах была сражаться, вести наступление, она совсем изнемогла, едва дышала, едва двигалась. Недавно я слышал, как она сказала Женевьеве: «Хорошо бы лечь, уснуть и никогда, никогда не просыпаться...» Мне теперь жалко ее было, как было когда-то жалко мою бедную маму. А дети выдвигали против меня это старое, изношенное осадное орудие, которое уже не могло служить. Они, разумеется, на свой лад любили мать, заставляли ее приглашать доктора, принимать лекарства, соблюдать диету. Когда дочь и внучка изволили удалиться, она подошла ко мне.
— Послушай, — торопливо сказала она. — Мне нужны деньги.
— У нас сегодня десятое. А первого я дал тебе на весь месяц.
— Да, но мне пришлось немного помочь Янине: они в очень стесненном положении. В Калезе мне всегда удается сократить расходы. Я верну тебе из тех денег, которые ты дашь мне в августе.
Я ответил, что такие траты меня не касаются, я вовсе не обязан содержать бездельника Фили.
— Я в булочной задолжала и в бакалейной... Посмотри, вот счета.
И она вытащила счета из сумочки. Право, мне ее жалко стало. Я предложил дать чеки: «Так я, по крайней мере, буду уверен, что деньги не уйдут на что-нибудь другое...» Она согласилась. Я достал чековую книжку и тогда заметил, что Янина с мамашей наблюдают за нами, прогуливаясь в розарии.
— Уверен, — сказал я, — что они воображают, будто мы говорим совсем о другом...
Иза вздрогнула.
— О чем же нам говорить? — тихо сказала она. И в это мгновение у меня подступило к сердцу. Я схватился за грудь обеими руками — жест, хорошо ей знакомый. Она перепугалась:
— Тебе плохо?
Я уцепился за ее руку. В старой липовой аллее как будто стояла дружная супружеская пара, прожившая долгую жизнь в глубоком сердечном единении. Я сказал шепотом: «Ничего, мне лучше». Она, верно, подумала, что настала минута, быть может, неповторимая минута, когда можно откровенно поговорить со мной. Но у нее уже не было сил. Я заметил, что она и сама-то дышит тяжело и неровно. Я хоть и был тяжко болен, но держался стойко, крепился. А она поддавалась болезни, думала только о детях, нисколько не заботилась о себе самой, ей ничего не было нужно. Она хотела что-то сказать и не находила слов, бросала украдкой взгляды на дочь и на внучку, желая, видно, придать себе храбрости. Потом вскинула на меня глаза; я прочел в ее взгляде бесконечную усталость и, пожалуй, сострадание, и, несомненно, ей было еще и стыдно. Должно быть, то, что говорили ночью дети, ее оскорбило.
— Право, тревожно на душе. Ну зачем ты один едешь?
Я не ответил, сказал только, что если со мной в дороге случится несчастье, меня перевозить сюда не стоит.
Она взмолилась, чтобы я не намекал на такую страшную возможность И я добавил:
— Слушай, Иза, зачем зря деньги тратить? Кладбищенская земля везде одинакова.
— Что ж, я и сама так думаю, — сказала она со вздохом. — Пусть они похоронят меня, где хотят. Прежде-то я все говорила: «Положите меня возле Мари...» А что теперь осталось от Мари?
Лишний раз я убедился, что для нее наша милая дочка, маленькая Мари, была могильным прахом, горсточкой костей. Я не посмел сказать, что все эти долгие годы дитя мое оставалось для меня живым, что я чувствовал ее дыхание и часто в духоте моей мрачной жизни оно проносилось внезапным чистым дуновением.
Напрасно Женевьева и Янина шпионили и поджидали мать. Она казалась такой усталой. Быть может, перед ней предстало все ничтожество целей ее долголетней борьбы против меня? Женевьева и Гюбер, которых на это толкали их собственные дети, натравливали на меня несчастную старуху Изу Фондодеж — ту, что была когда-то моей невестой и вместе со мной вдыхала благоухание баньерских ночей. Полвека мы с ней сражались. И вот в некий знойный летний день оба противника почувствовали, что, вопреки столь долгой борьбе, их соединяют узы прожитой вместе жизни и старость. Как будто, ненавидя друг друга, мы пришли к одному и тому же месту жизненного пути. Больше ничего не было за этим мысом, где мы ждали смерти. По крайней мере, для меня. У нее еще оставался Бог — Бог-то должен был ей остаться. Все, за что она цеплялась так же алчно, как и я сам, вдруг отпало, исчезли все вожделения, стоявшие стеной между нею и бесконечным. Видит ли она его теперь? Ведь теперь ничто ее не отдаляет от него. Нет, не видит. Осталась преграда — честолюбивые планы и требования ее детей. Она несла в душе бремя их желаний. Ей приходилось быть черствой в угоду им. Денежные заботы, тревога о здоровье детей, их расчеты, их тщеславие и зависть — от этого ей не уйти, все придется начинать заново, как заново решает школьник задачу, когда учитель, перечеркнув листок, напишет: «Переделать».
И снова она бросила взгляд на аллею, где Женевьева и Янина, вооружившись садовыми ножницами, якобы обрезали сухие ветки на розовых кустах. Выжидая, пока утихнет сердцебиение, я присел на скамью и долго смотрел вслед жене — она шла по дорожке, низко опустив голову, как ребенок, ожидающий строгого нагоняя. Было жарко, душно, надвигалась гроза. Иза шла разбитой походкой, видно было, что каждый шаг для нее мученье. Я будто слышал, как она стонет: «Ох, бедные мои ноги!» Ненависть между старыми супругами никогда не бывает так сильна, как им кажется.
Иза подошла к дочери и внучке, и, очевидно, обе стали ее упрекать. Вдруг она повернулась и снова направилась ко мне. Вся красная, страдая от одышки, она села рядом со мной и сказала жалобно:
— В грозовую погоду мне всегда очень нехорошо. Такая усталость одолевает, и нервы так напряжены!.. За последние дни я сама не своя... Послушай, Луи, меня кое-что беспокоит... Суэцкие акции... Приданое мое. Мы с тобой продали их, а на что ты употребил эти деньги? Ты ведь тогда велел мне подписать какие-то другие бумаги.
Я сообщил, что она получила огромную прибыль благодаря тому, что я продал эти акции накануне падения их курса, затем сказал, какие именно процентные бумаги я купил на реализованную сумму.
— Приданое твое дало приплод, Иза. Даже учитывая падение франка, сумма огромная. Ты будешь поражена. Все положено на твое имя в Вестминстер-банке — и основной капитал, и прибыль. Твоих детей это совершенно не касается... Можешь быть спокойна. Своим собственным деньгам я хозяин, и все, что я нажил, — это мое. Но то, что ты с собой принесла, это уж твоя собственность. Поди успокой своих ангелов бескорыстия, — вон как они на меня смотрят!
Она схватила меня за руку.
— За что ты их ненавидишь, Луи? За что ты всю свою семью ненавидишь?
— Это вы меня ненавидите, а не я. Вернее сказать, дети меня ненавидят... А ты... ты просто не замечаешь меня, кроме тех случаев, когда я раздражен или внушаю тебе страх...
— Прибавь еще: «Или когда я мучаю тебя...» Разве мало я выстрадала?
— Ах, оставь, пожалуйста. Ты никого не видела, кроме детей.
— Да, я всей душой к ним привязалась. А что ж мне оставалось в жизни, кроме них? — И, понизив голос, она добавила: — В первый же год ты меня оставил, изменял мне, сам знаешь...
— Ну, Иза, не станешь же ты уверять меня, будто мои шашни очень тебя огорчали... Разве что задевали твое самолюбие. Молодые жены обидчивы.
Она горько усмехнулась.
— Ты как будто искренне говоришь. Подумать только, ты даже не замечал...
Я встрепенулся — забрезжила надежда. Неловко говорить — ведь речь шла о былых, давно угасших чувствах. А вот взволновала надежда, что сорок лет назад я был, неведомо для себя, любим. Да нет, теперь уж не поверю.
— Ни разу у тебя не вырвалось ни слова, ни крика... Ты всецело поглощена была детьми.
Она закрыла лицо руками. И в тот день мне особенно бросилось в глаза, какие на них набухшие вены и темные пятна.
— Детьми? Подумать только! С тех пор как мы стали спать в разных комнатах, я столько лет не смела положить с собой ни одного из детей, даже когда они хворали. Все ждала, все надеялась, что ты придешь...
Слезы текли по старческим ее рукам. Вот что сталось с Изой. Только я один мог еще различить в этой рыхлой старухе, почти калеке, прежнюю Изу, юную девушку, «посвятившую себя белому цвету», мою спутницу в прогулках к долине Лилий.
— Стыдно и смешно в мои годы вспоминать о таких делах... Да, главное, смешно. Прости меня, Луи.
Я молча смотрел на виноградники. И в эту минуту возникло у меня сомнение. Да как же это возможно! Почти полстолетья человек разделяет с тобою жизнь, и ты все эти годы видишь его только с одной стороны. Как же это возможно! Неужели мы словно делали выбор из всех его слов и поступков и запоминали лишь то, что питало наши обиды против него, поддерживало злопамятство? У нас какое-то роковое стремление упрощать облик другого человека, отбрасывать все черты, которые смягчили бы уродливый его образ, создавшийся в нашем представлении, и сделали бы более человечным его карикатурный портрет, который мы рисуем нарочно, для оправдания своей ненависти... Уж не заметила ли Иза, что я взволнован? Она поторопилась воспользоваться своим выигрышным положением.
— Ты не поедешь сегодня?
И в глазах у нее блеснул огонек торжества, как это обычно бывало, когда ей казалось, что она «одолела меня». Прикидываясь удивленным, я ответил, что не вижу никаких оснований откладывать поездку. Мы вместе с ней направились к дому. Из-за моего сердца мы поднялись не по крутому скату, а пошли в обход, по липовой аллее, огибавшей дом. Я все-таки был в смущении, не знал, как поступить. А что, если не ездить? Отдать бы Изе свою тетрадь... Что, если бы... Она оперлась на мое плечо. Сколько уж лет она этого не делала! Аллея выводила к дому с северной стороны. Иза сказала:
— Казо никогда не убирает садовых стульев...
Я рассеянно взглянул. Пустые кресла все еще стояли тесным кружком. Тем, кто был тут ночью, понадобилось сесть поближе друг к другу и вести разговор шепотком. Земля была изрыта каблуками Везде валялись окурки тех папирос, которые курит Фили Прошлой ночью тут расположились мои враги Под деревьями, насаженными моим отцом, они сговаривались, как им отдать меня под опеку или запереть в сумасшедший дом. Однажды вечером я в минуту самоуничижения сравнивал свое сердце с клубком змей. Нет, нет, — теперь я вижу: эти змеи не во мне прячутся, они выползли на свободу и прошлой ночью сплелись клубком в этом мерзком кружке — у крыльца, и земля еще хранит их следы.
«Деньги свои ты получишь, Иза, — думал я, — весь капитал и всю прибыль, какую они благодаря мне принесли. Но уж прошу извинить — больше ничего от меня не жди. Я постараюсь найти такую уловку, чтобы даже эта усадьба вам не досталась. Я ее продам и лес продам. Все, что мне досталось от родителей, пойдет моему сыну, которого я еще не знаю, у меня с ним завтра первое свидание. Каков бы он ни был, он вас не знает, он не принимал участия в вашем заговоре, воспитывался он вдали от меня, и в нем не может быть ненависти ко мне, или же ненависть его носит отвлеченный характер, относится к вымышленному образу, не имеющему ко мне отношения».
Я гневно сбросил с плеча руку Изы и, забывая о своем старом, больном сердце, быстро поднялся по ступеням подъезда. Иза крикнула «Луи!» Я даже не обернулся.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Мне не спалось, я встал, оделся и вышел на улицу. Чтоб попасть на бульвар Монпарнас, пришлось прокладывать себе дорогу в толпе, лавировать между танцующими парами. Когда-то даже такие ярые республиканцы, как я, избегали гуляний, устраивавшихся в день Четырнадцатого июля. Ни одному приличному человеку не пришло бы в голову принять участие в уличных балах и развлечениях. А нынче вечером и на улице Бреа, и на площади, как я погляжу, вовсе не какая-нибудь шваль. Расхлябанных жуликов и в помине нет — танцуют подтянутые крепкие молодцы, с непокрытой головой; на некоторых — рубашки с открытым воротом, с короткими рукавами Среди танцующих женщин очень мало проституток. Молодежь цепляется за колеса такси, мешающих им кружиться, но проделывает это очень мило, благодушно. Какой-то юноша, нечаянно толкнув меня, крикнул:
«Дорогу почтенному старцу!» Я проходил меж двух рядов сияющих лиц. «Что, не спится, дедушка?» — бросил мне смуглый брюнет с низко растущей надо лбом густой шевелюрой. Наверно, и Люк так же бы вот смеялся, как этот юноша, и танцевал бы на улицах; а я, человек, который никогда не знал, что такое бездумный отдых, беззаботное веселье, наверно, учился бы у бедного моего мальчика радоваться жизни. Как бы я его баловал, дарил подарки, набивал бы кошелек деньгами. Да нет его, земля ему в рот набилась. Вот о чем я думал, сидя на террасе кафе, чувствуя и на свежем воздухе привычное стеснение в груди.
И вдруг в толпе, медленно двигавшейся по тротуарам и по мостовой, я увидел своего двойника: это был Робер; он шел рядом с каким-то плюгавым юнцом, своим приятелем; у Робера такие же длинные ноги и короткое туловище, как у меня, он втягивает голову в плечи, совсем как я. Смотрю на него с отвращением. Все мои физические недостатки у него как-то подчеркнуты. У меня, например, длинное лицо, а у него уж просто лошадиное, плечи подняты, как у горбуна. Да и голос тоже, как у горбуна. Я окликнул его. Бросив приятеля, он подошел ко мне и посмотрел вокруг испуганным взглядом.
— Только не здесь! — зашипел он. — Приходите на улицу Кампань-Премьер, я буду ждать на тротуаре, с правой стороны.
Я сказал, что здесь, в такой толкучке, нас меньше всего могут заметить. Это как будто его успокоило, он простился с приятелем и присел к моему столику.
В руках у него был спортивный журнал. Желая прервать неловкое молчание, я завел разговор о лошадях. Старик Фондодеж частенько вел со мной беседы на эту тему и просветил меня. Я рассказал Роберу, что мой тесть, играя на бегах, ставил на ту или иную лошадь весьма обдуманно — он принимал в соображение не только ее родословную, но и самые разнообразные обстоятельства, вплоть до того, какую почву для беговой дорожки она предпочитает. Робер прервал меня:
— А у нас в магазине всегда можно узнать насчет шансов выиграть. (После всех своих неудач он пристроился в мануфактурном магазине Дэрмас на улице Пти-Шан.)
Оказывается, его интересовал только выигрыш. Лошадей он не любил.
— У меня другая страстишка, — добавил он, — велосипед! — И глаза у него заблестели.
— А скоро будет еще одна: автомобиль заведете!
— Неужели?!
Он послюнил большой палец, оторвал от книжечки листик папиросной бумаги, свернул сигарету. И снова наступило молчание. Я спросил, не чувствуется ли заминка в делах той фирмы, где он служит. Он ответил, что часть персонала уволили, но ему лично расчет не грозит. Его мысли никогда не выходили за пределы его узких, личных интересов. И вот на это убогое существо внезапно обрушится поток золота.
А не обратить ли мне мои миллионы на добрые дела. Раздать все из рук в руки. Нет, они обязательно пронюхают и добьются, чтоб надо мной учредили опеку... А если по завещанию? Но ведь при наличии прямых наследников невозможно уменьшить причитающуюся им долю. Эх, Люк, если б ты был жив! Правда, он-то никогда бы не принял... А я все равно нашел бы способ обогатить его — он и не узнал бы, что это от меня... Дал бы, например, приданое любимой им женщине...
— Послушайте, мосье... — сказал Робер, поглаживая себе щеку красной рукой с толстыми, как сосиски, пальцами. — Я, знаете ли, вот чего опасаюсь: как бы ваш поверенный, этот самый Буррю, не умер прежде, чем мы с ним сожжем мое заявление...
— Ну что ж, ему наследует сын. Оружие против Буррю, которое я вам вручу, вы, в случае надобности, сможете обратить против его сына.
Робер молча продолжал поглаживать себе щеку. Мне не хотелось больше разговаривать. Все внимание поглощала острая боль, сжимавшая грудь.
— Ну хорошо, — сказал Робер, — допустим, Буррю сожжет мое заявление, и тогда я ему отдам тот документ, ради которого он выполнит свое обещание. Но кто ему помешает пойти после этого к вашим наследникам и сказать: «Я знаю, где капиталец спрятан. Хотите, продам вам секрет? Прошу за него столько-то да еще столько-то в случае успеха — если найдете клад». Ведь Буррю может договориться, чтоб его имя не фигурировало... А тогда уж ему нечего будет опасаться. И вот, знаете ли, поведут расследование, убедятся, что я ваш сын, увидят, что мы с матерью живем богато, а не так, как до вашей смерти жили... И тогда одно из двух: или подавай в налоговое управление правильную декларацию насчет доходов, либо как-нибудь ухитрись скрыть...
Он говорил четко и ясно. Ум его вышел из дремотного оцепенения, машина заработала и уже не останавливалась.
Оказалось, что у этого приказчика весьма развиты крестьянские черты характера: он предусмотрителен, недоверчив, непреодолимо боится риска, стремится ничего не оставлять на волю случая. Несомненно, он предпочел бы получить от меня сто тысяч из рук в руки, чем скрывать такое огромное богатство.
Я выждал, пока стихнет боль в сердце, разожмутся тиски, сдавившие грудь...
— В ваших словах есть некоторая доля правды. Я согласен с вами. Что ж, не подписывайте документа. Я всецело доверяюсь вам. Впрочем, если я захочу, то без труда докажу, что деньги принадлежат мне. Но это уже не имеет никакого значения: через полгода, самое большее через год я умру.
Он и не подумал сказать что-нибудь утешительное, хотя бы самую избитую фразу, не сделал ни жеста, у него не нашлось ни единого ободряющего слова, которое сказал бы любой на его месте. Вряд ли он был черствее своих сверстников, он просто дурно воспитан.
— Что ж, — сказал он, — пожалуй, сойдет! — И, подумав, добавил внушительно: — Надо будет время от времени наведываться в сейф еще при вашей жизни... чтобы в банке примелькалось мое лицо. Я буду ходить туда за деньгами для вас.
— А знаете, — сказал я, — у меня ведь еще и за границей есть несколько сейфов. Если вы пожелаете, если сочтете более надежным...
— Расстаться с Парижем? Нет, не согласен!
Я пояснил, что жить он может в Париже и ездить за границу, когда понадобится. Тогда он спросил, в чем я держу свое состояние — в процентных бумагах или в наличных деньгах, и добавил:
— А неплохо бы все-таки иметь на руках письмо от вас — вроде того, что вот, мол, будучи в здравом уме и твердой памяти, вы по собственному своему побуждению завещаете мне свое состояние... Это может пригодиться... Кто их знает, вдруг те-то пронюхают, докопаются и обвинят меня в краже... Да и вообще на душе будет спокойнее...
Он опять умолк, купил себе китайских орехов и принялся есть их с такой жадностью, как будто умирал от голода. И вдруг спросил:
— А интересно все-таки — что они вам сделали, те-то?
— Берите, раз вам дают, — сухо ответил я, — и не задавайте никаких вопросов.
Его дряблые щеки чуть-чуть порозовели, на губах появилась кривая натянутая улыбка, какой он, вероятно, отвечает на выговоры хозяина, и тогда блеснули его белые, острые зубы — единственное украшение его невзрачной физиономии.
Теперь он сосредоточенно снимал шелуху со своих орехов и молчал. Как видно, он не был в восторге. Должно быть, воображение рисовало ему всякие ужасы. Ведь вот досада! Натолкнуться на такого субъекта, который ничего не видит в этой комбинации, кроме опасностей, а ведь они, в сущности, совсем не страшны. Мне захотелось раззадорить его радужными картинами.
— Есть у вас подружка? — внезапно спросил я. — Вы теперь можете жениться, будете с ней жить, как богатые буржуа.
Он сделал неопределенный жест и покачал своей победной головой А я продолжал соблазнять:
— Впрочем, вы можете теперь жениться на любой, какая вам приглянется. Если вам нравится какая-нибудь женщина, по вашему мнению, недоступная...
Он насторожился, и впервые я заметил, как в его глазах блеснул огонек молодости!
— Неужели я мог бы жениться на мадемуазель Брюжер?
— Кто она такая — мадемуазель Брюжер?
— Да нет, я шучу. Она ведь старшая продавщица в нашем магазине. Ах, какая великолепная женщина! Гордячка! На меня и не смотрит. Как будто я пустое место... Вот женщина! Подумайте!
Я его заверил, что, будь у него лишь двадцатая часть того состояния, которое я преподнесу ему, и то он может жениться на любой старшей продавщице города Парижа.
— Мадемуазель Брюжер! — повторил он. И, пожав плечами, добавил задумчиво: — Да нет, куда там!
Боль в груди не проходила. Я поманил официанта, хотел расплатиться. Робер вдруг проявил удивительную щедрость:
— Нет, что вы, что вы! Я сам.
Я с удовольствием положил деньги в карман. Мы встали. Музыканты уже укладывали свои инструменты в футляры и чехлы. Погасли гирлянды электрических лампочек. Теперь Роберу нечего было бояться, что его увидят со мной.
— Я провожу вас, — предложил он.
Сердце все еще болело. Я попросил Робера идти помедленнее. Выразил ему свое восхищение, что он не торопится осуществить наш план.
— Но если я умру нынче ночью, — заметил я, — вы потеряете большое богатство!
Он слегка пожал плечами, на лице его было написано полное равнодушие к такой беде. В общем, я только внес беспокойство в жизнь этого малого. Он был почти одного роста со мной. Приобретет ли он когда-нибудь барские замашки? Уж очень у этого молодого приказчика, моего сына и наследника, был жалкий вид. Я попытался придать более задушевный характер нашей беседе, стал уверять, будто меня мучит совесть за то, что я совсем забросил его самого и его мать Он, видимо, удивился: он находил, что я поступил «очень порядочно», регулярно посылая им маленькую сумму денег на содержание. «Очень многие и не подумали бы этого сделать». И он добавил ужасные слова: «Ведь вы же не первый у нее были...»
Очевидно, он без малейшей снисходительности судил свою мать Подошли к моему подъезду, и вдруг он сказал:
— А не переменить ли мне профессию? Заняться таким делом, чтобы приходилось бывать на бирже... Нетрудно тогда объяснить, откуда у меня большие деньги.
— Берегитесь, не делайте этого! — сказал я. — Начнете играть на бирже — все потеряете.
Он с озабоченным видом уставился на тротуар.
— Да это я все из-за подоходного налога — вдруг инспектор начнет допытываться.
— Поймите же, это наличные деньги, безвестное богатство, положенное в сейфы, которые никто в мире, кроме вас, не имеет права вскрывать.
— Ну да, конечно. А все-таки...
Измучившись, я захлопнул дверь перед его носом.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Калез
В окно, о которое бьется муха, смотрю на оцепеневшие холмы. Ветер с воем гонит тяжелые тучи, и тень их скользит по равнине. Вокруг — мертвая тишина, все застыло в ожидании первого раската грома. «Виноградники испугались», — сказала наша Мари в такой же вот угрюмый летний день, тридцать лет тому назад. Снова раскрыл тетрадь. Да, вон какой у меня теперь почерк. Наклоняюсь, внимательно всматриваюсь в торопливо набросанные буквы, в строчки, подчеркнутые ногтем. Я все-таки доведу до конца свои записи. Мне надо, обязательно надо все сказать. Теперь я знаю, кому предназначить свою исповедь. Только вот многое придется уничтожить, а иначе им не под силу будет выдержать. Иные страницы я и сам не могу перечесть спокойно. То и дело останавливаюсь, закрываю лицо руками. Вот человек, вот некий человек среди людей — вот я. Может быть, вас и тошнит от таких, как я, а все же я существую.
В ночь с тринадцатого на четырнадцатое июля, расставшись с Робером, я едва дотащился до своей комнаты, кое-как разделся, с трудом лег в постель. Какая-то неимоверная тяжесть навалилась мне на грудь, я задыхался, но, несмотря на жестокое удушье, не умер. Окно оставалось раскрытым. Будь я на пятом этаже, то... А если броситься со второго этажа, пожалуй, не убьешься, — только эта мысль и останавливала меня. Я едва мог протянуть руку и взять со столика пилюли, которые обычно мне помогают.
На рассвете наконец услышали мой звонок. Привели врача, он сделал мне укол. Стало легче дышать. Мне предписана полная неподвижность. При жестокой боли мы становимся послушны, как малые дети, и я не смел пошевелиться. Отвратительный зловонный номер, безобразные обои, мерзкая мебель, праздничный гул и шум в день Четырнадцатого июля — ничто меня не удручало: боль стихла, а большего я не желал. Как-то вечером пожаловал Робер и с тех пор не показывался. Но мать его приходила каждый день, сразу после работы, и проводила у меня часа два; она оказывала мне кое-какие услуги, приносила почту (письма мне адресовывались «До востребования») — от родных не было ни одного письма.
Я не жаловался, был очень кроток, принимал все прописанные мне лекарства; когда я заговаривал с матерью Робера о наших с ним планах, она уклончиво отвечала, что это не к спеху, и переводила разговор на другую тему. Я вздыхал: «Как же не к спеху?» — и указывал на свою грудь.
— У моей мамы припадки бывали сильнее ваших, а прожила она до восьмидесяти лет.
Однажды утром мне стало гораздо лучше, давно уже я так хорошо себя не чувствовал. Я очень проголодался, но все, что мне подавали в этом семейном пансионе, было несъедобно. У меня явилась дерзкая мысль пойти позавтракать в маленьком ресторанчике на бульваре Сен-Жермен — мне нравилось, как там кормят. Да и драли там меньше, чем в других парижских ресторанах, куда я имел обыкновение заглядывать, — всегда я там садился за стол, боясь разориться, испытывал гнев и удивление, когда подавали счет.
Такси довезло меня до угла улицы Ренн. Я прошелся немного, чтобы испробовать свои силы. Все складывалось хорошо. Время еще было раннее — только что пробило двенадцать, и я решил зайти в кафе «Де Маго» выпить стакан виши. Усевшись в зале на мягком диванчике, я рассеянно смотрел на бульвар.
Вдруг меня кольнуло в сердце. На террасе кафе, отделенной от меня лишь зеркальным стеклом, я увидел знакомые узкие плечи, плешь на макушке головы, седеющий затылок, плоские и оттопыренные уши — за столиком сидел Гюбер, уткнувшись в газету и водя по строчкам близорукими глазами. Очевидно, он не заметил, как я вошел в кафе. Тяжко колотившееся больное сердце постепенно успокоилось. Я был полон злорадства: я за тобой слежу, а ты об этом и не подозреваешь.
Странно! Мне казалось, что Гюбер может сидеть на террасе кафе только на Больших бульварах. А что ему делать в этом квартале? Несомненно, он сюда явился с какой-то целью. Я решил выждать и заранее расплатился за виши, чтобы уйти, не задерживаясь, если понадобится. Гюбер все посматривал на часы, очевидно, ждал кого-то. Я догадывался, кто сейчас прошмыгнет между столиками и подойдет к нему, и был почти разочарован, когда у тротуара остановилось такси и оттуда вылез супруг Женевьевы. Альфред был в соломенной шляпе-канотье, надетой набекрень. Вдали от жены этот низенький сорокалетний толстяк взыграл духом, вырядился в слишком светлый костюм, ярко-желтые ботинки. Провинциальное щегольство моего зятя представляло резкий контраст со строгой элегантностью Гюбера, который, по словам Изы, одевается «как настоящий Фондодеж».
Альфред снял шляпу и вытер потный лоб. Потом залпом выпил поданный ему стаканчик анисовой. Гюбер встал из-за столика и посмотрел на часы Я приготовился двинуться за ними. Они, конечно, поедут в такси. Попробую и я взять такси и выследить их, — дело трудное! Но и то уж хорошо, что я их увидел; остается только узнать, зачем они прикатили в Париж. Я подождал, пока они выйдут на тротуар. Такси они, однако, не подозвали, а пошли пешком через площадь. Мирно о чем-то беседуя, они направились к Сен-Жермен-де-Пре. Вот чудо, вот радость, оба вошли в церковь!
Вряд ли полицейский испытывает такое ликование, видя, как вор входит в «мышеловку». Я даже чуточку задыхался от волнения. Пришлось немного подождать, ведь они могли обернуться: сын мой, правда, близорук, но у зятя зрение хорошее. Преодолев усилием воли свое нетерпение, я минуты две постоял на тротуаре, а затем тоже вошел в церковь.
Было это в начале первого часа. Осторожно ступая, я прошелся по главному и почти пустому приделу и вскоре убедился, что тех, кого я ищу, там нет. У меня мелькнуло подозрение: вдруг они увидели меня и нарочно вошли в церковь, чтобы сбить меня со следа, а сами ускользнули через боковые двери. Я повернул обратно и решил обойти правый придел, прячась за огромными колоннами. И вдруг в самом темном углу, в глубокой нише, я обнаружил их. Оба сидели на стульях, а посередине, как бы зажатое ими с двух сторон, сидело третье действующее лицо, смиренно сгибавшее сутулую спину. Появление этого персонажа нисколько меня не удивило. Я ведь пять минут тому назад ждал в кафе, что к столику моего законного сына приползет этот жалкий червяк Робер. Я предчувствовал это предательство, но из-за усталости, из лени мне не хотелось думать о нем. С первой нашей встречи мне стало ясно, что у такого ничтожества, у такого раба нет ни капли смелости; а его мать преследуют воспоминания о прошлом ее столкновении с судейскими властями, — конечно, она-то и посоветовала сыну войти в сговор с моей семьей и продать им секрет как можно дороже. Я смотрел на длинную спину дурака Робера: плотно его стиснули два этих крупных буржуа! Один из них, а именно Альфред — что называется, добрый малый, думает только о своей непосредственной выгоде, ничего дальше своего носа не видит (что, впрочем, шло ему на пользу), а у другого, у моего любезного сынка Гюбера, есть и дальновидность, и крепкие клыки, а обращение с людьми резкое и властное (черта, унаследованная от меня). Робер окажется совершенно беспомощным против него. Я следил за ними из-за колонны, как наблюдаешь иной раз за пауком и мухой, заранее решив раздавить и паука и муху. Робер все ниже опускал голову. Должно быть, он сначала дерзко заявил: «Пополам!» Он вообразил, что сила на его стороне. Но они живо раскусили этого дурня, он выдал себя с головой и теперь уж никак не мог диктовать условия. Один лишь я, невидимый свидетель этой борьбы, знал, насколько она бесполезна, бесплодна, и чувствовал себя всесильным божеством; готовясь уничтожить этих жалких насекомых своей всемогущей дланью, раздавить под своей пятой этот клубок змей, я тихонько смеялся. Не прошло и десяти минут, как Робер уже не смел пикнуть. Гюбер говорил не умолкая — должно быть, отдавал распоряжения, а Робер угодливыми кивками изъявлял готовность повиноваться и так сутулился, что спина у него стала совсем круглая. Альфред же, развалясь на соломенном стуле, покачивался, заложив ногу на ногу, и запрокидывал голову, — мне была видна, так сказать, вверх дном, его желтовато-смуглая и толстая сияющая физиономия, окаймленная черной щетиной отросшей бороды.
Наконец они встали. Я двинулся вслед за ними. Они шли не спеша, — Робер шагал посредине, понурив голову, как вор между двумя жандармами; заложив за спину большие красные руки, он вертел в них потрепанную фетровую шляпу грязно-серого цвета. Я думал, что меня уже ничем не удивишь, но я ошибался. Когда Альфред и Робер уже выходили из двери, Гюбер, отстав от них, окунул руку в кропильницу со «святой водой», потом повернулся к алтарю и широко перекрестился.
Теперь мне ни к чему было торопиться, беспокоиться. Зачем идти за ними, выслеживать? Я знал, что в тот же день, вечером, или самое позднее завтра утром ко мне прибежит Робер и будет просить поскорее выполнить мой замысел. Как же мне его встретить? Еще успеется подумать об этом. Я чувствовал усталость и присел на стул отдохнуть. Сейчас больше всего меня занимало, заслоняло все остальное и страшно раздражало ханжество Гюбера. Какая-то молоденькая, скромно одетая девушка села на стул впереди меня и, положив рядом с собой шляпную картонку, опустилась на колени. Мне виден был ее профиль и чуть склоненная шейка; взгляд был устремлен вдаль, на те самые створки запрестольного образа, на который так истово перекрестился Гюбер, исполнив свой семейный долг. Вошли два семинариста — один, очень высокий и худой, напомнил мне аббата Ардуэна; другой был маленького роста, с пухлым детским лицом. Они опустились на колени рядышком и застыли. Я проследил направление их взгляда и не мог понять, что же они видят. «В общем, — думал я, — ничего здесь нет, кроме тишины, прохлады, запаха ладана, воска и каменных сыроватых стен». Вновь мое внимание привлекло лицо молоденькой модистки. Глаза у нее теперь были закрыты. Ресницы были длинные, и мне вспомнились закрытые глаза Мари, лежавшей в гробу. Я чувствовал, что вот здесь — так близко, рядом со мной, и вместе с тем бесконечно далеко от меня — неведомый мне мир доброты. Иза часто говорила мне: «Ты видишь только дурное, только зло... Ты всюду и во всех видишь зло...» Это была правда и в то же время неправда.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Я завтракал; на душе у меня было легко, почти весело. Такого ощущения внутренней свободы и благополучия я давно не испытывал, как будто предательство Робера не только не расстроило моих планов, а наоборот, послужило им на пользу. В моем возрасте человеку, жизнь которого уже давно висит на волоске, нечего копаться в себе и искать причин внезапных скачков, резких перемен в настроении: они физиологичны. Миф о Прометее символически выражает ту мысль, что вся мировая скорбь зависит от больной печени. Но кто же осмелится признать такую простую, такую грубую истину. Меня не мучили боли. Мне доставлял приятные вкусовые ощущения чуть поджаренный бифштекс. Я был доволен, что порция большая, — значит, можно не тратиться на второе блюдо. На десерт я решил взять сыру — это и сытно, и дешево.
«Как мне держать себя с Робером? — думал я. — Надо брать другой прицел, но сейчас я устал и не могу сосредоточить внимание на этих вопросах. Да и к чему забивать себе голову планами. Лучше всего положиться на вдохновение». Не смея признаться себе в этом, я предвкушал ожидавшее меня удовольствие — уж я всласть позабавлюсь, поиграю, как кошка, с этим жалким мышонком, Робером. У него нет и тени подозрения, что я проведал о его предательстве. Жестоко это будет с моей стороны? Вообще жесток я или нет? Да, жесток. Не больше, чем кто-нибудь другой, чем все другие, чем дети или женщины. Жесток — как все (и тут мне вспомнилась молоденькая модистка из церкви Сен-Жермен-де-Пре) — как все те, кто не чтит кроткого агнца.
Я нанял такси и вернувшись к себе, на улицу Бреа, лег в постель. Студенты, основные жильцы этого семейного пансиона, разъехались на каникулы по домам. Я отдыхал, наслаждался тишиной и покоем. А все же эту меблированную комнату с застекленной дверью, задернутой грязной занавеской, никак уже не назовешь уютным гнездышком. Со спинки кровати в стиле Генриха II отваливается накладная резьба — отпавшие кусочки бережно хранятся на полке камина в позолоченной бронзовой корзиночке. Глянцевитые обои с муаровым узором усеяны целой россыпью жирных пятен. Даже при отворенном окне в воздухе стоит запах, исходящий от ночной тумбочки, хоть она и украшена нарядной столешницей из красного мрамора. Стол накрыт ковровой скатертью горчичного цвета. Весьма любопытная обстановка — образец уродства и безвкусных мещанских притязаний.
Меня разбудил шелест юбки. У моего изголовья появилась мать Робера, и прежде всего я увидел ее улыбку. Если б я даже ничего не знал о совершившемся предательстве, то одно уж подобострастие этой женщины навело бы меня на мысль о нем. Чрезмерная ласковость — явный признак вероломного поступка. Я тоже улыбнулся своей гостье и заверил ее, что чувствую себя гораздо лучше. Двадцать лет тому назад нос у нее был не такой толстый, а большой рот блистал тогда превосходными зубами, которые унаследовал от нее и Робер. Теперь же ее сияющая, широкая улыбка обнажала вставную челюсть. Должно быть, она шла быстро, и едкий запах, который она распространяла вокруг, победоносно боролся с запахом, исходившим от тумбочки с доской из красного мрамора. Я попросил ее распахнуть настежь окно. Она выполнила просьбу, затем подсела ко мне и, опять подарив меня улыбкой, сообщила, что раз я поправился, то Робер всецело в моем распоряжении для «того самого дела». Завтра, в субботу, он как раз будет свободен с двенадцати часов дня. Я напомнил ей, что по субботам банки после двенадцати не работают. Тогда она сказала, что Робер отпросится в понедельник с утра. Его, конечно, отпустят. Да, впрочем, теперь ему нечего и считаться с хозяевами.
У нее был очень удивленный вид, когда я решительно заявил, что Роберу не следует бросать сейчас работу, надо подождать еще несколько недель. Прощаясь со мной, она пообещала навестить меня завтра вместе с сыном, но я попросил, чтобы Робер пришел один: сказал, что мне хочется немножко побеседовать с ним, получше узнать его... Бедная дурочка не могла скрыть свое беспокойство: она, конечно, боялась, как бы сын не выдал себя. Но когда я говорю внушительным тоном и смотрю внушительным взглядом, никому и в голову не придет ослушаться меня. А ведь наверняка она сама убедила Робера пойти на сговор с моими детьми; я слишком хорошо знаю эту кислятину, этого труса, который боится всего на свете, и прекрасно могу себе представить, в какое смятение должен был привести его подобный замысел.
На следующее утро этот подлец явился, и с первого же взгляда мне стало ясно, что его муки превзошли все мои предположения. Веки у него покраснели, опухли, — очевидно, он совсем лишился сна; бегающие глазки не смели смотреть на меня. Я его усадил, выразил беспокойство по поводу его болезненного вида, словом, был с ним очень ласков, почти нежен. С мастерским, адвокатским красноречием я принялся рисовать картину открывающейся перед ним райской жизни. Я куплю на его имя в Сен-Жермене дом с парком в десять гектаров. В доме все до единой комнаты будут обставлены старинной мебелью. В парке — пруд, а в нем — прекрасная рыба; во дворе — гараж на четыре автомобиля. Я придумывал и расписывал все новые и новые соблазны. Когда я заговорил об автомобиле и предложил купить машину лучшей американской марки, я увидел, что его терзают жестокие муки. Очевидно, он обязался не принимать от меня при жизни ни гроша.
— Никто и ничто вас не будет тревожить, — добавил я. — Купчую вы подпишете сами. Я уже отложил и передам вам в понедельник некоторое количество ценных бумаг, они обеспечат вам годовой доход в сотню тысяч франков. При такой ренте можно жить спокойно в ожидании лучшего. Но большая часть моего состояния находится в Амстердаме. На будущей неделе мы с вами туда съездим и сделаем необходимые распоряжения... Что с вами, Робер?
Он пролепетал:
— Нет, не надо... я ничего не возьму при вашей жизни... Мне это неприятно... Я не хочу обирать вас. Пожалуйста, не настаивайте, мне тяжело слушать.
Он стоял, прислонившись к шкафу, поддерживая одной рукой локоть другой руки, и грыз себе ногти. Я пристально смотрел на него, а ведь моих глаз боялись в суде и адвокаты противной стороны, и их подзащитные; когда я выступал на стороне истца, я не сводил глаз с ответчика, сверлил взглядом свою жертву — человека, сидевшего на скамье подсудимых, и случалось, он, не выдержав моего пронизывающего взгляда, падал без чувств на руки жандармов.
В сущности, я был благодарен Роберу, я дышал теперь свободно, ведь было бы ужасно последние дни жизни посвятить такому убогому существу. Я не испытывал ненависти к нему. Я решил отбросить его, не причинив ему вреда. Но я не мог отказать себе в удовольствии еще немного поиздеваться над ним.
— У вас похвальные чувства, Робер. Очень похвальные. Как мило, что вы решили подождать моей смерти. Но я не приму такой жертвы. В понедельник вы получите все, что я обещал, а в конце недели я переведу на ваше имя большую часть своего состояния (он замахал руками, забормотал). Что это значит? Или берите, или поставим на всем крест, — сухо добавил я.
Отводя глаза в сторону, он попросил несколько дней на размышления — хотел, конечно, выгадать время, чтобы написать в Бордо и получить оттуда указания. Идиот несчастный!
— Вы меня удивляете, Робер. Право, удивляете!.. Очень странно вы себя ведете.
Я думал, что смягчил выражение своих глаз, хотя сделать это невозможно — взгляд у меня суровее, чем я сам. Робер пролепетал чуть слышно:
— Почему вы так на меня смотрите?
— Почему я так смотрю на тебя? — переспросил я, невольно передразнивая его. — А почему ты не можешь выдержать моего взгляда?
Люди, избалованные всеобщей любовью, как-то безотчетно, инстинктивно находят те самые слова и жесты, которые привлекают все сердца. А я настолько привык вызывать во всех ненависть и страх, что у меня и глаза, и брови, и голос, и смех покорно становятся пособниками этого грозного дара, порою даже помимо моей воли. Так было и тут: я хотел, чтобы взгляд мой выражал снисходительность, а несчастный малый корчился от ужаса. Я рассмеялся, а мой смех показался ему зловещим. И, наконец, — так выстрелом в упор добивают затравленного зверя, — я вдруг спросил:
— Сколько они тебе предложили, те-то?
Итак, я заговорил с ним на «ты», и в этом было, хотел я того или нет, презрение, а не милостивая насмешка. Он пробормотал: «Кто предложил?» — и вскинул на меня глаза, полные почти благоговейного ужаса.
— Да те два господина, — ответил я. — Один толстый, другой — худой. Да, да, худой и толстый!
Мне уже хотелось поскорее кончить эту игру. Противно стало затягивать ее, но ведь как-то не сразу решишься раздавить каблуком сороконожку.
— Да успокойтесь вы, — сказал я наконец. — Я вас прощаю.
— Я не виноват... Я не хотел... Это...
Я зажал ему рот рукой. Невыносимо было бы слушать, как он взваливает вину на свою мать.
— Т-шш! Не надо никого называть... Ну скажите же, сколько они вам предложили Миллион? Пятьсот тысяч? Меньше? Не может быть! Триста тысяч? Двести?
У него был самый жалкий вид. Он качал головой.
— Нет. Ренту обещали выплачивать, — сказал он еле слышно. — Рента нас и соблазнила, это надежнее. Двенадцать тысяч франков в год.
— С нынешнего дня?
— Нет, когда они наследство получат... Они ведь не могли угадать, что вы сейчас же захотите все положить на мое имя. А теперь уже поздно... Ну да, они могли бы притянуть меня к суду... Разве только вот скрыть от них... Ах, какой же я дурак! Вот мне и наказание...
Он плакал, сидя на краешке моей постели, и был весьма уродлив в эту минуту; одна его рука беспомощно свесилась, огромная красная рука, налившаяся кровью.
— Я же все-таки ваш сын, — всхлипывал он. — Не бросайте меня.
И неловким движением он попытался обнять меня за шею. Я мягко отстранил его. Потом подошел к окну и, не оборачиваясь, сказал:
— С первого августа вы будете ежемесячно получать по полторы тысячи франков. Я немедленно дам распоряжение, чтоб эта рента выплачивалась вам пожизненно. В случае чего рента будет перенесена на имя вашей матери. Моя семья, разумеется, не должна знать, что мне все известно о заговоре в церкви Сен-Жермен-де-Пре. (Тут он вздрогнул.) Я думаю, совершенно излишне предупреждать вас, что стоит вам проболтаться — вы все потеряете. Хотите получить прощение — держите меня в курсе всех козней против меня.
Теперь он знал, как трудно от меня что-нибудь скрыть и как дорого ему обошлось бы предательство. Я дал ему понять, что не желаю больше видеть ни его самого, ни его мамашу. Письма пусть адресуют мне до востребования все в то же почтовое отделение.
— Когда уезжают из Парижа ваши сообщники?
Он заверил меня, что они уже уехали вчера вечером. Я пресек его преувеличенные изъявления благодарности и поток обещаний. Он, несомненно, был потрясен: какое-то сказочное божество, намерения коего непостижимы, божество, коему он изменил, возносило его в небеса, низвергало в бездну, снова подхватывало... У него замирало сердце; он закрывал глаза, он всему покорялся... Изогнув спину, прижав уши, шелудивый пес ползком уносил кость, которую я ему бросил. Вдруг он спохватился и спросил, как и через кого он будет получать обещанную ренту.
— Вы будете получать ренту. Я своего слова никогда не нарушаю, — сухо ответил я. — Остальное вас не касается.
Держа руку на скобке двери, он сказал:
— Хорошо бы через какое-нибудь страховое общество... вроде как страховой полис или пожизненная рента... что-нибудь такое... Через солидное страховое общество... Так мне было бы спокойнее, я бы не расстраивался...
Я распахнул полуоткрытую дверь и вытолкнул его в коридор.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Прислонившись к камину, я машинально стал пересчитывать кусочки лакированных деревянных завитушек, лежавшие в бронзовой корзиночке.
Долгие годы я мечтал об этом незнакомом мне сыне. В унылой моей жизни меня не оставляло ощущение, что он существует. Где-то есть у меня сын, зачатый мною, я найду его, если захочу, и, может быть, он станет моим утешением. Живет он в очень скромной обстановке, но от этого он мне ближе; и так хотелось думать, что он не похож на моего законного сына — я наделял его в воображении той простотой и силой привязанности, которые нередко встречаются в народе. Словом, он был моей последней ставкой. Я знал, что, если она будет бита, мне уж нечего и некого ждать, — остается только отвернуться к стене и съежиться в комочек. За сорок лет я, как мне казалось, свыкся с ненавистью — меня ненавидели, и сам я ненавидел. А меж тем, подобно всем людям, я таил в душе сладостную надежду и, как умел, обманывал себя, стремясь утолить душевный голод, пока была возможность. А теперь все кончено.
Теперь у меня даже не будет постыдного удовольствия строить планы различных махинаций, пытаясь лишить своих детей наследства за то, что они желали мне зла. Теперь Робер навел их на верный путь: в конце концов они найдут все мои сейфы, даже те, которые взяты на чужое имя Изобрести что-нибудь другое? Эх, пожить бы еще немного и все, все пустить по ветру! А потом умереть, не оставив ровно ничего, — так, чтоб нечем было заплатить за нищенские похоронные дроги. Но ведь я всю жизнь дрожал над каждым грошом, столько лет скаредничал, утоляя свою алчность, — и где же мне, в моем возрасте, научиться проматывать деньги? Да и дети мои зорко будут следить за мной, думал я. Я не могу позволить себе никакого расточительства, каждая моя «неразумная» трата станет опасным оружием, которое они обернут против меня...
Увы! Мне не удастся разориться, потерять все свои капиталы. Ах, унести бы их с собой в могилу, истлевать в земле, сжимая в объятиях свое золото, банковые билеты, процентные бумаги! Доказать бы, что лгут святоши-проповедники, уверяя, что блага мира сего не следуют за нами в смерти! Или уж обратиться, что ли, в щедрого благотворителя? Ведь добрые дела — бездонная пропасть, которая может все поглотить. Разослать в конторы благотворительных обществ или сестрицам монахиням, заступницам бедняков, пожертвования от благодетеля, пожелавшего остаться неизвестным. Разве я не могу забыть о своих врагах и подумать о других людях? Но ведь в чем ужас старости? Старость — это итог всей нашей жизни, окончательный итог, в котором не изменить ни одной цифры. Шестьдесят восемь лет жизни привели к тому, что я стал стариком, полным ненависти к своим близким, таким я и умру. Каким я сделался, таким и останусь. А как бы хотелось стать совсем другим! Господи Боже, если б ты существовал!
В сумерках явилась горничная, постлала мне постель, ставней она не заперла. Я лег, не зажигая лампы. Уличный шум и свет фонарей не мешали мне дремать. Не раз я вдруг просыпался — как в вагоне, когда поезд остановится на станции, — и снова впадал в забытье. Я уже не чувствовал себя больным, и все же мне казалось, что мне остается одно — лежать в постели и терпеливо ждать, когда моя дремота сменится вечным сном.
Мне еще надо было сделать некоторые имущественные распоряжения, для того чтобы Роберу выплачивали обещанную мною ренту, а кроме того, сходить в почтовое отделение и взять письма, адресованные мне до востребования, — теперь некому было оказать мне этой услуги. Я уже три дня не просматривал своей корреспонденции. Ах, это ожидание какого-то важного, необыкновенно нужного, радостного письма, — оно так живуче, все переживает в душе человеческой; вот вам доказательство, что надежда в нас неискоренима, не вырвать ее, как цепкий сорняк пырей.
На следующий день я встал в полдень, мысли об ожидающей меня корреспонденции придали мне силы, и я отправился в почтовое отделение. Шел дождь, я не захватил с собой зонта и поэтому пробирался у самых стен. Вероятно, вид у меня был странный, прохожие оборачивались, глядели на меня. Мне хотелось крикнуть им: «Что во мне необыкновенного? Уж не принимаете ли вы меня за сумасшедшего? Только, пожалуйста, помалкивайте, а то мои дети сейчас же этим воспользуются. Не смотрите на меня так удивленно — я такой же, как все, только вот родные дети меня ненавидят, приходится от них защищаться. Но это вовсе не значит, что я сумасшедший. Иной раз я бываю в несколько возбужденном состоянии под действием всяких снадобий, которые я вынужден принимать из-за грудной жабы. Ну да, я разговариваю сам с собой, разговариваю, это потому, что я всегда один. А человеку нужно с кем-нибудь поговорить. Что же необыкновенного в том, что одинокий человек бормочет какие-то слова и жестикулирует?»
Почта, которую мне вручили, состояла из печатных извещений и реклам, нескольких банковских писем и трех телеграмм. В телеграммах, вероятно, шла речь о каком-то моем приказе на биржу, который маклеру не удалось выполнить. Я решил расположиться в ближайшем кабачке и там вскрыть их.
За длинными столами сидели перемазанные мелом и известкой каменщики всех возрастов и медленно жевали, поглощая скудные порции кушаний, запивали свой завтрак литром вина и почти не разговаривали друг с другом.
Они работали с утра, и всё под дождем. В половине второго снова примутся за работу. Был конец июля. На вокзалах полно было народу... Интересно, поняли бы каменщики мои терзанья? Конечно, поняли бы. Как же мне, старому адвокату, не знать этого? На первом же процессе, в котором я выступал, мне пришлось столкнуться с явлением, обычным в деревне: сыновья ссорились между собой, не желая кормить старика отца, и старались сплавить его друг другу. Бедняга каждые три месяца переходил из дома в дом, везде его проклинали. Сыновья с громкими воплями призывали смерть, которая избавила бы их от отца, и сам он звал ее как избавительницу. А сколько раз на фермах и мызах я наблюдал жестокую драму: старик отец долго упрямится и не выпускает из рук свое добро, потом, поддавшись на притворную ласку, все отдает, и тогда дети сживают его со света непосильным трудом и голодом!.. Да, наверное, такие истории были знакомы вон тому худому, жилистому старику каменщику, который сидел в двух шагах от меня и медленно перетирал хлеб голыми деснами.
Нынче никого не удивляет, если в кабачке сидит хорошо одетый старик. Я кромсал кусок беловатого кроличьего мяса и смотрел, как, догоняя друг друга, катятся по оконному стеклу капли дождя; потом старался прочесть фамилию хозяина заведения, написанную на наружной стороне витрины. Доставая носовой платок, я нащупал в кармане свою почту. Я надел очки и, взяв наугад одну из телеграмм, вскрыл ее: «Похороны мамы завтра двадцать третьего июля, отпевание девять часов церкви Сен-Луи». Послана была телеграмма утром в этот день, а две другие — позавчера, с промежутком в несколько часов; в одной говорилось: «Мама при смерти, возвращайся», а во второй: «Мама скончалась»... Все три подписаны были Гюбером.
Я скомкал телеграммы и продолжал завтракать, занятый одной мыслью — хватит ли сил сесть сегодня же вечером в поезд. Несколько минут я думал только об этом, и вдруг возникло другое чувство: удивление, что я пережил Изу. Ведь я стою на краю могилы. Решительно все — а уж я тем более — не сомневались, что я умру первым. В своих планах, хитростях, заговорах я имел в виду те дни, которые последуют за моей смертью, уже недалекой. Ни у меня, ни у моих родственников не возникало ни малейших сомнений на этот счет. Моя жена неизменно представлялась мне вдовой в длинной креповой вуали, мешающей ей отпереть сейф. Внезапный переворот во вселенной напугал бы и поразил меня не больше, чем эта смерть. Но вопреки всему во мне уже заговорил деловой человек, я принялся разбираться в создавшемся положении и прикидывать, какие преимущества оно может мне дать в борьбе с врагами. Вот какие мысли волновали меня до той самой минуты, как тронулся поезд. А тогда начало работать воображение: только тут я представил себе Изу на смертном одре и стал думать о том, что совершалось возле него вчера и позавчера. Я припоминал во всех мелочах обстановку ее спальни в Калезе (я не знал, что умерла она в Бордо). Я прошептал: «Теперь уже положили в гроб...» — и ощутил какое-то подлое чувство облегчения. А то ведь я не знал бы, как держать себя. Какие переживания изображать, ощущая на себе внимательные и враждебные взгляды своих детей? Теперь же вопрос решен. Но как вести себя на самих похоронах? По приезде я, конечно, слягу, и, таким образом, все трудности будут разрешены. Ведь не могу же я присутствовать на похоронах, у меня сейчас едва хватило сил добраться до уборной. Такая слабость меня не пугала: Иза умерла, значит, мне еще не скоро умирать, я пропустил свою очередь. Но в вагоне я боялся припадка, тем более что я был один в купе. На вокзале меня, конечно, встретят (я дал телеграмму), вероятно, приедет Гюбер...
Нет, встречал меня не Гюбер. Какое я почувствовал облегчение, когда передо мной вдруг появилась толстая, унылая, опухшая от бессонницы физиономия Альфреда! Мой вид явно испугал его. Я вынужден был опереться на его руку и не мог без его помощи сесть в автомобиль. Утро было дождливое, и оттого особенно угрюмым казался квартал, по которому мы ехали мимо городских боен и казарм. Мне не пришлось расспрашивать Альфреда: он сам рассказал обо всем, подробнейшим образом описал, в каком именно месте городского сквера Иза упала без чувств: не доходя оранжереи, у массива араукарий и кокосовых пальм; рассказал, как ее перенесли в ближайшую аптеку, а потом повезли домой и как трудно было внести грузное тело на второй этаж, в спальню; как пустили ей кровь, сделали пункцию... У нее оказалось кровоизлияние в мозг, но она всю ночь была в сознании, знаками звала меня, звала очень настойчиво, а потом впала в забытье, как раз когда пришел священник для миропомазания. «Но она накануне причащалась... Альфред хотел оставить меня у нашего подъезда, уже задрапированного черной тканью, и поехать дальше под тем предлогом, что он едва успеет переодеться для похорон. Но волей-неволей ему пришлось помочь мне вылезти из автомобиля и подняться по ступеням крыльца. Я не узнал нашей прихожей. Стены затянуты черным, гора цветов посередине и вокруг пылает целый лес свечей. Я зажмурился. Все было чужим, необычайным, странным, как во сне. Неподвижно стояли две монахини, должно быть, доставленные бюро похоронных процессий вместе со всем прочим. От этой выставки траурных тканей, цветов и трепещущих огней шла во второй этаж, к будничной жизни, самая обыкновенная лестница с потертой ковровой дорожкой. По ней спустился Гюбер, очень корректный, внушительный, одетый во фрак. Он протянул мне руку, что-то сказал. Голос его доносился до меня откуда-то издалека. Я хотел ответить, но только беззвучно шевелил губами, голос не слушался. Гюбер наклонился ко мне, лицо его стало огромным, и вдруг я провалился в черную бездну. Мне потом говорили, что обморок мой длился минуты три, не больше. Очнулся я в небольшой комнате, служившей приемной, когда я еще занимался адвокатурой. В носу у меня щипало от нюхательных солей. Я услышал голос Женевьевы: «Он приходит в себя...» Я открыл глаза, увидел склоненные надо мною лица. Они стали совсем не такими, как обычно, — одни были воспаленные, красные, другие зеленовато-бледные. Толстушка Янина казалась ровесницей матери. Особенно изменилось от слез лицо Гюбера, стало совсем некрасивым, но выражение его было трогательным — как в детстве, когда Иза брала плачущего сына к себе на колени и говорила: «Сыночек у меня такой маленький, а горе у него большое-большое!..» Только у красавца Фили, одетого во фрак, в котором он таскался по всем кабакам Парижа и Берлина, было скучающее и равнодушное лицо — таким он, верно, бывал, когда отправлялся на какую-нибудь пирушку или возвращался с ночного кутежа, пьяный и расхлябанный (он еще не успел завязать узел галстука). Позади Фили теснились какие-то женщины под траурными вуалями, я плохо различал кто: вероятно, Олимпия с дочерьми. В полумраке блестели чьи-то крахмальные манишки
Дочь поднесла к моим губам стакан, я отпил из него несколько глотков. Потом сказал, что мне лучше. Женевьева спросила, не хочу ли я лечь в постель. Я сказал первое, что мне пришло в голову:
— Мне хочется проводить ее до могилы, ведь я же не мог проститься с ней...
Как актер, пробующий найти верный тон, я повторил:
— Ведь я не мог проститься с ней... проститься с ней, — и вдруг эти банальные слова, сказанные лишь для приличия, лишь потому, что они соответствовали моей роли на похоронах жены, с нежданной могучей силой пробудили во мне то самое чувство, которое они и должны были выразить; лишь тут я понял то, что еще не доходило до моего сознания: больше я никогда не увижу Изы; не будет меж нами объяснения, она не прочтет моей исповеди. Навеки все останется таким, как было в Калезе, когда мы разговаривали в последний раз. Теперь уж ничего не перестроить заново, не зажить по-другому; она умерла, так и не узнав, что я был не только извергом и палачом, каким казался, но что жил во мне и другой человек. Даже если б я приехал лишь в последнюю минуту ее жизни, даже если бы мы не обменялись ни единым словом, она увидела бы слезы, струящиеся по моим щекам, как струятся они сейчас, и отошла бы, видя мою скорбь, мое отчаяние. А теперь вот только мои дети, онемев от изумления, взирали на это зрелище. Вероятно, они за всю свою жизнь ни разу не видели меня плачущим. Злобное и грозное старческое лицо, лицо Медузы, чей взгляд никто не мог выдержать, вдруг преобразилось, стало человеческим.
Я услышал, как кто-то сказал (кажется, Янина):
— Ах, если б вы не уезжали... Зачем вы уехали?
Да, зачем я уехал? Но разве я не успел бы вернуться? Успел бы, если б они послали телеграммы не до востребования, а на улицу Бреа!.. Гюбер неосторожно добавил:
— Уехали, не оставив адреса... Ведь мы не могли угадать...
И тогда мелькнувшая смутная мысль стала уверенностью. Ухватившись обеими руками за подлокотники кресла, я приподнялся и крикнул Гюберу в лицо:
— Лжешь!
Он забормотал:
— Папа, ты с ума сошел!
Я повторил:
— Да, вы все лжецы... Вы знали мой адрес. Погляди мне в глаза и посмей сказать, что вы не знали адреса!
Гюбер вяло возразил:
— Откуда же нам было знать?
— А ты ни с кем не встречался, кто имел ко мне весьма тесное отношение? Ну-ка, посмей это отрицать! Посмей.
Все, окаменев, смотрели на меня. Гюбер мотал головой, как ребенок, запутавшийся во лжи.
— Кстати сказать, недорого вы ему заплатили за предательство. Не очень-то вы щедры, дети мои. Двенадцать тысяч франков ренты несчастному малому за то, что он возвратил вам этакое состояние! Просто даром услужил.
Я захохотал, потом закашлялся. Дети мои не смели промолвить ни слова. Фили пробормотал сквозь зубы: «Грязная история!..»
Я продолжал свои разоблачения, только понизил голос, заметив умоляющий жест Гюбера:
— Из-за вас я не простился с ней. Вам был известен каждый мой шаг, но вы прятались от меня. Ведь если б вы послали телеграмму на улицу Бреа, я бы догадался, что меня предали. Ничто в мире не заставило бы вас сделать это, даже мольбы умирающей матери. Конечно, вы скорбели душой, но шли напролом™
Я выложил им все это, выложил и другие, более горькие истины. Гюбер взмолился:
— Да заставь его замолчать, Женевьева! Заставь его замолчать! — бормотал он прерывающимся голосом. — Люди услышат!
Женевьева обняла меня за плечи, опять усадила в кресло.
— Не надо, отец... Сейчас не надо... Поговорим потом, когда будем бодрее. А сейчас не надо. Заклинаю тебя именем матери... Ведь она еще тут, лежит в гробу™
Гюбер, побледнев, приложил палец к губам: вошел распорядитель похорон со списком тех важных особ, которые в процессии должны были идти у катафалка. Я встал с кресла, сделал несколько шагов. Я пожелал идти один и, пошатываясь, двинулся к двери. Стая домочадцев почтительно расступилась передо мной. Я еле-еле добрался до той комнаты, где стоял гроб, и опустился на колени. Тут подоспели Женевьева и Гюбер, подхватили меня под руки и повели. Я подчинился им. Очень трудно было подниматься по лестнице. Одна из монашек, стоявших у гроба, согласилась побыть у моей постели, пока идут похороны. Перед уходом Гюбер, как будто меж нами ничего и не было, спросил, хорошо ли он сделал, что внес в список почетных провожатых старшину сословия адвокатов. Я отвернулся к окну, по которому барабанил дождь, и не ответил.
Уже слышался топот ног. Наверное, весь город придет расписаться. С кем только мы не связаны по линии Фондодежей! А по моей! Суд, адвокатура, банки, весь деловой мир... Я испытывал блаженное состояние человека, оправдавшегося перед судом, доказавшего свою невиновность. Я обличил своих детей во лжи, они не посмели отрицать свою вину. Пока совершалась церемония прощания и весь дом гудел, словно шел в нем какой-то странный бал без музыки, я заставлял себя думать лишь о преступлении своих детей: они, и только они, виноваты в том, что я не простился с Изой... Но сколько я ни подхлестывал свою давнюю, застарелую ненависть, от этого у нее, словно у запаленной лошади, не прибавлялось силы. То ли от чисто физического ощущения отдыха, то ли от приятной мысли, что последнее слово осталось за мной, не знаю отчего, но я как-то смягчился.
До меня уже не долетало гнусавое бормотанье священников, служивших панихиду, затихли, удаляясь, скорбные песнопения, и, наконец, во всем нашем большом доме воцарилась такая же глубокая тишина, как в Калезе. Все его обитатели ушли провожать Изу. Она потянула за своим катафалком всех детей, всю родню и всю челядь. В доме остались только я да монахиня — сидя у моего изголовья, она перебирала четки и дочитывала молитвы, начатые у гроба покойницы.
В тишине я снова почувствовал скорбь вечной разлуки, непоправимой утраты. Снова у меня болезненно сжалось сердце, ибо теперь все было кончено — ничего мы с Изой друг другу больше не скажем. Я сидел в постели, опираясь на подушки, чтобы легче было дышать, и обводил глазами комнату, обставленную мебелью в стиле Людовика XIII, которую мы с Изой выбрали у Бардье в день нашей помолвки, — все эти вещи долго стояли в спальне Изы, пока не перешла к ней по наследству мебель матери. Вот эта кровать была печальным ложем мужа и жены, в молчании таивших обиду друг против друга.
Возвратившись с кладбища, Гюбер и Женевьева зашли ко мне, другие остались в коридоре. Я понял, что им очень уж непривычно видеть мое лицо, залитое слезами. Они постояли у моего изголовья; брат представлял собою странную фигуру; в утренние часы на нем фрак — вечерний туалет; а сестра — словно башня, задрапированная черными тканями; только носовой платок выделялся ярко-белым пятном, а из-под откинутой креповой вуали виднелось круглое и помятое красное лицо. Горе со всех нас сорвало привычную личину, и мы не узнавали друг друга.
Они справились, как я себя чувствую. Женевьева сказала:
— Почти все проводили до самого кладбища. Ее очень любили.
Я стал спрашивать, что было перед тем, как у Изы случился удар.
— Она все жаловалась на недомогание... может быть, у нее было предчувствие, ведь накануне возвращения в город она весь день провела в своей комнате, все что-то перебирала, сожгла в камине кучу писем... Мы даже думали, что в трубе сажа загорелась...
Я прервал ее, мне пришла важная мысль:
— Как ты думаешь, Женевьева, мой отъезд мог тут сыграть роль?
Женевьева с удовлетворением ответила:
— Это, конечно, было для мамы ужасным огорчением.
— Но вы ей ничего не сказали? Вы не сообщили ей о том, что вам удалось пронюхать?
Женевьева вопрошающе посмотрела на брата: можно ли показать, что она поняла, о чем идет речь? Должно быть, у меня было дикое выражение лица, — они оба перепугались, и пока Женевьева помогала мне сесть поудобнее, Гюбер торопливо доложил, что мама заболела недели через две после моего отъезда и что они решили на время болезни держать ее в полном неведении наших прискорбных раздоров. Правду ли он говорил? Он добавил дребезжащим голосом:
— Ведь если б мы уступили искушению и сказали ей об этом, то первые были бы виноваты...
Он отвернулся, и я увидел, что плечи его вздрагивают от рыданий. Кто-то приоткрыл дверь и осведомился, скоро ли наконец сядут за стол. Я услышал голос Фили: «Ну что тут такого? Я же не виноват... У меня просто под ложечкой сосет». Женевьева сквозь слезы спросила, что мне прислать поесть. Гюбер пообещал прийти после завтрака — тогда мы объяснимся раз и навсегда, если только у меня хватит сил выслушать его. Я кивком выразил свое согласие.
Когда они ушли, монахиня помогла мне подняться; я принял ванну, оделся, съел немножко бульону. Я не желал вести сражение в образе тяжко больного старика, которого противник щадит из сострадания и оказывает ему свое милостивое покровительство.
Когда мои дети вернулись, перед ними был уже совсем другой человек, отнюдь не возбуждавший жалости. Я принял снадобья, облегчающие приступы, сидел в кресле выпрямившись — я всегда чувствую себя гораздо бодрее, когда не валяюсь в постели.
Гюбер переоделся в визитку, а Женевьева закуталась в старый халат матери. «У меня нет ничего черного, нечего надеть...» Оба сели напротив меня, сказали несколько слов, приличествующих случаю, а затем Гюбер приступил к объяснению.
— Я очень много думал... — сказал он.
Он тщательно подготовил свою речь. Он говорил так торжественно, словно обращался к собранию акционеров, взвешивая каждое слово и старательно избегая всего, что могло вызвать скандал:
— Сидя у постели умирающей матери, я много думал, я заглянул в свою совесть, я попытался изменить прежнюю свою точку зрения на нашу распрю и поставить себя на твое место. Мы видели в тебе отца, которого неотступно преследует желание лишить своих детей наследства, и в моих глазах это делало наше поведение законным или хотя бы извинительным. Но мы дали тебе моральный перевес над нами своей беспощадной борьбой и своим...
Он замялся, подыскивая нужное слово, и я тихонько подсказал:
— ...своим подлым заговором.
Гюбер слегка покраснел. Женевьева вскипела:
— Почему же «подлым»? Ты гораздо сильнее нас...
— Полно вам! Тяжелобольной старик против целой стаи молодых волков...
— Тяжело больной старик в такой семье, как наша, пользуется большими преимуществами. Он не выходит из своей комнаты и тем не менее подстерегает всех и вся; следит за всеми, узнает привычки всех членов своей семьи и из всего извлекает пользу для себя. На досуге не спеша обдумывает в одиночку страшные удары и подготовляет выполнение своих замыслов. Он все знает о других, они же ничего о нем не знают. Ему известны места, где удобно подслушивать чужие разговоры (я не мог удержаться от улыбки, тогда и Гюбер вежливо улыбнулся). Ну да, — продолжал он, — в своей семье люди всегда держат себя неосторожно. В споре повышают голос, говорят громко, а в конце концов даже кричат, сами того не замечая. Мы слишком полагались на толщину стен нашего старого дома, забывая о том, что если стены и толстые, зато половицы тонкие. Да и окна зачастую бывают распахнуты настежь...
Насмешливые намеки немного разрядили атмосферу. Гюбер, однако, тотчас же заговорил серьезным тоном.
— Я вполне допускаю, что ты мог считать нас виноватыми перед тобой. Правда, как я уже говорил, мне очень легко сослаться на то, что это случай законной самозащиты, — но не стоит спорить, подливать масла в огонь. Не буду я также устанавливать, кто был зачинщиком этой прискорбной распри. Я даже согласен выступить в защиту виновного. Но ты должен понять...
Он поднялся, протер стекла очков. Глаза у него быстро мигали, лицо было худое, измученное, щеки впали.
— Ты должен понять, что я боролся во имя чести нашей семьи и будущности своих детей. Ты не можешь себе представить, каково наше положение, — ты человек прошлого столетия, ты жил в ту сказочную эпоху, когда благоразумный финансист мог делать ставку на надежные ценности. Я, конечно, понимаю, что ты всегда бывал на высоте обстоятельств — ты, например, раньше всех увидел приближение бури и успел вовремя реализовать процентные бумаги... Но ведь ты мог это сделать только потому, что находился вне предпринимательских дел, вне дел — именно «вне»; надо сказать прямо: ты — «не у дел»! Ты мог хладнокровно обсудить положение, все взвесить и действовать, как тебе вздумается, — ты был сам себе хозяин, а не был, как я, связан по рукам и ногам... Удар был слишком внезапным. Никто не успел обернуться в делах... Впервые случилось, что затрещали все ветки дерева разом. Не за что ухватиться, не на чем наверстать потерянное...
С какой тоской он повторял: «Не на чем...», «не на чем..» Далеко ли завлекли его долговые обязательства? Сильно ли он увяз? Может быть, уже тонет и судорожно бьется, пытаясь выплыть? Но тут Гюбер, спохватившись, что он слишком разоткровенничался, изрек несколько общеизвестных истин: послевоенное оборудование мощными машинами, перепроизводство, кризис потребления... Для меня неважно было, что именно он говорит, зато я внимательно присматривался к нему и видел, что он полон тревоги. И как раз в эти минуты я заметил, что ненависть моя умерла, угасло желание отомстить. Может быть, все это умерло уже давно. Я искусственно подогревал свою злобу, бередил свои раны. Но зачем же спорить с очевидностью? Глядя на своего сына, я испытывал чувство очень сложное, в котором, однако, преобладало любопытство. Одно мое слово — и в душе этого несчастного не осталось бы и следа тревоги, жестоких терзаний и ужаса, — а какими они казались мне теперь странными! Мысленно я видел перед собою свое богатство, в котором, как мне думалось еще совсем недавно, заключалась вся моя жизнь, богатство, которое я тщетно пытался подарить, потерять и которым даже не мог свободно располагать по своему усмотрению, — и что ж! теперь я больше не чувствовал никакой привязанности к этому богатству; более того, оно вдруг перестало меня интересовать и будто не имело ко мне никакого отношения. Гюбер, умолкнув, пристально и недоверчиво смотрел на меня сквозь стекла очков: «Что там еще отец затевает? Какой новый удар готовится нам нанести?» Губы у него уже складывались в страдальческую гримасу, он откинулся на спинку кресла и приподнял руку, как ребенок, боящийся, что его сейчас побьют. Он робко сказал:
— Я прошу тебя только об одном: помоги мне оправиться и укрепить свое положение. Вдобавок к тому, что мне достанется от мамы, мне понадобится (он замялся, не решаясь назвать сумму)... понадобится только один миллион. А когда положение выправится, то все пойдет как по маслу, тогда я и один справлюсь... А впрочем, решай сам, тебе виднее. Я обязуюсь подчиниться твоей воле...
Он умолк и судорожно проглотил слюну. Исподтишка он наблюдал за мной, но ничего не мог прочесть на моем лице.
— А как у тебя, дочка? — спросил я, поворачиваясь к Женевьеве. — У тебя, наверное, все хорошо. Твой муж человек осторожный...
Женевьеву всегда раздражало, когда хвалили ее мужа. Она возмущенно заявила, что их фирме пришел конец. Альфред уже два года не закупает рома, очевидно, полагает, что сейчас надежнее всего свернуть дело. Им, конечно, есть на что жить, но вот Фили грозится бросить жену и, несомненно, сделает это, как только станет ясно, что тесть обеднел.
Я пробормотал:
— А пусть бросает. Подумаешь, несчастье!
Женевьева торопливо заговорила:
— Ну, конечно, он ужасная дрянь, мы все это знаем, и Янина это знает. Но если он ее бросит, она умрет... Да, да, умрет! Тебе этого не понять, папа. Ты в таких делах несведущ. Янина знает о своем Фили всю подноготную — куда больше, чем нам известно. Она часто мне говорила, что он просто невообразимый негодяй. И все-таки, если он ее бросит, она умрет. Тебе это, несомненно, кажется нелепостью. Такие чувства для тебя не существуют. Но при своем огромном уме ты можешь понять даже то, что тебе самому совершенно чуждо.
— Ты утомляешь папу, Женевьева.
Гюбер думал, что его неловкая сестра «все испортит», да еще зря задевает мое самолюбие. Он, должно быть, заметил тоскливое выражение, появившееся на моем лице, не зная, какая причина вызвала во мне уныние. Где же ему знать, что Женевьева разбередила мою рану, неосторожно коснувшись больного места. Я вздохнул: «Счастливец Фили!»
Гюбер и Женевьева обменялись удивленным взглядом. Они вполне искренне всегда считали меня полоумным и, вероятно, со спокойной совестью упрятали бы меня в сумасшедший дом.
— Фили ужасный мерзавец! — проворчал Гюбер. — А мы у него в руках.
— Его тесть более снисходителен к нему, чем ты, — сказал я. — Альфред частенько говорил, что Фили не так уж плох, как о нем думают, — он просто озорник.
Женевьева вспылила.
— Он и Альфреда за собой тянет: зять развратил тестя, в городе это всем известно. Их вместе встречали с продажными женщинами... Какой позор! Такие вот огорчения и убили маму...
Женевьева приложила к глазам платок. Гюбер подумал, конечно, что я решил отвлечь их внимание от главного вопроса.
— Да разве об этом сейчас речь, Женевьева? — раздраженно спросил он. — Можно подумать, что во всем мире существуешь только ты и твои дети.
Разозлившись, Женевьева ответила, что еще неизвестно, кто из них эгоистичнее — она или Гюбер, и добавила:
— Разумеется, своя рубашка ближе к телу, каждый прежде всего думает о своем ребенке. Я всегда решительно все готова была сделать для Янины и горжусь этим. Как мать я все, все делала для нее. Я бы ради нее в огонь бросилась...
Язвительным тоном (узнаю свою кровь!) Гюбер заявил, что она «не только сама бросилась бы, но и других туда готова бросить».
Как меня в прежние дни позабавила бы их ссора! Я радовался бы этим раздорам, видя в них предвестника беспощадной драки из-за клочков наследства, которых мне не удастся лишить их. Но теперь мне противно, а главное — скучно их слушать. Надо раз и навсегда разрешить денежный вопрос. Пусть Дадут мне умереть спокойно.
— Как странно, дети!.. — сказал я. — Странно, что я в конце концов сделаю именно то, что казалось мне величайшим безумием...
Ого! Ссора сразу прекратилась. Оба противника уставились на меня жестким, недоверчивым взглядом. Они ждали, они насторожились.
— Ведь я всегда говорил себе: не забывай, что случилось со стариком крестьянином, арендовавшим у нас мызу. Все он отдал детям, а они, обобрав отца при жизни, предоставили ему умирать с голоду... А то еще и так бывает: затянется чересчур агония — детки положат старику на голову две подушки и нажмут немножко..
— Папа, умоляю тебя!
И в голосе, и в выражении лица чувствовался неподдельный ужас. Я сразу заговорил другим тоном:
— Тебе, Гюбер, много будет хлопот с разделом наследства. У меня вклады в нескольких банках; и здесь, и в Париже, и за границей. Да еще недвижимость — дома, земли, фермы.
При каждом моем слове у них все шире раскрывались глаза, но оба не смели поверить. Я заметил, как тонкая рука Гюбера то широко раскрывалась, то нервно сжималась в кулак.
— И пусть со всем этим будет покончено теперь же, еще до моей смерти, — вместе с разделом наследства от матери. За собой я оставлю в пожизненное пользование Калез — дом и парк (расходы по поддержанию в порядке и по ремонту — на ваш счет). О виноградниках я больше слышать не хочу. Будете мне выплачивать через нотариуса ежемесячную ренту, остается только определить ее сумму. Передай-ка мне бумажник, Гюбер... да, да, в левом кармане моего пиджака.
Дрожащей рукой Гюбер протянул мне бумажник. Я достал запечатанный конверт.
— Вот здесь ты найдешь сведения о размерах моего состояния. Можешь отнести этот пакет нотариусу Аркаму... Или нет, лучше позвони по телефону, попроси его прийти, я сам передам ему пакет и смогу тогда при тебе подтвердить ему мою волю.
Гюбер взял конверт и спросил с тоской:
— Ты не смеешься над нами? Нет?
— Ступай, позвони нотариусу. Сам увидишь, смеюсь я или нет.
Он бросился было к двери и вдруг спохватился.
— Нет, — сказал он, — сегодня неудобно... Надо подождать хоть неделю...
И он провел рукой по глазам. Несомненно, ему было стыдно, он хотел заставить себя думать о матери. Конверт он вертел в руках.
— Ну что ж, — подстрекнул я, — распечатай конверт и прочти, я тебе разрешаю.
Он торопливо подошел к окну, сорвал с конверта печать. Он не читал, а пожирал глазами опись. Женевьева не вытерпела: она встала и, вытянув шею, с жадностью заглядывала через плечо брата.
Я смотрел на своих детей. Вот брат и сестра Ничего нет в них ужасного. Гюбер — деловой человек, финансист, попавший в затруднительное положение, отец семейства; Женевьева — мать семейства; они нежданно получили миллионы, которые считали потерянными для себя. Нет, я и не видел в них ничего ужасного. Меня удивляло другое — собственное мое равнодушие. Я был подобен человеку, который перенес операцию и, очнувшись, говорит, что он ничего не почувствовал. Я вырвал из своей души то, к чему был, как мне казалось, глубоко привязан, то, что крепко вросло в самое мое нутра
Однако я испытывал только облегчение, чисто физическое чувство облегчения: мне было легче дышать. В сущности, что я делал уже многие годы? Все пытался избавиться от своего состояния, наделить им кого-нибудь, но обязательно чужого человека, не принадлежащего к моей семье. Всегда я обманывался, сам не знал, чего я хочу. Мы никогда не знаем, чего мы в действительности хотим, и вовсе не любим того, что, думается нам, мы любим.
Я услышал, как Гюбер сказал сестре:
— Огромное... огромное состояние!.. Ну просто огромное!
Потом они о чем-то поговорили шепотом, и вдруг Женевьева заявила, что они не могут принять такой жертвы с моей стороны, они не хотят, чтобы я всего лишил себя ради них.
Странно звучали в моих ушах слова: «жертву» и «всего лишить себя». Гюбер настаивал:
— Сегодня ты очень взволнован, потому и принял такое решение. Ты не так уж болен, как тебе кажется. Тебе еще нет семидесяти, а при грудной жабе люди доживают до глубокой старости. Через некоторое время ты раскаешься. Если хочешь, я избавлю тебя от материальных забот. Но владей себе спокойно тем, что тебе принадлежит... Мы хотим только, чтобы все было по справедливости. Мы всегда хотели только справедливости.
Меня одолевала усталость, они видели, что глаза у меня слипаются. Я сказал, что решение мое неизменно и впредь говорить об этом мы будем лишь в присутствия нотариуса. Они направились к двери, я, не поворачивая головы, произнес:
— Забыл вас предупредить, что я назначил ежемесячную ренту в полторы тысячи франков своему сыну Роберу — я обещал ему. Напомни мне об этом, Гюбер, когда мы будем подписывать у нотариуса акт.
Гюбер покраснел. Он не ожидал такой колкости. Но Женевьева по простоте душевной не заметила тут никакого подвоха. Широко раскрыв глаза от удивления, она быстро произвела подсчет:
— Восемнадцать тысяч франков в год! А тебе не кажется, что это слишком много?
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Лужайка сегодня светлее, чем небо. Промокшая насквозь земля дымится; в воде, затопившей рытвины, отражается мутная лазурь небосвода. Все меня занимает так же, как в те дни, когда Калез принадлежал мне. Моего здесь нет теперь ничего, а я не чувствую своей бедности. Льют дожди; в бессонные ночи я слышу их плеск, знаю, что из-за них гниет виноград, и все так же печалюсь, так же боюсь, как бы не погиб урожай, как и в те времена, когда я был хозяином виноградников. Думал я, что мне дорога моя собственность, а теперь понял, что во мне говорила вошедшая в плоть и кровь безотчетная привязанность к земле, инстинкт крестьянина, сына крестьянского, рожденного теми, кто испокон веков с тревогой вопрошает горизонт, что он сулит: дождь или погожий день. Рента, которую я должен ежемесячно получать, будет накапливаться у нотариуса: мне ведь ничего не нужно, и, в сущности, никогда не было нужно. Всю жизнь я был пленником страстей, которые в действительности не владели мной. Как собаку, что воет по ночам на луну, меня завораживал отраженный свет, отблеск. Подумайте, проснуться в шестьдесят восемь лет! Возродиться перед самой смертью! О, если бы дано мне было пожить еще несколько лет или хоть несколько месяцев, даже несколько недель...
Сиделку уже отправили обратно в город — я чувствую себя гораздо лучше. За мной будут ходить Амели и Эрнест, служившие при Изе, они умеют делать уколы; у меня под рукой все необходимые лекарства: ампулы морфина и нитрита. Сын и дочь — в городе, всё хлопочут, всё заняты делами по наследству, и в Калезе появляются лишь в тех случаях, когда им нужны какие-нибудь сведения для оценки той или иной части моего имущества. Все идет довольно мирно, без особых споров; из страха прогадать при дележе они приняли комическое решение все делить пополам, даже комплекты камчатного столового белья, наборы рюмок и сервизы. Они готовы разрезать надвое старинный гобелен или ковер, только бы он не достался кому-нибудь из них одному. Оба предпочитают все получить в разрозненном виде, зато поровну. Они ведь хотят, чтобы все было по справедливости, вот как они ее понимают — справедливость. Всю жизнь они украшали весьма пышными наименованиями самые низкие страсти... Нет, нет, — отказываюсь от своих слов, вычеркиваю их. Как знать, может быть, и они в плену у страсти, которая на самом-то деле не пустила в них глубоких корней?
А что они думают обо мне? Несомненно, оба считают, что я потерпел поражение и сдался. Они, видите ли, меня «одолели». Все же при каждом своем приезде в Калез они держат себя весьма почтительно и всё благодарят меня. Однако я вызываю у них удивление. Особенно настороженно наблюдает за мной Гюбер, у него нет уверенности, что я сложил оружие. Да успокойся ты, бедняга! Когда меня привезли в Калез выздоравливать, я и тогда не был очень-то опасен для вас... А уж теперь-то!..
По краям лугов вырисовываются длинные ряды вязов и тополей, поднимающихся друг над другом, а между темными их вереницами клубится туман — туман и дым: там жгут сорную траву; да еще вьется дымка испарений от напоенной дождями земли. Ведь сейчас у нас осень, гроздья, осыпанные дождевыми каплями, блещущими между ягодами, уже не нальются сладкими соками, — все отнял у них дождливый август. Не вернуть им потерянного. Поздно! Но для человека, может быть, никогда не бывает поздно. Я твержу себе, что для человека никогда не поздно.
На следующий день по возвращении в Калез я вошел в комнату Изы, но сделал это вовсе не из благоговейного чувства. Только безделье, только полная моя незанятость, которая мне (сам хорошенько не знаю) не то приятна, не то очень томительна, побудила меня отворить приоткрытую дверь в эту комнату, первую в коридоре слева от лестницы. Окно стояло раскрытое настежь, распахнуты были и дверцы шкафа, широко выдвинуты ящики комода. Слуги все оттуда вынесли, солнце проникало во все уголки, пожирая неосязаемые следы завершившейся человеческой судьбы. Был теплый сентябрьский день, жужжали проснувшиеся мухи. Густые круглые кроны желтеющих лип напоминали какие-то огромные плоды, тронутые пятнами. Небесная синева, густая в вышине, бледнела на горизонте над спящими холмами. Откуда-то донесся звонкий девичий смех; над виноградниками двигались золотистые на солнце шляпы — начался сбор винограда. Но жизнь, чудесная жизнь, ушла из комнаты Изы: лежавшие на дне шкафа перчатки и зонтик казались мертвыми. Я посмотрел на старый камин: резьба на среднем камне очага изображает грабли, лопату, серп и сноп пшеницы. Просторную топку этих старинных каминов, где могут пылать целые бревна, летом прикрывают широкими разрисованными экранами На нашем экране изображена была упряжка волов на пашне; однажды в детстве, разозлившись на что-то, я продырявил весь экран перочинным ножичком. Экран был косо прислонен к камину. Когда я хотел его отодвинуть и поставить как следует, он упал, открыв зияющий черный квадрат топки, где полно было золы. Мне вспомнилось, что рассказывал Альфред о последнем дне, проведенном Изой в усадьбе: «Она жгла бумаги, мы думали, что начался пожар...»
В эту минуту я понял, ясно понял: она чувствовала приближение смерти Нельзя одновременно думать о своей собственной смерти и о смерти других людей; меня неотвязно преследовала мысль, что смерть у меня за плечами, и я не замечал нервного напряжения Изы «Это ничего, это возрастное», — говорили бестолковые наши дети. Но она-то, разжигая в камине яркий огонь, знала, что смерть подкрадывается к ней. Она хотела исчезнуть полностью, уничтожить все следы своего существования. Я смотрел, как ветерок чуть шевелит в камине серые хлопья холодного пепла. В углу стояли щипцы, которыми пользовалась Иза. Я схватил их и погрузил в золу, в эту кучку праха, в это небытие. Я раскапывал ее, как будто под пеплом скрывалась тайна моей жизни, тайна наших жизней. Чем глубже вонзались в золу щипцы, тем плотнее становился ее слой.
Я вытащил несколько клочков бумаги — должно быть, уцелевших в середине толстой пачки, но на этих спасенных из пепла лоскутках сохранились лишь отдельные слова и непонятные обрывки фраз. Все написано было одним и тем же незнакомым мне почерком. Руки у меня дрожали, я упорно продолжал свои раскопки На крошечном, запачканном сажей обрывке мне удалось прочесть слово «рах»[1], а под маленьким крестиком стояло: «23 февраля 1913 г.» и обращение: «...дорогая дочь...» Я усердно старался разобрать обрывки фраз, написанных на обгорелой по краям странице, но восстановил только следующие строки: «Вы не несете ответственности за то, что этот ребенок вызывает в вас чувство ненависти, — она была бы преступной лишь в том случае, если б вы поддались ей. Меж тем вы всячески стараетесь...» С большим трудом я прочел еще: «...слишком смело с нашей стороны судить мертвых... его привязанность к Люку не доказывает...» Дальше все скрыла копоть, кроме следующей фразы: «Простите, не доискиваясь, какую именно вину вы прощаете. Отдайте ему свое...»
Еще успею поразмыслить обо всем этом, — сейчас надо искать, искать. И я искал. В неудобной позе, наклонившись так низко, что трудно было дышать, я раскапывал щипцами золу. Вытащил записную книжку в клеенчатом переплете — и весь затрепетал от волнения: книжка как будто была не тронута огнем, — но оказалось, что в ней не уцелел ни один листочек. Только на оборотной стороне переплета мне удалось прочесть несколько слов, написанных рукой Изы: «Букет духовный», а ниже: «Не зовусь я "Тот, кто проклинает", имя мое — Иисус». («О Христе», святой Франциск Сальский).
Дальше шли другие цитаты, но прочесть их было невозможно. Склонившись над этим прахом, я долго искал, но больше ничего не нашел. Наконец я встал, поглядел на свои черные от сажи руки. Увидел в зеркале, что и лоб у меня испачкан. Как в дни молодости, вдруг явилось желание уйти куда-нибудь в поле и ходить долго, долго. Забыв о своем больном сердце, я быстро сбежал с лестницы.
Впервые за много недель я направился в виноградники, где уже, один за другим, длинные ряды лоз лишались гроздьев и готовились к зимнему сну. Весь пейзаж вокруг был таким легким, прозрачным, воздушным и лазурно-переливчатым, как те голубоватые мыльные пузыри, которые когда-то Мари выдувала соломинкой Ветер и солнце уже подсушили колеи дорог и глубокие отпечатки воловьих копыт. Я шел, неся в своей душе неведомый мне прежде образ Изы — образ женщины, терзавшейся страстями, которые одному лишь Господу Богу под силу было укрощать. Прозаическую домовитую хозяйку пожирала ревность к сестре. Маленький Люк был ей ненавистен. Иза возненавидела ни в чем не повинного мальчугана! Что тут было причиной? Зависть? Боязнь за собственных детей? Ведь я любил Люка больше, чем их. Но она ненавидела и Маринетту... Да, да. Она страдала из-за меня: я обладал властью мучить ее. Безумие! Умерла Маринетта, умер Люк, умерла Иза. Все умерли, умерли! Я уже старик, я стою на краю той самой ямы, что поглотила их, и вот я радуюсь — радуюсь тому, что не был безразличен умершей женщине, что я вызывал в ее душе эти бури.
Смешно! И я в самом деле смеялся в одиночестве, кашляя и задыхаясь, ухватившись рукой за столбик, к которому привязана была виноградная лоза; а передо мной расстилались широкие просторы, затянутые бледной дымкой, где тонули деревни с колокольнями церквей, дороги и окаймлявшие их тополя. С трудом лучи заходящего солнца прокладывали себе путь к этому погребенному в тумане миру. Я чувствовал, я видел, я осязал свое преступление. Страшным было не только это мерзкое змеиное гнездо, эта ненависть к родным детям, жажда мести, алчность к деньгам; ужасным было то, что я ничего не видел иного, кроме переплетавшихся ядовитых гадюк. Я связан был с гнусным клубком змей, как будто он стал моим сердцем, как будто толчки моего сердца смешивались с кишением этих гадов. Мало того что на протяжении пятидесяти лет я знал в себе лишь то, что на самом-то дело не было мною, я так же поступал и с другими. Меня ослепляли те жалкие вожделения, которые я читал на лицах своих детей. В чертах Робера я замечал лишь тупость, обманчивая видимость все заслоняла от меня. Никогда внешний облик людей не представал перед моим взором как оболочка, которую нужно прорвать и, проникнув сквозь нее, увидеть истинную сущность человека. Мне следовало бы сделать это открытие раньше — в тридцать, в сорок лет. А теперь что ж? Теперь я старик, сердце у меня бьется медленно, вяло; в последний раз я вижу, как осень убаюкивает виноградники, окутывает их дымкой тумана и багрецом заката. Те, кого я должен был любить, умерли; умерли те, кто мог бы меня любить. А к тем, кто остался в живых, мне не найти дороги, не открыть их внутреннего облика, — не успеть мне, да и сил уже нет. Теперь во мне все, даже голос, даже движения, даже смех — принадлежат тому чудовищному уроду, которого я противопоставил миру, уроду, которому я дал свое имя.
Кажется, именно такие мысли бродили у меня в голове, когда я стоял в винограднике, опершись на столбик, и глядел на далекие луга Икема, залитые светом заходящего солнца. Случай, о котором я здесь расскажу, несомненно еще больше прояснил эти думы, но они уже возникли у меня в тот вечерний час, когда я возвращался домой, до глубины души проникнутый ощущением тишины и покоя, спускавшихся на землю; от деревьев протянулись длинные тени, весь мир был приятием, кротостью; дремавшие холмы как будто сгибали спину, казалось, они ждали туманов и мрака ночного — а тогда они, может быть, прилягут и уснут человеческим сном.
Я надеялся, что Женевьева и Гюбер уже приехали и ждут меня дома, — ведь они обещали пообедать со мной. Впервые в жизни я хотел, чтоб они побыли со мной, впервые радовался свиданию с ними. Мне не терпелось показать им новую свою душу. Ведь нельзя же, нельзя терять ни минуты, мне надо поскорее их узнать, и пусть они узнают меня. Успею ли я перед смертью проверить испытанием свое открытие? Я вихрем пронесусь по длинному пути, ведущему к сердцам моих детей, преодолею все преграды, разделяющие нас. Клубок змей наконец рассечен; я очень быстро завоюю любовь своих детей, и они будут плакать обо мне, когда закроют мне глаза.
Оказалось, они еще не приехали. Я сел на скамью близ дороги — все слушал, внимательно слушал, не загудит ли мотор. Чем больше они запаздывали, тем больше хотелось мне увидеть их. Вспыхнул было прежний гнев: им, значит, все равно, что я жду их тут, волнуюсь! Для них совсем неважно, что я из-за них мучаюсь, это они нарочно!.. Потом я спохватился: может быть, они запаздывают по какой-нибудь неизвестной мне, но уважительной причине; совершенно напрасно я по старой привычке злобствую. Прозвонил колокол, возвещая час обеда. Я направился в кухню сказать Амели, что надо еще немножко подождать. Весьма редко мне случалось заглядывать в эту кухню с почерневшими потолочными балками, к которым подвешены были окорока. Я сел на соломенный стул у огня. До моего появления Амели, ее муж и наш приказчик Казо весело разговаривали — я еще издали слышал их громкий смех. Как только я вошел, они умолкли. Всегда меня окружает атмосфера страха и почтения. Я никогда не разговариваю со слугами. Меня не назовешь требовательным, придирчивым хозяином. Нет, слуги просто не существуют для меня — я их не вижу, не замечаю. Но в тот вечер мне как-то было легче возле них. Раз мои дети не приехали, отчего бы мне не пообедать за некрашеным столом, на котором кухарка рубит мясо? Казо тотчас удрал, Эрнест принялся надевать белую куртку, в которой он всегда прислуживал мне за столом. Его молчание действовало на меня угнетающе. Я не мог придумать, что бы ему такое сказать. Мне ровно ничего не было известно об этой супружеской паре, которая верой и правдой служила мне уже двадцать лет. Наконец я вспомнил, что их дочь, выданная замуж в Совтер, однажды приезжала навестить родителей и привезла кролика, за которого Иза не стала ей платить, так как гостья пила и ела в нашем доме. Не поворачивая головы, я торопливо произнес:
— Ну что, Амели, как ваша дочка? Все в Совтере живет?
Амели склонила ко мне свое темное, обветренное лицо и, поглядев на меня, ответила:
— Да ведь вы же знаете — умерла она. Двадцать девятого числа, на святого Михаила, как раз десять лет будет. Разве вы не помните?
Муж ее ничего не сказал, только сурово посмотрел на меня: он подумал, что я нарочно притворяюсь, будто забыл об их несчастье.
Я пробормотал: «Простите меня... Стар стал... голова не работает...» И, как всегда, когда я чем-нибудь бываю смущен и робею, у меня вырвался тихий смешок — я не мог подавить этого нелепого смеха. Эрнест сказал обычным своим тоном: «Кушать подано».
Я встал и направился в плохо освещенную столовую, сел за стол напротив Изы — тени Изы. А вон там прежде сидела Женевьева, дальше — аббат Ардуэн, а рядом с ним — Гюбер... Я искал глазами стоявший когда-то между окном и буфетом высокий стульчик Мари — он после нее служил Янине, а потом дочери Янины. Я с трудом проглотил несколько кусочков; мне страшен был взгляд человека, прислуживавшего за столом.
В гостиной топился камин, жарко пылали сухие лозы. В этой комнате сменявшие друг друга поколения, как море, отступающее в часы отлива, оставили свои ракушки — альбомы, шкатулочки, дагерротипы, карселевские кенкеты[2]. В горках хранились мертвые безделушки Со двора доносился тяжелый стук конских копыт и скрип деревянного пресса для винограда, работавшего у самого дома Звуки эти надрывали мне сердце. «Дети, милые вы мои, почему не приехали?» — жалобно стонал я. Если бы слуги услышали, они, верно, подумали бы, что кто-то чужой сидит в гостиной, они не узнали бы моего голоса, не поверили бы, что так говорит тот негодяй, который, как они думали, притворился, будто ничего не знает о смерти их дочери. Жена, дети, хозяева и слуги — все, казалось, составили заговор против моей души и диктовали мне мерзкую мою роль. Я так и застыл в той злобной позе, какую принудили меня принять. Мой облик соответствовал образу, созданному их ненавистью ко мне. Экое безумие надеяться, что в шестьдесят восемь лет я поднимусь против течения и заставлю их увидеть во мне другого человека! А ведь я именно другой и всегда был другим! Мы же видим лишь то, что привыкли видеть. Вот я и вас-то не вижу по-настоящему, бедные мои дети. Будь я помоложе, не так резко определился бы у меня склад души, не так крепко укоренились бы привычки. Впрочем, я и в молодости вряд ли мог бы освободиться от злых чар. Сила для этого нужна Какая сила? Чья-то помощь нужна Да, нужен тот, кто поручился бы перед людьми, что я одержал победу над собой, тот, кому близкие мои поверили бы и увидели бы меня иным; нужен некий верный свидетель, кто сказал бы правду обо мне, снял бы с моих плеч мерзкое бремя и возложил его на себя...
Даже лучшие не могут одни, без помощи, научиться любить; для того чтобы не бояться смешных черт, пороков, а главное, людской глупости, нужно обладать тайной любви, которую мир уже не знает. И пока не откроют вновь эту тайну, напрасны будут старания изменить условия жизни людей; прежде я думал, что только из эгоизма я сторонился всех экономических и социальных проблем. Я был сущим чудовищем, замкнувшимся в своем одиночестве и равнодушии к людям, — это верно, но у меня было сокровенное чувство, смутная уверенность, что ничему не помогут революции и внешние перемены в облике нашего мира, — нет, надо проникнуть в сердце мира. Я ищу того единственного, кто мог бы одержать такую победу; надо, чтобы сам он был сердцем человеческих сердец, пылающим средоточием всей их любви. Желание мое, быть может, уже было молитвой. Еще бы немного, и, пожалуй, я опустился бы на колени и, облокотившись на кресло, сложил руки, — так делала в летние вечера Иза, а трое малышей стояли вокруг нее, цепляясь за ее платье. Возвращаясь с прогулки, я видел их в освещенное окно, старался приглушить свои шаги и, оставаясь невидимым в темном саду, смотрел на эту молящуюся группу! «Простершись пред Тобой, Господи, — вслух говорила Иза, — возношу Тебе благодарение за то, что дал Ты мне сердцем познать Тебя и возлюбить...»
А теперь вот я стою посреди этой комнаты, и ноги едва держат меня, я пошатываюсь, как будто меня ударили в грудь. Я все думаю о своей жизни, всматриваюсь в нее. Нет, не поднимешься против течения столь мутного, грязного потока. Таким я был ужасным человеком, что за всю жизнь у меня не нашлось ни одного друга. А все же, — говорил я себе, — не потому ли так случилось, что я никогда не умел надевать личину? Если б все люди ходили без масок, как я ходил в продолжение полувека, пожалуй, они дивились бы тому, что очень мало разницы в их нравственном уровне. Ведь если правду говорить, никто не показывает своего лица, никто! Большинство людей обезьянничают, рисуются, изображают возвышенные, благородные чувства. Сами того не ведая, они подражают литературным героям или кому-нибудь другому. Святые знали, видели, что у людей творится в душе, и потому ненавидели и презирали себя. Я не внушал бы окружающим отвращения, если б не показывал им свое нутро так открыто, так обнаженно, без всяких прикрас.
Вот какие мысли преследовали меня, когда я бродил в полумраке по гостиной, натыкаясь на тяжеловесную мебель из палисандрового или красного дерева — на увязнувшие в песках обломки прошлого моей семьи. Столько людей, чьи тела ныне уже истлели, когда-то опирались на эти столики, сидели в этих креслах, лежали на этих оттоманках. Малыши запачкали своими башмачками диван, когда забирались на него и, удобно расположившись, рассматривали картинки в переплетенном комплекте какого-нибудь иллюстрированного журнала на 1870 год. Обивка так и осталась темноватой в тех местах, где ее касались маленькие ножонки Ветер с воем носится вокруг дома, метет опавшие листья тополей. Опять позабыли запереть ставни в одной из спален.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
На следующий день я с тревожным нетерпением ждал почты. Я бродил взад и вперед по аллеям сада, как бродила когда-то Иза, с беспокойством поджидая запоздавших детей. «Что случилось? — думал я. — Поссорились они? Заболел кто-нибудь?» Я «ужасно расстраивался». По части придумывания всяких страхов я оказался таким же мастером, как Иза, и все не мог отогнать черные мысли. Я долго блуждал среди виноградников, ничего не видя, ничего не замечая, как это свойственно человеку, когда его гложет забота, но помнится, от моего внимания не ускользала перемена, происшедшая во мне. Я даже был доволен своей тревогой. В тумане гулко разносились все звуки, долину было слышно, но не видно. По длинным полосам виноградника разлетелись трясогузки и перепелки, осаждая еще не подгнившие гроздья. Люк в детстве любил эти утренние часы ранней осени...
Наконец принесли почту. Короткое письмецо Гюбера, присланное из Парижа, не успокоило меня. Он писал, что ему неожиданно пришлось выехать по срочному делу: довольно серьезные неприятности, о которых он расскажет по возвращении, вернуться же он собирается послезавтра. Я думал, что у него какие-нибудь осложнения со стороны финансовой инспекции — может быть, он позволил себе что-нибудь незаконное.
К середине дня я уже не мог выдержать, велел отвезти меня на вокзал и взял билет в Бордо, хотя обещал детям никогда не ездить один. Женевьева жила теперь в нашем старом доме. Я столкнулся с ней в передней — она прощалась с каким-то незнакомым мне человеком: вероятно, с доктором.
— Гюбер ничего тебе не сообщил?
Женевьева увела меня в ту самую приемную, где я лежал без чувств в день похорон Изы. Я вздохнул с облегчением, узнав, что речь идет о бегстве Фили — я опасался более страшного несчастья. Оказалось, что Фили бежал с женщиной, которая «держит его крепко», и что произошла ужасная сцена объяснения с Яниной; он был крайне жесток и не оставил жене никакой надежды. Бедняжка Янина сейчас в полной прострации, и ее состояние беспокоит доктора. Альфред и Гюбер догнали беглеца в Париже. Только что пришла телеграмма, из которой ясно, что они ничего не добились.
— Подумать только! Ведь мы давали им так много на содержание... Разумеется, мы были осторожны и никакого капитала им не выделили, но ренту назначили очень солидную. А Янина-то! Боже мой, какая слабохарактерность! Он умел добиться от нее всего, решительно всего! Подумать только! Прежде он грозился бросить ее из-за того, что ты, папа, нам ничего не оставишь, но ведь удрал он не тогда, а теперь, когда ты отдал нам все свое состояние. Как ты это объяснишь?
Она остановилась против меня и, подняв брови, удивленно смотрела на меня, широко раскрыв глаза. Потом прижалась к батарее и стала зябко потирать руки.
— А бежал он, разумеется, с весьма богатой женщиной?..
— Вовсе нет! С учительницей пения. Да ты хорошо ее знаешь — это госпожа Велар. Особа не первой молодости и видавшая виды. Какое там богатство! Едва на жизнь зарабатывает. Ну, как ты это объяснишь? — повторила она.
И, не дожидаясь ответа, она заговорила снова. В эту минуту появилась Янина. Она вышла в халате и подставила мне лоб для поцелуя. На мой взгляд, она не похудела, но в ее тяжеловесном, лишенном изящества облике отчаяние стерло черты, которые я терпеть не мог: это жалкое создание, прежде такое жеманное, неестественное, сбросило с себя все наносное и стало совсем простым. На нее падал жесткий свет люстры, но она даже не прищурила глаза. Она сказала только одно: «Вы уже знаете?» — и села на шезлонг. Слышала ли она слова своей матери, бесконечную обвинительную речь, не умолкавшую, вероятно, с того самого часа, как бежал Фили?
— Подумать только!..
Каждый свой ораторский период Женевьева начинала с восклицания «Подумать только!» — довольно странного в устах женщины, которая совсем на привыкла думать.
— Подумать только! — возмущалась она Какая неблагодарность! Выдали за него замуж прекрасную девушку, не посмотрели на то, что в двадцать два года он уже растратил немалое состояние, которое получил в наследство очень рано (он был круглым сиротой, не имел близких родственников, и пришлось освободить его от опеки). Семья жены сознательно закрывала глаза на его грязные похождения... И вот как он за все отблагодарил...
Во мне накипало раздражение, и я не мог его сдержать. Уснувшая застарелая злоба приоткрыла один глаз. Да разве сама Женевьева, Альфред, Иза и все их приятели не завлекали Фили всяческими посулами и «надеждами», не приманивали его?
— И любопытнее всего, — ворчал я, — что ты сама веришь своим россказням. Однако ты прекрасно знаешь, как вы гонялись за этим мальчишкой...
— Послушай, папа, не станешь же ты его защищать?..
Я заявил, что вовсе не собираюсь защищать Фили, а только хочу сказать, что мы были к нему несправедливы: он оказался не таким уж низким человеком, каким мы его считали. Вероятно, ему слишком бесцеремонно показывали, что раз супругу Янины обеспечена роскошная жизнь, то он должен терпеть все унижения, ходить у вас на цепочке — никуда ему теперь не убежать. Но люди не такие уж подлецы, как нам кажется.
— Подумать только! Ты защищаешь негодяя, бросившего молодую жену и малютку дочь?..
— Женевьева! — раздраженно крикнул я. — Ты меня не понимаешь. Ну сделай же над собой усилие, постарайся понять. Очень нехорошо, очень дурно, когда человек бросает свою жену и дочку, — это бесспорно. Но совершить такой проступок он может как из подлых побуждений, так и по причинам высокого порядка.
— Ах, вот что! — упрямо твердила Женевьева. — Ты, значит, считаешь, что муж поступает благородно, бросив двадцатидвухлетнюю жену и маленькую дочку.
Из круга этих рассуждений Женевьева не могла выйти, она ровно ничего не понимала.
— Нет, ты слишком глупа... А может, просто притворяешься, нарочно не хочешь понимать. Но я вот что скажу: Фили кажется мне не такой уж дрянью, с тех пор как...
Женевьева прервала меня и принялась кричать, чтобы я хоть подождал, пока Янина уйдет из комнаты, — для нее, бедняжки, оскорбительно, что я защищаю ее мужа. Но Янина, упорно молчавшая до той минуты, вдруг заговорила изменившимся, неузнаваемым голосом:
— Мама, зачем отрицать? Мы все старались на каждом шагу унизить Фили, мы готовы были с грязью его смешать. Вспомни — как только разделили наследство, мы стали командовать... Да, я вообразила, что его можно водить на поводке, как породистого красивого песика. Мне даже не так было больно, как прежде, что он не любит меня. Ведь я им владела, он принадлежал мне, стал моей собственностью: деньги-то были у меня в руках, — пусть попрыгает около меня, постоит на задних лапках. Это собственные твои слова, мама. Помнишь, как ты мне говорила: «Пусть теперь попрыгает около тебя, постоит на задних лапках!» Мы думали, что для него деньги дороже всего. Может быть, он и сам так думал, и все же стыд и гнев оказались сильнее. Ведь он не любит ту женщину, которая отняла его у меня, — он мне сам признался, когда уходил. И, несомненно, это правда. Он высказал мне столько горьких, жестоких истин, что можно этому поверить. Он ее не любит, но она не презирала его, не старалась унизить. Она отдалась ему, а не купила его. А я купила его, как приглянувшуюся безделушку.
Она несколько раз повторила эти слова, словно бичевала себя. Мать пожимала плечами, но радовалась, что Янина наконец заплакала: «Теперь ей станет легче...» И она принялась утешать дочь:
— Не бойся, душенька, он вернется. Голод и волка из лесу гонит. Когда перебесится да поживет в нищете...
Уверен, что Янине противно было слушать такие слова. Я встал и взялся за шапку. Мне невыносима была перспектива провести вечер в обществе дочери. Я уверил ее, что нанял автомобиль и вернусь на нем в Калез. И вдруг Янина сказала:
— Увезите меня с собой, дедушка.
Мать возмутилась: что за безумие! Янине надо быть в городе — она может понадобиться юристам. А кроме того, в Калезе ее «тоска заест».
Женевьева пошла за мной следом и, остановившись на лестничной площадке, осыпала меня резкими упреками за то, что я потакаю безумной страсти Янины.
— Было бы великим счастьем, если б ей удалось оторвать его от сердца. Неужели ты не согласен со мной? Найти какой-нибудь повод для развода совсем нетрудно, а когда Янина успокоится, она снова выйдет замуж. При ее состоянии она сделает великолепную партию. Но прежде всего надо, чтоб она разлюбила этого негодяя. А ты что делаешь? Ты терпеть не мог Фили, а теперь вдруг начинаешь восхвалять его. Да еще при ней... Ну уж нет, я не пущу ее к тебе в Калез. Воображаю, в каком настроении она оттуда вернется. Здесь-то мы в конце концов сумеем отвлечь ее от тяжелых мыслей, она позабудет...
«Если только не умрет от горя, — думал я. — Или же станет влачить жалкое существование, горе будет ее точить, ровное, неотвязное горе, которое не ослабеет со временем. А может быть, Янина принадлежит к той породе женщин, которая мне, старику адвокату, хорошо известна: у этих несчастных надежда становится болезнью, неисцелимым недугом, — они и через двадцать лет все еще ждут и смотрят на дверь глазами верной собаки».
Я вернулся в комнату, где Янина сидела неподвижно все на том же месте, и сказал:
— Приезжай, когда вздумается, детка... Всегда буду рад тебя видеть.
Она не шевельнулась, ничем не показала, что поняла меня. Вошла Женевьева и, недоверчиво глядя на меня, спросила: «Что ты ей сказал?» Оказывается, она потом обвиняла меня, что за эти несколько секунд я «совратил» Янину — потехи ради забил ей голову всякими вредными идеями А я, спускаясь по лестнице, все вспоминал, как бедная моя внучка крикнула: «Увезите меня с собой...» Да, она попросила меня увезти ее Я инстинктивно сказал о Фили те самые слова, которые ей так хотелось услышать. Быть может, я был первым, кто не оскорбил ее.
Я шел по улицам Бордо, иллюминованным по случаю начала школьного года. Блестели тротуары, мокрые от моросившего дождя. Голоса шумных южан перекрывали грохот трамваев. Аромат моего детства исчез; пожалуй, я бы нашел его в более мрачных кварталах, на улице Дюфур-Дюбержье или на улице Грос-Клош. Может быть, там какая-нибудь старушка еще торгует каштанами — стоит себе на углу темной улицы, прижимая к груди дымящийся горшок с печеными каштанами, которые пахнут анисом. Нет, мне совсем не было грустно. Ведь в тот вечер меня услышали, поняли. Мы с Яниной объединились — это была победа. Но с Женевьевой нельзя договориться, и я потерпел поражение: против некоего определенного вида тупости я бессилен. Нетрудно найти путь к живой душе, увидев ее даже сквозь преступления, сквозь самые плачевные пороки, но вульгарность — непреодолимая преграда. Что ж, ничего не поделаешь, так и решим: невозможно расколоть каменные плиты всех этих могил. Я буду счастлив, если мне перед смертью удастся достигнуть душевной близости хотя бы с одним человеческим существом.
Я переночевал в гостинице и вернулся в Калез только на следующее утро. Несколько дней спустя меня навестил Альфред, и от него я узнал о тяжелых последствиях моей беседы с Женевьевой. Янина написала Фили совершенно безумное покаянное письмо, поспешила заявить, что сама во всем виновата, и просила у мужа прощения. «Женщины всегда такие глупости вытворяют...» Благодушный толстяк не осмелился выразить свою мысль, но я уверен, что ему очень хотелось сказать: «Она идет по стопам своей бабушки...
Альфред дал мне понять, что процесс теперь можно заранее считать проигранным, и ответственность за это Женевьева возлагает на меня: я нарочно «заморочил голову» Янине. Я только улыбнулся и спросил зятя, — как он думает, чем я в данном случае руководствовался Он заверил меня, что нисколько не разделяет мнения своей жены, но она полагает, что я поступил так ради забавы, из мести, а может быть, просто «из чистейшей злобы».
Дети больше не приезжали ко мне. Через две недели я получил письмо от Женевьевы: она сообщала, что Янину пришлось поместить в нервно-психиатрическую лечебницу. Конечно, о сумасшествии тут не может быть и речи. Врачи возлагали большие надежды на эту лечебную изоляцию.
Я тоже оказался в изоляции, хотя и не по причине болезни. Уже давно сердце не давало мне такой долгой передышки. Куда больше двух недель стояли сияющие теплые дни — осень медлила завладеть миром. С деревьев не упал еще ни один листок, опять зацвели розы. Одно было плохо — мои дети вновь отдалились от меня. Гюбер появлялся только для того, чтобы поговорить о делах. Он поражал меня своей сухостью, чопорностью. Говорил он со мной весьма учтиво, но видно было, что держится настороже.
Из-за своего «вредного» влияния на Янину, в котором меня обвиняли, я утратил всю завоеванную мною симпатию моих детей. Вновь я стал в их глазах врагом, коварным, на все способным злобным стариком. Янину, единственное существо, которое, быть может, поняло бы меня, заперли, отделили ее от живых людей.
И все же я познал глубокий душевный покой. Лишенный всего, одинокий старик, над которым нависла угроза мучительной смерти, я оставался уравновешенным, бодрым, не терял остроты ума. Меня не тяготили мысли о моей печальной жизни. Я не чувствовал бремени прожитых лет и одиночества, словно не был больным и старым, словно впереди у меня была еще долгая жизнь, словно мир, овладевший моей душой, был живым и благостным существом.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Уже месяц, как у меня живет Янина, — я приютил ее, когда она убежала из лечебницы. Бедняжка еще не поправилась, считает себя жертвой заговора: говорит, что ее заперли в сумасшедший дом за то, что она отказалась начать процесс против Фили, требовать развода и аннулирования брачного контракта.
Все родственники воображают, будто я внушаю Янине такие мысли и восстанавливаю ее против близких; однако это неверно: с тех пор как она в Калезе, я целыми днями (а в деревне они тянутся бесконечно) упорно борюсь с ее иллюзиями и химерами. Погода ужасная — дождь, слякоть; гниют в грязи опавшие мокрые листья. По двору, усыпанному гравием, люди проходят в тяжелых сабо — вон кто-то идет, накинув углом на голову мешок. Осень начисто оголила деревья, и сразу выступили убогие ухищрения, придававшие саду «живописность»: решетчатые своды беседочек, переплеты трельяжей и жидкие купы декоративных растений, озябших от непрестанных холодных дождей.
В спальнях такая пронизывающая сырость, что вечером у нас с Яниной не хватает мужества расстаться с уютной гостиной, и мы подолгу сидим у камелька. Бьет полночь, а все не хочется подниматься на второй этаж к себе в комнату; терпеливо сложенная горка огненных углей постепенно обрушивается на серый слой золы, — а мы беседуем. Снова и снова приходится убеждать мне свою внучку, что ни ее родители, ни ее брат, ни дядя Гюбер не хотят ей зла. Стараюсь, как могу, чтоб она не вспоминала о психиатрической лечебнице. Но вот от воспоминаний о муже отвратить ее невозможно, и мы все время о нем говорим. «Вы не можете себе представить, что это за человек!.. Вы ровно ничего о нем не знаете!..»
Вслед за этими словами следует то обвинительная речь, то дифирамбы — и только по тону, которым Янина произносит это вступление, я могу угадать, будет ли она восхвалять своего Фили или обливать его грязью. Но воспевает ли она его или чернит, факты, которые она приводит, кажутся мне весьма незначительными. Янина вообще совсем лишена воображения, однако любовь наделила ее удивительной способностью преобразовывать, искажать и во всех случаях преувеличивать реальные факты. Да ведь я знаю твоего Фили! Он — ничтожество, и только быстролетная юность на мгновение облекла его красой своих лучей. Этому избалованному мальчишке, живущему «на всем готовеньком», ты приписываешь то высокие, тонкие чувства, то вероломные замыслы, обдуманное коварство, а на самом деле у него и мыслей-то нет никаких — одни рефлексы.
Ты и твои родители не понимали, что ему хотелось чувствовать себя сильнее вас, что он задыхался в атмосфере рабского подчинения. Зачем вы очень уж высоко поднимали подачки и заставляли его прыгать? Он из той породы собачек, которым такая дрессировка не нравится, и они удирают туда, где их не утомляют и любезно подносят кормежку прямо на полу.
Бедняжка Янина ни малейшего понятия не имеет, какова сущность ее милого Фили. Да что она может разглядеть, когда у нее все заслоняет тоска о нем, потребность, чтоб он был возле нее, жажда его ласк, которыми он иногда ее дарил, ревность и ужас сознания, что она потеряла его. Лишенная глаз, обоняния, щупальцев, она, обезумев, бежит за ускользнувшей добычей, сама не зная, кто же он — тот, за кем она гонится... Говорят, отцовская любовь слепа. Янина мне — внучка, но даже будь она моей дочерью, я все же видел бы ее такою, какова она в действительности. Нет в ней ничего обаятельного, черты лица правильные, но фигура неуклюжая, тяжеловесная, голос какой-то нелепый, писклявый; да вообще она из тех женщин, на которых мужчина не бросит острого взгляда, не задумается о них. А все-таки в эти вечера она казалась красивой той особой красотой, которую придает женщине любовное отчаяние. Может быть, и нашелся бы мужчина, которого привлек бы этот пылающий пожар. Но бедняжка сгорает на костре во мраке, в безлюдье — один лишь старик дед свидетель ее пытки.
Мне жаль Янину, и в эти долгие вечера я терпеливо выдерживаю бесконечные воспоминания о ее необыкновенном Фили, хотя этот юноша похож на миллионы других юношей, так же как заурядный белый мотылек неотличимо похож на всех прочих белых мотыльков; я слушаю и поражаюсь неистовой страсти, которую он один в целом мире в силах был зажечь в этой женщине, — такой исступленной страсти, что она заслонила для нее весь мир, видимый и невидимый; для Янины ничего не существует, кроме ее мужа, кроме молодого самца, уже немного потрепанного, готового предпочесть выпивку всем остальным удовольствиям и взирающего на любовь как на своего рода труд, утомительную обязанность... Вот убожество!
Янина едва замечает свою дочку, которая в сумерки тихонько пробирается к нам в гостиную. Мать, не глядя, касается поцелуем ее кудрявой головки. Нельзя сказать, что малютка не играла роли в ее жизни: только из-за дочери Янина находила в себе силы побороть неистовое желание броситься в погоню за Фили (она была бы способна назойливо преследовать его, то молить, то оскорблять, публично устраивать ему сцены). Нет, мне одному не удалось бы ее удержать дома, она оставалась только ради ребенка, но утешения в нем не находила. Девчушка как будто чувствовала это и вечером, когда мы сидели у огня в ожидании обеда, спешила забраться к дедушке на колени, как будто искала у меня прибежища. Волосики у нее были мягкие, как пух, пахло от них теплым птичьим гнездышком, и мне вспоминалась тогда Мари. Я закрывал глаза и, прильнув губами к детской головке, сидел тихонько, сдерживая желание крепко стиснуть в объятиях это маленькое существо. В сердце своем я призывал мою погибшую девочку. В то же время мне казалось, что я обнимаю и Люка. Иной раз поцелуешь ее, когда она разыграется, и чувствуешь, что щечки у нее чуть-чуть солененькие, как у маленького Люка в дни летних каникул, когда он, бывало, так набегается за день, что заснет за столом. Он не мог дождаться десерта и, отправляясь спать, обходил стол, подставляя всем подряд для поцелуя свою сонную усталую рожицу.
Вот о чем я думал, пока Янина, пленница своей любви, ходила взад и вперед, неустанно кружила по комнате.
Помню, как-то вечером она спросила:
— Как же мне быть теперь? Что сделать, чтоб не страдать?.. Как вы думаете, это пройдет?..
Ночь была холодная; вдруг, вижу, Янина подходит к окну, распахнула створки, раскрыла ставни, высунулась из окна, смотрит на сад, залитый лунным светом, и жадно дышит ледяным воздухом. Я отвел ее на место, усадил у огня и, хотя не привык к нежностям, неловко подсел к ней и обнял за плечи. Я спросил, нет ли у нее хоть какой-нибудь поддержки:
— Ты верующая?
Она рассеянно повторила:
— Верующая? — как будто не поняла меня.
— Ну, да, — сказал я, — ты веришь в Бога?..
Она вскинула горящие глаза, недоверчиво посмотрела на меня и наконец заявила, что не видит, «какое это может иметь отношение»... Я настойчиво повторил вопрос; тогда она ответила:
— Ну, конечно, я верующая. Хожу в церковь и вообще делаю все, что полагается. Почему вы спрашиваете? Вы смеетесь надо мной?
— Как ты думаешь, — продолжал я, — Фили достоин великого твоего дара?
Янина посмотрела на меня угрюмым, сердитым взглядом, какой бывает у ее матери, когда она не понимает, что ей говорят, не знает, как ответить, и боится попасть впросак. Наконец она рискнула:
— Никакой тут связи нет... Не люблю, когда к этим делам примешивают религию. Ну да, я верующая, а поэтому мне противны такие вот нездоровые сопоставления. Я же исполняю все, что предписывает религия...
Она изрекла это таким тоном, как будто доложила финансовому инспектору, что она «аккуратно платит все налоги». А ведь как раз я это и ненавижу и всю жизнь ненавидел эту грубую карикатуру, этот жалкий шарж на христианскую жизнь, а чтобы иметь право их ненавидеть, я притворялся, будто вижу в них подлинное христианство. Надо смело смотреть в лицо тому, что ненавидишь. Но ведь мне-то, — думал я, — мне-то уже известно было, что я сам себя обманывал. Я это знал еще в конце прошлого века, в тот вечер, когда вот тут, в Калезе, аббат Ардуэн сказал мне на террасе: «Вы очень добрый...» Разве это не верно, что я уже знал? А позднее я затыкал себе уши, чтоб не слышать тех слов, которые шептала умирающая Мари. А ведь именно тогда, у ее изголовья, мне открылась тайна смерти и жизни человеческой... Моя девочка умирала ради меня... Я хотел забыть это. Неустанно я старался потерять ключ к вратам тайны, а чья-то рука возвращала мне его на каждом решающем повороте моего жизненного пути. (Разве мне забыть взгляд Люка воскресным утром после мессы, в тот час, когда начинал стрекотать первый кузнечик?.. А та весенняя ночь, когда пошел град?..)
Вот какие у меня были думы в тот вечер. Помню, что я встал, так резко оттолкнув кресло, что Янина вздрогнула. Ночная тишь, царившая в Калезе, казавшаяся плотной, почти твердой, сковывала, приглушала ее скорбь. Огонь в камине угасал, в комнате постепенно становилось холоднее, Янина все ближе придвигала к очагу свой стул, ее ноги почти касались теплой золы. Она протягивала к тлеющим углям руки, склоняла голову. Лампа, стоявшая на каминной полке, освещала сверху ее низко согнувшуюся грузную фигуру, а я бродил поодаль, в полумраке гостиной, загроможденной старинной мебелью палисандрового и красного дерева. Я бессильно кружил вокруг этой человеческой глыбы, этого недвижного тела. «Детка моя...» Я искал и не находил нужных слов. Как меня душит нынче вечером, когда я пишу эти строки, как мучительно болит сердце, словно вот-вот разорвется, а все оттого, что оно исполнилось любви, и я знаю наконец имя, ее див. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Калез, 10 декабря 193...
Дорогая Женевьева!
На этой неделе кончу разбирать бумаги, которыми в отцовском столе набиты все ящики. Но я считаю своим долгом немедленно ознакомить тебя с весьма странным документом. Как тебе известно, отец умер за своим рабочим столом; когда Амели вошла к нему в кабинет утром 24 ноября, она увидела, что он сидит, уткнувшись лицом в раскрытую тетрадь — ту самую, которую я посылаю тебе заказным письмом.
Тебе, вероятно, трудно будет разобрать, что там написано, я тоже немало помучился. Однако хорошо, что почерк такой неразборчивый, — слуги, конечно, ничего не могли прочесть. Сначала я из деликатности хотел избавить тебя от чтения этой тетради: отец там пишет о тебе очень грубо, говорит очень обидные, оскорбительные слова. Но разве я имею право скрывать от тебя документ, который принадлежит тебе в такой же мере, как и мне? Ты ведь знаешь мою щепетильность в отношении всего, что так или иначе является наследством наших родителей. Поэтому я передумал и посылаю тетрадь. А впрочем, кого только отец не оскорбил на этих страницах, пропитанных желчью! Всем нам досталось. К сожалению, мы давно знаем, как он к нам относился, это для нас совсем не новость. Вся моя юность была отравлена тем презрением, которое моя особа почему-то вызывала у отца. Из-за этого я долго не верил в себя, в свои силы, я весь сжимался, чувствуя на себе его безжалостный взгляд; много лет прошло, пока у меня появилось наконец чувство собственного достоинства и сознание своей значимости.
Я все ему простил, скажу даже, что именно сыновний долг побудил меня ознакомить тебя с этим документом. Какое бы ты суждение ни вынесла об этих записях, в которых откровенно выражены ужаснейшие чувства, бесспорно то, что образ нашего отца предстанет теперь перед тобою — я не смею сказать более благородным, но, наконец, более человечным. (Я думаю, в частности, о его любви к нашей покойной сестре Мари и к маленькому Люку — ты увидишь трогательные свидетельства этой привязанности.) Теперь я лучше понимаю скорбь, которую он проявил у гроба бедной мамы. А помнишь, как мы были поражены? Ты думала, что он немного притворялся. Даже если эти страницы сослужат лишь ту службу, что они откроют тебе, какие страдания таило сердце этого непреклонного и безумно гордого человека, то уж ради одного этого, дорогая Женевьева, стоит прочесть его исповедь, как бы горько это ни было тебе.
Этой исповеди я обязан благодетельным чувством душевного успокоения, которое, несомненно, снизойдет и на тебя. Я от природы очень щепетильный человек. Пусть у меня будут тысячи оснований считать себя совершенно правым в том или ином случае, — достаточно какого-нибудь пустяка, чтобы смутить мою совесть. Ах, нелегко живется человеку, когда у него так развито нравственное чувство и деликатность, как у меня! Отец ненавидел и преследовал меня, а при каждом акте вполне законной самозащиты я испытывал жестокую душевную тревогу, если не сказать угрызения совести. Не будь я главой семьи, на котором лежит ответственность за честь нашего имени и за достояние наших детей, я бы предпочел отказаться от борьбы с отцом, лишь бы мне не знать этих терзаний, этого душевного разлада, — ведь ты неоднократно была свидетельницей моих мучений.
Благодарю Господа Бога, ибо по воле Его слова отцовских записей вполне оправдывают меня. Прежде всего они подтверждают то, что мы уже знали: он сам признается в тех махинациях, которые изобретал, желая лишить нас наследства. Не могу без краски стыда за отца читать те страницы, на которых он описывает придуманный им способ держать в своей власти и поверенного Буррю, и некоего Робера. Набросим на эти мерзкие интриги покров забвения. Однако из них с полной очевидностью явствует, что я обязан был во что бы то ни стало расстроить эти гнусные планы. Я это сделал, сделал весьма успешно и нисколько не стыжусь своего поступка. Я выполнил свой долг. Можешь теперь не сомневаться, сестра, — своим богатством ты обязана мне. В своей исповеди бедняга отец пытается убедить себя, что ненависть, которую он испытывал к нам, вдруг умерла, и кичится своим внезапным отречением от всех благ земных (признаюсь, я не мог удержаться от смеха, читая эти строки). Но обрати, пожалуйста, внимание, когда именно произошел этот нежданный поворот, — он произошел в тот момент, когда все его замыслы потерпели крушение, ибо его побочный сын продал нам тайну. Скрыть такое большое состояние не очень-то легко; план мобилизации, тщательно разработанный за несколько лет, не переделаешь за два-три дня. Истина очень проста: бедняга чувствовал, что конец его близок, что у него нет ни времени, ни возможности лишить нас наследства каким-либо иным способом, кроме того заговора, который мы, по милости провидения, раскрыли.
Не желая проиграть процесс ни перед самим собой, ни перед нами, наш знаменитый адвокат пустился на мошенничество — наполовину бессознательно (готов это допустить): он решил превратить свое поражение в некую моральную победу, он закричал о своем бескорыстии, о своем отречении от всего... А что ему еще оставалось делать, скажите на милость? Нет, меня этими фокусами не проведешь, и я уверен, что, как человек здравомыслящий, ты вполне согласна со мной. У нас нет никаких оснований таять от восторга и благодарности.
Но есть еще один вопрос, в котором исповедь отца принесла мне полное удовлетворение, и теперь на душе у меня спокойно. В этом вопросе я особенно строго анализировал себя перед судом своей требовательной совести и, признаюсь, долго не мог найти успокоения. Я имею в виду мои попытки, правда тщетные, подвергнуть отца обследованию психиатров, чтобы определить состояние его умственных способностей. Тут меня очень смущали доводы моей жены. Как тебе известно, я обычно не очень считаюсь с ее мнениями — она особа чрезвычайно неблагоразумная. Но она не давала мне покоя ни днем, ни ночью, все уши мне прожужжала своими рассуждениями, и, откровенно говоря, некоторые ее аргументы меня поколебали. В конце концов ей удалось убедить меня, что наш великий адвокат, делец, изворотливый финансист и глубокий психолог — самый уравновешенный человек на свете.
Разумеется, очень легко изобразить извергами детей, которые, боясь лишиться наследства, изо всех сил стараются запереть родного отца в сумасшедший дом. Видишь, я не боюсь слов и говорю вполне откровенно. Я провел немало бессонных ночей. Одному Богу известно, как я мучился.
Так вот, дорогая Женевьева, эта тетрадь, особенно некоторые ее страницы, с полной очевидностью свидетельствуют о том, что наш отец страдал перемежающимся помешательством. Я даже полагаю, что перед нами случай, весьма интересный с медицинской точки зрения; следовало бы передать эти записи психиатру. Но я считаю первым своим долгом не допускать разглашения документа, столь опасного для судьбы наших детей. Спешу тебя предупредить об этом и советую сжечь тетрадь немедленно по прочтении. Так страшно, что она может попасть в руки посторонних людей! Надо избежать этого. Мы всегда держали в тайне все, что касается наших семейных дел; я принял меры к тому, чтобы никто не знал о нашем беспокойстве по поводу душевной болезни отца: ведь как-никак — он глава семьи. Но, представь себе, некоторые субъекты, не принадлежащие к числу наших кровных, не проявили благоразумной сдержанности; в частности, отличился твой зять: негодяй рассказывал повсюду ужаснейшие истории об отце. Мы за это теперь дорого расплачиваемся. Вероятно, ты и сама знаешь, какие слухи ходят в городе. Очень многие сопоставляют неврастению Янины со всяческими эксцентричностями отца, которые ему приписывают на основании россказней Фили.
Итак, разорви и сожги эту тетрадь и не говори о ней никому; пусть не будет больше о ней речи и между нами. Должен сказать, что мне все-таки жаль ее уничтожать — там есть и психологические тонкости, и даже очень милые картины природы. У отца был, как видно, не только ораторский талант, но и писательская жилка. Что ж, тем более надо уничтожить тетрадь. Вообрази, вдруг кто-нибудь из наших детей позднее опубликует такую исповедь. Вот ужас! Но между нами нет места недомолвкам, мы можем называть вещи настоящими их именами и, прочтя эту тетрадь, должны сказать откровенно, что отец наш, бесспорно, был полусумасшедшим. Теперь мне понятны слова твоей дочери, которые я принимал за выдумку больного воображения: «Дедушка — единственный религиозный человек, который встретился мне в жизни». Бедняжка Янина приняла всерьез туманные устремления и мечтанья этого ипохондрика. Враг своих близких, человек, ненавидимый всеми, никогда не имевший друзей и, как ты увидишь из его записей, несчастный в любви (тут есть комические подробности), ревнивец, который не мог простить своей жене невинного девичьего флирта, — неужели он к концу жизни стал искать утешения в молитве? Нисколько не верю такому обращению; из тех строк, где об этом говорится, явствует другое: перед нами ярко выраженное умственное расстройство, мания преследования, навязчивые идеи помешанного, принявшие религиозную форму. Тебе может прийти мысль: а не было ли тут настоящей христианской веры? Нет. Говорю это совершенно уверенно, ибо в таких вопросах я хорошо разбираюсь и знаю, чего стоит подобное благочестие. По правде сказать, лжемистицизм отца вызывает у меня непреодолимое отвращение.
Как женщина, ты, возможно, отнесешься к этому иначе. Однако, если ты готова поверить нежданной религиозности отца, вспомни, что он поразительно умел ненавидеть, но любить мог только назло кому-нибудь. В исповеди он расписывает свои религиозные порывы, а на самом деле преподносит нам прямую или косвенную критику тех принципов, в которых мать воспитывала нас с самого детства. Он ударился в неистовый мистицизм лишь для того, чтобы ему удобно было нападать на разумную, умеренную набожность, которую в нашей семье всегда уважали. Истина — это равновесие... На этом я кончаю, не буду развивать дальше своих мыслей и утомлять тебя долгими рассуждениями. Я сказал обо всем достаточно, сама ознакомься с записями. С нетерпением жду ответа. Хочется поскорее узнать твои впечатления.
Места осталось мало, а надо еще ответить на твои вопросы о вещах очень важных. Дорогая Женевьева, мы переживаем сейчас период кризиса, и нам нужно разрешить чрезвычайно острую, тревожащую нас проблему — как быть с наследством? Если мы будем хранить в сейфе пачки банковых билетов, то придется проживать свой капитал, а ведь это истинное несчастье. Если же купить на бирже процентных бумаг и стричь купоны, тоже радости мало: курс ценных бумаг непрерывно падает. А раз уж, так или иначе, приходится нести убытки, то разумнее всего сохранить кредитные билеты Французского банка; франк стоит нынче только четыре су, но все же он обеспечен огромным золотым запасом. Отец видел все это очень ясно, и мы должны следовать его примеру. У французов укоренилась весьма опасная наклонность во что бы то ни стало помещать свой капитал в какое-либо предприятие; с этим соблазном, дорогая Женевьева, борись изо всех сил. Жить надо, конечно, не на широкую ногу, а соблюдать строжайшую экономию. Если тебе понадобится совет, я всегда в твоем распоряжении, — ты это знаешь. Несмотря на тяжелые времена, могут иной раз представиться случаи выгодно поместить капитал; я сейчас очень внимательно слежу за одной маркой коньяка и анисовой водкой: в торговых делах такого типа кризиса не будет. И, по-моему, нам нужно смотреть в эту сторону, действовать смело и вместе с тем осторожно.
Очень рад приятным вестям о Янине. Сейчас нечего бояться накатившей на нее чрезмерной набожности. Важно то, что она отвлеклась от постоянных мыслей о Фили.
Все остальное само собой придет в норму: Янина из нашей породы, а у нас всегда умели не злоупотреблять самыми лучшими удовольствиями.
До свидания, дорогая Женевьева. В среду увидимся.
Твой любящий брат
Гюбер.
Янина — Гюберу
Дорогой дядя!
Прошу Вас — рассудите нас с мамой. Она отказывается дать мне дедушкин «дневник». По ее словам, стоит мне прочесть его, и от моего преклонения перед дедушкой ничего не останется. Но если она так оберегает дорогую мне память, зачем же она твердит каждый день: «Ты и представить себе не можешь, как плохо он отзывается о тебе!.. Даже твою наружность не пощадил!» Еще больше меня удивляет то, что она очень охотно дала мне прочесть Ваше письмо, в котором Вы комментируете этот «дневник»...
Устав бороться со мной, мама наконец сказала, что даст мне прочесть дедушкины записи, если Вы сочтете это уместным, — она всецело полагается на Вас. И вот я взываю к Вашему чувству справедливости. Прежде всего позвольте сразу же устранить препятствие, которое касается лично меня: как бы жестоко дедушка ни судил обо мне в своем «дневнике», я уверена, что сама я осуждаю себя еще строже. Главное же, я уверена, что его суровость не относится к той несчастной женщине, какой я была, когда жила близ него в Калезе всю осень, до самой его смерти.
Простите меня, дядя, но я никак не могу согласиться с Вами в одном, очень существенном вопросе: я единственный свидетель последних недель жизни дедушки и знаю, каковы были его чувства в то время. Вы осуждаете его туманную и нездоровую религиозность, однако позвольте Вам сказать, что в Калезе он трижды встречался с приходским священником (один раз в конце октября и два раза в ноябре). Отчего Вы не хотите спросить у священника об этом? По словам мамы, в «дневнике», где дедушка отмечает даже мелкие события своей жизни, ничего не говорится об этих встречах, а если б с ними был связан перелом в душевной настроенности дедушки, о них непременно было бы написано. Но ведь мама говорит также, что «дневник» прерван на середине слова; несомненно, смерть постигла дедушку в ту минуту, когда он хотел сказать о своей исповеди. И напрасно было бы возражать, что если он получил отпущение грехов, то пошел бы к причастию. Я помню, какие слова мне говорил дедушка за день до своей смерти: его преследовала мысль, что он еще недостоин принять причастие, бедняжка решил подождать до Рождества. Ну почему Вы мне не верите? Почему думаете, что у меня галлюцинации? Было именно так, как я утверждаю: в среду, за день до смерти, в гостиной своего дома в Калезе он говорил со мной об этом желанном для него рождественском дне; у меня все еще звучит в ушах его голос, полный тоски, быть может, уже угасающий, тихий голос.
Успокойтесь, дядя, я не собираюсь превращать дедушку в святого. Я согласна с Вами — он был странный, а иногда просто ужасный человек. И все же в последние дни жизни в нем совершилось просветление. И ведь только он один обхватил руками мою голову и силой отвратил мой взгляд от...
А не кажется ли Вам, что Ваш отец был бы совсем другим человеком, если б и мы были иными. Не думайте, что я хочу бросить в Вас камень; я знаю Ваши достоинства, знаю, что дедушка был очень несправедлив к Вам и к моей маме. На наше несчастье, он принимал нас за примерных христиан... Пожалуйста, не спорьте. После смерти дедушки я свела знакомство с людьми, у которых есть свои недостатки, свои слабости, но они живут так, как им велит их вера, и они полны милосердия. Если бы дедушка жил среди таких людей, быть может, он уже давно бы увидел те врата, к которым он подошел лишь накануне смерти.
Повторяю, я не хочу обвинять все наше семейство, чтобы оправдать его неумолимого главу. Главное, я не могу забыть, что пример бабушки должен был бы раскрыть ему глаза, а он так долго стремился лишь к одному — отомстить за свою обиду. Но позвольте мне сказать в заключение, почему я все-таки считаю его правым перед нами: ведь там, где были сокровища наши, там было и сердце наше — мы думали только о наследстве, которого боялись лишиться. Конечно, у нас было достаточно оправданий: ведь Вы, например, финансист, а я слабая женщина... А все-таки у нас у всех, кроме бабушки, жизнь не соответствовала нашим принципам. Уста наши говорили «верую», а мысли, желания и поступки не были связаны корнями с этой верой, которую мы исповедовали на словах. Все силы души у нас устремлены были к обладанию материальными благами, тогда как дедушка... Поймете ли Вы меня, если я скажу, что сердце его было не там, где были его сокровища. Я готова поклясться, что его «дневник», который мне не дают прочесть, неопровержимо свидетельствует об этом.
Надеюсь, дядя, на Вашу чуткость и с полным доверием к Вам жду ответа.
Янина.
Примечания
1
Мир (лат.).
(обратно)2
Масляные лампы.
(обратно)


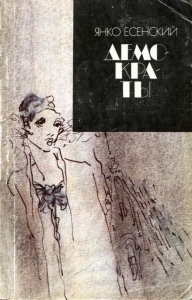

Комментарии к книге «Клубок змей», Франсуа Мориак
Всего 0 комментариев