Ги де Мопассан На воде
В этом дневнике нет ни связного рассказа, ни занимательных приключений. Прошлой весной я совершил прогулку на яхте вдоль побережья Средиземного моря и ради забавы ежедневно записывал все, что я видел и что думал.
Видел я море, солнце, облака и скалы, — больше сказать мне не о чем, — а думал я попросту, не мудрствуя, как думаешь на воде, когда волны уносят тебя, баюкают и навевают дремоту.
6 апреля.
Я спал глубоким сном, когда шкипер Бернар бросил горсть песку в мое окно. Я растворил его, и в лицо мне, проникая в грудь и в самую душу, повеяло чудесной ночной прохладой. На чистом бледно-голубом небе трепетно мерцали живые огоньки звезд.
Шкипер стоял под окном у подножья стены. Он сказал:
— Погодка подходящая, сударь.
— Ветер какой?
— Береговой.
— Хорошо, иду.
Полчаса спустя я уже скорым шагом спускался к берегу. Небо чуть серело на горизонте, вдали, за бухтой Ангелов, виднелись огни Ниццы, а еще дальше — мигающий глаз маяка Вильфранш.
Впереди, смутно выступая из редеющего сумрака, антибские башни высились над выстроенным пирамидой городком, вокруг которого еще стояли древние стены, возведенные Вобаном.
На улицах безлюдно, только пробежит собака или пройдет человек в рабочей одежде. В порту тишина, вдоль набережной лениво покачиваются на волнах тартаны[1], еле слышно плещет вода. Только, натянувшись, звякнет якорная цепь или зашуршит лодка, задев за борт судна. Корабли, прибрежные скалы и само море — все спокойно спит под золотой россыпью звезд, и миниатюрный маяк, который несет караул на дальнем конце мола, зорко охраняет свой маленький порт.
А там, напротив верфи строителя Ардуэна, я вижу свет, угадываю движение, слышу голоса. Меня ждут. «Милый друг» готов к плаванию.
Я спустился в каюту, где мерцали две свечи, прикрепленные наподобие буссолей к стойке диванов, которые ночью служили кроватями; надел кожаную куртку, теплую фуражку и снова поднялся на палубу. Концы уже были отданы, и оба матроса, выбирая цепь, подтягивали якорь. Потом они поставили парус, и он медленно поднялся под жалобный скрип блоков рангоута. Широкое белое полотнище развернулось в темноте, заслоняя небо и звезды, уже колеблясь под порывами ветра.
Ветер, прохладный и сухой, дул с еще незримых гор, и в дыхании его чувствовался холод снежных вершин. Он был вялый, точно еще не очнулся от сна, и дул нерешительно, с перерывами.
Матросы подняли якорь; я взялся за руль, и яхта, словно большой бледный призрак, скользя по спокойной воде, двинулась в путь. Чтобы выйти из порта, нам пришлось лавировать между дремлющими на рейде тартанами и шхунами. Мы шли не спеша, волоча за собой нашу маленькую круглую шлюпку, которая плыла за нами, как плывет за лебедем только что вылупившийся птенец.
Как только мы очутились в проходе между молом и четырехбастионным фортом, яхта встрепенулась и, сразу повеселев, пошла быстрее. Она приплясывала на невысоких волнах, похожих на бесчисленные подвижные борозды, проложенные по бескрайнему водяному полю. Оставив за собой мертвые воды порта, она радовалась живому простору открытого моря.
Волнения не было, и я повел яхту между городской стеной и буем «Пятьсот франков», потом, поставив ее по ветру, начал огибать мыс.
Вставало утро, звезды гасли одна за другой, маяк Вильфранш, мигнув в последний раз, закрыл свое вращающееся око; вдали, над еще не видимой Ниццей, в небе разгорались розовые отсветы — первые лучи солнца играли на снежных вершинах Приморских Альп.
Я передал румпель Бернару, чтобы полюбоваться восходом. Ветер усилился, и мы быстро шли по заволновавшемуся фиолетовому морю. Где-то зазвонил колокол, в чистом утреннем воздухе отчетливо прозвучали один за другим три удара, возвещающие Angelus. Почему на рассвете колокольный звон кажется легким, а под вечер тяжеловесным? Я люблю этот тихий и холодный утренний час, когда пробуждается земля, а человек еще погружен в сон. Воздух полон таинственного трепета, неведомого тем, кто долго нежится в постели. Вдыхаешь, пьешь, видишь возрождающуюся жизнь, материальную жизнь мира, жизнь, которая проникает небесные светила и чья тайна есть величайшее наше страдание.
Раймон говорит:
— Ветер будет восточный.
Бернар отвечает:
— А по-моему, скорей западный.
Шкипер Бернар худ, проворен, чрезвычайно опрятен, хлопотлив и осторожен. Он зарос бородой до самых глаз, взгляд у него добрый и голос тоже добрый. Это человек надежный и прямодушный. Но в плавании все его тревожит — внезапное волнение, которое предвещает сильный бриз в открытом море, туча над Эстерельскими горами, сулящая западный мистраль, и даже поднимающийся барометр, ибо это может означать, что следует опасаться шквала с востока. Он превосходный моряк, неустанно следит за порядком и до того любит чистоту, что принимается протирать медные части, как только на них брызнет вода.
Его шурин Раймон — крепкий мужчина, смуглый, усатый, неутомимый и смелый; он столь же надежен и прямодушен, как Бернар, но более хладнокровен и предательские вылазки моря принимает с философским спокойствием.
Предсказания Бернара, Раймона и барометра иногда расходятся, и тогда передо мной разыгрывается комическая сценка с тремя действующими лицами, причем в этом споре победа обычно остается за исполнителем немой роли.
— А славно, сударь, идем, черт меня побери, — говорит Бернар.
Мы и в самом деле уже миновали бухту Салис, пересекли Гарупу и уже подходим к мысу Гро — отлогой низкой скале, почти скрытой водой.
Теперь отчетливо видна вся цепь Приморских Альп, гигантская грозная волна, нависшая над морем, гранитный вал в зубчатой короне из снега; белые остроконечные вершины тянутся к небу, словно застывшие брызги пены. А за ними встает солнце, заливая обледенелые снега расплавленным серебром.
Но мы уже огибаем Антибский мыс, и впереди показываются Леренские острова и прихотливые очертания Эстерельских гор. Эстерельские горы — это декорация Канна: картинная гряда голубоватых гор изящного рисунка — слегка жеманного, но не лишенного вкуса, — написанная акварелью на фоне бутафорского неба рукой гостеприимного творца, дабы англичанки-пейзажистки могли копировать ее, а чахоточные или заштатные высочества млеть перед ней от восторга.
Облик Эстерельских гор меняется ежечасно, вновь и вновь чаруя великосветские взоры.
Утром их рельефные, четкие контуры проступают на небесной лазури, нежной и чистой, подернутой пурпуром, на классической лазури южных побережий. А вечером их лесистые склоны мрачнеют и черным пятном расплываются по огненному небу, кроваво-красному и зловещему. Нигде я не видел таких феерических закатов, такого зарева во все небо, таких пламенеющих туч; эта искусная и пышная постановка с ежедневно повторяющимися эффектами вызывает невольное восхищение, но показалась бы несколько аляповатой и смешной, будь она создана человеком.
Леренские острова, замыкающие на востоке Каннскую бухту и отделяющие ее от залива Жуан, также похожи на опереточную декорацию, которую поставили здесь нарочно для вящего удовольствия больных или развлекающихся приезжих.
С нашей яхты в открытом море эти островки кажутся темно-зелеными садами, выросшими на воде. На самом краю Сент-Онора, лицом к морю, возвышаются романтические руины, настоящий рыцарский замок в духе Вальтера Скотта, где волны бьются о подножия стен и где некогда монахи оборонялись от сарацин, ибо Сент-Онора всегда принадлежал монахам, если не считать Революции. Тогда остров был куплен актрисой Французской комедии.
Древний замок, воинственные иноки, не чета нынешним тучным траппистам, с елейной улыбкой просящим подаяние, прелестная субретка, видимо прятавшая свои любовные похождения на этом уединенном островке, окаймленном каменным ожерельем, поросшем елями и густым кустарником, — все на этом очаровательном каннском берегу, вплоть до названий в стиле Флориана[2]: «Леренские острова, Сент-Онора, Сент-Маргерит», мило, нарядно, умилительно, поэтично и несколько слащаво.
Для симметрии напротив старинного замка со стройными зубчатыми башнями, который высится на краю Сент-Онора и смотрит в открытое море, на оконечности острова Сент-Маргерит, лицом к суше, стоит знаменитая крепость, где были заточены Железная маска[3] и маршал Базен. Проход шириной в милю отделяет набережную Канна от этой темницы, похожей на обыкновенный старый дом, в архитектуре которого нет ни благородства, ни величавости. Грузный, хмурый, он словно припал к земле — настоящий капкан для узников.
Теперь мне видны все три залива. Впереди, за островками, — Каннская бухта, ближе — залив Жуан, а позади меня — залив Ангелов, над которым белеют снежные вершины Приморских Альп. Если посмотреть в подзорную трубу, то вдали, по ту сторону итальянской границы, можно увидеть белую Бордигеру на остром выступе мыса.
И повсюду вдоль этого необъятного взморья белеют города, раскинувшиеся у края воды, деревушки, прилепившиеся на склонах гор, бесчисленные виллы, утопающие в зелени; словно из поднебесья, из страны холодных снегов, ночью прилетели гигантские птицы и оставили белые яйца на скалах, на песках, в сосновом бору.
На Антибском мысе, на этом удлиненном наплыве суши, в этом волшебном саду, вклиненном между двух морей, где растут прекраснейшие цветы Европы, снова белые домики, а на самой оконечности красуется прелестная вилла Эйлен-Рок, которую приезжают осматривать туристы из Ниццы и Канна.
Бриз спадает, яхта еле плетется.
После берегового ветра, который господствует ночью, мы ждем, мы надеемся на ветер с моря, и мы встретим его радушно, откуда бы он ни подул.
Бернар все еще отстаивает запад, Раймон — восток, а барометр застыл на месте чуть пониже семидесяти шести.
Солнце уже высоко, в его лучах сверкают стены домов, которые издали кажутся кучками снега, и отбрасывают на море глянцевитый синеватый отблеск.
Мало-помалу, пользуясь каждым дуновением, иногда столь неприметным, что едва чувствуешь его ласковое прикосновение к лицу, но достаточным, чтобы послушная и хорошо оснащенная яхта скользила по спокойной воде, мы продвигаемся вперед, и, наконец, за последним выступом мыса перед нами открывается весь залив Жуан с военной эскадрой на рейде.
Крейсеры издали похожи на скалы, на острова, на рифы, поросшие мертвыми деревьями. Дымок поезда бежит вдоль берега, между Канном и Жуан-Ле-Пен, который в будущем, вероятно, будет самым красивым курортом на всем побережье. Три тартаны с косыми парусами, одна под красным, две под белым, стоят в проходе между островом Сент-Маргерит и берегом.
Тишина, теплая, благодатная тишина южного весеннего утра; мне кажется, что недели, месяцы, годы протекли с тех пор, как я покинул болтающих и суетящихся людей; и я уже упиваюсь одиночеством, упиваюсь сладостным покоем, которого не нарушит ни белый конверт, ни голубая телеграмма, ни колокольчик у двери, ни лай моей собаки. Никто не позовет меня, не пригласит, не уведет с собой, никто не будет докучать мне улыбками, терзать любезными словами. Я один, поистине один, поистине свободен. Дымок поезда мчится по берегу! А я плыву в моей утлой, крылатой обители, красивой, как птица, тесной, как гнездышко, удобной, как гамак, в обители, которая носится по волнам, подвластная лишь прихоти моря. К моим услугам два усердных матроса, несколько книг для чтения и запас провизии на две недели. Две недели ни с кем не разговаривать, какое счастье!
Я закрыл было глаза под жаркими лучами солнца, наслаждаясь глубоким покоем морских просторов, но Бернар сказал вполголоса:
— Глядите, идет бриг под ветром.
Далеко-далеко, против бухты Аге, навстречу нам идет бриг. Я отчетливо вижу в трубу его круглые, раздутые паруса.
— Так что же, ветер дует с Аге, — отвечает Рай-мон, — а на мысе Ру тихо.
— Ври больше, ветер будет западный, — возражает Бернар.
Я наклоняюсь, чтобы взглянуть на барометр, который висит в рубке. За последние полчаса он упал. Я сообщаю об этом Бернару; в ответ он ухмыляется и говорит вполголоса:
— Чует западный ветер, сударь.
Но во мне уже проснулось столь свойственное мореплавателям любопытство, которое заставляет все видеть, все подмечать и увлекаться малейшим пустяком. Я не отрываясь смотрю в трубу и вглядываюсь в поверхность моря на горизонте. Она по-прежнему светлая, ровная, глянцевитая. Если и быть ветру, то нескоро.
Ветер, какая это могущественная особа для моряков! О нем говорят, как о живом человеке, как о всесильном повелителе, то грозном, то благосклонном. Это о нем толкуют постоянно, целыми днями, о нем думают непрестанно, и днем и ночью. Вам он неведом, жители суши! А мы, моряки, мы знаем лучше, чем отца и мать, этого невидимку, деспота, самодура, злоумышленника, предателя, палача. Мы и любим и страшимся его, нам наперед известны его козни и вспышки гнева, мы научились предугадывать их по знамениям неба и моря. Он не дает забывать о себе ни на минуту, ни на секунду, ибо борьба между нами не прекращается никогда. Все наше существо настораживается перед битвой: глаз пытается разглядеть неуловимые приметы, кожа ждет ласки или удара, мысль проникает в его замыслы, предупреждает внезапные прихоти, ищет признаков миролюбия или вражды. Ни один враг, ни одна женщина не даст нам столь сильного ощущения борьбы, не потребует от нас такой прозорливости, как ветер, ибо он властелин моря, он тот, от кого можно уклониться, дождаться милостей или спастись бегством, но укротить его нельзя.
И в душе моряка, как в душе верующих, живет образ гневливого и грозного бога, живет священный, благоговейный, беспредельный страх перед ветром и восхищение его могуществом.
— Вот он, сударь, — говорит Бернар.
Далеко-далеко, у самого горизонта, протянулась темно-синяя, почти черная полоска. Безделица, чуть изменившийся цвет воды, едва заметная тень, — и, однако, это он. И мы, застыв на месте, ждем его под палящим солнцем.
Я смотрю на часы — еще только восемь — и говорю:
— Рановато для западного.
— Увидите, что будет к вечеру, — отвечает Бернар.
Я смотрю на плоский, опавший, мертвый парус. Кажется, что он уходит под самое небо, потому что мы ввиду ясной погоды подняли стеньгу, и мачта стала на два метра выше. Яхта неподвижна, словно под нами не море, а суша. Барометр продолжает падать. Между тем черная полоска, появившаяся на горизонте, приближается. Металлический блеск воды тускнеет, принимает свинцовый оттенок. Небо чисто, без единого облачка.
Внезапно вокруг нас, по ровной, как стальной лист, поверхности, то тут, то там начинает пробегать быстрая, едва приметная рябь, словно кто-то бросил в воду тысячу щепоток мелкого песку. Парус чуть вздрагивает, потом гик медленно поворачивается к правому борту. Я чувствую на лице легкое дуновение, и рябь становится сильнее, теперь песок уже сыплется в море непрерывным дождем. Яхта сдвинулась с места. Она идет прямо вперед, слышится негромкий плеск воды о борта. Румпель напрягается в моей руке, длинный медный прут огнем горит на солнце, ветер с каждой минутой крепчает. Придется лавировать; не беда, ветер попутный и, если он не утихнет, приведет нас к ночи в Сен-Рафаэль.
Мы приближаемся к эскадре; шесть броненосцев и два вестовых судна медленно поворачиваются носом к западу. Меняю курс, чтобы миновать Формигские острова, о которых предупреждает башня посреди залива. Ветер свежеет с необычайной быстротой, волна бьет часто и торопливо. Яхта кренится под тяжестью парусов, прибавляет ход, увлекая за собой маленькую шлюпку, которая плывет, выставив нос, кормой в воде, между двумя кромками пены.
Подходя к острову Сент-Онора, мы минуем голый утес, ощетиненный, как дикобраз, такой корявый, весь в зубьях, когтях и шипах, что по его склонам едва можно ходить; нужно выбирать место, куда поставить ногу, и двигаться крайне осторожно; называется этот утес Сен-Ферреоль.
Бог весть откуда взявшаяся земля скопилась в его впадинах и трещинах; и в этих местах из семян, словно упавших с неба, выросли дикие лилии и прелестные голубые ирисы.
На этой диковинной скале, посреди моря, пять лет покоилось в земле тело Паганини. Могила, достойная жизни гениального мастера, о ком шла молва, что он одержим бесом, чьи повадки, лицо, весь облик, сверхчеловеческий дар и невиданная худоба столь сильно поражали воображение, что он прослыл существом фантастическим, чем-то вроде героев Гофмана.
На пути в Геную, свою родину, куда его сопровождал сын, который один только понимал его речь — так слаб был его голос, — он заболел холерой и умер в Ницце 27 мая 1840 года.
Взяв на борт корабля останки своего отца, сын Паганини направился в Италию. Но генуэзское духовенство отказало в погребении одержимому бесом. Римская курия не посмела, в ответ на сделанный запрос, отменить запрещение. Когда тело все же попытались перевезти на берег, городские власти воспротивились под предлогом, что Паганини умер от холеры. В Генуе в то время уже свирепствовала эпидемия, но власти заявили, что присутствие еще одного покойника, умершего от этой болезни, может содействовать распространению заразы.
После этого сын Паганини возвратился в Марсель, но и здесь вход в гавань ему был запрещен по той же причине. Из Марселя он направился в Канн, но и туда его не пустили.
И он остался в море, баюкая на волнах тело великого скрипача, всеми отвергнутое. Он не знал, что делать, куда идти, где найти приют этим священным для него останкам, и вдруг увидел посреди моря голый утес Сен-Ферреоль. По его распоряжению гроб перенесли на островок и опустили в землю.
Только в 1845 году он вернулся на Сен-Ферреоль вместе с двумя друзьями и перевез тело отца в Геную, на виллу Гайона.
Не лучше ли было ему, этому своеобразному гению, остаться на диком утесе, где волны поют в причудливых расселинах скал?
Впереди, в открытом море, высится замок Сент-Онора, который мы уже видели, когда огибали Антибский мыс, а еще дальше тянутся подводные рифы, оканчивающиеся башней, — Монахи.
Сейчас их заливают белые, пенистые, грохочущие волны.
Это место одно из самых опасных на побережье для ночного плавания, ибо о нем не предупреждают сигнальные огни, и кораблекрушение здесь не редкость.
От налетевшего шквала наша яхта так сильно накренилась, что вода захлестнула палубу. Я отдаю команду спустить рею, иначе мы рискуем, что сломается мачта.
Волна становится выше, реже, море покрывается барашками, ветер свистит, злится, неистовствует и словно кричит: «Берегись!»
— Придется заночевать в Канне, — говорит Бернар.
И в самом деле, полчаса спустя мы вынуждены были спустить кливер и заменить его вторым парусом, забрав один риф; а еще через четверть часа мы забрали второй. Тогда я решил зайти в Каннскую гавань, ненадежное убежище, ничем не защищенный рейд, открытый зюйд-весту, который грозит опасностью всем стоящим здесь судам. Когда подумаешь, как сильно увеличился бы приток денег в этот город, если бы большие парусники иностранных туристов находили здесь безопасный приют, начинаешь понимать, сколь неистребима беспечность южан, до сих пор не сумевших добиться от правительства этой необходимейшей меры.
В десять часов мы бросаем якорь напротив парохода «Каннец», и я схожу на берег, досадуя на то, что пришлось прервать путешествие. Весь рейд покрыт белой пеной.
Канн, 7 апреля, 9 часов вечера.
Титулы, титулы, одни титулы! Те, кто любит титулы, блаженствуют здесь.
Не успел я вчера ступить на набережную Круазет, как мне повстречались три высочества один за другим. В нашей демократической стране Канн стал городом знати.
Если бы можно было открыть черепную коробку, как подымают крышку кастрюли, в голове у математика оказались бы числа, у драматурга — воздевающие руки и декламирующие актеры, у влюбленного — женская головка, у распутника — непристойные рисунки, у поэта — стихи, но у людей, приезжающих в Канн, нашлись бы только короны всех видов, плавающие в мозгу, как клецки в бульоне.
Любители карт собираются в игорных притонах, любители лошадей — на скаковом поле. Те, кто любит королевские и императорские высочества, собираются в Канне.
Титулованные особы чувствуют себя здесь как дома, они мирно царствуют в верноподданных салонах за неимением отнятых у них королевств.
Среди них есть повыше и пониже рангом, бедные и богатые, грустные и веселые — на все вкусы. Обычно они скромны, со всеми любезны, а в обращении с простыми смертными выказывают учтивость и обходительность, не в пример нашим депутатам, царствующим милостью избирательных урн.
Но если развенчанные монархи, обедневшие и бездомные, лишенные подданных и казны, найдя пристанище в этом нарядном, утопающем в цветах городке, держат себя просто и не вызывают смеха даже у циников, то с любителями знати дело обстоит иначе.
Смешные и нелепые, они в священном трепете без устали кружат около своих божков и, едва утратив одного, бросаются на поиски другого, словно уста их не знают иного обращения, как «монсеньер» или «мадам» в третьем лице.
Не проговорив с ними и пяти минут, вы уже знаете о том, что сказала княгиня, что ответил великий герцог, как она пригласила их на прогулку и какое он отпустил удачное словцо. Вы чувствуете, понимаете, сознаете, что они общаются только с особами королевской крови и снисходят до разговора с вами лишь затем, чтобы оповестить вас о событиях, происходящих на этих недосягаемых высотах.
А какие ожесточенные битвы с применением всевозможных хитростей и уловок разыгрываются ради того, чтобы хоть раз в сезон пообедать за одним столом с высочайшей особой, с настоящей, без подделки! С каким уважением смотрят на тех, кто удостоился чести сыграть в теннис с великим герцогом или хотя бы побывать при «Уэльском дворе», как выражаются сверхснобы!
Расписываться у дверей этих «изгнанных», как сказал Доде[4], или, точнее, сброшенных правителей, — это повседневное, тонкое, хлопотливое и серьезное дело. Книга для посетителей находится в вестибюле под охраной двух лакеев, и один из них подает вам ручку с пером. Вы заносите свое имя, под двумя тысячами других имен всех мастей, в бесконечный реестр, густо усеянный титулами и кишащий частицами «де»[5]. Потом вы уходите, гордый, словно вам пожаловали звезду, счастливый, словно исполнили священный долг, и первому попавшемуся вам знакомому высокомерно заявляете: «Я только что расписался у великого герцога Герольштейнского». А вечером за табльдотом рассказываете с важностью: «Сегодня в списке великого герцога Герольштейнского я приметил имена Икс, Игрек и Зет...» И все со вниманием слушают вас, как будто речь идет о необыкновенно важном событии.
Но почему эта невинная и безобидная мания досужих любителей знати должна вызывать удивление и смех, когда в Париже имеется до пятидесяти разновидностей столь же смешных любителей великих людей?
В каждом настоящем салоне полагается показывать знаменитости; ради уловления их идет бешеная охота. Нет той светской женщины, даже в наивысших кругах, которая не жаждала бы обзавестись собственным маэстро или маэстрами; и она задает обеды в их честь, дабы и столица и провинция знали, что у нее просвещенный дом.
Блистать чужими талантами за неимением собственных и кичиться ими или похваляться знакомством со знатью... какая разница?
Из всех пород великих людей наибольшую цену в глазах женщин, и молодых и старых, несомненно имеют музыканты. Некоторые дома обладают большими коллекциями этого вида знаменитостей. Кстати, у музыкантов, помимо всего, есть еще одно неоценимое достоинство: их игра служит развлечением на вечерах. Но даже самая честолюбивая хозяйка не может и мечтать о том, чтобы усадить на свой диван одновременно два светила первой величины. Добавим к этому, что нет той подлости, на которую не пошла бы женщина, пользующаяся известностью и успехом в свете, чтобы украсить свой салон прославленным композитором. Обычные маневры, которые пускают в ход, чтобы заарканить художника или скромного писателя, оказываются совершенно недостаточными, когда дело касается продавца звуков. Тут применяются совсем особые средства обольщения и невиданные формы лести. Ему целуют руки, словно монарху, перед ним преклоняют колена, как перед божеством, если он соблаговолил самолично исполнить Regina Coeli[6]. Носят кольцо с волосками из его бороды; на золотой цепочке за корсажем хранят священный талисман, изготовленный из пуговицы от брюк, которая, не выдержав порывистого взмаха руки, оторвалась под финальные аккорды Безмятежного покоя.
Художники ценятся подешевле, однако и на них большой спрос. Тут меньше священнодействия и больше богемы. В их повадках нет елея, а главное — высокомерия. Вместо вдохновения — балагурство, зубоскальство. От них сильно пахнет мастерской, но кто сумел вытравить в себе этот запах, тот лишается естественности. К тому же они изменчивы, ветрены, насмешливы. Нельзя надеяться на их постоянство, а музыкант прочно свивает гнездо в семье.
В последние годы наблюдается спрос и на писателей. У писателя имеется несомненное преимущество: он говорит — говорит долго, говорит много. Он говорит для всех, и так как блистать умом — его ремесло, то ему можно внимать и восхищаться им с полным доверием.
Женщина, которой овладело странное желание иметь в своем доме писателя, подобно тому, как держат попугая, на болтовню которого сбегаются окрестные консьержки, должна сделать выбор между поэтами и романистами. Поэты более возвышенны, зато романисты занимательнее. Поэты более мечтательны, зато романисты люди положительные. Это дело вкуса и темперамента. У поэта больше обаяния и душевности, у романиста зачастую больше остроумия. Зато романист таит в себе опасность, которая не угрожает со стороны поэта, — он отгрызает, выхватывает, уворовывает все, что у него перед глазами. С ним никогда нельзя быть спокойной, никогда нельзя поручиться, что он не уложит вас в один прекрасный день, в чем мать родила, между страницами своей книги. Его глаз — это насос, который все вбирает в себя, это не знающая устали рука карманника. Ничто не скроется от него; он непрестанно высматривает и подбирает: высматривает движения, жесты, намерения — все, что проходит и происходит перед ним; подбирает кажое слово, каждый поступок, каждую мелочь. Он с утра до вечера копит всевозможные наблюдения, из которых он изготовляет на продажу разные истории, и эти истории разбегаются по свету, их прочитывают, обсуждают, толкуют тысячи и тысячи людей. И, что ужаснее всего, у него, у подлеца, выйдет похоже, вопреки его желанию, безотчетно, потому что рассказывает он то, что видит, а глаз у него зоркий. Как бы он ни хитрил, как бы ни перекрашивал своих героев, все равно будут говорить: «Вы узнали господина Икс и госпожу Игрек? Как две капли воды».
Несомненно, люди высшего света, прельщая и заманивая к себе романистов, поступают не более осмотрительно, чем торговец мукой, которому вздумалось бы разводить крыс в своем лабазе.
И тем не менее романисты в моде.
Итак, после того как хозяйка салона остановила свой выбор на писателе, которым она хочет завладеть, она начинает вести регулярную осаду, осыпая его похвалами, знаками внимания и милостями. Как вода капля за каплей пробивает самый твердый камень, так лесть с каждым словом точит нежное сердце писателя. И, едва заметив, что он тронут, взволнован, покорен этим неустанным восхвалением, она отгораживает его от всех, разрывает мало-помалу узы, которыми он связан вне ее дома, и исподволь приучает его бывать у нее, находить приятность у ее семейного очага. Чтобы крепче привязать его к своему салону, она подготовляет и обеспечивает ему успех, подает его в выгодном освещении, всячески превозносит перед старыми друзьями дома, оказывая ему почет и уважение, восхищаясь им без меры.
И, почувствовав себя кумиром, он водворяется в храме. Положение его, кстати сказать, весьма завидное, ибо другие женщины испытывают на нем все тончайшие средства обольщения, дабы вырвать его у той, которая его завоевала. Но если у него достанет ума, он не поддастся на заигрывания и просьбы, которыми его осаждают. И чем больше постоянства он выкажет, тем усерднее его будут любить, упрашивать, соблазнять. Упаси его бог откликнуться на зов этих сирен парижских салонов; он тотчас же потеряет три четверти своей цены, если будет пущен в обращение.
Очень скоро вокруг него образуется литературное направление, религиозная секта, которая признает его своим богом — единым богом, ибо ни одно истинное вероучение не допускает наличия нескольких божеств. В салоне собираются гости, чтобы видеть его, слышать, боготворить, как издалека к священным местам стекаются паломники. Будут завидовать ему, завидовать ей! Они говорят о литературе, как священнослужители говорят о догмах, мудро и торжественно; все внимают его и ее словам, и гости покидают литературный салон с таким чувством, словно они прослушали мессу в соборе.
Есть спрос, хотя и не такой большой, и на особ помельче: так, например, генералы, которыми пренебрегает большой свет, где они расцениваются чуть повыше депутатов, еще первенствуют в мещанских семьях. За депутатами ухаживают, только пока длится очередной политический кризис. Во времена затишья их лишь изредка приглашают к обеду. Есть любители, которые предпочитают ученых, о вкусах не спорят, и даже начальник канцелярии — предмет почитания для обитателей шестого этажа. Но они не ездят в Канн. Даже зажиточные буржуа имеют там лишь двух-трех робких представителей.
Только до полудня можно лицезреть знатных иностранцев на набережной Круазет.
Это длинная аллея, которая тянется полукругом вдоль берега, от горы Сент-Маргерит до порта, за которым начинается старый город.
Быстрым шагом, в сопровождении молодых людей в теннисных костюмах проходят молодые женщины, очень стройные — худоба считается признаком хорошего тона, — одетые по английской моде. Но время от времени навстречу попадаются несчастные, высохшие создания, которые еле плетутся, опираясь на руку матери, брата или сестры. Бедняги кашляют, задыхаются, кутаются в шали, несмотря на жару, и их запавшие глаза глядят на вас с отчаянием и злобой.
Они мучаются, умирают, ибо Ривьера — это не только восхитительный, благодатный край, но и больница мира и цветущее кладбище европейской аристократии.
Грозный, беспощадный недуг, ныне называемый туберкулезом, недуг, который подтачивает, сжигает и губит тысячи человеческих жизней, словно нарочно избрал этот берег, чтобы приканчивать здесь свои жертвы.
Как должны проклинать его во всех уголках земного шара, это чудесное и зловещее побережье, преддверье смерти, благоуханное и теплое, где столько семейств, скромных и коронованных, знатных и незнатных, похоронили кого-нибудь из близких, чаще всего — ребенка, надежду и радость всей семьи!
Мне вспоминается Ментона, самый жаркий, самый целительный из земных курортов Ривьеры. Как в городе-крепости на окрестных высотах виднеются форты, так с этого берега обреченных видно кладбище, раскинувшееся на холме.
Какой приют для живых — этот сад, где покоятся мертвые! Розы, розы, куда ни глянь — розы. Кроваво-красные, бледные, белоснежные, с алыми прожилками. Могилы, дорожки, свободные места, еще пустые сегодня, завтра уже заполненные, — все покрыто розами. От их одуряющего запаха кружится голова, подкашиваются ноги.
И всех, кто здесь предан земле, смерть унесла в шестнадцать, восемнадцать, двадцать лет.
Бредешь от могилы к могиле, читая имена этих юных созданий, столь рано погубленных неизлечимым недугом. Это кладбище детей, оно похоже на балы для подростков.
С кладбища, если взглянуть налево, открывается вид на Италию до выступа берега, где белые дома Бордигеры сбегают к морю; если взглянуть направо — до омываемых волнами лесистых склонов мыса Мартен.
Впрочем, везде, по всему сказочно прекрасному берегу, мы в царстве Смерти. Но она скромна, прикрыта вуалью, очень сдержанна и стыдлива — словом, отлично воспитана. Никогда вы с ней не столкнетесь лицом к лицу, хоть она ежеминутно прикасается к вам. Можно бы подумать, что в этом земном раю не умирают вовсе, ибо все участвуют в заговоре, все поддерживают обман в угоду безжалостной повелительнице. Но как ее чувствуешь, ощущаешь, как часто видишь край ее черной одежды! Да, много нужно роз и много лимонных деревьев в цвету, чтобы ни один порыв ветра не мог донести до нас ужасный запах, которым тянет из мертвецких.
Ни похоронных процессий на улицах, ни траурного убранства, ни колокольного звона. Только кто-нибудь из приезжих, исхудалый и бледный, который еще вчера прогуливался под вашими окнами, больше не появляется — и все.
Если вас удивляет его отсутствие и вы начинаете расспрашивать о нем, метрдотель и вся прислуга с любезной улыбкой отвечают, что ему лучше и что по совету врача он уехал в Италию. В каждом отеле Смерть имеет свою потайную лестницу, своих сообщников и подручных.
Моралист минувших времен сказал бы много прекрасных слов об этом контрасте, о страданиях, тщательно спрятанных под роскошью.
Наступил полдень, эспланада опустела, и я возвращаюсь на борт «Милого друга», где меня ждет неприхотливый завтрак; подвязав белый фартук, Раймон обжаривает на сковородке ломтики картофеля.
Остаток дня я провел за чтением.
Ветер не утихал, и яхта плясала на якорях, — нам пришлось бросить и правобортовый. Качка в конце концов убаюкала меня, и я задремал. Когда Бернар вошел в каюту, чтобы зажечь свечи, было уже семь часов, и так как сильная волна мешала сойти на берег, то я пообедал на борту.
Потом я поднялся на палубу, чтобы подышать воздухом. Вокруг меня светились огоньки Канна. Нет ничего красивее прибрежного города в вечернем освещении, когда смотришь на него с моря. Слева, в старых кварталах, где дома точно карабкаются на гору, огоньки сливались со звездами; справа газовые рожки эспланады уходили вдаль, словно огромная змея, растянувшаяся на два километра.
И я подумал, что сейчас, во всех этих виллах, во всех отелях, люди сели за стол, как садились вчера, как сядут завтра, и беседуют. Беседуют! О чем? О высочествах! О погоде!.. А потом?.. О погоде!.. О высочествах... А потом?.. Ни о чем!
Что может быть страшнее разговоров за табльдотом? Я живал в отелях, я видел душу человеческую во всей ее пошлости. Поистине нужно принудить себя к полному равнодушию, чтобы не заплакать от горя, отвращения и стыда, когда слышишь, как говорит человек. Обыкновенный человек, богатый, известный, пользующийся почетом, уважением, вниманием, довольный собой, ничего не знает, ничего не понимает, но рассуждает о человеческом разуме с удручающей спесью.
До чего же нужно быть ослепленным и одурманенным собственным чванством, чтобы смотреть на себя иначе, чем на животное, едва перегнавшее остальных в своем развитии! Послушайте их, когда они сидят вокруг стола, эти жалкие создания! Они беседуют! Беседуют простодушно, доверчиво, дружелюбно и называют это обменом мыслей. Каких мыслей? Они рассказывают, какую совершили прогулку: «Дорога очень красивая, но на обратном пути было холодновато». «Кормят в этом отеле недурно, но ресторанная пища всегда слишком остра». Они сообщают вам, что они делали, что любят, во что верят.
Отсюда, с палубы моей яхты, я заглядываю им в душу и с дрожью отвращения смотрю на ее уродство, как смотришь на банку со спиртом, где хранится безобразный зародыш монстра. Мне чудится, что я вижу, как медленно, пышным цветом распускается пошлость, как затасканные слова попадают из этого склада тупоумия и глупости на их болтливый язык и оттуда в неподвижный воздух, который доносит их до моего слуха.
Их идеи, самые возвышенные, самые торжественные, самые похвальные, разве это не бесспорное доказательство извечной, всеобъемлющей, неистребимой и всесильной глупости?
Вот их представление о боге: неискусный бог, который испортил свои первые создания и заново смастерил их; бог, который выслушивает наши признания и ведет им счет; бог — жандарм, иезуит, заступник, садовод; бог в доспехах, в облачении и в деревянных сабо; и далее — отрицание бога на основании земной логики, доводы за и против; летопись верований, расколов, ересей, философий, утверждений и сомнений; детская незрелость теорий, свирепое и кровавое неистовство сочинителей гипотез; хаос раздоров и распрей; все жалкие потуги этого злополучного существа, неспособного постигнуть, провидеть, познать и вместе с тем легковерного, неопровержимо доказывают, что он был брошен в наш ничтожный мир только затем, чтобы пить, есть, плодить детей, сочинять песенки, и от нечего делать убивать себе подобных.
Блаженны те, кто доволен жизнью, кто развлекается, кто ничего не ищет!
Есть люди, которым все нравится, которых все радует. Они любят солнце и ненастье, снег и туман, праздничный шум и домашний уют, все, что они видят, что делают, что говорят и слышат.
Одни из них ведут жизнь тихую, покойную и мирную среди своего потомства; другие живут жизнью бурной, полной развлечений и утех.
Ни те, ни другие не знают скуки.
Жизнь для них — это занимательный спектакль, в котором они сами участвуют, веселое и пестрое зрелище, не поражающее ум, но весьма приятное.
Но есть другие люди, чья мысль молнией обегает узкий круг осуществимых надежд, и ужас охватывает их перед убожеством человеческого счастья, перед однообразием и бедностью земных радостей.
Как только они приближаются к тридцати годам, все кончено для них. Чего им ждать! Ничто уже не занимает их. Они исчерпали весь скудный запас наслаждений.
Блаженны те, кто без дрожи омерзения вновь и вновь совершает те же действия; блаженны те, кому под силу изо дня в день приниматься за одно и то же, делать те же движения, трогать те же вещи, видеть тот же горизонт, ходить под тем же небом, по тем же улицам, встречая тех же прохожих и тех же собак. Блаженны те, кого не преследует мысль, что ничто не меняется, ничто не проходит и что все надоедает.
До чего же неповоротлив, ограничен и невзыскателен наш ум, если мы довольствуемся тем, что есть! Чем объяснить, что из зрительного зала мира еще не кричат: «Занавес!», не требуют начала второго акта, где были бы другие существа и формы, другие краски, другие растения и светила, другие открытия и приключения?
Неужели никто еще не возненавидел человеческое лицо, навсегда сохранившее свои черты; животных, которые, словно одушевленные механизмы, живут инстинктами, перешедшими по наследству от первой особи к последней, картины природы, издревле неизменные, и необновляемые наслаждения?
Ищите утешения, говорят нам, в любви к науке и в искусстве.
Но неужели не ясно, что мы навсегда заточены в самих себе, что нам не вырваться из этой темницы, что мы обречены влачить до смерти цепь своих бескрылых мечтаний?
Все развитие нашей мозговой деятельности сводится к тому, что мы обнаруживаем явления материального мира при помощи до смешного несовершенных приборов, которые, впрочем, отчасти возмещают бессилие наших органов. Каждые двадцать лет какой-нибудь злосчастный исследователь ценой всей своей жизни делает открытие, что воздух содержит еще доселе не известный газ и что, если потереть сургуч о сукно, то высвобождается сила, неизъяснимая, непреодолимая; что среди бесчисленных неведомых светил замечена звезда, еще никем не описанная, по соседству с другой, давно увиденной и окрещенной. Что нужды?
Наши болезни происходят от микробов? Отлично. А откуда происходят микробы? И болезни самих этих незримых существ? А солнца — откуда происходят они?
Мы ничего не знаем, ничего не видим, ничего не можем, ничего не постигаем и не изобретаем, мы заперты, заточены в самих себе. И находятся люди, которые дивятся человеческому гению!
Искусство? Живописец воспроизводит при помощи красок одни и те же картины природы, но они не похожи на природу живую; он рисует человеческие фигуры, тщетно пытаясь придать им облик живых людей. И так он упорствует годами, а в награду за бесплодные усилия подделать жизнь он в лучшем случае добьется того, что чей-нибудь искушенный взор разглядит в этих мертвых и бессловесных списках с живой жизни первоначальный замысел.
К чему эти труды? К чему это суетное подражание? К чему это скучное воспроизведение на полотне и без того унылой натуры? Какое убожество!
То, что художники пытаются сделать с помощью различных оттенков цвета, поэты силятся сделать словами. К чему и это?
После того как прочтены творения четырех самых блестящих, самых изобретательных из них, бесполезно обращаться к остальным. И даже те, наилучшие, ничему не учат. Они сами только люди, и могут лишь копировать себе подобных. Они истощают силы в напрасном труде. Человек не меняется, и потому их бесполезнее искусство неподвижно. С тех пор как забилась наша близорукая мысль, человек все тот же; его чувства, верования, ощущения неизменны; он не сделал ни шага вперед, ни шага назад, он не тронулся с места. Зачем мне узнавать, что я такое, читать о том, что я думаю, созерцать самого себя в банальных перипетиях романа? Ах, если бы взор поэтов мог проникать пространство, исследовать небесные светила, открывать новые миры, новые существа, если бы они вновь и вновь разнообразили для меня природу и форму явлений, показывали мне изменчивые и неведомые диковины, отворяли потайные двери, ведущие в невиданные волшебные дали, — я день и ночь читал бы их! Но они в своем бессилии могут только переставить слово с места на место и показать мне мое отражение, так же как живописцы. Для чего?
Ведь мысль человеческая неподвижна.
Достигнув точных, узких, раз и навсегда положенных ей пределов, она кружит, словно лошадь по цирковой арене, она бьется, точно муха, которая в закупоренной бутылке со всех сторон натыкается на ее стенки.
И все же, за неимением лучшего, приятно предаваться раздумью, когда живешь один.
На этом утлом суденышке, которое баюкает море, которое любая волна может захлестнуть и опрокинуть, я знаю, я чувствую, что ничто из того, что нам ведомо, не существует, ибо наша планета, парящая в пустоте, еще более одинока, еще более затеряна в пространстве, чем моя яхта на водах залива. Одна значит столько же, сколько другая, тот же удел ожидает их. И меня радует, что я постиг тщету всех верований и бесплодность суетных надежд, порожденных гордыней, которая обуревает нас, жалких насекомых!
Я лег в постель и, убаюканный килевой качкой, спал так крепко, как спят только на воде, пока не явился Бернар, чтобы объявить мне:
— Непогода, сударь, нынче выходить нельзя.
Ветер улегся, но в открытом море сильная волна, и мы отказываемся от намерения идти в Сен-Рафаэль.
Придется провести в Канне еще один день.
К полудню снова поднялся западный ветер, но менее сильный, чем накануне, и я решил воспользоваться им для осмотра эскадры в заливе Жуан.
«Милый друг», пересекая рейд, подпрыгивал, как коза, и мне пришлось вести его очень осторожно, чтобы потоки воды не хлестали меня по лицу каждый раз, как налетала почти поперечная волна. Но я вскоре добрался до острова и вошел в проход под прикрытием крепости Сент-Маргерит.
Ее отвесные стены спускаются к подножью скал, о которые бьется волна, а кровля приходится вровень с невысокой горной вершиной. Она похожа на голову, втянутую в мощные плечи.
Место, где спустился маршал, видно очень ясно. Не требовалось особенной ловкости, чтобы скользнуть по этим удобным камням.
Об этом бегстве мне рассказывал весьма подробно один знакомый, который притязал, и не без оснований, на большую осведомленность.
Базен содержался довольно свободно, жена и дети ежедневно посещали его. Но г-жа Базен, будучи женщиной решительной, заявила мужу, что она навсегда уедет из этих мест вместе с детьми, если он не согласится бежать, и изложила ему свой план. Он колебался, считая эту затею опасной и сомневаясь в успехе; но когда он убедился, что жена твердо решила привести свою угрозу в исполнение, он сдался на ее уговоры.
После этого в крепость ежедневно вносились детские трапеции и лестницы, пока не набрался целый гимнастический зал в миниатюре. Из этих игрушечных приборов и была изготовлена веревка с узлами для маршала. Мастерили ее медленно, чтобы не возбудить подозрений, а потом дружеская рука тщательно спрятала ее в углу тюремного двора.
Назначили день для задуманного бегства. Выбор пал на воскресенье, ибо в этот день надзор над узником был менее строг.
Госпожа Базен некоторое время не появлялась в крепости.
Обычно маршал до восьми часов вечера гулял по двору в сопровождении коменданта, весьма любезного человека, с которым он любил беседовать. Потом он возвращался в отведенное ему помещение, и тюремщик в присутствии своего начальника навешивал на двери замки и задвигал засовы.
В день, назначенный для побега, Базен притворился больным и выразил желание возвратиться к себе на час раньше обычного. Он и в самом деле вошел в свои комнаты; но как только комендант отправился за тюремщиком, чтобы велеть ему немедленно запереть своего узника, маршал быстро проскользнул во двор и спрятался там.
Тюремщик запер пустую темницу. И он и комендант ушли к себе.
В одиннадцатом часу Базен вышел из своего убежища, запасшись веревкой. Он прикрепил ее к стене и спустился по ней на прибрежные камни.
На рассвете один из сообщников отвязал веревку и сбросил ее вниз.
Около половины девятого комендант крепости, удивленный тем обстоятельством, что узник вопреки своей привычке рано выходить на прогулку еще не появлялся, спросил о маршале. Камердинер Базена отказался войти в спальню своего господина.
Наконец в девять часов комендант открыл дверь и обнаружил, что клетка пуста.
Госпожа Базен для выполнения задуманного плана разыскала человека, которому ее муж в свое время оказал большую услугу. Человек этот умел помнить добро, и она нашла в нем верного и деятельного союзника. Они совместно обсудили все подробности; потом она возвратилась в Геную под чужим именем и якобы для прогулки в Неаполь за тысячу франков в день наняла маленький итальянский пароходик, уговорившись с капитаном, что путешествие займет не менее недели и может быть продлено на недельный срок на тех же условиях.
Судно снялось с якоря; но не успело оно выйти в море, как путешественница переменила свое намерение и попросила капитана не отказать ей в любезности заехать в Канн за ее невесткой. Капитан охотно согласился, и в воскресенье вечером пароходик бросил якорь в заливе Жуан.
Госпожа Базен сошла на берег, предупредив, чтобы шлюпка осталась дожидаться ее. Ее сообщник ждал ее на набережной Круазет; они сели в приготовленную им лодку и пересекли проход, отделяющий берег от островка Сент-Маргерит. Базен дожидался на прибрежных камнях; платье на нем было изорвано, лоб рассечен, руки в крови. Так как море было неспокойно, ему пришлось войти в воду, чтобы добраться до лодки, не то она разбилась бы о камни. Они снова пересекли проход и, сойдя на берег в Канне, бросили лодку. Потом они разыскали шлюпку и возвратились на поджидавший их пароход. Г-жа Базен объяснила капитану, что ее невестка захворала и не могла поехать с ней, и добавила, указывая на маршала:
— Мне нужен слуга, — вот камердинер, которого я только что наняла. Этого дурня угораздило разбиться на камнях; посмотрите, в каком он виде. Прошу вас, поместите его с матросами и дайте ему все, что нужно, чтобы он перевязал свои ссадины и зашил прорехи.
Базен провел ночь в кубрике.
Наутро, перед рассветом, они уже были в открытом море. Тут г-жа Базен снова переменила намерение и под предлогом болезни попросила отвезти ее обратно в Геную.
Но весть о бегстве маршала уже распространилась в народе, и под окнами отеля собралась толпа, громкими криками выражая свое возмущение. Шум все усиливался, и перепуганный насмерть хозяин помог супругам скрыться через потайную дверь.
Я рассказал об этом так, как услышал из чужих уст, и за истину не ручаюсь.
Мы приближаемся к эскадре; тяжелые броненосцы, вытянувшись в одну линию, высятся, словно крепости, воздвигнутые посреди моря. Вот «Кольбер», «Разгром», «Адмирал Дюперре», «Курбе[7]», «Непобедимый», «Ришелье»; два крейсера — «Ласточка» и «Коршун» и четыре миноносца, маневрирующие в заливе.
Я решил посетить «Курбе», который считается самым совершенным типом броненосца нашего военно-морского флота.
Ничто не дает такого точного представления о человеческом труде, о кропотливом и исполинском труде этой козявки с искусными руками, как выстроившиеся передо мной стальные твердыни, которые, покачиваясь, ходят по морям, несут на себе полчища солдат и целый арсенал чудовищно тяжелого оружия; и сделаны они, эти громады, из мелких кусочков металла, пригнанных, припаянных, приваренных, приклепанных! Труд муравья и гиганта, в котором отразились и гений, и бессилье, и безнадежное варварство племени, столь деятельного и столь ничтожного, отдающего все свои силы на создание машин, заготовленных для его же гибели.
Те, что в старину возводили из камней кружевные соборы, сказочные дворцы, воплощая детские благочестивые грезы, — разве они не стоили теперешних, которые пускают по морю дома из стали, эти храмы смерти?
Когда я покидаю броненосец, чтобы возвратиться в мою раковину, на берегу раздается залп. Это полк, стоящий в Антибе, упражняется в стрельбе среди песков и елей. В воздух подымаются белые дымки, похожие на раскрывшиеся коробочки хлопка, и вдоль берега мелькают красные штаны солдат.
Офицеры военных судов, сразу оживившись, хватаются за бинокли, и сердца их бьются сильнее перед этим призраком войны.
Стоит мне вспомнить это слово, как меня охватывает смятенье, словно я слышу рассказы о ведьмах, об инквизиции, о чем-то далеком, исчезнувшем, гнусном, чудовищном, противоестественном.
Когда говорят о людоедах, мы гордо улыбаемся, кичась своим превосходством над ними. Но кто дикарь — тот, кто сражается, чтобы съесть побежденного, или тот, кто сражается, чтобы убить, только убить?
Маленькие стрелки в красных штанах, которые движутся вон там, вдалеке, обречены на смерть, как скот, бредущий по дорогам на убой. Они падут где-нибудь в поле, с раскроенным саблей черепом или пулей в груди; а ведь они молоды, могли бы работать, создавать, приносить пользу. Отцы их — бедные, дряхлые старики; матери, двадцать лет любившие их, любившие беззаветно и страстно, как умеют любить только матери, через полгода или, быть может, год, узнают, что их сын, их ребенок, большой мальчик, вырастить которого стоило стольких трудов, сбережений, нежных забот, брошен в яму, точно издохший пес, после того как пуля разворотила ему внутренности, и он был растоптан, раздавлен, превращен в месиво копытами лошадей. Ради чего убили ее мальчика, такого красивого, статного молодца — ее единственную надежду, ее гордость, ее жизнь? Она не знает. Да, ради чего?
Война!.. Драться!.. Убивать!.. Уничтожать людей!.. Ныне, в наш просвещенный век, когда, как говорят, человеческий гений достиг небывалых высот науки и невиданных глубин философии, у нас имеются школы, где учат убивать, убивать издалека, виртуозно, умерщвляя многих одним ударом, убивать несчастных, ни в чем не повинных людей, честных кормильцев семьи.
И поразительнее всего то, что народы не восстают против своих правительств. В чем же разница между монархиями и республиками? Почему все общество не подымается на борьбу, едва заслышав слово «война»?
Никогда нам не сбросить с себя бремя отживших гнусных обычаев, свирепых предрассудков, дикарских понятий наших предков, ибо мы звери и останемся ими, звери, которыми управляет инстинкт и которых никто не в силах изменить.
Разве кому-нибудь, кроме Виктора Гюго, простили бы этот страстный призыв, этот клич освобождения и правды?
«Ныне сила именуется насилием и уже предается суду, — война признана преступлением. Цивилизация, по жалобе человеческого рода, ведет следствие и готовит тяжкое обвинение против завоевателей и полководцев. Народы начинают понимать, что, усугубляя зло, нельзя уменьшить его; и если убивать преступно, то многочисленность убийств не может служить смягчающим вину обстоятельством; если воровать предосудительно, то захват чужих земель не может прославить.
Провозгласим же эти неоспоримые истины, заклеймим позором войну!»
Тщетный гнев, тщетные проклятия поэта. Война в большем почете, чем когда-либо.
Мастер своего ремесла, гениальный убийца Мольтке[8] однажды ответил парламентерам:
«Война — святое дело, это божественное установление; это священный закон мира; она поддерживает в людях все великие, благородные чувства: честь, бескорыстие, доблесть, мужество — словом, она не дает им впасть в гнуснейший материализм».
Итак, собираться в стада по четыреста тысяч человек, шагать день и ночь без отдыха, ни о чем не думать, ничему не учиться, ничего не познавать, не читать, никому не приносить пользы, гнить в грязи, ночевать в болоте, жить, как животное, в непрерывном отупении, грабить города, жечь деревни, разорять народ; потом столкнуться с другим скоплением человеческого мяса, ринуться на него, пролить реки крови, усеять поля грудами растерзанных тел, кусками трупов, смешанных с истоптанной, окровавленной землей, лишиться руки или ноги и с вывалившимися внутренностями или мозгами околеть без всякой пользы где-нибудь в канаве, в то время как твои старики родители, твоя жена и дети умирают с голоду, — вот что называется не впасть в гнуснейший материализм.
Военная каста — это бич нашего мира. Мы боремся с природой, с невежеством, с препятствиями всех видов, чтобы облегчить тяжелое бремя нашей злосчастной жизни. Благодетели человеческого рода, ученые, посвящают всю свою жизнь, отдают весь свой труд, изыскивая средства, которые могли бы помочь, спасти, облегчить наши страдания. Они работают настойчиво и плодотворно, накопляют открытия, расширяют человеческий кругозор, раздвигают границы науки, ежечасно одаривают человеческий разум новыми сокровищами знания, ежечасно увеличивают счастье, изобилие, силу своего отечества.
Но вот грянула война. В полгода генералы разрушают все, что создано человеческим гением за двадцать лет упорного труда.
Вот что называется не впасть в гнуснейший материализм.
Мы видели войну. Мы видели, как люди, снова обратившись в диких зверей, не помня себя, убивали от страха, от скуки, от чванства, от озорства. Права более не существовало, закон был мертв, всякое понятие о справедливости исчезло, и мы видели, как расстреливали невинных людей, случайно очутившихся на дороге или возбудивших подозрение своим испуганным видом. Мы видели, как убивали собак, охранявших дом своего хозяина, чтобы испытать новый револьвер, мы видели, как, шутки ради, стреляли в коров, дремавших на лугу, стреляли без всякой причины, от скуки, лишь бы пальнуть из ружья.
Вот что называется не впасть в гнуснейший материализм.
Вторгнуться в чужую страну, умертвить человека, защищающего свой дом, только за то, что на нем блуза и нет военного кепи на голове, жечь лачуги бедняков, сидящих без хлеба, ломать мебель, красть вещи, выпивать вино, найденное в погребах, насиловать женщин, встреченных на дорогах, расходовать пороху на миллионы франков и оставлять после себя нищету и холеру.
Вот что называется не впасть в гнуснейший материализм.
Что же они создали, люди военной касты, чем они доказали хоть проблеск таланта? Ничем. Что они изобрели? Пушки и ружья. И все.
Не больше ли пользы принес человеку изобретатель тачки, которому пришла в голову простая и здравая мысль — приладить к колесу две палки, нежели изобретатель новейших укреплений?
Что оставила нам Греция? Книги, мраморные изваяния. В чем ее величие — в том, что она покорила, или в том, что она создала?
Нашествие ли персов удержало ее от гнуснейшего материализма? Нашествие ли варваров спасло Рим и возродило его?
Наполеон ли был продолжателем великого движения человеческой мысли, начатого философами в конце минувшего века?
Да, несомненно, если правительства присваивают себе власть над жизнью и смертью народов, нет ничего удивительного в том, что и народы подчас присваивают себе власть над жизнью и смертью правительств.
Народы защищаются, и с полным правом. Никому не дана неограниченная власть над людьми. Пользоваться ею можно только на благо подвластным. Кто бы ни стоял у кормила, его долг — уберечь народ от войны, как долг капитана — уберечь судно от крушения.
Когда гибнет корабль, капитана предают суду, и если доказано, что он виновен в нерадении или хотя бы только в оплошности, он несет заслуженную кару.
Почему же не судить правительства после каждого объявления войны? Если бы народы это поняли, если бы они сами стали судьями своих правителей-убийц, если бы они отказались идти на убой неведомо за что, если бы они обратили оружие против тех, кто вооружил их для убийства, — в тот же час войне пришел бы конец! Но этот час никогда не настанет.
Аге, 8 апреля.
— Погода, сударь.
Я встаю с постели и выхожу на палубу. Три часа утра; море спокойно, бескрайнее небо похоже на огромное темное поле, засеянное семенами огня. Легкий бриз дует с берега.
Кофе уже готов; мы спешим воспользоваться благоприятным ветром и, наскоро позавтракав, не теряя ни минуты, снимаемся с якоря.
И вот мы скользим по волнам, держа курс в открытое море. Берег исчезает; вокруг — ничего, кроме мрака. Ощущение восхитительное и опьяняющее: уходить в пустынную тьму, в безмолвие ночи, по темному морю, вдали от всего. Кажется, что навсегда покидаешь землю, что конца пути не будет, никогда не покажется берег, не займется день. Маленький фонарь у моих ног освещает компас, указывающий мне курс. Нужно пройти не меньше трех миль в открытом море, чтобы к восходу солнца благополучно миновать два мыса: Ру и Драммон, каким бы ветром ни подуло. Из предосторожности мы зажгли сигнальные огни — красный на левом, зеленый на правом борту, и я с наслаждением отдаюсь бесшумному, быстрому и плавному бегу судна.
И вдруг впереди нас слышится крик. Я вздрагиваю, — голос раздался очень близко; но я не вижу ничего, перед моими глазами только непроницаемая стена мрака, в которую я врезаюсь и которая смыкается позади меня. Раймон, который несет вахту на носу, говорит:
— Это тартана, она идет на восток; пропустите ее, сударь, мы пройдем позади.
Внезапно, вплотную к нам, словно призрак, смутный и пугающий, из мрака на мгновение выступает огромная трепещущая тень большого паруса и тотчас же исчезает. Нет ничего более фантастического, необычайного и жуткого, чем эти краткие видения ночью в открытом море. Рыболовные суда и шаланды с песком никогда не зажигают огней; их замечаешь только в ту минуту, когда оказываешься борт о борт с ними, и от этих встреч, как при виде сверхъестественных явлений, замирает сердце.
Издали слышится птичий свист. Птица приближается, пролетает мимо, удаляется. Почему мне не дано, как ей, блуждать на просторе?
Наконец брезжит рассвет, тихий и безоблачный, и занимается утро, ясное утро почти летнего дня.
Раймон уверяет, что ветер будет восточный, Бернар по-прежнему отстаивает западный и советует мне идти правым галсом к виднеющемуся вдали мысу Драммон. Я соглашаюсь с ним, и под вялыми толчками умирающего бриза мы приближаемся к Эстерельским горам. Длинный красный хребет, отражаясь в синей воде, окрашивает ее в фиолетовый цвет. Сильно изрезанный берег, красивый, нарядный, весь в бухтах, заливчиках и причудливых уступах, словно ждет, охорашиваясь, привычную толпу вздыхателей. На склонах еловый лес подымается до самых гранитных вершин, похожих на замки, на города, на каменные войска, перегоняющие друг друга. А море у подножья скал такое прозрачное, что даже видно песчаное дно и водоросли.
Бывают дни, когда меня с такой силой охватывает ужас перед всем существующим, что я призываю смерть. Однообразие вечно неизменных пейзажей, человеческих лиц, мыслей причиняет мне нестерпимые муки. С изумлением и гневом взираю я на убожество вселенной, ничтожность всего сущего возмущает меня, человеческое тупоумие удручает безмерно.
Но бывают иные дни, когда я, как всякая живая тварь, радуюсь всему. Пусть мой ум, беспокойный, мятущийся, чрезмерно обостренный работой, лелеет мечту о счастье, недоступном нашему роду, и, поняв тщету всех надежд, с презрением отворачивается от мира, — тело мое, тело животного, наслаждается всеми радостями бытия. Я люблю небо, как птица; лесную чащу, как бродяга-волк; скалистые горы, как серна; люблю высокую траву, где можно полежать, побегать на свободе, как жеребенок; люблю прозрачную воду, где можно плавать, как рыба. Я чувствую себя сродни всем видам животных, мне близки все инстинкты, все неосознанные желания низших существ. Я люблю землю, как они, а не так, как вы, люди; люблю ее, не восхищаясь, не воспевая, не приукрашая. Люблю любовью животной и глубокой, презренной и святой все, что живет, что произрастает, все, что я вижу, ибо все это, не волнуя ум, радует глаз и пленяет душу: дни, ночи, реки, моря, рощи, бури, восходы солнца, женский взор и женская красота.
Тихая ласка прибоя на прибрежном песке и на граните скал пьянит и умиляет меня; радость, с какой я отдаюсь движению, подгоняемый ветром и уносимый волной, порождена тем, что я во власти стихийных сил природы, что я вернулся к первобытной жизни.
Когда солнце светит так ярко, как сегодня, я чувствую в моих жилах кровь древних фавнов, распутников и бродяг, и я уже не брат человеку, я брат всему живущему, всему, что существует на земле!
Солнце стоит уже над горизонтом. Как и позавчера, бриз падает, но ни западный ветер, предсказанный Бернаром, ни восточный, предугаданный Раймоном, не подымается.
До десяти часов мы, не двигаясь с места, покачиваемся на волнах, словно обломок крушения; потом легкий ветерок со стороны моря чуть подтолкнул нас, улегся, опять подул, точно поддразнивая парус и, в насмешку над нами, обещая бриз, которого нет и нет. Движение воздуха едва заметно, это не более как легкое дыхание или помахивание веером; однако этого достаточно, чтобы мы не стояли на месте. Дельфины, эти морские акробаты, кувыркаются вокруг нас, стремительно выскакивают из воды, словно собираясь лететь, молнией проносятся по воздуху, потом ныряют и снова показываются на поверхности немного дальше.
В первом часу, когда мы были против бухты Аге, ветер упал окончательно, и я понял, что ночь застанет меня в открытом море, если я не укроюсь в бухте, а для этого нужно было взять яхту на буксир.
Итак, я посадил обоих матросов в шлюпку, и они, уйдя на тридцать метров вперед, потащили за собой яхту. Солнце палило нещадно, вода ослепительно сверкала вокруг меня, палуба накалилась.
Бернар и Раймон гребли медленно и плавно, как два рычага, очень ветхие и стертые, которые работают с трудом, но ни на миг не прекращают своего механического движения.
Живописная бухта Аге образует надежный рейд, укрытый с одной стороны отвесными красными скалами, над которыми возвышается семафор, и у выхода в море — Золотым островом, который обязан этим названием своей окраске; с другой — цепью невысоких гор, оканчивающихся маленьким выступом, на котором стоит маяк, указывающий вход в гавань.
На берегу нет ничего, кроме гостиницы для капитанов судов, укрывающихся здесь в непогоду, и любителей рыбной ловли, иногда приезжающих летом, железнодорожной станции, где останавливается всего два поезда в сутки и где никто не сходит, и красивой речки, которая течет в глубь Эстерельских гор до лощины Маленферме, поросшей олеандрами, словно долина на африканском берегу.
Ни одна дорога не ведет к этой прелестной бухте. Только узкая тропинка соединяет ее с Сен-Рафаэлем, минуя порфировые каменоломни Драммона; по ней можно пройти только пешком. Итак, мы в горной пустыне.
Я решил погулять до вечера по дорожкам, окаймленным цистом и мастиковыми деревьями. В воздухе разливается сильный, терпкий аромат диких растений, смешиваясь с могучим смолистым дыханием огромного бора, который тяжело переводит дух, словно задыхаясь от зноя.
После часа ходьбы я очутился в еловой роще, на отлогом горном склоне. Пласты гранита, эти кости земли, казались алыми на солнце, и я шел медленно, счастливый, как, должно быть, счастливы ящерицы на раскаленных камнях, — и вдруг увидел, что мне навстречу, не замечая меня, спускается влюбленная пара, опьяненная своим счастьем.
Как это было красиво, пленительно, — дорожка, бегущая под гору, и эти два человеческих существа, которые шли по ней, обнявшись, не видя ничего вокруг, то освещенные ярким солнцем, то вступая в полосу тени.
На ней было изящное серое платье, очень простое и строгое, и элегантная фетровая шляпка. Его я не успел разглядеть. По-видимому, это был человек из хорошего общества. Когда они появились на дорожке, я спрятался за дерево, чтобы получше рассмотреть их. Они прошли мимо, не взглянув в мою сторону, по-прежнему молча, обнявшись, — так нежно они любили друг друга.
Я долго смотрел им вслед, и когда они скрылись из виду, в сердце мое закралась тоска. Мимо меня прошло счастье, которое я не изведал, и я догадывался, что это лучшее счастье на земле. Прогулка уже не привлекала меня, я очень устал и пошел обратно, на побережье бухты Аге.
До вечера я пролежал на траве, на берегу речки, а в седьмом часу отправился в гостиницу обедать.
Мои матросы предупредили хозяина, и прибор для меня уже стоял на столе в низкой комнате с оштукатуренными стенами; за соседним столиком, не сводя друг с друга восхищенных глаз, сидела моя влюбленная пара.
Я почувствовал себя неловко, словно, нарушив их уединение, я совершил некрасивый и неприличный поступок.
Они окинули меня рассеянным взглядом и шепотом заговорили между собой.
Хозяин, с которым я был хорошо знаком, сел за мой стол. Он поговорил об охоте, о погоде, о мистрале, рассказал про итальянского капитана, который накануне ночевал в гостинице; потом, чтобы польстить мне, начал расхваливать мою яхту, поглядывая в окно на ее черный корпус и высокую мачту с красно-белым флажком.
Мои соседи, быстро покончив с обедом, тотчас же ушли. Я остался сидеть за столом, любуясь узким серпом луны, серебрившим поверхность моря. Наконец я увидел свою шлюпку, она шла к берегу, оставляя темную борозду на тусклой полосе лунного света.
Я вышел из гостиницы и опять увидел мою парочку, — он и она стояли на берегу и любовались морем.
Сидя в шлюпке, уносившей меня вдаль, прислушиваясь к всплеску воды под частыми ударами весел, я все еще видел на берегу их силуэты, две тени — одна подле другой. И столь велика была нежность, источаемая ими, что они, словно символ земной любви, заслонили собой бухту, ночь, весь необъятный горизонт.
После того как я взошел на борт, я еще долго сидел на палубе, тоскуя сам не знаю о чем, оплакивая сам не знаю что, и никак не мог решиться уйти в каюту, словно мне хотелось как можно дольше дышать напоенным любовью воздухом.
Внезапно одно из окон гостиницы осветилось, и я увидел два человеческих профиля. Сознание моего одиночества сразило меня, и этой теплой весенней ночью, под рокот прибоя на прибрежном песке, при свете месяца, трепетавшем на поверхности моря, мной овладело такое страстное желание полюбить, что я едва удержался от крика отчаяния и боли.
Но я тотчас устыдился этой слабости и, не желая сознаться, что я такой же человек, как и все, свалил вину на лунный свет, затемнивший мой разум.
Впрочем, я всегда держался того мнения, что луна каким-то таинственным образом влияет на человеческий рассудок.
Поэты бредят ею в упоительных или нелепых стихах, а на чувства влюбленных она оказывает такое же действие, как катушка Румкорфа на электрический ток. Тот же человек, который при солнце любит спокойно и трезво, теряет голову и безумствует при луне.
Как-то раз красивая молодая женщина в беседе со мной уверяла, уж не помню по какому поводу, что лунный удар в тысячу раз опаснее солнечного. Им можно заболеть нечаянно, — говорила она, — во время прогулки в лунную ночь, и эта болезнь неизлечима; помешательство остается на всю жизнь, не буйное, при котором больных приходится держать под замком, а тихое и неизлечимое; тот, кто страдает им, обо всем думает по-своему, не так, как другие.
Несомненно, со мной сегодня приключился лунный удар, ибо мысли мои путаются и я словно в бреду; узкий серп луны, сияющий над морем, волнует меня и умиляет до слез.
В чем обаяние этой луны, этого давно умершего небесного светила, которое являет нам свой желтый лик и посылает на землю мертвенный свет своих лучей? Чем она пленяет нас — нас, чья мысль носится в вольном полете? Не потому ли мы любим ее, что она мертва? Как сказал поэт Арокур[9]:
Потом пришла пора ветров и остываний, Луна наполнилась волной живых роптаний: Все было у нее — и реки без числа, И глубь морей, стада и грады, смех и стоны, Была любовь, был бог, искусство и законы — Все постепенно тень взяла.[10]Не потому ли мы любим ее, что поэты, которым мы обязаны извечным самообманом, пропитывающим всю нашу жизнь, обольстили наши взоры всеми образами, увиденными в ее лучах, научили наше безудержное воображение постигать на тысячу ладов неизменную ласку ее сияния?
Когда она выплывает из-за деревьев, озаряет трепетным светом ручей, сквозь густую листву играет на песке аллей, шествует одинокая по черному пустынному небу, клонится к морю, протягивая по его струистому, зыбкому простору светоносную дорожку, — разве нашу память не осаждают все вдохновенные строфы, сложенные в ее честь великими мечтателями?
Если мы идем по улице ночью и на душе легко, а она, повиснув над чьей-то крышей, смотрит на нас, круглая-прекруглая, точно желтый глаз, у нас в ушах звучит бессмертная баллада Мюссе.
И разве мы не смотрим на нее его глазами, глазами поэта-насмешника?
Ночь веет желтой мглою[11]; Вот башня в забытьи, — С луною, Как точкою над i. Какой угрюмый гений На нитке вздернуть мог Сквозь тени, Луна, твой диск иль рог?Если мы гуляем по берегу океана, озаренному ею, и нам взгрустнулось, разве не просятся на уста эти прекрасные и печальные строки:
Луна бродячая, одна в дали морской, Гладь черных вод кропит серебряной слезой.Если мы просыпаемся среди ночи и на постель из окна падает серебристый луч, разве не чудится нам белое видение Катюля Мендеса:
Она сходила к нам, сжимая стебли лилий, И плавные лучи тропинкой ей служили.Если мы вечером идем полями и вдруг издали доносится жалобный вой собаки, разве не приходят нам тотчас на ум чудесные стихи Леконта де Лиля:
Лишь бледная луна, прорезав толщу туч, Лампадой мрачною свой зыблет грустный луч. Клейменный яростью, безмолвный и туманный Осколок, мертвый мир, весь поглощенный мглой, — Она роняет вниз с орбиты ледяной Свой отсвет гробовой на океан ледяный.В вечерний час тихо бредешь по аллее, обняв стан возлюбленной, сжимая ей руки и целуя ее в висок. Она слегка утомлена, слегка взволнована и идет медленно, усталой походкой. Но вот скамейка под деревом, залитая мягким, нежным сиянием.
Разве в то же мгновение не вспыхивает в нашей памяти, в нашем сердце, словно чудесная песня любви, очаровательное двустишие:
И пробудить, садясь, тот блик печальный, Тот лунный блик, что дремлет на скамье.Можно ли увидеть, как я вижу сейчас, тонкий профиль молодого месяца на высоком, усеянном звездами небе и не вспомнить шедевр Виктора Гюго Спящий Вооз:
...И вопрошала Руфь, Полуоткрыв глаза, смеженные дотоле Под легкою фатой, застыв: — Какой же бог, Жнец лета вечного, так беззаботно мог Серп золотой забыть на этом звездном поле?И кто лучше Гюго сказал о луне, покровительнице любви и влюбленных?
Ночь пала; смолкло все; погашены огни; Чуть слышно плакали ручьи в лесной тени, И соловей в гнезде, на ветке потаенной, Запел вдруг как поэт, запел вдруг как влюбленный. Все скрылось в заросли, в листву густых кустов; Безумицы, смеясь, скликали мудрецов; Ушла любовница во тьму с любимым другом, И, как во сне, полны смущеньем и испугом, Они почуяли, как проливался в них, В их речи тайные, в огонь их глаз живых, В их чувства, в их сердца, в их нежную истому Свет голубой луны, что плыл по окоему.И еще я вспоминаю удивительную молитву к луне, которой Апулей начинает одиннадцатую книгу Золотого осла.
Впрочем, всех песнопений поэтов недостаточно, чтобы объяснить сентиментальную грусть, которую внушает нам это бедное светило.
Мы жалеем луну, жалеем невольно, не зная отчего, не зная из-за чего, и потому любим ее.
И любовь, которую мы дарим ей, смешана с жалостью; мы жалеем ее, как жалеем старую деву, ибо мы смутно догадываемся, что это не мертвая планета, а девственная.
Планеты, подобно женщинам, нуждаются в муже, и, может быть, бедная луна, отвергнутая солнцем, просто-напросто, как мы говорим, осталась в девках?
Вот почему ее робкое сияние внушает нам несбыточные мечты и неосуществимые желания. Все, что мы ждем от жизни на земле, все наши сокровенные и тщетные надежды подымаются в бессильном порыве из тайников души под ее бледными лучами. И мы подолгу смотрим на нее, прельщенные обманчивыми снами, томимые неутоленной нежностью.
Узкое лезвие золотого серпа окунулось одним концом в воду, и он медленно, плавно погрузился весь, до другого острия, столь тонкого, что я не заметил, как он исчез.
Тогда я взглянул на гостиницу. Освещенное окно только что закрылось. Гнетущая тоска сдавила мне грудь, и я спустился в свою каюту.
10 апреля.
Как только я лег в постель, я понял, что мне не уснуть; я лежал на спине, с закрытыми глазами, нервы мои были натянуты, как струны, мысль работала неустанно. Кругом ни шороха, ни звука, лишь дыханье обоих матросов доносилось до меня сквозь тонкую перегородку.
Вдруг что-то скрипнуло. Что? Не знаю, должно быть, блок рангоута; но скрип был такой тихий, такой печальный и жалобный, что я вздрогнул всем телом; и опять тишина, бескрайняя тишина, объемлющая мир до самых звезд; ни дуновения, ни всплеска, ни колебания судна; но вот снова таинственное еле слышное стенанье словно зазубренным ножом резнуло меня по сердцу. Есть шорохи, звуки, голоса, которые ранят, которые в один миг наполняют душу болью, ужасом, смертной тоской. Я ждал, прислушиваясь, и снова до меня донесся этот протяжный звук, словно исторгнутый из моей груди, словно то была дрожь моих собственных нервов; или, вернее, этот звук отозвался во мне скорбным и горестным призывом. Да, то был голос жестокий, знакомый, которого я ждал со страхом и отчаянием. Тихий скрип в ночном безмолвии, — и на меня тотчас дохнуло ужасом и безумием, ибо в этом слабом звуке довольно силы, чтобы мгновенно пробудить нестерпимую боль, всегда дремлющую в душе всех живущих. Чей это голос? Это голос, который неумолчно звучит в нашем сердце, который укоряет нас непрерывно, неотступно, упорно, неотвязно, безжалостно, жестоко, непримиримо, укоряет нас во всем, что мы совершили, и во всем, чего не совершили; это голос совести, смутных сожалений о невозвратном, об ушедших днях, о случайно встреченных женщинах, которые, быть может, полюбили бы нас, о горьких утратах, о суетных радостях, несбывшихся надеждах; голос всего, что проходит, что уносится, обманывает, исчезает, всего, чего мы не достигли и не достигнем никогда; тоненький, ноющий голосок, сетующий на беспросветность жизни, на тщету усилий, на немощь духа и слабость плоти.
Вновь и вновь, нарушая угрюмое молчание ночи, он шептал мне в ухо, припоминая все, что я мог бы любить, все, к чему безотчетно тянулся, о чем грезил, мечтал, все, что жаждал увидеть, достигнуть, узнать, чем хотел насладиться, все, что напрасной надеждой манило мой бедный, ненасытный, немощный и бескрылый ум, все, к чему он безуспешно стремился, не в силах вырваться из оков незнания.
Да, я жаждал всего и ничем не насладился! Мне бы жизненную силу всего рода человеческого, разум, отпущенный всем существам земным, все таланты, все силы и тысячу жизней вместо одной, ибо все манит меня, все соблазняет мою мысль, и я обречен все созерцать, не владея ничем.
Почему жизнь для меня страдание, тогда как другие живут, не испытывая ничего, кроме удовольствия? Почему я осужден на эту непостижимую пытку? Почему мне не дано познать подлинную, не призрачную радость, надежду, счастье?
Потому, что я владею даром ясновидения, источником силы и мук писателя. Я пишу, ибо я понимаю мир и терзаюсь им, ибо я слишком хорошо его знаю, и еще потому, что, не имея доли в нем, я гляжу на его отражение во мне, в зеркале моей мысли.
Не завидуйте нам, — мы достойны жалости, ибо вот что отличает писателя от его ближних.
Для него не существует более безотчетных порывов. Все, что он видит, все его радости, развлечения, горести, муки тотчас же становятся предметом наблюдений. Он изучает неустанно, вопреки всему, вопреки себе, — чувства, лица, движения, звук голоса. Не успеет он увидеть, что бы он ни увидел, — он уже спрашивает: почему? Он не знает ни движения, ни возгласа, ни поцелуя, который не был бы ложью, не знает внезапных поступков, совершаемых людьми потому, что так нужно, не рассуждая, не задумываясь, не понимая, не отдавая себе отчета даже впоследствии.
Страдает ли он, — он отмечает свои страдания и по памяти разбирает их; он говорит себе, возвращаясь с кладбища, где похоронили того или ту, что любил больше всего на свете: «Странное это было чувство, какое-то горестное упоение и т. д.». И тут же он вспоминает все подробности, — поведение соседей, фальшивые жесты, фальшивые изъявления горя, фальшивое выражение лиц; вспоминает тысячу мелочей, подмеченных глазом художника: как крестилась старуха, ведя за руку ребенка, как из окна падал луч света, как собака затесалась в процессию, как погребальные дроги стояли под высокими тисами кладбища, как шагал факельщик, как морщились могильщики, вчетвером опуская тяжелый гроб в свежевырытую яму, — словом, тысячу подробностей, которых никогда бы не заметил обыкновенный человек, горюющий всем сердцем, всей душой, всем существом своим.
Он все видел, все запомнил, все отметил, помимо своей воли, потому что он прежде всего — писатель, и мозг его так устроен, что отзвук для него живее, естественнее, так сказать, чем первое колебание, эхо отчетливей, чем первоначальный звук.
У него словно две души, и одна из них подмечает, истолковывает, оценивает каждое ощущение своей соседки — души естественной, общей всем людям; и на всю жизнь он осужден навсегда и везде быть отражением других, осужден наблюдать, как он чувствует, действует, любит, мыслит, страдает, и никогда не страдать, не мыслить, не любить, не чувствовать подобно всем смертным, чистосердечно, искренне, просто, не изучая себя после каждой улыбки и каждой слезы.
Беседует ли он, — его мнения часто кажутся злословием только потому, что мысль его проницательна и он умеет разобрать все скрытые пружины чужих поступков и чувств.
Пишет ли он, — он не может удержаться от соблазна вложить в свои книги все, что он видел, все, что понял, все, что знает; и это не щадя ни близких, ни друзей, с жестоким беспристрастием обнажая душу тех, кого он любит или любил, даже сгущая краски, чтобы усилить впечатление, думая только о своем творении и нимало не заботясь о своих чувствах.
Любит ли он, — если это женщина, он препарирует ее как труп в анатомическом театре. Все, что она говорит, все, что она делает, мгновенно взвешивается на чувствительных весах анализа, которые он носит в себе, и оценивается с бухгалтерской точностью. Пусть, охваченная нежностью, она бросится ему на шею, — он отнесется к ее порыву сообразно с тем, насколько ее движение уместно, точно, выразительно, и молчаливо осудит его, если найдет фальшивым или неловким.
Актер и в то же время зритель своей и чужой игры, он никогда не бывает только актером, как бесхитростные люди, которые живут не мудрствуя. Все вокруг него становится прозрачным — души, поступки, тайные помыслы; им владеет какой-то странный недуг, похожий на раздвоенность сознания, и это делает его существом чрезмерно восприимчивым, сложным, замысловатым и утомительным для самого себя. Вдобавок он столь болезненно впечатлителен, словно с него живого содрали кожу, и каждое соприкосновение с миром причиняет ему жгучую боль.
Бывали в моей жизни черные дни, когда что-нибудь, на миг мелькнувшее предо мной, так сильно удручало меня, что воспоминания об этих мимолетных видениях остались в моей душе, как незажившие раны.
Однажды утром, на авеню Оперы, в веселой толпе, опьяненной весенним солнцем, я вдруг увидел существо невообразимо жалкое — дряхлую старуху, сгорбленную, почти перегнувшуюся пополам, одетую в лохмотья, некогда бывшие платьем, в черной соломенной шляпе, в незапамятные времена утратившей цветы и ленты, которые некогда украшали ее. Она брела, еле волоча ноги, и, должно быть, сама не испытывала мучительной боли, какой отзывался в моем сердце каждый ее шаг. Она шла, опираясь на две палки, ни на кого не глядя, не замечая ни шума, ни прохожих, ни карет, ни солнца! Куда она шла? В какую конуру? Она несла сверток, держа его за веревочку. Что было в свертке? Да, конечно, хлеб. Ни одна душа, никто из соседей не смог или не пожелал оказать ей эту услугу, и вот она сама пустилась в дальнюю страшную дорогу — со своего чердака до булочной. Добрых два часа, чтобы дойти туда и обратно. А какое мучительное путешествие! Это ли не крестный путь, многострадальней крестного пути Христа!
Я бросил взгляд на крыши многоэтажных домов. Она направлялась к ним. Когда она доберется туда? Сколько раз она остановится, задыхаясь на ступеньках грязной, темной лестницы?
Прохожие оглядывались на нее. Бормотали: «Бедная старуха!» — и шли дальше. Платье, вернее жалкие остатки его, волочившиеся по тротуару, едва держалось на этой человеческой руине. И в этом существе жила мысль! Мысль? Нет, только жестокая, беспросветная мука! О нищета стариков, доживающих свой век без куска хлеба, без надежд, без детей, без денег, не видя ничего впереди, кроме смерти, — думаем ли мы о ней? Думаем ли мы о том, как они голодают, забившись в свою конуру? Думаем ли мы о слезах, которые льются из потускневших глаз, некогда сверкавших радостью и оживлением?
В другой раз, охотясь на Нормандской равнине, я шел один, под проливным дождем, скользя и увязая в жирной, липкой грязи. Время от времени из-под кочки взлетала вспугнутая куропатка и тяжело поднималась в воздух. Выстрел моего дробовика, заглушаемого шумом ливня, звучал не громче щелканья бича, и подстреленная птица с окровавленными перышками падала на землю.
Мне было грустно, так грустно, что я чуть не плакал, как плакало небо над миром и надо мной; сердце ныло от тоски, усталые ноги, облепленные глиной, едва двигались; я уже решил возвратиться домой, как вдруг на дороге, пересекающей поле, появилась коляска доктора.
Черная низкая пролетка с круглым верхом, запряженная гнедой кобылой, казалась знамением смерти, блуждающей по угрюмым, мокнущим под дождем полям. Внезапно коляска остановилась, и доктор, высунув голову, крикнул:
— Эй!
Я подошел к нему. Он сказал:
— Хотите помочь мне? Я еду к дифтеритной больной, и некому держать ее, пока я буду снимать пленки у нее в горле.
— Едем, — отвечал я и сел в его коляску.
Вот что он рассказал мне.
Ангина, страшная болезнь, которая безжалостно душит свои жертвы, проникла на ферму к беднягам Мартине!
Отец и сын умерли на прошлой неделе. Мать и дочь были при смерти.
Соседка, ухаживавшая за ними, почувствовав недомогание, убежала накануне, оставив дверь открытой и бросив больных на произвол судьбы; на соломе, без воды, без помощи, в полном одиночестве, задыхаясь, хрипя в предсмертных мученьях, — так они лежат уже сутки!
Он только что прочистил горло матери и дал ей напиться, но девочка, обезумев от боли и мучительных приступов удушья, спрятала голову под солому и не подпускала к себе.
Доктор, привыкший к нищете своих больных, говорил грустно и покорно:
— Не могу же я проводить целые дни у больных! Но на этих глядеть жалко. Подумать только, что они сутки пролежали без капли воды. Дождь хлестал в открытую дверь, чуть не до их постелей. Куры забились в очаг.
Мы подъехали к ферме. Он привязал лошадь к яблоне перед дверью, и мы вошли.
Удушливый запах болезни и сырости, лихорадки и плесени, больничной палаты и погреба ударил нам в лицо. Пронизывающий холод, холод трясин, стоял в этом нетопленном, покинутом жизнью доме, унылом и мрачном. Часы остановились; струйки воды стекали по трубе в топку, где куры раскидали золу, из темного угла доносился частый громкий хрип — дыхание больной девочки.
Мать тихо лежала в длинном деревянном ящике, обычно заменяющем крестьянам кровать, под ветхим одеялом и старым тряпьем.
Она слегка повернула голову в нашу сторону.
Доктор спросил:
— Найдется у вас свеча?
Она ответила тихим, слабым голосом:
— В шкафу.
Доктор зажег свечку и повел меня в угол к постели девочки.
Она была страшна — обтянутые скулы, горящие глаза, спутанные волосы. При каждом вдохе на ее исхудалой шее обозначались глубокие впадины. Она лежала на спине, сжимая обеими руками покрывавшие ее лохмотья; и как только мы подошли, она легла ничком и спрятала голову в солому.
Я взял ее за плечи, и доктор, заставив ее открыть рот, вырвал из ее горла большую беловатую пленку, показавшуюся мне сухой, точно кусок кожи.
Ей сразу стало легче дышать, и она выпила немного воды. Мать, приподнявшись на локте, смотрела на нас.
Она прошептала:
— Сняли?
— Да, снял.
— Мы тут одни останемся?
Голос ее дрожал от страха, от леденящего душу страха остаться одной, без помощи, в потемках, чувствуя, как надвигается смерть.
Я сказал:
— Нет, милая, я побуду здесь, пока доктор не пришлет сиделку. — И добавил, обратившись к врачу: — Пришлите тетку Модюи. Я заплачу ей.
— Отлично. Пришлю немедля.
Он пожал мне руку и вышел; слышно было, как его коляска покатила по размытой дороге.
Я остался один на один с умирающими.
Паф, моя охотничья собака, улегся у пустого черного очага, и я подумал, что хорошо бы развести огонь. Я принес со двора хворосту и соломы, и вскоре большое пламя осветило всю комнату, вплоть до постели девочки, снова начавшей задыхаться. Потом я сел на низенький стул и протянул ноги к огню.
Дождь стучал по оконному стеклу; ветер сотрясал крышу; я слышал трудное, жесткое, свистящее дыхание больных и довольное посапывание собаки, свернувшейся перед огнем.
Жизнь! Жизнь! Что это такое? Эта женщина и ее дочь всегда спали на соломе, ели черный хлеб, работали от зари до зари, терпели все муки земные и вот теперь умирают! За что? Что они сделали? Отец умер, сын умер. А ведь эти несчастные слыли хорошими людьми, их любили и уважали; простые, честные люди!
Я смотрел на свои дымящиеся сапоги, на дремлющую собаку, и внезапно, при мысли о том, как мало мой жребий похож на жребий этих каторжников жизни, меня охватила постыдная, животная радость.
Девочка заметалась на постели, и я почувствовал, что не в силах больше слушать ее хриплое дыханье; каждый ее вздох ножом вонзался мне в сердце, раня его все глубже и глубже.
Я подошел к ней.
— Хочешь пить? — спросил я.
Она кивнула, и я влил ей в рот несколько капель, но вода не прошла в горло.
Мать, до этого лежавшая неподвижно, повернулась, чтобы посмотреть на дочку; и вдруг мне стало страшно, мурашки поползли у меня по спине, словно меня коснулось что-то невидимое и жуткое. Где я? Как я очутился здесь? Не сплю ли я, не кошмар ли меня душит?
Неужели правда, что это бывает, что так умирают люди? И я вглядывался в темные углы хижины, словно ожидая, что сейчас увижу притаившееся чудовище, гнусное, отвратительное, страшное, которое подстерегает человеческую жизнь, убивает, грызет, давит, душит людей; чудовище, которое любит алую кровь, воспаленные глаза, сухую морщинистую кожу, седые волосы и заострившиеся черты.
Огонь в очаге почти потух. Я подбросил хворосту и стал спиной к пламени, чтобы согреться, — мороз подирал меня по коже.
У меня хоть была надежда, что я умру в уютной комнате, что над моей постелью склонятся врачи, а на столе будут стоять склянки с лекарствами!
А эти несчастные целые сутки, задыхаясь, метались на соломе, одни, в нетопленной лачуге!
Снаружи послышался стук копыт и шум подъезжающей коляски; вошла сиделка, очень довольная, что нашла работу, ничуть не удивленная и не испуганная этой картиной нищеты и смерти.
Я оставил ей немного денег и, кликнув собаку, бросился бежать; я бежал, словно преступник от погони, бежал со всех ног, под дождем, все еще слыша свистящее дыханье двух гортаней, бежал домой, где меня ждали теплая комната и вкусный обед, приготовленный моими слугами.
Но я никогда этого не забуду, как не забуду и многое другое, что вынуждает меня ненавидеть нашу планету.
Бывают минуты, когда меня охватывает страстное желанье не думать, не чувствовать, желанье жить, как животное, в светлом и теплом краю, на желтой земле, без яркой, кричащей зелени, в какой-нибудь стране Востока, где отходят ко сну не печалясь и просыпаются не горюя, где знают волнения, но не знают забот, где умеют любить без терзаний, где едва чувствуют, что живут на свете.
Я поселился бы в просторном квадратном доме, похожем на огромный, сверкающий на солнце ящик.
С террасы видно море, где, словно заостренные крылья, скользят белые паруса греческих или турецких кораблей. Наружные стены почти без окон. В обширном внутреннем дворе, под сенью пальм, знойный воздух недвижим. Струя воды бьет под самые верхушки деревьев и, дробясь, падает в большой водоем, дно которого посыпано золотым песком. Я ежечасно купался бы в нем, между двумя трубками, двумя сновидениями, двумя поцелуями.
У меня были бы невольники, черные, красивые, в длинных, легких одеяниях, босые, которые быстро и бесшумно двигались бы по пышным коврам.
Стены в моих покоях были бы мягкие и упругие, как женская грудь, а на диванах, сплошным кольцом окружающих каждый покой, лежали бы подушки всех размеров и форм, чтобы я мог растянуться на них поудобнее.
Потом, когда мне наскучит этот сладостный отдых, наскучит грезить наяву и в праздности предаваться неге, я велю привести к моему крыльцу белого или черного скакуна, быстрого, как серна.
И я помчусь стрелой, упиваясь встречным ветром, который хлещет по лицу и свистит в ушах, когда скачешь во весь опор. И буду носиться по этой многоцветной земле, душистой и пьянящей, как доброе вино.
В тихий вечерний час я бешеным галопом доскачу до необъятного горизонта, розовеющего в последних лучах солнца. В том краю в вечерних сумерках все розовеет: опаленные солнцем горы, песок, одежды арабов, верблюды, лошади и палатки. Розовые фламинго снимаются с болот и взлетают к розовому небу; и я, в исступлении, закричал бы от восторга, погружаясь в розовое море бескрайнего мира.
Я не видел бы больше, как вдоль тротуаров на неудобных стульях сидят одетые в черное люди, пьют абсент и под грохот колес говорят о делах.
Я забыл бы про цены на бирже, про политические события, про смены министерств, про весь тот бесполезный вздор, на который мы расточаем свою короткую, обманчивую жизнь. К чему столько усилий, страданий, битв? Я наслаждался бы покоем, укрывшись от бури в моем роскошном, светлом жилище.
У меня было бы четыре, нет, пять жен, и я держал бы их в уединенных, укромных покоях, — пять жен из пяти частей света, которые одарили бы меня цветением женской красоты, распустившейся во всех племенах мира.
Крылатые грезы носились перед моими закрытыми глазами в моем дремлющем мозгу, когда я услышал, что мои матросы встают, зажигают фонарь и молча принимаются за какую-то работу.
Я крикнул:
— Что вы там делаете?
Раймон ответил несколько смущенно:
— Готовим перемет, мы думали, может, вы захотите порыбачить, если утро будет погожее.
В бухту Are в летнее время стекаются рыболовы со всего побережья. Приезжают целыми семьями, ночуют в гостинице или в лодках, едят уху с чесноком на взморье, в тени сосен, на которых потрескивает нагретая солнцем смола.
Я спросил:
— Который час?
— Три часа, сударь.
Не вставая, я протянул руку и распахнул дверь, ведущую в кубрик.
Бернар и Раймон сидели на корточках в этой низкой конуре, через которую проходит мачта, укрепленная на киле, и где хранится такое множество разнообразных и удивительных предметов, что ее можно принять за воровской притон: на стенах в стройном порядке развешаны всевозможные инструменты — пилы, топоры, свайки, разная снасть, котелки; медные обручи сверкают под лучом фонаря, подвешенного между якорными битенгами рядом с ящиками для цепей; и среди всего этого мои матросы, присев на корточки, старательно наживляли бесчисленные крючки, привязанные к бечеве перемета.
— А когда мне нужно будет вставать? — спросил я.
— Да пора уже, сударь.
Полчаса спустя мы втроем, покинув «Милого друга», сели в шлюпку, чтобы протянуть перемет у подножья Драммона, подле Золотого острова.
Спустив на дно бечеву длиной в двести — триста метров, мы наживили донки, заякорили шлюпку при помощи камня, привязанного к канату, и занялись ловлей.
Уже рассвело, и я отчетливо видел склон Сен-Рафаэля, возле узенькой бухты Аржанс, и темную цепь Мавританских гор, уходящую в открытое море до мыса Камара, за бухтой Сен-Тропез.
Из всего южного побережья я больше всего люблю этот уголок. Я люблю его, словно я здесь родился, вырос, люблю за то, что это дикое и живописное место, еще не испорченное парижанами, англичанами, американцами, светской публикой и авантюристами всех стран.
Вдруг донка в моей руке дернулась, я вздрогнул; потом легкое сотрясение, от которой леска затянулась вокруг моего пальца, потом мою руку потянуло вниз, и я с бьющимся сердцем потихоньку стал выбирать леску, жадно вглядываясь в прозрачную синюю воду, — и вот под тенью лодки мелькнуло что-то белое, извивающееся.
Мне померещилось, что это огромная рыбина, а когда мы подняли ее в лодку, она оказалась не больше сардинки.
Потом мне попадались другие: голубые, красные, желтые, зеленые, блестящие, серебристые, золотистые, пятнистые, полосатые, крапчатые — красивая средиземноморская рыбешка, такая разноцветная и пестрая, как будто ее раскрасили нарочно; поймали мы и колючих ельцов, и страшных чудищ — мурен.
Нет ничего увлекательней, как выбирать перемет. Что вынырнет из воды? Какое замирание сердца, какая радость или разочарование при каждом появлении крючка! Как весело, когда издали заметишь крупную рыбу, которая, дергаясь, медленно приближается к тебе.
В десять часов мы уже снова были на борту яхты, и матросы, сияя от гордости, объявили мне, что наш улов весит одиннадцать килограммов.
Но мне дорого обошлась моя бессонная ночь! Мигрень, жестокая мигрень, которая страшнее всякой пытки, которая долбит мозг, сводит с ума, путает мысли и рассеивает память, подобно тому как ветер взметает пыль, — мигрень сразила меня, и мне пришлось растянуться на койке со склянкой эфира.
Через несколько минут я услышал тихий рокот, потом он перешел в жужжание, и мне показалось, что тело мое становится все легче и легче, словно превращаясь в пар.
Потом мало-помалу ум мой погрузился в дремоту, и меня охватило сладостное оцепенение, хотя мигрень не унималась, а стала только менее мучительной. Это была уже не жестокая пытка, против которой восстает все наше существо, а тупая боль, с которой можно примириться.
Потом странное и приятное ощущение пустоты разлилось по всему телу, и я почувствовал, что и ноги и руки мои становятся невесомыми, словно кости и мышцы истаяли и осталась одна только кожа, чтобы я, погруженный в благодатный покой, мог познать всю сладость жизни. И тут я заметил, что боль отпустила меня. Она ушла, она тоже растаяла, испарилась. И я услышал голоса, четыре голоса, которые по двое вели беседу между собой, но я не мог разобрать, о чем они говорили. Иногда до меня долетали только невнятные звуки, иногда я улавливал отдельные слова. Потом я понял, что это шумит у меня в ушах. Я не спал, я бодрствовал, я познавал, чувствовал, рассуждал; мысль моя работала с необычайной точностью и глубиной, с удесятеренной силой, и эта напряженная мозговая деятельность радовала и опьяняла меня.
Это был не дурман, который навевает гашиш, и не болезненные видения курильщиков опиума; это была обостренная до предела способность рассуждать, умение под иным углом зрения видеть, судить, оценивать явления жизни, с полным сознанием и несокрушимой уверенностью в своей правоте.
И вдруг мне припомнился древний библейский образ. Мне показалось, что передо мной раскрываются все тайны, ибо мною владела новая логика, небывалая, неопровержимая. Доводы, рассуждения, доказательства теснились в моей голове, но их тотчас же опрокидывал более веский довод, более веское рассуждение и доказательство. Ум мой превратился в поле битвы идей. Я стал высшим существом, вооруженным непобедимым разумом, и я безмерно упивался сознанием своего могущества.
Это продолжалось долго, очень долго. Я все еще сжимал в руке склянку, вдыхая запах эфира. Внезапно я заметил, что она пуста. И тотчас же вернулась боль.
В течение десяти часов я претерпевал муки, от которых нет лекарств, потом я заснул, а наутро, бодрый, словно человек, оправившийся после долгой болезни, я набросал эти строки и отплыл в Сен-Рафаэль.
Сен-Рафаэль, 11 апреля.
На пути сюда погода благоприятствовала нам, легкий западный ветерок домчал нас в шесть галсов. Обогнув Драммон, я увидел виллы Сен-Рафаэля, полускрытые ельником — низкорослым, чахлым ельником, его круглый год треплет ветер с Фрежюса. Я прошел между красными каменными Львами, которые словно охраняют бухту, вошел в гавань и, так как берег здесь песчаный, бросил якорь в пятидесяти метрах от пристани и отправился в город.
Перед церковью собралась большая толпа. Там шло венчание. Патер на латинском языке с важностью первосвященника узаконивал естественный акт, столь торжественный и комичный, который так волнует людей, вызывает столько смеха, столько горя и слез. Оба семейства по обычаю созвали всех своих родичей и друзей присутствовать на панихиде по непорочности невесты, послушать непристойные и благочестивые напутствия, за которыми последуют советы матери и всенародное признание того, что обычно столь тщательно и стыдливо скрывается.
И вся округа, преисполненная игривых мыслей, движимая тем сластолюбивым и озорным любопытством, которое привлекает толпу к зрелищу свадьбы, собралась сюда, чтобы позабавиться видом новобрачных. Я смешался с толпой перед церковью и стал ее разглядывать.
Боже, до чего безобразен человек! Быть может, в сотый раз говорил я себе, наблюдая эту свадьбу, что из всех пород животных самая отвратительная — порода человеческая. Вокруг меня носился запах толпы, тошнотворный запах немытого тела, намасленных волос и особенно чеснока, который южане выдыхают через рот, нос, кожу, как розы источают свой аромат.
Разумеется, люди всегда одинаково безобразны и всегда одинаково плохо пахнут, но наши глаза, приученные к их виду, наше обоняние, притерпевшееся к их запаху, замечают это уродство и зловоние только после того, как мы некоторое время не видели и не обоняли их.
Человек отвратителен! Чтобы собрать коллекцию гротесков, которая и мертвого рассмешила бы, достаточно взять первый попавшийся десяток прохожих, выстроить их, сфотографировать, как они есть, — кривобокие, с чрезмерно длинными или короткими ногами, слишком толстые или слишком худые, багровые или бледные, бородатые или бритые, улыбающиеся или хмурые.
Некогда, на заре мира, первобытный человек, человек-дикарь, сильный и нагой, верно, был так же красив, как олень, лев или конь. Непрерывное упражнение мышц, вольная жизнь, постоянное применение своей силы и проворства поддерживали в нем грацию телодвижений, которая есть первое условие красоты, и изящество форм, приобретаемое только физическим трудом. Впоследствии народы-художники, влюбленные в пластичность, сумели сохранить в мыслящем человеке и грацию и изящество путем атлетических игр. Соревнования в силе и ловкости, уход за своим телом, горячий пар и ледяная вода сделали древних греков подлинными образцами человеческой красоты; и в назидание они оставили нам свои статуи, чтобы мы видели, каким было тело у этих великих художников.
А ныне, о Аполлон, взглянем на род человеческий, на толпу, стекающуюся на празднества! Дети, с колыбели обезображенные раздутым животом, исковерканные слишком ранним учением, отупевшие к пятнадцати годам от занятий в школе, где истощают их тело и калечат ум, не дав ему окрепнуть, превращаются в юношей, плохо сложенных, с недоразвитым торсом, утратившим свои естественные пропорции.
Посмотрим на улицы, на людей в грязной одежде, которые торопливо идут по тротуарам! А крестьянин! Боже милостивый! Взглянем на крестьянина в поле, корявого, точно старое дерево, узловатого, длинного, как жердь, искривленного, согнутого, более страшного, чем экспонаты в антропологическом музее.
И вспомним, как красивы телом, если не лицом, темнокожие, — бронзовые, стройные великаны, как хороши и изящны арабы!
Впрочем, есть и другая причина, почему я не переношу толпы. Я не могу ни войти в зрительный зал, ни присутствовать на публичных торжествах. Мне тотчас же становится не по себе, я испытываю непонятную, мучительную тревогу, словно с ожесточением пытаюсь перебороть какую-то таинственную и неодолимую силу. И я в самом деле борюсь против живущей во всякой толпе стадной души, которая грозит поглотить и меня.
Сколько раз я убеждался в том, что мысль становится шире, подымается выше, когда живешь один, и тотчас сужается и сходит с высот, как только снова соприкасаешься с людьми. Ходячие мнения, все, что говоришь, все, что приходится слышать, выслушивать, отвечать, воздействуют на ум. Идет прилив и отлив идей, от человека к человеку, от улицы к улице, от города к городу, от народа к народу, и устанавливается некий средний уровень мышления для всех человеческих скопищ.
Самостоятельная работа мысли, свобода оценки, способность к мудрым размышлениям и даже к провидению — все, что отличает человека одинокого, обычно утрачивается им, едва он смешивается с толпой других людей.
Вот отрывок из письма лорда Честерфилда[12] к своему сыну (1751), где он с редкой скромностью подтверждает это внезапное притупление мыслительных способностей во всяком многолюдном сборище:
«Затем слово взял лорд Маклесфилд, один из величайших математиков и астрономов Англии, принимавший наибольшее участие в составлении билля, и говорил с глубоким знанием дела и с той ясностью, какую дозволял столь запутанный предмет. Но по причине того, что его слова, выражения и обороты речи намного уступали моим, предпочтение было единодушно отдано мне, — должен признать, вопреки справедливости.
Так будет всегда. Всякое многолюдное сборище есть толпа, каковы бы ни были отдельные личности, его составляющие; никогда не следует говорить с толпой на языке чистого разума. Обращаться надлежит только к ее чувствам, страстям и корыстолюбию. Большое скопление людей не более способно понимать...» и т. д.
Это глубокое наблюдение лорда Честерфилда, которое, кстати сказать, неоднократно делали и с интересом отмечали философы-позитивисты, одно из самых веских доводов против представительного образа правления.
Каждый раз, когда собирается много людей, происходит одно и то же поразительное явление. Все эти люди, сидящие бок о бок, разные, отличные друг от друга по уму, по развитию, склонностям, образованию, верованиям, предрассудкам, мгновенно, только потому, что они собрались вместе, сливаются в некое существо, наделенное своей, особенной душой и своим новым, неожиданным образом мыслей, который выводится как среднее арифметическое из суммы отдельных мнений.
Это толпа — толпа, которая образует особый собирательный организм, столь же отличный от всякой иной толпы, как один человек отличен от другого.
Народная поговорка гласит, что «толпа не рассуждает». Но почему толпа не рассуждает, если рассуждает каждый отдельный человек в толпе? Почему толпа неожиданно делает то, чего не сделала бы ни одна из составляющих ее единиц? Почему толпа подвержена безудержным порывам, необузданным вспышкам ярости, вздорным увлечениям и в безумии своем совершает поступки, которых не совершил бы ни один из образующих ее людей?
Какой-то неизвестный что-то провозглашает, и вот все приходят в исступление, все в едином порыве, которому никто не противится, увлеченные одной и той же идеей, внезапно превращенной во всеобщую, невзирая на различие каст, взглядов, верований, нравов, бросаются на человека, рвут его на куски, топят, — без всякой причины, почти без повода, а между тем каждый из них, будь он один, кинулся бы, рискуя жизнью, спасать этого человека.
А вечером, воротясь домой, каждый из них спросит себя: откуда этот приступ ярости и безумия, который вдруг заставил его пойти наперекор своей природе и своим наклонностям, как мог он поддаться столь зверскому порыву?
Причина в том, что он перестал быть человеком и стал одним из толпы. Его собственная воля слилась с общей волей, как капля воды сливается с потоком.
Его личность исчезла, превратилась в мельчайшую частицу огромной непостижимой личности, именуемой толпой. Паника, овладевающая всей армией, общественные бури, захватывающие целые народы, безумие плясок смерти — все это пример одного и того же феномена.
В сущности, отдельные люди, слившиеся в единое целое, — это не более удивительно, чем тело, состоящее из отдельных молекул.
В этом разгадка столь переменчивых настроений зрительного зала и необъяснимых противоречий между оценкой публики генеральных репетиций и публики премьер, между оценкой публики премьер и публики последующих спектаклей, разгадка неустойчивости успеха и ошибок общественного мнения, отвергающего такие шедевры, как опера Кармен, которых в будущем ожидает громкая слава.
Впрочем, все, что я сказал о толпе, следует отнести к обществу в целом, и тот, кто хочет сохранить самостоятельность мышления, свободу суждений, хочет взирать на жизнь, человечество и мир как независимый наблюдатель, не скованный ни ходячими мнениями, ни предрассудками, ни религиозными догмами, а следовательно, без страха, тот должен, не задумываясь, порвать так называемые светские связи, ибо человеческая глупость столь заразительна, что, общаясь с ближними своими, слушая их, глядя на них, зажатый в кольце их взглядов, идей, суеверий, традиций, предубеждений, он невольно перенимает их обычаи, законы, их мораль — верх лицемерия и трусости.
Те, кто противится этому упорному опошляющему влиянию, тщетно бьются в сетях мелких отношений и связей, непреодолимых, бесчисленных и едва ощутимых. А потом наступает усталость, и борьба кончена.
Но вот толпа зрителей перед церковью зашевелилась: венчание кончилось, ждали выхода молодых. И вдруг я сделал то, что сделали все, — я встал на цыпочки, чтобы лучше видеть; меня охватило желание увидеть новобрачных, желание глупое, низкое, омерзительное, желание, достойное черни; жадное любопытство моих соседей передалось и мне; я стал частью толпы.
Чтобы заполнить время до вечера, я решил покататься на лодке по Аржансу. Эта прелестная речка, мало кому известная, отделяет равнину Фрежюса от диких Мавританских гор.
Раймон сел на весла, и мы поехали вдоль широкого песчаного берега, до самого устья, но оно оказалось наполовину занесенным песком и непроходимым. Моря достигал только один-единственный проток, но такой стремительный и бурный, весь в пене, в водоворотах, что мы не могли одолеть его.
Нам пришлось вытащить лодку на берег и, шагая по дюнам, на руках донести ее до того места, где разлив Аржанса образует чудесное озеро.
Аржанс течет по болотам и топям, зеленеющим той яркой и сочной зеленью, которая отличает водяные растения, меж берегов, поросших кустами и столь высокими густолиственными деревьями, что они заслоняют окрестные горы; она течет по этой величественно спокойной пустыне, медленно изгибаясь, неизменно сохраняя видимость тихого озера, ничем не выдавая своего движения.
Так же как в низинах севера, где ручейки, просачиваясь сквозь почву, орошают землю, поят ее своей светлой, ледяной кровью, как в любой влажной местности, так и здесь, на этих болотах, испытываешь своеобразное ощущение избытка жизни.
Из прибрежного камыша взмывают к небу голенастые птицы, вытягивая свои острые клювы; другие, большие и грузные, медленно перелетают с одного берега на другой; третьи, поменьше и попроворней, носятся над самой поверхностью, задевая ее крылом, точно камушки, пущенные по воде. Бесчисленные горлицы воркуют в ветвях, перепархивают с дерева на дерево, словно влюбленные, посещающие друг друга.
Чувствуется, что вокруг этой глубокой реки, по всей низине, до самого подножья гор — повсюду вода, предательская вода трясин, дремотная и живая, в широких окнах которой отражается небо, плывущие по нему облака, и откуда стеной подымаются диковинные камыши; вода светлая, изобильная, где жизнь разлагается и смерть бродит, вода, которая питает миазмы и источает недуги; животворная и ядовитая, влекущая и красивая, она растекается по низине, скрывая гнилостные тайны своих глубин. Предательский воздух болота пьянит, разнеживает. На всех откосах, которые прорезают эти стоячие воды, в густой траве, в поросли кустов кишат, ползают, прыгают, лазают скользкие, липкие твари — отвратительное племя земноводных с ледяной кровью. Я люблю этих холодных, пугливых животных, которых боятся и избегают; они мне кажутся чем-то священным.
В часы заката трясина чарует и опьяняет меня. Весь день она тихо дремлет, разморенная зноем, но как только наступает вечер, она превращается в волшебную, сказочную страну. В ее огромное неподвижное зеркало низвергаются облака, золотые, кровавые, огненные; они погружаются в воду, тонут, плывут. Они вверху, в бескрайних небесах, и они внизу, под нами, столь близкие и недосягаемые под тонким водяным покровом, прорезанным острыми стеблями осоки.
Все краски мира, пленительные, многообразные и пьянящие, открываются нам во всем своем совершенстве и яркости, когда их оттеняет белый лепесток кувшинки. Все тона красного, розового, желтого, голубого, зеленого, фиолетового переливаются в лужице воды, которая вмещает все небо, все пространство, все волшебство мира и над которой стремительно пролетают птицы. И есть еще нечто другое, неуловимое в болотных водах, когда сгущается вечерний сумрак. Мне смутно чудится разгадка сокровеннейшей из тайн, изначальное дыхание первородной жизни, которая, быть может, была лишь пузырьком болотного газа, поднявшегося над трясиной на закате дня.
Сен-Тропез, 12 апреля.
Мы вышли из Сен-Рафаэля сегодня утром, около восьми часов, подгоняемые сильным норд-вестом.
Волны не было, но вода в бухте белела, точно покрытая мыльной пеной, ибо ветер, неугомонный ветер, который каждое утро дует с Фрежюса, налетал с такой силой, словно хотел содрать с нее кожу, и белые ленты пены свивались и развивались на поверхности моря.
Матросы в порту сказали нам, что к одиннадцати часам шквал утихнет, и мы решили пуститься в путь, поставив кливер и забрав три рифа.
Шлюпку мы подняли на палубу, укрепили ее возле мачты, и «Милый друг», едва миновав мол, понесся, как птица. Несмотря на то, что почти все паруса были убраны, яхта летела с невиданной быстротой. Казалось, она не касается воды, и трудно было поверить, что ее двухметровый киль оканчивается свинцовым брусом весом в тысячу восемьсот килограммов, что она несет две тысячи килограммов балласта, не считая такелажа, якорей, цепей, канатов и других предметов на борту.
Я быстро пересек бухту, в которую вливается река Аржанс; как только я очутился под прикрытием скал, ветер почти улегся. Здесь начинается дикая местность, мрачная и величественная, которая и сейчас еще зовется Страной мавров. Это длинный гористый полуостров, берега которого имеют протяженность в сто километров с лишним.
Городок Сен-Тропез, расположенный у входа в живописную бухту, — некогда она называлась бухтой Гримо, — столица этого маленького сарацинского царства, где в большинстве деревень, выстроенных для защиты от нападений на вершинах скал, еще много мавританских домов, с аркадами, узкими окнами и внутренними дворами, обсаженными пальмами, которые теперь поднялись выше кровель.
Если добраться пешком до узких ущелий этого своеобразного горного массива, то попадешь в необычайно дикий край, где нет ни путей, ни дорог, нет даже тропинок, где не видно ни хижин, ни домов.
Лишь изредка, проблуждав семь-восемь часов, можно наткнуться на жалкую лачугу, и то заброшенную, если только в ней не живет бедная семья угольщика.
Говорят, что Мавританские горы принадлежат к особой геологической формации, что здешняя флора несравнима по своему разнообразию ни с одной флорой в Европе и что нигде нет столь необъятных сосновых, пробковых и каштановых лесов.
Три года назад я посетил находящиеся в самом сердце этих гор развалины монастыря Шартрез-де-ла-Верн, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. Если завтра будет ясная погода, я непременно побываю там.
Вдоль берега, от Сен-Рафаэля до Сен-Тропеза, проложена новая дорога. И по всему великолепному проспекту, вырубленному в чаще леса на красивейшем побережье, предполагается открыть зимние курорты. Первый на очереди Сент-Эгюльф.
Это очень своеобразное место. Посреди елового леса, который спускается к самому морю, во все стороны расходятся широкие дороги. Ни единого строения, только отметины на деревьях, обозначающие будущее расположение улиц. Вот площади, проезды, бульвары. Даже названия их уже написаны на металлических дощечках: бульвар Рейсдаля[13], бульвар Рубенса, бульвар Ван-Дейка, бульвар Клода Лоррена[14]. Удивляешься, почему столько художников? Ах, почему? Да потому, что Общество решило[15], как господь бог, прежде чем зажечь солнце: «Здесь будет курорт художников!»
Общество! Нигде в мире не знают, сколько надежд, риска, нажитых и утраченных состояний означает это слово на побережье Средиземного моря! Общество! Название таинственное, роковое, знаменательное, обманчивое.
Впрочем, здесь надежды Общества, видимо, сбываются, ибо уже появились покупатели из числа отнюдь не последних художников. Кое-где можно прочесть: участок куплен господином Каролюсом Дюраном[16]; участок господина Клерена; участок мадмуазель Круазет и т. д. И все же... Кто знает? Обществам Средиземноморья не везет.
Нет ничего забавнее этой бешеной спекуляции, которая приводит к катастрофическим банкротствам. Всякий, кому удалось нажить десять тысяч франков на продаже участка, тотчас покупает землю на десять миллионов, по одному франку за метр, и перепродает по двадцати франков. После этого намечают бульвары, прокладывают трубы, сооружают газовый завод и ждут покупателей. Покупатель не появляется, но зато наступает крах.
Впереди показываются башни и буйки, предупреждающие о подводных камнях у обоих берегов при входе в бухту Сен-Тропез.
Первая башня называется Сардино и указывает на подводные скалы у самой поверхности; кое-где они даже выставляют из воды свои темные макушки, а вторая носит название Бализ-де-ла-Сош.
Мы уже у входа в бухту, которая раскинулась, окаймленная с двух сторон лесистыми горами, до деревушки Гримо на высокой вершине. Над деревней высится руина старинного замка Гримальди[17], и сейчас он выступает из тумана, словно волшебный дворец из детской сказки.
Ветер улегся. Пользуясь последними порывами утреннего шквала, мы медленно скользим по заливу, словно по огромному спокойному озеру. Справа от прохода маленький порт Сен-Максим смотрится в воду, и белые домики в перевернутом отражении видны так же отчетливо, как на берегу. Напротив показывается Сен-Тропез, охраняемый старым фортом.
В одиннадцать часов «Милый друг» причаливает к пристани рядом с небольшим паровым катером. Если не считать старого дилижанса, который ночью возит почту по единственной горной дороге, «Морской лев», бывший туристический пароход для прогулок, один поддерживает связь между жителями этого маленького уединенного порта и остальным миром.
Сен-Тропез — премилая и скромная деревушка, одна из тех хорошеньких и простодушных дочерей моря, которые растут в воде, как ракушки, питаясь рыбой и морским воздухом, и производят на свет матросов. В середине порта стоит бронзовая статуя командора де Сюфрена.
Здесь пахнет рыбой и горящей смолой, рассолом и рыбачьими сетями. На мостовых, словно жемчуг, поблескивает чешуя сардинок, а вдоль стен на каменных скамьях греются на солнце бывшие моряки, старые и дряхлые. Иногда они вспоминают плавания минувших дней и тех, кого они некогда знавали, — прадедов шаловливых мальчишек, которые бегают вон там, по набережной. Кожа у них на лице и руках морщинистая, обветренная, смуглая, иссушенная ветрами, тяжким трудом, брызгами соленой воды, зноем тропиков и льдами северных морей, ибо, блуждая по океанам, они видели и лицо, и изнанку мира, и оборотную сторону всех краев и всех широт. Мимо них, опираясь на трость, проходит бывший капитан дальнего плавания, командовавший кораблем «Три сестры» или «Два друга», «Марией-Луизой» или «Юной Клементиной».
Все приветствуют его, как солдаты на перекличке, повторяя один за другим на разные лады: «Здорово, капитан!»
Мы здесь в царстве моря, в старинном городке, просоленном и храбром, который некогда сражался против сарацинов, против герцога Анжуйского, берберийских корсаров, коннетабля Бурбонского[18], Карла Пятого[19] и против герцога Савойского и герцога Эпернонского[20].
В 1637 году[21] здешние жители, предки теперешних солидных буржуа, без всякой помощи, своими силами отразили нападение испанской флотилии; ежегодно, с необычайным воодушевлением, здесь устраивают подобие этого памятного сражения, и тогда городок наполняется шумом и гамом, как во время народных празднеств средневековья.
В 1813 году[22] городок отразил и высланную против него английскую эскадру.
В наши дни он ловит рыбу. Ловит тунцов, сардинки, морских волков, лангустов, всех хорошеньких рыбок, которые водятся в этом ярко-синем море, и один кормит целую округу.
Когда я, умывшись и переодевшись, вышел на набережную, часы пробили полдень; навстречу мне шли два старика, по наружности письмоводители в конторе нотариуса или адвоката; они шли обедать, точно две старые клячи, разнузданные на короткое время, чтобы они могли пожевать овса, сунув голову в торбу.
О свобода! Свобода! Единственное счастье, единственная надежда и единственная мечта! Из всех несчастных, из всех человеческих сословий, из всего рабочего люда, из всех тружеников, ведущих непрерывную борьбу за существование, самые обездоленные — люди этого разряда.
Этому не верят. Этого не знают. Они не могут жаловаться, не могут возмутиться; им связала руки, зажала рот их нищета, стыдливо скрываемая нищета канцелярских крыс!
Они получили образование, изучали право; имеют, быть может, звание бакалавра.
Как я люблю это посвящение Жюля Валлеса[23]:
«Всем вскормленным греческим и латынью и умершим от голода».
Знает ли кто-нибудь, сколько они зарабатывают, эти нищие? От восьмисот до тысячи пятисот франков в год!
Служащие нотариальных контор, чиновники министерских канцелярий, вы каждое утро читаете на дверях вашей мрачной тюрьмы знаменитую строку Данте:
Входящие, оставьте упованья![24]Туда входят впервые в двадцать лет и остаются до шестидесяти, и за эти долгие годы не происходит ничего. Вся жизнь протекает в маленькой темной комнате, все в той же, уставленной зелеными папками. Туда входят молодыми, исполненными сил и радужных надежд, а выходят стариками, незадолго до смерти. Богатая жатва воспоминаний, которую мы собираем в своей жизни, неожиданные события, любовь, сладостная или мучительная, опасные путешествия, случайные удачи или неудачи неведомы этим каторжникам.
Дни, недели, месяцы, годы похожи друг на друга. В один и тот же час приходят; в один и тот же час обедают; в один и тот же час уходят; и это с двадцати лет до шестидесяти. Запоминаются только четыре события: женитьба, рождение первого ребенка, смерть отца и смерть матери. И больше ничего; простите, есть еще повышения по службе. Они ничего не знают о жизни, ничего не знают о мире! Им неведомы даже веселые прогулки по улицам в солнечный день, блуждания по полям, ибо их никогда не отпускают раньше положенного часа. В восемь утра захлопываются двери тюрьмы; они открываются в шесть часов вечера, на исходе дня. Но зато целых две недели они имеют право, — которое, кстати сказать, оспаривают, отторговывают, которым попрекают, — право сидеть взаперти в своих четырех стенах. Куда же можно поехать без денег?
Плотник взбирается под небеса; кучер колесит по улицам; машинист едет через рощи, равнины, горы; покидая каменные стены городов, он мчится к голубому простору морей. Чиновник не выходит из канцелярии, из этой гробницы для живых; и в том же зеркале, в котором он, в первый день службы, увидел свое молодое лицо со светлыми усиками, он в день увольнения видит себя лысым, с седой бородой. Теперь конец, жизнь прекращается, будущее заграждено. Неужели это уже настало? Неужели пришла старость и за всю жизнь ничего не случилось, ни единого события, которое могло бы взволновать до глубины души? И все же это так... Дорогу молодым, дорогу молодым чиновникам!
Тогда они уходят, еще более несчастные, чем были, и почти тотчас умирают оттого, что слишком круто была нарушена долголетняя, застарелая привычка ежедневного пребывания в канцелярии, привычка делать те же движения, совершать те же действия, выполнять ту же работу в те же часы.
Когда я вошел в гостиницу, где намеревался позавтракать, мне вручили огромную пачку адресованных мне писем и газет, и сердце у меня сжалось, словно от предчувствия беды. Я ненавижу письма и боюсь их — это узы. Когда я разрываю четырехугольник белой бумаги, где значится мое имя, мне слышится лязг цепей, которыми я прикован к тем из живущих, кого я знал и кого знаю.
Все письма, чья бы рука ни писала их, вопрошают: «Где вы? Что поделываете? Почему вы исчезли, никому не сообщив, куда едете? С кем вы скрываетесь?» А в одном письме было добавлено: «Как же вы хотите, чтобы вас любили, если вы постоянно убегаете от своих друзей? Это обидно...»
Так не любите меня! Неужели никто не может представить себе любовь иначе, как в сочетании с деспотизмом и чувством собственности? По-видимому, всякая привязанность неминуемо влечет за собой какие-то обязательства, обиды и, до известной степени, рабство. Стоит только ответить улыбкой на любезности какого-нибудь незнакомца, и он уже пользуется этим преимуществом, допытывается, чем вы заняты, и упрекает вас в холодности. Если же выкажешь дружелюбие, то всякий воображает, что он тем самым приобрел какие-то права на вас; дружба превращается в долг, и узы, связывающие друзей, оказываются петлей.
Нежная заботливость, ревность, подозрительная, назойливая, въедливая, которой терзают друг друга два человека, встретившиеся в жизни, в полной уверенности, что их связывают тесные узы только потому, что они понравились друг другу, это всего-навсего неотступный страх одиночества, которым одержим человек на нашей земле.
Каждый из нас, ощущая вокруг себя пустоту, бездонную пустоту, в которой колотится его сердце, мечется мысль, идет по жизни, словно помешанный, раскинув руки, вытянув губы, ища, кого бы прижать к своей груди. И он обнимает направо и налево, без разбора, не спрашивая, не глядя, не понимая, чтобы только не быть одному. Пожав кому-нибудь руки, он уже говорит как будто: «Теперь вы отчасти принадлежите мне. Я имею некоторое право на вас, на вашу жизнь, на ваши мысли и ваше время». Вот почему столько людей, совершенно чуждых друг другу, воображают, что любят друг друга, вот почему столько людей соединяют руки и сливают уста, не успев даже разглядеть друг друга. Они спешат полюбить, чтобы уйти от одиночества, полюбить нежно и страстно, но полюбить навеки. И они обещают, клянутся, воспламеняются, раскрывают всю душу перед чуждой душой, случайно встретившейся накануне, отдают свое сердце чужому сердцу, наугад, только потому, что понравилось лицо. И от этой спешки, от этих торопливых связей столько промахов, разочарований, ошибок, столько сердечных мук!
И мы остаемся одни, вопреки всем нашим усилиям, мы остаемся свободными, сколько бы нас ни сжимали в объятиях.
Никто никогда не принадлежит другому. Участвуешь, почти против воли, в жеманной или страстной любовной игре, но никогда не отдаешься весь. Человек, одержимый потребностью властвовать, изобрел тиранию, рабство и брак. Он может убить, замучить, заключить в темницу, но человеческая воля ему неподвластна, хоть бы она и покорилась на время.
Разве матери владеют своими детьми? Разве крошечное существо, едва выйдя из материнской утробы, не подымает крик, чтобы предъявить свои требования, заявить о своей обособленности и утвердить свою независимость?
Разве когда-нибудь женщина принадлежит вам? Знаете ли вы, что она думает, даже если пламенно любит вас? Целуйте ее, замирайте от счастья, припав устами к ее устам. Одного слова, вырвавшегося у вас или у нее, одного-единственного слова довольно, чтобы между вами встала непримиримая ненависть!
Все нежные, дружеские чувства теряют свою прелесть, как только они начинают притязать на власть над вами. Если мне кого-то приятно видеть и беседовать с ним, следует ли из этого, что мне позволительно знать, что он делает и что любит?
Суета городов, больших и малых, суета слоев общества, злорадное, завистливое любопытство, наговоры, клевета, подглядывание за чужими отношениями и чувствами, пристрастие к сплетням и скандалам — не оттого ли это, что мы притязаем на право надзирать за чужими поступками, словно все люди в той или иной мере принадлежат нам? И мы в самом деле уверены, что обладаем властью над ними, над их жизнью, ибо мы хотим, чтобы она протекала по образцу нашей; над их мыслями, ибо мы требуем, чтобы они мыслили по-нашему; над их взглядами, ибо мы не терпим, чтобы они расходились с нашими; над их добрым именем, ибо судим о них, исходя из наших принципов; над их нравами, ибо мы негодуем, когда они не подчиняются нашей морали.
Я сидел за завтраком в конце длинного стола в гостинице «Командор де Сюфрен», погруженный в чтение писем и газет, когда внимание мое привлек громкий говор небольшой компании, расположившейся на другом конце.
Их было пять человек, по всей видимости — коммивояжеров. Они обо всем говорили уверенно, с апломбом, насмешливо и свысока; слушая их, я вдруг отчетливо ощутил, что такое французская душа, то есть каков во Франции средний уровень ума, знаний, логики и остроумия. У одного из них, рослого детины с копной рыжих волос, на груди красовалась военная медаль и медаль за спасение на водах — значит, храбрец. Другой, маленький и толстый, сыпал остротами и первый начинал хохотать во все горло, прежде чем остальные успевали раскусить, в чем соль. Третий, с коротко остриженными волосами, перекраивал армию и суды, вносил изменения в свод законов и конституцию, создавал идеальную республику сообразно своим вкусам торгового агента по сбыту вина. Двое развлекали друг друга, рассказывая о своих любовных похождениях, о победах над женами лавочников и служанками гостиниц.
И я видел в них всю Францию, Францию легендарную, остроумную, изменчивую, храбрую и галантную. Эти люди казались мне типичными образцами французской нации — образцами грубыми, но мне достаточно было немного приукрасить их, чтобы узнать того француза, которого показывает нам старая восторженная лгунья, именуемая историей. А нация мы и вправду забавная, потому что у нас есть свои особые качества, которых нигде больше не найдешь.
Это прежде всего наша изменчивость, которая так весело разнообразит наши нравы и наши институты. Благодаря ей прошлое нашей страны похоже на захватывающий авантюрный роман с продолжением, роман, полный неожиданных событий, трагических развязок, комедийных положений, и где страшные главы чередуются со смешными. Пусть кто хочет сердится и негодует, если того требуют его убеждения, но нельзя отрицать, что нет в мире другой страны, которая имела бы столь занимательную и бурную историю, как Франция.
С точки зрения чистого искусства — а почему бы не стать на эту профессиональную и нелицеприятную точку зрения и в политике и в литературе? — она не имеет соперников. Что может быть поразительнее успехов, достигнутых за одно только минувшее столетие?
Что будет завтра? Разве, по совести говоря, это ожидание непредвиденного не чудесно? Все возможно у нас, вплоть до самых неправдоподобных трагикомедий.
И чему же удивляться? Страна, где появляются Жанны д'Арк и Наполеоны, может почитаться страной чудес.
Затем мы любим женщин; и мы умеем любить их пылко и беспечно, игриво и почтительно. Наше поклонение женщине не имеет себе равных ни в одной другой стране.
Тот, кто сохранил в душе рыцарский пыл минувших веков, окружает женщин глубокой, проникновенной нежностью, умиленной и бережной. Он любит все, что в них есть, все, что исходит от них, все, что они делают. Любит их наряды, безделушки, украшения, их уловки, их наивное ребячество, их коварство, ложь и приветливость. Он любит их всех, богатых и бедных, молодых и даже старых, темноволосых и белокурых, полных и худощавых. Ему хорошо подле них, среди них. Он остался бы с ними навсегда, не чувствуя ни скуки, ни утомления, счастливый одним их присутствием.
Он умеет с первых слов, взглядом, улыбкой, показать им, что он их любит, пробудить любопытство, подстегнуть желание нравиться, заставить их пустить в ход все свои обольщения. Между ними тотчас зарождается безотчетная симпатия, живейшее участие, точно их роднит какое-то таинственное сходство характеров и вкусов. Между ними начинается своего рода состязание, она изощряется в кокетстве, он — в галантности, завязывается дружба, неуловимая и воинственная, устанавливается взаимная близость, сродство мыслей и чувств.
Он умеет говорить то, что им нравится, дать понять, что он о них думает, умеет выказать, не оскорбляя их скромности, не задевая их пугливого и столь чувствительного целомудрия, сдержанное и настойчивое желание, которое всегда таится в его глазах, мелькает около губ, бродит в его крови. Он их друг, их раб, слуга их прихотей и поклонник их красоты. Он в любую минуту готов откликнуться на их призыв, помогать им, защищать, как тайных союзников. Он рад бы пожертвовать собой ради них, ради тех, кого никогда не видел.
Он не требует ничего, он доволен, если они уделяют ему немного нежной дружбы, немного доверия или внимания, или только немного приветливости и даже злого лукавства.
Он любит женщину, которая проходит мимо него по улице и скользит по нему взглядом. Любит девочку с распущенными волосами, завязанными голубым бантом, с цветком на груди, с робким или бойким взглядом, которая медленной или торопливой походкой идет в толпе прохожих. Любит незнакомок, случайно задетых локтем, юную продавщицу, мечтающую на пороге своей лавки, светскую красавицу, томно откинувшуюся на подушки своей открытой коляски.
Стоит ему очутиться перед женщиной, и у него уже сильнее забилось сердце, встрепенулся ум. Он думает о ней, он говорит для нее, старается понравиться ей, намекнуть, что и она ему нравится. Нежность просится на уста, ласка светится во взгляде, его томит желание прильнуть к ее руке, дотронуться до ее платья. В его глазах только женщины украшают мир и придают жизни цену.
Он любит сидеть у их ног ради того лишь, чтобы побыть подле них; любит встречаться с ними глазами с единственной целью — прочесть в их взоре мимолетную, невысказанную мысль; любит слушать их голос только потому, что это женский голос.
У них и ради них француз научился вести приятную беседу и блистать остроумием всегда и везде.
Приятная беседа, что это такое? Бог весть! Это уменье никогда не наскучить, обо всем говорить занимательно, нравиться чем придется, пленять неизвестно чем.
Как определить это легкое порханье с предмета на предмет, эту резвую игру, где вместо мячей перебрасываются словами, эту легкую улыбку ума, которая и есть приятная беседа?
Во всем мире только француз владеет даром остроумия, и только он один понимает и ценит его.
Он знает остроумие преходящее и остроумие бессмертное, остроумие улиц и остроумие книг.
В веках остается остроумие в широком смысле слова, неистребимый дух иронии и смеха, который живет в нашем народе с тех пор, как он говорит и мыслит; это грозный сарказм Монтеня и Рабле, язвительная насмешка Вольтера, Бомарше, Сен-Симона и чудесный смех Мольера.
Шутка, удачное словцо — только мелкая разменная монета нашего остроумия. И все же острословие — это еще одна типичная черточка, еще одна из самых обаятельных сторон нашего национального характера. Ей мы обязаны скептическим легкомыслием нашей парижской жизни, изящной беспечностью наших нравов. Это неотъемлемая принадлежность нашей общепризнанной любезности.
Когда-то остряки изощрялись в стихах, теперь они острят в прозе. Это называется, смотря по времени, — эпиграммой, прибауткой, красным словцом, каламбуром, анекдотом. Их повторяют на улицах и в гостиных; они рождаются повсюду, на Бульварах и на Монмартре. И те, что придуманы на Монмартре, зачастую не уступают сочиненным на Бульварах. Их печатают в газетах. Во всей Франции, от края до края, их читают и смеются. Ибо мы умеем смеяться.
Почему именно от этой шутки, от неожиданного сочетания двух слов, двух понятий или даже звуков, от какой-нибудь нелепицы, вздора вдруг открываются шлюзы веселья, взрывается, словно бомба, весь Париж и вся провинция?
Почему все французы смеются, когда ни один англичанин, ни один немец не может понять, почему нам смешно? Почему? Только потому, что мы французы, что у нас французский ум, что мы обладаем чудесной способностью смеяться.
Кстати, у нас достаточно иметь немного остроумия, чтобы получить власть. Хорошее расположение духа заменяет гениальность, удачное словцо посвящает в сан, переходит из поколения в поколение в качестве признака величия. Все остальное неважно. Народ любит тех, кто его забавляет, и прощает тем, кто его смешит.
Довольно одного взгляда на прошлое нашего отечества, чтобы убедиться, что слава наших великих мужей всегда зиждилась только на остротах. Самые дурные правители снискали любовь удачными шутками, которые повторяются из века в век и бережно хранятся в памяти.
Французский престол опирается на побасенки и присказки.
Слова, слова, одни слова, насмешливые или возвышенные, веселые или озорные, наводняют нашу историю и делают ее похожей на собрание анекдотов.
Хлодвиг[25], христианский король, после чтения о страстях господних, воскликнул: «Зачем там не было меня и моих франков!» Этот король, дабы царствовать без помехи, умертвил своих союзников и родичей, совершил все преступления, какие только можно вообразить. Однако же он слывет монархом просвещенным и благочестивым.
«Зачем там не было меня и моих франков!»
Мы ничего не знали бы о добром короле Дагоберте[26], если бы песенка, сложенная про него, не сообщила нам некоторых подробностей, вероятно выдуманных, из его жизни.
Пипин[27], желая свергнуть с престола короля Хильдерика[28], задал папе Захарию[29] ехидный вопрос: «Кто из двоих более достоин царствовать — тот, кто достойно выполняет все обязанности короля, не имея королевского сана, или тот, кто возведен в этот сан, но не умеет царствовать?»
Что мы знаем о Людовике VI[30]? Ничего. Простите: в Бреневильской битве, когда один из англичан, схватив его за плечо, крикнул: «Король взят!» — Людовик как истый француз ответил: «Неужто ты не знаешь, что король не может быть взят, даже в шахматах?»
Людовик IX[31], хоть и святой, не оставил нам ни одного слова, которое стоило бы хранить в памяти. И царствование его представляется нам донельзя скучным, — унылой чередой молитв и покаяний.
Филипп VI[32], этот простак, и тот, побежденный и раненный под Креси, постучался в ворота замка Арбруа с криком: «Отворите, это судьба Франции!» Мы ему и посейчас признательны за этот удачный мелодраматический эффект.
Иоанн II[33], будучи взят в плен принцем Уэльским, сказал с чисто рыцарской любезностью и изяществом французского трубадура: «Я хотел угостить вас ужином, но судьба распорядилась иначе: она желает, чтобы я отужинал у вас».
Это верх галантности, какую можно проявить в несчастье.
«Не дело короля Франции мстить врагам герцога Орлеанского», — великодушно сказал Людовик XII[34].
И это поистине великое королевское слово, слово, достойное того, чтобы его запомнили все монархи.
Франциск I[35], простофиля, распутник и незадачливый полководец, покрыл себя неувядаемой славой, написав своей матери, после поражения в Павии, эти изумительные слова: «Все погибло, кроме чести!»
Разве это изречение не кажется нам и поныне столь же прекрасным, как любая победа? Разве не обессмертила она память монарха больше, чем если бы он покорил целое королевство? Мы забыли названия большинства сражений той далекой эпохи, но разве забудешь: «Все погибло, кроме чести» ?
Генрих IV! Склонитесь, господа, среди вас он первый из первых! Коварный, бессовестный, лукавый, хитрый, как бес, лицемер, плут, каких мало, развратник, пьяница, не верующий ни в бога, ни в черта, он сумел своими шутками стяжать славу рыцарски благородного, великодушного, доброго, честного и неподкупного короля.
Ах, мошенник! Вот кто умел играть на человеческой глупости!
«Вешайся, храбрый Крийон[36], мы победили без тебя!» После таких слов любой военачальник пойдет на виселицу или на смерть за своего повелителя.
Перед знаменитой битвой под Иври[37]: «Дети мои! Если не достанет штандартов, следуйте за моим белым султаном, он всегда укажет путь доблести и победы!»
Мог ли не побеждать тот, кто таким языком умел говорить со своими командирами и солдатами?
Король-маловер жаждет Парижа; он жаждет его, но ему нужно сделать выбор между своей религией и красавицей столицей. «Полно, — шепчет он, — Париж стоит обедни![38]» И он меняет веру, будто сменил один камзол на другой. Но разве не правда, что этим словцом он искупил свое отступничество? «Париж стоит обедни!» Крылатое слово рассмешило ценителей остроумия, и короля недолго бранили.
Разве не стал он покровителем отцов семейств, спросив испанского посла, когда тот застал его играющим в лошадки с дофином:
— Господин посол! У вас есть дети?
Испанец отвечал:
— Есть, сир.
— В таком случае, — молвил король, — я продолжаю игру.
Но чем он покорил на веки сердце французов, сердце буржуа и сердце народа, — так это прекраснейшими словами, когда-либо произнесенными монархом, словами гениальными, полными глубины, добродушия, лукавства и здравого смысла: «Если бог продлит мои дни, я хочу, чтобы в моем королевстве не нашлось такого бедного крестьянина, у которого не варилась бы курятина к воскресному обеду».
С помощью таких слов владеют, управляют, распоряжаются восторженной и доверчивой толпой. Двумя изречениями Генрих IV нарисовал свой образ для потомства. Достаточно произнести его имя, чтобы перед глазами замаячил белый султан и запахло вареной курятиной.
Людовик XIII не отпускал шуток. Это был бездарный король, и царствование его было бездарно.
Людовик XIV оставил нам формулу неограниченного самовластия: «Государство — это я».
Он оставил нам меру королевской надменности, достигшей своего апогея: «Мне едва не пришлось ждать».
Он оставил нам образец пустозвонных политических фраз, которыми скрепляют союз между народами: «Пиренеи больше не существуют».
Все его царствование в этих немногих словах.
Людовик XV — волокита, щеголь и острослов — одарил нас прелестным девизом своей королевской беспечности: «После меня — хоть потоп!»
Если бы у Людовика XVI хватило остроумия сочинить каламбур, он, пожалуй, спас бы монархию. Кто знает, острое словцо, быть может, избавило бы его от гильотины.
Наполеон I пригоршнями рассыпал слова, поднимавшие дух его солдат.
Наполеон III одной короткой фразой заранее предотвратил любые вспышки гнева своего народа, пообещав: «Империя — это мир!» Великолепное утверждение, бесподобная ложь! После этого он мог объявить войну всей Европе, не опасаясь своего народа. Он нашел формулу, против которой факты были бессильны.
Он воевал с Китаем, с Мексикой, с Россией, с Австрией[39], со всем светом. Нужды нет! Есть люди, которые и сейчас с убеждением говорят о том, что он осчастливил нас восемнадцатью годами спокойствия. «Империя — это мир!»
Но и Рошфор[40] сокрушал Империю словами, более смертоносными, чем пули, пронзая ее остротами, разрывая на части.
Даже маршал Мак-Магон[41] оставил нам память о своем мимолетном правлении: «Я здесь, и буду здесь!» И свалил его опять-таки каламбур Гамбетты: «Решиться или отрешиться!»
Этими двумя глаголами, более мощными, чем революция, более грозными, чем баррикады, более сокрушительными, чем целая армия, более властными, чем все волеизъявления, трибун опрокинул воина, растоптал его славу, уничтожил его могущество и силу.
А те, кто ныне правит нами, падут, ибо они не знают остроумия; они падут, ибо в неминуемый, грозный час, в час восстания, когда качнутся весы истории, они не сумеют рассмешить Францию и обезоружить ее.
Из всех этих анекдотов не наберется и десятка подлинно исторических. Не все ли равно? Лишь бы верили, что они произнесены теми, кому их приписывают.
В стране горбатых сам горбат[42] Родись Или кажись, —гласит народная песня.
Между тем мои коммивояжеры заговорили об эмансипации женщин, об их правах и о новом положении, которое они хотят занять в обществе.
Одни одобряли, другие сердились; маленький толстяк, остривший без передышки, положил конец и прениям и трапезе, рассказав нижеследующий анекдот.
— Недавно, — начал он, — в Англии происходило многолюдное собрание, где обсуждался этот вопрос. Один из ораторов, приведя множество доводов в пользу равноправия женщин, так закончил свою речь:
— Словом, господа, между мужчиной и женщиной, в сущности, очень маленькая разница.
И тут в зале раздался голос, убежденный, восторженный:
— Да здравствует маленькая разница!
Сен-Тропез, 13 апреля.
Утро сегодня выдалось чудесное, и я отправился в Шартрез-де-ла-Верн.
Два воспоминания влекли меня к этим развалинам: незабываемое ощущение полного одиночества и бесконечной грусти, которое я испытал в заброшенном монастыре, и двое стариков, к которым повел меня в прошлом году один приятель, показывавший мне красоты Страны мавров.
Я сел в шарабан, потому что в коляске по этой дороге не проехать, и покатил сначала вдоль берега. По ту сторону бухты виднелся сосновый бор, где Общество строило еще один курорт. Побережье, надо сказать, здесь превосходное, и вся местность изумительно красива. Вскоре я углубился в горы; миновав деревушку, я свернул на разъезженную дорогу, похожую на длинный овраг. Речка, или, вернее, широкий ручей, течет вдоль дороги и через каждую сотню метров пересекает ее, разливается по ней, уходит в сторону, потом возвращается, опять сбивается с пути, покидает свое русло и заливает дорогу, потом спускается в ров, теряется среди камней, потом вдруг, словно угомонившись, несколько минут течет своим путем, но, поддавшись внезапной прихоти, снова выбегает на дорогу, превращая ее в озеро, куда лошадь погружается по грудь, а высокий шарабан — по кузов.
Дома кончились; там и сям мелькает хижина угольщика. Самые бедные из них живут в пещерах. Мыслимо ли, что люди селятся в пещерах, живут там круглый год, рубят дрова и пережигают их на уголь, едят хлеб с луком, пьют воду и спят, как зайцы в норе, на дне тесной ямы, выбитой в скале? Между прочим, в одной из этих неизведанных лощин недавно обнаружили отшельника, настоящего отшельника, который скрывался здесь целых тридцать лет, не ведомый никому, даже лесничим.
Весть об этом дикаре, открытом каким-то чудом, вероятно, дошла до возницы дилижанса, и тот сообщил ее почтмейстеру, а тот рассказал телеграфисту или телеграфистке, а он или она выразили свое удивление редактору какого-нибудь Южного листка, а тот тиснул сенсационную заметку, которую перепечатали все газеты Прованса.
Жандармы пустились в путь и разыскали отшельника, однако не тронули его — видимо, он сохранил свои документы. Вслед за жандармами на поиски отправился фотограф, привлеченный удивительной новостью, проблуждал трое суток по горам и в конце концов привез фотографию, неизвестно чью: кто говорит — настоящего отшельника, а кто — мнимого.
Но те двое стариков, которых показал мне в прошлом году мой приятель во время поездки по этим своеобразным местам, гораздо сильнее занимали меня, чем бедняга-пустынник, приведенный в лесные дебри каким-нибудь горем, или, быть может, попросту нежеланием жить среди людей.
Вот как мой приятель узнал этих стариков. Блуждая верхом по ущельям, он натолкнулся на зажиточную, по-видимому, ферму: он увидел виноградники, пашню, скромный, но годный для жилья домик.
Он вошел. Его встретила хозяйка — старая крестьянка лет семидесяти. Ее муж, сидевший под деревом, встал и подошел поздороваться.
— Он не слышит, — сказала она.
Это был высокий восьмидесятилетний старик, необыкновенно прямой, крепкий и красивый.
Они держали работника и служанку. Мой приятель, несколько удивленный уединением этой пары, стал расспрашивать о них. Ему сказали, что поселились они здесь очень давно; они пользовались всеобщим уважением и слыли за людей состоятельных — по-крестьянски состоятельных.
Он продолжал посещать их и мало-помалу подружился со старухой. Он приносил ей книги, газеты, с удивлением обнаруживая, что круг ее мыслей, или, вернее, остатков мыслей, шире, чем обычно у крестьянок. Впрочем, она не была ни образованна, ни умна, ни остроумна, но в каком-то уголке ее памяти, видимо, сохранились смутные понятия — полустертые следы некогда полученного воспитания.
Однажды она спросила, как его имя.
— Меня зовут граф де X... — отвечал он.
Тогда, движимая тем безотчетным тщеславием, которое таится в душе каждого из нас, она сказала:
— Я тоже не простого рода!
И она продолжала, впервые, вероятно, заговорив об этой давнишней, никому не ведомой тайне:
— Я дочь полковника. Мой муж служил вахмистром в полку, которым командовал папа. Я влюбилась в него и бежала с ним из дому.
— И поселились здесь?
— Да, мы скрывались.
— И вы больше не видели своей семьи?
— Нет. Ведь мой муж был дезертиром.
— И вы ни разу никому не написали?
— Нет.
— И вы с тех пор больше ничего не слышали о своей семье, ни об отце, ни о матери?
— Нет. А мамы тогда уже не было в живых.
В этой старухе сохранилось что-то детское, какая-то наивность и простота, присущая женщинам, которые бросаются в любовь, как в омут.
Он спросил еще:
— Вы никому об этом не говорили?
— Нет, нет! Я рассказываю вам потому, что Морис оглох. Пока он слышал, я не посмела бы говорить про это. А потом ведь после моего бегства я видела только крестьян.
— Но вы по крайней мере были счастливы?
— О да! Я была с ним очень счастлива. Я ни разу ни о чем не пожалела.
Я тоже вместе с моим приятелем прошлой весной посетил эту старуху, эту странную пару, пошел на них посмотреть, как ходят смотреть на чудотворные мощи.
И я с грустью, с удивлением, со смешанным чувством восторга и презрения глядел на эту женщину, которая последовала за грубым, необразованным гусаром, прельстившись его нарядным мундиром, и потом всю жизнь, не замечая на нем тряпья, по-прежнему видела его в голубом доломане, с саблей на боку, в сапогах со звонкими шпорами.
Между тем она сама превратилась в крестьянку. Прячась в этой глуши, она понемногу привыкла к своей однообразной жизни, лишенной всякой роскоши, всякого очарования, и примирилась с крестьянским укладом жизни. Своего мужа она продолжала любить. Теперь это была простая женщина, в чепце, в холщовой юбке; сидя на соломенном стуле за некрашеным столом, она ела из глиняной чашки картофельную похлебку, приправленную салом. Спала она на соломе рядом с мужем.
Она никогда ни о чем, кроме него, не думала! Она не сожалела ни о драгоценных каменьях, ни о шелках, ни об изящных безделушках, ни о мягких креслах, ни о теплых, надушенных комнатах со штофными обоями, ни о пышных пуховиках, в которых утопает усталое тело.
Ей ничего не было нужно — только он! Лишь бы он был здесь, подле нее, — больше она ничего не желала.
Она отказалась от жизни совсем еще юная, отказалась от света, от тех, кто ее любил, вырастил. Она ушла с ним одна в это глухое ущелье. И он стал для нее всем, всем, о чем грезят, чего ждут неотступно, на что надеются неустанно. Он до краев наполнял ее жизнь счастьем. Она была счастливейшей из женщин.
И вот теперь мне предстояло увидеть ее еще раз и снова испытать то чувство недоумения и презрительной досады, которое она вызывала во мне.
Ферма находилась по ту сторону горы, на которой стоит монастырь, у дороги на Иэр, где меня должна была ждать коляска; та дорога, по которой я ехал, оборвалась, и дальше вела узкая тропинка, доступная только пешеходам и мулам.
Я вышел из шарабана и не спеша стал подыматься в гору. Вокруг меня была лесная чаща, настоящие корсиканские дебри, сказочный дремучий лес с цветущими лианами, с крепко пахнущими ароматическими растениями и высокими могучими деревьями.
Из-под ног у меня, поблескивая на солнце, катились камушки; в просветах между ветвями внезапно открывались широкие темно-зеленые лощины, уходившие в бесконечную даль.
Мне было жарко, кровь приливала к голове, я чувствовал, как она бежит по моим жилам, горячая, стремительная, живая, порывистая, веселящая, как песня, радостная и бездумная песня всего живого, что резвится на солнце. Я был счастлив, я был силен, я двигался быстро, взбираясь на скалы, прыгая, спускаясь бегом, с каждой минутой открывая все новые дали, любуясь гигантской сетью пустынных лощин, где ни один дымок над крышей не выдавал человеческою жилья.
Добравшись до вершины, над которой вздымались другие, еще более высокие, скалы, я обошел ее кругом и наконец увидел на склоне горы, сплошь заросшем каштановыми деревьями, черные развалины, нагромождение бурых камней и древних сводчатых строений. Чтобы взобраться туда, я должен был обогнуть широкое ущелье и пройти каштановую рощу. Каштаны, столь же древние, как монастырь, но пережившие его, стоят огромные, изувеченные, умирающие. Одни упали, не выдержав бремени лет, другие обезглавлены, от них остались только дуплистые стволы, где могли бы спрятаться десять человек. И эти старые деревья похожи на грозное воинство древних титанов, которые, осыпаемые молниями, все еще идут вперед, чтобы взять приступом небо. Многовековой древностью и плесенью, тысячелетней жизнью прогнивших корней пахнет в этом фантастическом лесу, где ничто уже не цветет у подножия дряхлых великанов. Между серыми стволами только камень и редкая трава.
А вот два отведенных источника, водопой для коров.
Я подхожу к развалинам, и мне уже видны все древние строения; самые ранние относятся к XII веку; в самых поздних живут пастухи со своими семьями.
Миновав первый двор, где следы от копыт на земле говорят о том, что здесь еще теплится жизнь, и пройдя через полуразрушенные залы, какие видишь во всех руинах, попадаешь в длинную низкую галерею с сохранившимися сводами, которая тянется вокруг внутреннего двора, поросшего терновником и высокой травой. Нигде в мире я не чувствовал такой печали, такой тяжести на сердце, как в этой мрачной галерее древнего монастыря. Сама форма сводчатого потолка и пропорция здания наводят смертную тоску, зато изящные архитектурные линии радуют глаз и веселят душу. Зодчий, строивший эту обитель, вероятно, был человек несчастный, иначе он не мог бы создать такой приют уныния и безысходной скорби. В этих стенах хочется плакать, стонать, хочется терзать свое сердце, бередить незажившие раны, до бесконечности усугубляя и приумножая все горести, которые мы можем вместить.
Я вылез наружу через брешь в стене, окинул взором окрестности и понял все: вокруг не было ничего, кроме смерти. Позади скала, устремленная к небу, вокруг каштановый лес, впереди долина, за ней еще долины — сосны, сосны, океан сосен, а вдали, на самом горизонте, опять сосны на вершине гор.
И я ушел оттуда.
Потом я пересек рощу пробковых деревьев, где в прошлом году испытал острое, волнующее ощущение.
То был пасмурный день в октябре месяце, когда с этих деревьев срывают кору, из которой делают пробки. Кору снимают от подножия до первых ветвей, и обнаженный ствол становится красным, как кровь, словно живое тело, с которого содрали кожу. Обезображенные деревья похожи на страшных калек, на корчащихся эпилептиков, и внезапно мне показалось, что я очутился в лесу истязуемых, в кровавом аду, где у грешников корни вместо ног, а изувеченные тела похожи на деревья, где в вечных муках жизнь неустанно сочится из кровоточащих ран, и я почувствовал стеснение в груди и внезапную слабость, которую вызывает в нервных людях зрелище человека, раздавленного колесами или свалившегося с крыши. И это впечатление было столь живо, столь остро, что мне чудились стоны, душераздирающие крики, далекие, неумолчные, и когда я, чтобы успокоиться, дотронулся до ствола дерева, мне привиделось — я увидел, что ладонь у меня красная от крови.
Теперь пробковые деревья оправились, они здоровы — до будущей осени.
Наконец я выхожу на дорогу, которая идет мимо фермы, служившей убежищем долголетнему супружескому счастью гусарского вахмистра и дочери полковника.
Я уже издали увидел старика, — он прогуливался по своим виноградникам. Тем лучше: я застану старуху одну.
Служанка стирает на крыльце.
— Хозяйка дома? — спрашиваю я.
Она как-то странно смотрит на меня и говорит нерешительно, с южным акцентом:
— Нет, сударь, она уж полгода как померла.
— Померла?
— Да, сударь
— А от чего?
Она мнется, потом говорит, понизив голос:
— Да вот, померла.
— Но от чего?
— Упала.
— Упала? Где?
— Да из окна.
Я протягиваю ей монету.
— Расскажите, — говорю я.
Должно быть, ей очень хотелось рассказать, и, должно быть, она уже не раз повторяла свой рассказ за последние полгода, ибо она говорила долго, обстоятельно, словно отвечая затверженный урок.
Я узнал, что вот уже тридцать лет, как этот глухой восьмидесятилетний старик завел себе любовницу в соседней деревне, и что жена его, внезапно услышав об этом от проезжего возчика, который проговорился нечаянно, не ведая, кто она, в исступлении, с истошным криком взбежала на чердак и выбросилась из окна; вряд ли она успела обдумать свое намерение; должно быть, нестерпимая боль, резанувшая ее по сердцу при этом неожиданном известии, с неодолимой силой, точно удар хлыста, гнала ее вперед. Она взбежала на лестницу, переступила порог и очертя голову, в неудержимом порыве кинулась к окошку и прыгнула в пустоту. А он — он ничего не узнал, не знает и теперь и не узнает никогда, потому что он глухой. Жена его умерла, вот и все. Все когда-нибудь умрут.
Я посмотрел в его сторону — он знаками отдавал распоряжение работникам.
Но тут я увидел коляску, которая поджидала меня на дороге под деревом, и поехал обратно в Сен-Тропез.
14 апреля.
Вчера вечером, когда я уже собирался лечь, хотя еще не было и девяти часов, мне принесли телеграмму.
Один из моих друзей — из настоящих — писал: «Я в Монте-Карло, пробуду четыре дня, посылаю телеграммы во все порты побережья. Приезжай».
И вот желание повидаться с ним, желание поговорить, посмеяться, потолковать о свете, о жизни, о людях, позлословить, посплетничать, посудачить, почесать языки, поболтать пожаром вспыхнуло во мне. Еще утром этот призыв взбесил бы меня, а сейчас, вечером, я несказанно ему обрадовался; мне не терпелось очутиться там, в большой переполненной зале казино, и слышать выкрики крупье, покрывающие многоголосый гул, как возглас «Dominus vobiscum» покрывает все звуки церковной службы.
Я позвал Бернара.
— В четыре утра мы едем в Монако, — сказал я.
Он отвечал философически:
— Как скажет погода, сударь.
— Будет ясно.
— Барометр-то падает.
— Ничего, подымется.
Шкипер, как всегда недоверчиво, улыбнулся.
Я лег в постель и заснул.
Проснулся я раньше матросов. Утро было ненастное, тучи закрывали небо. Барометр за ночь еще упал.
Матросы с сомнением качали головой.
Я снова сказал:
— Ничего, прояснится. Живее в путь!
Бернар говорил:
— Когда мне видно море, я знаю, что делать, а здесь, в порту, в этой луже, ничего, сударь, не разглядишь. Может, на море буря, а мы тут и не знаем.
Я отвечал:
— Барометр упал, значит, восточного ветра не будет. А если будет западный, мы можем укрыться в порту Аге, до него только шесть или семь миль.
Я, видимо, не сумел убедить матросов; однако они стали готовиться к выходу.
— Шлюпку подымем на борт? — спросил Бернар.
— Нет. Вот увидите, будет ясно. Пусть идет за нами.
Полчаса спустя мы отчалили и пошли к выходу из бухты, подгоняемые легким перемежающимся бризом.
Я весело смеялся:
— Ну что? Говорил я вам, что будет ясно.
Вскоре мы миновали черно-белую башню на рифе Рабиу, и хотя нас еще прикрывал далеко выступающий в море мыс Камара, где светились сигнальные огни, «Милого друга» уже подбрасывали мощные, медлительные волны, эти водяные холмы, которые шагают один за другим, бесшумно, размеренно, не пенясь, не гневаясь, страшные своим грозным спокойствием.
Мы ничего не видели, только чувствовали, как подымается и опускается яхта, качаясь на темном неспокойном море.
Бернар сказал:
— Ночью буря была, сударь. Не знаю, дойдем ли без беды.
Утро занялось ясное, осветив взволнованное море, и мы все трое вглядывались вдаль, не подымется ли снова шквал. Мы уже были в виду бухты Аге и обсуждали, идти ли на Канн из-за ненадежной погоды, или на Ниццу, обогнув островки в открытом море.
Бернар советовал зайти в Канн, но так как ветер не свежел, я решил идти на Ниццу.
В течение трех часов все шло хорошо, хотя бедную яхточку сильно бросало и она, точно пробка, прыгала по волнам.
Тот, кто не видел открытого моря, не видел этих водяных гор, идущих быстрой и тяжелой поступью, разделенных долинами, которые все время перемещаются, то исчезая, то появляясь вновь, тот и не подозревает о таинственной, грозной, ужасающей и величественной мощи морской волны.
Шлюпка, привязанная на другом конце сорокаметрового каната, шла далеко за кормой, ныряя в текучем, плещущем хаосе. Мы то и дело теряли ее из виду, потом она вдруг снова всплыла на гребень волны, словно большая птица.
Вот там Канн, в глубине своей бухты, башня Сент-Онора посреди моря, а впереди Антибский мыс.
Бриз свежеет, на волнах показываются барашки, белоснежные проворные барашки, которые необозримым стадом, не зная ни пастуха, ни овчарок, бегут под бескрайним небом.
Бернар говорит мне:
— Еще хорошо, если доберемся до Антиба.
И верно, подымается шквал, волны с ревом кидаются на нас, яростный ветер подбрасывает, швыряет в зияющие провалы, откуда мы выбираемся на поверхность, сотрясаемые мощными толчками.
Мы убрали гафель, но гик при каждом сотрясении яхты погружается в воду, грозя вырвать мачту и пустить ее по ветру вместе с парусом, и тогда мы останемся одни, беспомощные, затерянные в разбушевавшемся море.
Бернар говорит мне:
— Шлюпка, сударь.
Я оборачиваюсь: громадная волна захлестнула ее, вертит, обливает пеной, словно дикий зверь, пожирающий свою добычу; оборвав канат, которым шлюпка привязана к нам, чудовище держит в когтях свою жертву, обессиленную, покорную, утопающую, чтобы разбить ее о скалы, вон там, на Антибском мысу.
Минуты тянутся, словно часы. Делать нечего, нужно идти, нужно достигнуть этого выступа суши впереди, и, когда мы обогнем его, мы будем укрыты от бури, спасены.
Наконец-то добрались! Здесь море расстилается спокойное, ровное, под защитой длинной косы гористой земли, которая образует Антибский мыс.
А вот и порт, откуда мы вышли всего несколько дней назад, хотя мне и кажется, что я долгие месяцы пробыл в пути; когда мы бросаем якорь, часы бьют полдень.
Матросы мои, ступив на родной берег, сияют от радости; впрочем, Бернар то и дело повторяет:
— Ах, сударь! Бедная наша шлюпочка, просто душа болит, на глазах ведь погибла!
Итак, следуя приглашению моего друга отобедать с ним, я сел в четырехчасовой поезд и покатил в княжество Монако.
Я охотно на досуге поговорил бы обстоятельно и подробно об этом удивительном государстве размером меньше французской деревни, но где имеется самодержавный монарх, епископы, армия иезуитов и семинаристов, более многочисленная, чем армия самого князя, артиллерия почти без пушек, этикет более строгий, чем при дворе блаженной памяти Людовика XIV, правление более деспотическое, чем правление Вильгельма Прусского[43], в сочетании с великолепной терпимостью к человеческим порокам, за счет которых живут сам князь, епископы, иезуиты, семинаристы, члены кабинета, армия, судейские чиновники, все и вся.
Впрочем, отдадим должное этому доброму, миролюбивому государю, который, не страшась ни нашествия врагов, ни революций, спокойно управляет своим маленьким счастливым народом, окруженный двором, где в неприкосновенности сохранились церемонии четырех поклонов, двадцати шести приложений к руке и все виды почестей, некогда воздаваемых земным владыкам.
Кстати, монарх он не кровожадный и не мстительный, и когда он изгоняет, — что случается нередко, — то эта кара применяется как можно деликатнее и мягче.
Хотите доказательств?
Один неисправимый игрок, в особенно несчастливый для него день, оскорбил государя. Последовал указ об его изгнании.
Целый месяц он бродил вокруг запретного рая в страхе перед мечом архангела, принявшим видимость жандармской сабли. Наконец в один прекрасный день, собравшись с духом, он переходит границу, в тридцать секунд достигает сердца страны, проникает в казино. Но его останавливает один из служащих:
— Разве вас не изгнали, милостивый государь?
— Да, совершенно верно, милостивый государь, но я уезжаю с ближайшим поездом.
— Превосходно. В таком случае, милостивый государь, вы можете войти.
После этого он посещал казино каждую неделю, и каждый раз тот же чиновник предлагал ему тот же вопрос, на который он давал тот же ответ.
Может ли правосудие быть более обходительным?
Но несколько лет назад в Монакском государстве приключился случай, весьма прискорбный и доселе неслыханный.
Произошло убийство.
Убийца — не из праздных иностранцев, которые легионами кочуют по Ривьере, а местный житель — в порыве гнева убил свою жену.
Он убил ее без причины, без всякого повода с ее стороны. Все княжество было возмущено этим злодеянием.
Для разбирательства этого необычайного дела (первый случай убийства в княжестве!) собрался верховный суд, и преступника приговорили к смертной казни.
Разгневанный князь утвердил приговор.
Оставалось только предать убийцу казни. Но тут явилось непредвиденное препятствие. В княжестве не имелось ни палача, ни гильотины.
Что делать? По совету министра иностранных дел князь вступил в переговоры с французским правительством с целью получить заем в виде палача и его орудия.
В Париже начались продолжительные совещания кабинета. Наконец воспоследовал ответ с приложением счета, в который были внесены все издержки, потребные для доставки означенного прибора и мастера. Итог равнялся шестнадцати тысячам франков.
Его монакское величество рассудил, что эта затея обойдется ему слишком дорого; убийца весь того не стоил: шестнадцать тысяч франков за то, чтобы отрезать голову какому-то негодяю! Нет уж, слуга покорный!
Тогда с тем же предложением обратились к итальянскому правительству. Все-таки король, собрат, — уж, верно, он будет сговорчивее, чем республика.
Итальянское правительство прислало смету на двенадцать тысяч франков! Двенадцать тысяч франков! Придется обложить население еще одним налогом — по два франка с головы. Этого довольно, чтобы вызвать волнения, еще невиданные в государстве.
Подумали было о том, не велеть ли простому солдату обезглавить злодея. Но когда запросили мнение генерала, тот несколько смущенно ответил, что вряд ли его люди обладают достаточным опытом, чтобы выполнить поручение, для которого необходимо в совершенстве владеть саблей.
Тогда князь снова созвал заседание верховного суда и предложил обсудить этот сложный вопрос.
Заседание длилось очень долго, но выход найти не удалось. Наконец первый председатель предложил заменить смертную казнь пожизненным заключением; на этом и порешили.
Но в княжестве не было тюрьмы. Пришлось нарочно приспособить подходящее помещение, после чего был назначен тюремщик, которому сдали арестанта с рук на руки.
В течение полугода все шло хорошо. Узник целыми днями дремал на соломе в своей темнице, а страж его дремал, тоже сидя на стуле перед дверью и поглядывая на проходивших мимо туристов.
Но князь бережлив — это наименьшая его слабость — и требует отчета во всех, даже мельчайших издержках своего казначейства (перечень их весьма невелик). Итак, ему представили счет расходов по созданию новой должности, по содержанию тюрьмы, арестанта и надзирателя. Жалованье этому последнему тяжелым бременем ложилось на бюджет.
Князь сперва только поморщился; но когда он подумал о том, что это может продолжаться до бесконечности (осужденный был молод), он предложил своему министру юстиции принять меры к исключению этой статьи расхода.
Министр посоветовался с председателем верховного суда, и было решено упразднить должность тюремщика. Арестант, предоставленный собственному надзору, непременно совершит побег, что и разрешит вопрос ко всеобщему удовольствию.
Таким образом, тюремщик был возвращен в лоно своей семьи, а на одного из помощников дворцового повара возложили обязанность два раза в день носить преступнику пищу. Но узник не делал никаких попыток вернуть себе свободу.
Однажды, когда ему забыли принести обед, он преспокойно явился за ним сам; и с тех пор, дабы не утруждать помощника повара, он приходил в часы трапез во дворец и ел там вместе со слугами, которые очень быстро с ним подружились.
После завтрака он обычно совершал прогулку в Монте-Карло. Иногда он заходил в казино и ставил пять франков. Если ему везло, он заказывал вкусный обед в модном ресторане, потом возвращался в свою тюрьму и тщательно запирал дверь изнутри.
Ни разу он не остался на воле до утра.
Положение становилось затруднительным — не для преступника, а для судей.
Снова собрался верховный суд, и было решено предложить арестанту покинуть пределы Монакского государства.
Когда ему сообщили об этом постановлении, он сказал:
— Вы шутите. Куда же мне деваться? У меня нет ни средств к жизни, ни семьи. Что же, по-вашему, я должен делать? Я был приговорен к казни. Вы меня не казнили. Я промолчал. Потом меня приговорили к пожизненному заключению и приставили ко мне сторожа. Потом вы меня лишили моего тюремщика. Я опять промолчал. А теперь вы хотите изгнать меня из страны. Так нет же! Вы сами меня судили, сами вынесли приговор и заключили в тюрьму. Я честно отбываю наказание. Никуда я не уеду.
Верховный суд пришел в смятение. Князь страшно разгневался и велел принять меры.
Снова начались обсуждения.
Наконец было решено предложить преступнику пенсию в размере шестисот франков, с тем чтобы он поселился за границей.
Он принял предложение.
Он взял в аренду маленький участок в пяти минутах ходьбы от государства своего бывшего монарха и живет припеваючи на своей земле, разводит овощи и презирает власть имущих.
Но монакский верховный суд, наученный — с некоторым опозданием — горьким опытом, решил заключить соглашение с французским правительством; теперь княжество посылает нам своих преступников, и мы за умеренную мзду расправляемся с ними.
В архивах монакского суда можно прочесть протокол о назначении преступнику пенсии и высылке его из страны.
Напротив княжеского дворца высится его соперник — казино, где играют в рулетку. Впрочем, между ними нет ни вражды, ни раздоров, ибо один из соперников содержит другого, а тот охраняет первого. Великолепный, единственный в своем роде пример двух могущественных семей маленького государства, мирно живущих в близком соседстве, — пример, способный изгладить из памяти распри Монтекки и Капулетти. Здесь княжеский дом, там — игорный, содружество старого и нового общества под звон золотых монет.
Доступ в княжеские покои закрыт для большинства простых смертных, зато двери казино широко распахнуты перед любым иностранцем.
Я вхожу в эти гостеприимные двери.
Звон золота, неумолчный, как морской прибой, негромкий, настойчивый, грозный, едва переступишь порог, долетает до слуха, потом проникает в душу, волнует сердце, смущает мысль, помрачает ум. Отовсюду несется этот звон, — он и песня, и крик, и призыв, и соблазн, и мука.
Длинные, покрытые зеленым сукном столы, а вокруг отвратительное племя игроков, накипь всех континентов и столиц, вперемежку с герцогами, наследными принцами, светскими дамами, солидными буржуа, ростовщиками, дряхлеющими кокотками; единственное в мире смешение людей всех наций, всех сословий, всех каст, всех мастей; музейная коллекция авантюристов — бразильских, чилийских, итальянских, испанских, русских, немецких; сборище старух в допотопных соломенных шляпах, вертлявых девчонок с сумочкой на запястье, где лежат ключи, носовой платок и последние три монеты в пять франков, которые будут брошены на зеленое сукно, как только почудится, что начинает везти.
Я подхожу к последнему столу, и здесь... бледная, с нахмуренным лбом, поджатыми губами, с напряженным и злым взглядом... моя незнакомка с бухты Аге, влюбленная красавица солнечного леса и озаренного луной берега! Перед ней за столом сидит он, положив дрожащую руку на столбик луидоров.
— Ставь на первый квадрат, — говорит она.
Он спрашивает сдавленным голосом:
— Все?
— Да, все.
Он кладет кучку золота на сукно.
Крупье пускает колесо рулетки. Шарик бежит, подпрыгивает, останавливается.
— Ставок больше нет! — кричит крупье и почти тотчас же добавляет: — Двадцать восемь.
Она вздрагивает и бросает сухо и жестко:
— Идем.
Он встает и, не глядя на нее, следует за ней; чувствуется, что между ними встало что-то отвратительное.
Кто-то говорит:
— Прощай, любовь! Сегодня они что-то не очень ласковы друг с другом.
Чья-то рука хлопает меня по плечу. Я оборачиваюсь. Это мой приятель.
. . . . .
Мне остается принести извинения за то, что я так много говорил о себе. Я заносил в этот дневник свои смутные мечтания, или, вернее, я воспользовался одиночеством, чтобы для самого себя собрать отрывочные мысли, которые, словно птицы, мелькают у нас в голове.
Меня просят опубликовать эти беспорядочные, нестройные, неотделанные записки, которые следуют одна за другой без всякой логики и обрываются вдруг, без причины, только потому, что порыв ветра положил конец моему путешествию.
Я уступаю этой просьбе. Быть может, напрасно.
Примечания
«На воде» было напечатано в журнале «Литература и искусство», в номерах от 1 февраля, 1 марта и 1 апреля 1888 года. В том же 1888 году это произведение было выпущено отдельной книгой в издательстве Марпона и Фламмариона с рисунками Риу. В книге Мопассан сделал одно добавление: эпизод, помеченный «Сен-Тропез, 12 апреля», он дополнил застольною беседой коммивояжеров в гостинице.
Яхта «Милый друг» была приобретена Мопассаном зимою 1885/86 года. Вскоре после ее покупки Мопассан по рекомендации своего знакомого, капитана Мютерса, нанял матроса Бернара, который стал исполнять обязанности капитана яхты; второй матрос, Ремон, был нанят в октябре 1886 года. Впоследствии, в апреле 1888 года, команда «Милого друга» пополнилась еще юнгою.
Яхта не удовлетворяла Мопассана, и в январе 1888 года он купил в Марселе другое, несколько более вместительное судно, которому тоже было дано название «Милый друг».
(обратно)1
Тартана — название одномачтового парусного судна в Средиземном море.
(обратно)2
...названий в стиле Флориана... — Флориан (1755—1794), французский писатель, автор пасторалей.
(обратно)3
Железная маска — неизвестный заключенный, находившийся долгое время в разных тюрьмах Франции и умерший в 1703 году в Бастилии. Он должен был все время носить на лице маску, по одним сведениям, железную (откуда и его имя) по другим — бархатную. Догадки и предположения о том, кто такой был таинственный узник, составили целую литературу. Мотив Железной маски широко использован и в художественной литературе: см., например, роман А. Дюма-отца «Виконт дс Бражелон».
(обратно)4
...«изгнанных», как сказал Доде... — намек на роман Альфонса Доде «Короли в изгнании», изданный в 1879 году.
(обратно)5
...кишащий частицами «де»... — Частица «де» при фамилии является во Франции признаком принадлежности к дворянству.
(обратно)6
Царица небесная (лат.).
(обратно)7
Курбе (1827—1885) — французский вице-адмирал Амедей-Анатоль Курбе, участник тонкинской экспедиции.
(обратно)8
Мольтке (1800—1891) — немецкий полководец, участник франко-прусской войны.
(обратно)9
Арокур (род. 1857) — французский поэт.
(обратно)10
Здесь и далее перевод стихов принадлежит Георгию Шенгели.
(обратно)11
Ночь веет желтой мглою... — цитата из «Баллады о луне» Альфреда де Мюссе (1810—1857).
(обратно)12
Честерфилд (1694—1773) — английский государственный деятель и писатель.
(обратно)13
Рейсдаль (1628—1682) — голландский пейзажист.
(обратно)14
Клод Лоррен (1600—1682) — художник, прозванный «Рафаэлем пейзажа».
(обратно)15
...Общество решило... — Имеется в виду акционерное общество.
(обратно)16
Каролюс Дюран (1837—1917) — французский художник-портретист.
(обратно)17
Гримальди — старинный род генуэзской аристократии.
(обратно)18
Коннетабль Бурбонский (1490—1527) — французский полководец.
(обратно)19
Карл Пятый (1500—1558) — король Испании и германский император.
(обратно)20
Герцог Эпернонский (1554—1642) — французский адмирал.
(обратно)21
В 1637 году... — во время войны Франции с Австрией и Испанией.
(обратно)22
В 1813 году... — во время борьбы Наполеона I против европейской коалиции.
(обратно)23
Жюль Валлес (1832—1885) — писатель и революционный деятель, член Парижской коммуны. Приведенная цитата — посвящение из романа Валлеса «Бакалавр».
(обратно)24
Данте. «Божественная комедия». «Ад». Песнь третья. Перевод М. Лозинского.
(обратно)25
Хлодвиг. — Имеется в виду Хлодвиг I, основатель франкской монархии и первый франкский король-католик (466—511). Вел много войн: с римлянами, алеманами, вестготами и др.
(обратно)26
Дагоберт — по-видимому, франкский король Дагобер I (ум. в 638 г.). В старинной песенке поется о том, что этот король носил штаны наизнанку.
(обратно)27
Пипин. — Речь идет о Пипине Коротком, первом франкском короле из династии Каролингов (ум. в 768 г.).
(обратно)28
Хильдерик (714—755) — последний франкский король меровингской династии Хильдерик III, низложенный Пипином Коротким.
(обратно)29
Захарий — римский папа с 741 по 752 год, передавший французский трон Пипину Короткому.
(обратно)30
Людовик VI (1078—1137) — французский король, воевавший с английским королем Генрихом I и разбитый им в 1119 году в битве при Бренвиле.
(обратно)31
Людовик IX (1215—1270) — французский король, причисленный католической церковью к лику святых.
(обратно)32
Филипп VI (1293—1350) — французский король, воевавший с Англией и разбитый в 1346 году в битве при Кресси англичанами, впервые применившими артиллерию.
(обратно)33
Иоанн II — французский король с 1350 по 1364 год. В битве с англичанами близ Пуатье в 1356 году Иоанн II был разбит и взят в плен принцем Уэльским (1330—1376), так называемым «Черным принцем», сыном короля Эдуарда III.
(обратно)34
Людовик XII (1462—1515) — французский король, сын герцога Орлеанского, долго боровшийся, до вступления на престол, с регентшей Анной де Боже и заключенный ею в тюрьму.
(обратно)35
Франциск I (1494—1547) — французский король. Сражаясь с испанским королем Карлом V, он был разбит в битве при Павии в 1525 году и взят в плен.
(обратно)36
Крийон (1543—1615) — один из полководцев Генриха IV, которому король написал приведенные слова, одержав при Арке в 1589 году победу над войсками герцога Майенского, вождя католической Лиги.
(обратно)37
Битва под Иври. — Эта битва произошла в 1590 году; Генрих IV снова разбил в ней герцога Майенского и лигеров.
(обратно)38
...Париж стоит обедни! — По решению Генеральных Штатов, французская корона после смерти Генриха III не могла быть передана иностранному принцу. Это обстоятельство вынудило Генриха IV порвать с протестантизмом и принять католицизм как религию большинства французов.
(обратно)39
Он воевал с Китаем, с Мексикой, с Россией, с Австрией... — Войну с Китаем Наполеон III вел в 1857—1860 годах, войну с Мексикой — в 1862 году, войну с Россией («Крымскую кампанию») — в 1854—1856 годах, войну с Австрией — в 1859 году.
(обратно)40
Рошфор (1830—1913) — французский публицист, автор журнала-памфлета «Фонарь», ожесточенно нападавшего на Наполеона III и на режим Второй империи.
(обратно)41
Мак-Магон (1808—1893) — французский маршал и президент Третьей республики в 1873—1879 годах.
(обратно)42
В стране горбатых сам горбат... — Приведенные строки взяты из песни французского поэта Эжезиппа Моро (1810—1838) «Остров горбатых».
(обратно)43
Вильгельм Прусский — прусский король Вильгельм I Гоген-цоллерн (1797—1888), провозгласивший себя германским императором в 1871 году, после победы над Францией.
(обратно)
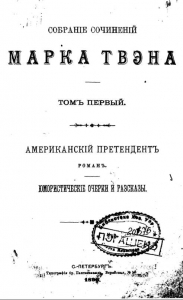

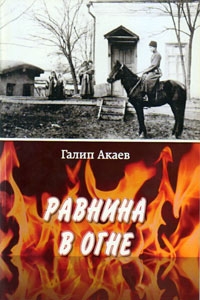
Комментарии к книге «На воде», Ги де Мопассан
Всего 0 комментариев