Генрих Бёлль Я не могу ее забыть
Я не могу ее забыть; всякий раз, стоит мне хоть на мгновение вынырнуть из водоворота повседневной жизни, которая своим постоянным давлением почти всегда удерживает меня в пучине человеческой реальности, не давая всплыть на поверхность, стоит мне хоть на секунду замедлить эту никогда не прекращающуюся, выматывающую, по-настоящему жестокую гонку, которую они называют жизнью, и остановиться где-нибудь, где до меня не донесутся их дурацкие крики, как я сразу вижу ее лицо, так близко, так ясно... она все так же упоительно красива, как и много лет назад, когда я увидел ее в белом халате без воротника, оставлявшем открытой ее нежную шею.
Тогда-то я и погиб для них. Капитан сказал, что мы должны немедленно идти в контратаку, и лейтенант повел нас в эту контратаку. А там и атаковать-то было некого. Мы вслепую бежали вверх по лесистому склону холма, был весенний вечер, и на предполагаемом поле боя царила тишина. Мы долго стояли на холме, озираясь по сторонам, и ничего не видели. Потом ринулись вниз, в долину, потом опять полезли вверх по склону другого холма, и опять ждали. Противника нигде не было видно. То тут, то там по краю лесочка попадались брошенные окопы, недостроенные укрепления наших, заваленные кинутым второпях, бессмысленным хламом войны. Но все еще было тихо, зловещее молчание под высоким сводом весеннего неба, медленно заволакивавшегося темнеющей пеленою сумерек, угнетало нас. Было так тихо, что голос лейтенанта заставил нас вздрогнуть:
— Вперед! — приказал он.
Но только мы собрались двинуться, как небо вдруг с грохотом обрушилось на нас и земля разверзлась.
Все наши попадали наземь или быстро спрыгнули в брошенные окопы; я успел заметить, как у фельдфебеля изо рта выпала трубка, а потом мне показалось, что мне отстрелили ноги...
Пять человек бросились бежать, едва утих первый шквал. Только лейтенант и с ним еще двое задержались, они подхватили меня на носилки и помчались вниз по склону, а наверху, там, где мы только что лежали, бушевал новый шквал.
Лишь много позже, когда они опустили меня в лесу на землю, я почувствовал боль. Лейтенант, отерев пот со лба, окинул меня долгим взглядом, но я сразу понял, что он не смотрит туда, где должны быть мои ноги.
— Не бойся! — сказал он, — мы отнесем тебя куда надо!
Лейтенант сунул мне в рот зажженную сигарету, а еще я запомнил: хотя боль и нарастала, я все-таки сознавал, что жизнь прекрасна. Я лежал на лесной дороге, у подножия холма, рядом с дорогой протекал ручеек, наверху, среди верхушек высоких елей виднелась лишь узкая полоска неба, теперь серебристого, почти белого. Стояла несказанно живительная тишина, только птицы пели. Я выпускал сигаретный дым длинными голубыми нитями, считал, что жизнь была прекрасна, и плакал...
— Успокойся, — сказал лейтенант.
Они опять понесли меня. Но путь был долог, почти два километра до того места, куда отступил капитан, а я был тяжелый. По-моему, все раненые очень тяжелые. Лейтенант шел впереди носилок, а те двое — сзади. Так мы, наконец, выбрались из лесу, шли полями и лугами, потом опять лесом, им приходилось часто опускать носилки наземь, утирать пот, а вечер все приближался. Когда мы дошли до деревни, все еще было тихо. Они отнесли меня в дом, где теперь находился капитан. Слева и справа по стенам громоздились одна на другой школьные парты, а учительская кафедра была завалена ручными гранатами. Когда меня внесли, там как раз распределяли ручные гранаты. Капитан кричал в телефон, угрожая кому-то расстрелом. Потом выругался и бросил трубку. Меня положили за кафедрой, где лежали еще раненые. Один, с простреленной рукой, сидел на корточках, вид у него был весьма довольный.
Лейтенант доложил капитану, как проходила наша контратака, капитан заорал, что расстреляет лейтенанта, а лейтенант сказал:
— Так точно!
Капитан еще пуще разорался, а лейтенант опять повторил:
— Так точно!
И капитан перестал кричать.
В цветочные горшки воткнули большие факелы и зажгли их. Уже стемнело, а электричества, похоже, тут не было. Когда гранаты были розданы, класс опустел. Остались только два фельдфебеля, писарь и капитан с лейтенантом. Капитан сказал лейтенанту:
— Прикажите выставить посты, надо попытаться хоть немного поспать. С утра опять начнется...
— Отступление? — тихо спросил лейтенант.
— Вон! — закричал капитан, и лейтенант ушел.
Когда он ушел, я впервые взглянул на свои ноги и увидел, что они залиты кровью, я их совсем не чувствовал, чувствовал только боль там, где были ноги. Мне стало холодно. Рядом со мной лежал человек, раненный в живот, он был совсем тихий и бледный, почти не шевелился, только изредка осторожно проводил рукой по одеялу, накинутому на живот. На нас никто не обращал внимания. Наверно, среди тех пятерых, что сразу дали деру, был и санитар. Внезапно и я ощутил боль в животе, она быстро поползла вверх и расплавленным свинцом прихлынула к сердцу, кажется, я закричал и потерял сознание...
Очнувшись, я сначала услышал музыку. Я лежал на боку и смотрел в лицо соседа, раненного в живот. Он был мертв. Одеяло стало черным от пропитавшей его крови. А я слушал музыку, — должно быть, где-то включили радио. Звучало что-то очень современное, наверное, иностранное, а потом эту музыку словно бы стерли мокрой тряпкой и раздался марш, потом классическая музыка. Вдруг чей-то голос надо мной произнес:
— Моцарт.
Я поднял глаза и увидел ее лицо, и тут же понял, что это не может быть Моцарт, и сказал, обращаясь к этому лицу:
— Нет, это не Моцарт.
Она склонилась надо мной и я увидел, что она врач или, может, студентка-медичка, она выглядела такой юной... но в руке у нее был стетоскоп. Теперь я видел лишь корону ее пышных мягких каштановых волос, ведь она склонилась над моими ногами и задрала одеяло так, чтобы я ничего не мог видеть. Потом подняла голову, посмотрела на меня и сказала:
— И все-таки это Моцарт.
Она закатала мне рукав, а я тихонько возразил:
— Нет, это не может быть Моцарт.
А музыка все играла, теперь я уж точно знал, что никакой это не Моцарт. Иногда музыка звучала совсем по-моцартовски, но были там некоторые пассажи, у Моцарта невозможные.
Рука у меня была совсем белая. Девушка мягкими пальцами нащупала пульс, и вдруг я ощутил укол — она что-то впрыскивала мне в руку.
Ее лицо было теперь совсем близко, и я шепнул:
— Поцелуй меня.
Она залилась краской, выдернула иглу, и в этот миг голос по радио произнес: «Мы передавали музыку Диттерсдорфа[1]». Она улыбнулась, и я улыбнулся, теперь я видел ее всю, по-настоящему, поскольку единственный еще горящий факел стоял на кафедре, за ее спиной.
— Скорее, — сказал я уже громче, — поцелуй меня.
Она опять покраснела и стала еще красивее. Свет факела озарял потолок и отбрасывал на стены беспокойно кружащие красные блики. Она быстро оглянулась, наклонилась и поцеловала меня, за этот миг я успел разглядеть ее смеженные веки и ощутить нежность ее губ, а факел окружал ее тревожным светом... И вот опять капитан рычал что-то в телефон и уже другая музыка доносилась из репродуктора. Потом кто-то вскрикнул, меня вдруг подхватили и вынесли в ночь, положили в холодный кузов и я лишь успел заметить, что она стоит и смотрит мне вслед в свете факела, среди нагромождения школьных парт, они были как смехотворные руины гибнущего мира.
Наверное, все они вновь вернулись к своим исконным профессиям. Капитан теперь преподаватель гимнастики. Лейтенанта нет в живых, а о других мне ничего не известно, да и знал-то я их всего несколько часов. Разумеется, школьные парты стоят теперь на своих местах, электричество опять горит, а факелы зажигают лишь по каким-нибудь особенно романтическим поводам, и капитан теперь вместо: «Я вас расстреляю!» кричит что-нибудь безобидное, например: «Вы дурак!» или «Эй ты, трус» — если кто-то не справляется с «мельницей». Ноги мои зажили, я опять хорошо хожу, и на всяких комиссиях мне сказали, что я могу работать, но у меня есть другое, куда более важное занятие: я ищу ее. Я не могу ее забыть. Люди говорят, что я помешанный, потому что я не желаю крутить «мельницу» или браво и верноподданно маршировать в команде гимнастов, рьяно и нетерпеливо ожидая похвалы.
К счастью, они обязаны платить мне пенсию, и я могу позволить себе ждать и искать, ибо знаю, что найду ее...
Примечания
1
Диттерсдорф Карл Диттерс фон (1739—1799) — австрийский композитор и скрипач, автор оркестровой и камерной музыки, а также комических опер («Доктор и аптекарь» и др.).
(обратно)

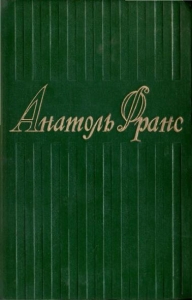
Комментарии к книге «Я не могу ее забыть», Генрих Бёлль
Всего 0 комментариев