Ги де Мопассан
Махмед-Продувной
— Кофе будем пить на крыше? — спросил капитан.
Я ответил:
— Да, конечно.
Он встал. В комнате было уже темно; свет проникал в нее из внутреннего дворика, как полагается в мавританских домах. Над высокими стрельчатыми окнами нависали лианы, спускавшиеся с плоской крыши, где обычно проводят душные летние вечера. На столе оставались только фрукты, огромные африканские фрукты: виноград величиною со сливу, спелые фиги с лиловой мякотью, желтые груши, продолговатые мясистые бананы и тугуртские финики в корзинке из альфы.
Слуга-туземец открыл дверь, и я поднялся по лестнице с лазоревыми стенами, освещенной сверху нежным сиянием угасающего дня.
И вскоре, очутившись на крыше, я блаженно вздохнул. Она возвышалась над Алжиром, над портом, над рейдом и над уходящим вдаль побережьем.
Дом, купленный капитаном, представлял собою старинную арабскую постройку и стоял в центре старого города, в лабиринте переулков, где копошится пестрое население африканского побережья.
Перед нами, внизу, квадратные плоские крыши спускались гигантскими ступенями к островерхим кровлям европейского города. Дальше виднелись мачты кораблей, стоявших на якоре, а еще дальше — море, открытое море, спокойное и голубое под голубым и спокойным небом.
Мы растянулись на циновках, подложив под голову подушки; я пил маленькими глотками кофе, такое вкусное в этих краях, и глядел, как на потемневшей лазури зажигаются первые звезды. Они были едва заметны — далекие, бледные, еще не успевшие разгореться.
Какое-то крылатое легкое тепло ласкало кожу. По временам чувствовались другие, горячие и более тяжелые дуновения, приносившие неясный запах — запах Африки; они казались дыханием близкой пустыни, веявшим из-за вершин Атласа. Капитан лежал на спине и говорил:
— Что за страна, друг мой! Как здесь легко живется! Здесь как-то особенно отрадно отдыхать! Эти ночи словно созданы для грез!
А я лениво и в то же время с живым интересом разглядывал в блаженной полудремоте зажигающиеся звезды.
Я пробормотал:
— Рассказали бы вы мне какую-нибудь историю из вашей жизни в Африке.
Капитан Марре был одним из самых старых офицеров в африканской армии, бывшим спаги, проложившим себе дорогу в жизни собственной саблей.
Благодаря ему, его связям и его друзьям мне удалось совершить чудесное путешествие по пустыне; и в этот вечер я пришел поблагодарить его перед отъездом во Францию.
Он сказал:
— Какую же историю хотите вы послушать? За двенадцать лет жизни в песках со мной было столько приключений, что я уже ни одного из них не припомню.
Я продолжал:
— Расскажите об арабских женщинах.
Он ничего не ответил. Он лежал, вытянувшись во весь рост, положив голову на скрещенные руки; по временам до меня доносился запах его сигары, дым которой в эту безветренную ночь поднимался прямо к небу.
Вдруг он рассмеялся.
— Ага, вспомнил! Я расскажу вам забавную историю, она относится к самому началу моей алжирской жизни.
В то время у нас в африканской армии попадались необычайные типы — таких сейчас не встретишь, таких больше нет, — типы, до того любопытные, что вы согласились бы застрять на всю жизнь в этой стране, лишь бы получше изучить их.
Я был простым спаги, маленьким двадцатилетним спаги, белокурым, хвастливым, ловким и сильным, — был, дорогой мой, настоящим алжирским солдатом. Меня назначили в гарнизон форта Богар. Вы теперь знаете Богар, его прозвали балконом юга; вы видели с вершины форта начало этой огненной страны, изглоданной, голой, выжженной, каменистой и красной. Это настоящее преддверие пустыни, раскаленная и грозная граница огромного царства безлюдных песков.
Так вот, нас было в Богаре человек сорок спаги, рота пехоты из новобранцев да эскадрон африканских стрелков. Однажды мы получили известие, что племя улед-бергхи убило английского путешественника, неведомо как пробравшегося в эту страну — ведь в англичанах просто бес сидит.
Убийство европейца требовало возмездия, но наш командир, разумеется, не спешил отправлять отряд, полагая, по совести говоря, что какой-то англичанин не стоит таких хлопот.
Он как раз вел разговор об этом деле с капитаном и лейтенантом, когда явившийся для доклада вахмистр спаги вдруг заявил, что он готов совершить расправу над племенем, если ему дадут в помощь всего-навсего шесть человек.
Вы знаете, что на юге военные чувствуют себя гораздо свободнее, чем в городских гарнизонах, и между офицером и солдатом существуют особые, товарищеские отношения, которых вы нигде в другом месте не встретите.
Капитан расхохотался.
— И ты это сделаешь, молодец?
— Да, господин капитан, и если пожелаете, захвачу все племя и пригоню его к вам.
Комендант форта, большой чудак, поймал его на слове:
— Поезжай завтра же утром, возьми шесть человек по своему выбору, но если не исполнишь обещанного, берегись!
Вахмистр усмехнулся в усы:
— Не сомневайтесь, господин комендант. Пленники будут здесь самое позднее в среду около полудня.
Этот вахмистр, по прозванию Махмед-Продувной, был действительно человек необычайный, — турок, настоящий турок, поступивший на французскую службу после очень бурной и, конечно, довольно темной жизни. Он побывал во многих странах — Греции, Малой Азии, Египте, Палестине — и на своем веку совершил, наверно, немало преступлений. Это был настоящий башибузук, смелый, разгульный, жестокий и веселый, невозмутимо веселый, по-восточному. Он был толстый, очень толстый, но ловкий, как обезьяна, и замечательный наездник. Усы его, невероятно густые и длинные, вызывали у меня смутные представления о полумесяце и ятагоне. Он дикой ненавистью ненавидел арабов, преследовал их с чудовищной жестокостью и коварством, непрерывно изобретал для них все новые ловушки и хитроумные, страшные козни.
К тому же он отличался невероятной силой и просто фантастической смелостью.
Комендант сказал ему:
— Выбирай людей, молодец.
Махмед взял меня. Храбрец мне доверял, и я предался ему телом и душой, так как эта честь доставила мне тогда не меньше радости, чем впоследствии крест Почетного легиона.
Итак, на следующее утро, с рассветом, мы двинулись в путь всемером, всего-навсего всемером. Мои товарищи принадлежали к числу тех бандитов, тех разбойников, которые, избороздив все существующие страны и всласть там пограбив, поступали наконец на службу в какой-нибудь иностранный легион. В те времена наша африканская армия кишела подобными негодяями, людьми без стыда, без совести, хотя они и были отличными солдатами.
Махмед роздал нам по десятку веревок, причем каждая была длиной около метра. Мне же, как самому младшему и самому легкому, дали еще вдобавок длиннейшую веревку в сто метров. Когда Махмеда спросили, для чего ему эти веревки, он ответил, как всегда невозмутимо и загадочно:
— Будем удить рыбу по-арабски.
И хитро прищурил глаз, — манеру эту он перенял от старого стрелка-парижанина из африканского легиона.
Махмед ехал впереди отряда в красном тюрбане, который всегда носил в походе, и радостно ухмылялся в огромные усы.
Он был действительно великолепен, этот здоровенный турок, толстопузый, широкоплечий, как колосс, и невозмутимо спокойный. Под ним была невысокая, но сильная белая лошадь, и казалось, что всадник раз в десять больше своего коня.
Мы спускались в долину Шелиффа по узкой лощине, каменистой, голой, совершенно желтой, и толковали о своей экспедиции. Спутники мои говорили с акцентом, каждый на свой лад, потому что в отряде, кроме трех французов, было двое греков, испанец и американец. Что касается Махмеда-Продувного, то он картавил самым невероятным образом.
Солнце, ужасное солнце, южное солнце, о котором и понятия не имеют на противоположном берегу Средиземного моря, жгло нам плечи, и мы ехали шагом, как всегда ездят в этих странах.
За все утро мы не встретили ни одного дерева, ни одного араба.
В первом часу дня мы остановились у маленького источника, струившегося между камней, достали из походных сумок хлеб и вяленую баранину и после двадцатиминутного привала снова двинулись в путь.
Наконец к шести часам вечера, сделав по приказанию нашего начальника большой крюк, мы увидели за песчаным бугром арабское кочевье. Низкие коричневые шатры выделялись темными пятнами на желтой земле и казались большими грибами, выросшими в пустыне у подножия красного, обожженного солнцем пригорка.
Там были те, кого мы искали. Немного поодаль, на лужайке, поросшей темно-зеленой альфой, паслись привязанные лошади.
— В галоп! — приказал Махмед, и мы, как ураган, ворвались в середину становища. Обезумевшие женщины в белых развевающихся лохмотьях быстро попрятались по своим холщовым норам, заползали в них, согнувшись, и вопили, словно загнанные звери. Мужчины, напротив, сбегались со всех сторон, собираясь защищаться.
Мы сразу направились к высокой палатке, принадлежащей аге.
Сабли из ножен мы не вынимали, по примеру Махмеда, скакавшего самым странным образом. Он сидел на своей маленькой лошадке совершенно неподвижно, она же рвалась, как бешеная, неся эту огромную тушу.
Спокойствие длинноусого всадника составляло забавный контраст с неистовством лошади.
При нашем приближении туземный вождь вышел из своей палатки. Это был высокий, худой, черный человек с блестящими глазами, выпуклым лбом и полукруглыми бровями.
Он крикнул по-арабски:
— Что вам нужно?
Махмед, круто осадив лошадь, спросил на том же языке:
— Это ты убил английского путешественника?
Ага произнес твердым голосом:
— Я не обязан отвечать на твои вопросы.
Вокруг нас словно бушевала буря. Со всех сторон сбегались арабы, окружали нас, теснили, галдели.
Горбоносые, с костлявыми, худыми лицами, все в широких одеждах, разлетавшихся от их жестикуляции, они напоминали разъяренных хищных птиц.
Махмед улыбался; тюрбан его съехал набок, глаза блестели, и я видел, как подергиваются от удовольствия его отвислые мясистые и морщинистые щеки.
Он закричал громовым голосом, покрывшим все крики:
— Смерть тому, кто причинил смерть!
И направил револьвер на смуглое лицо аги. Я увидел легкий дымок над стволом, и вдруг изо лба аги брызнул розовой пеной мозг, смешанный с кровью. Араб упал навзничь, раскинув руки, и широкие полы его бурнуса приподнялись, словно крылья.
Право, я был уверен, что пробил мой последний час, — такой страшный шум поднялся кругом.
Махмед обнажил саблю. Мы последовали его примеру. Быстро размахивая саблей и отбрасывая тех, кто сильнее всего напирал на него, он крикнул:
— Кто сдается, тому — жизнь! Остальным — смерть!
И, схватив своей геркулесовой дланью ближайшего араба, он перекинул его через седло, связал ему руки и прорычал:
— Делайте, как я, и рубите тех, кто будет сопротивляться!
В пять минут мы захватили около двадцати человек и крепко связали им руки. Затем пустились преследовать беглецов, так как при виде обнаженных сабель арабы бросились врассыпную. Привели еще человек тридцать.
По всей равнине виднелись убегавшие белые фигуры. Женщины тащили детей и визгливо кричали. Желтые собаки, похожие на шакалов, с лаем рыскали вокруг нас и скалили белые клыки.
Махмед, казалось, обезумел от радости. Он спрыгнул с седла и, схватив веревку, которую я привез, сказал:
— Внимание, ребята! Пусть двое спешатся.
И тогда он сделал нечто чудовищное и смешное: четки из пленников, или, вернее, четки из удавленников. Он крепко связал руки первого пленника, затем набросил затяжную петлю из той же веревки на его шею и ею же стянул руки следующего, а затем его горло. Вскоре все наши пятьдесят пленников были связаны таким образом; и, сделай кто-нибудь малейшую попытку к бегству, он и оба его соседа были бы задушены. От каждого движения петля затягивалась на шее, и пленным приходилось идти размеренным шагом, почти вплотную друг к другу, чтобы не упасть замертво, подобно зайцу, пойманному в силок. Когда эта занятная операция была закончена, Махмед рассмеялся безмолвным смехом, от которого колыхался его живот, хотя изо рта не вырывалось ни звука.
— Арабская цепочка! — сказал он.
Мы и сами корчились от смеха, глядя на испуганные и жалкие физиономии пленников.
— Теперь, ребята, — крикнул нам начальник, — привяжите цепочку к кольям с двух концов.
Мы действительно вбили колья у обоих концов этой вереницы пленников, похожих на призраки в своих белых одеяниях, и они застыли в полной неподвижности, как будто окаменели.
— А теперь пообедаем, — произнес турок.
Развели костер, зажарили барана и поели, разрывая мясо руками. Потом угостились финиками, найденными в палатках, выпили молока, добытого тем же способом, и подобрали несколько серебряных безделушек, забытых беглецами.
Мы мирно кончали обед, когда я заметил на холме против нас какое-то странное сборище. Это были спасшиеся от нас женщины, одни лишь женщины. Они бежали по направлению к нам. Я указал на них Махмеду-Продувному.
Он улыбнулся.
— Это десерт! — сказал он.
Да, хорош десерт!
Они бежали, они мчались, как бешеные, и вскоре в нас градом полетели камни, которые они бросали на бегу; мы увидели, что они вооружены ножами, кольями от палаток и старой утварью.
Махмед скомандовал:
— На коней!
И как раз вовремя! Атака была отчаянной! Они явились освободить пленников и пытались перерезать веревку. Турок, поняв опасность, пришел в бешенство и заревел:
— Рубите! Рубите! Рубите!
Мы не двигались, смущенные такой необычной задачей, не решаясь убивать женщин, и тогда он сам бросился на это неистовое полчище.
Он в одиночку боролся с батальоном бабенок в лохмотьях, рубил их саблей, негодяй, рубил, как одержимый, с таким бешенством, с такой яростью, что при каждом взмахе на землю падала белая фигура.
Он был ужасен; обезумевшие от страха женщины убежали с такой же быстротой, как и явились, оставив на поле сражения с дюжину мертвых и раненых, светлые одежды которых запятнала красная кровь.
А Махмед подскакал к нам и с перекошенным лицом завопил:
— Бежим, бежим, ребята, они вернутся!
И мы отступали, уводя за собою медленно шагавших пленных, парализованных страхом удушья.
На следующее утро, ровно в двенадцать часов, мы явились в Богар с цепочкой удавленников. В дороге умерло только шесть человек. Но приходилось очень часто ослаблять петли, потому что веревка при каждом толчке сразу сдавливала горло целому десятку пленников.
Капитан умолк. Я ничего не ответил. Я думал об этой удивительной стране, где случаются такие вещи, и смотрел на россыпь бесчисленных звезд, сверкавших на черном небе.


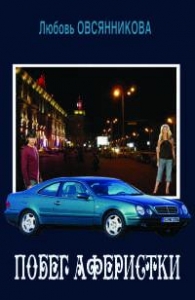
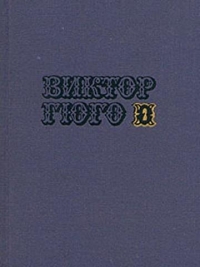

Комментарии к книге «Махмед-Продувной», Ги де Мопассан
Всего 0 комментариев