Кейт Уотерхаус Билли-враль
Конторские будни Билли-враля
Когда в 1959 году увидела свет повесть Кейта Уотер-хауса «Билли-враль», к молодому писателю сразу пришла известность. В главной роли в одноименном фильме снялся тогда молодой Том Кортни, один из самых выдающихся современных английских актеров. На сценах нескольких театров шла драматургическая версия повести.
Английская критика поспешила причислить автора книги к «рабочим романистам», которые заявили о себе во второй половине 50-х годов. Основания для этого имелись, пожалуй, лишь чисто формальные: как и все «рабочие романисты», Уотерхаус родился на индустриальном Севере, а Билли некоторыми чертами напоминал героев первых книг этих писателей.
— Да, так оно и было, — говорит автору этих строк Кейт Уотерхаус, с которым мы сидим в небольшом уютном ресторане старинного лондонского клуба «Парик и Перо», что на Стрэнде, рядом с Флит-стрит. Членами этого клуба традиционно состоят журналисты и судейские чиновники, поскольку неподалеку расположены не только редакции многих газет, но и Дом правосудия.
— Можешь себе представить, что мое имя часто упоминалось в одном ряду с именем Джона Брейна…
Время чаще всего обнаруживает условность критических «ярлыков» и классификаций. Автор известного в нашей стране романа «Путь наверх» Джон Брейн очень скоро превратился в поставщика чисто коммерческого чтива с откровенно выраженной охранительной тенденцией. А создатель «Билли-враля» продолжает писать правдивые и ироничные книги о британском «государстве всеобщего благоденствия».
Кейт Уотерхаус родился в 1929 году в семье уличного торговца. В юности он работал подмастерьем у сапожника, в похоронной конторе, в гараже, прежде чем стал профессиональным журналистом, начав свою карьеру репортером в йоркширской газете. Для многих писателей газета оказывается своего рода стартовой площадкой — они покидают ее, как только перед ними открываются широкие горизонты писательства,
Уотерхаус верен журналистике до сих пор. Будучи автором семи романов, он продолжает работать в газете — по понедельникам и четвергам публикует свою колонку в популярной «Дейли миррор». Он пишет короткие жанровые сценки, очерки, публицистические статьи по проблемам охраны окружающей среды. Он убежден в том, что повседневный труд журналиста очень помогает труду писательскому. Тридцать лет работы в журналистике отразились на стиле его книг — ритмичном, упругом, лаконичном, насыщенном информацией.
Живой, общительный Уотерхаус всегда по-репортерски «нацелен» на собеседника, острый, оценивающий взгляд будто ищет черту одежды, манеры, деталь, которую можно обыграть. Наверняка с давних репортерских времен сохранилась у писателя привычка к быстрой ходьбе. Коренастый и плотный, он так стремительно мчался по людным улицам лондонского Вест-Энда, что я с трудом поспевал за ним…
— Знаешь, сколько я себя помню, мне всегда хотелось сочинять. Уже с восьми лет я стал рассылать свои писания по редакциям. В первый раз меня напечатали в одиннадцать, второй в пятнадцать лет…
Но, конечно, на хлеб этим заработать не удавалось. Отец разорился, с молотка пошли и дом, и мебель. Но чем бы юный Кейт ни зарабатывал себе на жизнь, желание и писать не пропадало. Он стал сочинять романы, действие которых происходило в обширных английских поместьях — ведь именно об этом были написаны все книги, взятые в местной библиотеке.
Откровением стал для начинающего литератора сборник рассказов Дилана Томаса — оказалось, что можно писать и о реальной жизни, о той, которую ты сам знаешь.
И вот в 1957 году выходит первый роман Уотерхауса «Есть счастливая земля…». Хотя тема его традиционна — детство, ее воплощение вполне самобытно. Роман написан от лица одиннадцатилетнего мальчишки из рабочего пригорода Лидса и на таком «мальчишеском» жаргоне, что нередко он непонятен взрослым англичанам. Герой-рассказчик — самый обычный парнишка: озорничает, не слушается тетки, тщетно пытается завоевать авторитет среди приятелей кулаками, страдает от отсутствия настоящей дружбы. От сверстников и сверстниц его отличает мечтательность и непреодолимая склонность к вранью, точнее к сочинительству, он пленник своей безудержной фантазии. Все эти качества унаследует Билли Сайрус — Билли-враль. И еще у юного героя первой книги Уотерхауса есть одно сходство с самим писателем — трепетное отношение к печатному слову: мальчик «издает» собственную газету — вырезая и наклеивая на чистый лист бумаги заметки из настоящих газет.
50-е, 60-е и даже первая половина 70-х годов дали и в английской, и вообще в западной литературе целый ряд ярких и значительных произведений о молодежи. Но вот уже лет пять, как молодежная тема в английской прозе очевидно ушла на второй план. Спрашиваю писателя, чем это объясняется — ведь ясно, что проблемы, волновавшие молодых в прошлые десятилетия, не только не снялись, но такие, как безработица, еще больше обострились.
— Проблемы и в самом деле остались. Но заметных книг о молодежи нет. Думаю, что такую книгу, как, например, «Абсолютные новички» Колина Маккинеса, сегодня и написать невозможно. Раньше подростки говорили на своем жаргоне, который писатель мог использовать. А сегодня панки (часть молодежи, унаследовавшая экстравагантные одежды и замашки хиппи, — Г.А.) объясняются жестами и восклицаниями, которые попросту нельзя воспроизвести на бумаге.
Что это, чисто журналистская, объективистская оценка очередной «моды» западной молодежи? Нет. Писатель всерьез озабочен судьбой подрастающего поколения. Не скрывая тревоги, Уотерхаус говорил мне о том, что я уже слышал от многих английских знакомых: система образования в Англии в глубоком кризисе — речь, конечно, не идет о немногих привилегированных школах и университетах. В Англии самый большой из всех западноевропейских стран процент молодежи с неоконченным средним образованием. Сотни, тысячи молодых людей, не достигнув шестнадцати лет, пополняют ряды безработных, не в последнюю очередь и потому, что не имеют квалификации, необходимой для труда на современном производстве.
Разговор с писателем высветил еще одну грань в неоднократно прочитанной повести «Билли-враль». Ведь одна из самых главных трудностей Билли, которую он, быть может, сам в должной мере не сознает, — это недостаток образования, общей культуры. Он мечтает о творческой, вдохновенной работе, богатой, интересной жизни, но все прошлые годы никак его к ней не подготовили. И во многом потому и начинается трагикомическое раздвоение, в котором существуем герой.
Жизнь Билли Сайруса течет как бы в двух измерениях, в двух мирах — реальном, где он служит клерком в похоронном бюро в маленьком йоркширском городке Страхтоне, и вымышленном — в стране Амброзии, которую он сам изобрел и где он занимает руководящие посты, побеждает в войнах, пользуется всеобщей любовью.
В реальном мире все наоборот. Недовольны родители — поздно приходит, грубит, ко всему равнодушен. Недоволен хозяин конторы — Билли не только нерадив, но и горазд на всякие каверзные выдумки. Недовольны подружки — еще бы, ведь он всем им обещает жениться.
Что же, Билли — просто скверный, испорченный парнишка? Нет. Он своеобразный, романтичный враль, мечтатель, жаждущий воплощения своего заветного желания — писать юмористические сценки и скетчи для эстрады. Получив письмо, вежливое и ничего не значащее, от известного комика Бума, Билли окончательно теряет голову. Он настолько оторвался от земли, что готов поверить в свою счастливую звезду.
Собственно, вся повесть о сборах и приготовлениях Билли к отъезду. Он лжет и выдумывает на каждом шагу, причем фантазии его столь неправдоподобны, что установить истину не составляет никакого труда. Его вранье приносит вред главным образом ему самому: восстанавливая против себя окружающих, Билли лишь умножает свое одиночество, от которого действительно страдает. Его бесконечные выдумки — попытка привлечь к себе внимание, защититься таким способом от одиночества, но попытка с негодными средствами, превращающаяся в иную, быть может, еще более драматичную форму одиночества и эскепизма. Билли не столько бежит в мир несбыточной мечты, несуществующей «счастливой страны» Амброзии, сколько скрывается за частоколом лжи, которая, хоть как будто и безобидна, больно ранит окружающих, в частности мать.
В постоянной лжи Билли по поводу и без повода есть и еще одна сторона — своеобразный квазиромантический протест против унылого стандарта повседневности. Обычно романтический герой уверен в своей силе и правоте. А Билли фантазирует и сочиняет от неуверенности в себе. Он раздираем мучительными сомнениями во всем — прежде всего в своих способностях, в своем внутреннем праве заниматься творческим трудом. Билли не противопоставляет себя остальному человечеству. Напротив, он стремится преодолеть свое одиночество, выйти к людям, заинтересовать их, развеселить. Но терпит неудачу.
В чем ее причина? Однозначный ответ дать трудно.
Дело в том, что Билли, по существу, находится в конфликте со страхтонским обществом, которое дает нам представление о нравах английской провинции. Прежде всего, он воюет с родителями, людьми и честными, и трудовыми, но ограниченными. Ведь именно отец устроил сына в похоронную контору. Конечно, никакой труд не постыден, но не с темпераментом Билли заниматься похоронными делами. Что же до страхтонцев, то у них не может не вызвать неодобрения тот факт, что служащий похоронной конторы каждую субботу выступает в одном-из пабов с… комическим номером. Как-то несолидно…
Надо сказать, что у Билли и кроме вранья недостатков хватает. Он, правда по мелочам, нечист на руку. Порой его можно обвинить в цинизме. Однако при всех своих пороках он не эгоцентричен: кроме собственной персоны, у него есть и другие интересы. Его волнуют проблемы его «малой родины» — Йоркшира, его будущее: «Черно-сатанинские скопища наших фабрик, — попыхивая трубкой, сказал бы я, — с этим, по традиции, еще можно смириться, это часть нашего исторического ландшафта. Но… когда на нашей земле вырастают, словно черные мухоморы, сатанинские электростанции, застилающие все вокруг черным дымом, потому что они работают на плохом каменном угле, сатанинские жилые кварталы из черного от пыли камня, сатанинские кафе… Да мне нужен прогресс, — гневно подтвердил бы я, — но не сатанинский, а йоркширский, без ломки наших традиций».
Этот мысленный монолог героя отражает заботы самого писателя, истинного патриота своего Йоркшира. Билли много размышляет. Он хочет и, пожалуй, мог бы принести людям пользу. Если бы представилась возможность. Но такого шанса ему не выпадает.
Случайность ли это?
Ясно, что Билли Сайрусу не хватает знаний, усидчивости, умения работать. Но едва ли не самая важная причина краха всех его устремлений лежит в другом. Несмотря на то что «в Страхтоне было сколько угодно объектов для осмеяния» и Билли вместе с приятелем их регулярно осмеивает, герой Уотерхауса незримыми, но прочными узами связан со Страхтоном. Как и подавляющее большинство страхтонцев, он консервативен (речь, естественно, идет не о политическом консерватизме, а о скептическом отношении к любым переменам), осторожен, нерешителен, чтобы не сказать труслив. В нем как бы сосуществуют — и не слишком мирно — два человека: «внешний» — бунтующий, деятельный, язвительный, незаурядный, и «внутренний» — неуверенный в своих силах, пугливый, конформный, более всего страшащийся неизведанного ранее, словом, типичный страхтонскии обыватель.
Важнейшая заслуга Уотерхауса в том, что он сумел точно показать сложную диалектику единства и борьбы бунтарского и антибунтарского начала в душе своего героя.
С одной стороны, Билли справедливо полагает, что «основательные йоркширцы абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы, как стандартные колеса серийного автомобиля», слышит, что «все знакомые разговаривают штампами», испытывает закономерное презрение к своему патрону Крабраку, обволакивающему слащаво-глубокомысленными речами клиентов погребальной конторы. С другой — он, отвергающий образ жизни родителей и соседей, сам планирует чинную и благопристойную семейную идиллию с Барбарой, занудной мещаночкой, которая к тому же ему вовсе не нравится.
Да и представления Билли об успехе ничем не отличаются от общепринятых страхтонских: лимузин с шофером, деньги, меха, драгоценности для родных и т. д. Постоянно высмеивая Страхтон, он все же хочет самоутвердиться именно в нем, доказать своим землякам, что и он чего-то стоит, иными словами, вернуться домой богачом. Хотя, к чести Билли, богатство для него не самоцель, а наиболее убедительный показатель способностей человека, как это принято считать в «обществе потребления».
Провинциальный паренек не привык полагаться на случай. Он — враль, но не авантюрист. Потому поездка в Лондон манит и страшит его одновременно. Влюбленная в него Лиз, девушка живая, эмоциональная и лишенная предрассудков, считает, что в Лондон уехать просто — «надо… сесть в поезд — и за четыре часа он довезет тебя до Лондона». Верно. Но Билли — плоть от плоти своей среды. У него никогда не было и нет лишних денег, а к приключениям, если они выходят за привычные рамки страхтонских выдумок, он относится с инстинктивной опаской. Для него «Лондон — удивительный город… В Лондоне очень легко заблудиться». И это не очередная шутка озорника-провинциала. Глубоко сидит в Билли извечная неуверенность в себе и недоверие к другим: «И тут снова, едва я подумал, что на самом деле окажусь в Лондоне, мне стало как-то не по себе».
Он не в силах победить свою недоверчивость даже в отношении откровенной и бескорыстной Лиз. Она хочет, чтобы они немедленно поженились, а Билли никак не может решиться, несмотря на то, что только рядом с ней он ощущает счастье. Он не способен взять на себя ответственность за другого человека хотя бы потому, что до конца не верит ни одной живой душе, и Лиз в том числе.
Только однажды, после разговора со стариком Граббери, ходячим воплощением йоркширского духа, проявившим к Билли дружелюбие и участие, он ощущает прилив каких-то доселе неведомых чувств: «Я глядел ему вслед, и до меня постепенно доходило, что мне в первый раз захотелось перед кем-то исповедаться и что ему я, может быть, смог бы все объяснить, все-все. Я едва удержался, чтобы не окликнуть его».
Это признание героя многозначительно. Билли-враль привык, что все вокруг лгут. Он бы и рад поверить, открыть душу, но вдруг опять обман. Поэтому он и без настоящих друзей обходится — у него «только союзники по круговой обороне от всего мира».
Но, не умея раскрываться, Билли в то же время готов прислушаться и присмотреться к другому; в нем есть склонность к беспристрастной самооценке. Во всяком случае, он не считает, что всегда прав. Он видит мир достаточно широко, критически отводя себе самому в этом мире совсем не центральное место. Серьезные, взрослые мысли приходят к Билли перед одним из выступлений в дабе: «Пробираясь между столиками, я пытался вспомнить, сколько же раз я здесь выступал, — заранее зная что мое выступление закончится очередным провалом. Толстые тетки поглядывали на меня с равнодушным сочувствием. Такие же взгляды я замечал и раньше, но мне почему-то никогда не приходило в голову, что я по сравнению с ними просто щенок, что они-то живут подлинной, полнокровной жизнью, о которой я не имею ни малейшего представления».
Билли вдруг осознает, что жизнь этих усталых, непривлекательных женщин, глядящих на него «с равнодушным сочувствием» (как это точно сказано!), настоящая. Отсюда всего один шаг до того, чтобы задуматься, как эту настоящую и нелегкую жизнь улучшить. Но Билли этого шага не делает. Он судорожно ищет варианты своей собственной судьбы, но ищет на словах, по обыкновению жонглируя метафорами. Однако жизнь, увы, — не развернутая, овеществленная метафора. Жить по-настоящему — значит действовать. А Билли вечно размышляет и разговаривает. Ироничная Лиз верно заметила, что он «целиком замкнут на свои внутренние переживания».
Билли и правда живет очень напряженной внутренней жизнью. Но он настолько снедаем противоречиями, настолько погружен в рефлексию, что тратит все силы на борьбу с… самим собой. По ходу разговора с Крабраком он чувствует, что в нем «вскипает разрушительная, обессиливающая злость».
Писатель находит единственно верные эпитеты для характеристики состояния своего героя — в нем велико отрицающее, разрушительное начало, первой жертвой которого становится сам герой. Злость лишена созидательности. Она оглушает и изматывает Билли, который в конце концов понимает бесплодность всех своих фантазий. Скрываясь в них от повседневных забот реального мира, он в какой-то миг утратил чувство меры: «Пытаясь выкинуть из головы весь этот бедлам, я судорожно искал себя, себя самого — и не мог отыскать…»
Тут вряд ли поможет и столь желанная поездка в Лондон. Мудро говорит Билли мать: «От себя ведь не уедешь… И все свои неурядицы человек возит с собой».
Уотерхаус социально и психологически зорок и точен. Бунт героя против Страхтона и, если брать шире, против буржуазного образа жизни настолько незрел, непоследователен, несерьезен, что «позволить» Билли поездку в Лондон было бы квазиромантическим ходом, принесением в жертву жизненной правды.
Писатель достигает значительного художественного эффекта. Вызвав к Билли естественную симпатию, он в то же время так мастерски выстроил структуру книги — взаимоотношения героя с второстепенными персонажами, его мысли и переживания, — что выявились не только достоинства, но и недостатки Билли. Мы видим героя как бы с двух точек зрения: его собственной и объективной, писательской. И это двойное видение, тонко и ненавязчиво поданная в повествовании авторская оценка поднимают заурядную жизненную историю большой литературы.
Хоть Билли и не карьерист, стремящийся к богатству и положению в обществе любой ценой, но протест юного провинциала не имеет настоящей социальной основы и потому обречен.
Дальнейшая судьба Билли продолжала занимать писателя — в 1975 году выходит роман «Билли-враль на Луне». Как и следовало ожидать, мечта героя не сбылась— он так и не стал литератором и не превратился в лондонца. Однако по сравнению со службой в похоронной конторе продвинулся он достаточно далеко. Теперь мистер Сайрус, как его величают, тридцати трех лет от роду, проживает в хорошей квартире в одном из городов-спутников столицы и служит в местном муниципалитете в отделе информации и рекламы, сочиняя не сатирические скетчи, а путеводитель по этому в высшей степени «прогрессивному» городу-спутнику. Одним словом, Билли, как он сам себе предрекал, стал чиновником. У него есть жена, машина, счет в банке — внешние атрибуты благопристойности и благополучия. Перед ним раскрываются реальные перспективы дальнейшей чиновнической карьеры. Но для этого нужно лгать по-крупному, быть если не соучастником, то безгласным свидетелем постоянных незаконных махинаций и афер, в которых погрязли его коллеги. Коррупция принимает такие размеры, что мэр города в конце концов оказывается под арестом.
Но Билли Сайрус всего лишь мелкий, безобидный враль, а не казнокрад. И в тридцать с лишним лет он сохраняет своеобразную инфантильность, свойственную обычно центральному персонажу классического пикарескного или авантюрного романа, — при всех своих пороках и недостатках наш герой все же не в пример лучше подавляющего большинства окружающих.
Как и в юности, Билли по-прежнему врет на каждом шагу — матери, жене, любовнице, приятелям и начальникам. Врет нелепо, по мелочам и почти всегда попадается,
Во втором романе о Билли Сайрусе еще четче проступает замысел автора — рассказать о человеке, выбирающем особую форму эскепизма. Ведь именно нелепыми фантазиями и ложью Билли отгораживается от реальных тягот и забот. Но подобная двойная жизнь ему, человеку и тонкому, и неглупому, не приносит, да и не может принести удовлетворения. Поэтому-то он так и не «вписывается» в ту социальную роль, которую ему предлагает общество.
Точно так же, как и Билли, не могут найти себя и место в обществе герои двух книг, предшествующих «Билли-вралю на Луне».
Сирил Джабб, герой романа «Джабб» (1963), — тридцатишестилетний клерк, сборщик квартирной платы. Он, правда, не такой безудержный враль, как Билли, но неисправимый мечтатель и фантазер. Человек он незлой, и ему вовсе не хочется причинять окружающим неприятности, но при его профессии избежать этого не так-то просто, особенно потому, что в подведомственных ему домах живут люди в основном неимущие. Однако мотивы всех его добрых поступков люди истолковывают превратно. В этой истории, казалось бы, исключительно частной жизни есть немалый социально значимый подтекст — одинокий и никому не нужный Джабб готов примкнуть ко всем, кто его примет, даже вступить в расистскую организацию «Британия для британцев». Любопытно, что еще двадцать лет назад писатель счел нужным привлечь внимание к активизации подобных полуфашистских групп. В последнее время проблема расовых отношений на Британских островах крайне обострилась.
Очень напоминает и Билли, и Сирила центральный персонаж романа «Лавка» (1968). Уильям — владелец крошечной антикварной лавки, где он по дешевке распродает предметы из дома покойной матери. В нем нет никакой коммерческой жилки — он не умеет купить, а потом перепродать дороже. Уильям тоже враль, но враль своеобразный, его ложь — прежде всего самообман: он воображает себя знатоком антиквариата, ценителем искусств и т. д. Уильям не может и помыслить о том, чтобы служить, быть чиновником, это противоречит его представлению о настоящей, полной жизни. Его непреодолимо манят клубы Вест-Энда, ресторанчики Сохо; где, как ему известно, шикарно развлекается артистическая богема, люди совсем иной породы, к которой он упрямо причисляет и себя.
Краткая экскурсия в этот мир обходится Уильяму в буквальном смысле дорого — его обдирают как липку, он почти банкрот. Да и куда ему, простаку, тягаться, к примеру, с такими хищницами, как одна из его возлюбленных, журналистка из модного издания: она «открыла в себе талант делать мужчину действительно несчастным, что приносило ей глубокое удовлетворением Умение дать одной фразой язвительную, точно бьющую в цель характеристику позволяет отнести Уотерхауса к давней и плодотворной в английской прозе нравоописательной традиции.
Бедняга Уильям, потерявший почти все свое небольшое состояние, не нашел в мире богемы той яркой праздничности и счастливых людей, которых искал. При ближайшем рассмотрении этого мира рекламный глянец, столь притягательный для обывателя, немедленно блекнет. И остается хорошо знакомая изнуряющая неуверенность в завтрашнем дне и чаще всего несбыточная надежда на счастливый случай, приносящий большой куш.
Персонажей книг Уотерхауса 60-х годов объединяет некий парадокс — в силу жизненных обстоятельств, происхождения, образования им уготована судьба клерка, чиновника, но они, хотя и достаточно смутно, жаждут какой-то творческой деятельности, которая оказывается невозможна, чаще всего из-за отсутствия необходимых способностей. Даже при трезвой самооценке неудовлетворенность остается, не снимается дисгармония существования.
Казалось бы, совсем иначе, гармонично и счастливо текут однообразные дни Клемента Грайса, главного героя книги «Конторские будни» (1978), который «был вполне удовлетворен ролью рядового клерка» и отказывался от предлагаемых ему повышений. Грайс законопослушен и всем доволен, его не страшит даже временная безработица. Получив направление в фирму «Альбион», он радостно окунается в родную атмосферу. Все так и мило, и знакомо — типовые автоматы, отпускающие в бумажные стаканчики кофе или чай, картотеки, проволочные подносы для бумаг; даже письменный стол ему кажется давним близким приятелем — ведь раньше Грайс подвизался в фирме, изготовляющей конторскую мебель, в частности именно такие письменные столы.
На всех тринадцати этажах здания из стекла и бетона буквально кипит работа: стучат пишущие машинки; чиновники, склонив головы, корпят над бумагами; шуршат бесконечные потоки входящих и исходящих. Начинает вносить в эту работу свой скромный вклад и Грайс, углубившись в бумажки, которые явно никому не нужны. Но служба есть служба. Образцовый чиновник Грайс не привык задавать лишние вопросы…
Однако натренированному уху Грайса в привычном шуме конторских будней «Альбиона» недостает одного звука — телефонных звонков. Тут в повествование входит элемент таинственности, придающий книге детективный оттенок. У романтичного бюрократа Грайса есть один порок — он любопытен. Он пытается выяснить, чем все-таки занимается «Альбион». Ему, как и некоторым его сослуживцам, кажется, что за интенсивной деятельностью здесь скрывается нечто важное — возможно, «Альбион» является прикрытием какого-то учреждения секретного характера…
Но когда в конце концов открывается истина, роман «Конторские будни» оказывается куда значительнее, нежели традиционная, напоминающая по духу знаменитый «Закон Паркинсона» сатира на вездесущую бюрократию. В гротескной, преувеличенной форме писатель обнажил глубинный антигуманизм «общества благоденствия», лишающего сотни и тысячи людей самого главного — осмысленного, общественно полезного труда.
Подлинного драматизма исполнен вопрос одного из персонажей: «Почему правительство дает нам работу, чтоб мы бездельничали, а не дело, чтоб мы работали?»
Многие люди не хотят мириться с абсурдной тратой их способностей и энергии. Конечно, откровенно наивен выход из положения, предложенный в книге, — возрождение старинных маленьких типографий. Но общая идея Уотерхауса понятна и не может не вызвать сочувствия.
Трепетное отношение к печатному слову писатель пронес через всю жизнь. Бесспорно, что печатное слово— хлеб мировой культуры, необходимая основа человеческого общения. Недаром в типографии, расположенной в старом, диккенсовском, всеми забытомуголке Лондона, царит совершенно иная атмосфера, нежели в «Альбионе». Здесь люди трудятся вместе, в коллективе, на общее благо. Там — сотни отчужденных одиночек выполняют никому не нужную, бессмысленную работу, тупо повинуясь циркулярам и предписаниям.
Отпечатанное на типографском станке слово для Уотерхауса гораздо реальнее и нужнее красочных телевизионных миражей, которыми заполнены вечера сотен тысяч грайсов западного мира. Хоть Грайс и не может быть с полным основанием причислен к категории «вралей», он тоже живет в призрачной стране — в мире телевизионных грез. Недаром все люди, с которыми доводится ему встречаться в жизни, напоминают ему виденных на экране актеров и политиков, хотя он не всегда помнитих имена, а только роли или должности.
Печатное слово, говорит Уотерхаус, обладает душой, но оно утрачивает ее и обезличивается при ксерокопировании. Писатель считает, что сегодня на подмогу бюрократии пришли могущественные союзники в лице множительных аппаратов. Теперь не составляет никакого труда размножить любую бюрократическую писанину в пятидесяти, скажем, экземплярах. Наличие же пятидесяти копий предполагает пятьдесят получателей, у которых в свою очередь должно быть пятьдесят секретарш, чтобы эти бумажки принимать, регистрировать, подавать начальству на стол и т. д. Одним словом, симуляция деятельности нарастает как снежная лавина.
«Конторские будни» опровергают один достаточно распространенный на Западе миф о том, что безработица будто бы неизбежна и в общем не так уж и страшна, если государство достаточно богато, чтобы как-то содержать тех, кому работы не досталось. В романе неоднократно возникает мотив: оплаченное безделье изматывает намного больше любой работы. И в этом нельзя не увидеть прочной веры писателя в безграничные возможности человека, которому присуще стремление к полезной, творческой деятельности, потребность раскрыть все свои способности. Пафос защиты человеческого; достоинства от бездуховной механистичности «общества благоденствия» пронизывает всю книгу.
В совершенно ином стилистическом ключе решен пока последний роман Уотерхауса «Мэгги Магинс, или Весна в Эрлскорте» (1981). Здесь главный персонаж — молодая женщина, являющая собой еще один тип изгоя «общества благоденствия». Если к Грайсу писатель относился откровенно иронично, то к Мэгги он, безусловно, испытывает сочувствие. Из маленького провинциального городка вырвалась Мэгги на просторы лондонских площадей и улиц, как стремятся к тому многие провинциалы. Но ничего она не добилась, не получила никакой специальности — ушла с секретарских курсов, работала в книжном магазине, кассиром, клерком, портье в гостинице и отовсюду уходила, нигде ей не нравилось. «Мне начинает казаться, что ты вообще не любишь работать», — замечает ей отец, трудолюбивый мелкий буржуа.
Что же, Уотерхаус написал апологию тунеядства? Вовсе нет. Он поведал трагическую историю полного отчуждения человека от общества. Мэгги никто никогда не любил, никому она не была нужна, даже родителям. И для отца, и для нее самой в высшей степени мучительны их ежегодные встречи на несколько часов. Она с радостью бы от них отказалась, но это как-то неприлично: Так и идут дни Мэгги в праздных шатаниях по Лондону, посещениях пабов и иных злачных мест. Она любит выпить, но по причине бедности «не может позволить себе превратиться в алкоголичку». Мэгги не слишком разборчива в связях, но гордится тем, что, несмотря на тяжелое материальное положение никогда не занималась проституцией.
Мэгги — ровесница тех, кто в конце 60-х — начале 70-х годов был среди бунтующей молодежи, но политика ее никогда не интересовала и не интересует. Она постепенно привыкла к одиночеству и даже отчасти упивается им, скрывая от немногих знакомых свой адрес Ей никто не нужен прежде всего потому, что она никому не нужна. Конфликт ее с обществом поистине огромен, хотя внешне почти не выражен.
Сам образ жизни Мэгги — дерзкий вызов всевозможным «Альбионам», действительным и вымышленным. Она не приняла на себя ярмо бесплодных конторских будней. Мэгги честнее всех грайсов, джаббов и даже сайрусов — ее жизнь бессмысленна, так она и не считает нужным притворяться и делать хорошую мину при плохой игре. Именно этой честностью и самостоятельностью Мэгги Магинс интересна и привлекательна для Кейта Уотерхауса — писателя, настойчиво ищущего правду о человеке под густым слоем лжи, покрывающим конторские и иные будни сегодняшней Великобритании.
Г. Анджапаридзе
Глава первая
Проснувшись, я отмахнулся от насущных дел — и вот, снова оказался в Амброзии.
По обычаю торжественный марш-парад начинал свое шествие на авеню Президентов, но я без труда перенес его к Ратуше. Ее ступени были превращены в почетную трибуну, на которой сидели мои друзья, — и не было там стяга более горделивого, чем изодранное в боях сине-звездное знамя Амброзийской Федерации. Один за другим проходили по Городской площади полки — Гвардейский, Десантный, Йоркширский Его Величества Пехотный, — а потом настала благоговейная тишина, и все невольно обнажили головы, приветствуя горсточку уцелевших бойцов из Полка Амброзийских Рыцарей-добровольцев. Да, мы не сразу вступили в битву, и нас нередко упрекали за это, но тех, кто мог бы сейчас услышать упрек, осталось лишь семеро: семеро из двух тысяч. Прихрамывая, шли мы по площади — заляпанные грязью, только что из боя, — но наши форменные шотландские юбочки победно колыхались в такт маршевой музыке. Памятник Павшим украшали голубые маки, странные цветы, растущие только в Амброзии, а оркестр играл «Марш киношников».
Обдуманно и сознательно я оборвал этот праздник — ведь начинался день великих свершений, — пропевши под музыку раз, два, три, сорок семь, чтобы выбраться из Амброзийского мира. Я давно уже научился себя исцелять, когда впадал в считальную горячку (и досчитывал порой тысяч до трех), — принимаясь считать вразброд, а не по порядку; ну, а если уж не помогал и «разброд», то я бормотал какие-нибудь цитаты или строчки из полузабытых стихов: Семьдесят три, девятьсот шесть, господь пастырь мой, четыреста тридцать пять.
Начинался день великих свершений. Еще накануне я решил — правда, не в честь новой жизни, а больше ради удобства, — что отстригу ноготь на большом пальце левой руки, который давно уже нарочно отращивал и сумел отрастить до четверти дюйма. А сейчас, лежа под золотистым пуховым одеялом и рассматривая красавиц в кринолинах на стенке, искусно вырезанных из серебряной фольги и вставленных в рамочку (их первых — долой!), я решил, что не буду хранить отстриженный ноготь в коробочке из-под крема, а выброшу его как ненужный хлам; и впредь — всегда коротко подстриженные ногти и холодный душ по утрам. Конец привычке валяться в постели и шевелить пальцами на ногах — так, чтобы похрустывали суставы, раз пятьдесят на каждой ноге; отныне подъем ровно в семь и утренние занятия — по часу — до завтрака. Не будет больше всяких там подмигиваний, ущипываний себя за нос, хлюпанья слюной сквозь зубы, сдерживаний дыханья — и все это с нынешнего… ну, или, может, с завтрашнего утра.
Я уже подвигал пальцами на ногах и теперь растопыривал — чтоб как можно шире, чтоб вышло похоже на морскую звезду — пальцы левой и правой руки. Иногда мне казалось, что у меня между пальцами выросли перепонки, вроде утиных, и мне непременно надо было растопырить обе мои пятерни, чтобы прогнать это странное ощущение, а то оно еще и на ноги перекидывалось.
Матушка уже выкликала из кухни: «Билли! Билли, ты собираешься вставать?» — третья серия обычных утренних выкликов, которые начинались со спокойного: «Ты еще не проснулся, Билли?» — и кончались решительным: «Билли, уже четверть десятого, а там как знаешь, валяйся хоть до вечера!» — что означало половину девятого и необходимость вылезать из постели. Я дождался очередного возгласа: «Ну подожди, негодник, я вот сейчас подымусь к тебе, тогда не обрадуешься!» — вариант пятой серии: «… вытряхну из кровати!» — и нехотя встал.
Надевая свой старый плащ, приспособленный вместо халата, я решил, что куплю себе настоящий халат — может быть, китайский, с драконами, — и вынул из кармана пачку дешевых сигарет. Обычно я заставлял себя выкурить сигарету натощак, до завтрака, но сейчас даже от мысли про курево мне и то стало тошно. Я сунул сигареты обратно в карман и нащупал заветное письмо, но не стал его перечитывать. Он сделал несколько заметок для памяти на обратной стороне использованного конверта — эта фраза издавна меня привлекала. Мне представлялась пачка старых конвертов, перехваченная резинкой, и небрежно-бисерные заметки на каждом. Я вытащил из кармана конверт с письмом и быстренько придумал несколько заметок: Календари. С В. насчет капитана. С К. насчет работы. Тысяча?! Ответ Буму. Придуманные заметки были мне не нужны, особенно про Ведьму с разговором насчет капитана: этот разговор, да еще, пожалуй, календари тревожили меня почти постоянно; что же до разговора с Крабраком насчет работы, так я из-за этого полночи не спал. «Тысяча?!» значило тысячу слов: я задумал роман о жизни подростка из частной школы и собирался писать его по графику — тысяча слов ежедневно. Роман я задумал в начале августа и, значит, уже отстал от первоначального графика на тридцать четыре тысячи слов. Порой, причем иногда довольно долгой порой, все мои устремления сводились к решимости ловко иссасывать мятные леденцы «Поло»: так, чтоб они не ломались во рту; а иногда я — и тоже надолго — ускользал от реальной жизни в Амброзию, чтоб основать у Трансамброзийского тракта поселение артистов и чтобы телекомпании в передачах обо мне задавались вопросом: «Гений или безумец?»
Я отложил свою шариковую ручку, сунул конверт в карман и, услышав седьмую, довольно приятную серию маминых выкликов: «Билли! Завтрак давно остыл!» — отправился вниз.
Надкручень — так назывался наш дом (хотя я-то его, разумеется, так не называл) — глядел во дворик несколькими одинаковыми окошками с причудливым переплетом; а одно окно напоминало иллюминатор. Оно освещало крохотную площадку лестницы между этажами, и здесь я, как всегда, задержался, чтобы потереться пяткой о стойку лестничных перил: еще одна никому не нужная привычка, которую — отныне и навсегда — долой. Почесывая пятку, я смотрел в окно на выкрашенный битумной краской гараж с его многословной златобуквенной вывеской: ТРАНСПОРТНАЯ ФИРМА ДЖ. САЙРУС И СЫН. ПЕРЕВОЗКИ ПО КОНТРАКТАМ НА ЛЮБЫЕ РАССТОЯНИЯ. ТЕЛ. 2573. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ШТАМП. Вывеска была неправильная. Сын — это я, но отец делал все от него зависящее, чтобы держать меня на любом расстоянии — лишь бы подальше — от нашего семейного бизнеса. Меня-то, впрочем, злил ИЗГОТОВИТЕЛЬ ШТАМП, написавший свою дурацкую фамилию почти такими же громадными буквами, какими была написана вывеска. Эрик Штамп, белобрысый парень, занимался в классе рекламного дизайна, когда мы учились в Страхтонском техническом, а сейчас работал там же, где я — у Крабрака и Граббери. Он мечтал открыть собственное дело по изготовлению вывесок, и уж я-то его, конечно, не отговаривал.
Как бы там ни было, гараж был заперт, а значит, отец еще не позавтракал, и мне предстояло объяснить ему, почему я так поздно вчера вернулся. Спустившись вниз, я вынул из почтового ящика газету «Страхтонское эхо», которая провалялась бы там до вечера, если б не я, и вошел в гостиную. Начинался день великих свершений.
Церемония семейного завтрака никогда не казалась мне особенно радостной. Однажды я сделал обреченную попытку ее оживить — вошел в гостиную с расставленными, будто у лунатика, руками и объявил раскатистым, гулким голосом: «Жанровая сценка! Спешите видеть! Семейный завтрак в Йоркшире! Допотопный, полированный в древности стол; камчатая скатерть с зеленой каймой; справа — сальное соусное пятно; слева — липкое пятно от варенья; в середине — окаменевшие кукурузные хлопья и обугленные ломтики хлеба, или, по-йоркширски, тосты, сожженные на медленном электроогне; во главе стола — родоначальница, бабушка; во другой главе — матушка, хранительница домашнего очага; сбоку — глава семейства, отец; с другого боку — стул для потомка, пока что не занятый: потомок проспал…»
Нет, не поняли они эту сценку.
Ну и вот, а сейчас я вошел в гостиную как можно незаметней, будто крадучись, — и сразу же увидел отца: тускло блестел биллиардный шар его лысины, привычно повернутый ухом к приемнику, монотонно бубнившему о том, что было «Вчера в парламенте». В общем-то, я увидел типичную картинку нормальной йоркширской семьи, но мне она почему-то вдруг напомнила выцветшую послевоенную открытку со слезливой надписью: «Когда ты в последний раз видел отца?» А тем временем я уже слышал знакомые звуки.
— Решил, значит, все-таки встать? — встретила меня матушка первой серией дневных разговоров. Обычно я бормотал: «Как видишь», или «Нет, я еще лежу», или «А что — разве незаметно?» — смотря по настроению. Сейчас я сказал: «Как видишь»— и сел за стол к остывшему яйцу. Времени было без четверти девять.
— А пора бы уже и понять, — зарокотал отец, отрывая взгляд от каких-то счетов, — что на завтрак надо одеваться, а не шастать тут в этом растреклятом плаще! — Разговор, как водится, сразу же свернул в обычное русло, и я с трудом поборол искушение ответить отцу обычным вопросом: «А почему ты всегда начинаешь с «а»? И сказавши «а», не говоришь потом «бэ»?» Бабушка, еще одна яростная сторонница одежды, которая, по-моему, даже ночью, спускаясь в кухню за содовой водой, бывает не только что одетой — разряженной, сейчас же вставила, и тоже по-обычному: «Надобно, чтоб он сжег этот его плащ, тогда ему придется одеваться к завтраку». Одна из бабушкиных странностей — а у нее их немало — заключается в том, что она обыкновенно разговаривает не прямо со своим собеседником, а обращается к какому-нибудь посреднику, часто даже неодушевленному — например, к шкафу. Привычно расшифровывая ее местоимения, я понял, что она обращается к матушке, что он, призываемый сжечь «этот его плащ», — мой отец, а ему, то есть мне, придется тогда одеваться к завтраку.
— Стало быть, — начал я, — он, который должен… — Но отец перебил меня:
— А когда ты вчера явился домой? Если только про такую растреклятую позднь можно сказать «вчера». Ишь ведь, завел себе растреклятую привычку шлендрать чуть не до утра.
Я срезал верхушку вареного яйца — нарочно, чтоб они посильней разозлились: в наших краях скорлупу разбивают ложечкой и счищают, — а потом беспечно ответил отцу:
— Кто его знает. Наверно, в полдвенадцатого. А может, без четверти.
— В час, а не в твоё растреклятое «без четверти», — отрезал отец. — И заруби себе на своем растреклятом носу, что ты у меня будешь приходить домой вовремя. Ты у меня не будешь шляться по ночам… в твоем растреклятом возрасте.
— А кто у тебя будет шляться по ночам, — спросил я отца, — в моем растреклятом возрасте? — Мое остроумие нехотя просыпалось, как бледное рассветное солнце в пасмурный день.
Тут вмешалась матушка — протокольным голосом утреннего дознания:
— Скажи-ка мне, что это ты делал около девяти вечера в Лощине Фоли?
— А кто тебе сказал, что я был в Лощине Фоли? — огрызнулся я.
— Не твоя забота, кто мне сказал. Ты был там, около девяти. И вовсе не с Барбарой.
— Он должен решить, с кем ему быть, — вставила бабушка.
В общем, я понял, что мне есть о чем поразмыслить. Матушка никогда не видела Ведьму — она назвала ее по имени, Барбарой, — да и Риту, с которой кто-то засек меня в Лощине, тоже не видела. Так хотел бы я знать, как это матушка, не нанимая частных детективов, исхитрилась столько всего выведать.
— Передай своим соглядатаям, — сказал я матушке, — чтоб они не лезли в чужие дела.
— Да ведь твои дела — это наши дела! — воскликнула матушка. — И пожалуйста, не дерзи. — Я промолчал, думая о том благодетеле, который выдал меня предкам. Кто бы это мог быть? Миссис Олмонройд? Штамп? Сама Ведьма? И тут вдруг мне на секунду почудилось, что Ведьма вступила с матушкой в сговор и что они готовят мне до омерзения гнусный сюрприз — ведь на завтра Ведьма приглашена к нам в гости, чтобы пройти искус знакомства с предками во время крещения субботним чаем.
Бабушка объявила:
— Раз ее пригласили к нам на чай, она должна рассказать ей об этом. А не расскажет она, так я расскажу.
Матушка разгадывала местоимения бабушки не хуже меня. Она отозвалась:
— Я сама ей расскажу, можешь не беспокоиться…
Лавину их пререканий остановил отец — он выдвинул на позиции первоначального разговора самую тяжелую артиллерию:
— А я говорю, что он еще не дорос, чтобы шлендрать по ночам! Я ему втолковывал, и пускай запомнит: хочешь — возвращайся домой вовремя, а не хочешь — ищи себе растреклятое жилье где хочешь!
Получилось, что отец сам начал тот разговор, который собирался завести я, но, когда дошло до дела, у меня вдруг странно одеревенел язык, и вообще мне стало как-то не по себе при мысли о грядущих великих свершениях. Хмурясь, матушка налила мне чаю. Чтобы не нарушать сейчас домашних обычаев, я подцепил кусочек сахара щипцами, потом сунул руку в карман плаща, нащупал давешний заветный конверт с заметкой С К. насчет работы и откашлялся, чтобы начать свою речь… но на меня вдруг напала неодолимая зевота, и, сколько я себя помню, так случалось всегда, если мне предстоял серьезный разговор, и кроме как болезнью это было не объяснить — болезнью жутко опасной, а может, и смертельной. Позабыв обо всем на свете, я начал судорожно, тяжело и часто дышать — чтобы вздохнуть как можно глубже, чтобы пересилить эту проклятую зевоту, — так, наверно, дышит выбившийся из сил пловец через Ла-Манш. Предки занялись своими тарелками, а я, понимая, что мгновение упущено, все же заставил себя сказать:
— Мне предложили ту работу в Лондоне.
Я предвидел ответы предков, предвидел так ясно, что даже записал их заранее — хотя и не на использованном конверте, — решив с мягкой иронией показать им, что их поведение ничего не стоит предугадать. Вот как выглядели у меня их реплики:
«Какую еще растреклятую работу?» — отец.
«Как это предложили работу?» — матушка.
«Про что он толкует, я думала, он комик, он же сам говорил, он, мол, хочет быть комиком», — бабушка.
Бабушка, в придачу ко всем ее странностям, не могла, а вернее, не хотела запомнить, кем я хочу стать — комиком или сочинителем комиксов. Под ее мрачным взглядом я не решился обнародовать мои предсказания их реплик, а продолжил разговор, как наметил ночью, или, по словам отца, утром, когда ворочался без сна в постели:
— Ту работу у Бобби Бума. Потому что в ответ на мое письмо он предложил мне у него работать.
Я часто сравнивал наши разговоры со старым трамвайным маршрутом Страхтона. Вокруг вырастали новые дома, а трамвай громыхал себе неизменным путем, подбирая людей на прежних остановках. Вот и у нас, какие бы темы ни обсуждались, разговор, громыхая по давно проложенным рельсам, застревал на протухших доводах давнишних споров, но всегда возвращался к изначальному пункту, подгоняемый накалом отцовской ярости.
— Да кто он такой, этот Бобби Бум? — Вопрос, оборвавший всесемейное бормотание (этот растреклятый — про что он — Бум — нам толкует), задала матушка, но его мог задать любой из предков.
— Ну, знаменитый Бобби Бум, про которого я вам рассказывал.
— Какой еще Бум, и при чем тут работа, мне ты ни про какого Бума не рассказывал.
До чего же тяжко разговаривать с предками! Все они знали о моей надежде — верней, об одной из моих надежд — сделаться профессиональным текстовиком, то есть автором коротких комических пьесок. Да и Бобби Бума они прекрасно знали, потому что однажды он целую неделю выступал в «Имперском» (это у нас главный страхтонский клуб) и включил в программу мою шутку про глухонемого, как дубовый пень, — он и сейчас, когда стал знаменитым, чуть ли не каждый раз ее исполняет. (А тогда, помнится, матушка меня спросила: «И почему же ты так уверен, что он тебе заплатит?») И ведь я говорил предкам — точно говорил! — что написал Буму письмо насчет работы. Слава тебе, господи, что они хоть не спросили, какое у него настоящее имя, подумал я, отодвигая яйцо с выеденным желтком и нетронутым белком.
— Почему он всегда оставляет белок? Что ж его — выбрасывать? — спросила бабушка.
Вопрос был задан настолько не к месту, что даже матушка на него не ответила, хотя обычно она с удовольствием исследовала самые безнадежные разговорные тупики. Но ни возгласы «Ведь ты уже работаешь у Крабрака и Граббери!», «А кто тебя будет кормить?», ни бабушкины громогласно-злобные причитания «Про что он толкует?», «Про что он толкует?», «Про что он толкует?», «Про что он толкует?» не нарушили моего истерического спокойствия: я спрятался в свою обидчивость, как в надежную крепость. Тяжело, напоказ вздохнув, я сказал:
— Существует на свете известный комик. И фамилия у этого комика — Бум. Стало быть, комик по фамилии Бум. Для его выступлений нужны комические пьески, потому что сам он их не пишет. Я послал ему несколько своих шуток, и в ответном письме он дал мне понять, что они его устраивают и что я подхожу ему как постоянный автор.
— А что это значит — постоянный автор? — спросила матушка.
Мне снова пришлось демонстративно вздохнуть и стиснуть зубы — пусть видят мое терпение.
— Допустим, вот эта солонка — Бум, — переставив солонку, принялся я объяснять. — А вот эта перечница — мои шутки. Бобби Бум ищет тему для своих выступлений… — я направил на предков синюю пластмассовую перечницу, воображая, что держу в руке лучевой пистолет, — …и получает мои потрясные шутки. Ну, и они ему до олунения нравятся…
— А ну-ка попридержи свой растреклятый язык, — перебил меня отец. — «Потрясные, до олунения» — и это при родителях! За завтраком! Ты еще не уехал в свой растреклятый Лондон.
— Он совсем распоясался, — услужливо встряла бабушка.
— Уф-ф-ф-ф! — Я вздохнул сквозь стиснутые зубы и съехал на наш семейный стиль: — Да чтоб мне провалиться! Вы будете слушать? А то я это… могу и не рассказывать.
Предки сидели с поджатыми губами. Матушка молча и тяжко вздыхала. Отец хмурился над своими счетами, стряхивая пепел сигареты в скорлупу от яйца. Наступившее молчание заполнил бубнеж приемника.
— Так вот, — сказал я и открыл рот, чтобы еще раз вздохнуть, но закрыть его не смог: меня одолел припадок зевоты.
— Доедай-ка свой завтрак, — сказала матушка. — И хватит уж на сегодня представлений. А поешь — пойди умой свою заспанную физию. И научись не зевать нам в лицо за едой. Ты мало спишь, вот в чем беда.
— А умоешься — отправляйся в свою растреклятую контору, — добавил отец.
Я отодвинулся от стола вместе со стулом (задумывая «жанровую сценку», я собирался многое сказать про наши дешевые, массового производства стулья), встал и поплелся в кухню. На часах было пять минут десятого. В злобном оцепенении я оперся на раковину и расстрелял их к чертям собачьим из амброзийского автомата. Но потом, закурив украдкой сигарету, я подумал о серовато-прозрачном осеннем деньке, который разгорался за окном кухни, и настроение у меня немного исправилось. Я вздохнул — легко, глубоко и спокойно, — выдвинул ящик кухонного стола, ощупью нашел среди мотков припойной проволоки отцовскую электробритву, включил ее, подождал секунду или две, не раздастся ли из гостиной рыкающий приказ купить свою, а не хватать чужую, и начал бриться, отдавшись потоку привычных мыслей.
Я издавна затрачивал немало времени (а в последний год — все больше и больше), мысленно проживая разные жизни. Иногда я гробил на это все утро, а иногда— не только все утро и весь вечер после работы, но и несколько ночных бессонных часов. Я как бы жил в двух разных мирах (а считая обычный, так даже в трех) и привык называть их — сначала шутливо, а потом уж не думая про смысл названий, машинально, — Амброзийским и Злокозненным, или Первым и Вторым. Первый мир я измышлял сознательно, а Второй вторгался в мою жизнь сам: он терзал меня бесконечными мыслями о воображаемых карах за мои реальные прегрешения и ужасами смертельных болезней (я, например, был уверен, что мою зевоту вызывала неизлечимая саркома челюсти) или мучил необходимостью мысленно выпутываться из безысходных жизненных ситуаций вроде такой: как может спастись человек — как он действительно может спастись, — если хулиганы запихнут ему в ухо крохотную самовзрывающуюся петарду. Чтобы избавиться от этих кошмаров, я ускользал в Амброзийский мир, где вел беседы с Бертраном Расселом или, преображая мечту в реальность, становился великим оперным артистом — первым артистом в мировой истории, которого избрали на пост президента…
Опершись на газовую плиту, я размышлял под жужжание электробритвы про судьбу нашей семьи в Амброзийском мире. Там у нас все было исполнено благородства: я возвращался домой богачом, помогал отцу подняться на ноги, прощал своих предков и сам получал прощение. Матушка была искренне тронута моей заботливостью; поначалу она чувствовала себя немного скованно в дорогих мехах; но даже и потом, свыкнувшись со своим новым положением, она оставалась все такой же простой и скромной. Бабушка выходила замуж за советника Граббери, и эти милые розовощекие старички уезжали жить в свой уютный сельский коттеджик — с глаз моих долой. Все это было не раз обдумано. Однако в сегодняшнем решительном настроении я принялся измышлять себе совсем новых родителей. Они у меня стали по-столичному современными. Они не только разрешали мне курить, но с тринадцати лет поощряли мое курение (их заботами у меня не переводились первоклассные сигареты), и если я приходил домой «под кайфом», матушка, оторвавшись на минуту от пасьянса, ласково восклицала: «Опять, негодник, надрался», а утром, когда я объявлял за завтраком, что начинаю самостоятельную жизнь, мой амброзийский отец, директор-распорядитель крупной столичной фирмы, хлопал меня по спине и одобрительно басил: «А что, бродяга, самое время. Мы со старухой уже думали, что тебе пора вылетать из родительского гнезда. Пойдем-ка в библиотеку, потолкуем о денежных делах». А никакой бабушки и на свете не было.
Кончив бриться, я вынырнул из Амброзии, выключил бритву и принялся размышлять о редкой черной щетине у меня на горле и под подбородком, которую не брала отцовская бритва, сколько я ею ни елозил по коже. На секунду меня охватило знакомое оцепенение, предвестник ужасов Злокозненного мира, я потер тыльной стороной руки плохо выбритую щетину под подбородком — звук получился шуршащий, сухой — и подумал, что, наверно, болен: не бывает у здоровых людей такой щетины, Отец, надевая на ходу пиджак, прошел через кухню по пути в гараж.
— А мог бы и купить себе растреклятую бритву, чтоб не хватать мою, — бросил он, не замедляя шага.
— Восемьдесят четыре, — отозвался я: дескать, нынче с утра словечко «растреклятый» выскочило у него уже восемьдесят четыре раза; но хлопнувшая дверь заглушила мою традиционную подковырку. Разговор про Лондон повис в воздухе: отец уже позабыл о нем, а может, и с самого начала ничего не понял.
Проходя через гостиную, я услышал, как матушка привычно сказала: «Ходи, ходи — авось, встретишь сам себя: не успеешь уйти, как уже придешь». У нее было несколько таких фраз, точно рассчитанных на время моего пути от кухонной двери до двери в холл. Когда-то я попытался научить своих предков называть эти фразы матушки «материзмами», но они, конечно, не поняли, о чем я толкую.
Умываясь в ванной, я со страхом почувствовал (хотя и предвидел это заранее), что мысли о несбривающейся щетине под подбородком загоняют меня в Злокозненный мир. Сначала я подумал, что моя странная щетина — это особые волосы, растущие не наружу, а внутрь, как у тех людей, которые каждые шесть недель ложатся в больницу, чтобы волосы удалили, а то они мешают им есть и дышать; ну, а потом я поехал по давно известной дорожке: полиомиелит, туберкулез, рак — и совсем новая болезнь в истории медицины под названием «Зевота Сайруса». Все последнее время такие мысли, донимавшие меня чуть ли не каждую свободную минуту, неизменно преображались в ужасные раздумья — что произойдет, если я вдруг попаду в больницу или даже умру от какой-нибудь неизлечимой болезни, а история с календарями выплывет наружу?
Матушка крикнула мне наверх из гостиной:
— Такими темпами ты не только что в Лондон — даже и на службу-то не попадешь! Ведь уже почти половина десятого! — Но календарная история крепко держала меня за горло, и я, задыхаясь, потащился в свою комнату — Злокозненный мир засасывал меня, как зыбучая трясина.
Шел сентябрь. А календари я должен был разослать недели за две до рождества, еще в прошлом году. Стало быть, эта история доканывала меня уже больше девяти месяцев, или, как я недавно подсчитал, шесть тысяч пятьсот двадцать восемь часов. На календарях с обложками из тонких, но плотных картонных карточек десяти дюймов в длину и восьми в ширину была изображена кошка, глядящая на собаку, под рисунком отчетливо чернело слово СОПЕРНИКИ, а над рисунком было бледно подпечатано: КРАБРАК И ГРАБЕРРИ. ПОХОРОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. И чуть ниже — три слова, разделенные блеклыми звездочками ТАКТ. ВКУС. ДОСТУПНОСТЬ. Эти шикарные, по мнению Крабрака, календари надо было разослать полезным, на его взгляд, людям: директору Дома для престарелых, нашему давнему заказчику, членам правления Страхтонского крематория и приходским священникам, чтобы они не забывали звонить нам, когда появлялась надобность в услугах похоронной конторы. Ну, а я календари-то не разослал, а почтовые деньги присвоил. Сначала я прятал календари на складе, в подвале конторы, но, очумев от жутких видений Злокозненного мира — Крабрак приподымает крышку гроба, находит календари, и все узнается, — перетаскал их постепенно домой. Несколько штук мне уже удалось уничтожить: вечерами я выносил их по одному из дома, рвал на мелкие клочья и разбрасывал по Страхтонской пустоши. И хоть всякий раз я боялся до холодного пота и липкой дрожи, что полиция найдет меня по обрывкам календарей, мне удалось избавиться уже от четырнадцати штук. Остальные хранились в железном сундучке под моей кроватью — их осталось двести одиннадцать.
Одеваясь, я решил непременно разыскать в «Домашнем юристе», что мне могут сделать за мое преступление. «Итак, Сайрус, вы заслуживаете тюрьмы. Но, учитывая вашу юность и высокую оценку ваших способностей…» Что ж, тюрьма так тюрьма. Но я, конечно же, поразил начальника тюрьмы своим интеллектом, сдружился со священником — и благополучно вынырнул в Амброзийском мире, хотя такие путешествия были непозволительной роскошью в рабочий день после половины десятого.
— Билли, если ты через пять минут не уйдешь, я сама вышвырну тебя из дома! — крикнула мне снизу матушка. Я надел пиджак и выдвинул из-под кровати древний, покрытый черным лаком железный сундучок. Приклеенная вчера марка была на месте — значит, крышку никто без меня не открывал. Давным-давно, когда в сундучке хранились только исписанные неразборчивым почерком открытки от Лиз да сладенькие записочки Ведьмы, я назвал его Уголовным сейфом. И доля правды в этой шутке довольно быстро стала стопроцентной.
Нерешительно приподняв крышку, я был, как всегда, ошарашен и пришиблен огромной грудой календарей — на бурых конвертах моим размашистым почерком были написаны адреса «полезных людей» вроде доктора Харви Хвата, П. У. Рогмана, эсквайра, или преподобного Д. Л. П. Гвозделла, директора общежития для одиноких рабочих. Кроме календарей, в черных недрах Уголовного сейфа хранились любовные письма, счета, которые отец просил меня послать клиентам его фирмы, любовные пилюли, подаренные мне Штампом, зачитанный сборник «Рассказов для мужчин» в глянцевой обложке и письмо, написанное матушкой в радиоредакцию «Час домашней хозяйки». Я отчетливо представлял себе, как она открывала бутылочку чернил «Радужная чернь» и склонялась над листом мелованной бумаги… но, хоть убей меня, не мог понять, почему я не отправил ее письмо и зачем вскрыл его, сидя на корточках перед Уголовным сейфом.
«Уважаемый господин Редактор!
Я не отниму у Вас много времени, чтобы сказать, как я люблю слушать Ваш Час каждый день, что бы я ни делала, и попрошу Вас передать Песню («Песню в сумерки») для меня, хотя у Вас, наверно, не всегда найдется время передавать, что захочет каждый, но это моя «любимая песня», потому что муж часто пел ее, когда мы были молодые, хотяя понимаю, что у Вас, может быть, не хватит времени.
С глубоким уважением к Вам, (миссис) Н. Сайрус.
Р.S. Мой сын тоже пишет песни, но у него, наверно, мало шансов, потому что нет такого образования. Мы простые британские люди».
Я подумал, что тех споров, которые я вел с матушкой в Амброзийском мире насчет «простых людей», хватило бы на десяток радиочасов домашней хозяйки, и перевел взгляд на тонкую пачечку открыток от Лиз, перехваченную резинкой, как будто это старые конверты с небрежными заметками. Ее открытки, присланные из предпоследней поездки, и правда походили на небрежные заметки с интересными, но слегка занудными описаниями тех городов, куда ее заносила непоседливость или, может, одержимость; но они хоть по крайней мере были грамотными. Странно, конечно, ценить — и хранить — любовные письма за их грамотность… а собственно, за что еще-то мог я их ценить? Иногда, вспоминая Лиз, я, случалось, по целой минуте не удирал из реального мира, но потом все же уныривал вместе с ней в Амброзию, где меня должны были судить за подстрекательство к мятежу, а она, как знаменитая Ева Перон, взволнованно слушала споры юристов.
Я вытащил один календарь из Уголовного сейфа и сунул его под джемпер. Если я уеду в Лондон через неделю, то мне за сто восемьдесят шесть часов придется уничтожить двести одиннадцать календарей, или, считая до субботы с запасом, примерно по два календаря в час. Я вынул еще три, засунул их под брючный ремень и одернул джемпер. Роясь в Уголовном сейфе, я наткнулся на белый плоский пакетик с таблетками, якобы возбуждающими половое влечение, или любовными пилюлями, как сказал Штамп, когда в приступе щедрости, нерешительности и страха неловко совал их мне в руку. Я выбросил Лиззи из головы и принялся думать сначала о Рите, а потом, кое-что решив для себя, о Ведьме. Наконец я положил любовные пилюли в карман, наткнулся — так что проклятые календари жестко уткнулись мне в ребра и оттопырили углами кольчужную вязку джемпера, — переклеил марку, чтобы она оказалась в четырех дюймах справа от ручки на крышке сундучка, захлопнул его, аккуратно задвинул под кровать и начал спускаться, чувствуя себя ожившим Уголовным сейфом, а не человеком. В холле я надел свой уличный плащ, застегнулся на все пуговицы и только после этого вошел в гостиную.
— Его и похоронят в плаще, — автоматически сказала бабушка шкафу, не прекращая с остервенением тереть его клетчатой тряпицей: она считала, что за «стол и кров» ей надо ежедневно стирать отовсюду пыль и полировать мебель.
Для рабочего дня было уже очень поздно. Последние машинистки с цилиндрическими, как ведра, плетеными сумочками, в которых лежали бумажные носовые платки да флаконы-распылители с жидкостью, отбивающей запах пота, спешили к автобусной остановке. Дом затопила утренняя тишина и аромат мази «Антиквар» для полировки мебели. В солнечных лучах плавали серебряные пылинки. Приемник, подчеркивая поздний час голосом незнакомого мне диктора, бормотал о каких-то народах со странными обычаями; у меня было такое чувство, будто я давно проехал свою остановку на последнем поезде.
— Мам, пока, — крикнул я.
— А ты не торопись, тебе ведь вроде некуда спешить, правда? — откликнулась матушка, вплывая вслед за своим голосом в гостиную. Я нащупал на двери бакелитовую ручку и, задержавшись на минуту, сказал:
— Мне бы надо подать заявление об уходе уже сегодня — раз я собираюсь в Лондон. — Матушка поджала губы, так что ее лицо как бы перечеркнула тонкая темно-алая полоса, и, подняв скатерть за уголки, чтобы не рассыпать крошки, сняла ее со стола.
— Ты бы уж решил раз и навсегда, что тебе делать, — сурово откликнулась она.
— Я уже решил, что мне делать. Я буду работать у Бобби Бума.
— Как это ты решил, если раньше никогда такой работы не делал? Нельзя швыряться работами да скакать с места на место, как твоя левая нога пожелает. Тебе ведь, сынок, уже пора зарабатывать себе на жизнь, сам небось понимаешь.
Она пыталась говорить по-доброму, искренне пыталась понять и убедить меня, хотя ничего у нее из этого не получилось — потому что разве услышишь друг друга, перешептываясь через реку? И все же я ощутил мимолетную благодарность. И постарался высказать ее — косвенно и коряво:
— Да ведь дороги-то у людей бывают разные, мы еще потолкуем об этом — ладно, мам? — Искоса глядя на матушку, я почувствовал, что она поняла и приняла мою благодарность.
Отец уже вывел на улицу свой грузовик, но я прошел мимо, как будто никакого отца там вовсе и не было. Если мне удастся не смигнуть до конца Вишневой аллеи, подумал я, то все будет хорошо. Отчаянно тараща слезящиеся глаза, я прошел мимо кондитерской лавки Гринмана, миновал глинистый котлован, где закладывали фундаменты стандартных двухквартирных домов, и увидел впереди главную шпионку в нашей округе миссис Олмонройд. Зажмурившись, я вежливо поздоровался с ней, даже слегка поклонился — и твердые края календарей опять уткнулись мне в ребра. Интересно, зачем это мне понадобилось уносить их из дому, подумал я, и что мне теперь с ними делать? И что мне вообще теперь делать?
Глава вторая
«Непритязательное название Страхтон вызывает в памяти прочно стоящие на земле домики из добротного местного камня, мостовые, поблескивающие аккуратной брусчаткой, и живительный воздух вересковых долин, который придает особую прелесть нашему уютному уголку Йоркшира», — всю эту бредятину выдал однажды обозреватель «Страхтонского эха» (видно, в тот день у него совсем уж не было материала), подписывающий свои статьи дурацкой кличкой Парень с холмов; и это он, а не я выделил особую прелесть.
В Страхтоне амброзийском я частенько посещал тот паб, где собирались газетчики из «Эха», и мордовал Парня с холмов, опираясь на его же обзоры. Поблескивающие — или какие там они у вас? — мостовые Страхтона давно вспороты трамвайными рельсами, между которыми неопрятно горбится серый булыжник, а брусчатка почти везде залита гудроном, и вот он-то действительно поблескивает многочисленными лужами, тут вы, пожалуй, правы, говорил я Парню с холмов, тыча его в грудь коротенькой трубочкой, которую машинально сунул в карман, когда выходил из дому. Насчет живительного воздуха я, признаться, не специалист, но при восточном ветре он смердит жженой краской. А если не слишком доверять старикам вроде советника Граббери, которые утверждают, что на месте магазина «Мелодия» еще не так давно стояли кормушки для овец, то можно с уверенностью сказать, что Страхтон точь-в-точь похож на другие заштатные городишки: стандартный главный проспект — наш Торфяной, — стандартные лавки Вулворта, стандартный кинотеатр со стандартным названием «Одеон» и стандартная редакция городской газеты разместившаяся в доме, похожем на общественный тир, облицованный добротной белой плиткой местного образца, — уж свою-то редакцию Парень с холмов, надо полагать, знает?.. Вообще, у меня была заготовлена страстная до неистовства речь на тему о «добротных» городах Йоркшира с их добротно-подслеповатой рекламой, добротно-мутными стеклами витрин и добротно-обшарпанными фасадами зданий — да вот только не представлялось мне случая выступить с моей речью.
— Черно-сатанинские скопища наших фабрик, — попыхивая трубкой, сказал бы я, — с этим, по традиции, еще можно смириться, это часть нашего исторического ландшафта. Но — пых, пых — когда на нашей земле вырастают, словно черные мухоморы, сатанинские электростанции, застилающие все вокруг черным дымом, потому что они работают на плохом каменном угле, сатанинские жилые кварталы из черного от пыли камня, сатанинские кафе…
— Вот она, беда молодого поколения, — перебив меня, сказал бы Парень с холмов. — Вам нужен прогресс — и нужна традиционная йоркширская старина. А прогресс без ломки старого невозможен.
— Да, мне нужен прогресс, — гневно подтвердил бы я, — но не сатанинский, а йоркширский, без ломки наших традиций.
— Превосходно сказано, — вцепился бы в мою фразу Парень с холмов. — Вы разрешите мне вставить это в обзор?..
Между тем субботнее утро — не знаю уж, сатанинское или ангельское — вступило в свои права. Толстые тетки, по-клоунски переваливаясь на своих дряблых, как рисовый пудинг, ногах, расползались по магазинам, а серолицые поклонники тотализатора торопливо просматривали блекло-розовые спортивные газеты. Вдоль Торговой улицы тянулись по-новомодному остекленные витрины магазинов, но попадались кое-где и пережившие свое время ларьки — фруктовые и овощные; там, где они стояли, сточные канавки у тротуара были забиты гнилыми яблоками и клочьями лиловой упаковочной бумаги. Продавцы вразнобой кричали: «Я не прошу пятнадцать шиллингов, я не прошу двенадцать шиллингов, я не прошу три полукроны, я не прошу ничего такого — дайте мне ровно две полукроны, две полукроны, две полукроны!» Хмурые женщины шли мимо ларька к подъезду Налогового управления, держа в руках черные потрескавшиеся сумочки с листками не слишком вразумительных жалоб и прошений.
От Торговой улицы ответвлялся узкий проезд Святого Ботольфа — главный приют страхтонских букмекеров. Кроме их контор — иногда просто темных комнатушек за призывно распахнутыми на улицу дверями — да вонючего общественного сортира, здесь была аптека с выставленными в витрине розовыми резиновыми перчатками и книгами о гигиене половой жизни, небольшой паб, химчистка и наша похоронная контора — «Такт, вкус, доступность».
Перед входом в контору я по привычке глубоко вздохнул и опять отметил про себя, что ее внешний вид отражает противоборство совладельцев — молодого Крабрака и престарелого Граббери. Воспользовавшись единственной поездкой Граббери за границу — это был ответный визит нашего муниципального совета в Лион (французский Страхтон, по выражению Парня с холмов), — Крабрак заменил стекло с травленым рисунком в конторской витрине на зеркальное, а для названия конторы заказал огромные буквы из нержавеющей стали и успел водрузить их над входом до приезда компаньона. Так еще один островок патриархального Страхтона захлестнула провинциальная модерняга. Зато вернувшийся Граббери спас от истребления внутреннее убранство витрины, и теперь под придуманной Штампом вывеской — ФИРМА «ИЗЯЩНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ». УСЛУГИ ДНЕМ И НОЧЬЮ (НОЧЬ надо бы выделить особо, заметил мой приятель и коллега Артур) — красовалась витрина во вкусе прошлого века: на пурпурном бархате стояла белая ваза, напоминающая по форме чугунную гирю и заказанная в память о некоем Иосии Блудене. Эта ваза пребывала не на кладбище, а у нас, потому что фамилия Иосии была Блоуден и родственники резонно отказались взять вазу с перевранной фамилией покойника. Ваза Блудена не давала мне забыть об одной жуткой, но пока еще не выплывшей ошибке с табличками, которые крепятся на гроб; с этим мерзким воспоминанием я и переступил, опоздав на полтора часа, порог нашей похоронной конторы.
Услышав звонок, дребезжавший всякий раз, когда открывалась входная дверь, чтобы оповестить нас об очередном клиенте, Штамп вскочил и начал натягивать плащ, как будто он был собакой Павлова.
— Похоже, пора домой: Сайрус пришел, — объявил он.
— Попугай тут? — не удостоив Штампа вниманием, спросил я Артура и кивком головы указал на кабинет Крабрака.
— Только что явился, — ответил Артур. — Можешь сказать, что ты был в уборной.
Я с облегчением вздохнул и плюхнулся на стул у своего письменного стола, который стоял между Штамповским и Артуровым. Каждый день, сидя в автобусе и мысленно изо всех сил подгоняя его, я мучительно гадал, удастся ли мне добраться до конторы раньше Крабрака. Про Граберри я не думал, потому что он, во-первых, никогда не приходил раньше одиннадцати, а во-вторых, не мог, по старости, запомнить, кто у него работает. Нет, меня беспокоил именно Крабрак с его гнусными записными книжонками и пакостным карандашиком, которым он вечно постукивал себя по зубам. «Замечено, что вы сегодня опять опоздали на тридцать минут». Он всегда говорил «замечено». «Замечено, что вы не разослали эти счета…»
— Пойду скажу ему, когда ты ввалился, — проскрипел Штамп, и мне пришлось пробормотать: «Я тебе пойду», — чтобы он отстал от меня со своими «шутками». Штамп именовал себя клерком и был по горло начинен всякими похабными прибаутками. А сейчас ему не терпелось поделиться с нами вчерашними впечатлениями.
— Видели вчера по телику? Ну, фирменный бабец! Как наклонится над роялем… ух-х-х!
Мы с Артуром считали своим долгом в корне пресекать такие разговоры.
— А какой он фирмы? — простодушно спросил Артур.
— Как это — какой фирмы?
— Ну, рояль-то — он какой фирмы?
Штамп на мгновение умолк, а потом понимающе осклабился:
— Ладно, ладно — уел. — Он снова замолчал, придумывая достойный ответ.
Мы проверили, есть ли у нас на сегодня работа. Вообще-то работа у Крабрака и Граббери была, что называется, не бей лежачего — как и в любой другой фирме Страхтона. Стены конторы, обшитые буровато-коричневыми деревянными панелями, навевали спокойный конторский сон — благо Крабрак, мечтавший о сосновых письменных столах и финских обоях, не успел еще воплотить свои мечты в жизнь. Нам надо было писать ответы на деловые письма, оформлять похоронные счета, выполнять всякие мелкие поручения патронов и встречать с подобающе мрачной торжественностью состоятельных клиентов, чтобы препроводить их потом в кабинет Крабрака. Сентябрь — спокойный месяц года, а суббота — спокойный день рабочей недели, так что работы у нас не было, и мы занялись своими делами. Штамп, склонив голову набок и высунув кончик языка, принялся, по обыкновению, писать плакат для городского юношеского клуба: «Ты заплатил взносы вперед? А если нет — почему нет?» Мы с Артуром чаще всего сочиняли на пару песни, а иногда я обдумывал свой роман, который должен был у меня называться «Две школы в Хватминстере».
— А у ней фирменные буфера. Она нагнулась — вот они фирму рояля и заслонили, — разродился ответом Штамп. Не глядя на него, я знал, что он показывает руками, какие у нее были «буфера».
— Шутка принята, с меня пенни, — отозвался Артур.
— Не пенни, а шиллинг, — сказал я. — Шутки дорожают, пока их рожают.
— Запиши, пригодится, — посоветовал мне Артур.
— Шутка принята, — проговорил Штамп.
Сегодня я решил заняться романом и, вынув из ящика стола наполовину исписанный лист бумаги, рассеянно уставился на первый десяток не состоявшихся пока тридцати четырех тысяч слов. «Эй, жердь! Это ты, что ли, новенький?» — Сэм Смугли обернулся и увидел, что к нему направляется высокий веснушчатый парень. Фамилия Сэма удачно гармонировала с его смуглым лицом. У. Сайрус. Уильям Сайрус. Роман Уильяма Сайруса «Две школы в Хватминстере». Уильям. Уильям Л. Сайрус. «Две школы Сэма» У. Л. П. Сайруса. «Две школы в Хватминстере» — роман У. Л. П. Сайруса. Лажвуд Сайрус. У. де ля Сайрус. «Уильям Сайрус. Жизнь и деяния», придумал я, но записывать не стал и засунул листок подальше в ящик. Для этого мне пришлось нагнуться, и календари опять уперлись мне в ребра. Я стал думать о Бобби Буме и о письме, которое надо бы ему написать, а потом вспомнил про Крабрака и начал думать о письме, которое надо бы написать ему.
— У меня есть неприятное известие для мистера Крабрака, — сказал я Артуру.
— У вас есть неприятное известие для мистера Крабрака, мистер Сайрус? — привычно имитируя беседу телекомиков Джоунса и Боунса, переспросил меня Артур. — И какое же, позвольте узнать? — Я решил не говорить ему про Лондон сразу, а сперва немного потрепаться в стиле Джоунса и Боунса.
— Что бы я ни сказал, будет ему до смерти неприятно, — ответил я.
— Не пытайтесь угробить гробовщика, мистер Сайрус, — сразу же нашелся Артур.
— Так может, мне угробить вас, мистер Крэбтри? — Вскочив, я схватил со стола линейку и направил ее как пистолет на Артура. — Ни с места! Я взял вас на пушку, мистер Крэбтри. Выворачивайте карманы, живо!
— Можете забрать мои деньги, но я заявлю на вас в полицию, имейте это в виду, мистер Сайрус, — проверещал Артур.
— И в своем заявлении не забудьте указать, что я взял вас на пушку, мистер Крэбтри: она у меня игрушечная, — закончил я сценку.
— Но наши зрители хотели услышать вовсе не это, мистер Сайрус, — снова начал Артур.
— А что они, по-вашему, хотели услышать, мистер Крэбтри? — подхватил я.
— Они хотели услышать, о чем шепчутся стены комнат в России, мистер Сайрус.
— Так о чем же они шепчутся, мистер Крэбтри?
— Да о том же, о чем и в Англии, мистер Сайрус: «Встретимся на углу».
— А эта фиговина с длинню-ю-юющей бородой, — сейчас же объявил Штамп. Мы ему двадцать раз объясняли, что в том-то весь и фокус, но это было выше его понимания. Он, как обычно, встрял со своей собственной шуткой:
— Когда парикмахер бреет парикмахера, кто сплетничает?
— Кто? — лениво, но в один голос проговорили мы с Артуром.
— Шутка принята, — кисло сказал Штамп и принялся дописывать громадное объявление, приглашающее на пикник с горошком и пирожками. Артур сел за машинку, чтобы перепечатать нашу очередную песню, а я занялся письмом.
Многоуважаемый мистер Бум!
Благодарю Вас за Ваше письмо от второго сентября…
Дорогой Бобби!
Конечно же, я с радостью приеду в Лондон…
Уважаемый господин Бум!
Я буду в Лондоне не позже субботы…
Когда я написал, что окажусь в Лондоне не позже субботы, у меня вдруг от страха затряслись поджилки, потому что эта идея обрела зловещую реальность. Я нередко приезжал в Лондон из Амброзии и, покашливая, чтобы не столкнуться с каким-нибудь прохожим, добирался сквозь туман до Челсийского Клуба чудаков с его полированными шахматными столиками и дружелюбными юными интеллектуалками. Белозубо улыбчивый нигериец Голопупу помогал мне выпустить замечательную клубную стенгазету, очень похожую на амброзийскую «Вестницу адвоката». Я жил в мансарде на набережной, и порой моей подругой была жизнерадостная уроженка Лондона Энн, а чаще — переродившаяся в Амброзии Лиз, которая помогала мне создавать пьесу для панорамного театра. Иногда мне представлялось, что я бродяга-поэт, умирающий на той же набережной от голода… но сейчас, сидя за своим конторским столом, я реально представил себе, что умираю в Лондоне с голоду. На лондонские очертания наложились зыбкие контуры Злокозненного мира, и вот, чувствуя, как меня гложет застарелый голод, я принялся считать свои жалкие гроши. Из оставшихся у меня пяти шиллингов вычесть шиллинг и три пенса за яйцо с пакетиком жареной картошки, да шиллинг за койку в ночлежном доме — остается два шиллинга девять пенсов. Вечерняя газета — два с половиной пенса, завтрак — шесть пенсов, — остается, грубо говоря, два шиллинга. Не пятнадцать шиллингов, не двенадцать шиллингов, а только два шиллинга… За любой товар, — говорю я собравшимся вокруг моего лотка прекрасным дамам, преобразившись в известного амброзийского поэта, торгующего на благотворительном базаре…
Звякнул дверной звонок, и мы поспешно изобразили похоронные лица, но это был всего-навсего советник Граббери. Он по-стариковски зашаркал к своему кабинету, крепко сжимая набалдашник трости и не отрывая взгляда от выцветшего, потрескавшегося линолеума на полу. Толстый, добротный пиджак туго облегал его ссутуленную спину, а часовая цепочка с несколькими эмалевыми брелоками подрагивала в такт неспешным шагам. У двери своего кабинета он полуповернулся к нам — не оглянулся, а именно полуповернулся всем корпусом, словно заржавевший робот, — и пробурчал:
— Здорово, молодые люди.
Под наши полупочтительные, полуиронические возгласы «Здравствуйте, господин советник Граббери!» он скрылся за дверью своего кабинета, а мы наперебой начали его передразнивать: «Я советник Граббери, парень, советник Граббери. Ты же не станешь звать лорда Херрика просто мистером, так? Ну вот, а я советник, запомни хорошенько, парень, — советник!»
— Их обкрадено, — подражая йоркширскому выговору Граббери, сказал Артур. — Их обкрадено на титул советника. — Граббери явно гордился своим йоркширским выговором и простонародным строем речи, которая казалась намеренно исковерканной даже в нашем захолустье, и мы постоянно издевались над ним — за глаза, разумеется.
— Чегой-то я что ни день, то дурней и дурней, — продолжил я Артуров зачин.
— Тоись так дурней, что прямо срамота. — А куды денисси? Старысь, она не радысь.
Потом настала очередь грабберовских воспоминаний, которыми он одаривал «Страхтонское эхо» в дни своего рождения. Артур искривил лицо подобием старческих морщин и сказал:
— А где ихняя «Мелодия», там, известное дело, были поля.
— И у меня не то что штиблетов — деревянный-то башмак и то был один.
— И стало быть, за шестипенсовик я покупал мясной пирог, да мне еще и сдачу, бывало, давали.
— Ага, и за сдачу я покупал билет в «Имперском», да мне еще оставалось на извозчика.
— А на извозчике я, известное дело, ездил, потому как у меня был только один башмак, — закончил наш двойной монолог Артур.
— Здóрово, — своим нормальным голосом сказал я. — Это мне пригодится для выступления в пабе.
— Вот паразит! — воскликнул Артур.
— Паразит, паразит, он весь паб поразит, — машинально пробормотал Штамп.
Каждую субботу я выступал в ближайшем к нашему дому пабе с комическим номером. Но мои номера — медлительно разворачивающиеся шуточные монологи на йоркширскую тему, сочиненные в нашей с Артуром болтовне вроде сегодняшней, — не могли, к сожалению, заинтересовать Бобби Бума: они были крепко-накрепко привязаны к страхтонской жизни. Артура эти монологи тоже не интересовали, потому что по средам и пятницам он пел в клубе «Рокси» под аккомпанемент местного джаза; но ему еще ни разу не удалось уговорить парней-джазистов подобрать музыку к какой-нибудь нашей песне. Когда заканчивался мой номер, я спешил в «Рокси», чтобы послушать Артура, представляя себе в дороге, что хожу по амброзийским театрам в поисках молодых талантов для своего прославленного театрального ревю.
Ну а Штамп, тот нигде, конечно, не выступал, хотя и ошивался чуть ли не каждый день в «Рокси», вполголоса подпевая джазу, когда исполнялись всем известные мелодии вроде «Веселого дровосека».
— Видел сегодня утром твою кралю, — сказал мне Штамп, когда мы окончили Граббери-представление.
— Какую кралю?
— Ну, эту. Которая всегда тебе звонила.
Я живо перебрал в памяти все мои горе-романы — с Одри, Пегги, Лилли, с той блондиночкой из Мокама, — и когда дошел до своих школьных влюбленностей, мне почему-то стало тоскливо и тошно. Но тут я вдруг понял, кого видел Штамп.
— Да скажи ты толком, какую кралю? — нетерпеливо спросил я, с радостью предугадывая его ответ.
— Ну эту, патлатую. Которая в замшевой куртке.
— Это что — Лиз, что ли? — спросил я как можно равнодушней.
— Ну да, Никотиночку. Все в той же своей замшевой куртке.
Значит, Лиз опять прискакала в Страхтон. Мне понравилось, что она у меня именно «прискакала» — будто приехала верхом на лошади, — и я сколько-то времени рисовал себе в уме эту картинку, чтобы не думать о реальной Лиз… И вот я уже увожу ее из Страхтона в Амброзию. Вот мы уже на окраине. Убирайся из города, Логан, последний раз тебя предупреждаю, сказал мне Тони-ковбой, держа руку на кобуре своего кольта…
Она уехала примерно месяц назад, бросив мне на прощание беспечное «До встречи», — и в этот раз я уже не получал от нее открыток. Такая уж у Лиз была натура, что ей надо было иногда куда-нибудь исчезнуть, — и я даже гордился ее богемностью, веря, что она уезжает по зову души, чтобы на досуге разобраться в своих чувствах, найти себя, подумать о своем призвании… хотя в менее романтичные минуты я, бывало; размышлял, не крутит ли она любовь с каким-нибудь американским летчиком. Нельзя, конечно, сказать, что я ее любил, но, когда она уезжала, меня грызла тоска, и я, как алхимик, пытался превратить эту бесплодную тоску в искреннюю любовь.
— Где ты ее видел? — спросил я Штампа.
— Да я уж и забыл. На Больничной, что ли, улице. А ты, значит, боишься, что она завела себе нового дружка? — спросил он с гнусной подначкой.
— Я думал, она уехала в Канаду, — спокойно ответил я Штампу, назвав первую попавшуюся страну.
— Ну а тогда вернулась-то она зачем? — спросил Штамп.
Я лихорадочно подыскивал какой-нибудь безопасно нейтральный ответ, но меня выручил сидевший у коммутатора Артур.
— С обратным порядком слов вопросы не следует задавать, — наставительно сказал он Штампу.
Я часто думал, что у меня, в общем-то, нет настоящих друзей, а есть только союзники по круговой обороне от всего мира. И Артур был одним из них. Мы даже выработали свой особый, непонятный другим язык.
— Да и в повествовательных предложениях менять не следует порядок слов, — облегченно, с благодарностью в голосе сказал я Артуру.
— Слышали анекдот, как человек пристрелил попугая за то, что он твердил «кто таков?» — спросил Артур.
— А кстати, может, справочник-то надо называть не «Кто есть кто», а «Кто — каков»? — сказал я, сразу же вспомнив, что я уже это говорил пару дней назад. И мне пришло в голову, что даже наши обыденные разговоры, которыми мы оживляли обыденную рутину, тоже превратились в обыденную рутину. Я понял, что запутался, и прямо спросил Штампа:
— Ты с ней разговаривал?
— С кем?
— С Никотиночкой, — сказал я, и мне стало до омерзения стыдно, потому что я назвал Лиззи кличкой, которую дал ей Штамп.
— Да нет, просто сказал «Привет», и все, — ответил Штамп. — Она была с каким-то парнем, — равнодушно добавил он, будто это не имело никакого значения. Но для меня-то только это и имело значение — только это из всех утренних событий, — потому что мне надо было снова ощутить знакомую тоску.
— С каким парнем?
— Да я-то откуда знаю? Я же не брал у него автограф. А ты что — ревнуешь, а? А? — Он произнес слово «ревнуешь», как будто только что выудил его из навозной жижи.
Снова звякнул дверной звонок.
— Клиент, — негромко сказал Артур и встал. Какая-то низкорослая женщина, явно надевшая на себя всю свою самую лучшую одежду, заглянула в комнату из-за полуотворенной двери.
— Скажите, это здесь организуют похороны? — спросила она.
Артур подошел к барьеру, разделяющему приемную конторы на две половины, и сказал, что здесь.
— А то я сперва попала совсем не туда: зашла в соседнюю дверь, — пожаловалась женщина. Она тяжело оперлась на барьер и назвала свою фамилию.
Я встал со стула, чувствуя себя жестким, как доска, и, когда календари отслоились от рубашки, к моему животу прихлынул прохладный комнатный воздух. «Сейчас приду», — шепнул я Штампу и спустился в подвал. Послонявшись среди картонных коробок с ручками для гробов и саванами да тюков атласа, я не нашел ничего, что могло бы мне пригодиться, и свернул в сортир.
Внутри к двери сортира было прикреплено небольшое зеркальце, чтобы Крабрак мог рассматривать свои прыщи. По привычке я высунул язык и, широко открыв рот, глянул в зеркальце. Над языком в глубине горла у меня появились какие-то белесые припухлости, которых раньше явно не было. Я высунул язык еще дальше, потом попытался вытянуть его пальцами, а потом, разевая рот во всю ширь, стал внимательно изучать эти зловещие припухлости, чтобы решить, не начинается ли у меня, как у Штампа в прошлом году, воспаление десен. Штампу-то было поделом, а мне, интересно, за что? Думы про Лиз отодвинулись на задний план; я пригнулся поближе к зеркальцу, и тут календари, упершись мне в грудь, снова завладели моим вниманием. Еще раз проверив задвижку на двери, я вытащил календари из-под джемпера — края у них загнулись, а бурые конверты казались грязными и мятыми. Верхний был адресован матери-настоятельнице женского монастыря. Я вынул календарь из конверта, сложил конверт вчетверо, так что он стал в десять раз толще, чем был, и засунул его в боковой карман пиджака, где лежали любовные пилюли. Вынутый из конверта календарь я держал в руке, а остальные три гадостно шуршали у меня под мышкой, хотя я вроде бы стоял не шевелясь.
В календаре, между двумя обложками из тонкого картона, было двенадцать листов — по одному на каждый месяц. Отрывая листки месяцев, я машинально читал напечатанные на них изречения. Некоторые я помнил наизусть. ТОЛЬКО РОЗДАННОЕ НА ЗЕМЛЕ БОГАТСТВО ОБОГАТИТ ТЕБЯ В НЕБЕСАХ — январь. ВСЕ СВОИ СЛОВА ОБДУМЫВАЙ, ДА НЕ ВСЕ СВОИ МЫСЛИ ВЫСКАЗЫВАЙ — февраль. ШЕСТЬДЕСЯТ МУСКУЛОВ РАБОТАЮТ, ЧТОБ НАХМУРИТЬСЯ, И ТОЛЬКО ТРИНАДЦАТЬ, ЧТОБ УЛЫБНУТЬСЯ. ТАК ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ ЛИШНИЕ СИЛЫ? — апрель. Оторванные месяцы я комкал и бросал в унитаз. Дойдя до октября — ХОРОШЕЕ СЕРДЦЕ НЕ ЖЕЛАЕТ НИКОМУ ЗЛА, А ПРЕКРАСНОЕ СЕРДЦЕ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ДОБРА, — я решил, что на первый раз достаточно, и потянул за веревку, которая была у нас привязана к сливному бачку вместо цепочки. Пока хлынувшая в унитаз вода с гулким шумом смывала измятые листки, я судорожно пытался их пересчитать — десять штук, от января до октября включительно, а то вдруг один упал на пол и Крабрак, заметив его, начнет расследование? Вода схлынула, и я с ужасом обнаружил, что по крайней мере половину листков не унесло. Прикусив нижнюю губу, я принялся регистрировать в себе признаки паники — бешено колотящееся сердце, потные ладони, трясущиеся коленки, — так опытный механик регистрирует перед началом ремонта неисправности автомобиля. Потом опять потянул за веревку, но услышал только дребезжащий стук поплавка в пустом бачке и увидел едва заметную струйку воды. Я сел на край вымытого до блеска деревянного круга на унитазе, скрючился и стал ждать, бездумно рассматривая остатки календаря матери-настоятельницы: ТОТ, КТО ДАРИТ ЛЮДЯМ СВЕТ РАДОСТИ, НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВВЕРЖЕН ВО МРАК — ноябрь.
Надо мной бродил по своему кабинету советник Граббери, и я слышал, как он выдвигает ящики — наверняка без всякой цели. Я закрыл глаза и улепетнул в Амброзию, где семеро рыцарей-добровольцев все еще шли мимо Памятника Павшим, вскинув левую руку в победном приветствии. Воинское приветствие левой рукой укоренилось в амброзийской армии после битвы у Бессонной пустоши, когда по удивительному совпадению все оставшиеся в живых рыцари-добровольцы потеряли на поле боя правую руку, так что им пришлось приветствовать своего президента левой…
Заскрипели ступени лестницы, а потом послышались приближающиеся к уборной шаги. Кто-то дернул ручку запертой двери. Я ожидал, что услышу после этого, как шаги удаляются, да не тут-то было: пришедший стоял у двери и тяжело дышал. Тогда я начал тихонько насвистывать — дескать, уборная занята — и лихорадочно вспоминать, не разговаривал ли я только что вслух. Ручку двери дернули опять.
— Занято, — хрипло выговорил я.
— Да ты что — завещание там пишешь, что ли? — спросил из-за двери Штамп.
Точно так же изводила меня дома бабушка. «Отвали», — крикнул я Штампу — точно так же, как мне всегда хотелось крикнуть бабушке. Штамп стал пинать дверь ногами. Я подумал, что, если б в двери была замочная скважина, он бы наверняка уже прилип к ней своим поганым глазом.
— Похабности на стенках запрещается писать, — пропел Штамп. Я не отозвался. — Будущее Англии в ваших руках, джентльмены! — отрывисто, перемежая слова топотом, выкрикнул Штамп, и я понял, что он подпрыгивает, стараясь заглянуть в уборную через верхнюю кромку двери. «Сказано тебе — отзынь!» — проорал я Штампу и встал. Намокшие комки бумаги все еще плавали в унитазе, но мне почему-то казалось, что при Штампе нельзя лишний раз спускать воду. Я нагнулся, собрал лежащие на полу календари и осторожно, так, чтобы не было слышно шелеста бумаги, снова засунул их под джемпер, а Штамп тем временем утробно, будто тужась при запоре, надсаживался:
— Ты зачем читаешь в сортире порнографию? — Я не ответил. — Чтоб мне гадом быть, ты читаешь там порнографию! Его рука опустилась на ее шелковистое в капроновом чулке колено, — прохрюкал, распаляясь, Штамп, и на меня из-за темно-зеленой сортирной двери посыпались паскудные непристойности.
Но тут лестница опять заскрипела — под легкими, видимо, замшевыми башмаками, и мне сразу же представились ярко-желтые, торчащие из-под коричневых габардиновых брюк носки. Потом послышался гнусный, гнусавый голос Крабрака: «Вам что — нечего делать в конторе, Штамп?» — и почтительно приглушенный фальцет Штампа: «Да я просто жду, когда освободится туалет, мистер Крабрак».
— Думается, что вы многовато времени проводите в туалете, — изрек Крабрак. — Думается, что многовато, — повторил он. Ему нравились его изречения, и он всегда бубнил их по несколько раз, вроде заезженной пластинки.
Крабрак не был похож на классического гробовщика, как их рисуют, скажем, в комиксах. И все же, глядя на него, я всегда вспоминал комиксы — особенно про психоаналитиков. Он был молодой — лет двадцати пяти, двадцати шести, — но молодой, да, как говорится, из ранних, а по ухваткам походил на торговца подержанными автомобилями. И он действительно торговал автомобилями — до того, как начал торговать гробами. Половинный пай в похоронной конторе достался ему по наследству, и похороны отца были его первым шагом на новом поприще. После этого он редко участвовал в похоронах, да и выглядел бы он на похоронах диковато, этот пижон, в своем клубном с блестящими пуговицами пиджаке и канареечном джемпере. Но он был полезен конторе, потому что, во-первых, здорово умел ублажать пожилых дамочек и, во-вторых, считался прихожанином всех страхтонских церквей, в том числе евангелической, баптистской, унитарной, методистской и англо-католической.
— Вы бы поднялись в контору, — услышал я его голос, — а то мне надо уйти. — Штамп зашаркал к лестнице, и скрип ступеней заглушил его подхалимское бормотание.
— Это вы, мистер Крабрак? — спросил я.
Он или не услышал, или сделал вид, что не услышал, и стал беспокойно бродить по подвалу.
— Это мистер Крабрак? — переспросил я.
— Он самый, — ответил Крабрак брюзгливо. — Дожидается своей очереди.
— Минуточку, мистер Крабрак, — громко, без интонаций сказал я, как бы крича человеку из окна мансарды. — Мне надо поговорить с вами до вашего ухода.
— Что-что?
Мой нарочито громкий голос звучал нелепо и оскорбительно, но изменить его я уже не мог.
— Да просто мне бы надо увидеться с вами до того, как вы уйдете.
— Вот-вот, — отозвался Крабрак, — мне тоже думается, что нам пора немного побеседовать. — Запертый в промозглой одиночке сортира, я лихорадочно обдумывал, зачем это ему надо со мной «побеседовать», и пытался сообразить, какой из моих проступков мог выплыть наружу.
— Но сейчас у меня нет на вас времени, Сайрус, мне надо организовать очередные похороны. Вам придется прийти в контору после ленча.
Каждую субботу, когда контора закрывалась, Крабрак колдовал в своем кабинете над чертежной доской, пытаясь изобрести современный гроб. Пока что он не решался рассказать о своих изысканиях советнику Граббери — тот признавал только традиционно дубовые, с медными ручками гробы, — но постоянно рисовал в блокнотах обтекаемые, как он выражался, покойницкие ларцы. Зато ему удалось радиофицировать наш похоронный подвижной состав — опять же его выражение. Во время похорон он сидел в своем кабинете, держа перед собой микрофон, и бубнил что-нибудь вроде: «Ласточка, я фиалка, продолжайте движение, — по никто, насколько мне было известно, ему не отвечал. Да и какие он мог дать указания, если б ему ответили? Приказал бы перенести похороны на другое кладбище, что ли?
А в письменном столе у него хранился экземпляр «Незабвенной» — для генерации идей, как он говорил.
На мое «Приду, мистер Крабрак» он ничего не ответил, и я не знал, унесла его нелегкая или он продолжает рыскать по подвалу. На всякий случай я опять спустил воду. Когда она схлынула, в унитазе осталось два раскисших комочка бумаги. Я развернул сложенный вчетверо конверт, выудил и, преодолевая тошноту, из унитаза, кое-как запихал в конверт и сунул его в карман. Потом отпер дверь. Крабрак, оказывается, никуда не ушел. Он окинул меня цепким, как у таможенника, взглядом и прошествовал в сортир.
Наверху Артур, уже в плаще, ждал меня, чтобы вместе идти пить кофе. Но едва я переступил порог, Штамп гнусно завыл; «Порнографию в сортире очень весело читать!» Выл он, слава богу, вполголоса, чтобы не услышал внизу Крабрак. Я снял с вешалки свой плащ. С воплем: «Да что ты хоть читал-то? «Любовника леди Чатерлей»?» — Штамп подскочил ко мне вплотную и, грубо обшарив меня, радостно заголосил: «Вот она! Вот она книжка-то! Под джемпером! Ух, развратник! Ух-х-х!»
Я схватил его за запястья и прошипел:
— А ну убери свои похабные грабки, дегенерат! — Но он, якобы завершая шутку, а на самом деле всерьез, хрипло проныл:
— Дай нам-то почитать, мы тоже хотим полакомиться!
— Ты идешь наконец? — нетерпеливо спросил Артур, открывая дверь. Я надел плащ.
— Особо-то не засиживайтесь, мне тоже надо перекусить, — сказал Штамп.
— Засохни, — отозвался я.
— Гробы не грызи, — сказал Артур.
— Засохни, — ответил Штамп.
Глава третья
В Страхтоне было сколько угодно объектов для осмеяния. Мы произносили погромные речи со ступеней Налогового управления и частенько спасались бегством после клоунского парада на Городской площади у Памятника Павшим. Иногда мы бродили по Торговой улице, выкрикивая что-нибудь вроде «Кому груш на фунт сушеных?», чем сбивали с толку покупателей и злили продавцов-лоточников, потому что наши прибаутки смахивали на их зазывные скороговорки.
Надгробная ваза Иосии Блудена в нашей витрине вызывала у нас пререкания между Блуденом-старшим — Артуром и его непокорным сыном, за которого подавал реплики я. Сегодня, как и обычно, диалог начал Артур:
— Нашей Блуденской фирмой завсегда правил Блуден. А ты, стал' быть, приехал из своего университута и отцовское дело для тебя не подходит?
— Но пойми же, отец, — подражая университетскому выговору, включился я. — У каждого человека свое призвание…
— А ты мне своей ученостью голову-то не дури, — перебил меня Артур, подозрительно похоже имитируя моего отца. — Ты глянь-ка на мать: мать-то из-за тебя вся извелась.
— Отец! Посмотри в окно. К нашему дому приближаются какие-то люди.
Мы уже свернули с проезда Святого Ботольфа в Торговую улицу и теперь почти бежали, размахивая руками, как осатаневшие линчеватели. Артур поднял воображаемый фонарь.
— А-а, это ты, Нэд Гэнгстер? И ты, стал' быть, против меня?
— В чем дело, Нэд? — спросил я с университетским выговором. И сразу же ответил за Нэда Гэнгстера:
— Какое такое дело, молодой хозяин? У нас тут никаких делов нету. Мы тебя просто научим, как свободу любить, ниверситутский щенок!
Артур, обидевшись, что я опять отбил у него Нэда Гэнгстера, замолчал. Мы миновали лавку мясника, прошли мимо химчистки с желтой доской объявлений и свернули на Торфяной проспект. Меня трясло от истерического нетерпения. Я всматривался в улицу, надеясь увидеть замшевую куртку Лиз, и готовился к разговору с Ритой, которая работала официанткой в кафе, где мы завтракали. Сунув руку в карман, я нащупал пилюли Штампа и вспомнил про Ведьму. Они все три роились у меня в голове — и Ведьма, и Лиз, и Рита, — когда я услышал, что Артур откашливается перед началом обычного разговора. И разговора наверняка неприятного, потому что все неприятные разговоры начинались у него с блуденского или грабберовского представления.
— Моя мать говорила, что рада будет познакомиться с твоими предками, — сказал он.
— Не дай бог! — воскликнул я.
В Злокозненном мире Артурова матушка часто знакомилась с моей — ничего ужасней я и представить себе не мог, потому что однажды наплел ей с три короба про свою сестру Шилу, которой у меня не было.
— И она собирается послать детям несколько моих старых игрушек, — добавил Артур.
— Любое даяние — благо, — сказал я беспечно.
Но вообще-то мне и самому было непонятно, зачем я начал всю эту трепотню. Начал и продолжал — потому что частенько, с нетерпением дожидаясь, когда Артур завяжет наконец галстук, я заполнял сонно тикающую тишину их гостиной рассказами о судьбе Шилы: она вышла замуж за продавца бакалейной лавки Эрика, а он, скопив денег, открыл три собственных магазина в Лидсе и Бредфорде. Поддерживая то и дело замирающий разговор с Артуровой матушкой, я одарил Шилу двумя детьми — трехлетней Нормой и полуторагодовалым Майклом, который родился, к несчастью, хромым, но врачебное искусство доктора Убу, индийца, прикомандированного к Лидсскому университету, спасло бедного малыша: теперь он прихрамывал едва заметно, хотя поначалу почти не мог ходить. Артур настоятельно советовал мне уморить Шилу, а детей отдать в детский дом, но душераздирающее горе всей семьи и похороны типа граббери-крабраковских казались мне такими ужасными, что я не решался обречь Шилу на смерть. А вот Артурова мамаша здорово меня раздражала — ну с какой, спрашивается, стати она принимала такое деятельное участие в жизни совершенно чужой для нее семьи?
— Так ты присматривай, чтобы она не вздумала наведаться к моим предкам. Я сказал, что у нее сломана нога и она лежит в больнице. — Это было правдой — не то, конечно, было правдой, что она сломала ногу (ног она никаких не ломала), а то, что я и правда сказал об этом своим предкам, чтоб они не приставали ко мне с разными идиотскими, на мой взгляд, предложениями.
— Ты просто псих на вранье, — заметил Артур.
— Да-да, я уже был у психоаналитика…
— Смотри не угробь психоаналитика своей психопатской трепотней, хоть ты и работаешь на гробовщиков, — перебил меня Артур.
Мы замолчали, и нам обоим стало как-то неловко. До кафе было еще сотни две шагов, и я удрал от неловкости в Амброзию. «Ох, Билли, твои дурацкие шутки совсем сбили меня с толку», — сразу же включилась моя амброзийская матушка. По ассоциации со словом «включилась» мне представился радиоприемник: из миниатюрного белого приемничка, стоявшего в нашей амброзийской гостиной на низкой полочке среди карликовых фикусов, лилась приятная современная музыка. Я приготовил себе предобеденный коктейль, а мама по обыкновению воскликнула: «Да выключи ты хоть на минуту этот растреклятый ящик!» И тут мне сразу вспомнилась моя реальная матушка, ее бесцветное из-за постоянной возни с моющими порошками лицо и ее неотправленное в «Радиочас домашней хозяйки» письмо. Уголовный сейф разинул зловещую пасть, а Злокозненный мир подступил ко мне призраком Артуровой матери… но мы, к счастью, уже стояли перед стеклянной дверью кафе «Кис-кис» — в эту секунду даже гнусное желе кис-кисного мороженого показалось мне привлекательным.
Кафе «Кис-кис» наглядно демонстрировало, что Страхтон хромает в ногу со временем, или, вернее, тащится у него в хвосте, натужно приволакивая свои деревянные ноги. Раскисшее мороженое было последним напоминанием о традиционном страхтонском кафе с его помойным обеденным варевом, кипящим титаном, в котором плескался жидкий чай, и россыпями бисквитных крошек на липких от раздавленных помидоров столах. Теперь «Кис-кис» переоборудовали в кофейный бар — во всяком случае, такое название красовалось на вывеске. А внутри установили недовольно фыркающий кофейный автомат, на столиках появились тарелки со слипшимся в зернистую массу коричневым сахаром для кофе и керамические вазы, похожие на пустые цветочные горшки; но стены, хотя и перекрашенные, все же неистребимо напоминали обычное кафе: их разрисовали, как задник в Королевском театре, приключениями Дика Уиттингтона и его знаменитого кота. Ну, а Рита, вытеснившая на время из моей головы Лиззи с Ведьмой, и вовсе уж не вписывалась в обстановку кофейного бара. Весь ее облик — застиранный белый халат, пегие волосы и густо накрашенные полные губы — был настолько страхтонским, что она могла преобразить самый шикарный ресторан в провинциальное кафе одним взмахом своего посудного полотенца.
— Черно-сатанинские скопища наших фабрик, — начал я, когда мы взгромоздились на высокие табуретки у стойки, — с этим еще можно смириться. Но черно-сатанинские электростанции, черно-сатанинские жилые кварталы, черно-сатанинские кофейные бары…
— Сменил бы ты пластинку, приятель, — с неожиданной злостью оборвал меня Артур, — это мы уже слышали.
Сидящие в кафе парни были похожи на Штампа и обменивались погаными штамповскими шуточками типа «Как живешь? — Регулярно», а Рита обслуживала шайку каких-то велосипедистов у другого конца стойки. Она махнула мне рукой, пошевелив пальцами как при игре на рояле, и я ответил ей тем же.
— Глядите в оба, ребята, а то эти гробовщики враз обмерят и в гроб уложат! — крикнул один из велосипедистов. Дальше обычно следовало: «Удохни! — А вы меня похороните? — Конечно, парень, за бесплатно», — и на этом обмен приветствиями кончался.
— Ну, а по правде-то — ты же не сказал им, что она сломала ногу? — спросил меня Артур.
— Ясное дело, сказал, — ответил я.
— Ну и враль! — искренне изумился Артур. — А если б я зашел и твоя мамаша спросила бы меня, как она себя чувствует?
— Так тебе ведь не впервой выкручиваться, верно? — сказал я с шутливой подначкой.
— Значит, по-твоему, я тоже из породы ложноротых? — нехотя съезжая в шутливый тон, спросил Артур.
Я взял меню, рекламирующее луковый суп, которого никогда здесь не было, и, похлопывая им по стойке, как бы между прочим сказал:
— Думаешь, он и правда видел сегодня Лиз?
— А я-то откуда знаю? — ответил мне вопросом Артур. И потом ни с того, ни с сего добавил: — У меня, знаешь ли, нету времени следить за твоими любовными делами.
— Да я ведь просто спросил, — сказал я.
Указав незаметным кивком головы на Риту, которая все еще вела словесный флирт с велосипедистами, Артур спросил:
— Послушай, так с кем ты, по-твоему, обручен — с ней или с Ведьмой?
— Этого наука пока не установила, — сказал я.
— Но ты же не можешь обручиться с ними обеими! — ошарашенно пробормотал Артур.
— На сколько спорим, что могу? — изобразив по-донжуански измученное лицо, парировал я.
— Ну, ты даешь! — воскликнул Артур.
Риту я закадрил, как только она перешла в «Кис-кис» из кафе на Отвратэнтаунском шоссе, возле которого жила. Привычка к однообразно шутливой трепотне с шоферами грузовиков сделала ее неважной собеседницей, но зато она была хорошей, или по крайней мере терпеливой, слушательницей. Накануне, подзуживаемый внезапно проснувшимся красноречием, я сделал ей предложение, и она его приняла — потому, насколько я мог судить, что считала отказ дурным тоном. Все, правда, немножко осложнялось тем, что я уже был обручен с Ведьмой, и, значит, Риту следовало считать невестой запаса первой категории.
— Так кому из них ты всучил свое занюханное кольцо? — шепотом спросил меня Артур.
— Вообще-то Ведьме, — ответил я, — но оно было ей великовато, и мне пришлось его забрать, чтобы отнести к ювелиру для подгонки на ее палец. — Тут я вспомнил, что голубая коробочка с обручальным кольцом лежит у меня в боковом кармане пиджака. А что будет, если я попаду под автобус, обожгла меня жуткая мысль, и кольцо вместе со всем содержимым моих карманов перешлют предкам?
— А кто следующий? — спросил Артур. — Никотиночка Лиз?
— Да нет, — сказал я. — Не все мои знакомые обречены на обручение.
— Запиши, когда-нибудь пригодится, — посоветовал Артур.
Тем временем Ритин словесный флирт с велосипедистами внезапно оборвался, потому что один из парней перешел границы дозволенного в такой трепотне. Хрипло рявкнув скандальным голосом фабричной девчонки: «А ну-ка пойди скажи своей матери, чтобы она тебя выдрала, сопляк», — Рита продефилировала к нам сквозь густой град осыпающих ее пошловатых шуточек. Да, парни вроде Штампа должны были клевать на нее со страшной силой — ведь в любом конкурсе красоты, где не имеет значения личность, ей было обеспечено призовое место. Она уже завоевала титул «Мисс Страхтон», а какие-то заезжие американские летчики трепались тут однажды, что с ней им, дескать, не страшен никакой звуковой барьер.
Артур соскользнул с высокой табуретки и прошелся по бару, почти не сгибая колен — как американский киноковбой.
— А ну-ка дайте нам, дорогая, две чашечки чая, черный бутерброд с красной рыбкой да белый пирог с черникой, — растягивая слова на американский манер, сказал он Рите — выхватил кусочек из не совсем еще отработанной у нас шутки «Янки в Йоркшире».
— Ишь ты, какой явился не запылился, — с деланным удивлением протянула Рита. — Ну прямо Марлон Брандо.
— Я взял тебя на пушку, сестричка, — уголком рта процедил Артур.
— Знаем, знаем, она у тебя игрушечная, — подхватила Рита. — А ты скажи нам что-нибудь новенькое.
Я встал, дурашливо поклонился Рите и сказал:
— Займись-ка ты, голубушка, своим прямым делом и налей нам по чашечке кофе. — Это была моя первая реплика.
— Можете сесть, сэр, — беззлобно отозвалась Рита и пошла к кофейному автомату. До сих пор никто из нас не подал виду, что мы обручены.
Один из парней, вроде Штампа, крикнул Рите, собираясь уходить:
— Заглянем сегодня вечером в «Одеон», Ритуля, посидим в последнем ряду, а?
Не потрудившись обернуться, Рита бросила:
— Сплюнь соску! Дети до шестнадцати не допускаются.
Все мои знакомые переговаривались штампами, но штампованные фразы Риты изготовлял, как мне казалось, какой-то совершенно безликий автомат по производству массовой продукции. Эти затертые, будто старые шестипенсовики, фразы от постоянного повторения почти полностью утратили смысл, и, желая выразить какую-нибудь немудрящую мыслишку — мудреные-то мысли ей просто в голову не приходили, — Рита полагалась не на значение слов, а на свою манеру говорить, на речевые, так сказать, ужимки. В минуты нежности ее голос затуманивался чуть заметной, словно прозрачный дымок сигаретки, хрипотцой, но слова человеческой доброты или нежности она давным-давно позабыла — если и вообще-то когда-нибудь знала.
Она резко, будто американский бармен, пододвинула нам чашечки с кофе и, слегка нагнувшись, оперлась локтями на стойку, так что ее грудь — рельефно отштампованный образец из модного журнала — обрисовалась гораздо отчетливей, чем обычно. Теперь, по ее мнению, следовало вслух намекнуть, что вчера вечером у нас состоялось важное свидание.
— Ты во сколько вернулся? — спросила она.
— Да что-то около часу, — ответил я. — Мой старик сегодня бушевал — страшно было слушать.
— Во-во, и моя мамаша тоже. Надо это дело кончать, с понедельника. А ты что — проморгал автобус или еще чего?
— Ага. Пришлось переть пехом, — сказал я, автоматически переходя на ее язык.
— Не ходит автобус — бери такси, — промурлыкал Артур на мотив одной из песенок «Западных Братьев».
— Ишь какой фон-барон выискался, — отшила его Рита. — А ты бы двинул прямо на Городскую площадь, там ночной автобус.
Рита привычно раскручивала киноленту дневной любви — так, по ее понятиям, полагалось продолжать вчерашнее любовное свидание.
— Да мне вообще-то нравится ходить, — сказал я.
— Парни маршируют по улицам ночным, — ироническим тоном, чтобы извиниться за цитату, отчеканила Рита, — Да тебе-то почему ж не ходить — у тебя-то с подметками небось всегда все в порядке.
На мгновение Ритнна последняя фраза сбила меня с толку, но, покопавшись в своей вчерашней трепотне, я вспомнил, что, делая предложение, пригласил ее к нам на воскресный чай, а в качестве бесплатного довеска сообщил ей, что мой старик — хозяин мастерской по починке обуви в Сабосвинцовом переулке.
— А? Ну да, — сказал я. — Так ты идешь сегодня в «Рокси»?
— Ага.
— Внутри или снаружи?
— Видали умника? — возмущенно воскликнула Рита. Но на самом-то деле она ждала от меня этой дежурной «шутки».
— Думал, ты сама за себя заплатишь, — сказал я. — Стало быть, в девять у входа. А на чай к нам придешь?
— Ага — если твои предки не передумали. Да ведь это дело не горит — вечером сговоримся.
Рита, разумеется, не знала, что все уже было решено. Отца на воскресенье вызовут в Харрогит — получать резиновые каблуки, а матушка, воспользовавшись удобным случаем, решит съездить к тете Полли в Отлей, и семейный чай будет отложен на неопределенное время. Но сегодня мне еще предстояло разобраться с «Рокси», куда я уже пригласил Ведьму. Артур, закрыв лицо ладонями, тихонько похрюкивал в пантомиме полного изнеможения. Я пнул его по ноге и, нащупав голубую коробочку в кармане пиджака, вынул Ведьмино обручальное кольцо.
— На-ка, примерь, — небрежно предложил я, пододвигая Рите коробочку с кольцом.
— Это ты мне? — туповато спросила Рита.
— А ты думала, твоей мамаше?
Рита открыла коробочку, вынула блестящее дешевое колечко и нерешительно, словно бы опасаясь подвоха, надела его на палец.
— В самый раз, — удивленно проговорила она. И с испугом добавила: — Так ты его что же — неужто купил?
— Украл, — перестав хрюкать, квакнул Артур и, глядя в потолок, принялся придушенно посвистывать.
— Ишь ты, а я думала, он язык проглотил, — ухмыльнулась Рита и, неумело попытавшись выразить голосом благодарность, сказала: — Большое тебе спасибо, Билли. Только я пока не буду его носить, они ведь все здесь охальники, ну их. — Я почти видел представившуюся ей картину — церковная свадьба, недорогой коттеджик с террасой, плетеная мебель, крахмальные покрывала в ящиках комода, старинное, с медными подлокотниками двойное кресло — и радовался, что доставил ей это маленькое удовольствие. Однако времени терять было нельзя: перенесши свадьбу в Амброзию, я приостановил и расстроил ее страстной речью о нашей несовместимости.
В середине моей амброзийской речи стеклянная входная дверь распахнулась, и в кафе ввалился ражий водитель здоровенного грузовика, безуспешно пытавшийся в свое время довести шашни с Ритой до победного конца.
— Надо же, кого принесло, — громко сказала Рита и, опустив коробочку в карман халата, привычно изобразила холодную приветливость равнодушной ко всему барменши.
Шагая рядом с Артуром в контору, я беззаботно улыбался.
— А ты-то чего лыбишься? — удивленно спросил Артур.
— Тот, кто дарит людям свет радости, никогда не будет ввержен во мрак, — ответил я.
— Чего-чего? — переспросил Артур.
— Надо знать свои фирменные календари, — наставительно сказал я. Календари, теплые и теперь уже мягкие, в эту минуту нисколько не мешали мне жить.
— Ох, парень, притянут тебя к ответу за твое треклятое многоженство, — предрек Артур.
С равнодушно-спокойным видом — дескать, много ты про меня знаешь — я небрежно сказал:
— Да мне все равно скоро уезжать.
— Ну, это-то мы слышали, — сказал Артур.
Я на ходу прикидывал, стоит ли посвящать его в мои планы, или лучше просто исчезнуть, а потом, через много лет, снова появиться на улицах Страхтона в обалденно дорогом пальто из верблюжьей шерсти. Так ничего и не решив, я сказал:
— Мне пора в Лондон.
— Оно конечно — там ведь всегда не хватало дворников, — ехидно согласился Артур.
— Там не хватало дворников, создавших славу комику, — высокопарно продекламировал я. Но мне что-то расхотелось посвящать Артура в свои планы. И тем не менее я нарочито медленно сказал: — Бобби Бум предложил мне работу.
— Ладно врать-то.
— Работу текстовика. Со следующего понедельника.
— Ничего себе, — пробормотал Артур. — А не трепешься?
— Да на кой мне трепаться? Только ты пока не говори никому, ладно?
— Ясное дело, не скажу. А когда ж ты это провернул? — В голосе Артура послышалась плохо скрытая зависть.
— Он прислал мне письмо.
Артур замер посреди улицы и посмотрел на меня, будто человек из прошлого века, как сказала бы моя матушка.
— Покажи, — с льстивой ноткой в голосе попросил он.
— Чего покажи? — спросил я, и меня опалило страхом, что матушка нашла письмо в кармане моего халатного плаща.
— Письмо, — ответил Артур, нетерпеливо прищелкнув пальцами.
— Оно у меня дома.
— Ясное дело, — насмешливо протянул Артур.
— А не веришь, так жди понедельника, — сказал я, пытаясь показать, что я шутливо изображаю оскорбленную невинность. Но на самом-то деле в моем голосе прозвучала всерьез оскорбленная невинность.
— И сколько же он будет тебе платить? — спросил Артур — так же недоверчиво, как матушка утром.
— Обожди до понедельника, тогда узнаешь.
— Ну, а все-таки — сколько?
— Не веришь — так жди понедельника.
Мы уже шли по проезду Святого Ботольфа. Обидевшись на Артура, я скрылся от него в Амброзию. Амброзийцы толпились возле только что расклеенных афиш.
На эстраде Бобби Бум. Автор текстов — Билли Сайрус. Постановка… Больше я ничего не успел прочитать, потому что увидел в дверях конторы непотребно подпрыгивающего Штампа. Он демонстративно смотрел на часы и всем своим видом выражал жуткое нетерпение.
— Где это вы пили кофе? В Бредфорде? — спросил сн.
— На Бессонной пустоши, — злобно ответил я. Штамп застегнул свои разлезающиеся по швам перчатки.
— Тебя разыскивает Ведьма, — объявил он. — Два раза уже звонила. Пойду доложу Рите, как ты ей изменяешь.
— Отзынь, — сказал я.
— Она сказала, пусть, мол, приходит в час дня на обычное место — если она не дозвонится.
— Авось дозвонится, — буркнул я.
— А у тебя с ней порядочек? — как бы скандируя скандальный заголовок в газете, спросил Штамп. Я снова буркнул ему «Отзынь!», вздернул угрожающе локоть и вошел в контору.
Глава четвертая
В дальнем конце проезда Святого Ботольфа, за зелеными, выкованными из железа дверями общественного сортира, щерились полуразвалившиеся ворота церковного кладбища. Темноватая, сырая церковь святого Ботольфа служила приютом для Женского сообщества, Церковного хора, какой-то шайки, называющей себя Ослепительным братством, и для полудюжины разных других общественных банд; но постоянным прихожанином этой церкви был, наверно, один только Крабрак, заглядывающий сюда в надежде найти клиента для нашей конторы, хотя вообще-то церковное кладбище было закрыто со времен Черной Смерти. К центральной аллейке кладбища притулилась крохотная часовня, и сегодняшнее изречение на ее дверях гласило: «Лучше поплакать над пролитым молоком, чем пытаться влить его обратно в сосуд» — не слишком гениальное, по-моему, изречение.
Я пришел на кладбище сразу после работы, в час дня. Ведьма очень любила назначать мне здесь свидания, потому что мы познакомились в Юношеском клубе святого Ботольфа, а она была большая охотница до всяких чувствительных воспоминаний. Ну и ей, конечно, нравились каменные ангелочки на древних надгробиях (она называла их прелестными) и стишки на могильных плитах поновее. В любви к стишкам они сходились с Крабраком, так что я не удивился бы, если б она стала первой в Англии женщиной-гробовщиком.
Я сел на растрескавшуюся каменную скамейку неподалеку от входа в церковь и попытался привести в порядок хотя бы некоторые свои мысли. Первым делом надо было избавиться от календарей: меня мутило и передергивало всякий раз, как они прикасались к моей рубашке. Я вытащил из пиджачного кармана мерзко осклизлый конверт с неутонувшими месяцами, присоединил к ним три календаря из-под джемпера и сунул весь этот ворох поганой бумаги под каменную скамейку, где его могли обнаружить разве что ко второму пришествию. С календарями, стало быть, мне удалось разделаться Оставались письма. Я вынул и развернул второй экземпляр письма Крабраку, которое напечатал под копирку на бланке нашей конторы после ленча в кофейном баре:
Уважаемый мистер Крабрак!
К сожалению, я должен известить Вас, что мне необходимо уволиться из фирмы «Крабрак и Граббери». Меня всегда привлекала работа в фирме, но я, как Вы, наверно, знаете, с самого начала считал эту работу временной. Сейчас мне довелось получить приглашение от мистера Бобби Бума, лондонского комика, и сотрудничество с ним в большей степени отвечает моим планам на будущее, чем работа у Вас.
Я понимаю, что должен был за неделю предуведомить Вас о своем уходе, однако надеюсь, что в нынешних обстоятельствах Вы не будете настаивать на соблюдении этой формальности. Осмелюсь добавить, что я искренне благодарен Вам за ту неоценимую помощь, которую Вы оказывали мне, когда я у Вас работал.
С глубоким уважением к Вам и господину советнику Граббери.
У. Сайрус
В общем, мне вполне понравилось мое письмо, особенно то место, где я ввернул про «неоценимую помощь», но меня по-прежнему тревожил предстоящий мне после свидания с Ведьмой разговор в конторе. Что имел в виду Крабрак, когда сказал, что нам пора побеседовать?.. Ладно, скоро все выяснится, решил я, поглядев на церковные часы. Ведьма опаздывала, и, размышляя о ней, я, как обычно, почувствовал обессиливающую, медленно вскипающую злость.
Главное, в ней не было никакого секса — ну никакого! Я давно уже убедился на собственном горьком опыте, что вовсе она не Ведьма, а просто большая, опрятная, бесчувственная телка. Меня теперь все в ней злило — и чистая честная физия, непорочная, как овсяная каша, и безупречный почерк, и растоптанные, удобные туфли, и набитая апельсинами сумочка. Она, по-моему, только и делала, что ела апельсины. Правда, во время обручения на Илклийской пустоши — мы ходили туда в поход, организованный Юношеским клубом, — она чистила мандарин и в ответ на мое предложение сунула мне в рот мандариновую дольку, а когда я, как дурак, прошамкал: «Этим мандарином мы навеки обручены», даже не улыбнулась.
Но что меня злило больше всего, так это ее невинное, со сморщенным носиком личико во время кисло-сладких поцелуйчиков, которые, как она думала, выражали безумную страсть. Я ее живо отучил называть меня «мой ягненочек», говоря ей каждый раз: «Христосик с тобой, моя курочка», на что она неизменно изрекала: «Не поминай всуе имя господа бога твоего!» Ее поучительные изречения тоже меня злили.
Сунув руку в карман плаща, я вынул мятый и грязный пакетик с несколькими шоколадными конфетами, которые купил месяца два назад, когда Штамп одарил меня любовными пилюлями. «Накормишь — и начинай обжиматься», — сказал он тогда. Я заглянул в пакетик. Купил-то я, помнится, четверть фунта, но все никак не решался накормить кого-нибудь любовными пилюлями, а конфеты время от времени выуживал из пакетика и ел. Теперь их осталось всего три штуки, и они плотно слиплись в светло-бурую массу.
Положив пакетик с конфетами на колени, я снова засунул руку в карман — и нащупал расплющенную коробочку с пилюлями. Почти все пилюли высыпались в карман. Я нашарил одну и вытащил ее на свет — она была вроде черной бусины и казалась несъедобной. Интересно все же, где их Штамп добыл и почему отдал мне, в сотый раз подумал я, и не могут ли меня посадить, если я кого-нибудь ими накормлю? Потом я вынул из пакета самую пристойную конфетину и попытался разломить ее пополам. Она не только разломилась, но еще и раздавилась — начинка у нее была из апельсинового джема. Приклеив к джему черную бусину, я попытался склеить две половины конфеты — от этого она раздавилась окончательно, но бусина оказалась внутри. Задумавшись, я машинально съел две оставшиеся конфеты, а третью, с любовной пилюлей, положил обратно в пакет.
Потом, закурив сигарету, я встал и потянулся. Вдали показалась Ведьма; она с презрением обходила пульсирующие группки любителей тотализатора, стягивающихся к букмекерским конторам.
Ведьма приближалась, и мне, как всегда, захотелось убежать, чтоб не видеть ее походку и колышущуюся, как у шотландского солдата, расклешенную юбку — очень уж самодовольно и несексуально она колыхалась. Меня здорово злила Ведьмина походка.
— Привет, — независимо сказала Ведьма. Это у нее была такая манера — на людях показывать мне свою независимость. А когда мы оставались наедине, она сразу же начинала свои штучки — по-идиотски морщила носик, прихватывала меня зубами за ухо и лепетала какую-то детскую белиберду.
Отвечая на Ведьмино приветствие, я заметил, что гнусавлю по-йоркширски: всякий раз, как мы с ней встречались, она заражала меня своим выговором. Когда мы оба сели, Ведьма неодобрительно посмотрела на мою сигарету и строго спросила:
— Эта какая за сегодня?
— Третья, — ответил я.
— Ты у нас умненький мальчик, — лишь наполовину шутливо похвалила меня Ведьма. Она почему-то решила, что я выкуриваю всего пять сигарет в день,
— Много было сегодня работы? — скорчив заботливую мину, спросил я. Ведьма возвела глаза к небу и дунула вверх, себе в ноздри — мне всегда хотелось дать ей за это оплеуху.
— Да нет, сначала я перепечатала писем, наверно, тридцать мистера Торнбула, а потом он продиктовал мне договор… — Несколько минут Ведьма щебетала о своей работе. Когда она иссякла, я спросил:
— А с другими мужчинами ты сегодня разговаривала? — Ведьма считала, что я должен устраивать ей сцены ревности за разговоры с мужчинами.
— Нет, милый, ни с кем, кроме мистера Торнбула и Штампа — когда звонила тебе по телефону. А ты разговаривал с какими-нибудь девушками?
— Только с официанткой в кофейном баре.
— А разве твой приятель не мог с ней поговорить? — надув губки, придирчиво спросила Ведьма. Она не назвала Артура по имени, потому что мне надо было ревновать ее даже к мужским именам.
— Ты скучала без меня, дорогая?
— Конечно. А ты без меня?
— Конечно, милая.
На этом наше обоюдное дознание обычно кончалось. Я порылся в кармане и вытащил пакетик с конфетой.
— Это тебе, родная, — сказал я.
Ведьма с сомнением заглянула в коричневые недра грязного пакета.
— Конфетка немножко раздавилась, — прощебетала она.
— Закрой глаза, открой рот, — вытаскивая конфету, скомандовал я. Ведьма открыла рот — возможно, чтобы отказаться от угощения, — и я ловко засунул туда свой дар.
— Противный, — сказала Ведьма, проглотив конфету. Я выгнул шею — вроде бы для того, чтоб почесать ухо, — и посмотрел на церковные часы. Любовная пилюля, по словам Штампа, должна была подействовать самое большое через пятнадцать минут. Он говорил мне, что одна старая дева — воспитательница из Детского загородного клуба — начала скулить и сдирать с него пиджак минут через пять после приема любовной пилюли, которую он дал ей под видом тонизирующей таблетки.
— Ты зачем звонила? Что нибудь важное? — спросил я.
— Да просто хотела поболтать. — Ведьма привстала и устроилась на скамейке поудобней — в позе светской дамы на отдыхе. — Мне попался чудный матерьяльчик: как раз для оконных штор в нашем коттеджике. Он и тебе понравится, вот увидишь.
Мы часто обсуждали с Ведьмой наше будущее жилье — уютный коттедж с камышовой крышей где-нибудь на холмистых равнинах Девоншира, — спрячемся, бывало, прохладным летним вечером в укромное местечко среди могил у церкви Святого Ботольфа или сядем на лавочку с навесом в одной из аллеек муниципального кладбища (иногда Ведьма назначала мне свидания там), очистим по апельсину и подробно, стараясь ничего не упустить, обсуждаем наше семейное гнездо. Случалось, что меня даже больше, чем Ведьму, увлекала эта сельская мечта, и я переносил ее на изумрудные холмы Амброзии. Мы обзавелись двумя детьми, которых звали Барбара и Билли, всерьез обдумывали их судьбу, размышляли о наших сельских занятиях — в общем, именно эта семья была прообразом той, сестринской, про которую я рассказывал Артуровой матушке.
— Он бирюзовый, с таким, знаешь, светлым узором вроде бокалов…
— А он подойдет к нашему паласу?
— Да нет, не очень. Но зато он будет миленько сочетаться с серыми, ковриками в детской.
— Умница ты моя!
Желтый палас и серые детские коврики мы видели в витрине мебельного магазина, когда Ведьма очередной раз вытащила меня на прогулку по улицам Страхтона. И палас, и коврики давно были проданы, но это не помешало им украсить наш коттеджик вместе с резными деревянными креслами, посвистывающим на полке в камине чайником и серебряными дамочками из моей комнаты.
Потолковав несколько минут об устройстве гнезда, мы вернулись к сельской свадьбе, с которой началась наша семейная жизнь, — и тут вдруг Ведьма настороженно спросила:
— Ты еще не взял у ювелира мое обручальное колечко?
— Пока нет, ласточка. Да я его, признаться, и снес-то к ювелиру только сегодня утром. — Ведьме очень, помнится, не хотелось расставаться с кольцом, и я едва убедил ее, что его надо слегка уменьшить.
— Мне уж теперь кажется, что без колечка я как будто раздетая, — сказала она, не замечая, что слово «раздетая» звучит у нее гораздо обнаженней, чем у другого прозвучало бы слово «голая», которого она-то произнести, разумеется, не могла. И тут я сообразил, что пятнадцать минут, наверно, прошло.
— Давай спрячемся от людей, — сказал я, вставая, и сжал ее холодные, в цыпках руки.
С сомнением поглядевши в глубь кладбища, Ведьма нерешительно промямлила:
— А там не сыровато?
— Мы сядем на мой плащ, пойдем, родная! — Я почти насильно поднял ее со скамейки и неловко обнял за плечи. Она неохотно подчинилась, и мы зашагали по асфальтовой, растрескавшейся посредине дорожке, которая вела за церковь. Там позади одного древнего семейного склепа высилось черное сухое дерево, а земля была прикрыта кустиками жухлой, пыльной травы. Иногда мне удавалось уговорить Ведьму посидеть возле склепа, но сначала она внимательно рассматривала его и читала вслух надпись: «Семьюэл Воэн, уроженец нашего города, 1784; Эмма, его жена; Сэмл, их сын, 1803». Я расстелил плащ и сел; но Ведьма не садилась. Я нетерпеливо; изо всех сил потянул ее за руки, и она невольно опустилась на колени. Теперь, хотя Ведьму страшно трудно расшевелить, пилюля все равно должна была подействовать: пятнадцать минут явно прошло. Я печально посмотрел на Ведьму и, как всегда не находя естественного тона, высокопарно сказал:
— Я люблю тебя, Барбара.
— Я тебя тоже, милый, — отозвалась Ведьма; она считала, что на признание в любви надо отвечать именно так.
— Любишь? Честно?
— Конечно, глупыш.
— И хочешь стать моей женой?
— Конечно. Я все время об этом думаю, милый, — сказала Ведьма. До чего же все-таки противно она разговаривала: в Коммерческом колледже ее отучили растягивать гласные, но гнусавила она по-прежнему.
— Родная моя, — пробормотал я и начал обеими руками поглаживать с двух сторон ее волосы — чтобы можно было гладить и плечи. Она состроила личико со сморщенным носиком, и тогда я крепко обхватил ее и принялся целовать, но губы у нее были плотно сжаты. Потом она резко отвернулась, и я ткнулся ей в щеку, как щенок. Не очень-то многообещающим получилось у нас начало.
— Ты больше никого не полюбишь? — с мрачной печалью в голосе спросил я.
— Конечно, нет, глупыш, — ответила она, и, нагнувшись вперед, прихватила зубами мое ухо. Я обнял ее одной рукой, а другой, как бы незаметно для себя самого, стал теребить верхнюю квадратную пуговицу на ее чистенькой голубой блузке. Ведьма высвободилась.
— Давай поговорим про наш коттеджик, милый, — сказала она.
Я зажмурился так, что у меня перед глазами поплыли огненные блестки, и сосчитал до семи. Пилюля на нее пока не подействовала — а возможно, ей надо было скормить три или даже четыре пилюли.
— А что про коттеджик? — изо всех сил сдерживаясь, ровным голосом спросил я.
— Про садик. Расскажи мне про наш садик.
— У нас будет замечательный садик, — привычно вызывая в воображении амброзийский ландшафт, сказал я. — Вдоль ограды мы посадим розовые кусты, на газоне поставим качели для Билли и Барбары, а по краю газона у нас расцветут нарциссы. Ну и обедать — летом, конечно, — мы будем возле прудика с белыми лилиями.
— А это не опасно — прудик? — встревоженно спросила Ведьма. — Вдруг детишки заиграются на берегу и упадут в воду?
— Так мы поставим вокруг низенькую ограду, — успокоил я ее. — Или нет, не надо нам прудика. У нас будет родничок. Древний, с каменной кладкой родничок, из которого мы будем брать воду. Родничок Радости — вот как мы его назовем. А знаешь, о какой радости я мечтаю?
Ведьма отрицательно покачала головой. Она сидела, подтянув к подбородку колени и обхватив руками лодыжки, как ребенок, слушающий перед сном волшебную сказку.
— Нет, лучше ты сперва скажи, о чем ты мечтаешь, — поправился я.
— Я…я хотела бы, чтоб мы всегда были счастливы и чтобы всегда любили друг друга. А ты?
— Да нет, мне лучше не говорить.
— Почему, милый?
— Ты можешь рассердиться.
— На что я могу рассердиться, глупыш?
— Ну… мало ли… Тебе может показаться, что у меня… что я… слишком тороплюсь. — Умолкнув, я покосился на нее, но не понял, как она отнеслась к моим словам. Впрочем, никак она к ним не отнеслась, а когда я посмотрел на нее еще раз, мне стало ясно, что она потеряла интерес к Роднику Радости. Я прикусил губу и тяжело задышал, а когда этот прием не подействовал, начал заикаться:
— Н-н-ну послушай, Барбара! В-в-выходит, люди и ч-ч-чувствовать н-н-ничего не могут?
— Могут, если они по-настоящему друг друга любят, — сказала Ведьма и пристально — слишком, на мой взгляд, пристально — посмотрела мне в глаза.
— Как мы? — тотчас же спросил я.
— Ну… да, — не очень уверенно ответила она.
— Так что ж я, по твоему, — совсем бесчувственный?
— Не бесчувственный, а надо сначала жениться, — быстро и уверенно, будто она заранее приготовилась к этому разговору, сказала Ведьма.
— Родная моя, — еле слышно, на грустном выдохе прошептал я и, цепко ухватив ее за шею, принялся целовать. В этот раз я решился прикоснуться к ее ноге. Она напряглась, но не пошевелилась. Я осторожно просунул руку вверх, и мне послышался распаленный голос Штампа: «Он положил руку на ее шелковистое в капроновом чулке колено». Чулки у Ведьмы были бумажные, розового цвета. Когда моя рука доползла до колена, Ведьма опять высвободилась.
— Что с тобой? — спросила она.
— Да вроде ничего, — все еще держа руку на ее колене, сказал я.
— А ты посмотри, где твоя рука.
Я убрал руку и тяжело вздохнул.
— Родная, что ж мне — и дотронуться до тебя нельзя?
Ведьма пожала плечами.
— По-моему, это… как-то неприлично, — сказала она. Я нагнулся, чтобы поцеловать ее, но она отстранилась и расстегнула сумочку, которую вечно таскала с собой, перекинув ремешок через плечо.
— Хочешь тонизирующую таблетку? — спросил я.
— Да нет, спасибо, — ответила она, — У меня вот есть апельсинчик.
Я опять на мгновение зажмурился, и у меня перед глазами снова поплыли огненные блестки. Чтоб хоть как-нибудь избавиться от бессильной ярости, я вскочил на ноги и, передразнивая Ведьму, завопил гнусавым фальцетом: «У меня вот есть апельси-и-и-нчик! У меня вот есть апельси-и-и-и-инчик!», а потом, повинуясь мгновенному порыву, пнул ее треклятую сумочку. Ведьма уже сняла ее с плеча и держала в руках — сумочка отлетела в сторону, вывалив на могильную плиту все свое содержимое: апельсины, справочники по стенографии и разное прочее барахло.
— Билли! — испуганно вскрикнула Ведьма.
— Апельсинщица позорная! — злобно выпалил я.
Она сидела на моем плаще, глядя прямо перед собой, и наверняка размышляла, стоит ли ей похныкать. Я состроил харю кающегося грешника, нагнулся и, погладив ее по голове, виновато сказал:
— Прости, Барбара. — Потом поплелся к надгробию и, собирая вывалившиеся из сумочки причиндалы, внимательно заглянул в нее, чтобы узнать, нет ли там записочки от какого-нибудь парня — тогда мы были б с Ведьмой квиты. В сумочке ничего, кроме нескольких мелких монет да губной помады, не оказалось, но зато рядом блестела в траве какая-то маленькая штуковинка. Это был серебряный крестик. Ведьма носила его, пока не проговорилась несколько месяцев назад, что его подарил ей двоюродный братец Алек. По договору о нашей взаимной ревности, я заставил Ведьму пообещать, что она вернет крестик братцу, и недавно она сказала мне, что так и сделала.
Я сурово глянул на Ведьму, но она промокала платком глаза, и мой взгляд пропал впустую. Тогда я поспешно сунул крестик в карман, взял сумочку и подошел к сидящей на плаще Ведьме.
— Прости, Барбара, — повторил я. Она подалась вперед, ухватила меня за руку и встала; ее глубокое, учащенное дыхание должно было продемонстрировать мне, как трудно ей справиться со слезами.
— Пойдем? — сказала она.
— Пойдем, — эхом откликнулся я.
Мы зашагали по асфальтовой дорожке, обогнули церковь и вышли за кладбищенские ворота на проезд Святого Ботольфа. Я было начал говорить: «Послушай, Барбара, тебе ведь в глубине души и самой хочется…», но она уже настроилась на свое независимое при людях поведение, и я не стал продолжать.
— Походим после работы по магазинам? — спросила Ведьма, когда мы остановились на углу Торговой улицы.
У меня упало сердце. Я вспомнил, что по субботам мы обыкновенно виделись несколько раз: во время перерыва на ленч, под вечер, перед моим выступлением в пабе, а потом встречались у входа в «Рокси». Это помогало ей, как она говорила, чувствовать, что она нужна мне, — благо ей было невдомек, зачем она мне нужна.
Но сегодня меня нисколько не прельщала прогулка по магазинам.
— Я бы с радостью, дорогая, да мне еще надо встретиться в конторе с Крабраком, и неизвестно, когда он меня отпустит, — сказал я.
— И ничего нельзя сделать? — спросила Ведьма, сдерживаясь, чтобы не сказать: «Очень тебя прошу!»
— Ну хорошо, — согласился я. — Встретимся в четыре. Только не сердись, если я немного запоздаю.
— Хорошо, милый.
Сунув руку в карман плаща, я нащупал серебряный крестик и смотрел, как Ведьма идет по Торговой улице, пока ее колышущаяся, будто у шотландского солдата, юбка не скрылась из глаз,
Глава пятая
В субботу, освещенный холодным послеполуденным солнцем, проезд Святого Ботольфа казался не таким гнусным, как обычно. Его странно оживляли упитанные, в темных костюмах клиенты букмекеров: они торопливо проглядывали спортивные газетки и непрерывно курили, выдувая вверх синевато-прозрачные клубы дыма, а пустые пачки от сигарет швыряли прямо на неровные плиты тротуара. Тусклое стекло аптечной витрины смутно отражало проплывающих мимо аптеки людей в одинаковых дождевиках, а у паба толпились краснолицые любители пива, продолжая начатые за кружкой споры, и кто-нибудь обязательно твердил одну и ту же фразу — мне всегда казалось, что сгрудившаяся возле паба толпа нисколько не меняется от субботы к субботе, привычно пережевывая неизменный, бесконечно длящийся спор. «Неужели вы не заметили — пых, пых, — спросил я однажды приехавшего в Амброзию Парня с холмов, — что ваши основательные йоркширцы абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы, как стандартные колеса серийного автомобиля?..» На углу, там, где проезд Святого Ботольфа примыкал к Торговой, по субботам стоял скрипач, наигрывающий песенку «Грошик с небес», и перед ним лежала его шляпа…
У нас шторы на окнах были опущены, но дверь оказалась незапертой, и когда я входил, в конторе негромко звякнул звонок. Процеженный сквозь шторы зеленовато-мертвенный свет придавал нашей выстуженной, пропыленной приемной еще более похоронный, чем в будни, вид. Закрыв дверь, я обессиленно остановился, сонно глядя на выцветшую фотографию советника Граббери, который стоял со снятым котелком впереди конного катафалка. Тишину ничто не нарушало, и на мгновение меня обуяла радостная надежда, что все наши гробовщики навеки упокоились в наших фирменных гробах и контора заброшена навсегда… но потом я заметил бледную полоску света под дверью крабраковского кабинета и понял, что там включен электрокамин. С трудом передвигая ноги, я подошел к двери и постучал. Крабрак не отозвался. Возможно, он ошивался на Торговой улице, пытаясь продать какому-нибудь зеленщику подержанный «Моррис-1000»: он еще и сейчас приторговывал старыми автомобилями.
Я поплелся к своему столу и тяжело опустился на стул; но вообще-то отсутствие Крабрака немного меня подбодрило. Ведь мог же он попасть под автобус — мало ли чего не бывает! Я закурил, машинально выдвинул ящик стола, с секунду бездумно смотрел в него, а потом, сбросив оцепенение, решил заняться делом. Этот ящик был у меня конторским филиалом домашнего Уголовного сейфа: любая наугад вытащенная из него бумажка вгоняла меня — хотя бы ненадолго — в тревожное беспокойство. Я начал быстро разгружать ящик: разорвал неотправленные клиентам счета и похабные стишки про советника Граббери, потом собрал черновые листки так и не законченного письма Ведьме, в котором я осмелился сказать что-то поэтическое об ее груди, и штук восемь первых страниц моего романа, сложил все листки в одну пачку и, разорвав ее напополам, бросил в мусорную корзину; вслед за пачкой в корзину отправились и листки для заметок, на которых разными почерками была написана моя фамилия. Потом на глаза мне попался листок со сценкой для Бобби Бума:
Б о б б и. А теперь я расскажу тебе про необычных земляков.
Э б б и. Что же в них такого особенно необычного?
Б о б б и. Они земляки, но телохранители у них разные: одному достался липовый, а другому — дубовый.
Э б б и. Ничего не понимаю! Да зачем им телохранители?
Б о б б и. Как так зачем? Для спокойного сна. Они же земляки — соседи по кладбищу. А гробы — телохранители — им купили разные.
Я сунул эту сценку в карман — туда, где лежало начатое письмо Бобби Буму, и, посмотрев опять в ящик, увидел на дне пожелтевший лист бумаги большого формата, где я записал несколько месяцев назад все, что меня тревожило, намереваясь постепенно разделываться со своими неурядицами и вычеркивать их из уголовного списка — пока наконец не вычеркну последнюю.
И вот я с опаской заглянул в этот давний список. Календ. Ведьма (кап-н) Лонд. Час. дом. хоз. Табл. Арт. м-а (сестр.). Не было в списке ни одной записи, которую я мог бы с легким сердцем сегодня вычеркнуть. Я решительно разорвал желтоватый лист на четыре части и бросил обрывки в корзину. Больше никаких бумаг в ящике не было — там остались только огрызки карандашей да большое чернильное пятно на дне, да слово ЛИЗ, написанное цветным мелком. Я встал, подошел к штамповскому столу и попытался выдвинуть средний ящик, но он был заперт. Тогда я начал бесцельно слоняться по комнате, тихонько посвистывая.
Одной из привычек, от которых я твердо решил избавиться, была привычка издавать странные звуки в минуты беспокойства — они заменяли у меня мимику тревоги и, раз начавшись, нарастали, как неудержимая снежная лавина. Сидя в своей собственной комнате, или укрывшись от людей в телефонной будке, или возвращаясь поздним вечером по безлюдному Сабосвинцовому переулку домой, я, бывало, начинал разговаривать, обращаясь к себе самому, но произносил слова все неразборчивей и неразборчивей, пока мой монолог не превращался в мычание, похрюкивание или кудахтанье, которым позавидовал бы любой скотный двор, — тогда я опоминался и, постепенно переходя на членораздельную речь, принимался обсуждать с самим собой какие-нибудь особенно наболевшие проблемы.
Вот и сейчас, бросив окурок в штамповскую чернильницу, я начал:
— Лондон — удивительный город, мистер Крабрак. В Лондоне оч-ч-чень легко заблудиться, оч-ч-чень. Понимаете, мистер Крабрак? За-блу-диться. За-блу-дить-ся-итца-итца, за-блу-дить-ся-итца-ца. — Бродя по комнате, я бездумно блудил со звуками слова «заблудиться», а потом стал подражать животным: «Заблудиться-итца-м-м-му, заблудиться-итца-м-м-ме, заблудиться-итца-м-м-мяу, за-блудиться-итца-гав!» — А теперь, — проговорил я, вспомнив один из наших с Артуром диалогов, — теперь, как мистер Черчилль мог бы сказать, «Никогда в сфере! Человеческих! Противостояний не встречалось!..» Передавал Уильям Сайрус. Сайрус-кусайрус-хрюкайрус-хрюк! В луже лежайлус отборнейший хряк! Маленький миленький жирненький хряк. — Я принялся произносить последнюю фразу на всевозможные, как у Джойса, лады и в разных тональностях — от писклявого фальцета до рокочущего баса.
Потом я стоял перед распахнутой дверью крабраковского кабинета, наполненного гулом многоголосого эха, и размышлял, не заглянуть ли мне в ящик крабраковского стола. Но от этой мысли у меня затряслись коленки, и Злокозненный мир почти воочию явил мне жуткую картину: Крабрак застает меня в своем кабинете перед столом с выдвинутыми ящиками. Чтобы успокоиться, я еще немного похрюкал-похрякал, а потом начал выкрикивать фамилию Крабрака:
— Эй, мистер Крабрак, дермистер Крабрак, дурмистер Крабрак-рак-рак-рак! — Эховый «рак» многоголосо расплескался по кабинету. — Эй, мистер Крабрак, ретсим карбарк, ракный мистер, крабный рак!
Я как раз на секунду умолк и набирал в грудь воздуху для очередной порции ракныхкрабов, когда дверь на лестницу, ведущую в подвал, открылась, и на пороге появился сам Крабрак, без сомнения слышавший весь мой концерт. Я судорожно прижал руку к горлу и начал торопливо выкашливать звуки, похожие на мою крабракную тарабарщину, в надежде убедить Крабрака, что все эти десять минут я именно кашлял и ничего больше. Моим первым осознанным чувством было облегчение: ведь Крабрак не застал меня у выдвинутых ящиков его стола. А потом я горько пожалел, что грозный амброзийский лучемет испепелял моих врагов только в Амброзии,
— А-а, это вы, Сайрус? — проговорил Крабрак, никак не выказывая своего отношения к моему концерту, Он наверняка все слышал, даже если последние десять минут сидел внизу, в сортире. А может, все же не слышал?.. Как утопающему мгновенно вспоминается вся его жизнь, так у меня в голове почти одновременно промелькнули четыре разные мысли. Первая — сделать вид, что я прочистил наконец горло, и начать петь. Вторая — сделать вид, что я не замечаю Крабрака, и продолжать пение, якобы начатое десять минут назад. Третья — сделать вид, что я репетирую роль из пьесы: «Таким образом, леди Элис, даже пошлые хряки, даже крабы и раки испытывают иногда возвышенные чувства». Четвертая, амброзийская: «Хорошо, что вы здесь, мистер Крабрак, мне давно уже хотелось, чтобы вы узнали мое мнение о вас».
— Надеюсь, мое пение не помешало вам, мистер Крабрак? — спросил я.
— Вы устроили очень странный галдеж, Сайрус, — отозвался Крабрак — Оч-ч-чень. Но давайте-ка поговорим в моем кабинете.
Я вошел следом за ним в его служебное святилище, бормоча на ходу невнятные объяснения.
Кабинет Крабрака был обставлен в американском, как думал хозяин, стиле. На металлическом письменном столе не было ничего, кроме линейки из черного дерева, внушавшей мне с некоторых пор острое отвращение, потому что однажды Крабрак увидел — или мне показалось, что он увидел, — как я размахиваю этой линейкой на манер дирижера, слушая пластинку «Побудь со мной», которая всегда лежала на диске проигрывателя: Крабрак считал, что американизированный гробовщик должен держать в своем кабинете проигрыватель и по крайней мере одну пластинку. На низком, кофейного типа столике лежали эскизы гроба из стеклопластика и чертежи современного, с обтекаемыми контурами, катафалка. Кроме письменного стола, проигрывателя и кофейного столика в кабинете стояли два современных стула на металлическом каркасе, никогда до этого в Страхтоне не виданные, да на стене, в рамочке, красовалась стилизованная под китайскую литография.
— Входите, садитесь и будьте как дома, — буркнул Крабрак и обнажил в дежурной улыбке свои скверные зубы. Потом вытащил из кармана пиджака крохотную плексигласовую модель обтекаемого гроба и сказал: — А известно ли вам, Сайрус, что ко времени ваших похорон человечество будет пользоваться только такими гробами? Известно вам это, Сайрус?
— Вы думаете? — спросил я Крабрака, стараясь показаться заинтересованным. Меня, разумеется, не обманула его манера дружелюбного начальника, непринужденно беседующего с подчиненным в свободный субботний вечер. Я присел на краешек стула и откашлялся: — Кррр-а-ахб! Ррра-а-ахк!
— Люди этого пока не поняли. Наступает эпоха чистых линий. Всякие завитушки да виньетки уходят в прошлое. Их время миновало.
Я неопределенно хмыкнул.
— Да-да, именно об этом я все время толкую советнику Граббери. Надо идти в ногу с временем. Нельзя жить в одном стиле, а умирать в другом. Это анархизм.
— Анахронизм, — не успев подумать, что лучше промолчать, брякнул я.
— Ну ладно. — Крабрак резко нагнулся и вынул из ящика картонную папку. — Мои заботы вас вряд ли интересуют. Вы-то, я думаю, хотите поговорить со мной о вашем письме. — Оказывается, мое письмо хранилось у него в специальной папке, и я на секунду почувствовал себя очень значительной личностью, хотя в глубине души понимал, что это вздор. Крабрак раскрыл папку, и я заметил, что в ней под моим письмом лежит еще несколько листков. Мне пришло в голову, что он завел на меня персональное досье с доносами Штампа и Ведьмы, а возможно, и с записями невразумительно-паутинных словес старика Граббери. Поправив крахмальные манжеты и подтянув зауженные книзу брюки, Крабрак добавил: — Так вы, стало быть, хотите уволиться? Я правильно вас понял?
— Видите ли, мне, конечно, хотелось… раз такая возможность… — От моей заранее заготовленной речи остались только эти ошметки.
Крабрак вынул из папки мое письмо. А я попытался рассмотреть, какие под ним лежали бумажки. Это были желтоватые, густо исписанные его рукой листки для заметок, на которых он обычно рисовал свои «покойницкие ларцы». Хмурясь, как будто ему трудно разобрать мою машинопись, он прочитал:
— «… мне довелось получить приглашение от Бобби Бума…» — Я решил, что он собирается читать письмо фразу за фразой, требуя от меня подробных объяснений. — Это тот парень, который выступает по телевизору? — спросил Крабрак.
— Да-да, — поощряюще отозвался я.
— Оч-ч-чень толковый парень. Оч-ч-чень, — заметил Крабрак. — И вы думаете у него работать?
— Ну, видите ли, ему понравились некоторые тексты, которые я послал, и он…
— А вы, стало быть, хотите стать писателем? — спросил Крабрак заинтересованным тоном внеслужебного субботнего разговора.
— Совершенно верно, это главная моя цель, — окончательно успокаиваясь, ответил я и откинулся на спинку стула. — Ну и, разумеется, это очень денежная работа — если ей заниматься со знанием дела.
— И как же вам будут платить? Пошуточно? Или помесячно?
— Ну, это оч-ч-чень нелегко объяснить. Оч-ч-чень, — сказал я, не впервые замечая, что машинально имитирую строй речи своего собеседника. Но Крабрак внезапно потерял интерес к нашему разговору. На мои с трудом придуманные подробности моей будущей работы он рассеянно отзывался равнодушным «так-так» и рассматривал лежащие в папке листки. Потом его рассеянность сменилась деловитостью. Он проворно встал и, облокотившись на спинку стула, принялся покачивать его из стороны в сторону.
— Так вот, значит, это ваше письмо, — начал он, и мне стало ясно, что он приступил наконец к серьезному разговору. Я понимающе посмотрел на него.
— Думается, что вы и сами признаете ваше письмо оч-ч-чень легкомысленным. Оч-ч-чень. Что вы на это скажете?
— Ну, что же на это можно сказать, — едва слышным голосом неопределенно пробормотал я.
— Оч-ч-чень легкомысленное письмо, Сайрус. Оч-ч-чень. Я бы даже сказал — непрофессиональное. Оч-ч-чень, оч-ч-чень непрофессиональное письмо, Сайрус. — Он, видимо, считал работу в похоронной конторе профессией!
— Ну, рано или поздно мне все равно пришлось бы уйти, — откашлявшись, промямлил я.
— Конечно, Сайрус, конечно. Мы все это понимаем, Можете не сомневаться. Никто из нас не намерен мешать вашей карьере. Я, например, желаю вам всего самого наилучшего. Но думается, что вам следовало подойти к этому делу немного попрофессиональней, Сайрус. Думается, что так.
— О чем вы говорите, мистер Крабрак? — тоном трагика из любительского спектакля спросил я.
— Мы надеялись, — ответил Крабрак, — надеялись, Сайрус, что, делая такой шаг, вы захотите, обсудить с нами парочку оч-ч-чень важных вопросов, Оч-ч-чень.
Знакомый страх ледяной рукой сжал мне сердце. Еще раз откашлявшись, я обессиленно спросил:
— Каких вопросов, мистер Крабрак?
— Видите ли, Сайрус, мы были очень разочарованы — оч-ч-чень! — когда поняли, что у вас не возникло потребности с нами поговорить накануне столь серьезного шага. Я имею в виду ваше письмо, Сайрус. Не думайте, что мы желаем вам зла — ни в коем случае! — но хотелось бы, чтобы вы дали нам кое-какие разъяснения.
Это было здорово трудно — не показать ему, что я прекрасно знаю, о чем он толкует. Изо всех сил стараясь выдержать заданный им самим тон непринужденной беседы, я сказал:
— Что ж, вы, вероятно, правы — моя работа у вас оставляет желать лучшего. Поэтому, в частности, я и решил, что мне надо уволиться.
— Да я вовсе не про вашу работу говорю, — отрезал Крабрак. — Вовсе не про работу, Сайрус. Я говорю, что мы ждем от вас кое-каких разъяснений.
Он внимательно посмотрел на меня, чтобы определить, достаточно ли хорошо я его понял, а потом вкрадчиво, почти нежно, сказал:
— Думается, например, что история с календарями требует разъяснения — вы ведь так и не потрудились разъяснить нам, куда они делись.
Я тоже посмотрел на него и облизал пересохшие губы. Мне, в общем-то, давно уже стало ясно, что он знает про календари. Знает или по крайней мере догадывается. Но я надеялся, что природная деликатность, или, верней, профессиональная, раз навсегда усвоенная им тактичность, которая частенько спасала меня от неприятностей, помешает ему завести этот безнадежный разговор. Я решил, что сейчас мне лучше всего молчать — да и что я мог сказать?..
— А они стоят денег, Сайрус. Немалых денег. И мы до сих пор не можем понять, что же вы с ними сделали.
Сообразив, что мне надо попробовать хоть как-то оправдаться — рассказ про пожар на почте уже зрел в моей голове, — я начал:
— Случилось досадное недоразумение…
— При чем тут недоразумение, — перебил меня Крабрак, — если двести или триста календарей не были, насколько мне известно, посланы адресатам. Да, вы собираетесь уходить, и, по-моему, правильно делаете. Мы все понимаем — это оч-ч-чень, мудрый шаг, Сайрус. Оч-чень. Но предварительно вам следует кое-что прояснить и обеспечить.
Я — да и сам Крабрак тоже — не сумел бы сказать, какой смысл он вкладывает в слово «обеспечить». У него была привычка коллекционировать слова, чтобы вставлять их — иногда вовсе не к месту — в свои высокопарные фразы. Теперь он мог разглагольствовать о календарях до самого вечера — просто потому, что ему было неведомо, как люди меняют предмет разговора. И я решил прийти ему на помощь:
— Разумеется, мистер Крабрак, если я должен заплатить…
— Заплатить, Сайрус? — перебил он меня. — Вы говорите, заплатить? Но дело не только в деньгах! Не только в деньгах, Сайрус. Затронута репутация нашей фирмы. Что вы об этом думаете, Сайрус? Календари должны были упрочить репутацию фирмы, и нам непонятно, почему вы не разослали их адресатам. Они должны были упрочить нашу репутацию, Сайрус! Мы заказали их вовсе не для того, чтобы выбросить кошке под хвост. Так дела не делаются, Сайрус.
Крабрак завелся. Он оставил спинку стула в покое, сел и принагнулся над своим пустым столом, вертя в руках черную линейку. Его глаза сверкали.
— Нет, так дела не делаются, Сайрус. Вы, вероятно, не понимаете, что попали в очень трудное положение. И с календарями и со всем прочим…
— С каким прочим? — пролепетал я.
— Вы прекрасно знаете, с каким, Сайрус. Вам не помогут пустые вопросы. Что вы, например, скажете про таблички для гроба?
Этого я никак не ожидал! У меня просто челюсть отвисла. В минуты трезвых раздумий мне бывало ясно, что Крабрак знает о календарях. Я подозревал, что ему известно про мухлевку с записями в почтовой книге, и меня даже удивляло, что он до сих пор еще не заговорил об этом. Я был уверен, что ему случалось видеть наши издевательские Граббери-представления и что в такие минуты он терял дар речи — только это избавляло нас от неприятной беседы. Но таблички?! Я мог бы поклясться, что про таблички ему ничего не известно.
А история с табличками была, пожалуй, даже серьезней, чем календарная. Я спрятал две таблички в коробку с саванами. Неувязка с ними приключилась летом, когда Крабрак был в отпуске. Граббери поручил мне заказать табличку для гроба методистского священника, и я, думая о чем-то своем, написал на заказе граверу имя священника и по-латыни — «Да покоится в мире», так что методист при жизни стал у меня после смерти католиком. А с новой табличкой я к похоронам не успел. По счастью, Граббери и родственники покойника не заметили, что хоронят безымянный гроб, ну а мне не оставалось ничего другого, как спрятать обе таблички в подвале конторы. Меня потом не раз мучило тревожное подозрение, что я совершил смертный грех… Но как, спрашивается, исхитрился пронюхать про таблички Крабрак?
— А вам придется что-нибудь об этом сказать, Сайрус. Думается, что без удовлетворительного разъяснения мы просто не сможем вас отпустить. Просто не сможем, Сайрус.
Я не понял, знает ли он, где спрятаны таблички. Возможно, ему было известно, только что гроб священника так и остался безымянным. Мне после похорон еще долго мерещилась жуткая картина эксгумации трупа. А сейчас я подумал, что, когда он меня отпустит, надо будет обязательно заглянуть в подвал и сунуть таблички под джемпер.
— Я готов извиниться, если из-за меня случилась какая-нибудь неловкость.
— Извиниться? Вы говорите — извиниться? — Крабрак возмущенно фыркнул и разразился одной из своих напыщенных тирад. — Извиниться, Сайрус, легче всего, а мы хотели бы услышать, как вы намерены исправить положение. Ведь я по вашей милости буду выглядеть круглым идиотом, если родственники покойного узнают об этой истории. А если узнает советник Граббери? (Ага, значит, он укрывает меня от Граббери, на мгновение приободрившись, решил я.) Думается, что вы слишком часто валяете дурака, Сайрус. Здесь у нас не цирк, а похоронная контора!
Я чувствовал, что во мне вскипает разрушительная, обессиливающая злость. Чего он от меня хочет? Чтоб я покаялся? Чтобы проработал тут еще год, искупая грехи? Чтобы заплатил за календари и таблички? Чтоб восстановил репутацию их вшивой конторы?..
Крабрак опять заглянул в папку, и мне почудилось, что у него там хранится полный список моих преступлений. Я бы не удивился, если б он принялся их зачитывать, начиная каждый пункт с казенной фразы: «В нарушение Британского законодательства…»
— Да-да, тут слишком часто в последнее время валяли дурака, — продолжал он. — Но теперь мы это исправим. Вспомните, Сайрус, что вы, например, так и не написали заказанные вам стихи. Так и не написали, Сайрус.
Однажды он застукал нас с Артуром за сочинением в рабочее время нашей очередной песни и, воспользовавшись удобным случаем, потребовал, чтобы мы написали стихи для некролога в «Страхтонском эхе», причем заранее оговорил, что из платы, полученной с родственников покойника, возьмет себе сколько-то процентов как посредник. В результате мы сочинили похабный стишок про Граббери да начало поэмы о Блудене: «Вконец заблудившись на грешной земле, Иосия Блуден попал в небеса…» И стишок и начало поэмы Крабрак наверняка слышал. Я вдруг с облегчением понял, что он уже исчерпал мои главные преступления против конторы и поэтому перешел к мелким грешкам; он, впрочем, мог трепаться часами и о любых мелочах.
— А бумага, на которой вы пишете ваши опусы, тоже недешево обходится фирме.
— Я заплачу за нее, — сказал я.
— Да не об этом речь, — снова вскинулся Крабрак, но тут в приемной зазвонил телефон. Крабрак поднял трубку и ничего, конечно, не услышал, потому что я не переключил коммутатор на его кабинетный телефон, хотя по субботам перед уходом из конторы это должен был делать я. Крабрак раздраженно посмотрел на меня и встал.
— Короче, я должен сказать вам, Сайрус, — заключил он, — должен вам сказать, что в нынешних обстоятельствах мы не можем согласиться на ваш уход. В нынешних обстоятельствах не можем, Сайрус. И не сможем, пока обстоятельства не будут разъяснены и улажены. Вполне вероятно, что нам даже придется прибегнуть к помощи закона, Сайрус, вполне вероятно. — Он вышел из кабинета и поднял трубку телефона в приемной: — Похоронная контора «Крабрак и Граббери».
Я остановился в дверях его кабинета, пытаясь представить себе, как повернется моя жизнь, если они и правда «прибегнут к помощи закона». Крабрак заговорил похоронно слащавым голосом с какой-то скорбящей вдовой, а я стоял и молча смотрел на него из дверного проема. Тогда он прикрыл рукой микрофон и сказал:
— Мы обсудим это после воскресенья.
Я неуверенно подошел к входной двери, взялся за ручку и немного помедлил, но ничего не сказал и вышел за порог. На меня опять напала зевота. Я прислонился к нашей витрине, задыхаясь и жадно ловя ртом воздух. Лоб у меня взмок от испарины, но я был рад, что взял еще один барьер на пути к Лондону. Мне, правда, вспомнилось, что я не спустился в подвал за табличками, но теперь это было не очень-то важно.
Закурив сигарету, я двинулся к Торговой улице, а перенесенный в Амброзию разговор с Крабраком закончил многозначительным предупреждением: «И учтите, уважаемый патрон, что закон строго осуждает клевету».
Но настроение у меня нисколько не улучшилось. Тогда я стал думать о своей амброзийской матушке, которая беспечно сказала: «Да пошли ты его куда подальше, Билли!» — и мне стало немного легче.
Глава шестая
Я пришел домой около половины третьего; матушка была в кухне, и я понял, что она готовится к сценке «Ни минуты покоя» и что за обедом предки ели яичницу с ветчиной — наше традиционное субботнее пиршество, — потому что в раковине лежала скорлупа от яиц. Атмосфера у нас дома была, как обычно, похоронная; бабушка разговаривала сама с собой в гостиной, а отец что-то чинил в гараже — или так ему казалось.
— Ну и как ты скажешь — сколько сейчас времени? — спросила меня матушка, едва я открыл дверь кухни. Мне была хорошо известна моя роль в этой сценке, и я ответил: — Четырнадцать часов двадцать семь минут, мама, но если хочешь, я могу сказать и по-другому. — Мои ответы давно уже стали такими же стандартными, как ее вопросы. Чтоб немного оживить сценку, я добавил: — У меня сегодня был жутко хлопотный день. — Но матушка не признавала нововведений в наших традиционных разговорах.
— А я, значит, по-твоему, только и должна весь день стряпать, стряпать и стряпать, — привычно сказала она, и я с раздражением понял, что сейчас начнется до мельчайших подробностей знакомый мне монолог: я мог бы повторить его вместо матушки. — Ты являешься, когда тебе заблагорассудится, и я должна кормить тебя отдельно от всех, а что у меня нет ни минуты покоя, тебе, конечно, невдомек.
— Покой, мама… — начал я, не зная еще, чем кончу фразу, потому что любая заумная чушь могла сойти у нас дома за глубокомыслие. Но матушка перебила меня:
— Я за все утро ни разу не присела! Если я не заболею… — Но тут ее перебила сидящая в гостиной бабушка:
— Если это наш Билли, так его старый плащ все утро провисел в ванной. Ему пора бы уже научиться вешать свои вещи на место.
— А если это не ваш Билли, то где тогда все утро провисел его старый плащ? — спросил я, вовсе, впрочем, не надеясь, что они оценят мою грамматическую, так сказать, шутку. Никто из них, разумеется, не ответил. Тем временем дверь открылась, и в кухню вошел отец с гаражной полкой в руках.
— А мог бы и приходить к обеду домой, — не глядя на меня, проворчал он. — Ишь ведь, завел себе растреклятую привычку околачиваться чуть не до вечера незнамо где!
— Добрый день, папа, — с въедливой вежливостью сказал я. Мне вдруг стало непонятно, зачем я приплелся домой.
— А свои растреклятые дерзости оставь для приятелей. Они у меня уже вот где сидят. — Он показал рукой, где у него сидят мои растреклятые дерзости.
— Его надо как следует выдрать, тогда ему неповадно будет дерзить, — вставила из гостиной бабушка.
Меня, как зверя в клетке, которого тычут палками, стала одолевать ярость. Она довольно часто донимала меня в нашем задрипанном семейном гнезде, и выходы ей можно было давать разные. Во-первых, я мог дать волю своему праестеству или своему естественному «я», или, проще, стать по-отцовски злобным и грубым. Во-вторых — и это было не так опасно, — я мог сделаться убийственно корректным.
— Что, в сущности, такое дерзость? — начал я, нарочито рассматривая свои ногти. Но отцовская злость — или, может, горечь, кто его знает, — тоже, видимо, искала выхода.
— А ну прекрати умничать! — рявкнул он. И добавил: — Если их в нашем растреклятом Техническом только этому и научили, то слава богу, что я вырос неучем.
— Так-так, признание, — пробормотал я, стараясь, однако, чтобы отец не услышал. Он пристально, с угрозой посмотрел на меня. — Пойду наверх, — сказал я немного погромче.
— И пусть он не шастает по спальням, — выкликнула из гостиной бабушка.
Не было ей никакого дела до наших спален, потому что она жила у нас как постоянный, а все-таки гость! Не в силах больше сдерживать ярость, я крикнул:
— А сунь-ка ты спальню себе… — В последнюю секунду мне удалось умолкнуть и ничего страшного сказано не было, но я так резко себя оборвал, что меня даже качнуло назад.
— Что? — рявкнул отец и, бросив полку на пол, подскочил ко мне. — Что ты сказал? А ну повтори, щенок, что ты сказал! — Он схватил меня за ворот и угрожающе поднял кулак. — А ну повтори, щенок! А ну повтори!
— Эти мелодрамы…
— А ты меня не милодрань, умник ты растреклятый! — прорычал отец.
Я не испугался и даже не разозлился на него. Меня охватила тоскливая безнадежность — ведь я не мог объяснить ему — да и никому бы в нашем городе не смог, — что это всего лишь строчка из веселой поэмы про Иосию Блудена. У нас не поостришь.
— Да я только хотел сказать…
— Вот и говори толком! — перебил меня отец. — Ишь, распустил свой растреклятый язык! Что ты хотел сказать бабушке? А ну — что ты ей хотел сказать?
— Да отпусти ты его, он сегодня в свежей рубашке, — озабоченно вмешалась матушка.
— Я вот его самого когда-нибудь освежу. Я его так освежу, что век будет помнить, — немного поостыв, пробурчал отец. — С его растреклятыми вечными ручками да замшевыми башмаками. И сегодня он никуда вечером не пойдет. Знаю я, где он всего этого набирается. Пусть сегодня дома сидит… и завтра… и вообще…
Я стоял у раковины, разбитый и вялый, не зная, какое выражение лица подошло бы к этой дурацкой домашней драме. И слов, которые не показались бы отцу наглым умничаньем, я тоже не находил. Странно всхрипывая, бубнила в гостиной бабушка. «…взбесившийся щенок», — услышал я конец ее фразы.
— Ну послушай…
— А ты меня не нукай! — опять взъерепенился отец. — Послушай у него то, послушай у него это… И чтоб я больше не видел по всему дому твоих растреклятых книг и растреклятых бумажонок… и всякого растреклятого мусора! А то я и тебя вместе с ним вышвырну к растреклятым чертям!
В таком состоянии он понимал только злобный тон и ругательский жаргон. Развесив по-отцовски губы, я истошно заорал:
— Что ты на меня взъелся, мешают они тебе, да?
— Мне-то нет, это они у тебя в голове все перемешали, — успокаиваясь на роли семейного остряка, отозвался отец. Он отошел от меня и поднял брошенную полку. Я принялся молча поправлять галстук. Услышав матушкино «Ну вот, опять ты довел отца», он обернулся и сказал:
— Довел не довел, а я его держать больше не буду, Он знает, где у нас чемоданы. Пусть катится в свой растреклятый Лондон.
— Нет, не пусть! — воскликнула матушка. Она не сразу решила, кто из нас нуждается в ее поддержке, но сейчас без колебаний встала на мою, как ей казалось, защиту,
— Я его держать не буду. Пусть катится, — сказал отец.
— Нет, не пусть!
— А я говорю, пусть катится, — уперся отец. Эта мысль явно нравилась ему все больше и больше. — Пусть катится, — повторил он. — Пусть катится.
— Нет, не пусть! Нет, не пусть! Нет, не пусть! — трижды выкликнула матушка.
— Послушайте, — вмешался я. — Давайте обсудим…
Но в этот раз отец не обратил внимания на мои слова.
— Надо же, — проворчал он, — только школу успел закончить, и все ему сразу стало не так да не эдак. То яйца неправильно сварили, то еще что-нибудь. А то подавай ему какие-то особенные пшеничные хлопья, потому что их в телевизоре показывали. Нет, с меня хватит. Хватит с меня. Пусть катится.
— Нет, не пусть! — окончательно утвердила матушка. — И ты не перебивай меня, Джефри. Рано ему ездить в Лондон, не дорос. Ты же сам говорил. Он еще и думать-то как следует не умеет. Чего наберется со стороны, на том и стоит.
— Вот и пусть катится. Он давно на этом стоит,
— Нет, не пусть. И никуда он не покатится, пока я здесь.,
— Ему бы в армию, — совсем уже спокойно сказал отец. — Ему бы в нашей растреклятой армии послужить, вот что ему надо.
— Нет уж, это ты, если хочешь, отправляйся в армию служить, а он обойдется, — заключила матушка.
На этом разговор вроде бы закончился, и я шагнул к двери.
— Ну а сейчас куда он собрался? — спросил отец.
— В туалет, — злобно ответил я.
Странно, что бабушка не внесла свою лепту в семейную перепалку, открывая дверь гостиной, подумал я. Но, покосившись на нее, сразу же понял, почему она молчит.
— Мама, скорей! — испуганно крикнул я и уставился в потолок, чтобы не смотреть на бабушку. Но мне уже и с первого взгляда стало ясно, что дело плохо. Бабушка сидела, запрокинув голову назад и как бы окостенев, а ее желтоватое лицо конвульсивно подергивалось. Глаза у нее выпучились, и на губах пузырилась пена. Она, видно, пыталась крикнуть и встать, но только безмолвно разевала рот, вцепившись мертвой хваткой в подлокотники кресла и неестественно выгнув спину.
— Ну вот, доскандалились! — воскликнула матушка, вбегая вслед за отцом в гостиную. Отец бросился открывать окно.
— Да у нее же растреклятый припадок! — крикнул он. — Принеси нюхательную соль! Живо, не чешись!
Обрадовавшись, что можно убежать, я помчался вверх по лестнице за нюхательной солью. Смотреть на бабушкины припадки, которые повторялись в последнее время все чаще, мне было страшно и, если честно признаться, противно. И я не раз уже с ужасом думал, каково мне придется, если у бабушки начнется припадок, когда мы останемся дома вдвоем. А сейчас, разыскивая в матушкином туалетном столике нюхательную соль и машинально проверяя, не спрятала ли она сюда какие-нибудь найденные у меня опасные вещички, я поймал себя на привычной мысли, что, может быть, в этот раз бабушка наконец умрет и мы заживем немного спокойней. Чтобы прогнать из головы эту пакостную мысль, я применил цитатно-считальный метод — семьдесят четыре, девяносто шесть, Господь пастырь мой — и, слегка успокоившись, подумал, что, когда я вернусь, припадок уже благополучно кончится, никакой пены у бабушки на губах не будет и наша жизнь опять войдет в привычную колею. Вынув из ящика зеленый флакон с нюхательной солью, я пошел вниз. На площадке между этажами, почесывая пятку об стойку перил, я загадал, что если мне удастся неспешно досчитать до пяти, то к моему возвращению припадок пройдет.
Я стоял на площадке и медленно считал — раз, два, три, четыре, пять, шесть, — но вдруг дверь гостиной распахнулась, и в холл выскочил отец.
— Да скорей же ты! — увидев меня на площадке, крикнул он. Я бегом спустился вниз и отдал ему флакон.
— Зашел в туалет, — автоматически пробормотал я, но он уже захлопнул за собой дверь.
Я снова пошел наверх, пытаясь убедить себя, что мне и правда нужно в туалет, но ничего у меня из этого не получилось. Тогда я свернул к себе в комнату и лег на кровать. Меня знобило. Я прислушался, и мне показалось, что я уловил слабый бабушкин голос — значит, все уже было в порядке. Чтобы окончательно разделаться со своим страхом, я представил себе собственную смерть в Амброзии и безутешное горе моих амброзийских родителей. Это помогло, и, почти совсем успокоившись, я стал главой нашей семьи. К нам пришел страховой агент и принялся убеждать бабушку застраховаться на случай смерти, чтобы страховая компания оплатила ее похороны, но бабушка никак не могла сообразить, о чем он толкует. Я вернулся домой, как раз когда страховой агент начал издевательски запугивать бедную старушку. «Что вам угодно, сэр?» — холодно спросил я. — «Застраховать эту престарелую даму на случай смерти, — ответил он. — А вы кто такой?» — «Внук этой престарелой дамы, сэр. Я неплохо разбираюсь во всем, что касается похорон, и мы уж как-нибудь обойдемся без вашей помощи».
Тем временем внизу и правда послышались голоса — отец, как я понял, снова собрался в гараж. Значит, припадок наверняка кончился, иначе он не ушел бы. Я глубоко вздохнул и потихонечку запел. Потом слез с кровати, секунду постоял в нерешительности, а потом опустился на колени, выдвинул из-под кровати Уголовный сейф и по привычке проверил, на месте ли марка, хотя мне уже в общем-то было все равно, лазили предки в сейф или нет. Настало время для еще одного решения. Я открыл гардероб, вытащил оттуда большой лист оберточной бумаги и расстелил его на кровати. Тут меня снова охватило оцепенение, и, уставившись остекленевшим взглядом в стенку, я припомнил свой разговор с предками. Довспоминавшись до бабушкиных слов про мой старый плащ, я сообразил, что письмо от Бума все еще там, быстренько проскользнул в ванную и ощупал плащ-халатный карман. Письмо было на месте. Я вынул его и попытался вспомнить, как оно было сложено. Вспомнить мне не удалось, но это было и неважно, потому что, если бы предки его нашли, они обязательно заговорили бы о нем. Развернув и разгладив письмо, я сдул с него всякую мусорную пыль и прочитал еще раз.
Уважаемый господин Сайрус!
Большое спасибо за присланные Вами шутки и скетчи — некоторые из них я, видимо, смогу использовать и соответственно оплачу. Что касается до постоянной, как Вы написали, работы, то у меня всего один постоянный сотрудник — мой менеджер. Однако несколько парней регулярно присылают мне свои произведения, и я охотно поговорю с Вами более подробно, если Вы зайдете ко мне, очередной раз оказавшись в Лондоне.
Всего наилучшего и непременно продолжайте писать! Всегда Ваш
Бобби Бум.
Сейчас, когда отец пообещал выгнать меня из дома — пока еще, к счастью, только пообещал, — Бумово письмо казалось не слишком обнадеживающим. И тут снова, едва я подумал, что на самом деле окажусь в Лондоне, мне стало как-то не по себе. Я вернулся в комнату и вынул из бумажника скопленные деньги. У меня было девять фунтов. Перевернув над кроватью бумажник, я сосчитал вывалившуюся на оберточную бумагу мелочь — четырнадцать шиллингов и шестипенсовик. Стало быть, девять фунтов четырнадцать шиллингов шесть пенсов. Но я не знал, на сколько хватит этих денег, ведь мне предстояли расходы на дорогу, квартиру, еду и всякое такое прочее. Положив деньги обратно в бумажник, я принялся вынимать из Уголовного сейфа календари.
Три дюжины календарей легко уместились на большом буром листе оберточной бумаги. Можно было немного добавить. Я вытащил из сейфа еще дюжину, завернул всю пачку в бумагу, вынул из вазочки в форме слоника, стоящей на каминной полке, бечевку и обвязал бурый пакет. Он оказался очень тяжелым — гораздо тяжелей, чем можно было предположить. Закрыв Уголовный сейф и приклеив марку на новое место, я пошел с пакетом под мышкой вниз. В холле я прихватил еще патефонную пластинку, которую давно уже надо было отнести в магазин «Мелодия».
А потом боязливо приоткрыл дверь гостиной. Бабушка, с теплой шалью на плечах, сидела в своем кресле, прихлебывала из чашки жидкий чай и сдержанно постанывала, чтобы показать, как плохо она себя чувствует. Я облегченно вздохнул и прошел через гостиную в кухню, где. матушка замешивала тесто для пшеничных лепешек.
— Ну как она? — отрывисто спросил я матушку.
— Да так, — мученическим голосом сказала матушка. Я решил удовлетвориться этим ответом.
Кивком головы указав на мой пакет, матушка спросила:
— А это у тебя что?
— Разное, — ответил я. — Книги. Бумаги. Пластинки.
— И куда же ты с ними собрался?
— Известно, куда: выбрасывать, как он велел. — Теперь уже у меня прорезался мученический голос.
— Не глупи, — спокойно сказала матушка и занялась лепешками. Я вышел из дома. Дверь гаража была открыта — значит, отец уже опять был там.
Я зашагал по Вишневой аллее не к центру, а в сторону окраины — вышел на Садовую, потом на Огородную, миновал деревянные лачуги строителей и спустился по грязной дороге к Страхтонской пустоши.
Страхтонская пустошь — трущобная окраина города — была окаймлена со стороны Огородной несколькими красильнями, дальше виднелся городской стадион и общественная уборная, а центр пустоши был вымощен толстым слоем шлака, потому что окрестные жители, вычищая камины, вываливали его сюда с незапамятных времен; и здесь же устраивались у нас ежегодные Страхтонские ярмарки. Островки чахлой травы по краям пустоши были расчерчены черными загогулинами тропинок, протоптанных гуляющими здесь летом стариками, и одна из таких тропинок привела меня к серой группке уродливых, обреченных на снос каменных домишек. За домишками Страхтонская пустошь круто поднималась вверх, и в отдалении, чуть выше огородных участков, горбились вересковые холмы, фотографии которых неизменно публиковались в ежегоднике страхтонского муниципалитета. Я решил выбросить сверток с календарями в первую же глубокую яму.
Мне нравилось бродить здесь, особенно в ясную погоду; я мог разговаривать с самим собой вслух, а каменистые, круто вздымающиеся над пустошью холмы были для меня государственной границей Амброзии. Сегодня по-осеннему выцветшее послеполуденное солнце окрашивало мир в серо-стальные тона. Городские звуки слышались неясно и приглушенно, как будто я был отделен от них невидимой стеклянной стеной.
В Амброзии царил неустойчивый мир. Власть доктора Гадлера, реакционера и предателя, пошатнулась, но все еще была сильна; дело осложнялось тем, что ему удалось перехватить несколько моих писем Артуру, где говорилось о государственном перевороте. Лиз, которую мы собирались назначить на пост министра внутренних дел, исподволь освобождала заключенных.
Проходя мимо уродливых каменных домишек, я обратился с речью к амброзийскому президенту и одновременно подумал, не выбросить ли мне календари прямо здесь — потом их, правда, могли, чего доброго, найти, как мертвого младенца в коробке от башмаков.
— Господин президент, — сказал я, — Амброзии неведома истинная демократия. И все же в нашей стране живет свободолюбивый народ. — Я поднял вверх старую пластинку. — Знаете ли вы, что это такое, господин президент? Это избирательный бюллетень, и я не успокоюсь до тех пор, пока наш народ не изберет с помощью свободного голосования по-настоящему демократическое правительство.
Я уже выбрался из низины и стоял теперь на склоне крутого холма, чуть ниже огородных участков. Передо мной расстилалась пустошь, в отдалении виднелись трибуны стадиона с рекламой зеленых бобов, ряды домов на окраине города с пабами в конце каждого квартала и темное каменное здание полицейского участка,
— Мы перестроим… — звонко начал я, но, услышав шорох шагов позади, резко обернулся. И увидел советника Граббери: он брел, тяжело опираясь на шишковатую старомодную трость, по каменистой тропке, проложенной между огородными участками, и наверняка предавался самодовольным мечтам, как будто он Джордж Борроу или доктор Джонсон; глаза у Граббери слезились, и он поминутно вытирал их.
Мое сердце замерло, и я попытался сообразить, сколько ударов оно уже сегодня пропустило и сколько нужно таких перебоев, чтобы человек умер. Спрятаться мне было некуда — разве что прыгнуть с холма вниз, — да и все равно Граббери наверняка уже меня заметил. Я изобразил лицо любителя прогулок и крепче прихватил мой бумажный сверток, разросшийся, как мне почудилось, до невероятных размеров.
Шаркая подошвами, Граббери спустился ко мне по тропинке и приветственно поднял трость.
— Здрасссь, паренек, — сказал он своим низким, с йоркширскими интонациями голосом.
— Здрасссьте, господин советник, — по возможности басовито отозвался я.
— Солнышко-то пригревает, — объявил Граббери и без перехода осведомился: — А ты, стал'быть, футбол отсюда решил поглядеть?
— Да нет, стал'быть, просто гуляю, — по-всегдашнему полунасмешливо-полупочтительно ответил я. Мне было до посинения трудно не расхохотаться, потому что я представлял себе, как буду пересказывать наш диалог Артуру.
— А чего здесь-то? Алмазы из королевской короны? — Граббери ткнул тростью в мой сверток, но на лице у него при этом не отразилось ничего. Привычка шутить с каменным лицом завоевала ему в Городском совете славу остряка.
— Здесь-то? Здесь-то старые, стал'быть, пластинки, — ответил я и показал ему как доказательство одну пластинку. Он, слава богу, не спросил, куда я их несу.
— У вас-то оно, конечно, не то что у нас, — немедленно включился Граббери. Он столько раз давал интервью «Страхтонскому эху», что любую реплику собеседника воспринимал теперь как призыв к воспоминаниям и даже не добавлял «в мое время» или «лет сорок назад». — Не то что у нас, — повторил Граббери. — У нас-то, коль мы сами себе музыку не спроворим, никакой музыки не бывало. — Он принялся бубнить о старине на манер неожиданно ожившего граммофона. Я вовсе не был уверен, что он узнал меня. Погрузившись в свои воспоминания, он стал бормотать про мессию, и я не перебивал его, радостно предвкушая очередное Граббери-представление, где главная роль достанется не Артуру, а мне…
— Да, у вас, стал'быть, не то что у нас. — Ему пришлось умолкнуть, чтобы совершить обряд сморкания в огромный, словно цветная простыня, носовой платок. Отсморкавшись, он бросил на меня плутовской, как ему казалось, взгляд, после которого он обыкновенно спрашивал у своих знакомых, сколько ему, по их мнению, лет.
— Ну что, парень, а на Пустошь-то я здесь спущусь? Как по-твоему?
— Только ежели кувырком, господин советник, чтобы шею себе свернуть, — ляпнул я, к его очевидной досаде. Он угрюмо посмотрел на меня и проворчал:
— Кувырком не кувырком, а все же попробую. Потому как мне надо в полицейский участок.
Сердце у меня снова замерло — верней, не замерло, а на целых полминуты вообще перестало работать,
— А на кой вам, стал'быть, полицейский участок-то? — испуганно пролепетал я, но тут же с облегчением подумал, что заявлять на меня он пошел бы прямо в суд. Районный полицейский участок тут ни при чем, убеждал я себя. Да и не знает он, с кем сейчас разговаривает.
— А мы, стал'быть, сносим вон ту хреновину, — ухмыльнувшись, объявил Граббери и показал тростью на группу серых каменных лачуг. Я облегченно сглотнул застрявший у меня в горле ком, но мое сердце все еще, по-моему, мертво бездействовало.
— Неужто сносите? — с нарочитым недоверием спросил я.
— То-то и есть, что сносим, — сказал Граббери. — Все лачуги сносим, до одной. И уж муниципальных домов за три и шесть в неделю они у нас не получат, не-е-ет. Я сочувственно покивал головой и, видя, что он собирается мечтать дальше, переложил сверток из одной руки в другую.
— Куда ни глянь — везде все новое, — сказал Граббери. — Старого-то скоро и вовсе нигде не будет. И домов старых не будет. И улиц старых не будет. А трамвая уже и нет.
— Оно конечно, — вздохнувши вслед за ним, сказал я. — Ведь с автобусами оно уже вроде бы не то, верно? — Один хороший толчок, и он покатится кубарем вниз, так что от него и костей потом не соберешь, подумал я.
— И у нас по всему городу ездила конка, а до конки мы и вовсе пешком ходили. Теперь не то. Теперь и конки нет, и трамвая нет, и старых фабрик нет. Да и языка нашего старого тоже скоро не будет, — спокойно сказал Граббери. И тут вдруг мне стало ясно: он же прекрасно знает, что в разговорах с ним я только подделывался под его речь, а со своими приятелями разговаривал совсем не так. И еще я подумал, что он наверняка узнал меня, как только подошел. Ну вот, и чтобы он не сказал мне того, что, может быть, собирался сказать, я поспешно заговорил сам, с тоской посматривая на Страхтонскую пустошь:
— Прогресс, он вроде бы нам, конечно, не повредит, да надо бы, чтоб он шел у нас по-йоркширски, прогресс-то. — Я попытался построить свою речь так, чтобы у меня была возможность тут же заговорить по-обычному. Показав кивком головы на полицейский участок, я приычно затараторил: — Черно-сатанинские скопища наших старых фабрик меня не пугают, это часть нашего исторического ландшафта. Но когда на нашей земле вырастают, словно мрачные мухоморы, черно-сатанинские кафе, черно-сатанинские жилые кварталы и черно-сатанинские полицейские участки… — Тут я осекся, потому что мне никогда раньше не приходило в голову закончить эту мысль. Я покосился на Граббери, но он думал о чем-то своем, вперившись невидящим взглядом в распростертую перед нами пустошь.
— …Это совсем другое дело, — нескладно заключил я. Граббери молчал, и я поневоле заговорил снова, торопливо припоминая фразы, которыми громил в Амброзии Парня с холмов: — Но все же мы должны помнить, что речь идет не о чьей-нибудь слепой вере, а о реальной судьбе реального графства. Нам…
Тут я опять замолчал. У Граббери был вид старика, целиком погруженного в свои думы — если старики способны думать, — он явно не слышал ни единого моего слова. Порывом ветра взвихрило пыль у наших ног. Я опять собрался заговорить, вспомнив еще одну свою фразу о прогессе, но Граббери, все с тем же застывшим лицом, перебил меня:
— А это у тебя, стал'быть, календари?
Пошатнувшись, я чуть не сверзился с крутого холма на пустошь. Потом глянул на Граббери, надеясь посмеяться вместе с ним его дурацкой шутке — дескать, нам, остроумным парням, и повеселиться не грех, — но лицо у него было каменное.
— Это… оно конечно… это вы ловко меня поддели, господин советник, — растерянно пробормотал я.
— Не знаю, парень, кто тут кого поддел, — сказал Граббери. — Крабрак, стал'быть, рассказывает мне в телефон про это дело, а меня, знаешь, как обухом по голове. Ведь у этого парня соображения-то должно быть поболе, думаю. По его-то доле, чтоб долевлечь подоле. — Он как бы рассуждал сам с собой, вроде йоркширца-дворецкого в комедии, когда тот говорит что-нибудь понятное йоркширской публике в зале, а его хозяин-лондонец на сцене ничего не понимает. Он очень внимательно, как мне казалось, разглядывал мой сверток, и я со страхом подумал, что мудрые старики, может быть, в самом деле встречаются и что он такой мудрый старик и есть. Как тут было выкручиваться? Даже если он узнал во мне одного из трех работающих у него парней, ему все равно не понять, что я именно Сайрус. Мне пришло в голову назваться Артуром и сказать, что он нас перепутал.
Но я ничего не сказал.
— Так ты, стал'быть, трогаешься в Лондон? — заинтересованно спросил Граббери, как будто история с календарями сама собой вдруг уладилась к полному его удовольствию.
— Да меня уже пудыдобит от Страхтона, — с внезапно проснувшейся надеждой проговорил я и вспомнил, что это слово знает, кроме меня, только Артур: мы сами его придумали.
— Это как же так? — спросил Граббери.
— У меня все внутри задрохло и отклямчило, — объяснил я, забыв от страха, что эти два слова — тоже наше с Артуром изобретение.
— Ага. — Старик потыкал землю тростью и сказал еще раз: — Ага. — Я просто не представлял себе, о чем он сейчас думает. Ему, конечно, обязательно надо было объяснить, что я хотел сказать, но в голове у меня не находилось решительно никаких объяснений — ну никаких!
— И что ж мне с тобой, парень, делать? — раздумчиво протянул Граббери.
— Это вы, стал'быть, про что, господин советник? — суетливо спросил я.
Он остро глянул на меня, и я вдруг впервые ясно осознал, что никакой он не маразматик. Сердце у меня опять дало сбой.
— А ты, стал'быть, надо мной надсмехаешься, — сказал старик.
— Да что вы, господин советник, — мучительно побагровев, пробормотал я. Мне было стыдно и пакостно.
— Ты бы уж, стал'быть, говорил, как тебя мать с отцом в школе выучили, оно бы лучше было. Мы, конечно, необразованные, нам всего самим пришлось достигать, а посмешище над нами учинять все одно нехорошо. — Он разговаривал со мной осуждающе, но как-то очень мудро и по-доброму. Мне было до смерти стыдно.
— Ну да ладно, парень, будет с тебя, чего там особенно рассусоливать, мы ведь это все в конторе и так и эдак уже обговорили. И Крабрак думает, что мне бы надо с твоим отцом про тебя потолковать. Как по-твоему-то — надо?
— Не знаю, господин советник, — понурившись, промямлил я. Мне, конечно, очень хотелось попросить его, чтоб он не жаловался на меня отцу, но как-нибудь без унижения, без мольбы.
— Ладно, парень, очень-то не горюй, все еще, глядишь, обойдется, — утешил меня старик.
Я посмотрел на него со сконфуженной, благодарной полуулыбкой.
— Ну вот, так-то лучше, парень. Все еще, глядишь, обойдется, — повторил он. — Надо обмозговать, как тут быть. Я, брат, обмозгую. А покуда не горюй. — Он взял меня за руку. Я почему-то уже не чувствовал никакой неловкости. Мне даже удалось посмотреть ему прямо в глаза. — Так что не горюй, парень. Ты ведь еще молодой. Тебе еще жить да жить. Только надо посерьезней. Думать надо, парень.
Он отпустил мою руку. В его словах прозвучало что-то очень веское, только вот не понял я — что. Он засовывал свой громадный носовой платок в карман пальто, собираясь уходить. А мне хотелось, чтобы он остался. Нет, бояться я уже не боялся. Мне хотелось, чтобы он дал мне какой-нибудь мудрый, годный на все случаи жизни совет.
— С бабушкой у меня плохо, — неожиданно для себя брякнул я. Но он, видимо, не услышал.
— А я, знаешь, рад, парень, что мы потолковали, — невпопад отозвался он и заковылял вниз по склону холма, выбирая самый пологий спуск и как бы нащупывая себе путь блестящей на солнце тростью. Немного спустившись, он с трудом обернулся и добавил: — Так что ты думай, парень. А бояться не бойся.
Я глядел ему вслед, и до меня постепенно доходило, что мне в первый раз захотелось перед кем-то исповедаться и что ему я, может быть, смог бы все объяснить, все-все. Я едва удержался, чтобы не окликнуть его.
Я стоял на склоне, пока он не спустился вниз, к полосе чахлой травы, росшей по краю пустоши. Мне хотелось подольше сохранить в душе то, что я сейчас чувствовал. А чувствовал я покой и грусть. Страх не возвращался. Повернувшись, я зашагал вверх по крутой каменистой тропе, петляющей между огородными участками, к вересковым зарослям; и даже присыпая торфянистой землей могилку с календарями, я по-прежнему ощущал счастливый покой и грусть.
Глава седьмая
Ведьма уже выуживала из сумочки апельсин, но мне почему-то казалось, что впереди меня ожидает необыкновенно счастливая жизнь, и омрачить мое настроение было сегодня трудно. Мы ехали на верхотуре семнадцатого автобуса к муниципальному кладбищу. Я тихонько напевал, перебирая в кармане любовные пилюли. Ведьма зудела о наглых типах в плащах, пристававших к ней, пока она ждала меня в проезде Святого Ботольфа. Они, слава богу, отбили у нее желание пялиться на магазинные витрины. Мы уже проехали полдороги, а она все возмущалась.
— … Ужас, до чего противные!
— Да забудь ты про них, — пробормотал я. — Прими-ка вот лучше возбуждающую пилюлечку. — Я протянул ей на ладони две черные бусины. — Это мы так называем тонизирующие таблетки, — сообразив, что ляпнул не то, торопливо добавил я. — Они возбуждают в человеке скрытую энергию.
Ведьма плотоядно ковыряла большим пальцем полуочищенный апельсин. Автобус как раз проезжал мимо рекламных щитов.
— Вон, вон, гляди! — дернув ее за рукав и ткнув пальцем в стекло, возбужденно воскликнул я. — Эх, черт, опоздала! Там была реклама этих самых таблеток. «Возбуждает скрытую энергию», так и написано. Вот мы и прозвали их возбуждающие пилюли. Их всегда принимают по две.
Ведьма отправила в рот дольку апельсина и окинула меня снисходительным взглядом.
— О чем это наш глупышик толкует? — прощебетала она. Честно глядя на нее чистыми глазами, я протянул ей с простодушной улыбкой две черные пилюли.
— Очень полезно с фруктами, дорогая.
— Чем бы дитя ни тешилось… — бурно, с насмешливой покорностью вздохнув, сказала Ведьма, сунула в рот пилюли и заела их апельсиновой долькой. — Доволен, глупыш?
Я удовлетворенно откинулся на спинку сиденья и закурил сигарету.
— Пятая сегодня.
— Значит, последняя, — предупредила меня Ведьма.
Жизнь казалась мне лучезарной. Мы вышли из автобуса у кладбищенских ворот и зашагали по красной гравийной аллее мимо светлых надгробий. Иногда, в таком вот, как сейчас, радостно-приподнятом настроении, я понимал, почему Ведьму очаровало это кладбище. Порой оно очаровывало и меня — просторное, опрятное, уютно-спокойное, словно университетский дворик в американском музыкальном фильме о жизни студентов. После древних, с темными разводами надгробных памятников у церкви святого Ботольфа ровные ряды схожих между собой могил и аккуратно овальные камушки чистых аллеек на муниципальном кладбище выглядели очень привлекательно. Казалось, все здешние покойники приняли какую-то сугубо современную, одинаково гигиеническую смерть.
Мы свернули на травянистую тропку между рядами могил и пошли напрямик к нашей скамейке с навесом у краснокирпичной часовни в конце длинной подъездной аллеи. Ведьма привычно шастала от могилы к могиле, восхищаясь ангелочками и яркими осенними цветами; всякий раз, увидев могильный цветник, она восклицала: «Посмотри, милый, правда прелестно?», а иногда, благоговейно склонившись к надгробью, читала вслух стишок, выбитый золотыми печатными буквами:
Папа и мама, покойтесь в могиле! При вас мы на диво счастливыми были, Но в горькой разлуке нам радостно знать, Что теперь вы на небе и вместе опять.Я благодушно слушал Ведьмины восклицания и могильные стишки, представляя себе огромные часы с минутной стрелкой, которая перепрыгивала сразу на четверть круга. Наученный дневным опытом, я решил не приступать к Ведьме по крайней мере полчаса, и она прочитала мне целую антологию кладбищенских стишков, пока мы неторопливо пробирались к нашей уединенной скамейке возле псевдостаринной погребальной часовни.
Как только мы уселись в затененном уголке под купольным навесом, где на скамейке были вырезаны наши инициалы, я крепко прижал Ведьму к своей груди — это был первый шаг.
— Тебе хорошо, милая?
— Умгум.
Я поцеловал ее. Она вяло ответила на мой поцелуй.
— Барбара! Скажи мне, родная, что ты сейчас чувствуешь?
— Радость, глупыш. — Она как кошечка приютилась у моего плеча.
— А ты… Тебе не хочется меня обнять?
Она пробормотала что-то невразумительное.
Я поглаживал Ведьмин рукав, дожидаясь, когда в ней проснется страсть. Потом снова попытался крепко поцеловать ее, но она причмокивала губами, награждая меня мелкими поцелуйчиками, так что мне никак не удавался полновесно-долгий поцелуй.
— Хочешь еще одну тонизирующую таблеточку?
— Да нет, милый, спасибо. Мне от них почему-то хочется спать.
Я схватил ее за руки. Она сразу же предусмотрительно отстранилась.
— Барбара! — умоляюще воскликнул я. — Ну Барбара!
— Не надо опять сердиться, милый, — просительно сказала она, в испуге прижав к себе сумочку с апельсинами.
— Да я не сержусь, мне просто грустно. Ты ведь заставляешь меня мучиться, Барбара.
— Бедненький Билли! А почему я заставляю тебя мучиться?
— Да как же, милая! Думаешь, человеку легко подавлять свои чувства? У людей даже бывают нервные срывы, когда у них… когда они… — Я вдруг понял, что могу закончить эту фразу только погано-штамповским «живут нерегулярно», и решил не продолжать.
— Я знаю, про что ты говоришь, милый, — с мягкой безнадежностью, словно бы успокаивая агрессивного маньяка, сказала Ведьма. — Но мы должны подождать. Должны, милый! А то потом нам обоим будет худо. — Но мне уже стало худо. Вернее, мне вдруг стало наплевать, как у нас все это сегодня кончится, и я только одного не понимал — зачем я сижу здесь на кладбище с этой каменной телкой.
— Ладно, неважно, милая, — сказал я и, привалившись с закрытыми глазами к жесткой спинке деревянной скамьи, прикинул, скоро ли сумею освободиться. Мне еще надо было как-то отвадить Ведьму от «Рокси», чтобы она не столкнулась там с Ритой, и сейчас настало самое время подумать об этом. В голове у меня начал созревать примерный план: я договорюсь с Ведьмой встретиться возле «Одеона», не явлюсь и, когда она придет к нам на воскресный чай, объясню ей, что мы просто плохо договорились… Но тут я мысленно услышал предостерегающий сигнал — Ведьму нельзя было допускать к нам на чай. Слова СВ. насчет капитана засветились в моем мозгу тревожно-красным светом. Резко выпрямившись, я повернулся к Ведьме.
— Барбара!
— Умгум, родной, — сонно откликнулась она.
— Барбара, милая, ты собираешься к нам на чай?
Она тоже села ровней и пристально посмотрела мне в глаза, заставив меня отвести взгляд.
— Конечно, милый. Потому-то мне и хотелось, чтобы ты принес мое обручальное колечко.
— Прекрасно.
Я сглотнул слюну. Вообще-то разговор насчет капитана был у меня отрепетирован еще несколько дней назад. Пристально глядя на каменные плиты и поскребывая носком ботинка трещинку под ногой, я попытался припомнить свою роль.
— Но мне надо кое-что тебе сказать, — негромко добавил я.
Ведьма промолчала и, как всегда в минуты самообороны, настороженно замерла.
— Помнишь, ты говорила, что не разлюбишь меня, даже если я стану преступником?
— Ну?
В голосе у нее — лед. А мы как-то провели с ней жутко муторный вечер, когда она заставила меня поклясться, что я буду любить ее при любых обстоятельствах — и дряхлую, и увечную, и неверную (мысль о Ведьминых изменах очень меня позабавила), и уголовно-преступную. Ну, а мне удалось вырвать у нее обещание, что, даже если я пристрелю ее предков, она все равно, как ей кажется, будет меня любить.
— А ты не разлюбишь меня после того, что я скажу? Ведьма попыталась упрятаться в скорлупу отчужденности.
— Видишь ли… ну, в общем, ты ведь знаешь, что у меня здорово затейливое воображение, правда? — спросил я.
— Да ведь так и надо, раз ты собираешься писать пьески, — рассудительно сказала Ведьма. — Разве нет? — Иногда я готов был пристрелить саму Ведьму вместо ее предков.
— Не собираюсь, а пишу, — с нажимом сказал я. — Ну и бывает, что мне… что я иду вроде как бы на поводу у своего воображения, ты же знаешь.
Ведьма ничего не ответила и стала подозрительно громко сопеть, дыша через нос.
— Видишь ли, Барбара, если мы хотим… если у нас будет общая жизнь и коттеджик, и малютки Барбара с Билли, и Родничок Радости, и всякое такое прочее, то нам надо бы кое-что прояснить… — Я чуть было не добавил «и обеспечить».
— Ты это про что?
На репетиции у меня было задумано честно и откровенно посмотреть ей в глаза. Но я не смог сделать по задуманному, так что пришлось мне положиться на свой откровенный и честный профиль.
— Да про то, что я иногда тебе говорил.
— Врал, что ли? — спросила Ведьма со своей разрушающей любую беседу прямолинейностью.
— Ну, не то чтобы врал, а немножко как бы преувеличивал. Бывает, пишешь пьесу… — Тут мне пришло в голову, что можно врезать ей по сусалам и уйти с кладбища, чтоб больше никогда ее не видеть. Но я сдержался. — Ну, например, про это дело насчет моего отца. Вроде он морской капитан.
В минуту слабости, или, точнее, в непрестанно повторявшиеся у меня минуты слабости, я рассказал Ведьме, что во время войны мой отец был капитаном эсминца и помог потопить немецкий крейсер «Граф Шпее», а потом попал в плен (его, кстати, первого из британских моряков захватила в плен подводная лодка) и провел три года в лагере для военнопленных. На войне он был ранен в колено, и рана до сих пор иногда давала о себе знать.
— Так он, значит, вовсе не капитан? — спросила Ведьма, и меня, признаться, поразило, что она ничуть не удивилась.
— Он даже и моряком не был, — сказал я.
— А в плену? В плену-то он хоть был?
— И в плену не был.
Ведьма дернула головой, и на глазах у нее послушно выступили слезы. Она, конечно, отрепетировала эту сценку перед зеркалом. Фокус заключался в том, чтобы мотнуть головой — дескать, я отворачиваюсь, — но не отвернуться. Постаравшись отыскать самую обыденную реплику, я спросил:
— Ты сердишься?
Ведьма выдержала многозначительную, секунд в тридцать, паузу и сказала:
— Да нет, не сержусь. Мне просто грустно. Получается, что ты стыдишься своего отца.
— Нисколечко не стыжусь! — гордо выпрямившись, воскликнул я. — Ну вот нисколечко!
— А зачем же ты тогда говорил, что он был капитаном? Кем он у тебя был-то?
«Пацифистом!» — чуть было не выкрикнул я, чтобы начать все сначала, но сумел удержаться и сказал: — Да никем он у меня не был. Его признали негодным к военной службе. Из-за больного колена.
— Это про которое ты говорил, что оно прострелено, да?
— Во-во, — обретая воинственный тон, подтвердил я. — И попугая у нас нет.
Я частенько рассказывал ей про нашего желтого попугайчика Роджера. Вечно он откалывал разные смешные номера, а однажды удрал из клетки и чуть не попал в лапы к Саре, нашей полосатой кошке.
— И кошки нет.
Ведьма напоказуху переставляла туда-сюда свою сумочку и теребила пуговицы пальто, как будто она собирается уходить.
— А еще про что ты мне врал?
— Про сестру. — Я рассказывал Ведьме о своей выдуманной сестре примерно то же, что Артуровой матери.
— Неужто у тебя и сестры нет?
— Она умерла, — ляпнул я, не успев сдержаться. Мне пришлось поспешно определить, что сестра умерла от туберкулеза. — И если ты все же надумаешь завтра к нам прийти, то учти, что предки никогда про нее не говорят.
— Да я уж теперь и не знаю, стоит ли мне завтра к вам приходить, — сказала Ведьма. Она демонстративно пожала плечами. — Я всегда ненавидела вранье.
Тут мне в голову пришла блестящая мысль. У меня в кармане все еще лежал серебряный крестик, вывалившийся из ее сумочки на кладбище святого Ботольфа, — тот самый крестик, который она якобы вернула своему двоюродному братцу.
— Так уж и всегда? — спросил я, решив, однако, не показывать ей сейчас крестик, даром что мне очень хотелось победно потрясти им у нее перед носом. Вместо этого я веско сказал: — Послушай, Барбара, у каждого из нас есть свои недостатки. У каждого, Барбара.
— Я-то никогда тебе не вру, — возразила Ведьма,
— Никогда, Барбара?
— Никогда!
— А как насчет крестика, который ты собиралась отдать своему братцу?
— Я и отдала, — сказала Ведьма. Мне было очень приятно, когда у нее на лице появилось мое блудливо-невинное выражение.
— Отдала? — многозначительно переспросил я. Она глянула на свою сумочку и потом честно посмотрела мне в глаза.
— Говорю тебе, отдала — значит, отдала!
— Ну хорошо, Барбара, — сказал я и встал — дескать, как бы там ни было, а я умываю руки. И уже вполне обыденным голосом: — Мне пора, у меня есть кой-какие дела. Ты, конечно, можешь теперь не поверить, но мне предложили работу в Лондоне. Ну, и смотря по тому, как ты к этому отнесешься, я уж буду решать, соглашаться мне или нет.
Ведьма вскочила, пытаясь не показать, что она ошарашена. Мне захотелось ухватить ее за лацканы пальто и хрипловато процедить: «Ну-ну, красотуля, я ведь знаю все эти штучки, так что брось-ка ты выдрючиваться».
— Мне уж теперь непонятно, где у тебя правда, а где вранье, — уныло проговорила Ведьма. Мы зашагали по гравийной аллее к воротам кладбища, и она всю дорогу мучительно старалась меня не замечать — смотрела только вперед. Когда мы проходили мимо последней могилы, я с горечью сказал:
— Знаешь, какую мне напишут эпитафию? — Она не отозвалась, и я не стал продолжать. Тогда ей поневоле пришлось спросить:
— Какую?
— Здесь лежит сочинитель Сайрус, — ответил я. Мой голос прозвучал достаточно горестно, потому что она порывисто схватила меня за руку и воскликнула:
— Не надо себя казнить!
У ворот кладбища она отступила на полшага, испытующе посмотрела мне в глаза и, все еще держа меня за руку, сказала:
— Билли!
— Что, милая?
— Пообещай мне кое-что, а?
— Тебе хочется, чтоб я пообещал никогда больше не сочинять? — Ведьма кивнула. — Я никогда больше не буду сочинять, — сказал я,
Держась за руки, мы вышли на улицу, и тут я сразу же увидел Артурову мамашу — она шла с букетиком цветов нам навстречу, и прятаться от нее было уже поздно.
— Помалкивай, что бы я ни сказал, потом все объясню, — бросил я Ведьме, почти не разжимая губ. А когда Артурова мамаша подошла к нам, широко улыбнулся и сказал:
— Здравствуйте, миссис Крэбтри. Вы, наверное, не знакомы с моей сестрой. Познакомься, Шила, это миссис Крэбтри.
У Артуровой мамаши сделалось такое лицо, как будто я ее обругал, и мне стало ясно, что моя сообразительность меня подвела. А она возмущенно воскликнула:
— Ты бы уж выбрал в этот раз кого-нибудь другого для своих представлений! Я же прекрасно знаю Барбару!
Ведьма окинула меня показушно сожалеющим взглядом.
— У него немножко странное чувство юмора, миссис Крэбтри, — тоном терпеливой сестры милосердия объяснила она.
— А вот и мой трамвай! — торопливо пробормотал я, показывая на семнадцатый автобус. Он медленно отъезжал от остановки. Я помчался к нему, взлетел наверх и мысленно вытащил из кармана амброзийский пистолет.
Глава восьмая
— Это что — тоже мне? — недоверчиво спросила Рита.
— Ограбил, знаешь ли, банк, — с полным ртом прошамкал я. Верней, сначала-то я просто молча кивнул, потому что откусил полбутерброда с яйцом и говорить не мог — только жевал да пучил на Риту слезящиеся глаза. Было уже пять часов, а я как позавтракал, так больше ни разу и не ел.
— И теперь, значит, оделяешь бедных? — благодарно спросила Рита. Ее очень обрадовал крестик, больше даже, чем обручальное кольцо. Закинув руки за голову, она защелкнула под своими платиново-блондинистыми волосами замочек тонкой серебряной цепочки.
— Крестовая дама при липовом короле, — вполголоса сказал Артур.
— Ишь ты! Глянешь на него — спит, а отвернешься— глядит, — напоказ удивилась Рита, одарив Артура ухмылкой преувеличенного презрения. А потом, решив, что откровенно благодарные слова про бедных слишком принизили ее, она подозрительно посмотрела на крестик и спросила: — Так что мне с этой штуковинкой — в церковь теперь идти?
— Ясное дело, — сказал Артур. — Чтобы дать обет безбрачия.
— А ну-ка, нож-молодец, убирайся в свой погребец! — скомандовала Артуру Рита и плавно подняла мою пустую тарелку — этот плавный жест обозначал у нее благосклонность. — Можешь принести мне завтра меховую шубу, — добродушно сказала она и пошла к стойке, оставив нас одних за шатким столиком в укромном уголке полупустого кафе, возле большого, деловито стрекочущего холодильника.
— Секс-фея Страхтона, — провожая ее взглядом, сказал Артур.
Ко мне вернулось жизнерадостное, с истерической искоркой настроение.
— И се служанка моих желаний, — торжественно подняв правую руку, возгласил я. Артур, конечно же, сразу подхватил мой библейский зачин.
— И глас воззвал, — зарокотал он, — кто сия дева, что была с тобой на рассвете?
— И, препоясав чресла, Моисей сказал, — продолжил я, — истинно, истинно говорю тебе, то была не дева, а моя супруга земная.
— И было так.
— И пребудет до пятого и шестого колена. Мы уже допили кофе и теперь стояли у столика, посылая Рите воздушные поцелуи.
— Смотри, не твори, чего я не творю! — заразившись моим настроением, воскликнула она.
Мы оставили стеклянную дверь кафе широко распахнутой и, не обращая внимания на вопли пожирателей пирожков «Дверь! Прикройте дверь!», зашагали через Торфяной проспект к городскому Пассажу.
Встретив Артура сразу после накладки с моей выдуманной сестрой, я ощутил смутное чувство вины. Мне хотелось как-нибудь намекнуть ему об этом происшествии, но теперь я был рад, что удержался.
Мы вошли в пассаж, выкрикивая: «Пресса! Пресса — бог наших дней! Завтра засохнет — и черт бы с ней!», так что наши голоса множились гулким эхом под сводчатой стеклянной крышей. Смиренно шаркающие друг за дружкой покупательницы с авоськами и кульками пирожных в руках провожали нас опасливыми взглядами.
— Пресса! Пресса! — выкрикнул я, размахивая воображаемой газетой, и с удивлением обнаружил, что это старая патефонная пластинка, которую я унес из дому несколько часов назад.
— Пойдем-ка урвем чего-нибудь у Мория, — предложил я Артуру.
Морий, маленький и юркий человечек, похожий на армянина, был хозяином магазинчика «Мелодия», который он открыл недавно в Пассаже, на втором этаже. Морий сотрудничал с организацией «Помощь молодым», никогда не упускал случая показать свою терпимость и уважительное, как будто все здесь были взрослыми, отношение к посетителям. Когда нам было нечего делать, мы ходили в «Мелодию», чтобы подразнить Мория. «Глянь-ка, Морий, у этой пластинки в середине дыра» — вот одна из наших дежурных шуточек.
— Хорошо бы нагреть его на новую пластинку, — сказал Артур. Я открыл дверь ногой, и мы ввалились внутрь.
По субботам, особенно вечерами, здесь всегда околачивалась толпа узкобрючных юнцов и цыганистых девиц. Они же шлялись каждую субботу и в «Рокси», но на улицах Страхтона я их почему-то никогда не встречал, как будто за порогом этих двух заведений они становились невидимками. Рядом с ними я чувствовал себя до жути старомодным, меня стеснял мой заляпанный пятнами плащ и мятый костюм, так что мне приходилось изображать интеллектуала. Я скособочился, вздернул одно плечо выше другого и проникся уверенностью, что под мышкой у меня пластинка с классической музыкой. Какой-то охламон из кискисных завсегдатаев, пританцовывающий посредине зала, пробормотал: «Стервятники прилетели», — но больше никто не обратил на нас внимания.
Посетив «Мелодию», Парень с холмов едва ли сумел бы написать хвалебную статью про йоркширский прогресс. Поначалу это был заурядно-современный магазин грампластинок, но благодаря терпимости Мория (живи и жить давай другим) он быстренько превратился в современно разгромленный сарай — оранжевые стены были обшарпаны, конические подставки для пепельниц похилились, их ярко-желтые бока чернели пятнами от загашенных сигарет, а большинство пепельниц посетители просто поразбивали; витрины с пластинками, подвешенные на тросах, перекосились и грозили обвалиться кому-нибудь на голову, так что пришлось подставить под них старые ящики, а стекло одной из витрин рассекала угловато-извилистая трещина.
Девицы в клетчатых брюках роились у кабинок с проигрывателями и, заходя внутрь, оставляли двери небрежно открытыми, так что зал гудел какофонией совершенно несовместимых мелодий. Парень лет шестнадцати в короткой кожаной куртке с молнией, облокотившись на прилавок, вертел в руках целлофановый футляр от пластинки, а низкорослый Морий в красных подтяжках пытался перекричать многоголосый гул:
— Вы не против?… Так-то оно так… Но вы не против?
Артур уверенно заскользил среди толпящихся посетителей, словно танцор, — да иначе-то здесь и двигаться, пожалуй, было невозможно. Он сразу же нашел приятелей — джазистов из «Рокси» — и скрылся с ними в дальнем углу. Я одиноко стоял у входа, не зная, чем бы мне заняться. Удивительное дело — Артур знал тут чуть ли не всех, а я почти никого. В Амброзии все было, разумеется, наоборот.
Услышав знакомо скрипучий голос, я оглянулся и увидел Штампа с долгоиграющей пластинкой в руках. «Эй, Морий, что-то маленькие у тебя гиганты», — в тысячный, наверно, раз вякнул он свою идиотскую шутку. Штамп вечно ошивался в «Мелодии». Морий всячески помогал страхтонскому Юношескому клубу, а Штамп изобретал и безграмотно писал для клуба разные объявления, «Эй, Морий, — зудел он, — что-то маленькие у тебя гиганты!» Я хлопнул его по плечу, так что он чуть не выронил пластинку.
— Это же черный карлик, а не гигант, — сказал я.
— Так тебя, стал'быть, не посадили? — с глумливой ухмылкой спросил Штамп.
— Да нет, решили оставить место для тебя, — ответил я. Мне было приятно, что у меня нашелся здесь хоть один приятель, пусть даже Штамп. Отвернувшись от него, я поискал глазами кого-нибудь еще, но больше ни одного знакомого не заметил.
— Послушай-ка, — сказал мне в спину Штамп, — я на твоем месте не пошел бы в понедельник на работу.
— Ясное дело, — отозвался я, — понедельник — день бездельник, только таким, как ты, на работе и место. Ну да ладно, выкладывай, чего там тебе удалось разнюхать.
Штамп злорадно ухмыльнулся. Я понял, что он и правда узнал какую-то неприятную для меня новость.
— Я тут забежал в контору, — сказал он, — и смотрю, а Крабрак проверяет твою Почтовую книгу.
— Да пошел ты вместе с Крабраком… — начал я — и мне опять стало тошно. — Он что-нибудь говорил? — Слава богу, у меня получился беспечный тон.
— Ты это про кого?
— Про Крабрака, балбес. Говорил он что-нибудь насчет моей Почтовой книги?
— А черт его знает. Так, бормотал чего-то себе под нос. Сидит, обложился твоими почтовыми квитанциями, считает деньги и бормочет. Он, видать, все подсчитал. Сколько ты растратил-то?
— Нисколько я не растратил. — Трое или четверо штамповских приятелей подошли к нам и с интересом пялились на меня. — Просто не записал кой-чего в Почтовую книгу, — сказал я Штампу.
— Малолетние преступники, они всегда так поют, — отозвался Штамп. Он повернулся к своим приятелям, подхихикнул и добавил, оглянувшись через плечо: — Твоя краля наверху.
Меня пронизала дрожь, я сразу понял, о ком он говорит, — так же, как и утром, когда он сказал, что встретил ее на улице. Я невольно посмотрел вверх, где у Мория был отдел классической музыки, и мигом забыл про Крабрака с его подсчетами, так что пакостная штамповская новость не успела испортить мне настроение. Странно осоловелый, как будто он под дурью, приятель Штампа в полосатом итальянском костюме пробормотал: «Топчешь курочку-то, а?» — и я, пробравшись к лестнице, стал неторопливо подниматься наверх, словно бы медленно выныривая из мутного водоворота взбесившейся музыки в полузабытый мир беспричинно радостных надежд со свежей, бодрящей и сладко успокаивающей атмосферой. Мне показалось, что я ощутил удивительно приятный аромат, хотя этого не могло, конечно, быть. В голове у меня уже рождались слова: Я даже помню твой запах, но мою мысленную речь перебил гнусный голос Штампа: «Эй, Морий, а диск-то с дыркой!» Это был прощальный привет нижнего зала.
Пустующий по субботам отдел классической музыки напоминал публичную библиотеку: он был просторный, светлый, тихий и уютный. На полу здесь лежал толстый ковер, чистое стекло прилавка опрятно поблескивало, а дверцы серых кабинок были плотно закрыты. Стоя за прилавком, Лиз показывала альбом с пластинками какому-то дядьке лет сорока в черном пальто. Они негромко разговаривали, и голос Лиз был по-всегдашнему спокойно-звучным. Я сразу понял, что она заметила меня, но, так же как и я, оттягивала мгновение встречи.
А я, словно бы перед зеркалом, торопливо примерял разные выражения лица. Мне хотелось выглядеть радостно ошеломленным, потому что так оно, в сущности, и было, но при этом я старался остаться самим собой, старался ощутить свои собственные, подлинные чувства, отделив их от той беззаботно-успокоительной атмосферы, которая всегда окружала Лиз. И вот я понял, что меня охватывает неодолимо песенное настроение.
Чернопальтовый дядька взял у Лиз альбом с пластинками и, скрывшись в кабинке, закрыл за собой дверь.
Я медленно подошел к прилавку.
— Привет, Лиз.
— Привет, Билли.
Я заговорил хрипловато-низким, как мне казалось, голосом, обозначающим конец долгой разлуки или что-то в этом роде, но ответ Лиз прозвучал простодушно и радостно, как будто она была искренне счастлива, что опять увидела меня, и не хотела этого скрывать.
Мы облегченно улыбнулись друг другу, словно люди, опять встретившиеся в разъединившей их ненадолго толпе. На Лиз была все та же старая одежда — зеленая замшевая куртка и мятая черная юбка. Но крахмальная белая блузка очень шла к ее пепельным волосам, круглому лицу, ясной улыбке и почти вслух смеющимся глазам.
— Давненько мы не виделись, — проговорил я, намеренно выбрав речевой штамп, чтобы вложить в него понятный только ей смысл.
Она со счастливой улыбкой покачала головой, словно бы вспоминая, сколько времени ее не было.
— Ну да, больше месяца. Пять недель.
— Давай считать, что недели показались мне годами.
Лиз плутовато улыбнулась. Никто из девчонок не умел так улыбаться — только Лиз.
— Хорошо-то как, правда? — сказала она.
— Я даже помню твой запах, — пробормотал я.
— Благодарю вас, сэр, вы очень любезны, — с ироническим поклоном отозвалась Лиз.
— Когда ты вернулась?
— Вчера.
— Спасибо, что сразу позвонила, — сказал я.
Она сморщила нос, но вовсе не так, как Ведьма, — у нее это получилось простодушно и по-дружески. Она никогда не извинялась.
— Да ведь мы все равно встретились бы сегодня вечером в «Рокси», — сказала Лиз. — Ты придешь?
Туда сегодня весь город придет, подумалось мне. А впрочем… Я быстренько прикинул. Ведьме, после сегодняшнего случая, прямая дорога в монастырь или к черту на рога; Рита, если я ее надую, ни за что не станет сама покупать билет в «Рокси» и тоже куда-нибудь сгинет. Да и не боялся я их, потому что запросто мог во всем признаться Лиз… если бы захотел.
— Приду, — сказал я. — А все-таки жаль, что ты не позвонила.
— Да у меня времени не было! — Она опять плутовато улыбнулась, как бы советуя мне не верить ее словам и ни о чем не беспокоиться, потому что все это не имеет никакого значения. — Спроси меня лучше, что я тут делаю.
— Так что же ты тут делаешь?
— Помогаю целый день Морию, а то он совсем зашился. — Помогать целый день Морию у нее время было, а позвонить мне не было! Но все это и правда не имело никакого значения. Только вот откуда она знала Мория? Это была одна из ее загадок — она, похоже, всех у нас в Страхтоне знала, и я, хоть убей меня, не мог понять, как ей это удается.
— Ну, а у вас что здесь происходит? — лучась веселой радостью, спросила она. — Как твои скетчи? Как песни? Как Артур? — Только она одна из всех моих знакомых девчонок по-настоящему интересовалась моими делами и говорила о них так, будто они действительно что-то для нее значат. Мы принялись болтать, смеясь, шутя, перебивая друг друга и понимающе улыбаясь, как если бы нам вдруг разом открылись все ехидные тайны мира. Мы трепались до тех пор, пока дядька-покупатель, про которого мы совсем забыли, не вылез из кабинки. Он заплатил за альбом с пластинками и ушел. Скоро и магазин должен был закрыться.
— А теперь спроси меня, где я все это время была, — предложила Лиз.
— Нет, Лиз, — твердо и без улыбки сказал я. Этот разговор возникал у нас не впервые, и я давно уже поклялся себе, что никогда не стану ее расспрашивать — может, из уважения к ней, может, от какого-то смутного страха, а может, это просто стало навязчивой идеей, как отращивание ногтя, который вырос у меня до четверти дюйма.
— А вот открытку ты все же могла мне прислать, — сказал я.
— В следующий раз пришлю, — сказала Лиз. — Если только он будет, следующий раз, — мягко добавила она.
Спускаясь по лестнице, я прощально помахал ей. Толпа внизу сильно поредела; пол был замусорен пустыми сигаретными пачками, на прилавке лежали груды пластинок. Артур уже ушел, его приятели-джазисты тоже. Рассосалась и компания Штампа, но сам он все еще был здесь — трепался о чем-то с Морием.
Снова ощутив под мышкой старую патефонную пластинку, я вспомнил, зачем я сюда отправился. Мне, правда, не хотелось приступать к Морию без Артура, но можно было разыграть этот спектакль и перед Штампом — все-таки зритель.
— Послушайте, Морий, — сказал я, — мне хотелось бы вернуть вам эту пластинку.
— Это еще почему? — с необычной для него угрюмостью спросил он.
— Да она играет только одну мелодию. Морий со звоном открыл ящик кассы.
— Я давно уже к вам присматриваюсь, — враждебно проговорил он. — Мне уже про вас кое-что сообщали. — Облокотившийся на прилавок Штамп делал вид, что он не понимает, о чем идет речь. — Ходят тут всякие, как будто они хозяева, — добавил Морий. — Надо бы узнать, где вы деньги-то берете!
Морий всегда обслюнявливался, когда разговаривал. Он энергично слизал с подбородка тонкую струйку слюны.
— Ну ничего, мы вас отсюда выметем, — пообещал он. — Это ведь все-таки магазин, а не базар. Нате, получайте ваши деньги и выметайтесь!
Он выложил несколько монет на поцарапанное стекло прилавка. Я собрал монеты, с трудом подцепляя их ногтем. Штамп хихикнул.
— И больше чтоб я вас тут не видел, — заключил Морий.
Я ему не ответил. Беззаботно посвистывая, я спустился на первый этаж и зашагал к выходу из пассажа.
Глава девятая
Часа, наверно, полтора я бесцельно слонялся по городу, наблюдая, как возле кинотеатров образуются медлительные очереди — субботний вечер вступал в свои права. У прохожих был такой вид, будто они спешат куда-то по делу. Иногда я застывал рядом с какой-нибудь остановкой и минут по пятнадцать глядел, как люди выходят из автобусов и деловито скрываются в сумеречной полутьме улиц. Поразительно, но факт: каждому из них было вполне достаточно оставаться самим собой, ни о чем другом они явно даже не помышляли.
Около половины восьмого я и сам влез в автобус, который шел к «Новому пабу», где мне предстояло выступать. Свои выступления там я обыкновенно предварял кратким путешествием в Амброзию, откуда возвращался всемирно прославленным комиком, чтобы дать своему родному городу благотворительный концерт. Но сегодня обошлось без этого. Когда Лиз была в Страхтоне, мне удавалось выключаться из жизни от свидания к свиданию, и все события между ними происходили как бы вовсе не со мной.
Но вот я вышел из автобуса в Сабосвинцовом переулке перед зданием «Нового паба» и остался наедине со своей собственной, обреченно катящейся по инерции судьбой.
«Новый паб» — громадный питейный барак — построили, чтобы обслуживать население Вишневой аллеи и окрестных переулков. Но официальное-то название у него было совсем другое. Если верить неоновой, похожей на гостиничную, вывеске, мерцающей в середине пустой автомобильной стоянки, пабу изначально присвоили новомодное, вопрошающее, так сказать, название «Не ждали?». Парень с холмов неоднократно — и каждый раз по-дурацки — объяснял в своих воскресных обзорах, как возникло это название, но местные завсегдатаи упорно называли новый паб «Новым пабом».
Переступив порог, посетитель, попадал в просторный холл, облицованный пластиковой, под каучук, плиткой, где всегда свирепствовали сквозняки; в этом холле не было стульев, и дети, с неизменными пакетиками хрустящего картофеля в руках, ждали своих мамаш, сидя на корточках. Две двери матового стекла с выпуклыми эмблемами Страхтонского пивоваренного завода вели одна в Бар, другая в Салон. Оттуда можно было пройти в так называемый Концертный зал — я не любил заходить в него прямо с улицы, через отдельный вход, потому что тогда мне приходилось пробираться мимо стойки, у которой обыкновенно сидела орда визгливо хохочущих толстых теток: они сидели на высоких табуретах, расставив ноги и попивая коктейли из джина с апельсиновым соком. Был, правда, еще один путь — прямо к сцене Концертного зала — через окно мужского сортира.
Решив пройти сегодня через Бар, я пригладил волосы, поправил галстук и неуверенно толкнул рукой правую стеклянную дверь. Эта дорога казалась мне самой безопасной: в Баре обычно собирались изгнанники из маленьких, снесенных теперь пивных, которые встречались у нас до недавнего времени буквально на каждом углу. Завсегдатаи Бара держались так, будто ничего в их жизни не изменилось, — пили пиво и вели понятные только им разговоры: «Тебе передали ту штуковину, Чарли? — Передали, Гарри, она у меня в гараже. — Ну, так я зайду за ней утречком, ладно?..» Эти люди, куда бы их ни занесла судьба, мгновенно объединялись в свой особый, закрытый для других мир, и некоторые приметы традиционной пивной — мишень для игры в «дротики», например, или выжженные на дощечках буквы ТЗВМАЯТ (ты заказываешь выпивку мне, а я тебе) — перекочевали вместе с ними в «Новый паб» из их старой жизни.
Едва я вошел, дымную атмосферу Бара всколыхнул радостно хриплый вопль: «Гляньте-ка, кто явился!», и мне стало ясно, что я совершил очередную ошибку. У меня на пути стояла баррикада из тесно сдвинутых столиков с пластиковыми столешницами, по которым наши старые дундуки колотили костяшками домино, высматривая одновременно, над кем бы поиздеваться. Двух или трех из них я узнал и вяло помахал им рукой. Прилипчивый, как репей, Фредди Блат, вечно околачивающийся в Баре, зычно заорал:
— Эй, Билли, а где ж твой ученый пес? — Доминошники заржали. — Он опять забыл прихватить своего ученого пса! — надрывался Блат. — Спроси у него, Сэм, куда он дел своего пса!
— Эй, Билли, куда ты дел своего пса?
Однажды, пытаясь проникнуть в этот обособленный мирок, обитатели которого вечно что-то друг другу перепродавали, я попросил Блата сбыть кому-нибудь, мою дрессированную собаку. Минут на пять они приняли меня в свое сообщество, проорали наперебой массу дурацких историй про всяких собак, но потом правда выплыла наружу, и мне пришлось объявить им, что я пошутил.
— Да он у меня по злачным местам не ходит, — покорно подчиняясь их тону, ответил я. Они снисходительно посмеялись.
— А когда тебя вызовут в Лондон? — подмигнув приятелям, крикнул Блат. Он толкнул локтем своего соседа. — Ну-ка, спроси у него, Сэм, когда ему преподнесут работу в Лондоне!
Об этом они, конечно, тоже не забывали. Несколько месяцев назад я сказал им, немного предвосхищая события, что мне предлагают работу в Лондоне. Ну, и меня сначала очень обрадовало, что эта весть распространилась по «Новому пабу» со скоростью яростного лесного пожара. Потом-то я понял, как это опасно, да было поздно. И теперь вот они шпыняли меня дотлевающими головнями.
— Когда тебя вызовут в Лондон, Билли?
— Когда понадобится — вызовут, — ответил я. Они опять посмеялись.
— Вот ведь расхлебай! — поощрительно проорал Блат. — Нет, этот наш расхлебай, он всем расхлебаям расхлебай! — Я криво улыбнулся, не слишком польщенный этим титулом. Блат крикнул какому-то своему приятелю: — Ну как, Уолтер, ты договорился насчет цены? — И они вернулись к своим обычным, не понятным для чужаков разговорам.
Я прошел через Бар в Концертный зал, напоминающий новомодную солдатскую столовую с желтовато-коричневыми стенами и вычурными столиками, списанными за ненадобностью с шикарного океанского лайнера. Концерт уже начался, глухо постанывал клавиолин, и какой-то работяга-ирландец пел в микрофон, держа его, как пивную кружку, Призри на дом наш, молим Тебе, Господи! Официант Джонни бесшумно шнырял по залу, подняв металлический поднос высоко над головой, а толстые тетки за столиками с гнутыми ножками жрали орехи и заглатывали коктейли. Их мужья выпивали у длинной стойки, повернувшись спиной к сцене.
Там же, у стойки, собирались по субботам члены какого-то дурацкого «Братства Оленей», поджидая часа, когда наверху начнется их собрание. Они и сейчас там стояли — ехидные старики с худыми лицами, называющие друг друга братьями, — позванивая в карманах мелочью для каких-то своих штрафов. Эта стариковская шайка была по-своему не лучше банды Блата, так что я счел за благо неопределенно помахать им рукой и быстренько отвернуться.
Тем временем ирландского певца наградили жиденькими аплодисментами, и Джонни-официант крикнул: «Разрешите, господа, я приму ваши заказы перед следующим выступлением!» С подносом под мышкой и мелочью в пригоршне он привычно заскользил между столиками. А сзади меня раздался старческий голос:
— Так ты, стал'быть, здесь, парень?
Я оглянулся и увидел еще нескольких Оленей, ввалившихся сюда из Салона с кружками пива в руках. Среди них был и советник Граббери; на груди у него поблескивала цепь магистра их ложи, или как там они его величали. Он редко приходил в «Новый паб», а когда приходил, мне удавалось не попасться ему на глаза. Я не знал, как мне с ним держаться после нашей встречи у Страхтонской пустоши, и неопределенно улыбнулся.
— Этот достойный брат собирается устроить нам сегодня концерт? — неуклюже сострил один из Оленей, стоящий рядом с Граббери.
— Он пока еще только ученик, брат дьякон, — подмигнув мне, отозвался Граббери.
Практически все посетители «Нового паба» непременно почему-то подмигивали, прежде чем открыть рот. Подмигнул и брат дьякон.
— Ну, а вы, брат магистр, — вы, стал'быть, уже ученый? — спросил он.
— Я-то ученый, — ответил Граббери, — а вот некоторых учеников надо бы хорошенько поучить. — Он пристально посмотрел на меня, и я понял, что это меня, по его мнению, надо бы хорошенько поучить. И почему, интересно, я посчитал его в прошлый раз мудрым добряком? Тогда, впрочем, он еще, видимо, не знал про моя махинации с Почтовой книгой.
— А если вы уже не ученик, брат магистр, то скажите-ка мне пароль посвященного, — потребовал брат дьякон.
— Меня еще в учениках научили осторожности, — отпарировал Граббери. — Я его лучше напишу вам или скажу начальные слова.
Олени, по-моему, только так и разговаривали друг с другом. Дьякон и Граббери явно примерялись начать долгую шутливо-многозначительную перебранку об Оленьих паролях, но тут вмешался третий их брат:
— Собрание ложи еще не началось, братья, — предостерегающе сказал он.
— А теперь, господа, — послышался в потрескивающих динамиках голос Джонни-официанта, — перед вами выступят два замечательных парня — Боб и Гарри. Тише, господа! Боб и Гарри не поленились приехать к нам аж из Дайбери! — На низкую сцену поднялись два юнца с румянцем во все их приветливо-услужливые физии. Зазвучала пластинка, и юнцы принялись разыгрывать пантомиму на слова песни «Посиди со мной, девочка, за окошками стужа!». Они старательно изображали донжуана и застенчивую девушку — мне сразу же сделалось тошно от их пантомимы.
— Стал'быть, надо подняться наверх да и открыть собрание ложи, раз уж вы такой дотошный, брат, — сказал Граббери.
— А неученого ученика захватим? — спросил брат дьякон, шутливо сграбастав меня за плечо. — Ну-ка пойдем, парень, там у тебя и родственная душа, стал'быть, сыщется.
— Да нет, всесильное Братство присмотрит за ним и на расстоянии, — сказал Граббери.
Они подталкивали друг друга локтями и как ненормальные перемигивались. Мне стало еще тошней, и, буркнув им «Извините», я бочком, бочком отошел от них. А потом, надеясь хоть на время спрятаться от всех знакомых в Салоне, машинально открыл ближайшую ко мне дверь — и снова оказался в Баре. «Смотрите-ка, он опять к нам явился!» — прозвучал ликующий вопль, и я замер на месте, как жалкий кролик, парализованный взглядами скопища змей. И некуда мне было спрятаться от этих ядовито-змеиных взглядов. Я беспомощно осмотрелся и все же нашел, слава богу, человека, который не обращал на меня внимания, — это был оборванец, торгующий вразнос газетами.
Но стервятник Блат не оставил меня, конечно, в покое. Он радостно прокаркал:
— Эй, Билли, а вот как раз твоя газета! Дай-ка ему газету, Сэм!
— Не жадничай, Сэм, дай ему газету! — подхватил кто-то еще. — Это же БИЛЛИ-ВРАЛЬ!
— Да не нужна она ему, он сам издатель!
Все это повторялось чуть ли не каждую субботу. На мое несчастье, какой-то кретин редактор назвал свой поганый субботний листок, в котором печатались комиксы, «Билли-вралем», а дураки разносчики притаскивали его по субботам в паб — вместе с «Имперскими новостями» и «Боевым кличем». Приятели Блата покупали одного «Билли-враля» на четверых и радостно ржали, тыча заскорузлыми пальцами в картинки, рассказывающие о похождениях Билли. Ну, а увидев меня, принимались выкрикивать давно протухшие шуточки.
— Возьми, Билли, вспомнишь на старости лет свои приключения! — Кто-то из них попытался сунуть мне под мышку «Враля».
— Билли-враль, и-и-и-хи-хи-хи! — визгливо хохотал
Блат, и его хохот, как ржавая бритва, взрезал доносившийся из Концертного зала шум — а там под заключительные слова врубленной на полную громкость пластинки гоготали во все горло наблюдающие за пантомимой зрители, и не хватало здесь, по-моему, только пары полицейских, которые стали бы наводить порядок, размахивая дубинками и свистя в свои полицейские свистки, — вот тогда уж этот проклятый паб стал бы настоящим бедламом. — Билли-вра-а-аль! — истошно вопил Блат. — Так мы и будем его называть, верно, Сэм? Эй, Билли-враль, куда ты дел своего ученого пса?!
Я ему не ответил. Мне даже было непонятно, откуда он вякает, — я обводил взглядом Бар, но ничего не видел.
— Ну и гусь! — надсаживался Блат. — Нет, он уморит меня, этот гусак, о-о-хо-хо-хо-хо-хо-хо!
Внезапно кто-то меня сзади толкнул. Я пошатнулся, и мне на мгновение представилась заманчивая картина — я медленно падаю, и все они в испуге замолкают, а потом бережно выносят меня на свежий воздух. Оглянувшись, я увидел Джонни-официанта. В руках он держал поднос с грязными стаканами и грудой пробок.
— Тебе выступать, парень, — сказал Джонни. Я машинально побрел за ним в Концертный зал.
— Смертельный номер — Билли-враль и его ученый пес! — крикнул Блат. Я злобно повернулся к нему и увидел, что его приятели повылезали из-за столиков и всем стадом тянутся в Концертный зал. Я пробрался между толстыми тетками к сцене — то-то они, наверно, испугались бы, если б я грохнулся при них в обморок.
— А теперь — самый лучший номер нашей сегодняшней программы! Не возражаете, господа? Сейчас выступит парень, которого представлять никому не надо! Тише, пожалуйста, господа! Наш общий любимец — да перестаньте вы там гудеть! — Билли Сайрус!!!
Я вскарабкался на сцену. Пианист играл на клавиолине вступление к песне «Мне хочется счастья!». Я оглядел собравшихся в зале людей и попытался вспомнить первую реплику своего шуточного номера, прекрасно понимая, что он здесь никому не нужен, так же как все эти люди не нужны мне. Некоторые тетки, восседающие за круглыми столиками, смотрели на меня глазами коров, которые ждут очередной порции прошлогоднего сенца, но большинству из них просто не было до меня никакого дела. Фредди Блат и его приятели, сгрудившись у дверей Бара, продолжали свои непонятные для чужаков разговоры, а похабные юнцы Гарри с Бобом сидели, как будто так и надо, среди наших завсегдатаев, годящихся им в отцы, покуривая такие же, как у них, сигареты и попивая такое же пиво. Вообще, у этой банды был такой вид, будто они разгадали все тайны земного бытия и теперь точно знают, как надо жить.
Я изобразил шутовскую харю и начал свое выступление, пожалев мимоходом, что у меня не хватит духу спеть им песенку «Монастырские девочки слаще конфеток» — тогда-то им всем стало бы по-настоящему весело.
— Как-то ранней весной с милой кралей одной я дружил в городишке Ужастоне…
Несколько самых впечатлительных теток хихикнули, а потом настала мертвая тишина.
— Эта краля была как ромашка мила — как ромашка за-за-заикастая…
Тут я покрутил головой, привычно и умело выпучив глаза, словно бы дожидаясь возмущения, хохота или аплодисментов — словом, какого-нибудь отклика.
— Я с ней долго дружил, а потом полюбил, да и кто по весне не влюблялся?..
Передо мной были привычные лица — Фредди Блат со своей бандой, несколько любителей выпить у стойки и толстые тетки за круглыми столиками. Старики-Олени ушли наверх, чтобы постучать тройным условным стуком в дверь комнаты, где у них происходили собрания, и приступить к своей шутовской трепотне посвященных… но внезапно один старик привлек мое внимание — он стоял у стойки, курил сигарету и держал в руке пивную кружку с таким видом, будто ему только что пришлось хлебнуть какой-то отравы, а не пива. Наши взгляды встретились, и меня обуял ужас — не навеянный видениями Злокозненного мира, а настоящий, вполне реальный ужас. Я нагнулся в зал — туда, где Джонни-официант смешивал кому-то коктейль из джина с пепсикой, — и театральным шепотом спросил:
— Слушай, Джонни, а отец-то мой что здесь делает?
— Как что? — удивленно посмотрев на меня, громким шепотом переспросил Джонни. — Вступает в Братство Оленей. У них сегодня день приема. А ты давай-ка, шпарь дальше, а то нехорошо получается.
— Матерь божья! — пробормотал я и с трудом выпрямился: у меня было такое ощущение, будто кто-то дал мне «под дых». Я никогда не встречал здесь отца и был уверен, что он сюда не ходит. Мне показалось, что он смотрит на меня с насмешкой; да и все в зале, похоже, смотрели на меня с насмешкой. Некоторые тетка заволновались — им, наверно, почудилось, что назревает скандал. Я заставил себя приветственно кивнуть отцу, но он презрительно отвернулся. Фредди Блат крикнул: «Эй, Билли, когда ты приведешь своего ученого пса?» Я торопливо припомнил, на чем остановился — кто по весне не влюблялся? — и продолжал:
— Я любил ее так, что и сам, как дурак, начал за-за-за-за-заикаться…
В зале послышались неуверенные смешки. Вроде бы мое выступление их заинтересовало. А может, они смеялись надо мной?
— Как-то поздней весной я пришел к ней домой и го-го-го-го-го-говорю ей…
Тут я опять по-дурацки выпучился, стараясь не смотреть на отца. Да и не могло его здесь быть, потому что он развеялся багровым облачком, распыленный на молекулы из амброзийского лучемета.
— Я хочу те-те-те, я хочу те-бя-бя по-по-по-це-це-це-целовать!..
Смешки раздавались все чаще. Самая толстая из теток громко расхохоталась, а остальные зрители захихикали, потешаясь уже над ней. Фредди Блат выкрикивал от дверей Бара что-то невразумительное.
— А она: мне в ответ — хочешь верь, хочешь нет — го-го-го, го-го-го-говорит,
Со знакомым замиранием сердца я внезапно понял, чьи шаркающие шаги слышатся на лестнице. Это, конечно, был советник Граббери — он спустился в Концертный зал и поплелся к мужскому сортиру, позванивая, словно призовой жеребец, своей магистерской цепью. Он прошел неподалеку от моего отца, но разговаривать они, слава богу, не стали.
— Хо-хо-хо говорит, хо-хо-хо говорит, хо-хо-хочешь ча-чашечку кофе?..
Еще одна тетка визгливо засмеялась. Советник Граббери скрылся в сортире. «Билли — испорченная пластинка!» — крикнул Блат.
— Я молчу, а она, как ромашка бледна, до-до-до-до-до-до-добавляет…
Мой заикательский номер кончался. Хорошо ли, плохо ли, но кончался.
— А ты думал ча-ча, ду-ду-думал ча-ча, ду-ду-думал, ча-чашечку чая?..
Советник Граббери, застегивая ширинку, показался на пороге сортира. Он подошел к моему отцу и нерешительно остановился рядом с ним, как бы забыв, что хотел сделать.
— Ну, а я, когда приехал в Страхтон, я, конечное дело, был бедняк. У меня не то что городских штиблетов — и деревянный-то башмак был один,
Советник Граббери и мой отец коротко о чем-то перемолвились. Отец посмотрел на меня, но вроде бы не злобно. Он допил пиво, и оба старика двинулись к лестнице — отец намеренно укорачивал шаги, чтобы не обгонять Граббери. Черт его знает, зачем отцу понадобилось вступать в Олени, но теперь-то, как члену своего Братства, Граббери ему все, конечно, про меня выложит.
— Один деревянный башмак, хоть ты тресни! Ну, и мне, конечное дело, приходилось ездить на такси — как ты в одном-то башмаке по городу пойдешь?..
В зале опять остались только толстые тетки да их мужья — любители выпить у стойки, да банда Блата. Я продолжал выкладывать им свои шутки, понимая, что мне давно пора закругляться. Некоторые тетки время от времени хихикали, но вообще-то никому из них не было до меня никакого дела. В зале начали переговариваться, кое-кто закурил, кое-кто, подняв кружку, разглядывал свое пиво на свет. А меня они просто перестали замечать.
— Ну вот. А этот, стал'быть, человек, он тоже заикался. Он приходит в полицию да и говорит: «У кра… У кра… У крали… укра… укра… украли…»
— Ученого пса! — крикнул Блат.
— А полицейским, стал'быть, надоело его слушать…
— Нам тоже надоело!
— Они ему и говорят: «Да раскачивайся ты побыстрей — чего украли-то?» А он свое: «У кра… У кра… у крали… укра… укра… украли…»
— Больно ты, парень, долго! — крикнул мне какой-то блатовский прихвостень. — Мы ведь тут не бездельники из Лондона, ты давай прямо нам выкладывай, чего они там украли!
— Неви… неви… невинность…
Блатов приятель Сэм проорал, подражая выговору лондонцев:
— Чего там не вынуть — авось вынем!
Ну и тут опять начался жуткий бедлам. Они хохотали и в полный голос трепались между собой, как выпущенные на переменку школьники. Потом принялись тыкать друг друга локтями и подмигивать, кивая в мою сторону своими погаными башками. Джонни-официант молча подавал мне знаки, чтобы я слезал со сцены.
Тогда я начал орать изо всех сил — и с омерзением услышал в своем голосе умоляющие нотки:
— А я как раз и тренируюсь для выступлений в Лондоне! Там-то меня будут слушать, не беспокойтесь! Да помолчите же, я сейчас кончу! И он, значит, говорит полицейским: «Ей… ей… ей… ей… ей… ей… вина… ей… ей… ей… ей… ей… ей… вина…»
Раздался дружный взрыв хохота, но они явно ничего не поняли, а хохотали, награждая меня, так сказать, за упорство. Приятели Блата радостно заблеяли: «Ви-ви-ви-ви-ви-ви-вина!» Скрипели стулья, звякали стаканы, люди копались в своих бумажниках, чтобы заказать выпивку. Даже совсем незнакомые мне посетители и те орали: «Ви-ви-ви-ви-ви-ви-вина!» Словом, начался адский галдеж — и опять как у школьников. Мне на мгновение показалось, что сейчас они примутся кидать друг в друга шарики из жеваной бумаги.
— Вина, вина и джина, — закончил я почти шепотом и, спрыгнув со сцены, расстрелял их из лучемета. Человека три или четыре неуверенно похлопали мне, но большинство просто не заметили, что я замолчал. А пианист поленился сыграть традиционную песенку, завершающую у нас каждое выступление. Пробираясь между столиками, я пытался вспомнить, сколько же раз я здесь выступал — заранее зная, что мое выступление закончится очередным провалом. Толстые тетки поглядывали на меня с равнодушным сочувствием. Такие же взгляды я замечал и раньше, но мне почему-то никогда не приходило в голову, что я по сравнению с ними просто щенок, что они-то живут подлинной, полнокровной жизнью, о которой я не имею ни малейшего представления.
Добравшись до ближайшей двери, я услышал голос Блата:
— Думаешь, в Лондоне-то они больше нашего понимают? Зря надеешься. Там тебе даже твой ученый пес не поможет.
Я поднял кулак, но сразу же сделал вид, что это у меня просто шутливо-прощальный жест. На сцене Джонни-официант пытался утихомирить разгулявшихся теток, чтобы они опять превратились в зрительниц. Добившись относительной тишины, он объявил очередной номер — шуточную песню.
Какой-то закаленный в пабовских выступлениях хмырь лет сорока или, может, сорока пяти принагнулся к микрофону и запел сильным, самоуверенным голосом:
Я уверен — жизнь прекрасна. Жизнь смешна и хороша, Если солнце светит ясно — Веселись моя душа! Ну, а если в небе тучи, Я хватаюсь за бока; Смех веселый и могучий Выручает старика! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха, А-ха-ха-ха-ха-ха-ха, А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!— Когда ты едешь в Лондон, Билли? — гаркнул Блат. Несколько теток за ближайшими столиками оглянулись и в один голос прошипели: «Тс-с-с-с!» Они завороженно смотрели на певца, забыв даже про свои орехи и хрустящий картофель, Концертно-питейный зал приобрел свой обычный облик.
— Знаменитый номер — Билли-враль и его говорящий пес!
— Тс-с-с-с!
О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, О-хо-хо-хо-хо-хо-хо.Выбравшись из паба, я побежал. И бежал до тех пор, пока Сабосвинцовый переулок неостался далеко позади.
Глава десятая
Клуб «Рокси», окраинный огонек Страхтона, за которым начинались вересковые холмы, был выстроен, как считалось, чтобы дать приют молодежи предместья, — его глухо жужжащая неоновая вывеска «Приходите потанцевать» вспыхивала неровно-розоватым светом шесть раз в неделю, и все доросшие до танцев девчонки из новых, стандартно неприветливых домов окраины стягивались к нему вечерами, надев атласные выходные платья и прихватив с собой, в бумажных сумках, на которых красовалась реклама пирожков со свининой, танцевальные туфельки. А городские парни, являвшиеся сюда кадриться, сидели перед началом танцев на низких кирпичных перильцах у входа и перебрасывались дежурными шутками.
Я устало подошел к «Рокси», таясь в тени, чтобы улизнуть от Риты, если она караулит меня здесь, не желая платить за вход, — стайки девчонок, поджидающих своих парней, всегда прогуливались перед клубом по маленькой бетонной площадке, испещренной темными трещинами. Очередной провал на сцене паба все еще мучил меня, и отдельные эпизоды, словно стайки ярких маленьких рыбок, то и дело вспыхивали в моей памяти. Но, ступив на освещенную розоватым светом площадку, я с облегчением подумал, что сегодняшний мой провал уже позади, а следующего, даст бог, не будет. У входа я увидел девчонку, с которой у меня когда-то был роман, и, небрежно бросив ей «Привет, Мэвис», прошел мимо, Однажды я написал стихотворение, где сравнивал ее груди с дынями, и теперь мне было неприятно с ней встречаться. Она ответила «Приветик, Билли», и я, почти успокоившись, если не развеселившись, подошел к кассе.
«Рокси» встретил меня ярким светом и душной жарой — здесь всегда пахло дамской уборной, как правильно сказал однажды Штамп. Фойе было отделено от танцевального зала железной решеткой, выкрашенной в кремовый цвет, и шеренгой деревянных кадок с пыльными пальмами; здесь толпились юнцы, которых я уже видел сегодня в «Мелодии», — они то и дело засовывали пальцы под крахмальные воротники своих рубашек и крутили головами, как испуганные черепахи. Их девчонки деловито занимали очередь в сортир, уползали туда, словно гусеницы, а выпархивали, как бабочки, держа в руках головные косынки и сапоги с расстегнутыми молниями. Я смотрел на эту толчею с привычным отвращением, ссутулившись, будто случайно забредший сюда поэт. Сегодня, правда, мне почему-то не хотелось мысленно превращаться в амброзийца, который через несколько секунд выйдет на танцевальную площадку и осчастливит какую-нибудь профессиональную танцзо-лушку приглашением сбацать неистовый ча-ча-ча. Лиз в толпе не было. Я протолкался на танцевальную площадку и потерянно остановился у стены.
Над площадкой уже крутился подсвеченный юпитерами граненый зеркальный шар, бросая гнусно-фиолетовые блики на прыщавые лица танцующих юнцов, и первым, кого я разглядел в толпе, был, конечно, Штамп. Он самодовольно выделывал фокстрот с какой-то девицей в облегающем платье из красной шерсти, и когда он, словно бы падая навзничь, резко крутанул ее во встречном повороте, я увидел, что это Рита. По ее лунатически застывшему лицу, остекленелым глазам и слегка приоткрытому рту — Рита всегда впадала в транс на танцплощадке — я понял, что она пришла сюда примерно полчаса назад. Дождаться меня у нее терпения, значит, не хватило, и мне стало от этого немного грустно — мы ведь были обручены (или, во всяком случае, так она должна была считать), — но я порадовался, что ей не дают скучать. Штамп здорово поднабрался, но это уж были его заботы. Не заметив меня, они скрылись в толпе танцующих.
На сцене Артуровы приятели-джазисты яростно дули в свои приглушенные сурдинками трубы, а ударник, ловко работая палочками, одаривал танцующих широкими улыбками, будто все они были его друзья. Сам Артур, в голубом, по американской моде скроенном пиджаке, молча покачивался перед микрофоном. Он выглядел как какой-нибудь прославленный Дэнни Кей, и я невольно позавидовал его профессионально свободной позе и умению держаться на сцене, даже когда ему нечего было делать. Хорошо, что он не видел моего выступления в «Новом пабе»! Поймав его взгляд, я неуверенно помахал ему, и он ответил мне насмешливо-энергичным поклоном, а танцорам наверняка показалось, что он благодарит их за внимание к его предыдущей песне.
Вскоре музыка на минуту смолкла, и танцоры замерли, устало опустив руки. А когда джазисты заиграли опять, Артур запел очередную песню. Он всегда пел с американским акцентом, и, слушая его пение, я неизменно раздражался, но, по правде-то говоря, это у него здорово получалось. Танцующие сделали полный круг, и когда Рита со Штампом опять скрылись из глаз, я пробрался к лестнице, ведущей на балкон.
Лиз, одна, сидела за камышовым столиком; положив подбородок на руки, она рассеянно рассматривала поверх балюстрады танцевальную площадку и радостно улыбалась каким-то своим мыслям. Я молча сел напротив. Она протянула мне над столиком руку, и я накрыл ее своей.
— А ты не торопился, — с укором сказала Лиз.
— У меня был жутко хлопотный день, — сказал я.
— Это уж как водится. И где же тебя носило?
— А-а, там да сям… — я неопределенно махнул рукой.
— Тут и там, — подхватила Лиз.
— По горам, по долам, — заключил я. У нас и раньше возникал этот не слишком содержательный разговор— когда я, ни о чем не расспрашивая ее прямо, все же давал ей понять, что мне интересно, куда это она порой исчезает. Ну, а сегодня мы поменялись ролями. Я опять взял ее руку. На Лиз была все та же старая черная юбка, но зато ее блузка сияла свежекрахмальной белизной. Ее зеленая замшевая куртка висела на спинке плетеного стула. Меня охватило ощущение счастья: Лиз, неизменно веселая и в то же время уверенно-спокойная, отгораживала меня от враждебного мира, словно сверкающая стена.
— Ну — рассказывай мне про планы, — с расточительно щедрой радостью приказала Лиз.
— Про какие планы?
— Про твои, конечно. Ты ведь всегда строишь планы. Что у тебя теперь на уме?
— Думаю уехать в Лондон, — сказал я.
— Только думаешь?
— Ну, если хочешь, собираюсь.
— А когда соберешься? — Мы могли играть в эту игру часами, весело передавая друг другу эстафету разговора.
— Скоро, Лиз.
— А почему не сегодня?
— Да не так-то это легко.
— Легко, Билли. Надо просто сесть в поезд — и за четыре часа он довезет тебя до Лондона.
— Тебе легко, — сказал я. — У тебя уже есть опыт. Послушай, Лиз. — Наши пальцы были сплетены, и мы оба смотрели поверх балюстрады на танцующих. Рита и Штамп выкаблучивали возле сцены какой-то немыслимый танец собственного изобретения. Они глядели вниз, будто изумляясь вензелям, которые выделывали их ноги,
— Что, Билли? — помолчав, спросила Лиз.
— Штамп называет тебя Никотиночкой Лиззи.
— Ну, я-то его куда похлеще называю, — сказала Лиз.
Мы рассеянно смотрели на танцплощадку, и вдруг меня будто током ударило. Где-то я читал об одном ресторане в Каире, что если, мол, долго сидеть там за столиком, то обязательно увидишь всех своих знакомых. То же самое можно было сказать и о «Рокси», потому что, когда джазисты заиграли квик-степ, я заметил Крабрака — он скакал по площадке, словно взбесившийся кенгуру, высоко вскидывая ноги в замшевых башмаках с натертыми мелом подошвами, а партнершей его была Мэвис, которую я встретил у входа. И разговаривали они наверняка обо мне. Неподалеку от сцены по-прежнему выдрючивались Рита со Штампом, а где-нибудь в толпе — я внезапно осознал это с ужасающей отчетливостью — обязательно скрывалась Ведьма. Мне представилась ее гнусно колышущаяся юбка, сморщенный, как у хомяка, нос, весь ее самодовольный солдатский вид, больше всего подходящий для дикой шотландской пляски с мечами, и я встревоженно сказал Лиз:
— Может, пойдем погуляем?
— Скоро, Билли, — передразнивая меня, пообещала она.
Внизу зарокотал барабан, и Артур вскинул руки, как бы отвергая еще не начавшиеся аплодисменты. Потом он наклонился к микрофону и завел свободный, ловко удающийся ему треп.
— Многоуважаемые ледиджентльмены, — имитируя американского конферансье из кабаре, начал он, — не правда ли, нам всем здесь очень уютно? Благодарю вас, мадам! Ну так вот, ледиджентльмены, я счастлив сообщить вам, что на будущей неделе в «Рокси» состоится концерт популярной музыки. Перед вами выступит наш замечательный джаз и непревзойденная поэтесса-песельница Дженни Льюис! По-моему, ее замечательная грудь не нуждается в рекламе… — тут Артур сделал точно выверенную паузу, — ибо в ней рождаются поистине божественные звуки. Я-то, ледиджентльмены, самоучка, у меня в детстве не только что модных штиблетов — и деревянный-то башмак был один, так что мне приходилось ездить на такси… но, если почтенная публика пожелает, я тоже исполню одну-две песенки.
Раздался доброжелательный смех, и в «Рокси» установилась та интимная атмосфера, которой добивался Артур. Певица Дженни Льюис сидела на плетеном стульчике рядом с музыкантами, благодарно вздымая свою необъятную грудь, в которой якобы рождались божественные звуки. Улыбающийся Артур дождался тишины и закончил:
— А теперь, ледиджентльмены, еще один скромный номер. Чтобы вам было приятнее танцевать, я спою песню, которую мы сочинили с моим другом Билли Сайрусом. Где ты, Билли? — Юпитеры начали обшаривать танцплощадку, а ударник весело загромыхал в литавры.
— Это же он про тебя! — взволнованно воскликнула Лиз.
— Про меня, — отвернувшись, чтобы она не увидела моего лица, подтвердил я.
— Я знаю, что он где-то здесь, — вещал со сцены Артур. — Может быть, он отмечает сейчас радостное событие — надеюсь, и вы все за него порадуетесь, — ему предложил постоянную работу прославленный лондонский комик Бобби Бум. Давайте же пожелаем ему успеха!
— Ну, трепло коровье! — прошипел я. Послышались беспорядочные хлопки, и несколько человек, сидящих за соседними столиками — видимо, они знали меня в лицо, — с любопытством посмотрели на нас. Пришлось мне сделать скромно-знаменитый вид.
— А теперь, ледиджентльмены, я приглашаю вас потанцевать под музыку песенки, сочиненной Билли Сайрусом и вашим покорным слугой!
— Разледиджентльменился, угодник поганый! — процедил я сквозь зубы.
— Тише, — оборвала меня Лиз, — я хочу послушать твою песню.
Джаз заиграл медленное — слишком, по-моему, медленное — танго, и Артур, сморщив лоб трагическими морщинами, запел:
На рассвете ненастного дня Ты навеки покинешь меня, Но забыть я тебя не смогу! Как уходит с зарею луна, Ты уйдешь на рассвете — одна, Но забыть я тебя не смогу!Я украдкой покосился на Лиз — хорошо бы она подумала, что песня посвящена ей, — но по ее лицу ничего нельзя было угадать, и я глянул вниз. Ну, а танцующим явно не было до моей песни никакого дела, да и американский акцент Артура превратил ее в невнятное рокотание. Крабрак с Мэвис и Рита куда-то скрылись, но Штамп слонялся у края танцплощадки, наверняка придумывая, как бы ему сорвать исполнение песни. Артур, впрочем, и сам ее здорово испортил.
Что ж, родная, прости, Будь счастливой в пути, Но понять я вовек не смогу, Почему ты решила уйти.— Разве ее так надо петь, — проворчал я и встал. — А все же придется поблагодарить его. — Лиз понимающе улыбнулась, и я неторопливо спустился по лестнице, зорко, но незаметно приглядываясь, вызываю ли я у публики хоть какой-нибудь интерес.
Если ты не услышишь меня, Пусть хоть песня расскажет, звеня, Что забыть я тебя не смогу!Я подошел к сцене, когда Артур, широко раскинув руки, пел последний куплет. Как только песня кончилась, джазисты принялись наигрывать мелодию из «Американского патруля», а Артур спрыгнул со сцены, поэтически ссутулился и помахал рукой каким-то своим приятелям.
— И тогда мне пришли в голову строки… — с видом рокового мужчины начал я наше обычное представление «Знаменитая песня».
— Да-да, напомните мне, мой друг, эти великие строки, — прижав одну руку к сердцу и слегка отогнув другой рукой ухо, сказал Артур.
— Ты добилась моей любви, я невольно влюбился в тебя, я невольно влюбился в тебя, дорогая моя, — по-хрипывая, как допотопный фонограф, пропел я.
— Трудно поверить, что эти строки впервые были записаны на обеденном меню в рыбном ресторане…
— … Но вовсе нетрудно поверить, что теперь это меню стоит баснословно дорого.
— Да-да, потому что цены на рыбу возросли между двумя мировыми войнами во много раз, — привычно заключил Артур. Привычно-то, может, и привычно, да не так, как всегда: сегодня он говорил громко, чтобы услышали восхищенно хихикающие девчонки, столпившиеся возле сцены, — наша внутренняя связь была потеряна.
— И вот я написал… — проговорил он, поглядывая на девиц, но я отвел его в сторону и спросил:
— Послушай, великий песельник, как же ты убедил джазистов, чтобы они разрешили тебе спеть нашу песню?
— Твоими молитвами, — холодно ответил Артур.
— Великое дело, — сказал я. — Зря только ты трепанул насчет Бобби Бума.
— А почему? У тебя ведь все на мази, верно? — И тут я заметил, что в глазах у него поблескивает скрытая неприязнь, а уголки губ раздраженно подергиваются.
— Конечно. Я просто не хотел, чтоб они узнали об этом до моего отъезда. А песню нам обязательно надо записать на магнитофон и послать в какую-нибудь фирму, выпускающую пластинки.
— Придет время — запишу с ребятами, — сказал Артур, давая мне понять, что он и джазисты обойдутся без моей помощи.
— Но учти, Артур, — как бы не заметив его тона, сказал я, — эту песню здорово портит твое американское рычание.
Артур глянул на меня в упор с подчеркнуто холодной отчужденностью.
— Так может, мне спеть ее по-йоркширски? — спросил он.
— Ее надо петь по-английски, — зло отрезал я, — как она написана.
— Ну так вот, парень, — процедил Артур, — если б я спел ее по-твоему, меня просто прогнали бы со сцены. Тебе еще надо учиться и учиться!
— Да какого черта!..
— Подожди, тебя еще поучат, когда ты попадешь в Лондон. Вернее, если ты попадешь в Лондон. И не указывай мне, как надо петь. Ты еще пока не советник у Гленна Миллера.
— Вот оно, значит, что, — сказал я.
— То самое, приятель, — сказал Артур. — И еще. Я не знаю, зачем ты наплел моей матушке, что Ведьма твоя сестра, но она меня сегодня чуть надвое не перепилила. Так что прекрати свои штучки, понял?
Он отвернулся от меня и, вскарабкавшись на сцену, снова заговорил в микрофон, как американский конферансье. А я уныло поплелся к балконной лестнице.
У лестницы я с омерзением увидел Штампа — он подманивал меня своим пакостным пальцем. Я резко повернул и скрылся от него в кафетерии под балконом, надеясь отсидеться там среди прыщавых девиц, жадно жрущих сдобные булочки и проливающих себе на платья лимонад. Я торопливо пробрался между полированными столиками в затемненный уголок рядом с артистической уборной джазистов и только тут наконец понял, что попал в самое настоящее осиное гнездо. Передо мной, как бы материализовавшись из трепотни девиц, вдруг появилась Ведьма в отвратной зеленой блузке и клетчатой юбке. Мало этого — напротив нее стояла Рита в ярко-красном платье, сшитом, видимо, специально для того, чтобы на нем яснее был виден маленький серебряный крестик. И уж конечно же, у нее на пальце поблескивало Ведьмино обручальное кольцо.
— Это мой крест, — услышал я громкий, противно-отчетливый голос Ведьмы.
Мое сердце очередной раз кувырком ухнуло в пятки. Я попытался спрятаться за одну из колонн, подпирающих балкон, да поздно: Ведьма уже углядела меня своими рыбьими глазами.
— Скажи ей, — потребовала она.
— И ты, стал'быть, тут как тут? — голосом несмазанного робота лязгнула Рита. Лицо у нее было красное и растерянное.
— Это что — депутация? — вяло спросил я, обреченно соображая, не удастся ли мне одурачить их разговором на двух уровнях, чтобы каждая поняла только то, что я хотел сказать именно ей. Но, собравшись заговорить, я с ужасом понял, что у меня начиняется приступ зевоты, — я молча стоял перед ними, разевая рот, как вытащенный из воды карась.
— Он что — ворон ловит или еще чего? — осведомилась Рита. Об искусной беседе на двух уровнях я уже не думал.
— Зачем ты отдал мой крест этой… девушке? — со своей идиотской прямотой спросила Ведьма.
Мне бы ответить ей: «А зачем ты трепалась, что отдала его своему братцу?» — но у меня не хватило сил, и я промямлил:
— Да-да, они очень похожи, правда?
— Это мой крест, — повторила Ведьма. — И на нем есть след от твоих зубов, потому что ты засунул его в рот и прикусил, когда устроил ту чудную сцену.
— Ты говоришь про сцену на Илклийской пустоши? — спросил я, надеясь ее смутить. — Рите, наверно, будет очень интересно узнать, что у нас там произошло.
— Это мой крест, — сказала Ведьма.
— Нет, не твой, — сказал я. — Твой ты вернула своему братцу. А у меня был просто похожий. Да если уж на то пошло, это я дал твоему братцу крестик — еще до того, как он подарил его тебе.
— Так ты, стал' быть, всем их раздаешь?
— Не всем, а у меня их было с полдюжины, таких крестиков, потому что унитарианцы хоронят в них покойников. — Я понимал, что вскорости Ведьма заметит свое обручальное кольцо, и торопливо бормотал все, что в голову взбредет, лишь бы немного отдалить этот момент.
— Ну, а кому из нас приходить завтра к тебе на чай? — спросила Ведьма.
— Да пожалуй что никому, — одарив их открытой улыбкой, ответил я. — Мы, правда, собирались пригласить нескольких друзей, и вас обеих в том числе, но отца вызвали в Харрогит, и раньше понедельника он не вернется.
— Ну да, его небось вызвали на встречу военных моряков, — со своей тупой язвительностью сказала Ведьма. И добавила, обернувшись к Рите: — Он ведь у него отставной капитан.
— А я думала, сапожник, — сказала Рита.
Они принялись въедливо обсуждать, чем отец зарабатывает на жизнь. Ведьма, в своей тускло-зеленой блузке и клетчатой юбке, походила, если верить описаниям Штампа, на ту старую деву из Детского клуба, которая примерялась изнасиловать его, наглотавшись возбуждающих пилюль. И тут меня осенила блестящая идея — первая в этот вечер. На столике, за которым сидела Ведьма — я узнал его по горке апельсинов, лежащих рядом с Ведьминой сумочкой, — стояла чашка черного кофе. И вот, пока эти две скандалистки бормотали про моего выдуманного попугая, я нащупал в кармане возбуждающие пилюли, наскреб штук двенадцать или четырнадцать и, повернувшись к Ведьминому столику спиной, незаметно высыпал их ей в кофе.
— Ну, а теперь нам остается только спросить, кого из нас ты пригласил сегодня в «Рокси», — сказала Ведьма.
— Только-то? — переспросил я. — А почему ты не хочешь узнать, как у Риты на пальце оказалось твое обручальное кольцо? — С этими словами я поспешно шагнул в толпу девиц, а они застыли, изумленно разинув рты, будто статистки в заключительной сцене какой-нибудь старой кинокомедии. Я подошел к лестнице и опять наткнулся на Штампа — он стоял, косой до остекленения, вцепившись рукой в лестничные перила. Когда я проходил мимо, он ухватил меня за рукав.
— Отзынь! — злобно сказал я.
— Достукался, — хрипло пробормотал он.
— Убери грабки, Штамп!
— Достукался, — бубнил Штамп. — Мне Крабрак все-е-е рассказал. Достукался, Сайрус.
— Убери, говорю, свои поганые грабки, дурак! — крикнул я и отодрал его пальцы от своего рукава.
— Достукался, Сайрус, — еще раз прогнусил Штамп и сел на ступеньку. Я торопливо взбежал по лестнице. Лиз по-прежнему сидела у балюстрады, поглядывая вниз.
— Извини, что задержался, — сказал я. — Пойдем погуляем.
— А ты чего такой заведенный? — улыбнувшись, спросила Лиз.
— Да завели, — неопределенно проворчал я и подошел к ней вплотную, чтобы удостовериться, что с ее места кафетерий под балконом не просматривается. — Артур, он кого хочешь заведет. Мы поцапались из-за песни, и он пригрозил, что будет петь ее с йоркширским акцентом.
— Ну, это еще не самое страшное, — рассудительно сказала Лиз.
Я сел и несколько раз глубоко вздохнул. До чего же все-таки приятно поговорить с кем-нибудь по-человечески! Джазисты заиграли медленный вальс, и, глядя вниз на плавно кружащиеся пары, я немного успокоился.
— Ты-то, надеюсь, не сходишь с ума по Йоркширу? — спросил я Лиз.
— Нет, конечно. Но в Йоркшире есть немало хорошего. Хорошие люди, например. Одного из них я давно уже знаю. — Она ласково сжала мою руку.
— Поэтому ты вечно и пропадаешь? — спросил я.
— Может быть, — ответила Лиз.
— Я тут недавно встретил Парня с холмов, обозревателя из «Эха», — просто чтобы заполнить паузу, сказал я, — и он, значит, мне говорит…
— Кого? Джона Хардкастла? — перебила меня Лиз. — Я его тоже знаю. — Господи Иисусе, подумал я, всех-то она знает.
— Вот-вот, кажется, его, — с ужасом подтвердил я. — В общем, это был один из «Эховских» парней. Ну и он, как обычно, трепался насчет наших черно-сатанинских фабрик, а я ему, значит, и говорю: — С черно-сатанинским скопищем наших фабрик я еще могу примириться, это часть нашего исторического ландшафта, говорю. Но когда речь заходит о черно-сатанинских электростанциях, черно-сатанинских жилых кварталах и черно-сатанинских клубах…
— Здóрово! — опять перебила меня Лиз. — Ты это обязательно куда-нибудь вставь.
— А он говорит: «В том-то, — говорит, — и беда современной молодежи…»
— Молодежи? — переспросила Лиз. — Ну и наглец! Он ведь совсем ненамного старше тебя. Ты уверен, что это был Хардкастл?
— А чего тут уверяться-то? — в отчаянии сказал я. — Такой высокий, с усами, да?
— Правильно, — спокойно сказала Лиз. — Вот он сидит. — Небрежным кивком она указала на усатого парня, сидящего с несколькими приятелями за три столика от нас. Ну почему бы Парню с холмов не оказаться стариком? И зачем ему, спрашивается, усы?! Я в изнеможении откинулся на спинку стула. Теперь уж я не удивился бы, даже увидев, как внизу вытанцовывает вальс-бостон старик Граббери… теперь уж я просто ничему бы не удивился.
— Пойдем погуляем, Лиз, — обессиленно сказал я.
— А с Джоном ты не хочешь поговорить? — спросила Лиз.
— Мистер Уильям Сайрус! — заглушив музыку, хрипло рявкнули настенные динамики. — Мистер Уильям Сайрус! Вас вызывают к телефону. Вас к телефону, мистер Уильям Сайрус!
— Вас к телефону, мистер Уильям Сайрус, — повторила Лиз.
Ухватившись взмокшими ладонями за верхний брус балюстрады, я глянул в огнистую глубину танцплощадки, и передо мной взвихрилась подвижная мозаика знакомых лиц: на сцене мужественно покачивался Артур, собираясь петь очередную песню; по краю танцплощадки куда-то целеустремленно пробиралась Ведьма с сумочкой через плечо; у лестничных перил стоял остекленевший Штамп; справа от него ошеломленно замерла Рита, а мимо них длинноного вышагивал Крабрак — всю эту картину я охватил, как мне показалось, одним мгновенным взглядом и потом, подняв голову, опять увидел Парня с холмов, подозрительно косящегося в мою сторону. Мне захотелось вскочить и театрально крикнуть: «Вот он, вот он я, господа, распните меня и отстаньте к чертовой распрабабушке!»
— Мистер Уильям Сайрус, вас вызывают к телефону! — снова рявкнули динамики.
— Пойдем погуляем, — умоляюще сказал я Лиз. В этот момент кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся и без всякого удивления увидел Крабрака — он принагнулся над моим стулом, обдавая нас гнилостным дыханием и ядовито сверкая желтыми зубами.
— Можно вас на два слова, Сайрус?
Я ошалело встал и неожиданно для себя самого выкрикнул:
— К вашим услугам, господа! Кто следующий?
— Вы позволите? — с педантичной вежливостью спросил Крабрак Лиз. Она молча улыбнулась ему. Тогда он дружески прихватил меня под руку — нашел себе дружка, встревоженно подумал я — и подвел к лестнице.
— Я, конечно, выбрал не самое удачное место и время, — доверительно начал он, — но нам обязательно нужно закончить начатый в конторе разговор.
— В самом деле? — сглотнув слюну, сказал я.
— В самом деле, Сайрус, — отозвался он. — Думается, что при нынешних обстоятельствах вам следует воздержаться от выхода на работу в понедельник. И не приходить, покуда мы не известим вас. Думается, что я должен был сообщить вам об этом сегодня же, Сайрус.
— Так, значит, я…
— Нет, Сайрус, это отнюдь не значит, что мы закончили с вами все расчеты. Отнюдь не значит, Сайрус. Боюсь, что вам еще предстоит многое прояснить и обеспечить.
— Так, значит, я…
— Прояснить и обеспечить, Сайрус, — повторил Краб-рак. — Вы вели себя оч-ч-чень, оч-ч-чень странно в течение оч-ч-чень, оч-ч-чень продолжительного времени, Сайрус. И странно — это еще оч-ч-чень мягко сказано, Сайрус. Короче, вам следует считать себя временно отстраненным от работы до выяснения некоторых важнейших обстоятельств.
Он отпустил мою руку.
— Как уже было сказано, я, конечно, выбрал не совсем удачное время и место для серьезной беседы, — продолжал бубнить Крабрак, — и мне вовсе не хочется портить вам отдых, Сайрус. Нет, этого мне вовсе не хочется. Но вам надо приготовить очччень, очччень серьезные объяснения.
— Счастливого отдыха, Дженкинс, — невольно пробормотал я. — А когда вы вернетесь, я расскажу вам кое-что неприятное.
— Что-что?
— Да нет, это я просто из комиксов. Из Билли-врального листка.
— Вот-вот, Сайрус, — сейчас же подхватил Крабрак. — Думается, что вы слишком увлечены комиксами. — Он странно глянул на меня и начал спускаться по лестнице. «Ох и подлюга, ну и подлюга», — неслышно шептал я, глядя на фалды его длинного, с разрезом пиджака.
— Мистер Уильям Сайрус, вас вызывают к телефону, — хрипло возвестили динамики.
Я кивнул Лиз и, подождав, когда Крабрак отойдет подальше, спустился вслед за ним на танцплощадку.
Глава одиннадцатая
На улице было тихо. По-вечернему прохладный сумрак освещали, то ярко вспыхивая, то мрачно приугасая, розоватые газосветные лампы. У конечной остановки трамвая, который давно уже здесь не ходил, темнела скамейка, установленная в память о советнике Норвилле; сидящие на ней старики один за другим с трудом подымались на ноги и плотнее укутывались в шарфы, собираясь идти домой. Разбрелись по домам и ребятишки, игравшие днем на кучах песка — эти песчаные кучи, возвышающиеся на окраинах Страхтона, назойливо напоминали о том, что город, медленно разрастаясь, оплетает окрестные холмы серой паутиной пыльных дорог.
Я стоял у входа в «Рокси», рассеянно рассматривая клубные витрины с глянцевыми, растрескавшимися от времени фотографиями и желтоватыми объявлениями о Бале листопада. Одна витрина была посвящена Мисс Страхтон, и на меня глядела с нее зубасто улыбающаяся Рита в картонной короне и атласной ленте. На широких кирпичных ступенях «Рокси» стоял швейцар в голубой, вылинявшей от многочисленных стирок форме Корпуса ветеранов и посматривал на прохожих настороженно-полицейским взглядом. Двое парней в ярких галстуках и с набриолиненными волосами неуверенно подошли к кассе. Это были приятели Штампа, которых я уже видел сегодня в «Мелодии».
— Опоздали, друзья, — выставив вперед руки, сказал им швейцар. — Приходите в следующую субботу.
— Это еще почему? — спросил один из парней.
— А потому, что опоздали, — ответил ему швейцар. — Мистер Мордик распорядился больше никого сегодня не пускать.
— Пошел-ка ты со своим Мордиком… — начал один из парней,
— Да нам ведь просто надо вызвать приятеля, — перебил его второй.
— Он и сам скоро выйдет, нечего его вызывать, — сказал швейцар, и парни молча ушли.
Я смотрел в глубину застеленного голубым ковром фойе на стайку девчонок, шушукающихся возле дамской уборной, и вскоре увидел, как они слегка раздались в стороны, чтобы пропустить Лиз. Некоторые неодобрительно посмотрели ей вслед. Я опять отметил про себя, как неряшливо она выглядит, и мне вспомнилось, что я, пожалуй, ни разу не видел ее в какой-нибудь другой одежде. Она появлялась после своих исчезновений ничуть не изменившаяся и словно бы одетая в униформу, так что даже в Амброзии, на параде в честь нашего победоносного ноябрьского восстания, она стояла на ступенях все в той же замшевой куртке и посеревшей от пыли юбке.
А сейчас она вышла из «Рокси» и остановилась рядом со мной у клубной витрины.
— Мисс Страхтон, — машинально пробормотала она.
— Они присудили этот титул не тому, кому следовало, — сказал я с неуклюжей галантностью.
Мы прошли мимо табачной лавки, парикмахерской и аптеки — все эти домики стояли вплотную друг к другу, — выбрались через пустырь на Новое шоссе, миновали несколько автобусных остановок с навесами и крематорий, а потом, когда последние приметы застраивающейся окраины остались позади, зашагали по проселочной дороге к Лощине Фоли.
Немного раньше в этот вечер — может быть, удирая из новопабовского концертного зала, — я начал ковылять, будто у меня плоскостопие, и сейчас безуспешно пытался избавиться от этой дурацкой походки. Мне, в общем-то, было теперь на все наплевать, и я сказал первое, что пришло в голову:
— Как ты думаешь, Лиз, жизнь и правда сложная штука?
— Умгум, — беззаботно отозвалась Лиз.
Тогда я сказал:
— А хорошо бы, если б можно было все старое зачеркнуть и начать сначала, верно? В смысле — старую жизнь. Очень мне иногда хочется начать совсем новую страницу жизни — как в записной книжке.
— Да это же очень просто, — сказала Лиз. — Переверни страницу и начинай.
— А я так и делаю каждый день, — сказал я. — Только старые-то кляксы, они все равно просвечивают. — Мне очень понравилась моя последняя фраза.
Тем временем мы дошли до пустыря, перебрались через поваленный забор и по кучам раскрошенных кирпичей, по осколкам битых бутылок начали спускаться в Лощину Фоли.
— Что это у тебя такая странная походка? — спросила Лиз.
— Странная? — переспросил я.
— Да вроде ты катишься на роликовых коньках.
У меня в голове закружилось с полдюжины всяких завиральных объяснений — от неудобных башмаков до расстройства вестибулярного аппарата. Но я просто сказал:
— Решил немного походить как плоскостопые.
— Ох и балбесина, — сказала Лиз.
Страхтон, словно спрут, просовывал в лес свои щупальца: на пути нам то и дело попадались искореженные детские коляски, шуршали под ногами бумажные мешки от цемента, жужжала где-то рядом трансформаторная подстанция, уродливо высились полузасохшие древесные стволы, — но, миновав завалы из сырых картонных коробок и заржавленных велосипедных колес, мы все же оказались наконец в настоящем дубовом лесу среди живых деревьев и зарослей высокого, по пояс человеку, папоротника.
— Да, старые кляксы, они все равно просвечивают, — повторил я.
— Значит, новая страница — это не выход, — сказала Лиз. — Надо попробовать начать новую книжку.
Она, пожалуй, даже искусней меня умела растягивать до бесконечности любую метафору. Я уже радостно обдумывал, что надо бы выбросить все старые книжки, но Лиз неожиданно начала совсем новую тему.
— Вся беда твоя в том, что ты — как бы это получше сказать? — целиком замкнут на свои внутренние переживания. Ты вроде ребенка у пруда в жаркий день. Тебе бы искупаться, а ты размышляешь, не слишком ли холодная в пруду вода, не слишком ли плохо ты плаваешь да не выругает ли тебя за купание мама,
Мне не очень-то хотелось пускаться в сомнительное путешествие к берегам выдуманного ею пруда, и я туманно сказал:
— Я, Лиз, просто не знаю, нырнуть мне или поплыть.
— Да, похоже, что тебе нужен наставник, — плутовато глянув на меня, сказала Лиз. Я сразу понял, куда нас приведет этот разговор, и решил оставить ее у пруда одну, но она и сама не стала продолжать. Сколько-то времени мы молча пробирались через низкорослый кустарник.
Я подыскивал какую-нибудь приятно свежую бестолковщинку, и меня переполняла теплая благодарность к Лиз за то, что она охотно удирала со мной в придуманный мир. Я решил поговорить о Лондоне.
— Знаешь, почему меня так привлекает Лондон? — спросил я.
— Нет, мистер Боунс, я не знаю, почему вас так привлекает Лондон, — ответила она, бессознательно копируя Артура.
— В Лондоне человек может затеряться, — объяснил я. — Лондон, знаешь ли, удивительный город с удивительно длинными улицами и удивительными людьми. — Тут мне пришлось замолчать, потому что эта тема явно не интересовала Лиз, да у меня и не было придумано продолжения. Лиз внезапно остановилась, и я обернулся к ней, думая, что сейчас она пылко обнимет меня— я ведь неплохо изучил ее порывистый темперамент.
Но она скрестила руки на груди и оглядела меня с широкой, непроницаемой улыбкой, которая чуть-чуть, совсем чуть-чуть напоминала Ведьмину, разученную, конечно же, перед зеркалом.
— Послушай, Билли.
— Угу.
— Можешь ты мне кое-что сказать?
— Конечно, Лиз.
— Ты правда знаешь Парня с холмов?
И я ей в ответ — резко, вызывающе:
— Конечно, знаю!
— Честно-пречестно?
— Ну, знать-то ведь можно по-разному, Лиз. Я встречался с ним…
— Досчитай до пяти и скажи мне правду, Билли. — потребовала Лиз. Это была ее старая, ненавистная мне уловка. Я театрально прижал руку к сердцу и зло, с визгливыми нотками в голосе сказал: «Мне стыдно лгать, я никогда его не встречал», — превосходно понимая, что мой тон да и сама фраза прозвучали натужно и смехотворно.
— Глупый ты глупый, — спокойно сказала Лиз.
Я распылил Парня с холмов — а заодно уж и всю эту сцену — из амброзийского лучемета, и мы отправились дальше.
— Видно, если нету точки опоры, перевернуть страницу жизни так же трудно, как мир, — сказал я.
— Запиши, когда-нибудь пригодится, — сказала Лиз, как наверняка сказал бы на ее месте Артур.
Лощина Фоли была просто-напросто никчемушной дубовой рощей в низине, но на выходе из нее, у нового жилого района — усатому Парню с холмов не мешало бы прогуляться по этой жуткой оранжево-кирпичной новостройке, чтобы больше не бубнить про уютно-брусчатый Страхтон, — так вот, на выходе из рощи зеленел холмик, покрытый шелковистой травой, которую можно было продавать в магазинах на ярды вместо зеленого бархата, и я всегда приводил сюда своих девчонок, и каждая из них вела здесь себя по-своему, а я, конечно, каждой подыгрывал. С Ритой мы страстно кидались друг другу в объятия и медленно опускались на зеленый склон; с Ведьмой садились в ярде друг от друга и вроде бы каждый сам по себе (интересно, кстати, как она себя чувствует после пригоршни любовных пилюль, подумал я); а с Лиз, переглянувшись, усаживались в траву словно бы по команде.
— Так кого ты любишь? — спросила Лиз.
— Свою деваху, — по-йоркширски растягивая слова, ответил я.
— Как Граббери в молодости?
— Во-во, девка, так.
— Ну, а теперь скажи по-человечески, кого ты любишь, — потребовала Лиз.
— Конечно, тебя, Лиз, — отозвался я, пытаясь понять, правду я ей сказал или нет. Потом опустился на колени и потянул ее к себе. Но она не захотела садиться.
— А как насчет Барбары?
Я настолько редко называл Ведьму Барбарой, что не сразу понял, о ком Лиз говорит.
— Что насчет Барбары? — после минутной паузы — спросил я.
— Как ты к ней относишься? — серьезно уточнила Лиз. Я снова попытался притянуть ее к себе, прикидывая, не ответить ли ей вопросом: «А как я к ней отношусь?», но потом сказал:
— Да никак я теперь к ней не отношусь.
— Ты уже это говорил.
— Верно, Лиз, говорил. Но теперь с этим и правда покончено. — Я, естественно, не сказал Лиз, как с этим покончено. Покрепче ухватив ее за руки, я потянул ее к себе, да так ловко, что она упала прямо на меня. Тут-то и надо было устроить любовный пикничок, но, падая, Лиз опрокинула и меня, а когда я приподнялся, она уже сидела рядом со мной, закуривая сигарету, — ее никотинные, так сказать, уловки раздражали меня не меньше апельсинных уверток Ведьмы.
— Я хочу, чтобы ты на мне женился, — рассеянно прижигая огнем сигареты травинку, сказала Лиз.
— Знаю, Лиз, — откликнулся я. — Придет время, и я обязательно на тебе женюсь.
— А зачем нам ждать, Билли? — спросила Лиз. — Давай поженимся прямо сейчас.
Мысль о немедленной женитьбе показалась мне такой дикой, что я воспринял ее как новую словесную игру и весело сказал:
— Сейчас-то уже вроде бы поздновато, Лиз.
— На той неделе, — не принимая шутливого тона, сказала она. — Перед твоей поездкой в Лондон. Или, если хочешь, в Лондоне, мне все равно.
Я начал расстегивать пуговицы на ее блузке, представляя себе заседание суда, где матушка слезливо, но решительно оспаривает мое право жениться. Расстегивание пуговиц стало у нас привычным ритуалом, и я делал это почти без волнения, как если бы просто помогал ей снимать пальто.
— Что-то слишком часто приходится мне в последнее время обручаться, — пробормотал я.
— Я не хочу обручаться, — сказала Лиз. — Я хочу выйти за тебя замуж.
— Поэтому ты так часто и удираешь?
— Я хочу выйти за тебя замуж, — упрямо повторила Лиз.
— Ну хорошо, Лиз, хорошо, — сказал я.
Тут мне стало трудно ей отвечать, потому что у меня вдруг возникло такое чувство, что кто-то нас подслушивает. Вечер был безветренный, но в зарослях рододендрона на склонах холма то и дело раздавались какие-то подозрительные шорохи. Я внимательно огляделся, но никого не увидел.
— Как это «хорошо?» — возмутилась Лиз. — Я же сделала тебе предложение! Разве ты не должен сказать, что это, мол, слишком неожиданно, или что ты согласен, или еще что-нибудь?
Я подыскивал неопределенный ответ, который успокоил бы Лиз, но меня-то оставил бы свободным. Оглянувшись, я заметил, что в кустах позади нас кто-то прячется, и мне стало ясно, что это наверняка Ведьма, решившая застенографировать весь наш разговор своим погано безупречным почерком добросовестной секретарши.
— В общем, ты, конечно, права, — сказал я. — Нырять надо сразу в самую глубину.
Даже если бы Ведьма застенографировала эту фразу, она не помогла бы ей доказать в суде, что я нарушил брачное обещание. А теперь потрудитесь объяснить, мистер Сайрус, как понять ваши слова о том, что нырять надо в самую глубину… Я высвободил расстегнутую блузку из-под юбки и принялся поглаживать Лиз по спине, словно кошку.
Лиз крепко зажмурилась — как всегда, когда она собиралась сказать что-нибудь, на ее взгляд, бесстыдное, — и загасила сигаретку о землю.
— Помнишь, чего ты от меня хотел в тот вечер на Страхтонской пустоши, а я сказала, что, дескать, потом?
Мне очень хорошо запомнилась холодная ночь перед последним исчезновением Лиз. Мы сидели на стариковской лавочке под навесом, и я сделал Лиз предложение: предложение не всерьез, а просто чтобы погреться у мечты в знобкие предрассветные часы. И оно согревало нас, даже когда, промерзшие до костей, мы шли домой, а будущее представлялось нам сгоревшим дотла фейерверком.
— Помню, — сказал я, чувствуя, что мое сердце колотится как бешеное. Штамповская приговорка «Мы живем регулярно» с циничной наглостью ворвалась в мое сознание. Кусты снова зашуршали, и на этот раз я подумал, что там скрывается именно Штамп, а в руках у него немецкий фотоаппарат с инфракрасным объективом. Или Штамп с фотоаппаратом, или Ведьма с магнитофоном — кто-нибудь из них.
— Вот сейчас и пришло это потом, — сказала Лиз.
Я медленно поцеловал ее в оба глаза. У нас давно уже установились отношения это-можно-а-дальше-ни ни, от которых нам было одинаково тошно, но сейчас, когда все барьеры внезапно рухнули, я почувствовал, что передо мной медленно разверзается зловещая пропасть.
— Правда? — сразу охрипнув и пытаясь откашляться, спросил я. Она многозначительно кивнула. В зарослях рододендрона Ведьма торопливо меняла магнитофонную кассету. Потом мне почудилось, что к нам подкрадывается Крабрак с ордером на мой арест, но я тут же забыл о нем под натиском куда более важных забот.
— Ну, а это… как его… а дети?
— Пусть будут дети, — с расточительной радостью сказала Лиз. — Пусть у нас будет целая куча детей.
— Да нет… сегодня-то… У меня ведь нет… ну, этого, ты знаешь.
— И не надо, — сказала Лиз. Я с тоской глянул во тьму рододендроновых зарослей. Ведьма крутила регулятор громкости. Штамп менял фотокассету. И, облизывая пересохшие губы, вверх по склону холма полз Крабрак. Лиз прильнула ко мне и прикусила меня за ухо. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и я чувствовал, как во мне безвозвратно умирает желание.
— Билли, — прошептала Лиз.
— Умгум, — откликнулся я.
— Можно тебя спросить?
— Умгум.
Она опять зажмурилась и сказала:
— Ты знаешь, что значит virgo intacta.[1]
— Знаю, Лиз.
— А я не такая, Билли.
Я сидел молча, вслушиваясь. У Ведьмы барахлил магнитофон, и Крабрак со Штампом пытались его наладить.
— Знаю, Лиз, — после паузы сказал я.
— Рассказать, как это случилось?
— Не надо, Лиз.
Я заставил себя положить руку ей на грудь и стал легонько сжимать ее пальцами. Лиз начала тяжело дышать, потом ее затрясло, и мне было непонятно, отчего это она вдруг так распалилась.
— Расскажи, Лиз, — прошептал я.
— Нет. Не сейчас.
— Нет, расскажи.
Лиз резко выпрямилась и запахнула куртку. Потом рассеянно глянула в темноту. А потом принялась чертить пальцем круги на траве.
— Ты думаешь, я поэтому все время уезжаю, да? — спросила она.
Я молча пожал плечами. Ни о чем я сейчас не думал.
— Спроси меня, где я была эти пять недель.
— А зачем? — с притворной горечью проговорил я, надеясь отгородиться препирательствами от решительных действий.
— Да пожалуй, что и незачем, — согласилась Лиз. Я подлез под куртку и снова положил руку ей на грудь, но теперь она показалась мне безжизненной и холодной. Лиз начала говорить — ритмично и без пауз, как будто этот монолог был у нее заранее отрепетирован.
— Мне все чаще хочется на время уехать отсюда. Не от тебя, Билли, нет — я не люблю с тобой расставаться. Мне хочется спрятаться от этого города. От знакомых. Я не хочу всех знать… и чтоб меня все знали… Ты понимаешь, про что я говорю?
Мы обсуждали это и раньше — но как бы в другом ключе. А сейчас, предчувствуя совсем новое, полнейшее единение между нами, я взволнованно ждал какого-то удивительного открытия.
— Мне хочется стать невидимкой, — продолжала Лиз, — чтобы люди не знали, как я живу, чтоб не думать о них, а главное, ничего им не объяснять. Я и сейчас еще с радостью вспоминаю ту нашу ночь на Страхтонской пустоши, потому что никто нас там не видел, потому что мы…
— Вот-вот, Лиз, — горячо подхватил я и, взяв ее за руки, едва сдерживая дрожь, заговорил быстро, отрывисто, так что короткие паузы только резче подчеркивали смысл моих слов.
— Вот-вот, Лиз, мне тоже иногда хочется, чтоб меня никто не видел. И знаешь, как я этого добиваюсь? — Вообще-то у меня никогда не возникало желания стать невидимкой, но я прекрасно понял, о чем Лиз толкует, и, сразу же настроившись на нужный лад, принялся рассказывать ей, торопливо, но вполне внятно, про свой собственный опыт. — Я еще никому об этом не говорил. У меня, понимаешь ли, есть страна — придуманная страна, — куда я могу спрятаться от всех на свете. Там, конечно, тоже живут люди…
— Правда, Билли? — восторженно воскликнула Лиз. — А я ведь так и знала! Так и знала, Билли! Господи, ну до чего же мы одинаковые! Я запросто могу читать твои мысли. Город вроде Страхтона, только где-нибудь у моря, чтобы мы могли целый день сидеть на берегу… Я частенько мечтаю об этом, Билли.
Я был и обрадован, и огорчен: у меня, ясное дело, не хватило бы слов, чтоб рассказать ей об Амброзии со всеми подробностями, но я надеялся, что она и без подробностей все примет и все поймет. Мне хотелось нараспашку открыть перед ней душу — пусть бы она своими собственными чувствами ощутила мой мир.
Я принялся считать про себя, стараясь немного успокоиться, и потом, преодолевая лихорадочное волнение, сказал:
— Это не просто город, это большая страна. И я там премьер-министр. А ты… ты — министр иностранных дел.
— Понятно, сэр, — с шутливо-торжественной почтительностью сказала Лиз.
— Я думаю об этом чуть ли не целыми днями. Думаю, что если б мы поженились и жили бы в нашем сельском коттеджике, то нам никто не мешал бы мечтать о моей стране…
— У камина, — мягко добавила Лиз. — И чтоб у коттеджика пихты, а вокруг — никакого другого жилья.
Я заглянул ей в глаза. Она была взволнована не меньше меня — но не так бурно. Я мысленно подбросил монету: если орел — расскажу ей все, если решка — повременю. Выпал орел, и я начал рассказывать:
— У нас в доме будет особая комната с зеленой дверью. Большая такая комната, и если туда войдешь— через эту зеленую дверь, — то сразу окажешься в моей стране, в Амброзии. Никого другого мы туда пускать, конечно, не станем. Да никто и не узнает, где она, эта наша комната, — только мы. И ключа от нее ни у кого не будет. Мы склеим из картона дома для главных городов, а раскрашенные оловянные солдатики превратятся у нас в мирных горожан. А еще можно начертить карты страны. И вот представь себе дождливый вечер. Мы запираемся в нашей амброзийской комнате. Никто нас не видит. Вдоль одной стены там тянется широкая полка — вроде длинного стола. На полке — листы чистой бумаги для амброзийских газет. Может быть, если нам захочется, мы придумаем военную и чиновничью форму. В общем, это будет наша собственная страна… — Я внезапно замолчал, снова глянув на черные заросли, в которых, возможно, таились соглядатаи, и услышал настороженно шуршащую тишину холодной осенней ночи. Вместо любовного пикника у нас получился словесный, но я нисколько не огорчился. Лиз, улыбающаяся и, как обычно, довольная жизнью, тоже без возражений приняла эту замену, считая, видимо, мою словесную игру нашей общей и стародавней фантазией.
— А еще пусть у нас будет модель железной дороги — для нас, а не для детишек, — сказала она. — И в саду — широкий ров.
Откинувшись назад, я растопырил обе пятерни и провел ими по траве, чтобы избавиться от перепоночного ощущения, которое почему-то снова стало мучить меня — как нервный тик.
— Ты выйдешь за меня замуж, Лиз? — бездумно прошептал я. Думать у меня сил сейчас не было.
— Завтра, — склонившись надо мной, хрипловатым шепотом ответила Лиз. Я опрокинулся навзничь, крепко обнял ее и потянул вниз, чувствуя себя одновременно и несчастным, и умиротворенным. Она начала целовать меня, не замечая в темноте моих широко открытых глаз. Ее тело под замшевой курткой было волнующе теплым, и, не разрешая себе ни о чем думать, забыв, где мы, я целиком отдался горячей, обессиливающей истоме. Лиз медленно расстегнула молнию, и я почувствовал, что пыльной черной юбки на ней уже нет. Под моими холодными руками по ее шелковистой коже пробежала чуть заметная дрожь… Потом я пришел в себя — благодарный, потеряный, бездумно подчинившийся ее воле.
А потом прошептал:
— Там, по-моему, кто-то подглядывает.
И тотчас в кустах раздался треск ломающихся веток, мгновенно заглушенный пронзительным свистом.
— Ну, сейчас кто-то подавится у меня своими треклятыми зубищами! — заорал я, пытаясь, как араб, завернуться в расстегнутую, спадающую с меня одежду. Из кустов выскочили три смутные фигуры и, выкрикивая друг другу какие-то нечленораздельные советы, помчались вниз. Я узнал их даже в темноте: это были двое парней, приходивших к «Рокси», когда я ждал Лиз, и Штамп. Наспех застегнувшись, я погнался за ними, но не догнал и у дороги остановился. Штамп, удирая, пьяно горланил: «Ох милая… милая…» — он повторял слова, которые я шептал несколько минут назад. Уже возвращаясь, я услышал его издевательский вопль: «Хотите, я нарисую вам карты, деточки, чтоб вам было во что играться?»
Засовывая рубашку в брюки, я поднялся на холм. Лиз причесывалась.
— Нам надо было проделать все это прямо на танцплощадке, — беззаботно сказала она. Меня от ее слов сначала бросило в жар, а потом знобко затрясло.
— Пойдем, Лиз, — коротко сказал я.
Мы медленно зашагали к «Рокси».
— Ничего, я еще с ним встречусь, я еще заткну ему глотку его погаными плакатами, — пробормотал я. Но мысль о встрече со Штампом — да и с кем угодно другим — напугала меня до смерти.
Глава двенадцатая
Мне не хотелось заходить в «Рокси», и я остался ждать Лиз у входа, а она пошла за своей сумочкой. Теперь было уже по-настоящему поздно. Швейцар, сменивший форму на обыкновенный штатский костюм, затаскивал в фойе рекламные щиты и приставлял их к стенке. Медноголосое завывание джаза мягко оттенялось мерным буханьем ударника, похожим на вздохи паровой машины. Когда музыка смолкла, динамики пробубнили какое-то невнятное объявление — не иначе как мистера Сайруса опять вызывали к телефону. Интересно все-таки, кто мог звонить мне в «Рокси» и зачем? От моей сигареты бесшумно отвалился дюймовый столбик белесого пепла. Я сунул сигарету в рот и начал прохаживаться туда-сюда по освещенной площадке, разглядывая допотопные прически в витрине парикмахерской Молли и белые картонные прямоугольнички на деревянной доске объявлений Агентства по продаже недвижимости. И парикмахерская и агентство выглядели заброшенными много-много лет назад.
Мое чутье иногда верно подсказывало мне, случится в моей жизни какое-нибудь событие или нет. И вот сейчас я попытался предугадать, выйдет ли ко мне снова из «Рокси» Лиз, но, не сумев достоверно представить себе, как она появляется в дверях со своей радостно-успокоительной улыбкой, решил, что больше уж мы сегодня, наверно, не увидимся. Ладно, подожду еще пять минут, решил я и принялся считать, загибая после каждого шестого десятка палец на левой руке. Загнув третий палец, я услышал сзади какой-то шум и сбился со счета. А оглянувшись, увидел Штампа и двоих его кретинов приятелей: они брели, пошатываясь, в сторону «Рокси». Вконец окосевший Штамп пронзительно выкрикивал какую-то несуразицу про леса. Я отступил к дверям агентства. Как раз за минуту до этого швейцар, держа в руке совок для кокса, ушел за угол «Рокси», и вход никто не охранял. Хихикая и подталкивая друг друга локтями, эти три похабника ввалились в фойе. «А ну-ка предъявите ваши билеты! — заорал своим приятелям Штамп. — Эй, мистер, они хотят протыриться без билетов!»
Я устал и проголодался, как бездомная собака, и у меня было такое чувство, будто кто-то сыпанул мне в глаза песку. Подойдя к «Рокси», я опять заглянул в фойе, но Лиз там не было. Возможно, она уже принялась расспрашивать обо мне своего усастого Парня с холмов. У дамской уборной пьяный Штамп разговаривал с Ритой — кажется, она попросила у него пенсовую монетку. Я до полусмерти устал, проголодался и продрог.
Заглянув еще раз в фойе, я повернулся и пошел домой; а чтобы немного приободриться, попытался думать об Амброзии. Но ее границы оказались накрепко закрытыми. Тогда я преобразился в председателя лейбористской партии Страхтона, и меня избрали от нашего города в парламент — такого молодого члена палаты общин еще не знала история, — а через несколько дней советник Граббери получил от меня письмо:
Дорогой советник!
Вопрос о национализации похоронного дела обсуждается, как Вы, может быть, знаете, в специальной парламентской комиссии. Учитывая Ваш многолетний похоронный опыт и глубокое знание общественной жизни, мы хотели бы, знать Ваше мнение относительно нового законопроекта. Лично я — возможно, Вы вспомните юного работника Вашей конторы Сайруса — очень хотел бы…
На углу Сабосвинцового переулка светились окна лавочки «Рыба с картофелем» — яркий островок света среди темных соседних витрин. Я машинально спустился по истертым ступеням в облицованное белой плиткой чрево рыбной лавочки и стал в маленькую очередь у прилавка, загроможденного бутылками с фруктовой водой, кипами газет, рекламами кинофильмов и объявлениями о распродажах удешевленных товаров.
Благодарно привалившись к засыпанному солью мраморному прилавку, я с удовольствием вдыхал запах уксуса, горячей рыбы и жареной картошки. Зеркальную стенку над жаровней в глубине лавочки украшала надпись «Под совершенно новым руководством». Я глянул на толстых теток в белых, заляпанных жирными пятнами передниках, суетящихся позади прилавка, — все они работали тут уже многие годы; но дядька у жаровни, рослый и угрюмый, как все хозяева таких лавочек, был новый. Он повернулся к тазу с жидким тестом, в котором жарят рыбу, и я мгновенно узнал самоубийцу из моих давних кошмаров. А самоубийцей-то он прослыл благодаря мне, потому что несколько лет назад я всполошил всю улицу, где у него тогда была рыбная лавка, рассказав, что он повесился, — с тех пор и поныне он был едва ли не самой зловещей фигурой в моем Злокозненном мире. Сомневаться не приходилось — это был он. По его холодному, оценивающему взгляду — мне частенько приходилось выдерживать такие взгляды на улицах Страхтона — я понял, что он меня тоже узнал. И тут мне на мгновение почудилось, что все мои враги окопались в нашей округе, готовясь к решающему выступлению. Я купил пакетик рыбы с картофелем и, поспешно выбравшись из лавки, принялся сочинять письмо Крабраку.
Дорогой мистер Крабрак!
Как Вы, наверное, знаете, вопрос о национализации похоронного дела уже практически решен, и мы подыскиваем человека, искушенного в производстве гробов. Помнится, когда я был у вас клерком (и негодником, однажды забывшим разослать клиентам календари!!!). Вы показывали мне чертежи чрезвычайно экономичного гроба…
Рыбы с картошкой мне хватило как раз до дома. Я выбросил промасленный пакет под кустики нашей живой изгороди, вытер о платок руки и, прежде чем открыть дверь, закурил сигарету. Настроение у меня уже почти исправилось.
Отец был в гостиной. Широко расставив ноги, он стоял лицом к двери возле камина, и его лысый затылок отражался в тусклом надкаминном зеркале среди вытравленных на нем диснеевских зверьков. Грамота о принятии отца в Братство оленей, густо исписанная готическими буквами и с множеством печатей, стояла, прислоненная к вазочке, на каминной полке. Меня удивило, что отец еще не спит. Жилетка у него была расстегнута, и он молча смотрел, как я вхожу в комнату. Я спросил:
— Ты вроде хотел, чтоб я принес жареной рыбы с картошкой?
— Странно, что эта растреклятая лавочка еще открыта — в такую-то растреклятую позднь, — сказал отец. Кивком головы он указал на часы с кукушкой и, повернувшись, чтобы выбросить в камин окурок, как бы между прочим добавил: — Они в больнице.
— Ты про кого?
— Про твою бабушку с матерью, про кого же еще! Бабушке опять стало худо. Мы тут целый час пытались тебе дозвониться. Где ты шляешься?
Меня кольнуло неясное опасение: только этого мне еще не хватало. Обыкновенно, когда у бабушки кончался припадок, она сидела себе тихонечко в своем кресле, постепенно набираясь сил для более или менее нормальной жизни. А вот повторный припадок грозил ей, как нам говорили, серьезными осложнениями. Я был рад, что ее убрали из дому.
— А что с ней? — хрипловато, чтоб казаться сочувственно-озабоченным, спросил я отца.
— Ты вот растолкуй-ка мне сперва, что с тобой, — медленно закипая, проворчал отец. — То он говорит, что идет на свои растреклятые танцульки, а сам околачивается в пабе. А то мы ему полночи названиваем, и его, видите ли, нигде нет!
— У меня… — начал я.
— Ты вот у меня скоро доуменякаешься! — рявкнул отец. — Ну-ка вызывай такси и катись в больницу — мать уже небось вся извелась.
— Да скажи ты по-человечески, что там с бабушкой! — выкрикнул я.
— А что с ней всегда бывает, как ты думаешь? Звони-ка, вызывай такси, — отрезал отец.
Я нехотя вышел за дверь и стал звонить из холла в городской таксомоторный парк. А отец тем временем орал: «И чтоб я больше не видел, как ты являешься домой в такую растреклятую позднь!» Но что-то ему явно мешало разъяриться окончательно: он орал озабоченно и даже вроде бы сдержанно. Да-да, у него что-то еще было на уме. Я положил трубку и начал подыматься по лестнице. Вот тут-то отца и прорвало. Он выскочил из гостиной и в полный голос зарычал:
— Нечего тебе наверху делать!
— Да я просто подожду там такси.
— А я говорю, нечего тебе наверху делать!
— Да умыться-то мне можно, по-твоему, или нет? — спросил я отца и прислонился к стене, пытаясь изобразить смиренную рассудительность.
— Съездишь и чумазый, — откликнулся отец. — А наверху тебе делать нечего. Хватит, напрятал и нахватался там чего не надо!
— Про что это ты толкуешь-то? — скорчив изумленную гримасу, спросил я.
— Сам небось знаешь, про что я толкую, — отозвался отец. И рявкнул: — Ты почему не отправил материно письмо?
Я похолодел.
— Ну, чего молчишь? Или оглох?
— Какое письмо? — пролепетал я.
— Какое письмо? Какое письмо? — сморщившись в злобной насмешке, передразнил меня отец. — А ты брось придуряться-то. Небось получше моего знаешь, какое письмо. Которое мать дала тебе отправить в «Час домашней хозяйки», вот какое!
Я отшатнулся, чувствуя, что на лице у меня застыло паническое выражение, и пытаясь мгновенно сообразить, сколько моих преступлений им уже известно, если они обнаружили матушкино письмо.
— Я же ей говорил, что я его послал!
— Черта лысого ты послал! Оно у тебя в сундуке. А тебе его дали, чтобы послать, растреклятый ты лентяй!
Я немножко приободрился, надеясь, что отец припишет все только моему лентяйству, и с подчеркнутой беспечностью сказал:
— Да послал я его. А в ящике был черновик.
— Какой еще растреклятый черновик? Это материно письмо. И не мог ты его послать, раз оно валяется у тебя в сундуке!
Я спустился на одну ступеньку, чтобы подойти к отцу поближе, и сказал ему нарочито спокойным, растолковывающим тоном:
— В мамином письме было очень много ошибок. Понимаешь? Ну, и я подумал, что если я его перепишу — перепишу без ошибок, — то к нему отнесутся внимательней, вот и все.
— А кто тебя просил его переписывать? И кто тебя просил его вскрывать? Ты бы лучше научился держать свои вороватые руки подальше от чужих вещей. Понял? И скажи-ка мне заодно, откуда у тебя столько календарей?
— Каких календарей?
Этот вопрос вырвался у меня автоматически — так дергается нога, когда невропатолог стукает человека по колену своим молоточком. У меня просто не было времени, чтобы придумать какой-нибудь запутанный ответ или убедительно соврать. Отец глубоко вздохнул и принялся теребить размочаленный ремень на брюках.
— Ты у меня допереспрашиваешься, голубчик, я тебе устрою растреклятую жизнь, — процедил он. — Какие календари! Знаешь небось, какие! Ты не думай, что я не толковал с советником Граббери, потому что я толковал. Он мне все про тебя рассказал. А ты меня выставил на треклятое посмешище, потому что за все хватаешься своими вороватыми ручищами. Где мой разводной ключ из гаража? Тоже небось начнешь спрашивать, какой?
— Ничего я не начну спрашивать! Ты сам-то подумай — ну на кой мне твой разводной ключ?
— А на кой тебе две сотни ихних растреклятых календарей? И на кой тебе растреклятые гробовые таблички? Ты просто повредился в уме, вот и весь сказ.
Я понял, что меня может спасти только ярость.
— Еще бы не повредиться! — заорал я, спустившись в холл и подступая к отцу вплотную. — Я не хотел работать у Граббери с Крабраком, а ты меня заставил. Ты заставил — ты во всем и виноват!
— А ты у меня доорешься, растреклятый щенок! — зарычал отец. — Я тебе враз язык-то оторву!
— Господи, спаси и помилуй, — пробормотал я, машинально закрывая рот,
— Лучше пусть бы он уму-разуму тебя поучил, — сказал отец. — А то, вишь, спаси его и помилуй, ровно растреклятую молодую девицу. — Отец уже остывал, как изъярившийся дотла вулкан. Я сел на ступеньку и обхватил голову руками, чтобы он пожалел меня, несчастненького, и ушел. Он и повернулся уходить, но напоследок проворчал: — Может, хоть мать добьется от тебя какого-никакого толку. И не вздумай орать на нее, как ты на меня орал, а то я повыбью из тебя эту растреклятую дурь. — Он подошел к двери в гостиную, взялся за ручку и принялся вертеть ее туда-сюда, придумывая, как бы закончить разговор нормальным тоном, без крика. Я попытался ему помочь.
— Говорил ведь я тебе, что не хочу работать у Крабрака и Граббери.
— Да ты, нигде не хочешь работать, — отозвался отец. — Тебе бы в самый раз до смерти сидеть на моем горбу. Скажешь, нет?
— Конечно, нет. Я и сам заработаю себе на жизнь.
— Это как же?
— Комические пьесы буду писать, — невнятно пробурчал я.
— Пьесы можно вечером писать, а днем надо работать, — сказал отец. — Кто, по-твоему, займется нашим растреклятым семейным делом, когда меня не будет? Ты об этом-то подумал? — Он ткнул большим пальцем в сторону гаража, и мне пришла на ум наша с Артуром сценка насчет семейного бизнеса Иосии Блудена. Но пойми же, отец, у каждого человека свое призвание, вспомнил я. А вслух сказал:
— Ты же двадцать раз говорил, что не нуждаешься в моей помощи.
— Потому что ты лентяйничал, — отпарировал отец. — И я, как проклятый, управлялся один. Ведь кто-то должен содержать семью.
Отец, посмотри в окно. К нашему дому приближаются какие-то люди.
— Ну, ты же еще не собираешься на покой, верно? — с натужной шутливостью сказал я. Отец неприязненно поморщился и ушел в гостиную. Когда дверь закрылась, я встал со ступеньки и поднялся наверх.
— Да держись подальше от бабушкиной спальни, понял? — ядовито крикнул из гостиной отец.
Я на цыпочках вошел в свою комнату и сразу бросился к Уголовному сейфу, убеждая себя, что тревога была ложной. Но сейф явно открывали: он стоял, небрежно и косо полузадвинутый под кровать, и марки на его крышке не было. С невольным облегчением подумав, что теперь мне нечего скрывать от предков, я выдвинул сейф на середину комнаты, открыл крышку и заглянул внутрь. Календари лежали на месте, но кто-то в них рылся. Матушкино письмо исчезло. Я пошарил под календарями рукой — до пачки счетов, которые отец поручал мне отсылать клиентам, предки, видимо, не добрались. Торопливо разворошив календари, я первым делом взял счета и сунул их в карман. Открытки от Лиз и «Рассказы для мужчин» предки не тронули, а в письмах Ведьмы, похоже, рылись. Я бегло просмотрел их и безжалостно испепелил из огнемета всю эту сладкую Ведьмину бестолковщину, а заодно уж и саму Ведьму.
А потом, сидя на кровати, попытался представить себе, как мой амброзийский отец приглашает меня в библиотеку для откровенного мужского разговора. Но из этого у меня ничего не получилось, и тогда, заглянувши мысленно в свое будущее, я увидел себя — совершенно ясно увидел — на городском вокзале, сел в лондонский поезд, доехал до Лондона, зашел к Бобби Буму, договорился с ним о совместной работе и отправился обедать бобами в томатном соусе. Тут я снова вынул бумажник и пересчитал деньги — у меня осталось восемь фунтов двадцать семь шиллингов.
Я достал из кармана Бумово письмо, разгладил его на колене и прочитал — в сотый, наверно, раз. Дойдя до слов Однако несколько парней регулярно присылают мне свои произведения, я вскочил, вытащил из-под комода наш старый чемодан и вывалил оттуда стопку покрывал да несколько джемперов, которые мама хранила там в полиэтиленовых пакетах. Потом выдвинул ящики комода и собрал в кучу свои рубашки, носки и носовые платки. Бросив все это на кровать, я достал из шкафа выходной костюм, сложил его, не снимая с плечиков, вдвое и аккуратно расстелил на дне чемодана. Потом заглянул в Уголовный сейф: календарей у меня должно было остаться около ста семидесяти штук. Я запихал их грудой под костюм, но потом опять вынул и принялся упаковываться всерьез, прокладывая календарями каждый слой одежды. Когда я покончил с этим, крышку чемодана закрыть было невозможно. Вынув две рубашки и один календарь, я снял с него бурый конверт, прислонил календарь к стене за коронационной коробочкой на каминной полке, а конверт бросил в камин. Потом уселся на крышку чемодана и запер ее. Ведьмины письма и открытки от Лиз я сунул в карман плаща, а остальной бумажный хлам оставил на память предкам в Уголовном сейфе.
После этого, негромко мурлыча песенку, я завернул в ванную и прихватил свою зубную щетку.
— Ты что — не слышишь? Такси приехало! — крикнул мне снизу отец.
— Иду, — отозвался я и выключил наверху свет.
Глава тринадцатая
Отец не видел чемодана, и я выбрался на улицу без всяких затруднений. Шофер такси оказался знакомый: он помогал иногда отцу в гараже. Я сел на вытертое, засаленное сиденье, привалился к его кожаной спинке и сделал вид, что мы с шофером не знаем друг друга. Оказавшись в такси, я всякий раз рисовал себе сценку из великосветской амброзийской жизни; вот и сейчас, хотя мне вроде и не очень хотелось об этом думать, я представил себе, что подъезжаю в шикарном «бентли» к фешенебельному загородному ресторану. «Вы давно ели, Бенсон? Тогда поставьте машину на стоянку и подымитесь ко мне».
— Что случилось-то? — спросил меня реальный шофер такси, сворачивая в Сабосвинцовый переулок. — Кто-нибудь заболел?
— Бабушка, — отозвался я. — У нее было два припадка за один вечер.
— Что ж, ничего не поделаешь, — сказал шофер. — С годами-то люди не молодеют.
— Оно конечно.
— Но вообще-то она у вас бойкая старушка, верно?
— Это уж точно.
Белый портландский камень, из которого была выстроена Страхтонская городская больница, потемнел у подоконников и покрылся какими-то рыжими лишаями от «верескового» йоркширского воздуха. Сейчас, в свете фонарей на бетонных столбах, больница еще больше, чем обычно, напоминала сумасшедший дом. Мы остановились у обшарпанных двухстворчатых дверей, и я попросил таксиста подождать. Чемодан я прихватил с собой. Больница встретила меня запахом лавандовой политуры для мебели, и мне показалось, что я дышу через бабушкину желтую тряпку, которой она протирала шкафы. Безлюдный холл был увешан портретами муниципальных советников и благотворителей. Открыв белую дверь, я вошел в приемный покой.
Здесь шла полуночно-сонная, но по-своему напряженная жизнь. Женщины, сидящие на лавках с высокими, спинками, согласно обсуждали невнимательных докторов, скудные пенсии и дырявые крыши. Они коротали время, дожидаясь, когда их мужьям или, может, детям окажут какую-то неотложную помощь. Этих же — а может, просто точь-в-точь похожих — женщин я видел и в «Новом пабе»: у них был такой вид, будто они до мельчайших тонкостей знают все тайны и жизни, и смерти, и не знаю уж чего еще. Но сейчас я им почему-то не позавидовал. Отдельно от них сидел на скамейке мужчина с перевязанной рукой и, похоже, недоумевал, зачем, собственно, его сюда принесло. Он вызвал у меня чувство мимолетной симпатии. За стеклянной стеной, отделяющей «дежурку» «Скорой помощи» от приемного покоя, сидели санитары: они курили дешевые, чуть заметные в их толстых пальцах сигареты и равнодушно разглядывали посетителей — им, по-моему, было на все наплевать. Они глубоко затягивались, так что на шеях у них надувались толстые жилы, а потом, щурясь и выпятив губы, выдували в воздух струйки дыма. Молодая уборщица в очках подметала паркетный пол. Медсестры, сгрудившись небольшой стайкой, трепались о каких-то своих житейских делах. Одна из женщин на скамейке громко сказала: «И он дал мне портвейна — чтобы, дескать, укрепить кровь».
Матушка одиноко сидела на мягком диванчике, исполосованном и вспоротом ножом, так что его серые внутренности выпирали наружу, словно мозги из разбитой головы. Я поставил чемодан и подошел к матушке. Она подняла голову.
— Мы тебя обыскались, — тихо сказала она и откашлялась.
— Где бабушка? — спросил я.
— Там, — сказала матушка и кивком головы указала в сторону полуотворенной двери, замыкающей коридор. — Ей назначили черного доктора. Она не может говорить. Надо ждать. — У матушки был хриплый, с покорными нотками, но возбужденный голос. Ее фразы были всего лишь краткими тезисами будущего рассказа. Я еще издали заметил, что у нее шевелятся губы: она как бы собирала четки основных сегодняшних событий, чтобы потом составить по ним печальную повесть этого отмеченного многими бедами дня — повесть, которую матушка будет много раз повторять, даже когда ее уже никто не захочет слушать. — Мы ищем тебя с половины десятого. Я думала, ты поедешь со мной.
— Знаю, мам, отец мне сказал, — проговорил я, невольно подражая отцовским интонациям. — Он сказал, что ей, мол, было здорово худо.
Матушка облизала губы, готовясь к первому пространному повествованию.
— Она совсем оправилась к четырем часам. А в полпятого, когда ты ушел, попила вместе с нами чаю. Только от черного хлеба отказалась. А потом уснула. Да она еще и в девять часов вполне сносно себя чувствовала. Я хорошо помню, потому что твой отец вернулся из паба, а она как раз проснулась и спросила его, не включит ли он телевизор. И мы все вместе смотрели телевизионную передачу (в дальнейшем матушка обязательно будет добавлять название программы, фамилию певца и, возможно, даже название песни), а потом она вдруг дернулась вперед. Мы думали, у нее припадок, но она просто немного дернула головой, и все. — Тут матушка показала, как именно бабушка дернула головой, и на секунду смолкла, обшаривая свою сорочью память в поисках самомалейших подробностей бабушкиной агонии. — А потом у ней изо рта потекли слюни, будто она ребенок. И так нам ее стало жалко! Она была будто ребенок и никак не могла продохнуть. И тогда твой отец сказал, что если, мол, это не припадок, то надо бы вызвать доктора Моргана. И мы, стало быть, подождали еще минут пять, а у ней изо рта слюни все текут и текут — нам пришлось сменить ей четыре носовых платка, больших таких платка, отцовских, и тут я и говорю отцу: «Пойди, — говорю, — позвони доктору Моргану».
Матушкин рассказ дожурчал, не прекращаясь до их приезда в больницу. Я не слушал ее — и все-таки слышал; а когда она на секунду замолкала, вставлял в паузы поощрительные умгум'ы. Мне вовсе не хотелось узнавать подробности бабушкиной смерти, и, оглядывая больничный коридор, я заставлял себя повторять: «Вот стена, стена, стена, стена; а вот потолок, потолок, потолок, потолок, потолок», — чтобы заглушить в своей голове матушкины слова или хотя бы затуманить их страшный смысл.
— И перед тем как ее положили на носилки, она сказала: «А где мой Джек?» Я даже сразу не поняла, про кого она говорит, но потом догадалась, что про твоего дедушку, хотя она всегда называла его Джон. Джеком она никогда его не называла. И потом она сказала: «Я люблю тебя, Джек». — Матушка с трудом выговорила слово «люблю», и, сколько я себя помнил, она никогда раньше не произносила этого слова, так что сейчас мне было особенно странно услышать его от нее. Я попытался представить себе, как это слово сказала увезенная за белую дверь желтая старуха, но не смог. Люблю. Матушка выговорила это слово, как какой-нибудь новоизобретенный технический термин — люблю, блюминг, ниблюм …
— Впрочем, нет, сначала она спросила: «О чем ты думаешь? — Она наверняка обращалась к своему дедушке. — Тут матушка приумолкла и протяжно вздохнула: набрала в грудь воздуха и выдохнула его целой серией маленьких выдохов. — Но, чтоб ее услышать, надо было стоять совсем рядом, она говорила тихо-тихо и с большим трудом. А когда ее выносили, она уже и вовсе не могла говорить. У ней просто текли слюни изо рта, и все.
Кажется, матушка наконец выговорилась. Пока она говорила, я примерял разные выражения лица, а теперь судорожно старался найти свое собственное, естественное. Меня раздражало — и раздражение было сейчас, пожалуй, моим единственным чувством, — что матушка нашла повод для многословной болтовни даже в человеческой смерти. Она болтала, а мне на память приходили фразы, которыми мы с Артуром оборонялись от враждебной нам реальности, — эти фразы выскакивали в моем мозгу, как выскакивают со звоном цифры в специальном окошечке кассового аппарата: «Меня пудыдобит от Страхтона — менять не следует порядок слов — все во мне задрохло и отклямчило навсегда». Проклиная себя, я пытался ощутить какие-нибудь глубокие чувства, но их не было. Меня душил клокотавший в горле истерический смешок, и все мои силы уходили на то, чтобы сохранить печально-взрослое выражение лица. Матушка сказала:
— Что-то они долго. — Я не имел представления, сколько времени она тут сидит, хотя в ее рассказе события были расписаны чуть ли не по минутам. Она шевельнулась на скрипучем диванчике, и я понял, что трагедия ей уже прискучила. Она окинула меня рассеянным взглядом и в первый раз с тех пор, как я пришел, увидела, что перед ней ее родной сын, а не просто слушатель.
— Ну и наломал же ты дров, — сказала она.
Я неторопливо потянулся и, отвернувшись от нее, коротко подтвердил:
— Похоже на то.
— Слава богу, что хоть она об этом не знает, — сказала матушка. Потом минуту или две молчала. Ей, по-моему, вовсе не хотелось обсуждать мои провинности, но она все же заставила себя сказать:
— Почему ты не послал мое письмо?
— Да послал я его. Я уж говорил отцу. Я его просто переписал, вот и все. — Вообще-то у меня была придумана вполне правдоподобная история на этот счет, но я чувствовал себя зверски усталым, и мне было на все наплевать.
— А зачем тебе понадобилось его переписывать?
— Чтобы исправить ошибки. Ведь без ошибок-то к нему должны были гораздо внимательней отнестись. Меня начинало злить, что она говорит в такую минуту об этих пустяках.
— Ну, не всем же быть Шекспирами, — сказала матушка, надеясь пристыдить меня. Она глянула на мой стоящий у стены чемодан. По ее спокойствию я догадался, что она уже видела его, но решила не заводить об этом разговор.
— А что ты наплел Артуровой матушке про сестру? — уже гораздо строже спросила она.
— Да это была просто шутка, — ответил я, даже не стараясь, чтобы мой ответ прозвучал убедительно. Я не знал, как ей стало известно про историю с сестрой, — да и знать не хотел.
— Странные у тебя шутки. А зачем ты сказал мне, что она сломала ногу?
— Так откуда же я знал, что ты ее знаешь?
— Оно конечно, откуда бы тебе знать, кого я знаю, а кого нет, — сказала матушка. — Она мне просто позвонила. А теперь объясни-ка, пожалуйста, что ты сделал с джемпером.
Ну вот, и это выплыло. Однажды Артурова мамаша дала мне красный джемпер — для моей сестры. Я таскал его целый день по городу, а вечером оставил в автобусе.
— Подарил Барбаре, я тебе про неё рассказывал. Рассказывал, да не все. Ты, например, не рассказывал как выдал ее за свою сестру у ворот кладбища. Когда был там с Барбарой. Ну, так или иначе, они обе придут к нам завтра на чай. И тебе, стал'быть, придется купить новый джемпер.
Я решил сказать ей. Она видела чемодан и, наверно, поняла, в чем дело, но мне хотелось, чтобы все было абсолютно ясно.
— Завтра меня здесь уже не будет, — объявил я.
Матушка резко выпрямилась и поджала губы, безуспешно пытаясь скрыть мгновенное потрясение. У нее был такой вид, будто я ее ударил.
— Я бы уже уехал, если б не бабушка, — как можно мягче сказал я.
— От себя ведь не уедешь, Билли, — окинув меня долгим жалостливым взглядом, нетвердо выговорила матушка. — И все свои неурядицы человек возит с собой.
Образная речь была настолько ей несвойственна, что я заподозрил ее в тайном изучении моих злосчастных календарей.
— И все же я уеду, — упрямо сказал я. — Я тебе говорил, что уеду, и уеду.
Двустворчатая дверь плавно распахнулась. В коридор, походкой знаменитой киноактрисы, вышла медсестра. Она остановилась возле матушки и спросила ее, как бы стараясь осторожно разбудить:
— Миссис Сайрус? — Матушка испуганно вскинула на нее глаза, и она сказала: — Будьте добры, пройдите туда. — Зараженный ее формальным участием, я вытянулся и замер, словно по команде «смирно». Матушка медленно встала и ушла с медсестрой за двустворчатую дверь. Меня обуял обессиливающий страх, и я присел на диванчик. Потом, сжав руки в кулаки, несколько раз повторил: «Только без сцен, только без сцен, только без сцен!» А потом торопливо прикинул, не уйти ли мне прямо сейчас. Но я уже знал, что не уйду. Растерянно постукивая по полу ногой, я вытащил газету, засунутую кем-то в щель между сиденьем и спинкой диванчика. Под колонкой новостей там был нарисован маленький мальчишка, и я бездумно прочитал: «Скажите, миссис Болтли, а где у вас хранится то слово, за которым вы, как говорит папа, никогда не лезете в карман?» Я отшвырнул газету и начал медленно прохаживаться по коридору, ставя носок вплотную к пятке. Только без сцен!
Матушка вернулась через несколько минут; она держала свою сумочку обеими руками, и на лице у нее застыло выражение скорбного достоинства. До дверей ее провожал сосредоточенно-серьезный врач, и все это напомнило мне слащавую сцену из телевизионной передачи. Не в силах избавиться от этого видения, я горячо взмолился: «Господи, ниспошли мне хоть какие-нибудь чувства, но избавь от сцен!»
— Твоя бабушка скончалась в двенадцать часов четырнадцать минут, — как бы делая официальное заявление, сказала матушка. Я хотел сказать «Мне очень жаль», но промолчал, сообразив, что эта реплика — да, любая другая — прозвучала бы по-идиотски. Со словами «Ох, меня что-то ноги не держат» матушка опустилась на диванчик. Я сел рядом и, понурив голову, принялся считать пятна на своих замшевых башмаках. Никаких чувств я по-прежнему обнаружить в себе не мог — решительно никаких.
— Она отошла в мире, — проговорила матушка, сразу же начиная новую серию возвышенных воспоминаний, и я ошарашенно восхитился ее умению выбираться из житейских драм на костылях пошлых словесных штампов. Впрочем, нет, я не только восхитился, но и обрадовался, с удовлетворением думая: «Вот, и они все не лучше меня, они тоже ничего не чувствуют, а только языком болтают». Но в глубине души я знал, что не прав.
— Хочешь с ней проститься? — спросила матушка.
— Нет, — ощущая страх и стыд, пробормотал я.
— Что ж, мы должны стойко перенести это несчастье, — вздохнув и натягивая перчатки, сказала матушка. Она посмотрела на противоположную стенку, и я опять небольшой паузы матушка закончила: — И перед кончиной она прошептала: «Джек, Джек, о чем ты думаешь?»
И она умерла со слюнявой улыбкой на губах, и никому до нее не было дела. Никто не способен думать о других. А эти тетки, которым якобы все известно про жизнь и смерть, — они, как и я, тоже ничегошеньки не понимают.
— Я бы выпила чашку чая, — сказала матушка, — у меня с полпятого маковой росинки во рту не было.
— Да-да, тут есть буфет, — откликнулся я, суетливо помогая ей подняться с диванчика. Но она встала сама, и мы пошли к двери.
— Надо позвонить мистеру Крабраку, — сказала матушка. Я давно уже, с тех пор как бабушка заболела, боялся этого, и твердо решил не допустить, чтобы ее хоронили Крабрак и Граббери.
— А зачем нам Крабрак? Лучше обратиться в Кооперативное похоронное бюро.
— Почему? Разве у них дешевле? — спросила матушка. Она сразу же устыдилась своего вопроса и закончила его почти шепотом — так у собаки прерывается голос, когда ее резко дергают за поводок.
— Не в этом дело, просто Кооперативное бюро в тыщу раз лучше, — ответил я.
Мы вышли в холл. Буфет был еще открыт. На окантованном алюминиевой полоской прилавке виднелись бледно-сизые круги от стаканов с молоком. Буфетчица налила мне жидкого чаю в чашку с синими буквами СГБ — Страхтонская городская больница. Я отнес чай матушке и сходил в приемный покой за своим чемоданом. Поставив его прямо перед матушкой, я сел рядом с ней на лавку. Многоумные тетки уже ушли. В дальнем углу холла потерянно сидел какой-то бродяга с перевязанной ногой, прикрыв ее полой грязного плаща.
— Нет, не могу, — сказала матушка и, поставив чашку на пол, принялась теребить свое обручальное кольцо.
— Когда ты уезжаешь? — спросила она.
— На ближайшем поезде, — ответил я. И мягко добавил: — Мне обязательно нужно сегодня уехать, чтобы в понедельник утром встретиться с Бобби Бумом.
— У тебя ведь, наверно, нету денег, — сказала матушка и открыла сумочку.
— Несколько фунтов есть, — в первый раз покраснев, отозвался я. — Мне удалось сэкономить. — Чувствуя замешательство, я сказал, чтоб поскорее все это завершить: — Поезжай-ка ты домой. Таксист обещал подождать.
— Мне сначала надо подписать кой-какие документы, — сказала матушка. Она посмотрела вниз на чашку с чаем. — Мы не привыкли много говорить — («ну, это-то, положим, прямая ложь», — подумалось мне), — но ты нужен нам дома, сынок.
От ее коллективного «нам» мне стало не по себе.
— Я иногда буду к вам наведываться, — пообещал я. И сразу же в приступе мгновенного великодушия добавил: — Мне надо уладить свои дела с Бобби Бумом, а на воскресенье я обязательно приеду.
Матушка молча покачала головой.
— Ну, мне пора, потому что неизвестно, когда отходит поезд, — сказал я. — Таксист тебя подождет. — Я потоптался перед матушкой, пытаясь сказать ей заранее заготовленные для этой минуты слова, но не смог их выговорить. Тогда я повернулся и медленно пошел к выходу, делая вид, что мне очень не хочется оставлять ее одну. У двери я уже думал о бабушке словами из амброзийской газеты «Ежедневная смесь»: МИССИС БУТРОИД ВСЕМ РЕЗАЛА ПРАВДУ-МАТКУ В ГЛАЗА. ЛЮДИ ПОБАИВАЛИСЬ ЕЕ ОСТРОГО КАК БРИТВА ЯЗЫКА. НО ПРИШЕЛ ДЕНЬ, КОГДА ОНА ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ …Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться…
У меня не хватило духу оглянуться, но и не оглядываясь, я знал, что матушкино лицо было морщинистым, словно лопнувший воздушный шарик, и что на этот раз она верила в реальность происходящего.
Глава четырнадцатая
В Амброзии пышно цвели голубые маки. Мы победили на выборах, и я энергично продвигал свой проект города в приморских песках среди дюн, фундаментом которому должна была послужить гигантская деревянная платформа. Подкупленный нашими врагами реакционер Гровер выдвинул другой план — он добивался строительства города к западу от моря, на болотах. Еще до выборов сбитый им с толку парламент принял его план, и теперь дома начали тонуть; в результате — семьдесят погибших и четырнадцать пропавших без вести. «Мы выстроим новый город, — объявил я на страницах «Амброзийского мака», — среди приморских дюн и вековых сосен». А сейчас я приехал навестить родителей и сидел, расстегнув ворот форменного мундира, в нашей семейной гостиной. Зазвонил телефон; я поднял трубку и приказал по-амброзийски своему адъютанту: «Ароткод Гровера — к екнете. И етйаничан укйортс оннелдемен!» На матушку это произвело глубочайшее впечатление… а впрочем, разве ее проймешь, мою матушку? Я попй-тался преобразить ее в амброзианку, да не тут-то было: страхтонку от родной почвы не оторвешь. Меня стала одолевать злость — на мать с ее приговорками и вечным штопаньем дыр, на бабушку, ежедневно говорившую «Добрый вечер» дикторам на телевизионном экране, на идиотски флегматичного отца, окопавшегося в своем гараже… Отец, мне нужен автофургон. Не задавай никаких вопросов. Сюда могут нагрянуть люди. Ты не знаешь, где я и когда вернусь. Идет?.. Я жутко устал, и все мне обрыдло, все на свете.
Я тащился со своим чемоданом по старому трамвайному пути — на месте снятых рельсов чернели две залитые гудроном канавки, — и у меня было такое ощущение будто я набитый опилками дряблый мешок. Амброзия на мои мысленные вызовы не отвечала, так что мне оставалось только лелеять в душе ненависть. Я расстрелял из автомата всех, кто знал мои тайны, но тайны эти вдруг показались мне засохшими струпьями пустячных царапин И тут меня начали одолевать устрашающе ясные раздумья. Девять фунтов. Надо купить билет на поезд — остается семь. Семь фунтов. Жилье — два десять в неделю, еда — фунт. Итого денег у меня на две примерно недели. Работу — скажем, посудомойщика — всегда, конечно, можно найти. Я принялся строить свою жизнь по образцу американских писателей — водитель грузовика, дворник, революционер в Южной Америке, продавец, разносчик газет… Но потом амброзийский способ мышления заклинило у меня наглухо. Я понимал, что реально могу стать мелким клерком, — и пусть, я ведь буду жить сам по себе, один. Никаких тебе Штампов и Крабраков. Сделаюсь чудаком. Угрюмым чудаком с мрачным прошлым. Я начал напевать: «Он был для всех знакомых Радужным чертенком — ведь он писал чернилами «Радужная чернь».
Субботний день завершился и миновал. Ветер подхватил большой лист бурой бумаги, погнал его вдоль Больничной улицы и облепил вокруг фонарного столба. В тишине было слышно, как за две мили отсюда рычали машины, подымаясь на Пристрахтонский холм. Мимо меня проскочили два или три такси, нанятые вскладчину несколькими пассажирами, и когда они проезжали, я слышал, как радиодиспетчерша давала их водителям какие-то дурацкие указания. Потом проехал ночной автобус; внутри освещенные голубоватым светом люди читали «Имперские новости», и мне почудилось, что это самый последний на всем свете автобус. Прошмыгнула через дорогу собака. Какой-то человек в плаще медленно плелся домой, наверняка считая, чтобы скоротать время, фонарные столбы — я бы на его месте обязательно считал. Мостовая была сухой и бугристой; кое-где на ней виднелись лужицы застоявшейся мочи. Сонно улыбаясь, глядели в темноту улиц рекламные красотки.
Я шел, словно призрак, по Торфяному проспекту и, встречая полицейских, всякий раз ощущал, что тащу награбленное добро; от ручки чемодана у меня на ладонях вспухали красные полосы. Потом мне пришлось пропустить несколько уборочных машин — они выползали на круговую Скотопрогонную площадь из ворот автобазы, оставляя за собой, как громадные слизни, темный сырой след. Я пересек площадь и вошел в здание Нового вокзала.
Вокзал был залит холодным светом ярких электрических фонарей. В безлюдном билетном зале стояло несколько электрокаров с огромными кипами газет. Харрогитский поезд медленно отходил от второй платформы.
Справочное бюро оказалось закрытым. В расписании я прочитал: 1.05 — Уэкфилд, Донкастер; 1.35 — Лидс (Городск. вокз.), Дерби, Каттеринг, Лондон (Сент-Панкрас); 1.50 — Селби, Маркит-Уэйтон, Бридлингтон, Филей, Скарборо. Других поездов на Лондон в эту ночь не было. Я подошел к единственной открытой кассе и купил у сонного кассира билет второго класса до Сент-Панкраса. Он стоил тридцать пять шиллингов. Я поднял голову. Большие вокзальные часы показывали без десяти час.
Купив билет, я спустился в зал ожидания. Буфет был закрыт; на его прилавке в беспорядке стояли картонные стаканы, а на полу валялись недоеденные огрызки хлеба; десятка два пассажиров спали, положив ноги на обшарпанные стулья из металлических трубок с фанерными сиденьями или уронив головы на шаткие столики, замусоренные смятыми пакетами из-под лимонного сока и разноцветными пластиковыми «соломками». Я остановился у входа под большой картиной с пустынными вересковыми холмами и, вглядевшись, обнаружил, что несколько человек не спит — группка солдат в штатском, едущих, видимо, на побывку домой, три престарелые проститутки да какой-то дядька в широком черном пальто. Зато сам я был такой сонный, что осознавал события секунд, наверно, через пятнадцать после того, как они происходили. Риту со Штампом я, например, заметил только сев на свой чемодан и закуривая сигарету.
Они, впрочем, тоже меня не заметили. Штамп расплачивался за свой долгий и по-дурному пьяный вечер: он стоял с каплями пота на лбу, прислонившись к одной из позолоченных колонн, отделяющих зал ожидания от буфета, и что-то про себя бормотал. Рита безуспешно тянула его за рукав, как усталая жена, которая тщится увести из паба своего подвыпившего мужа. «Ну пойдем же, они же на нас смотрят», — услышал я ее нетерпеливые уговоры. Потом она нерешительно умолкла, отпустила Штампов рукав и сказала — наверняка не в первый уже раз: «Ну, ты как хочешь, а я пошла». Штамп, ничего, кроме своих мучений, не замечая, рыгнул, обнял, чтобы не упасть, колонну — и его вырвало прозрачной жидкой блевотиной прямо на пол. Рита ойкнула, фыркнула и стала торопливо озираться в поисках сочувствия к ее затруднительному положению. Потом отошла на несколько шагов в сторону, отвернулась и сделала вид, что не имеет к Штампу ни малейшего отношения. Несколько спящих зашевелились. Какой-то дядька, полупроснувшись, буркнул:
— Выметался бы ты отсюда, раз тебя тянет блевать. Те, кто не спал, захихикали. Один из солдат стал — надсадно рыгать, имитируя тошноту: «Йаххх! Йа-а-аххх!» Штамп, неустойчиво мотаясь возле колонны и бессмысленно тараща наслезенные глаза, явно заметил, что я смотрю на него из своего угла, но не понял, кто я такой; вспотевший и задыхающийся, он вглядывался в мое лицо, чтобы хоть на чем-то остановить взгляд, и все не узнавал.
Дядька в широком черном пальто — по его красной роже было видно, что он хлебнул сегодня немало пива, — весело гаркнул, пытаясь рассмешить солдат: «На гауптвахту парадным шагом ма-а-арш! Ать-два, ать-два, ать-два, стой!» Кое-кто из солдат нехотя ухмыльнулся, а один, сидящий неподалеку от меня, проворчал:
— Видать, не наслужился он в нашей поганой, так ее распротак, армии!
Штамп угрюмо вытер испарину со лба, шатаясь поплелся к стене, сел на пол под одной из картин и низко опустил голову. Рита подошла к нему и снова начала дергать его за рукав.
— Да пойдем же! — приговаривала она. — А не умеешь пить, так не надо было пить.
Между тем три старые проститутки принялись торговаться с каким-то полупьяным светловолосым полуночником, который только что появился в зале ожидания.
— Ну, а вот ее хочешь? — бубнили они. — Давай решай. Ей-то все равно, что так, что эдак, а ты давай решай. — Им было лет по пятьдесят, и выглядели они скорее престарелыми домохозяйками, чем проститутками. Они уговаривали этого полуночника, как мать стала бы уговаривать своего взрослого сына, чтоб он выпил перед сном чаю. — Давай-ка, парень, нанимай такси да поезжай. Она берет пятнадцать шиллингов, ей незачем тебя обирать.
— Видать, оно ему здорово в охоту, — переговаривались между собой солдаты, — они ж ему в бабки годятся.
— Во-во, им давно пора на пенсию.
— То-то будет смеху, если она отдаст под ним концы. Три похабные старые бабуси …
Это был юмор во вкусе Штампа. Но ему-то было не до юмора. Он опять подошел к золоченой колонне, вцепился в нее, и с его подбородка потекла вниз струйка слюны — прямо в зеленоватую кашицу, которую он размазал по полу подошвами своих забрызганных блевотиной башмаков.
— Йа-а-аххх! — рыгнул один из солдат. — Мы накачались германским пойлом. Йа-а-а-а-аххххх!
Я встал и, обойдя Штампа как можно дальше, тихонечко побрел в другой конец зала. Но сразу же и пожалел об этом, потому что Рита меня заметила.
— Ишь ты, кто явился не запылился, — довольно громко сказала она. На ней было синее щегольское пальто, но серебряный крестик исчез.
— Я-то не запылился, а вот его, похоже, треснули по башке пыльным мешком, — кивком указав на Штампа, откликнулся я.
— А ты, стал'быть, святой трезвенник, — насмешливо сказала Рита. Мы смотрели друг на друга. Верней, это я на нее смотрел, а она по-обычному пялилась с идиотской озабоченностью куда-то в пространство.
— Ну, и как там Ведьма? — спросил я.
— Кто-кто? — скорчив злобную гримасу, переспросила Рита.
— Барбара. Ты выясняла с ней отношения в «Рокси».
— Плевать я на нее хотела, — отрезала Рита.
— И все-таки что она тебе говорила?
— Не спрашивай — не услышишь вранья.
— Крестик-то она с тебя сдрючила, — опрометчиво ляпнул я. — А как насчет кольца? Кольцо-то ты ей, надеюсь, не отдала?
Ритин голос внезапно сделался таким же хрипло-визгливым, как у проституток, все еще торгующихся со своим поздним клиентом.
— Чего-чего? Ты меня за дурочку-то не считай, не на такую нарвался! Крест-то, он, может, и ее, а кольцо ты дал мне!
Я украдкой осмотрелся, но никто нас не слушал.
— Тут, понимаешь ли, вышла дурацкая путаница, — начал объяснять я. — Мне казалось, что Барбара расторгла нашу помолвку…
— Ты мне голову не морочь, я-то не такая дура, как она, — перебила мои объяснения Рита. — Ты дал кольцо мне, и у меня есть свидетель!
— А при чем тут свидетель?
Рита глянула на меня, сжав рот в злющую тонкогубую полоску — да за весь этот день никто на меня иначе и не глядел, — а потом два раза начинала говорить, но голос у нее пресекался. Наконец, выплевывая слова с такой яростью, что у нее тряслась голова, она хрипло сказала:
— Ну ты же и поганец!
Я торопливо прикинул расстояние до моего чемодана и от него до двери, намечая кратчайший путь бегства.
— Ну и поганец! Ну и мразь! Я всяких видела — и врунов, и прохвостов, но такого поганца!.. Кольцо ты мне дал, мне!
— Послушай, никто у тебя кольца не отнимает, — негромко, но настойчиво сказал я. — Пусть оно остается…
— А ну отвали, мразь ползучая! — С каждым словом Ритин голос становился все громче и визгливей, так что даже проститутки начали с интересом на нас посматривать. — Катись давай к ней, подлюга! Ты думаешь, ты кто? Ты кого из себя корчишь? Ты же только врать и умеешь, поганая твоя рожа!
Чувствуя, что лицо у меня стало белым, я отвернулся от нее и, бросившись напрямую к своему чемодану, поскользнулся и чуть не упал на заблеванный Штампом пол.
— И чего пыжится, сволота? — орала мне в спину Рита.
Я, словно слепой, подхватил на ощупь свой чемодан и метнулся к двери. Как раз в эту секунду она отворилась, и двое железнодорожных полицейских, показавшись на пороге, обвели зал ожидания тяжелым взглядом. Рита умолкла. Один из полицейских подошел к Штампу и принялся что-то говорить ему зловеще приглушенным голосом.
Крикун в черном пальто скомандовал:
— Двое с ведрами, с тряпками — ко мне! Вымыть пол и доложить! Живо!
Я выскользнул из зала и нерешительно замер, все еще плохо соображая, где я и что со мной. Часы показывали ровно час. Наверху, в билетном зале, всю дальнюю стену занимала реклама шоколадного напитка. Бездумно глянув на нее, я начал считать электрокары с кипами газет. На девятнадцатом дверь зала ожидания открылась, и полицейский повел едва ковыляющего Штампа к сортиру. В этот раз Штамп меня узнал, хотя глаза у него были выпучены и слезились пуще прежнего. Он пробормотал:
— Знаю, Сайрус … все знаю … В понедельник увидишь … — Полицейский тащил его к уборной, а он бубнил: — …До понедельника …там увидишь…
Я забыл, сколько насчитал электрокаров, и, сощурив глаза, начал считать кафельные плитки на грязном полу. Наметив себе одну линию плиток, я с трудом перевалил за второй десяток, и мой взгляд уперся в знакомые туфли. Я приподнял голову, перестал щуриться — и конечно же! — у единственной все еще открытой кассы стояла девушка в черной юбке, зеленой замшевой куртке и с копной нечесаных волос на голове. Лиз получила билет, а я, подняв чемодан, пьяно заковылял к ней, подражая только что уведенному в уборную Штампу.
Она заметила меня, когда почти дошла до платформы, у которой стоял донкастерский поезд. Я помахал ей, и она свернула ко мне. Тогда я еще раз беззаботно ей помахал.
— Собралс'в Лонд'н, — сразу же объявил я, пошатываясь перед ней и крепко ухватив ее за руку. — Поеиш'в Лонннан? — Я глотал, на манер пьяного, слоги и целые слова. — Потому'ш'я в Лонн. И ты. На поезд. В Лоннн…
— Ну да, ты ведь говорил, — спокойно улыбнувшись, отозвалась Лиз.
— И ты тож'в Лоннн. И я. В Лоннн. С треть'платформ'до Сэн'-П'нкрас'в Лоннн…
— Где это ты так? — по-прежнему улыбаясь, весело спросила меня Лиз.
— Где — что?
— Да так набрался. Неужто нашел круглосуточную забегаловку, когда столь таинственно исчез?
— В Лоннн, Лиз. Аффф'гел от Страхннн… В Лонннан…
Вокзальный громкоговоритель прохрипел что-то про донкастерский поезд — так же нечленораздельно, как пытался говорить я. Лиз глянула на часы.
— Ну, я-то в Лондон не еду. Мне надо на донкастерский.
Я опять схватил ее за руку и яростно замотал головой.
— Нет, в Лоннн, Лиз! Нужна мне в Лон'не. Купим друой б'лет. В Лоннн…
Лиз пристально, долгим взглядом посмотрела на меня, а потом, отстранившись и держа меня за руку, посмотрела еще раз.
— Прекрати, — с мягкой улыбкой, но твердо сказала она.
— Что прекратить? — своим нормальным голосом спросил я.
— Вот так уже лучше, — заметила Лиз. — Ты, возможно, хороший текстовик, Билли, но никудышный актер.
Я напялил на себя по-шутовски смущенную мину: ухмылка застенчивого дурачка, одна нога приподнята, плечи вздернуты, руки нелепо разведены в стороны.
— Ну хорошо, — сказала Лиз. — А теперь объясни мне, куда ты сегодня исчез.
— Я исчез? Да это же ты исчезла!
По-доброму, со всеми подробностями, восстановили мы те полчаса, что я дожидался Лиз у «Рокси», — нам легко было оправдать и простить друг друга, потому что наши поступки просто и понятно разъяснились. Лиз долго разговаривала с Ведьмой, когда увидела ее, обрыдавшуюся до истерической дурноты — ее даже стошнило, — в дамском туалете. Все, что можно было сказать, мы друг другу сказали.
— Так ты и правда уезжаешь в Лондон, Билли?
Я вынул из кармана билет и показал ей.
Она внимательно посмотрела на меня, и тут впервые в ее темных глазах неуловимо засветилась любовь — чистая, потаенная, непонятная.
— А я, Билли, не смогу.
— Ну, пожалуйста, Лиз! Она покачала головой.
— Мы не уживемся, Билли.
— Пускай не уживемся. Будем жить престо рядом. Ты ведь где уже только не бывала, почему б тебе не пожить… — Внезапно в голове у меня мелькнуло горькое подозрение, и я резко спросил: — А зачем тебе Донкастер?
На ее губах опять появилась чистосердечная, но ничего не разъясняющая улыбка.
— Да так… — Она беззаботно пожала плечами.
— Послушай, Лиз, — грубоватым тоном бывалого человека сказал я, — ведь все, что ты надеешься найти в Донкастере, найдется и в Лондоне, верно?
С улыбкой покачав головой, она сказала:
— Одно условие, Билли.
Я крепко зажмурился, чувствуя, что стою на грани бесповоротного решения. Ведь все это было мне знакомо — знакомо по Амброзии — от регистрации брака до мансарды в столице. Надо было только решиться.
— Ты, надеюсь, понимаешь, что я не признаю коммунальных колец? — спросила Лиз. Но я не ответил, и она поняла, что ответа не будет.
Перонный контролер собрался закрывать ворота донкастерской платформы. Лиз подняла свой дорожный саквояж — маленький, потертый, старый. Потом отступила и несколько секунд глядела на меня. А потом сложила губы в беззвучный поцелуй.
— До открытки? — шепотом спросила она.
— До открытки, — отозвался я.
Я стоял в прощальной позе — ноги на ширине плеч» руки уперты в бока — печальный, постепенно тающий силуэт, если смотреть из уходящего поезда. Но Лиз не оглянулась. Контролер захлопнул ворота, и Лиз поднялась, вслед за двумя солдатами, в последний вагон. Поезд ушел. Я знал, что Лиз уже болтает с солдатами, поощрительно улыбаясь каким-нибудь армейским новостям.
Часы показывали двенадцать минут второго. Я взял чемодан и пошел обратно в зал ожидания. Риты, трех проституток, да и большинства других пассажиров там уже не было, а у колонны, где стоял Штамп, виднелась кучка опилок. Два солдата спали, положив ноги на стулья; и неподалеку от них дремал крикун в черном пальто.
Я остановился у стены и, приподняв одну ногу, поставил чемодан на колено. Потом открыл его, вынул верхний слой календарей и сложил их на стул; а потом, переворошив носки и рубашки, выгреб все остальные календари. Закрыв чемодан и задвинув его под стол, я разделил календари на две кучи, зажал каждую под мышкой и открыл спиной дверь. Поднявшись в билетный зал, я огляделся, но там никого не было. Тогда я подошел к большой мусорной корзине с надписью «Не засоряйте свой город» и выбросил в нее обе пачки. Корзина покачнулась, но не упала. На лавке, стоящей возле корзины, валялась газета, и я прикрыл ею груду календарей.
Я уже повернулся, чтоб уйти, но, вспомнив про отцовские счета, вынул их из кармана и тоже бросил в корзину. Потом нашел Ведьмины письма, изорвал их на мелкие клочки, и они отправились вслед за счетами; обрывки, упавшие на пол, я подбирать не стал. А потом я методически обследовал карманы и выкинул в корзину весь хлам: листок со сценкой для Бобби Бума, начало моего письма к нему, пару любовных пилюль, пустую пачку из-под сигарет. Теперь у меня в кармане остались только открытки от Лиз, записка от Бобби Бума да железнодорожный билет. Вернувшись в зал ожидания, я взял свой чемодан. Поезд на Лондон должен был отойти через четырнадцать минут.
Мне вспомнилась Амброзия и ее история с самых первых дней — марш-парад, однорукие бойцы-добровольцы, гордые знамена. Я забормотал чуть ли не вслух: «Семьдесят восемь, девяносто шесть, сто четыре, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Амброзию заслонили дневные кошмары Злокозненного мира, перебиваемые вспышками обыденных мыслей. Я вообразил себя молодым, доброжелательно-веселым священником с вечной трубкой в зубах. Крабрак помогал мне организовать похороны прославленной на всю Амброзию госпожи Бутройд, но вдруг прогнусавил: «Думается, что вам надо очччень, очччень многое прояснить и обеспечить», — а моя матушка, не желая превращаться в амброзианку, поглядела на меня со злой тонкогубой усмешкой. Семь фунтов, а точней, семь фунтов десять шиллингов; еженедельная плата за комнату— тридцать шиллингов; стало быть, на три примерно недели; три фунта остается, по полкроны в день на еду: яйца с картофелем — шиллинг и три пенса, да чашка чаю — еще три пенса, да каждая поездка в автобусе — шестипенсовик… Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего… Из окошка мансарды выглядывала с улыбкой Лиз, но я знал, что в окрестных переулках промышляет проституцией Рита, а реакционер Гровер уже сделал Ведьме официальное предложение… Пытаясь выкинуть из головы весь этот бедлам, я судорожно искал себя, себя самого — и не мог отыскать… Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной.
Из вокзального громкоговорителя послышался голос диктора, перечисляющего остановки на пути к Лондону: «Лидс (Городской вокзал), Дерби, Кеттеринг, Лондон (Сент-Панкрас). В Лидсе пересадка на Бредфорд, Илкли, Болтон». Протрезвевший крикун в черном пальто принялся собирать свои вещи. Я встал и начал беспокойно прохаживаться по залу ожидания, ощущая у себя в животе открытый водопроводный кран. Дважды брался я за свой чемодан — и дважды ставил его на место. Вытащив из кармана билет, я рассеянно прочитал все, что там было напечатано. Думать я не мог: в голове у меня копошились только какие-то спутанные обрывки мыслей. Я начал считать, твердо наказав себе окончательно решиться после первого десятка. Раз. Два. Три. Четыре. «Внимание! Через пять минут от третьей платформы отправляется поезд на Лондон. Остановки…» Пять. Шесть. Семь. Мне не понадобилось считать до десяти. Я взялся за чемодан, чувствуя себя несчастным и никчемным. С чемоданом в руке я вышел из зала ожидания и зашагал к третьей платформе, надеясь на ходу принять самое-распросамое окончательное решение. Но я уже знал, что решать мне нечего. Крикун в черном пальто и трое или четверо солдат, предъявив у ворот билеты, вышли на третью платформу.
Контролер окинул меня вопросительным взглядом.
— Вам на лондонский? — спросил он. Я отрицательно покачал головой — и одновременно сделал шаг вперед.
Но отправления поезда я дожидаться не стал. Я перехватил чемодан в левую руку и вышел на привокзальную площадь. Здесь я остановился, закурил сигарету и застегнул пальто. Чемодан у меня в руке был до идиотства легкий. Я несколько раз глубоко вздохнул, но мне все равно не хватало воздуха.
Покурив, я пересек площадь и пошел по Торфяному проспекту. И мне вдруг стало весело и легко, так что, приближаясь к Городской площади, я уже почти бежал. Но проходя мимо Ратуши, я начал насвистывать «Марш киношников» и зашагал, как следует шагать на параде. Вокруг никого не было. У Памятника Павшим я перехватил чемодан правой рукой, а левую вскинул в приветственном салюте. Раз-два, раз-два, спина прямая, грудь колесом, раз-два, раз-два! Я свистел все громче и на углу четко свернул в Больничную улицу. Тут я перешел на нормальный шаг и медленно двинулся к дому.
Примечания
1
Девственница (лат.).
(обратно)

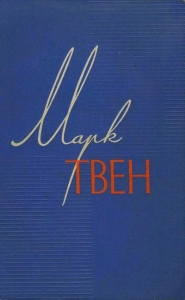
Комментарии к книге «Билли-враль», Кейт Уотерхаус
Всего 0 комментариев